Михаил Анчаров Дорога через хаос
Как птица Гаруда
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ С перстами пурпурными Эос
Глава первая НОРОВЫ
Вы спросите, кому приснился этот сон: моему петуху или мне? А я и сам не знаю.
Кубинская сказкаПраздничный, веселый, бесноватый
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.
Николай Тихонов1
А Витька Громобоев полюбил навеки, и этому не научить. Но и цыпленок хоть и ничему не обучен, однако проклевывается. Потому что живой и срок пришел жизнь вопрошать. Обсохнет и растет до петуха.
И ежели человек отличен от петуха или дерева, то одним только — надеждой стать для вселенной собеседником.
И значит, человеку до Человека надобно дорасти, дорасти до собеседника вселенной, поскольку скот не виноват, что он скот, а человек, ежели он скот, — виноват.
Иначе твоя жизнь ушла на кормежку и попусту, и пришедший позднее — что он сделает с твоими плодами?…
Летом пятьдесят первого я вдруг понял окончательно, что в жизни пустяков не бывает и что сегодня пустяк, то завтра — важнее важного.
Потому что жизнь на важное и пустое не делится. Это мы так о ней думаем или другие за нас, но это все в голове.
А в жизни есть жизнь. И если она идет не так, как нам хочется, то неизвестно, как бы она пошла, если б была такая, как нам хотелось.
С Витькой Громобоевым пришли Сапожников и некто Панфилов, которого я еще не знал лично, а только по песням. Я знал, что они придут, но я не знал, что они такие горластые.
— Зло и добро — это действия, значит, движение материи, а не сама материя, — говорил Панфилов. — Ходьба — это движение человека, а не какая-то материя ходьбы.
— Ну и что?! Ну и что?! — заорал Сапожников.
— А ты пытаешься свести все к вакууму и частицам! — сказал Панфилов. — А есть еще действия каждого из них.
— Вот! — крикнул Сапожников Панфилову. — Значит, ты кроме частиц и вакуума ищешь еще каких-то злоумышленников и праведников в этом вакууме! Откуда? Пришельцы? Инопланетяне?
— О господи! — сказал Панфилов. — Опять эти инопланетяне!.. Почему все уперлись в одну проблему — одиноки мы во вселенной или нет — и ждут пришельцев… И никто не задается вопросом — а что было ДО этой вашей вселенной?
— То есть? — спросил Сапожников.
— Если даже допустить, что был первичный взрыв всей собранной в одну точку материи… то возникнет вопрос не только о том, что же было «вокруг», как спрашиваешь ты, но возникнет и мой вопрос: «А что же было ДО этого?…» Ведь если взрыв был, то до взрыва материя была не сжата, а рассеяна и происходило сжатие… Почему же не возникнет вопрос — была ли жизнь до взрыва?
— Интересно, — сказал Сапожников.
— Проще: если наша вселенная имеет начало, то это потому, что предыдущая вселенная имела конец. И самое главное, что она была вселенной. Думать иначе — значит допустить исчезновение материи и возникновение мира из ничего…
— Та-ак… — сказал Сапожников.
— Да, — сказал Панфилов. — И тогда вопрос стоит так: могла ли исчезнуть вся предыдущая вселенная? Конечно, нет. Иначе из чего сложена нынешняя?…
Огромная война кончилась, и сила жизни все прибывала, и каждый чувствовал, что имеет на нее все права.
Работа воскрешения начнет сказываться много времени спустя, но она уже началась.
Чересчур много дорог было заминировано за две тысячи лет боя, и если мир может быть спасен согласием, он и должен быть спасен.
Земля есть шар, и великие устремления расходятся вверх по радиусам. И это только внизу толковище, а в небесах никому не тесно.
— Вакуум, вакуум, — сказал Сапожников. — Мы о нем ничего не знаем… Нужна хоть какая-нибудь все опрокидывающая модель… Уважаемые офени, товарищи Зотовы, у вас ничего там не завалялось?
— Почему же? — говорю. — Завалялось… Василидова модель…
Тут летний ветер распахнул окна и двери, и за крышами домов блеснуло.
— Стекла побьет к черту! — крикнул дед, пытаясь поймать створки окон. — Витька, дверь! Дверь!
— В чем же ее суть?! — старался перекричать Сапожников летнюю бурю. — В чем суть Василидовой модели?!
Так мы проводили время в 51-м году — пьяные без вина и богатые без копейки. Хотя неплохо было бы и закусывать.
Моему внуку Генке в тот день было ровно двадцать, и он удрал к нам от матери именно в свой день рождения, потому что устал от семейной любви и нелюбви.
Мы балбеса пожалели и пустили в мальчишник.
Витька Громобоев демобилизовался, но мы его провожали невесть куда, и теперь опять он уезжал надолго, никого не жалея, кроме Тани, матери своей приемной, бабушки нашей, тишайшей и непонятной Миноги, которая в Москву еще не вернулась, а жила, по слухам, в том же партизанском городке.
Мир опять раскалывался, поскольку объединяться «против» всегда было легче, чем «за».
В 49-м возникла НАТО, но возник и Всемирный Совет Мира.
Земля отдалась ливню живой воды, и каждый комочек ее получил свою каплю, и грозу унесло, и хлынул живой воздух.
Была темная ночка. И до рассвета еще далеко. Помойки зверели удивительными запахами, а подворотни — глухими голосами. Я, видимо, задремал под шум споров о космогонии.
Общались два одинаковых голоса:
— Можно ли убивать с верой в бога?
— Да только так и происходит… Перекрестясь режут, помолясь пытают, отслужив молебен — лютуют и насилуют.
— Неужели никто не замечает?
— Замечают. Однако и здесь есть лазейка… Если смерть — это второе рожденье, то убивать можно. Бог послал меня убить, чтобы убитый родился на тот свет. Логично?
— Сердце с этим не примиряется.
— Вот сердцу и верь.
И я начал смотреть глазами и слушать ушами, но поверил бухающему в груди сердцу, которое то замирало тоской, то трепетало неведомой радостью. И все чувства были во мне — и те, что мы называем гнусными, и те, что называем прекрасными. Но чувства эти приходили ко мне извне, и сердце выбирало назвать их прекрасными или гнусными. И я угасающим сознанием еще удивился, — а я думал, что чувства приходят не извне, а зарождаются во мне.
— Нет, — услышал я свой собственный голос. — В тебе зарождаешься только ты.
— А кто же я?! — возопил я беззвучно. — Кто я?!
— Все, — ответил голос.
— Как может часть равняться целому?
— Смотри… — сказал голос. — Смотри!
И я увидел строчки неведомых письмен, которые дрожали, как надписи в беззвучном кино. Потому что на буквы этих строк все время накладывались буквы других письмен. Количество букв в строке все время было одно и то же, но прочесть их было нельзя, потому что письмена все время менялись, превращаясь одни в другие, становясь шифром мифа неведомого кода.
Строки извивались, как змеи, дрожали и, пружинисто сплетаясь, вспыхивали беззвучными искрами, и искры превращались в звезды. И я увидел дрожащие звезды, к которым со всех сторон сбегались лучи света, сгоняя звезды в кучи и вихри. А не так, как всегда, когда лучи разлетались от звезд.
И я, Зотов, вижу природный катаклизм, рождение любви.
Наверно, такое было на виноградниках, когда родился Дионис, но казалось, что это было, когда и Дионис еще не родился.
Клонило и трепало ветром кусты, луна скакала по облакам как козочка, беззвучный хруст стоял в лесу, и листья лепили беззвучные пощечины. Помойки и нужники пустырей переворачивались могучей невидимой рукой, из них сыпалась гнилая сволочь и слизь, громоздилась в холмы и тут же зарастала лесом и подлеском. И меж стволов колюче вставали на дыбы кружевные олени. И в камышах мелькало гибкое светлое прекрасное тело Сиринги, песенки Тростника.
Все летело навстречу, и ни к чему нельзя было прикоснуться: рука не дотягивалась до желанного — еще сантиметр, еще миллиметр, еще микрон — но рука не дотягивалась.
— Отец, не смотри! — крикнул яростный голос Витьки. — Отец, не смотри! Нельзя! Очнись! Это тебе не надо!..
— Витька, ты полюбил? — спросил я.
— Да, отец, — сказал он. — Навеки.
2
Ах, Зотов, Зотов, старая орясина, когда же это все началось? Может быть, когда Таня ходила к старику Непрядину? А может, еще раньше, когда Петр — первый Таню щупал? В каком же году он Таню щупал? Ах, Петр Алексеич, исторические события надо помнить… Вспомнил? Ага. Это началось, когда брат в лапту играл посередь улицы, а Ванька Щекин заорал:
— Николай-второй, беги!
Колька побежал до черты, а его господин за ворот — цап!
— Тебя как назвали?
— Николай-второй.
Господин ему по шее, по шее.
— За что, дяденька?
— Веди к отцу, а то полицию кликну! — И свисток.
— Не свисти, дяденька.
Пришли к деду. Господин сыщик все выяснил и спрашивает:
— Почему твоего внука царским именем зовут?
Дед говорит:
— Он у нас, Колька, родился вторым, а Петр — первым у нас родился.
— Как это Петр — первый?
— Петька! Спрыгни с сарая! Покажись господину сыщику!
Он спрыгнул, рубаху заправил и говорит:
— Ну чего?
А ростом он был орясина пятнадцати лет.
— Я вас всех, все ваше отродье упеку! Сопливцам своим государевы имена давать!
— Имена по святцам, — говорит дед. — А что Петр у нас родился первый, а Николай вторым, — это дело божье. Имена поп давал, а мы не против.
— Дедушка, — говорит Петр — первый. — Может, ребят кликнуть?
— Не надо… Сам уйдет… Иди, господин сыщик, иди. У нас в семье горе, не до тебя, — говорит дед. — Родной человек помер. А Колька не сам себя назвал, его ребятишки так кличут. Иди, господин сыщик, иди… Места у нас глухие, не ровен час, случится что, иди.
Господин сыщик и ушел.
А дед отвел Кольку за сараи и выпорол.
Лупил и приговаривал:
— Запомни этот день, Николай-второй, запомни этот день… Запомнил? Или еще добавить, Николай-второй?
— За что бьешь? — орет Колька. — Не я виноват! Сами назвали!
— Не за то бью, что назвали, а чтобы запомнил этот день на всю жизнь… Родной нам человек помер, граф Лев Николаевич Толстой, народный заступник.
Стало быть, это приключилось в 1910 году.
С этого дня, как дед выпорол Николая-второго, Зотов начал жить сознательной жизнью и даже мыслить общественно.
Род Зотовых имел происхождение канцелярское. Писарь на фабрике, составляя список нанятых на работу, услышал в конце перечня: «Серегин, Изотов», ошибкой записал: «Серегин и Зотов». И тем сделал деда Афанасия первым в роду.
Дед спорить не стал, время было голодное, а дед был неблагонадежный, поскольку не только переплетал старые книги, но и читал их, что ввело его в гордыню, которая и привела к мысли, что род его не хуже царского.
Кроме Петра-первого и Николая-второго, были еще Александр — третий, Иван — четвертый. И еще царь Афанасий-немой и царица Дуська — на них царских номеров не хватило. Так и ходили ненумерованные.
Афанасий был назван в честь деда Афанасия Зотова, первого в роду, и был немой, а Дуська — в честь бабушки Евдокии, в девичестве Громобоевой.
Дед рассказывал: «Громобоевы же произошли от небесного явления. Бабка нашей бабушки разрешилась от бремени мальчиком, когда в сухую погоду огненный шар пролетел тихо через комнату роженицы и разорвался у колодца. Через некоторое время закричал новорожденный голосом беспредельной ужасности, за что был по совокупности причин назван Громобоем».
А отец Петра-первого, папанька Алексей Зотов? О нем позже — когда из тюрьмы выйдет.
И в зотовском роду было все, что полагается, — и самозванцы, и дворцовые перевороты, и смертоубийства, и победы. И отличались Зотовы от Романовых только двумя отличками — Зотовы работали, а Романовы нет, Зотовы на войну ходили сами а Романовы посылали других.
А что касается там образования или разговоров на непонятном языке — то в этом Зотовы от них не отставали.
— Ой, Петенька, не надо!..
— Не бойся, Таня, женюсь…
— А на что жить будем?
— На что все, на то и мы.
А погода была — всем погодам погода! А в журнале «Нива» объявление напечатано про знамение времени — СКОРОСТЬ. А в конце восклицание: «СОРОК ВЕРСТ В ЧАС! КТО ВАС ДОГОНИТ?! СПЕШИТЕ ЖИТЬ!»
А Петра-первого Зотова торопить было незачем. Ему шестнадцать, и Тане Котельниковой — шестнадцать. Отца ее в пятом году забили на фабрике Шмита, а мать к Асташенкову в питейное подалась помои таскать, у Асташенковых дом с ротондой, четыре трактира по всей Белокаменной и в каждом — по «маркизе». Все маркизы в теле, а жена тощая метла — ему с ней неинтересно. Сын в университете римские права переписывает, дочь на арфе гудит — ногами обхватит и пальцами вцепится, а учитель над нею — ко-ко-ко… ко-ко-ко… дора, фа-соля, ляси и за пазуху заглядывает. У всех нужники на пустыре, на одно очко, а у Асташенковых — в доме, фаянсовый, сидячий с синей надписью — на донышке с лужицей, и ручка белая на цепи. Ей-бо! Не вру. Потяни — все в Яузу унесет! Двадцатый век! Таня рассказывала — она там прибиралась.
— Ой, Петенька, не надо!
— Не бойся, Таня, женюсь…
— А на что жить будем?
— На что все, на то и мы…
Зотов Петр — первый вылез из сарая и спрашивает:
— Дед, почему меня на красоту тянет, как мышь на сахар?
Дед ответил:
— Потому что наслаждение красотой есть осознание своего развития.
Это Петр — первый уже знал. Его загребли по ошибке, когда ткацкие бастовали. А потом, набив морду, отпустили по несовершеннолетству.
Зотов того господина сыщика на улице подстерег и ввалил ему по той же скуле, что и он ему в участке. Он Петра-первого за шиворот, и Зотов его за шиворот. Он в свисток, а Зотов в два пальца. Он его по зубам, чтоб не свистел, и Зотов ему по зубам, чтоб не свистел, да и вбил свисток ему в рот. Господин сыщик упал, а Зотов ушел.
Тогда господин сыщик пришел не один, и они забрали Петра-первого куда надо, а там господин сыщик бил его ногами. Бил ногами и приговаривал:
— Воспрянет род людской!.. Знаю я ваш род, проклятьем заклейменный!.. Я тебе воспряну!..
Сколько он был у них в плену — Зотов не помнит. Но вот по прошествии времени пришел в узилище дед и говорит:
— Ничего не поделаешь, господин сыщик, будут и тебя ногами топтать.
— Это кто же?
— Да Петька, внук мой… Выйдет из Бутырки и потопчет.
— Рвань несчастная… Мы ж его повесим!
— Ну что ж… и мы тебя повесим… Ничего не поделаешь.
— На власть замахиваешься?!
— Зачем же?… В книге сказано — власть падет в одна тысяча девятьсот семнадцатом году. Тогда и с тобой свершится.
— Та-ак… Значит, у Маркса вашего на семнадцатый год назначено?
— Господин Маркс журнал «Ниву» издает. Дозволено цензурой с приложениями…
— Ну, мне не крути, не крути… Не про того Маркса речь… Говори, что у тебя за книжка?
— Называется «Тайная мудрость Востока». Предсказание судеб. Тоже дозволена цензурой. Кажные двенадцать лет — поворот судеб, согласно законам зодиака и миротворного Индиктиона. Вот и считай — к одна тысяча девятьсот пятому году прибавь двенадцать — что будет? Семнадцать.
— Антимов! Давай его сюда!
Тут Петра-первого из соседней комнаты вытряхнули, где он разговор слышал, и перед дедом поставили.
— Забирай… Последний раз прощаю.
— Сопляк чертов, — сказал дед. — Сопляк.
— А после семнадцатого что будет? — спросил господин сыщик.
— Третье Евангелие будет… Третий Завет… Сошествие Духа Святого на людей.
— А может, вы старообрядцы? — спросил зашедший в полицию господин журналист Гаврилов.
— Мы новообрядцы, — сказал дед.
— Кто такие?
— Сам знаешь… Рабочие, — тихо ответил дед.
Господин Гаврилов перестал из протокола выписывать разное удивительное и сказал:
— Рабочему надо заработать — это понять возможно. А этих понять нельзя… А может быть, они толстовцы?
— Никто они, — сказал господин сыщик. — Они никто. Пустырь проклятый.
— Пустота… — засмеялся господин журналист Гаврилов, который писал очерки из низов жизни — под Власа Дорошевича, но хуже. — Пустота — это ничто… нигиль… Они нигилисты?
Это он Зотовым — то!..
— Какая же пустота… — задумчиво возразил дед. — При такой теснотище?
— Куча дерьма, — сказал господин сыщик. — Ничего святого… Полное отсутствие нравственной идеи… Так и запишите, господин журналист.
— Нравственная идея — она у отца Иосифа, — сказал дед, — и у вас, господин Гаврилов. Поэтому вы ее на всех поделили — и у каждого от нравственной идеи ошметочек… И потому у нас от нравственной идеи — что с барского стола упало… И «Возлюби ближнего» всегда оборачивается — возлюби вас, господин главноуговаривающий. А вы нас — нет, не очень-то… Или не так я говорю?… Пошли, Петька.
А весна стояла такая, что помойки розами пахли, а пустые сараи — ладаном.
— Дед, неужели на Пустыре ничего, кроме вони, не заводится? И неужели мы пустота?
— В пустоте, Петька, родится творение. Ибо больше ему родиться негде.
— Дед, — спросил Петр — первый, — как же это в пустоте может творение родиться? Пустота — она пустота и есть.
— Поскольку всемирное тяготение не выдумка, Петька, — сказал дед, — то пустоты вовсе нет и пространство заполнено… Однако движение существует, и я до тебя достигаю рукой и дотрагиваюсь… А если движение есть, а пустоты нет, то, значит, и там мельчайшие тела погружены в некую субстанцию, которая и осуществляет их связь между собой, сама, однако, будучи чем-то отличной от них… И в этой незнаемой сущности идет мировой процесс отмены старой вселенной, прежней вселенной — поскольку она нелюбимая.
И Зотов это запомнил и записал — идет отмена прежней вселенной, поскольку она — нелюбимая.
Уж Тане с Зотовым жениться пора, а отец Иосиф венчать не спешит, а спешит пройти мимо.
— По церковной записи твой дед Изотов, а по гражданским бумагам вы Зотовы. Безбожники и на исповедь не ходите.
А у отца Иосифа уголовный журналист Гаврилов с господином сыщиком чай пьют. Какая уж тут исповедь? После пятого — семь лет прошло. Поумнели.
На земле царь, и капитал, и в небесах церковь, а где Зотовы помещаются, в библии не сказано.
И начал Зотов Петр — первый Алексеич сам разбираться в том, как мир устроен и в нем человек по своей вере, по зотовской.
У отца Иосифа дело простое: «Человек раб божий». И точка.
Петру надоело, и он спрашивает:
— Если все люди божьи рабы, тогда зачем на земле один раб, а другой — власть?
— Дерзок ты, — говорит. — Несть власти аще не от бога, понял?
— Понял, — говорит. — Если рабы власть возьмут, то и она станет от бога. Кто кого. Так?
— Сокрушу! Богова ошибка!..
— А разве бог ошибается?
— Вон отсюдова!
А уж Зотов знал — если батюшка дурак, то и это от бога. На Пустырь толкового не пришлют.
Он у деда спросил:
— Почему меня отец Иосиф обозвал «богова ошибка» и по шее дал?
— А за что дал? — поинтересовался дед и перестал петь про Кудеяра-атамана.
Петр — первый ему поведал, за что схватил по шее.
Дед же сказал, что отец Иосиф дурак и гнида, поскольку пути господни неисповедимы, то и ошибкам не подвержены, и, значит, не ему, долгогривому, судить божественный промысел, назначивший им фамилию Зотовых.
А что касается зотовской веры, то, насколько известно, таковая ни в одном реестре не значилась. И потому Зотовы считали ее вполне оригинальной.
Состояла она в следующем.
В писании сказано: «Вначале бе слово и слово бе бог». И поскольку бог есть сущность неизреченная, то, как только попытаешься ее изречь, возникает из одного слова — два, между которыми совершается движение. Одно слово «на», другое- «дай». И вся суть человека состоит в том, какое слово из этих двух у него в душе на донышке, а какое — снаружи.
Без «дай», конечно, не выжить тому, кто хочет сказать «на». Но если человек перешел на сторону «дай», то из него человек вовсе прочь выходит. И это есть закон.
А кто перестает это понимать и упорствует — у того вместо слов возникает болботание.
И как это болботание ни называй — хоть религией, хоть наукой, а все одно — усердие без души и не по разуму есть болботание, которое у Зотовых в одно ухо входило без труда, а из другого вылетало со свистом.
И потому к богу у Зотовых было такое отношение: хочешь верить — верь.
Зотовы считали — материализм богу не помеха.
Однажды, в давнее время, был у деда разговор с великим гением русской земли. О таинственной субстанции Эфир.
Когда дед ему принес книгу «Алхимию» для обмена по-офенски — с уха на ухо, то Дмитрий Иванович Менделеев рассказал деду, как знаменитая таблица его привиделась ему во сне. А потом дед спросил:
— Так как же, Дмитрий Иванович, все-таки есть эфир или выдумка это?
На это Дмитрий Иванович деду отвечал:
— По логическому рассуждению — должен быть. Должна быть сверхтонкая невидимая материя, которая бы все увязала в одну картину. Однако чтобы открыть эфир — надо найти некий способ стать от эфира в стороне. Это подобно тому, как нельзя взвесить воду, находясь в воде…
И потому Зотовы спокойно и с интересом узнавали про диковинки природы и научности и не торопились делать выводы, даже если они настырно прыгали в глаза. И спокойно пели: «Солнце всходит и заходит», — хотя и знали уже, что все происходит как раз наоборот.
Был у деда знакомый дворянин старик Непрядвин, и был у старого Непрядвина сын и телефон. Телефон хороший, а сын — так себе. Дед послал Таню с запиской. Старик позвонил куда надо, и отец Иосиф согласился нас венчать. Но Таня услышала, как сын Непрядвина сказал:
— Папа… какое тебе дело до этой мрази?… Страшнее русского Пустыря ничего нет… И там нет ничего, кроме вони.
— И магии, — сказал старый Непрядвин. И Тане: — Ступай, голубушка. Скажи деду, что все улажено.
Непрядвины в родстве были с Митусовыми, тоже владимирского корня, как и мы, Зотовы. А Митусовы свой род от словутного певца Митусы считали, что у князя Игоря Новгород — Северского старины пел и воевал, у того Игоря, про которого «Слово о полку» и опера химика Бородина.
Непрядвин Василий Антонович древнего рода и чудесного обаяния был человек. Не то что сын его, ненавистник, белая моль. А как ему не стыдно? Род его такой древний, что и Романовых не видать, мог бы уж и людей полюбить за такое-то время, было когда спохватиться. Отец-то его Василий Антонович ведь сообразил.
Да, видно, у Петра-первого в душе не все уладилось после Таниного рассказа, и если Зотовых за мразь считают, то магия тут при чем? Зотов деда и спрашивает:
— Как же так?
— А они дураки, — говорит дед.
— Кто?
— Они думают, рабочий — это кто перемазанный и машины не боится. Рабочий из своего корня произошел. А что он сейчас в хомуте — то это он от забывчивости. А когда вспомнит — настанет перемена в жизни.
И дед мне такое рассказал, что у меня глаза на лоб и в животе мороз.
— Раб — это волшебник, — сказал вдруг дед. — Раб — это волхв, кудесник-чудесник, чудеса творит… Был старый народ мидяне, а у них главное племя маги, тайное хранили умение и знание про мироустроение и миротворный круг. А главный из магов звался Раб. Высший умелец. Чтобы рабом стать, надо было семижды семь ступеней пройти среди магов. Потом тех мидян полонили. И маги разбрелись. Потому что каждое дурное племя хотело магов в полон взять и приладить к делу. А пуще всего каждый вождек хотел, чтобы сам Раб ему служил, а он бы похвалялся — мне Раб служит. Ну, на всех вождей Рабов не напасешься, и стали всех пленных мастеров рабами звать. А потом забыли, откуда это слово — раб, и пошло, что раб — живое орудие, машина, и любой пленный стал раб. Да и слово «машина», Петька, тоже от слова «маг»… Теперь гляди — я слова рядом поставлю: раб это маг, и от этих двух слов, запомни, от раба и мага — работа, рабочий — мастеровой — мастер — маэстро — майстер — мистер — во всех языках. Магистр — маг — волшебник, волхв. И над христовой колыбелью три мага стояли, три волхва. И слово «мощь», и слово «машина»… И только раб свободен, потому что он маг. И машину рабочий любит, потому что это последнее место, где свобода ему осталась, последнее прибежище: шестеренки прилажены своими руками и своими руками сотворены, — включай, поехали. И потому магия его и есть богатство, а все остальное ловушка. Вот откуда наш корень и свобода.
И как раз когда отпраздновали столетие со дня нашествия на Русь двунадесяти языков с Наполеоном-анафемой, у меня от жены моей Тани, урожденной Котельниковой, сын родился и был наречен Сергей. В честь отца бабушки, Сергея Панфиловича Громобоева.
Венчал и крестил с некоторым отвращением отец Иосиф. А в дверях стоял господин сыщик и смотрел, как сын мой увеличивает земную тесноту. Но господин сыщик был задумчивый.
Ну ладно.
3
В тысяча девятьсот четырнадцатом Зотов вовсе дылда. Книжек прочел много и ни в чем не уверен. Уверен только в том, что он рабочий, а книжки эти офенские, брошенные, тайные, никому не нужные.
А сколько дед прочел, того сказать никто не может.
Событий не было. Лямку тянул, жену ласкал своевременно. Разве что асташенковскую дочку щупал. Сама попросила первый раз — пьяная.
— Потрогай меня, — говорит.
А Зотову что? Ему не жалко.
А второй раз — когда жена не велела Зотову книжки читать: не маленький, сын растет. Зотов тогда огорчился: спьяну второй раз асташенковскую дочку щупал. Она ему говорит:
— Пойдем туда. Там сено…
Он протрезвел, спрашивает:
— У тебя что, холуев мало?… — И ушел.
Она ему это припомнила. Его тещу Асташенков с работы согнал.
— Прощай, — сказал ей. — У твоей дочки муж дурак. А ты мне было понравилась. Мог я тебя в маркизы произвести?… Мог.
Зотов теще говорит:
— Да у него этих маркиз три штуки.
— Ему виднее, — теща говорит. — А я теперь безработная. А ты дурак.
«Мы-то думали, что только у нас, судьбой потерянных, в каждом сарае собачья свадьба и что свадьбы эти от нашего беспутья. Путь-то наш весь от фабрики, через трактир да за сараи. А оказалось, что и у всех одно — страх домовины да крест в конце пути с надписью: две даты из календаря и между ними тире — полосочка, и в этой тире — вся жизнь. Будто тропочка от прихода до ухода. И коротка та тропочка и незаметна никому, кроме того, кто сам прошел, да не скажет. А куда прошел и откуда — о том ли другим людям судить, если сами свою тире протаптывают и торопятся к чужому телу прикоснуться, припасть хоть на миг? Потому что и вспомнить нечего больше в конце тире, кроме тела, к которому припадал в тоске или радости. Больше и вспомнить нечего, кроме хлеба, тела…
— И магии, — сказал дед».
Птицы кричат. Пролетка цок, цок. Заводская труба черные кудри плавит.
Двадцатому веку четырнадцать лет, а Зотову Петру-первому — девятнадцать.
«Зотовы мы. Мы догадку ищем.
И, видно, без томления нам не жить.
Мы офени, книжники, отреченные, шаромыжники, шарлатаны, ходебщики — книжные разносчики. Забытый ныне промысел и язык.
Почему я из всякого года лучше вспоминаю не события, а споры? Потому что у нас дед был на спор и на бунт скорый.
И я вспоминаю деда, и его мнения, и людей, которые приходили к нему, к токарю и переплетчику, эти мнения послушать. И эти люди были не простые шкурники, зверье живоглотное, а души встревоженные.
Бывает, что разговор и есть событие, а все остальное — бормотание. Потому что событие это со — бытие, то есть совместное бытие, хорошее со — бытие или нет — другого нам ничего не дано. Лучше уж хорошее. Самое большое событие есть жизнь, и перед ней все остальное и близко не равняется».
У Зотова, у Петра Алексеевича, отец с мамой из тюрьмы вернулись.
«У деда и бабушки нашей тишайшей было четыре сына и дочь. Один сын и дочь умерли от голодных родов некрещеные. Эти не в счет. Трое выжили до возраста и стали Петра Зотова дядьки и отец. Один дядька в четвертом погиб под Ляодунем в японскую, другой — на Пресне в пятом году, и остался мой отец Алексей Афанасьевич, тюремный житель, и мама — его верная жена.
Отец по тюрьмам, мама за ним следом. Вернется мама, родит мне братца или сестру и опять за отцом. Как они там в плену улаживались, мне неизвестно. Лютый до бабьей ласки отец. Весь в меня. Но иногда и отца отпускали из узилища».
Вспоминает Зотов давний разговор отца своего с дедом:
— Почему все сады гефсиманские? — спрашивает отец. — Душа воплощения ждет, а плоть обманывает… Зачем про другой мир загадано? Зачем мечта и томление духа?
— Погоди, Алешка… Разум человека появился, когда сон с явью столкнулся и понял человек, что во сне он живет второй жизнью. И любит во сне, и страдает, и страх испытывает, и белый ужас. И от второй ночной жизни он просыпается, а от дневной, первой, проснуться не может. И встреча сна и яви это есть фантазия. Никогда фантазии не бойся, однако помни, что она всего лишь в голове и потому требует проверки.
Это было в пыльный день конца лета. Это было в день, когда все предисловия кончились.
— … Магия, — сказал дед.
— Вот это мне, милостивый государь Афанасий Иваныч, и нужно, — сказал старик Непрядвин, — в моем собрании этой книжки нет. Не уступите ли?
Стояли они с дедом на чердаке по колено в книжных связках дедова собрания, и на каждой связке бирка привязана была деревянная с номером. А что в каждой связке, дед сам знал наизусть и мог рассказать.
— Мне нравится ваша мысль, что рабы позднейшие — это бывшие маги, — сказал Василий Антонович. — Мне это в голову не приходило… Однако что это за возгласы на улице?
— Асташенков гуляет с маркизами, — встреваю я.
— А-а… Петр — первый… — говорит мне Василий Антонович. — Бастуешь?
— Нет, — говорю. — Вторую неделю работаю.
— Эх, Петр — первый, мне бы твои годы, и я бы забастовал… Я вашего Маркса читал. Мне нравится, что он Асташенковых терпеть не может. И я все бы сделал, чтобы их с горки спустить.
— А на горку кого? — спрашиваю. — Непрядвиных?
— Нет, молодой человек, такой амбиции у меня нет. Непрядвины в божьем суде свое дело проиграли. После Асташенковых — только маги. Тут мы с твоим дедом в полном согласии… Да только я не верю, что маг — это ты.
— Нашли с кем разговаривать, — сказал дед. — Революционер хренов… У него одни бабы на уме… Ростом жеребец, а душа не шире кошкиной.
— Всему свое время, — сказал Василий Антонович Непрядвин. — Разовьется. Ничто его не минует. Как по-вашему, Афанасий Иванович, война будет?
— Да.
— Вы так уверены?
— Ломоносов сказал: «И горы, ужасные в наших глазах, могут ли от перемен быть свободны…» Пришла пора империи падать, — сказал дед.
Немой младшенький глаза закрыл — соглашается.
А Мария, помощница наша, царицу Дуську да царя Афанасия-немого кашей кормит. Афанасий хотя и немой, а все слышит и когда вопрошает — глаза таращит, а когда соглашается — закрывает.
— Петь, а Петь, глянь, что это во дворе кричат как?
Пылью рвануло по улице.
Немой наш глаза открыл и смотрит.
В соседнем дворе шарманщик перестал про разлуку.
Вошел отец, руки вымыл, из рукомойника на лицо брызнул и утерся. Обернулся к нам. Мама за сердце взялась.
«Химик Менделеев деду объяснил, что вселенную заполняет эфир невидимый, но взвесить его нельзя, как нельзя взвесить воду в воде.
Чтобы взвесить воду, надо стоять на берегу, а где у вселенной берег?
И это я запомнил на всю жизнь и искал берега, когда наступало размышление.
— Война, родные мои, — сказал отец. — С германцами.
А у меня в голове одно проплыло, имя одно: „Мария“…»
…Была у бабушки сестра — Зотову двоюродная бабка, был у нее сын — Зотову троюродный дядька, у него дочь Мария — Зотову четвероюродная сестра. В этом году ей — шестнадцать.
И всей своей кошкиной душой он полюбил эту девушку.
Но он тогда не знал этого. А узнал в один день того жаркого лета.
Девушка гордая, в вере твердая, ручки проворные, телом чистая, глазки синие, — они с Зотовым и не смотрели друг на друга никогда: она в землю глаза опустит, а он в небо — ворон считает, так и пройдут мимо друг друга, и опустеет Пустырь, будто и ничего нет на нем, а только на одном краю — монастырь, на другом — нужники в ряд, а посреди песчаные карьеры, куда ночью не ходил бы никто, но бывает — надо.
Мария… Краснела быстро… Такая милая, такой цветок чистый в ихних благушах, в Пустыре… В церковь и то без провожатого пускать страшно… Назначили Ваньку — четвертого. Тоже грязи не любил, хотел чистой жизни… Однако он вернулся красный, она — белая… Больше его не посылали… Санька — третий — пузырь стал ходить провожать, свистун. Он бывало свистнет — ломовики вскачь. Шпане свой. Возле церкви покантуется, а обратно идти — с этим не тронут.
Видно, дед, магия сильнее у женщины. Называется — стыдливость. Только ждал ее Зотов с иной улицы, а не с Пустыря.
А на другой год был разговор один, и был случай один, и пронеслась зотовская любовь как день один.
Провожали Зотова на войну. Смутился он душой от своей тайной любви.
И вот какой разговор с дедом вышел у него на тех песчаных оврагах и откосах, где Зотов от вчерашних проводов отлеживался.
Открыл Зотов глаза, дед на него смотрит:
— Петька… война идет.
— Ну?
— Увидимся ли, нет, но скажу заветное. — И дед сказал: — Третье тысячелетье на носу, Петька. Первое все ушло на Веру, второе — на Разум… Но ни разум, ни вера не спасли… И перекрестясь, топором бьют, и по здравому смыслу пытают… Запомни, Петька, Поведение — в этой тайне все. Кто откроет тайну Поведения, тот скажет Слово. Остальное же все — болботание. Вера дает силы, Разум — возможности. Но Поведение от них не зависит. Ибо оно есть и у блохи, а у нее ни Веры, ни Разума. Однако любовь у нее есть — блошиная, только она этого не понимает. А мы понимаем — и строим свое поведение.
Зотов такого не слыхал еще.
— А святее любви нет ничего… Любовь, Петька, это и есть жизнь. А все остальное — смерть.
И тут пришло к Петру-первому:
«Да, да! Как же я не догадался? Все записки мои об одном — о любви. И это главное во всем, что пишу и что во мне, и это мое независимое поведение.
Я, Зотов Петр — первый Алексеевич, орясина, и бабник, и товарищ, и согласия ищу, и прикосновения, и ничто для меня не святее жизни, и все это — про любовь.
— Мария… Неосторожное счастье мое… Не остерегся».
А уж как Зотов бежал от этого, как бежал! Бегал, бегал да и добегался.
Второй год войны идет. Деньги и совесть подешевели, еда и шлюхи подорожали, а жизнь и вовсе нипочем пошла.
По первому случаю с военного завода токарей не брали. Ну, потом семейная ссора кузенов Вилли и Николя крутой оборот взяла, и стало ихнего брата меньшого, серую шинель, окопного героя, солдатика, хоронить некуда. Взялись и за токарей из неблагонадежных. А за Зотовыми числилось.
Попал Петр — первый в московские казармы под начало ротному древней закалки. Настроение у него было — кулаком в скулу бить. Когда и зубы выплевывали. А на учебных стрельбах лежа ротный через винтовки перешагивал да одному нескладному каблуком переносицу и провалил. Не побоялся. А что ему? На фронт не ехать. Не убьют солдатики. Ему другую роту пришлют. Небитую.
Зотов ждет, когда до него дело докатится.
Выстроил их ротный во фрунт — тянись в линию, ни назад, ни вперед не вываливайся. Пятки вместе — носки врозь, под ремень палец не проткни — распрями плечи, быдло, — и кулаком юшку пускать — изо всего полка лютый зверь, другого такого нет. Вот… вот… к Зотову приближается.
— Что глаза отводишь? Ешь начальство глазами… ешь… — И кулак в сторону отводит.
Зотов со штыком у плеча вперед подался и говорит тихонько:
— Заколю…
Тот поглядел Петру-первому в глаза и понял: заколет.
— Что? — спрашивает.
И мимо прошел. Рассеянно смотрел на красные лица.
Потом вернулся и вдоль покатился.
— Фамилия…
— Так точно! — рявкнул Зотов громко, как мог.
— Тронутый? — спросил ротный. И снова мимо прошел.
После этого он никак не мог разглядеть Зотова — ни белым днем, ни при лампе-молнии, ни в карауле ночью лунной — все щурился. Зачем было Петра-первого в военный суд и расправу? Кузен Вилли его и так прикончит. У Вилли усы вверх торчат, у Николя вниз повисли, вот и вся разница. И все ротные знали, что солдатам это известно наилучше, особенно кто из начитанных.
Перед отправкой — в баню.
Помылись солдатики, побанились, тела чистые, белые, морды красные, ступни сизые — эй, соколики! Соловей-пташечка, горе не беда… Раз поет, два поет, помирает — все поет… канареечка жалобно поет! Р-равняйсь! С-сси-ррна! Наши жены — ружья заряжены! Вот где наши же-оны! Зотов, куда пялишься?!
А вдоль забора Маша идет, Машенька, Мария. Зотов пялится, солдатики ржут. Последний нонешний денечек Москву издали видят.
Ну, братцы!
«Дал я фельдфебелю целковый, и тот меня из казармы на час выпустил, не забоялся. А за казармой роща, а в роще соловьи курские, от войны залетные, и Маша-Машенька, Машенька моя родная, мне не жаль смерть принять, жаль, тебя не увижу, звездочка негасимая. Ничего мне не надо, Машенька, от тебя, — женатый я, и дите ждет, и с бабами я путался, грязный я, подворотный против тебя, Машенька, а ты чистота небесная, голубиная. Вот беда, вот где горе мое, но уже год пропадаю я из-за тебя, Машенька, Мария моя.
— И я, Петя, — говорит Мария. Я ей в ноги:
— Прости меня, люблю, и прощай, моя ненаглядная!
Обхватил ее, лицом прижался.
— Сейчас, — говорит Мария и дрожит. — Пусти меня, Петя…
Отпустил я ее, а она на траву легла… Ничего дальше я не помню, помню только, хрипел:
— До могилы…
— И я, Петя… Прощай…
Прощай, звезда моя негасимая. Завтра поедем могилы рыть себе и другим. Траншеи называются…»
— Что есть знамя?! Знамя есть священная хоругвь, которая…
Ну и дальше. Все по словесности. За веру, за одного немецкого кузена против другого немецкого кузена, за Непрядвина, за Асташенкова, за ихнее отечество!
Теплушка колесами тук-тук, сорок человек или восемь лошадей.
Прощай, Мария.
Любовь, магия, жизнь, сущность неведомая.
Прощай, Мария.
4
…А как пришел 1916 год, Ванька — четвертый старика Непрядвина убил, Василия Антоновича. Такие, брат, дела.
Не сам убил и вроде бы неподсуден, но на Ваньке — его кровь.
Колька — второй из типографии деду книжку принес, и там написано — в терновом венце революций грядет шестнадцатый год. И фамилия — Маяковский. Видно, началось.
Революцию, может, все хотели в тот год, однако каждый по своему интересу. Может, один царь не хотел, да ему и хотеть некуда — началось его царство с Ходынки, Ходынкой и кончится, и что ни делай, а все в одну сторону идет.
Потому что накопилось нежелание людское, и никто не хотел, чтоб было как было. Однако хотя нежелание у всех одно, но остальное все разное.
И Петр — первый стрелял и даже видел, как падает человек, то ли от его пули, то ли от соседской — без разницы. И мы их губили, и они нас, и человеческое мясо по траншеям нипочем шло. Но в штыковую он ни разу не ходил — бог миловал. И как бы он живого человека штыком в сердце ткнул или в живот, он себе представить не мог и содрогался. А так — вроде в землетрясение попал, и никто ни при чем.
Но он видел и таких, кто перешагивал черту и становился мясник, которому интересно, что он не боится человека зарезать, и вроде себя испытывал, и радовался. Но когда и его настигало ранение, то и он выл и считал, что боль режет и надрывает его одного, а остальных милует…
Был у Ваньки дружок с Пустыря, Тимофей, закадычный, и была у того Тимофея невеста не невеста, а зазноба. Состояла она в прислугах у Непрядвиных, и Тимофей наметился жениться с форсом. И все она Тимофея учила — время такое, пользуйся, если сейчас с Пустыря гнойного в люди не выбьешься, потом не выйдет: плачь не плачь — Москва слезам не верит. Пустырь он и есть пустырь. Хочешь в городе жить — стремись отчаянно. С Пустыря через Благушу в центр за Китай-город. Кто умный — слов не говорит, и ему не говорят — сам поймет. Ванька — четвертый да Тимофей были умные.
Они с детства не разлей вода, в чижа играли, в лапту, в свайку, вместе по чердакам лазали и по девкам, вместе на фабрику пошли, на угольный склад. Война идет, им года подходят, Ванька и говорит: «Тимофей, идем добровольцами, наш случай пришел. Георгия получим, в прапоры можно выйтить и в офицера».
А в шестнадцатом добровольцев с огнем ищи — не четырнадцатый, поумнели. Их и взяли, дураков, за ихнее зверство. Оружие дали — ура, пошел. И что ты скажешь — через полгода не убиты, не ранены, а получили по Георгию на грудь и отпуск домой на геройскую побывку. Пулей летели — гляди, родня, за Китайгородскую стену шагнули.
Дома дед Ванькиному Георгию не порадовался и тем его обозлил, а у Тимофея иные дела. Пришел пьяный к зазнобе ночевать, а та уж без работы мается, голодует. Он к ней, а она:
— Не надо, Тима, ко мне нельзя.
Но он ее не послушал.
А наутро она ему сказала:
— Тима, теперь у тебя сифилис.
Вот так. А как вышло? Приехал к Непрядвину — старику его племянник из Питера да ночью и навестил прислугу. Уехал обратно, а через месяц у нее сыпь на теле. Непрядвин ее к доктору отправил, там ее на стыдном кресле смотрели и назначили ей сифилис.
Прислугу с работы долой, а от племянника к Непрядвину — письмо с покаянием: вы за меня не бойтесь, меня профессор лечит.
Тимофей взвыл — и к Ваньке:
— Пошли Непрядвина искать.
А чего искать: он у деда учение Якова Беме разбирает.
Дождались ночи.
— Мы, ваше благородие, вас до дому проводим — место глухое, шалят.
Тот Ваньку узнал:
— А, молодой герой…
— Идемте, ваше благородие, через Пустырь, путь короче.
— То-то, я слышу, пованивает… Это и есть знаменитый Пустырь?
— Так точно… А что, ваше благородие, я вас спросить хочу: почему вы, ваше благородие, — благородие, а я не благородие и чем ваш род лучше нашего? — говорит Ванька, а света — ни зги.
Тот остановился.
— Раньше Адама никого не было, — говорит Ванька. — И твой род моего не старше. И выходит, ваш род наш род облапошил.
— Дурак ты, молодой герой, — говорит Непрядвин. — Прочь с дороги.
— А куда прочь? — спрашивает Тимофей. — На войну? А что в окопе от вас передать?
— Передай, что державе нужны все чины, какие в ней есть. Не будет чинов, не будет державы. Не будет державы — всем конец.
— Не шуми, ваше благородие, — говорит Тимка. — А то ведь плюну я тебе в глаза, а я теперь сифилитик. Потому что невесту мою, которая к тебе служить пошла, твой племянник наградил. Сам поскакал к профессору, чтоб чистую барышню не зацепить, а мне наследство. Вот и вся политика.
— Племянник подлец, — говорит Непрядвин. — И каждому свое возмездие. Но ты, сукин сын, из-за личных счетов на державу посягаешь.
— У нас личных счетов две тыщи лет накопилось, третья тыща — наша. Извини, ваше благородие.
И застрелил Непрядвина Василия Антоновича из германского парабеллума.
— Ванька, бежи. Тебе со мной хода нет. Теперь один в офицера ловчись.
Разбежались они. Ванька домой пришел пьяный. Дверь толкнул, а там Мария стоит.
— Каин ты… Каин…
А она за ними до Пустыря шла, догадалась, потом бегом домой — деда на помощь, да не поспела.
Ванька ей:
— Цыц! — и лапой рот зажимает.
— Дедушка!
Дед вышел, а Ванька на него свой германский «зауэр» наставил:
— Убью!
А дед ему, конечно, кочергой руку и перебил. «Зауэр» подобрал и видит, Мария по стене сползает и глазки закрыла.
Дед ее на руки взял и говорит Ваньке:
— Убить я тебя не убью, потому что ты моя кровь, но из этого дома я тебя изгоняю. И отныне ты потерял свой род-племя и ты не зотовского бога сотрудник.
И изгнал дед Ваньку-каина.
Потом, может, в истории нашу жизнь проще запишут — сознательный рабочий, несознательный рабочий. История всегда итоги пишет, чтобы дальше идти. А у человека, хотя душа его до звезды достигает, тропочка его единственная — пешеходная, и никто другой, кроме него, по ней пройти не может.
Народ это кто друг другу служит. А кто не народ — тот семя бесплодное, на камни брошенное, и каждому его возмездие.
И Мария сказала:
— Каждому свое возмездие. — Да и исчезла невесть куда.
Еды нет, табаку нет, одежка — рванина, дождь бьет, вошь бьет, — гнием. Чует Зотов — домой пора с театра военных действий. А ему во французскую державу ехать приказывают до победного конца. Броневик системы «Рено» — вперед-назад ехай без поворота, руль спереди, руль сзади, а у сцепления конуса плохие — горят. Ну, конечно, паек французский, живи не хочу — бобы, вино красное, буйволиное мясо, алон-занфан де ля не то по три, не то по четыре, о-ля-ля, экспедиционный корпус.
Нет, думает Зотов, домой пора. С чужбины в Белокаменную не выбраться.
Трехлинеечка, калибр 7,65, да жестяной чайник, да шапка барашковая, да граната русского образца. С эшелона на эшелон скок, кусок доели, затворами полязгали, гони, мать твою, — вон она, Белокаменная, рукой подать. Ф-фух — фух паровоз, стоп, тупик, дом родимый — Брянский вокзал.
Дождь моросит, по лужам каблуки хрясь-хруп, хрясь-хруп. По Смоленской площади ветер гуляет. Ордой идут, не в ногу, будто по мосту. И редеет ихняя орда московская, приблудная. Не то дезертиры, не то новой войны участники-сотрудники.
Идти Зотову через центр, через всю Москву домой, на Благушу — к утру дойдет, может, и подвезет кто.
— Служивый!
— А?
— Крутани ручку.
Грузовой автомобиль на дровяной склад едет, почти что по пути. Однако высадил на Садовой-Триумфальной у сада «Аквариум» — опять заглох. И видит Петр — первый Зотов афиши на тумбах — мать честная, неужто представление? Люди-то живут, а он думал, только стреляют на белом свете.
Часа через три, когда до дому и до своих, любимых оставалось только пройти Малую Семеновскую, Зотова у Введенского народного дома окликнул Непрядвин-сын.
Ни он тогда, ни Зотов еще не знали, что Ванька-каин в непрядвинской крови повинен. Но не любил сынок-офицер всех Зотовых независимо, за ихнюю черную кость и красную кровь и за то, что он, Непрядвин, в Москве и это, стало быть, ничего, а вот что Зотов не в окопе — стало быть, изменник.
— Зотов!
Узнал, сука.
— Стой, стрелять буду!
Глупо, такой день. Петр — первый затвор передернул и остановился. Непрядвин подошел.
— Я тебя сразу узнал, гадину, — сказал он. — Дезертир… Ну-ка иди к свету. Может, это не ты?
Вышли они под фонарь у скамьи подле ворот, а тот смеется.
— Ты, родимый… Защитник отечества. Не бойся. Теперь изменять можно. Достигли.
— Я, — говорит Петр — первый, — не боюсь!
— Ага… Значит, слышал уже?
— О чем?
А он опять смеется и зубами лязгает:
— Р-революция, Р-россия, тр-ретий Р-рим, р-раз-врат, р-раскол… Знаешь, зачем я за тобой шел? Не догадаешься, Зотов. Читал сочинение Якова Беме, где он предсказывает грядущее? Знаю, читал… Мне покойный отец говорил.
— Умер ваш батюшка?
— Убили. Тебя не касается… Читал? Не отрицай. Я Непрядвин, ясно?
— Я вашего батюшку не отрицаю.
— У Якова Беме про революцию что-нибудь сказано?
— Нет, — говорит Петр — первый.
— Может, ты невнимательно читал?
— Внимательно. Я читаю внимательно. От «а» до «ять».
— От «альфы» до «омеги», — сказал он. — Отца убили у вас на Пустыре… Последним его видел твой дед. Я выяснил…
— Что вам от меня нужно, гражданин Непрядвин?
— Твой дед зазвал его… Твой дед достал ему книгу какого-то Якова Беме… Твой дед зазвал моего отца, и его убили…
— Дед не мог зазвать, — говорит Петр — первый. — К нему сами тянутся.
— Плевал я на него… Он последний видел отца.
— Можно заявить в полицию.
— Полиции нет. Закона нет. России нет. Пустырь…
— Вы ошибаетесь, господин Непрядвин, — говорит Петр — первый, — в России только хозяева проходят…
— Верно, — говорит. — А грязь оседает. Кто был ничем, тот станем всем.
— Кто был никем, господин Непрядвин… А кто был ничем, тот ничем и останется.
— Невелика поправка, — говорит. — Из грязи в князи.
— Все князи из грязи, — говорит Петр — первый. — Господь дунул в грязь, и вот мы с вами друг друга терзаем… А все дворяне из княжьих дворовых холуев, из дворни… Почитайте господина Ключевского.
— Равенства хотите, сволочь?
— Нет, гражданин Непрядвин… Лишь избавленья от нищей тесноты хотим и полета души… Это только на земле толковище. А в небесах никому не тесно.
Непрядвин потер лоб, потом вытащил наган. Зотов вскинул винтовку. Тот, подумав, сунул наган в рот.
— Спьяну бы не надо, господин Непрядвин, — говорит Петр — первый.
Он сунул наган в карман шинели:
— Кто этот Беме? Жид?
— Нет, давний немец.
— Профессор?
— Нет, — говорит Петр — первый, — Сапожник.
— Вонючее отродье, — сказал Непрядвин. — Летать захотели.
— Тело воняет, — говорит Петр — первый, — отмыть можно… Беда, если душа завонялась.
— Как книга называлась?… В память отца спрашиваю.
— «Аврора»… — говорит Петр — первый.
— Как?
— «Аврора», — говорит, — Заря. С перстами пурпурными Эос.
И тут Непрядвин под светом фонаря побелел бинтом и сказал:
— Так назван крейсер, который стрелял по дворцу государя… Его спустили на воду в 1900 году… Мы с отцом были на освящении…
И закрыл глаза.
Зотов прислонил его к скамье, но у него колени не гнулись. Так и стоял, как штанга.
А Зотов ушел. Этого Якова Беме он не читал. Только у деда видал обложку и название — «Аврора».
Верующий ли он был тогда или неверующий, Зотов теперь не может вспомнить. Был и верующий, был и неверующий, — всяко в жизни было. А только видел он тогда — если есть божье дело, то вот оно, начинается.
А впереди — морячок-парнишечка, клеши рваные, личико нищей оспой запорошено. У его радости — путь каменист лежит, у его радости — ноги в крови. Позади Пустырь проклятый, впереди — звезда по курсу. Отплыл раб, рабочий, магистр могучий в ту землю, где человек оправдан, если мощью поделиться, огнем своим, сутью своею, свободой своей.
Семнадцатый год, семнадцатый годок… Сколько бы ни рассказывать, не расскажешь. И руками будут разводить, и на счетах подсчитывать, и зубами греметь, и со слезами вспоминать, и все равно ни конца ему нет, ни краю, потому что он был равен Человеку, то есть иначе сказать — Вселенной.
Звезда моя!.. Прости меня за все, прости, если что в жизни моей не вровень было со светом твоим и обетованием. Но я стремился.
5
«Еще раз в жизни довелось мне встретить господина сыщика и господина Непрядвина и господина главноуговаривающего Гаврилова в 1919 году, и о том записываю.
Удивительно это, но место было узкое, как горная тропа, и нашим коням не разминуться, не разойтись.
Стало быть, я заглянул в замочную скважину и увидел огромную тугую спину человека, который рылся в моем комоде, и понял, что, похоже, нашей разведке амба и хана, если я не смекну, как быть.
Оглянулся я на коридорное окно — ночь, собаки лают, выстрел. Задворки складов, ящики, бочки, бутыли, корзины.
Назад нельзя, там свои уходят проходными дворами, если, конечно, квартал не оцепили. А если не оцепили, то и шуметь нельзя.
Ну ладно.
Вхожу я в комнату и говорю:
— Здравствуйте, господин сыщик.
Он наставил на меня наган.
— Оружия у меня нет, — сказал я и поднял руки. — Я частное лицо.
— Что-то мне знакомо твое частное лицо… Ба!.. Да это ты… — сказал он. — Кто бы мог подумать?
— Вас повысили в чине, господин сыщик, — говорю.
— Заслуги, Зотов, заслуги.
— А жалею я только об одном, господин сыщик, — говорю, — я так и не повидал моря.
— Это мы уладим, — сказал он. — В камере смертников из окна видно море… Ты удивишься: водяная стена стоит торчком до неба, а вовсе не простирается вдаль. Она простирается, когда стоишь у воды, а у камеры смертников высокий горизонт.
Когда уходил я на фронт с Московской дивизией, я думал, что буду теснить их до моря, и я на него погляжу, а может быть, они уймутся, и я лягу на берегу, и буду смотреть на волны и на хранилище воды, и стану думать — вот я видел разруху и голод, и как все это поникшее мы будем поднимать, чтобы стало как надо, но для всех, а не для кого-нибудь из некоторых. Но когда вышло иначе и я по приказу оказался в этом городе, догадался я, что за два последних годочка прежнее ушло все и я уже не хочу, чтобы все ихнее богатство было для всех.
А я, каюсь, не верил, когда наши агитаторы кричали нам о прибытии и эксплуатации только. Я думал: как же образованные, которые свободно читают книги на чужих языках и могут сколько хочешь не ходить на фабрику и поле, не копошиться в нищете и голоде, а читать слова любых мудрецов и праведников? И наверно, я думал, главное сражение они ведут за то, чтобы это доставалось только им. Это, конечно, была их гнусная жадность — чтобы их духовную сытость мы питали и обеспечивали нашим телесным голодом, и все же я понимал их. Я хотел достоинства и равенства, и все же я понимал их жадность — соблазн был слишком велик. Но оказалось, что я как был, так и есть дурак дураковский, и простуженные агитаторы, которые кричали нам листовки махорочными голосами, кричали правду, грубую, как коровье копыто.
Нас в камере было двое — я и ученый человек с коротким носом и как бы вывернутыми ноздрями, и я не мог вспомнить, где я видел его. А за окном была водяная стена до неба, и ее перечеркивал чугунный католический крест, такой небольшой, что на нем и распять-то было некого, кроме младенца.
Молодой охранник спросил, лязгая железным глазком:
— Господин Сократ, господин Непрядвин спрашивает, как вы себя ощущаете?
— Пацанчик, — ответил сосед. — Передай господину Непрядвину, что народ его не хочет, — значит, он проиграл.
— И все?
— Остальное он поймет сам. Когда стало глухо, я спросил соседа:
— Я слыхал, будто Сократ умер давно?
— Как же это может быть? — удивился сосед. — Сократ бессмертен. Умерло только тело, в котором он временно жил.
— Значит, вы верите в переселение душ, как индийцы? — спросил я. — Или, может быть, вы верите в тот свет, как все остальные?
— Это не вопрос веры, — ответил он. — Важно, как есть на самом деле.
— А как на самом деле?
— Откуда я знаю? — сказал он. — Что обнаружится, то и будет. Все рано или поздно объяснится.
— Выходит, душа есть?
— Есть материализм и есть идеализм, слыхал?
— Допустим.
— Чем они различаются?
— Ну?
Расстреливать нас должны были вроде бы 15-го — 17-го, а в тот день было только девятое. Лучше, чем в высоком разговоре, провести время между мордобоями было нельзя.
Я было совсем размяк, да сосед меня возвел обратно в люди. Золотой был разговор.
— Меня всегда, — говорит, — удивляло и изумляло даже, почему человек, которому хотят отрубить голову, не пытается задушить палача? И только когда меня первый раз казнили в Жигулях, я понял почему. Человек боится просчитаться — а вдруг помилуют? Он колеблется до последней секунды и все быстрей ждет чуда, и у него наступает паралич души. Стоим, как бараны у хлебного склада, и ждем, когда взвод выстроится и выстрелит в нас. И вдруг добрый человек говорит: „Помирать надо весело, давай за мной…“ — и бежит на солдат. Я за ним, а ноги не сгибаются. Смотрю, еще один меня обогнал — а всего-то шагов десять. Солдаты ружья вскинули, а перед ними офицер — боятся попасть в него. Добрый человек офицеру в ноги, солдат на него, куча мала, я сверху, кого-то за рукав схватил. Выстрелы пошли невпопад, тут остальные набежали, — видно, дошло, что терять нечего, один солдат ружье обронил в драке, тут же его кто-то пристрелил. Ну, в общем, не расстрел вышел, а свалка, а потом, у нас винтовок пять штук, у них — пятнадцать. Стрельба, то есть бой. Им-то помирать неохота, а нам все едино. Добрый человек орет: „Бей, коли!“ — и офицера вперед гонит. Наших троих убило, у солдат двоих, а так все больше мимо. До самой воды сражались. Они в лодки, маневр потеряли, а мы по ним — с берега, опять одного убили. Они в воду, а мы в лодки и якобы на тот берег. А сами за поворот и в Жигули, в горы. Через полчаса погоня на ту сторону пошла на буксире. Так и жив.
И я от этих слов воспрянул, и решили мы под самый конец тоже устроить им что сможем.
— А если по одному поведут? — спрашиваю.
— И один дерись насмерть, хоть глаз кому вырви, хоть зуб выбей. Но не костеней. Пусть пристрелят. В драке незаметно.
Я ему говорю:
— Клянусь.
И мы начали проводить время в золотых беседах.
— Ну? — спрашиваю.
— Материя это то, что есть на самом деле, — объясняет. — И мы можем это ощущать, и материалист знает, что все рано или поздно объяснится.
— Но ведь душа, говорят, невидима?
— И микробы были невидимы, пока микроскоп не сочинили, и молекул никто до сих пор не видел, и атомов, однако химия судит о них по косвенным признакам и есть таблица Менделеева.
— Дмитрия Ивановича знал мой дед.
— Тем более, — говорит.
— А почему Непрядвин вас Сократом называет?
— У нас с Сократом носы ноздрей вперед и лысины, а все остальное, увы, не схоже. Я поп-расстрига и после гражданской буду заниматься аграрным вопросом, я и у них прохожу как „аграрий“, и ты, главное, ничего никогда не бойся, потому что пока не доказано, что души нет, ты имеешь право знать, что ты бессмертен.
Потом опять пришли господин Непрядвин, господин сыщик, господин главноуговаривающий с бумагами и едой, а я еще успел спросить:
— Если душа бессмертна, то почему же родные нам души не откликаются и никаких вестей от них нет?
— Потому что каждой душе за свои земные дела стыдно, — успел ответить Аграрий.
Я такого еще не слыхал.
На этот раз не сразу били, и мы с соседом поняли, что это скорей всего финита ля комедия.
— Ну что ж, — сказал Непрядвин. — Сегодня у вас последний шанс. От конкретных вопросов вы уклоняетесь. Поговорим на общие темы. До вечера есть время найти с нами общий язык. У нас время есть, у вас — нет. Выходим на последний разговор. Допросим друг друга. Разрешаю возражать.
— Кстати, господин Непрядвин, это не игра в разбойники, — сказал Аграрий. — И не полицейская операция… Что из того, что вы нас поймали? Это значит, мы проиграли в тактике. Но ваш тактический выигрыш — чепуха, если проиграна стратегия… Все очень просто. Люди, которые работают, делают машины и добывают хлеб, не хотят голодать и быть неграмотными. Логично?
— Вы их идеализируете, — сказал Непрядвин. — Если они победят, они так же кинутся жрать и похабничать, как мы. Ну, не они, так их дети… Или вы этого не опасаетесь?
— Это будут их проблемы, и они будут думать, как их решать… Наше дело накормить голодных и обучить грамоте. Пусть думают, как быть дальше.
— В жизни не поверю, — сказал господин сыщик, — чтобы образованный человек полез в шахту коногоном, а образованная барышня коров доила. Да и вы, их родители, каждый свое дитя захотите в люди вывести. И опять вверх полезут, кто кого. Такая людская природа. Господин Непрядвин жизни не знает, не кипятись, Непрядвин, а я только жизнь и знаю и людскую натуру. Теории не обучен.
И тут опять полоснул меня страх, не по сердцу полоснул, а по всей моей зотовской душе, незримо связанной с бесчисленными душами погибших рабов и рабов освобождающихся.
— Ну что дрожишь, Зотов? Не бойся, Зотов, я не дьявол, я хуже, — сказал господин сыщик. — Ни дьявола нет, ни бога. А если человек сытый, то один другого хочет сделать слугой.
Преодолел я страх и говорю:
— Так было.
— Так будет, Зотов, — сказал господин сыщик. — И чем же управлять будете? Рабов — бичами, каленым железом, так вы теперь вроде бы не рабы. Потом пошел страх божий, геенна огненная, плачь, люби кесаря и кайся. Долго держалось, но поломалось и это. Ныне есть кнут похлеще, невидимый, он же и пряник, называется — рубль. Я спрашиваю: чем замените свободную продажу души и тела? Кнута вы теперь не забоитесь, а рубль отмените. Чем управлять будешь сытым дитем своим?
— А зачем управлять? — спросил главноуговаривающий, дожевывая сладкий кусок. — Они и государство отменят. Анархия и волки на Тверской, на Театральной площади и на Садовой-Триумфальной.
— Не отменят, — сказал господин сыщик. — Их тогда нормальные соседи сожрут. Не отменят. Чем тогда будете управлять сытым дитем своим? Логично?
— Пожалуй, глупо, — возразил Непрядвин, который до этого молчал. — Рубль для сытого не приманка. Для сытого приманка — достоинство.
Из-за этого слова Непрядвин остался жить, когда все кончилось.
За достоинство, за уважение души его — человек все сделает добровольно. Достоинство.
И я захохотал, и слезы потекли из моих очей, и прошел страх бессмысленной смерти, потому что прошел страх бессмысленной жизни.
— Обманул ты меня, господин сыщик, — сатанея от хохота, сказал я. — Обманул… Не все ты про человека знаешь.
— Приступим к неофициальной части, — сказал господин сыщик.
И они стали нас лупить и записывать вопросы, на которые у нас не было ответов.
— Погодите, — сказал Аграрий, когда они устали. — Дайте я выскажу важную мысль. Пусть она сохранится хотя бы в протоколе.
Аграрий посмотрел на меня и сокрушенно покачал головой, а я подумал: хорошо, что он не видит себя.
— Ну? — нетерпеливо сказал господин сыщик. — Давно пора. Пишите, Гаврилов… О чем же ваша мысль?
— О нравственности.
— Впрочем, неважно… Гаврилов, пишите.
— Пишите, Гаврилов, — сказал Аграрий. — Похоже, что к нравственности нужен иной подход… Не сословный, не классовый, не национальный, не профессиональный, не идеологический, не религиозный — ни одно деление не проходит, когда дело касается нравственности. На сегодняшний день если собрать с поверхности все определения нравственности и отсеять все определения, возникшие в той или другой среде, то на дне останется наипростейшее и наиглавнейшее — как бы ни хитрил человек, призывающий к нравственности, всегда оказывается, что нравственность это то, что нравится лично ему. Непрядвин незаинтересованно пожал плечами, а господин сыщик заинтересованно глядел с видом: „Ну? Ну?“ — а Гаврилов строчил. Они отдыхали.
— Он, конечно, не говорит „моя нравственность“. Он говорит — „наша“. Объявляет ее свойством кого-нибудь, от имени которого он якобы выступает. Однако ежели этот же клан потребует от него самого выполнения того, что он объявляет нравственным, он визжит, и увертывается, и вносит уточнения, и так далее, и так далее… И обнаруживается, что „наша“ нравственность это то, что „ему“ нравится. Но не в себе, а в других. То есть что его представления о нравственности всегда относятся к другим, а не к нему.
Вот печальная истина и новинка.
И на деле выходит, что нравственный лишь тот, кто громче требует от других, чтобы они нравились лично ему.
— Ну хватит, — сказал господин сыщик.
— Погоди, — сказал Непрядвин. — Покурим.
— А вместе с тем, — продолжал Аграрий, — каждый хочет, чтобы существовало все же некое нравственное целое, частью которого будет он сам.
Все попытки сформулировать единый нравственный закон разбиваются о практические действия людей, увертливо живущих среди тех, кто пытается этому закону следовать. И невольно приходишь к мысли, что где-то в самом корне вопрос поставлен неверно, неприродно и механически.
Я не знаю, как в других языках, но в русском языке слово „нравственность“ происходит от слова „нравиться“, которое происходит от слова „нравы“, которое в свою очередь происходит от слова „нрав“, „норов“, то есть характер, то есть личный способ откликаться на призывы снаружи и изнутри.
И потому „нравственность“, то есть нравственное целое, не делится на одинаковые кирпичи по штуке на каждого, а, наоборот, оно, это целое, складывается из разнообразных характеров — „нравов“ в нравственность общую.
Если я не ошибаюсь и это действительно так, то нужен совершенно иной подход — не унификация людского поведения под один ранжир, поскольку человек не есть унифицированный патрон 7,65-го калибра, годный для любой винтовки русского образца, а также для германского манлихера, а наоборот, нужно использование разнообразных возможностей разных норовов-характеров для сложного, но единого поведения общества в целом.
Нравственность — это, конечно, гармония, а гармония — это не сумма одинаковостей, а произведение различностей, складывающихся в прекрасное целое. И нельзя от ноты „до“ требовать, чтобы она звучала как нота „ре“, можно только желать, чтобы она занимала нужное место в аккорде.
То есть, приблизительно говоря, безнравственность — это когда человек занят делом, к которому он не приспособлен.
Нельзя требовать от монаха, чтобы он вел себя как Дон-Жуан, и нельзя от Дон-Жуана требовать, чтобы он вел себя как монах. У них разные норовы.
Если Дон-Жуан позорит монаха, то Дон-Жуан — быдло, если монах позорит Дон-Жуана, то монах — быдло.
— Кто? — спросил главноуговаривающий.
— Быдло. Это тот, кто пытается свой характер, свой норов сделать образцом для других и хочет своему характеру, норову, нраву не надлежащего места в аккорде, а привилегий.
Общественное бытие определяет сознание, в том числе и индивидуальное, это так. Но оно лишь определяет сознание, регулирует, но не порождает его. Порождает сознание природа — ребенок родится с головой на плечах, и один человек родится с таким норовом, а его близнец с другим, — бытие станет их норовы определять, то есть направлять, уточнять и далее, но норов дается от рождения. Одинаковость — это иллюзия. И если норов попадает на свое место в жизни, то ему цены нет, а если же не на свое — случайно или по пронырливости, — то тайное чувство неполноценности превращает его в быдло.
И мне кажется, что вся нравственность и безнравственность проистекают отсюда.
Может быть, я ошибаюсь в подходе к нравственности с неожиданной стороны, и я приму поправку от кого угодно, даже от умного врага, но только не приму поправку от быдла. Потому что я насобачился его различать под всеми личинами, которыми оно прикрывает свое оголтелое желание, чтобы оно, быдло, было признано образцом.
И потому вам, господин сыщик, цены нет. Вы на своем месте палача. А вы, господин главноуговаривающий, и вы, господин Непрядвин, стали быдлом. И потому — куражитесь…
Трудно и невероятно поверить, но они переглянулись. Они бросили папироски и переглянулись.
— Мало кто согласится со мной сейчас, — докончил свою мысль Аграрий, когда его потащили бить головой о стенку, — но перед расстрелом терять нечего, и жалко, если пропадет мысль, которую стоит записать хоть в протоколе и стоит проверить. Вы проверьте, и это подтвердится. И главное — запомните.
Я запомнил.
И они стали нас бить, и топтать, и спрашивать, а мы старались прикрыть детородные органы и выли и хохотали так, что и палач и его быдло не слыхали выстрелов за окном, которые нас воскресили.
Когда нас откачали и выпустили с того света на этот, то я в группе захваченных служителей ихнего правосудия увидел господина сыщика и господина главноуговаривающего, но не увидел Непрядвина.
И в суете освобождения и городской перестрелки я без труда затерялся, и поковылял, и пополз к морю, потому что я хотел полежать у хранилища воды, а больше Непрядвину бежать было некуда, поскольку на рейде стояли чужие корабли и вставала заря, с перстами пурпурными Эос.
Я поспел к берегу раньше Непрядвина и потерял сознание, когда увидел, что море простирается, как обещал господин сыщик, но тут же оно начало вставать торчком.
Когда я очнулся, я увидел Непрядвина, он переоделся в штатское и стал совсем серым.
Он мчался к берегу, где его должна была ждать лодка. Лодку он нашел. Миноносец тоже. Но когда он поднял глаза, он увидел на флагштоке миноносца алое полотнище — знак восстания.
Он долго на него смотрел, потом вылез из лодки и побрел в степь.
Но назад пути не было. Оттуда двигалась непонятная ему армия, а город восстал, и туда было нельзя.
Он сел на бугорок и стал смотреть на миноносец.
И стал вспоминать, когда же это сломался его путь.
Плебей оказался талантливей его, и он ударил плебея, который объяснил ему причины Пугачевского восстания.
— Против прирожденных привилегий.
— Ты… ты… — сказал Непрядвин и ударил его.
— Теперь тебе конец, — сказал тот, поднимаясь с пола.
Но конец наступил только сейчас, когда ему в глаза кинулся алый цвет на флагштоке.
А теперь город восстал из подполья, и чужой флот восстал, и наша армия прорвала фронт, и наша разведка была не напрасна, и наши муки, видимо, тоже, и я смотрел на Непрядвина.
Я не понимал, почему не убиваю его, а только караулю. Но пока я караулил, я вспомнил слово „достоинство“, которым Непрядвин опрокинул мечтания господина сыщика, и этим словом восстановил меня, Зотова Петра-первого Алексеевича, от ужаса бессмысленного старания жить неизвестно зачем, если бы прав был господин сыщик.
Непрядвин поднял голову оттого, что услышал залпы. На берегу стояли солдаты чужой ему армии и салютовали отходящей в синюю даль алой точке на флагштоке европейского миноносца, серого на фоне воды и неба.
Потом солдаты перестали стрелять и вразброд пошли навстречу Непрядвину, и он увидал их грубые лица пахарей, молотобойцев и разночинцев.
Непрядвин понял, что его ждет, и не стал закрывать глаза.
Все-таки он был человек закаленный в смелости.
Солдаты шли вразброд, от моря, по песку, в степь.
Непрядвин увидел их приоткрытые рты в оскалах угасающей ярости и улыбок.
И не стал закрывать глаза.
И последнее, перед тем как снова потерять сознание, я увидел, что они шли переговариваясь, все ближе и ближе.
И прошли мимо него».
Глава вторая Осколок рубля
Вчера шел крупный снег, хлопьями. Как будто потрошили ангелов в небе.
Пророков6
…Гром… гром, слов нету… Слова стали будто каменный град… только ветер помнит Зотов…
Все вынес — бой, глад, смерть, мор, боль, гибель близких, язвы тела и почти смерть души. А чепуху, безделицу — вынесть не смог.
Пропали тетрадки Зотова — бумажный клок.
Может, капля последняя, может, судьба курок нажала, но он не смог.
— Дед, как пропали мои?…
А пропали те тетрадки, когда Сифилитик к деду в дверь постучал еще в девятнадцатом лихом году. Дед открыл, они вошли.
— Значит, книжки ты свои хламные больше моих тетрадок пожалел?
— Те книжки написать некому, а ты, бог даст, все снова напишешь по памяти. Садись и пиши.
— А если б я не вернулся?
— Тогда бы ты был жертва, — сказал дед. Выбило Зотова из бури на островок, в дом родной, в наиголодном двадцатом году.
Вернулся Зотов Петр — первый Алексеевич с крымских дальних высот: Алушта, да Симферополь, да Ак-булак, да Аи-Петри, да Черное море, теплое и соленое, как кровь, как слеза на щеке. Вернулся из отряда товарища Мокроусова, непобедимого матроса. В горах пекаря тесто месят на брезентовых палатках для лепешек, лошади разбрелись по чаирам на пастбище, на дилижансах пулеметы на луну смотрят. Спустились красно-зеленые с гор, били конницу генерала Барбовича, Буденный от Перекопа шел, так и встретились. Главная часть красно-зеленого отряда — в Красную Армию, а малая часть — в банду, в горы, и опять нам эту банду с гор выбивать, по изменникам революции — рота, пли! — эхо в горах чуткое, до сих пор в ушах звенит соколовской гитарой в заледенелой Москве двадцатого страшного годочка, где только мешочники воют да ветер в подворотнях.
— Петя-Петенька… живой вернулся… — Таня говорит: — Может, еще выживем, может, я тебе еще ребеночка рожу… Сынок, посмотри, кто вернулся.
В буржуйке щепки горят, на ней два утюга стоят, накаляются. Таня из чайника утюги поливает, в каморке пар, как в бане, дышать нечем, зато теплее малость, — теперь все так делают. Обои где в сосульках, где пузырями, где лохмотьями, а из-под них газеты старые — ничто их не берет, кроме пожара и клопа.
— И моя мама, да, Петенька… И твой отец… И твоя мама и сестричка Дусенька… Ага… на Семеновском кладбище… А дедушка жив, и бабушка, и сынок наш… и я, и ты живы… и Немой жив… а об Саше, Иване и Коле не слыхать пока ничего… и об знакомой твоей, Маше, не слыхать ничего… Дедушка распух сильно, а книжки пожечь никому не дал, не пожелал.
— Ничего, Таня, ничего. От смерти уцелели и от жизни уцелеем. Мне паек дадут как красному партизану. Должны…
Опять фортуна в крутой поворот пошла.
У банды в пещере ковры текинские, оружие, спирт да валюты миллионов десять — иностранные бумажки, да николаевскими пятирублевками.
Стали ковры выносить, а в них бомба заложена. Рвануло Зотова золотой казной на тот свет, но очнулся на этом со спиной развороченной и душой. В госпитале спину зашили, осколки вынули, кроме одного, подле сердца, — не решились. Фельдшер говорит:
— Ты теперь богатый, Зотов, осколок-то золотой.
— А много золота? — спрашивает Зотов.
— Нет, — говорит. — Рубля не будет, копеек на тридцать.
Дали Зотову спирту на дорогу, семечек мешок, мандат на кормежку и отпустили вчистую по эшелонам беспутно скакать на родину. В Москве работы нет, еды нет, дров нет, мороз есть, бандиты есть. Сифилитик гуляет. Здравствуй, красный партизан непобедимого отряда. Здравствуй, Пустырь, здравствуй, Монастырь. Здравствуй, Семеновская застава и кладбище, как вы тут жизнью уцелели? Дед говорит:
— Ты хоть поздоровайся… А спирт отдай, Таня сменяет… Да и хватит с тебя.
— Ничего, дед, за еду не бойся. У меня в спине золотой запас схоронен, у самого сердца. Надо будет — отдам не глядя. Проживем. На, сынок, семечки. В них есть вкус. Защити меня, мальчик. Защити меня от меня. Больше некому.
А мальчик как каменный.
И пало на Зотова отчаяние, будто камень-алмаз непомерной цены. Блестит в глазах голодными молниями, переливается прозрачно, а сквозь него не видать ничего, кроме ледяного неба.
Отца убили под Белой Церковью, мама под колеса попала, уголь подбирала, не слыхала, как состав пошел, царица Дуська — от болезни живота, тоже на Семеновском кладбище схоронили, где мама, и отцов брат — по пятому году, и Танина мама — по двадцатому. Колька с Санькой воюют, Иван бандитом пропал, Мария сгинула, Афанасий — немой, записки Зотова каменным ветром унесло, и что думал, что прожито — нет его, будто и не жил. И осталась от рода Зотовых одна морозная пыль, вот и вся магия.
— Не вся, — сказал дед. — Я с бабушкой, да ты с Таней, да сын твой Сережка, и мы не пыль, Петька, а нового миротворного круга семя.
Серега вырос, Зотов его и не знал толком. До пятнадцатого года, когда Зотов на германскую пошел, мал был, в двадцатом — снова привыкать к мальчонке.
Обнял. А он как каменный.
— Это не он каменный, это ты каменный, — Таня говорит. — Он тебя боится… Ты по ночам кричишь. Подожди, придет лето — оттает.
Лето пришло, Зотов спит. И чудится ему, будто на него дышит кто-то — коротко, как щенок.
Зотов глаза открыл, Сережка от него отскочил. Смотрит. Зотов ему:
— Ты что, сыночек?
А он:
— А как убивают? Я не видел.
— Зачем тебе?
— Ты кричишь… мне тебя жалко.
Запер Зотов глаза на замок и ключ бросил в бездонный колодец, чтоб не видел сын, чего человеку век бы не видать.
— Не закрывай глаза, — говорит он. — Не надо.
Открыл Зотов глаза и спрашивает:
— Лето, что ли, пришло, сынок?
— Лето.
Как зиму и весну прожил, Зотов не помнит. Посмотрел он на сына, а он бледненький, как папироска.
— Сынок, бумаги где достать?
— У деда много. Принесть?
Ради тебя, сынок… ради тебя.
— У тебя в спине пуля засела?
— Нет, — отвечает Зотов, — осколок рубля. А откуда бумага-то?
«…Непрядвин, скорее всего, у Сифилитика те тетрадки мои добыл, потому и лютовал особенно в последний день своей дороги…»
— И краски есть, — говорит сынок, — фирмы Досекина. Я на складе набрал, а дед бумагу отнял.
— Какой склад?
— Сгорел склад.
Ради тебя, сынок… ради тебя… и ради норова своего.
И стал Зотов заново писать год за годом все десять лет своих необыкновенных для него воспоминаний, не то случайных, не то приказанных ему неведомым приказом.
И когда дожил он снова в мыслях своих до девятнадцатого года, до камеры смертников с высоким горизонтом, и когда пришил ниткой кусок из протокола, им выдранный, где Аграрий раскрыл о том, что нравственное целое есть гармония норовов, стоящих, как нота, каждый на своей строке, и что быдло есть фальшь и кураж, Зотов был рад, что написал и сохранил все это, потому что этим и уцелел душевно в двадцатом голодном и скорбном году, и понял о себе, что от норова своего отказываться не станет и не след, а станет искать свою строку, а куражиться не будет, но и над собой не даст и что он потому не быдло и быдлу с ним не совладать.
…Прижмись, Таня, поближе. Согреешься. Сынок мне бумагу уворовал. Склад сгорел, а бумага цела. Говорят, будто Асташенков вернулся и снова с маркизой, а я теперь богатый, — моя очередь.
7
Свирепую ту весну век не забудет Зотов, скрюченные пальцы ее погоды тянутся к горлу, хотят дыхание пресечь.
Ходили с войском подвалы обшаривать — не спрятан ли хлеб или золото, но находили дерьмо и книги, смерзлые талой водой. Весна то туда дернется, то сюда. Вдох, выдох, вдох, выдох…
«А подвалы грохочут, а штыки кирпичи скребут, и я прохожу мимо мерзлых книг, спотыкаясь о каменное дерьмо, и не могу те книги взять с собой и отогреть осторожно, потому что нет у меня дров даже для рождения ребенка моего и Таниного…
— Повидать бы хоть, какое оно, теплое море… — говорит Таня. — Петь, а оно правда — черное?
— Синее.
— А почему Черное?
— А хрен его знает… Ты потерпи, потерпи… Не трясет?
— Петя, надо бы мне дома рожать. У чужих людей страшно.
— В родильном доме все же доктора под боком и топят.
— А в доме бабушка… Петь, не молчи, Петя, не молчи…
— Я не молчу. Я семечки лузгаю».
Потом семечки эти Зотову боком вышли, когда ребеночек в родильном доме замерз.
Были роддому дрова выписаны, да по дороге к роддому и сплыли. Двое с наганами подошли, возчика кокнули, а дрова увезли.
Возчика нашли, сани нашли, даже лошадь нашли, что удивительно, а дрова не меченые, как узнать, откуда у Асташенкова дрова взялись? Купил, говорит, у каких-то двоих, имею право, согласно новому закону, — предприимчивость поощряется. Не докажешь.
Пришел Зотов в родильный дом и молчит.
— Поговори, Петя, со мною, — просит Таня, — а то только желваки катаешь.
А он не то что говорить, дышать не может. Вытащил семечки, лузгает, а лузгу — в кулак.
— Вот какое наше дело, — говорит Таня. — Сыночка назвать не успели… Приходим неименитые, уходим безымянные… А как Асташенковы поживают, Петя? Не оскудела русская земля Асташенковыми, Петя? Тепло ли им от моих дров?… Что же ты молчишь, военный герой? Ты ведь никак победитель? Скажи что-нибудь, если сердце твое не каменное. Или нет его у тебя, а только семечки на уме?
И отвернулась к белой стене.
— Таня…
— Уходите, отец, — говорит старушка. — Иначе будете вдовцом… Звери бесчувственные… Семечки — подумать только!
Он ушел.
А когда привез жену из родильного дома, Таня на Зотова смотреть не может. Долго не могла. Пока от бабушки не дозналась насчет бесчувственных семечек.
— Ошиблась ты, Таня, не бесчувственный он. Ему доктор велел курить бросить, когда из родильного приедете, ради здоровья сына и твоего, Таня. Ему и так-то бросить невмоготу, а в горе как? Для мужика табак пуще хлеба.
— Значит, он потому семечки-то?
Бабушка ей руку на голову положила.
— А теперь поплачь, — говорит. — У тебя мужик живой и первый сын. У других-то — сама знаешь. Вон мои детки — все побиты.
Таня стала плакать и оттого выжила.
…Потом Зотов Петр — первый много причин узнал — и всемирных, и российских, и московских, и личных, из-за которых и гражданскую одолели, и голод немыслимый, и выжили, и древо жизни опять вверх потянулось и стало одолевать смерть. И он согласен, что причины эти были правильные и важные, но и он сам для себя главную причину узнал.
А главная причина — вера, что работа это и есть свобода.
Вот тайна, которую знают Зотовы.
8
Наводнение, наводнение.
Дома серые, как на фотографии из газеты, и деревья, и снег между ними, и галки на заборах, и вода плывет между галками и заборами, и все-таки — весна, и мокрый воздух, и жажда жить. 1922 год.
…Пролетка подъехала, галки кричат, талая вода на крыльцо заплескивает.
Вошли, поздоровались. Кучер сверток втащил, видать, тяжелый. Из оберточной бумаги наборная ручка торчит. На стол поставил. Маркиза на табуретку села.
Началась четвертая Маркиза еще в пятнадцатом году, в германскую, когда у Асташенкова уже ткацкая фабрика была в компании.
Перед воротами всегда шарманка играла, когда рабочие домой шли, — Асташенков нанимал.
И были две подруги — последнего класса гимназистки, девки на выданье, когда мимо музыки шли — останавливались. Одна подруга как услышит шарманку, так по-французски поет да иногда и танцует — чтоб люди видели. А другая стоит и смотрит молча, только переминается ботинками, затянутыми высокой шнуровкой.
Однажды Асташенков проезжал. Пролетку остановил и смотрел, как одна подружка танцевала и смеялась, потом перестала. И Асташенков поманил ее к себе. Но она показала ему язык и ушла, пальцами пощелкивая. И дальше про нее писано не будет. А другая осталась. И смотрела на него. Асташенков оглянулся и увидел: красавица. Он очнулся, нахмурился и ей кивнул. Она подошла и спокойно так поставила на подножку ногу в тугом высоком ботинке. И — пропал Асташенков. Первый раз пропал. У него их три было, маркизы, эта — четвертая.
Потому что эта Маркиза уж больно хороша была, из гимназисток развратная красавица.
Лицо было круглое, но прочное, не кисель. Нос короткий, рот — вырезной. Глаза большие и прямо на тебя смотрят. В ушах — сережки-капельки, или золотые, или камешком. Потом стала длинные носить, кистями в искорку. Ее хоть в полушубок обряди, хоть в бальное, хоть в монашеское — все одно будто голая.
В любой женщине есть большая или малая, но все же загадка. А у этой Маркизы — никакой. Тем и страшна была — каждый мужчина в азарт входил ей душу зажечь, да и сам зажигался. На том и горели.
— Пропал Асташенков, — ржали на Пустыре.
А потом революция — одна и другая, потом гражданская, потом голод, потом продразверстка, потом нэп — каждый год, как жизнь и как смерть, и вот уж Асташенков вернулся и вновь богат и возможен, и всех маркиз как ветром сдуло, а с четвертой они опять встретились, как с судьбой.
— Разверни, — сказал Асташенков кучеру. Тот со свертка бумагу ободрал, не жалея, а там деревянный футляр, коричневый, лаковый.
— Невестку позови, — сказал Асташенков. — Подарок ей.
— Таня, выйди. Тебе гостинец, — окликнул дед.
Таня вышла, увидела футляр и ахнула. Асташенков футляр отстегнул, — швейная машинка «Зингер», черная и буквы золотые.
— Слыхал я, ты портниха… Паша Котельникова говорила, царство ей небесное. Бери инструмент.
— Погоди… — сказал дед. — Как понять?
— Бери, — сказал Асташенков Тане. — Сейчас твоя работа пойдет. И заработки, и клиенты приличные. — И кучеру: — Иди прочь, надымил. Пролетку бы не угнали.
Кучер плюнул длинно на цигарку, кинул на пол и вышел.
— Вот хамье, — сказал Асташенков. — Ну что обмерла? Уноси.
— Погоди, Таня… — сказал дед. — Ну а чего ж ты хочешь за дорогой подарок, товарищ хозяин? Денег у нас нет.
— Работой расплатится, — сказал Асташенков. — Жене пошьет, племянницам. Маркизе вот, если попросит.
В том году будто полегчало. Конечно, барыги с цепи сорвались, но и по-старому было нельзя.
— Моды я принесу, — заверила Маркиза. — За это плата отдельная.
Не поверил дед ни одному слову и все ждет.
— А почему Таню выбрал? Портних не стало?
— Почему, почему… — сказала Таня и в машинку вцепилась. — Мама им рассказала, как я могу шить.
— Ну?… — говорит Асташенков. — Чего непонятного-то? И к тебе дело есть, Зотов. Мне в библиотеку чего интересного достанешь — неси, понадобится…
Ну вот, проясняется.
— Мне и сейчас одна нужна.
— Какая же? Иди, Таня…
Таня футляром накрыла машинку, чудо сияющее, и унесла прочь, как перышко, — своя ноша не тянет.
— А нужно мне — Мани, манихейцы, — сказал Асташенков. — В русском издании.
— Что это тебя на философию кинуло? Или на ересь? — спросил дед.
— Да не меня, — сказал Асташенков. — У нее брат журналист. Ему для работы, — и кивнул на Маркизу.
«И веришь, Петька, накатил на меня каприз, как на беременную бабу. Чую — нельзя давать. Почему? Не знаю. Но говорю: „Нет у меня“».
— Ладно врать. Не жидись. Я всех букинистов обошел, Миронов сказал: у тебя есть.
А Миронов любую книгу помнил, если мелькнула. Знаток наивысший у букинистов.
— Господи! — сказал дед. — Шуму-то! И книга не старинного издания. Адвокаты читали да зубные врачи.
— Да вот видишь, понадобилась ее брату. А у тебя есть.
— Нет, Миронов великий знаток, а и он не бог.
— При чем тут бог? — сказала Маркиза. — Назовите цену. У вас же она есть!
— А я говорю — нету!
— Вот что, не дури, — сказал Асташенков и оглядывается. — А Петька твой где, красный партизан?
«И тут до меня, Петька, дошло…»
— Великий Мани, значит? Манихейцы? Сильно нужно?… И брат журналист… И бабу привел… Не иначе Петьку, бабника, охмурять… Тане «Зингер» принес…
А за дверью глухо. Таня притихла как мышь и не дышит.
— Таня ни при чем, — сказал Асташенков. — Это дело отдельное.
— А нету Петьки, — говорю, — на бирже воюет.
Они засмеялись облегченно — сначала Маркиза, потом Асташенков. Смекнул, что работы нет, тоже заулыбался.
— С кем воюет-то? — спрашивает.
— Похоже, что с вами, — говорю. — С тобой, Асташенков, и с тобой, красавица.
— Нет… — сказала Маркиза. — Мы невоюющие…
— Верно… — сказал дед. — Вы гнездящиеся.
Смех медленно умолкал, и улыбки деревенели.
Начиналась обыкновенная злоба, но они еще удерживались.
— Ладно, старик, — сказала Маркиза. — Не говори пустяков. У нас есть книжка, перед которой и ты не устоишь. Мы меняться пришли.
— Да нет у меня манихейцев, нету!
Она развернула книгу, перед которой у деда дрогнули колени. «Родословная дворян Непрядвиных». Издания 1914 года. Вот какая это была книга. А на Иване — четвертом, бандите, — непрядвинская кровь. Голубая.
Голубой переплет твердой бумаги с якобы рваными краями, а внутри желтоватая твердая бумага, тоже лохматая, как бы старинная, с четким шрифтом и фотографиями с масляных портретов, под папиросной бумагой, никем не искуренной.
И замелькали выписки из летописей начала тысячелетия и высочайшие указы о продвижении по службе и наградах в конце тысячелетия. А в конце — приложения из домашних записей, почитавшиеся важнейшими. Последним был портрет — не картина, а фотография Василь Антоновича в звездах, и было сказано, что он славен коллекцией резной кости и редкими книгами по философии и метафизике. При всем расположении к деду никогда бы Василь Антоныч такую книгу деду бы не вручил. Потому что рядом с петровскими, екатерининскими и николаевскими алмазами и чинами самодельный философ-офеня был — старьевщик.
— Да… — сказал дед не притрагиваясь, а только глядя, как Маркиза ловко щелкает картонными листами, будто козырями в тягостной колоде, и бормочет оглавление. — Перед такой книгой мне не устоять… Но нет у меня манихейцев.
— Так возьми же ее и дай нам, что просим! — крикнула Маркиза и швырнула деду книгу.
Книга ударилась корешком и рассыпалась. Дед встал на колени.
— Нет у меня того Мани и манихейцев, — сказал он.
И дед… Господи!.. Стал ползать на коленях, собирая твердые тетрадки родословной рода Непрядвиных, в камзолах, фраках, мундирах и алмазных звездах, и на первой странице была выписка о Словутном певце Митусе, волхве, о котором догадка была, что он великое «Слово о полку Игореве» сотворил.
Старческая высота ползала в грязи талых следов, а на нее сверху смотрела низость чистенькая, как кокарда.
— Пойдем, — сказал Асташенков и взял Маркизу под локоть.
— Книгу забыла, — сказал дед и отодвинул на чистое место родословную книгу.
— Да кому она нужна! — сказала Маркиза. — Оставь себе, старый хрыч!.. В ней — все, что осталось от дома!
Шагнула к дверям, поскользнулась на кучерском длинном плевке, передернулась мучительно и — вытерла ботиночек о родословную.
— Убью! — крикнул дед таким голосом, что они отшатнулись. — Низменная стерва!.. Вон!.. Не то Пустырь кликну!..
Дед подвернул нижнюю губу, и Маркиза заткнула уши, чтобы не слышать разбойного свиста Пустыря.
Маркиза пятилась к дверям. Простучали ботинки по крыльцу Потом пролетка взвизгнула рессорами, и все четверо — лошадь, кучер, Асташенков и Маркиза — рванули вскачь, расплескивая серое наводнение окраины.
«— Дед, что же это было? — спрашиваю.
— Красавица. — задумчиво сказал дед. — Ошибался я насчет Маркизы. Есть в ней тайна.
— Какая, дед?
— Тайна низменности.
— Дед, а почему ты не дал им этого Мани?
— Незачем… Они и так хороши, — сказал дед. — Манихейство в малой шкапе… Вот ключи… Прочти.
И я прочел таинственные рассуждения Мани, неведомо на чем основанные.
— Мани был истинный маг, однако был погублен персидскими магами, поддельными, — объяснил дед. — И с него с живого содрали кожу. Сей Мани замечателен тем, что он один из всех, о ком я знаю, — двойной дуалист Обыкновенно говорят, что есть две сущности — плоть и дух, а добро и зло это есть их признаки. А Мани сказал, что точно плоть и дух — это две сущности. А зло и добро вообще миры, навеки разные… Разные вселенные, Петька… Нет, ты понимаешь, парень, какое наиграндиозное предположение? Две вселенные существуют рядом, и в каждой две сущности — дух и тело…
— Да… — говорю. — А как у него насчет единой причины для двух миров?
— С этим у него все в порядке, — сказал дед. — Он считает, что ее нет.
Поразили меня эти два мира, извечно пересекающиеся.
— Значит, ты думаешь, что Асташенков и Маркиза свое происхождение ищут? Из другой вселенной?
— Ну что ты? — сказал дед. — Дело, видно, у них вполне земное… Но что-то их обоих в этой книге свербило… Там написано, что поскольку природа добра истинна и едина, то зло из добра не вытекает, а значит, они есть отдельные свойства. И значит, они происходят из отдельных миров… И это есть главная мысль Мани, смущающая своей определенностью и внезапностью суждения… Знаешь, Петька, приглядывайся к пустякам… Бывает, пустяк — окошко, оттуда ледяной ветер потянул, и, хотя видно откуда, не веришь догадке.
— Да-а… — говорю.
— Вот так-то… Золото предлагали, — сказал дед.
— Врешь!
— Считай за счастье, что ты офенским шкапам хранитель, — сказал дед, — ибо в них вопросы, а не ответы… Карл Маркс сказал, нельзя выкидывать старые ответы вместе с вопросами, которые их породили. Решения устарели, а проблемы не делись никуда.
…Черт! Из ума нейдет — что им на самом деле было надо? Вот проблема и вопрос…
И так, нахлебавшись жизни и смерти, сел я снова за те старые книги, чтобы продолжить дело поисков новых ответов на старые вопросы. Потому что стареют лишь ответы, а вопросы не девались никуда.
А Таня теперь шьет, шьет, шьет — забыться хочет.
Ну ладно.
Жажда жить… Наводнение, наводнение…
Наводнение как наваждение, и жажда жить».
9
А потом уж лето было томное и жара без дождя. И вдруг — ливень…
Одна тысяча девятьсот двадцать третий год. Нэп вовсе в рост пошел. У Асташенкова ткацкая фабрика и ресторан.
«Зингер» стучит, Таня свою надежду шьет.
А гром гремит, небо пламенем и тьмой содрогается, будто в Крыму землетрясение, а от Черного моря на нас круги летят.
И тут бабушка сказала:
— Что-то мне неймется… Будто кличет кто.
Глядь — поглядь — нет никого, а дождь кончился.
Был давний сапожник Яков Беме, и в сочинении «Аврора» он сказал: «Гнев — это мрак, любовь — это свет. И тот станет богом, кто в это уверует, потому что начало всякого желания есть образ».
Пошла бабушка на рынок, на Преображенский, городскую мантилью на деревенскую картошку менять. Сменяла. Ей в корзину мерку насыпали, шацкая картошка, крепенькая, чистая. Женщина темноволосая прикрыла ее капустным листом, бабушке корзинку отдала.
— Не пожалеете, что взяли, — сказала она. — Последнее отдаю.
Хотела бабушка женщину разглядеть, да та отвернулась.
Тут ветер поднялся, бабушке в глаз надуло. Достала она платочек батистовый, глаз прикрыла и понесла корзину домой.
Принесла. В стакан воду налила — глаз проморгать, а Сережка ее спрашивает:
— Бабушка… Это кто?
Бабушка обернулась, а Сережка капустный лист в руке держит. Бабушка глаза перевела, а в корзинке ребеночек лежит, смотрит и не моргает.
— О господи! Откуда же ты? — изумилась бабушка.
Глядь — поглядь, а к свивальнику бумажка приколота. Прочла, а там написано одно слово:
«Простите».
И бабушка поняла, что подменили ей картошку-то шацкую, крепкую, рязанского сорта.
Потом снова на рынок бегала, да те возы уж уехали, и спросить некого. Да кого спросишь, если нарочно подкинули?
— Вот отчего сердце маялось, — сказала бабушка.
И в приют не отдала.
И правильно. Через месяц приехала седьмая вода на киселе — родственница — и рассказала, что померла одна женщина, дочка Никифора, внучка Федосея, правнучка Антона, праправнучка Григория, прапраправнучка Михаила Громобоева, который от огненного шара родился. А перед смертью поехала в Москву с возами и новорожденным, якобы повезла с рязанской родней картофель. А вернулась в Серпухов без него и отошла с тоски — вдова не вдова, а мужа ее невенчанного громом убило, грех-то прикрыть и не успел.
И вышло так, что мальчик — родня бабушкина и, стало быть, зотовская родня. Ну, значит, перст судьбы. Таня говорит:
— Не отдам.
Личико круглое. Молчаливый. Назвали Витя. Записали Громобоевым, чтоб, когда вырастет, никто бы его не смутил рассказом, что не Зотова сын, а под капустным листом нашли. А так — родня и родня, племянник, и вся сказка — так племянником и начал расти Виктор Громобоев, молчаливый мальчик, но Таня и Зотов звали его сыночком.
— Разыщи Василида, — сказал дед. — По описи он в малой шкапе.
Разыскал Зотов и записал вкратце, как понял, Василидово мироустроение.
«В полном и абсолютном начале всего сущего заключены все возможности, какие только могут быть возможны. И называется это „нечто“ — панспермия, иначе сказать — всеобщее осеменение. И в этой панспермии существуют возможности всех видов бытия. Подобно тому как в семени человека или морковки существуют возможности всех будущих человеков и морковок…
Запомнилось мне из Беме, что начало движения желаний есть образ. И запомнилось мне из Мани, что плоть и дух есть разные сущности, а добро и зло вовсе разные миры.
А теперь запомнилось мне из Василида, что панспермия есть возможность всех возможностей…»
Поглядел Зотов — офеня на спящего Витьку Громобоева и ответил сам себе: «Помни не о смерти, а о рождении… Что-то должно родиться новое… Новая вселенная… А может, сыночек названый и есть ее начало?».
Вошел Тане в сердце капустный найденыш Витька Громобоев и стал как сынок. Вошел не как осколок на войне в белое тело, а как семечко в пашню и там пустил корешки, и вот уж росточек зеленый на белый свет таращится, а Таня колыбельные песни поет:
Придет серенький волчок, Он ухватит за бочок…Но пацанчик, похоже, серенького волчка не боялся и все пытался некое слово выговорить и произнесть. И Таня слышала будто не «мама» или «баба», а «Таня». Таня с него глаз не сводила и все ждала, когда он ее позовет.
— Петя, — говорит, — это недаром… Это вместо мной рожденного… Ну не буду, не буду…
А сыночек ее капустный на пузе лежит, ладошками упирается, голову подымает и смотрит, будто Наполеон Бонапарт.
— Петя, он не так смотрит…
— А как надо?
— Не детский глазок у него, — говорит Таня. — Это мне в награду…
— За что? — спрашиваю.
— Судьбе виднее, — отвечает.
Тогда на Пустырях много сказок ходило, и все про таинственное и неочевидное, появилась и еще одна.
Будто мальчик тот не простой, а веселый и опечаленный — отмеченный.
И Таня приникла к нему душой, будто к сыночку, ею рожденному. А Зотовы уж было думали, что она от тех семечек двадцать первого года не откашляется.
10
Разные причины у мертвого и живого. У мертвого причина лежит в прошлом — толчок, а у живого — причина всегда лежит в будущем. Она — приманка. Поэтому так трудно различить, что устарело, а что еще нет или вовсе только нарождается.
…Был у нас на фабрике один Тоша, вахлак вахлаком, но увертливый. Недоглядели, а он уж председатель. И какое бы дело ни затевалось, он — председатель… И на заседании председатель, и во всех президиумах председатель. Графин с водой поставит и допытывается — а почему ты не такой, а сякой, а почему ты есть ты, а не я? И многие горели синим огнем, не зная, что ответить на этот дурацкий вопрос.
Но на одном собрании и до нашего деда дошло-докатилось.
Ученый человек докладывал о текущем моменте, о международной политике и отвечал на вопрос, есть ли бог и как устроена вселенная.
А надо сказать, что Тоша ненавидел деда люто и с радостью, потому что дед обозвал его «вождем неизвестной оппозиции». Тоше передали, и он решил покончить с опасностью на корню.
Тоша давно готовил бесславный конец дедовой карьере, каковая хотя дальше токарного станка не простиралась, однако угрожала карьере увертливого Тоши, который понимал, что если деда вовремя не остановить, то Тошу в какие-нибудь председатели не выберут.
И теперь момент возник подходящий. Лектор доложил, что есть материализм и есть идеализм и какая между ними разница. Ну, слово за словом, деду стало интересно, и он сказал, что дело это непростое — разница между телом человека и сознанием его, а тем более фантазией. И тут для работы еще непочатый край, и конь не валялся, и еще думать и думать.
И Тоша встрепенулся.
— Ты в бога веришь? — спросил он деда.
— Погодите, — сказал лектор. — Это его частное дело.
— Для всех частное, для него нет. Он воду мутит. Напрямик говори, чтоб люди знали, — в бога веруешь?
— Объявится — поверю, — сказал дед. — Не объявится — и верить не во что.
— Вульгарные у вас взгляды, — сказал лектор. — У вас материализм, но вульгарный.
— «Вульгарный» в переводе с латынского означает «народный», — сказал дед.
Пока ученый человек соображал, какой лаптой отбить дедов мячик, Тоша восстал возле графина, аки лев рыкающий.
— Встань, Зотов, и скажи народу свою идеологию, — велел ему Тоша. — А мы поглядим — наш ты или не наш?
— А ты-то кто? — спросил дед. — Начальник советской власти?
— Видите, товарищи? Видели? Я, Зотов, председатель собрания!
А Тошу уже боялись. Нэп. На бирже труда очередь. Гулящие девочки под фонарем тоскуют. Уволят — чем семью кормить будешь?
— Нам известно доподлинно, что ты, Зотов, сектантские книжки хранишь и читаешь, и, значит, расскажи собранию о своей секте: как называется и кто в ней участник.
— Секта моя называется зотовская, — ответствовал дед. — И в ней я да Петька — мой внук. А больше никого не пустим.
В зале даже девчонки-подсобницы захихикали. Председатель Тоша выкатил глаза белые, как у сушеной таранки, и стал колотить по графину.
— Графин пожалей, — сказал дед. — Тебе чего надо?
— Не наш человек, — определил Тоша. — И биография твоя запутана донельзя, и есть данные, что и фамилия твоя не Зотов, а Изотов, короче — выкладывай свою биографию!
— Может быть, не сейчас? — спросил ученый человек.
— А собрание веду я, — сказал Тоша. — Давай, Зотов, всю правду. От рождения.
— Рождение мое покрыто тайной, — сказал дед.
— Как это? — радостно испугался председатель и стал рыться в бумагах. — Какой тайной? В чем тайна? — И запредвкушал, глазами забегал.
— Тайна в том, — сказал дед, — что я мог и не родиться, однако родился.
— Ну дак и я родился, — сказал председатель.
— Ну дак и твое рождение покрыто тайной, — сказал дед.
В зале заржали.
— Мы материалисты, — сказал председатель.
— Это кто материалист? Ты, что ли? — спросил дед. — С чего ты взял?
— Я не идеалист, — сказал председатель. — Значит, кто я?
— Неграмотный, — сказал дед. — И брехун.
— Я?… Вы слышали? Я?
— А если ты материалист, то что есть материя? — спросил дед.
Ученый человек пришел на выручку:
— Материя — это объективная реальность, данная нам в ощущении.
— Вот так, Зотов. Понял? — обрадовано сказал Тоша.
— А из чего состоит материя? — спросил дед. Ученый человек обрадовался, что разговор ушел от склоки.
— У вас пытливый ум, — сказал он. — Но есть установленные факты. Материя состоит из частиц, значит, и все живое можно из них собрать. В принципе.
— А пробовали? — спросил дед.
— Наука этим занимается. Советский ученый высказал научную идею.
— А получилось собрать? — спросил дед.
— Наука этим занимается.
— Вот когда получится, тогда и поверю.
— Это же идея! — услышав знакомое слов, вскричал Тоша. — Идея! Ты безыдейный?! Ты, значит, против идеи?!
— Как же без идеи? — сказал дед. — Без идеи нельзя. Однако пришла идея — проверь на деле.
Дед упорно не давал пришить себе безыдейность, однако тут и ученый человек разозлился: наука дело святое, и сомневаться в ней никому не позволено.
— Есть такие идеи — чтоб их проверить, нужны годы! Годы! — загонял он деда в дальний угол.
Рабочие притихли. Они уже понимали, куда клонится дело и ветер дует. Уволят — на что жить будешь?
— Ну факт, — сказал дед. — Сад посадил, возделывай и жди плодов. Кто спорит?
— Значит, нужна еще вера в эту идею! Вера! — дожимал деда ученый человек.
— Ты, может, и в коммунизм не веришь? — поставил Тоша последнюю точку.
— Без веры нельзя, — сказал дед. — В коммунизм я верю, поскольку другого выхода у человека нет. Остальное все человек перепробовал, кроме этой надежды, — сказал дед. — Но вот я не верю, Тошка, что один ты знаешь, как коммунизма достигнуть. Есть тебя и поумней.
Это ему-то, Тоше, да при всех! Стало совсем тихо.
— Это кто же, к примеру,? — тихо спросил Тоша.
— К примеру, Ленин, — так же тихо ответил дед. И в этой тишине дедова ответа из коридора стало слышно, как сапоги бегущего человека бухают по доскам: беда… беда… беда…
Человек из коридора рванул дверь и остановился.
Вьюга сорвала бумажные протоколы, реальная вьюга.
Потом стали звереть морозные гудки, и больше Зотов ничего не помнит, потому что умер человек, на разум и величие которого опирался дед в своих спокойных вопросах и не поддавался дешевке ответов.
Это был двадцать четвертый год века.
Все.
11
…Напротив, через улицу, будут школу строить. Небо высокое, синее, на небе облака барашками, под облаками свалка и окружная дорога. Две палатки хлебные рядышком — частная и государственная. Парня семи лет послали кило черного купить, а он снизу орет: «Папанька! Маманька! Кил нету! Одни хунты!»
Не успели оглянуться, а на дворе двадцать восьмой год и Сережке шестнадцать лет.
— Петя… — говорит жена. — К Сереньке барышня приходила. Альбом принесла, а в нем песни переписаны.
— А звать как?
— Клава… Отец ее у Асташенкова счетоводом.
— Знаю ее. Четвертой Маркизе дальняя родня. Ах ты, Клава, Клава…
Осень пришла. Комары на дерьмо садятся.
Маркиза Клавдию спросила:
— Кем ты хочешь быть — умной или сильной?
— Умной, — радостно сказала Клавдия.
— Глупо, — возразила Маркиза. — В жизни, как в театре. Сильные сидят в первом ряду, а умные играют для них роли в спектакле.
— А разве умные не сильные?
— Сильные — у кого челюсти крепкие, — сказала Маркиза.
— Золотые? — спросила Клавдия.
— Зачем? Свои. Главное, всегда береги зубы. Видишь, какие у меня? Береги, ухаживай.
Зубы у нее были великолепные.
Клавдия этот разговор передала, поглядывая на Серегу. Серега смотрел в окно. Задумчиво.
— А вы как считаете, Петр Алексеевич, насчет первого ряда? — спросила она.
— Я хожу на галерку, — ответил Зотов.
— Да? Почему?
— На галерке — мечта, а в первом ряду — потом воняет.
Серега заржал. Клавдия вскинула голову.
— Просто у вас денег нет, — сказала она. — А духовная жизнь стоит дорого.
А Клавдия хотела украшаться. Когда она видела золото, все равно — обручальное кольцо или вставную челюсть, — она улыбалась. При этом у нее брови взлетали вверх, а веки прикрывали нецелованные глаза, и вид у нее становился насмешливый и надменный.
Клавдия поглядела на Серегу странно и повела глазами, — старый безошибочный прием: в угол, на нос, на «предмет». И Серега заволновался.
Тогда Клавдия проделала прием в обратном направлении — поглядела на «предмет», то есть на Серегу, потом на пряменький носик, потом в угол. Потом накрыла платком сильно похорошевшие плечи и вышла.
— В первый ряд поехала, — сказал Серега. — На галерку не хочет…
Маркиза, стало быть. Таня ей платья шьет, Маркиза журналы приносит. А там на картинках от всех баб — только ноги и бусы. Как в такую моду Маркизу впрячь? Она и из старой сбруи торчком торчала. Маркиза приходила в безветренную погоду и без дождя, когда никого нет, а лишь Таня одна. Постучишь, Таня отворит. В прихожую войдешь, а дальше она загораживает.
— Туда нельзя, — говорит. — У меня примерка.
А уж по духам ясно — чья: «Лориган» с балыком.
Асташенков кроме ткацкого дела сахаром заинтересован и мукомольным делом. Маркиза и Клавдия стенографию учат по учебнику-самоучителю. Серега начал, да бросил.
Сытость из забытых недр возвращается.
Однако дед был хмурый и даже как бы яростный, и Зотов не мог его понять.
Воображаешь свое или чужое поведение, и ничего не совпадает с явью. И люди как малые дети, которые думают, что утонуть можно лишь в глубокой воде, и не боятся сунуть голову в горловину макитры, и захлебываются посреди села, как было на Украине. Зотов успел поднять горшок, и вода вылилась, и парнишке стало чем дышать внутри… А Зотов разбил прикладом чужой горшок и вернул пацанчику белый свет и день.
Асташенков с женой развелся. Маркиза решила — хватит.
Асташенков и Маркиза гостей созывают. Послезавтра в загс и свадьба по церковному обряду (дело и тут улажено) в Елоховской. Потом пир горой. Но вот казус вышел. Колькин начальник из золотого треста едет на Дальний Восток на два года работу налаживать и его с собой берет, помощником. Потом ему в Москве опять большая карьера, и опять Колька с ним будет.
И Клавдия объявляет, что пойдет замуж за этого начальника и Колька — шафер. Две свадьбы разом. Послезавтра решили ехать в загс двумя парами — два жениха, две невесты. Веселей будет.
Серега голову опустил.
Но в тот же день Маркиза пришла к Асташенкову в контору. Ну, задние дворы, тюки, бочки, ящики, рогожные кули. А сам-то Асташенков торопливо дела сворачивает. Телефоны телефонят. Асташенков Маркизе мимоходом драгоценности подарил. Маркиза драгоценности взяла, но держалась странно. Прислушивалась к телефонным разговорам и вникала. Потому что известие получили о том, будто предстоит государственный план работ и перемен жизни на следующие пять лет. Н-да-а… Пятилетний план, и, значит, теперь нэпу конец.
— Из верных рук? — спросила Маркиза.
— Да, — сказал Асташенков.
— Кем же ты будешь теперь?
— Специалисты им нужны.
— Торговый служащий… — сказала Маркиза. — А ты был хозяин… Ну и ну… Да и ходу тебе не дадут.
— А мне зачем? Деньги есть. Еще будут. Всегда. Вот тут тебе еще кое-что.
Маркиза опять драгоценности взяла.
Перед тем как ехать в загс, хмельной золотой Колькин начальник вышел в коридор счетоводова дома и увидел, как Маркиза застегивает резинку чулка телесного цвета на шелковой полной ноге. И они стали смотреть друг на друга.
А когда Асташенков, Клавдия с дружками и подружками приехали в загс, то оказалось, что Маркиза с начальником полчаса как расписались, потому что очень спешили на Дальний Восток, где начальник будет Начальником. Государственный сектор набирал силу.
С Асташенковым этого еще не бывало, а с Клавдией и подавно.
— Бедняга начальничек… А ты считай что ушел от гибели, — сказал Асташенкову дед. — Помяни мое слово.
Асташенков, который примчался на вокзал, увидел только хвост поезда, а также он увидел белую, как бинт, Клавдию и успел подхватить ее под локоть, когда она чуть не упала под колеса встречного поезда.
— Клоун вы, — сказала она Асташенкову. — Шут гороховый.
Она была человеком твердым, и у нее были красивые плечи.
Она вернулась в счетоводов дом, где на подоконниках стояли праздничные бутылки, а в углу дивана сидел Серега.
Клавдия с яростным румянцем на щеках увела Серегу к себе в комнату и стала скидывать с себя одежду. Клавдии было шестнадцать лет.
— Зачем это? — спросил Серега. — Не надо.
— Я хочу. — Она подумала и добавила: — Тебя.
Им обоим было по шестнадцать лет. Серега сидел на стуле, опустив голову.
— Пей, — сказала Клавдия и хлопнула пробкой. Серега поднял голову и взял хрустальный бокал с шампанским из руки совершенно голой Клавдии. Чтобы не видеть ее, Серега зажмурился и выпил. Когда он открыл глаза, Клавдия из-под одеяла показывала знаменитые плечи, как у графини Элен Курагиной.
После того как Клавдия отдалась Сереге, она опять сказала ему:
— Пей…
И Серега допил шампанское. Ему понравилось. Все было в первый раз — и Клавдия, и шампанское.
— И тут Кладвия мне говорит, — рассказал Серега, когда Зотов его пьяного укладывал спать, чтобы Таня не заметила. — «У тебя перспективы… Окончишь рабфак, высшее образование. Тебе всюду дорога. Далеко пойдешь… Ничего… Маркиза думает, опять вытащила лотерейный билет… Два раза не вытащишь… Теперь мое время… Ничего. Ты молодой. Я и с тобой еще всем покажу. Мы с тобой богаче всех будем». — «А зачем?» — спросил Серега. «В обществе можно либо повышаться, либо понижаться». — «А ровно нельзя?» — спросил Серега. «Ровно — нельзя». — «Кто тебе сказал?» — спросил Серега. «Маркиза». — «Ну тогда я буду — ровно», — сказал Серега. Клавдия вскочила из постели, завернулась в простыню и сказала: «Уходи. А то отца позову». Серега оделся и ушел.
Зотов подобрал его, когда он скребся в дверь дома.
— Спи, сынок, — сказал Зотов ему, услышав рассказ. — Дыши ровно.
— Папань, а ты когда-нибудь испытывал страх? — спросил Сергей.
— Да. Когда не понимал сути. А когда понимал — смеялся. Однажды ночью мимо меня по рельсам промчалась пустая дрезина. Я чуть не умер от страху, а потом смеялся, когда понял, что рельсы шли под уклон. И я понял: чтобы не бояться непонятного, надо докопаться до сути.
Птицей тишина звенит. Асташенков из Москвы вовсе уезжает. Присели напоследок в холодном дому.
Далеко они в рассуждениях зашли, а с чего начали, Зотов уж и не помнит. Однако дед помнил, и с горних высот общих догадок вернулся на грешную землю, где ходят знакомые нам люди, не освещенные общим на них взглядом со стороны. Когда затихли шаги Асташенкова по ночной улице, дед сказал:
— Коли Асташенкову дать власть, то что будет?
— Капитализм, — говорит Зотов.
— Верно. А если Маркизе дать власть, что будет?
— Не знаю.
— Фашизм, — сказал дед.
И будто холодом и вонью потянуло со всех подвалов старой Европы.
— Я все Маркизу не мог понять и уяснить, — сказал дед. — Муссолини разобраться помог.
12
«Сверхчеловеков придумал Ницше, но фашисты вывернули и его. Ницше объявил — сверхчеловеку все дозволено. Тоже не сахар, но фашисты постановили — кому все дозволено, тот и есть сверхчеловек».
Вот такой перевертыш.
…Ключом отворили калитку в сырой черный сад, потом дверь, вошли в сени — Клавдия называет «вестибюль». Окна в нем ставнями зашиты. Зажгли лампу керосиновую — решили здесь. Еда с собой. Колька две бутылки поставил.
— Мало ли что за бумаги, если сжечь просят или на усмотрение?
На брате Зотова, Николае-втором, пальто драповое, заграничное, реглан с поясом, и подкладка тесьмой обшита, шелком переливается (Таня все разглядела). И остановился в командировочной гостинице.
Он в Москву приехал, пришел ночью, когда Клавдия еще в роддоме была, и, выкатив глаза, сообщил: Маркизу на Дальнем Востоке судили. Асташенков свидетелем проходил, а теперь какие-то бумаги надо сжечь. Асташенков сказал — на дедово усмотрение, мол, Зотов любит старые проблемы, а бумаги эти прочесть нельзя, они стенографией написаны.
Думали-думали, решили так: пусть Серега возьмет все Клавдины учебники да за ночь бумаги теперепишет, не зря же они стенографией увлекались. А утром поглядим, что за бумаги и как с ними быть.
Все это случилось в 1929 году, как раз перед тем, как Клавдии из роддома выписаться.
…А до этого однажды Серега пришел и спрашивает: «Клавдия от меня беременна. Как быть?» — «Не знаю, — говорю. — Но Зотовы женятся…» Внука мне назовут Геннадием.
Не забуду я эту ночь. Ночь хаоса, душевной паники и гнусного открытия.
Бумаги отыскали в погребе за обшивкой. Портфельчик красной кожи, дамский. А там письмо из Италии. И конверт был надорван яростными зубами Маркизы. Я ее помалу узнал — вишневую, будто кровь на холодке. Видно, торопилась прочесть. А раньше никогда не торопилась, только ждала, когда случай придет ногу на подножку ставить.
— Как же она такой портфельчик-то забыла? — спрашиваю.
— Асташенков перед свадьбой спрятал, до свадьбы-то ведь не было.
— Дядя Коль, а ведь из-за тебя все, — говорит Серега. — Ты ведь своего золотого начальника в дом привел.
— Да ладно, переводи пока, — и Колька стал рассказывать.
Золотой его начальник стал начальником в дальневосточном городке, а Маркиза включилась в работу — начала заведовать продуктовой базой для золотоискателей — и царила полновластно.
Было у нее все — красота, беспощадный житейский ум и богатство. Времена трудные, а на базе только птичьего молока нет, и большие начальники ей кланяются. Все у нее было, кроме стыда и таланта. И еще пустяка не было — природа не дала — любить. А в том городке решили создать военное училище. Приехал командир будущего училища, молодой комполка, герой войны. Квартиры еще нет. Где остановиться? Ясно, у мужа Маркизы. «Давай ко мне. У меня квартира — во! Жена — во! Ты таких не видел». А комполка и правда таких не видел. А у хозяина каждый день после обеда заседание — дел в городке невпроворот. А у комполка после обеда дел никаких — ждать, когда эшелоны с людьми придут. Не успел и оглянуться, как Маркиза его окрутила. И сгорел комполка. А красота Маркизы расцвела неслыханно.
— Погоди, — говорю.
Письмо было страниц на сорок, так что пересказываю. Почерк не поймешь — мужской или женский, — стенография, но начиналось: «Дорогая сестра!»
— Сначала подпись прочтем…
А подпись — Гаврилов. Тот самый.
Мы с Колькой ахнули. Врать не буду — чего-то в этом роде я ожидал, думал, может, про Ивана что… Но что тот самый журналист Гаврилов и есть брат Маркизы, которому она манихейцев добывала, — этого я не ожидал.
Ну ладно.
И нас понесло.
Сначала шло о божественном. Гаврилов разбирал первородный грех Адама и Евы. Очень складно. Он так и писал: «Подойдем к этой притче как к логической задаче». И дальше доказывал, что если бог всеведущ, то знал, что дьявол соблазнит Еву. Но если бог всеблаг, значит, у этого соблазна была благая цель. А это значит, что ему не понравились прежде созданные им же мыслящие существа, не имевшие свободы воли, а только заданный способ поведения. Кто же? Дьявол, Змий, так сказать. Если Змий мог мыслить и уговаривать, а человек был создан последним, то дьявол и есть предыдущий образец мыслящего существа. Какова же цель дьявола идти на такой страшный риск и бунт? Только одна — подстроить ловушку Еве и Адаму, чтобы доказать Богу, что прежние образцы были лучше: ведь дьяволы — это взбунтовавшиеся ангелы.
Все может быть, думал я. И мне даже нравилось испытание всевышним независимости человека — чего, дескать, ты стоишь, если дать тебе свободу воли? Но мне не нравилось, что это писал Гаврилов, и я ждал какой-нибудь гадости. И ужаса.
Серега делает перевод, а Колька рассказывает:
— В училище оборудование стали привозить, а комполка, видно, уже начал тяготиться неистовой Маркизовой страстью. Тут к нему беременная жена приехала и теща. Он совсем опомнился и съехал с квартиры. Маркиза знакомится с женой комполка, и та от нее без ума. Маркиза задаривает ее тряпками, учит ее жить, а глупая жена целыми днями висит на телефоне — Маркиза лучшая подруга, водой не разольешь. А какая красавица! Роды прошли неудачно. Ребенок родился мертвый. Маркиза ждет. «Что не заходишь?» — спрашивает она комполка на улице. «И не зайду. Пора кончать», — говорит он. «Ну, попомнишь!» — говорит Маркиза. А от жены его Маркиза узнает, что горе супругов опять и совсем сблизило. Жена на своего комполка не нарадуется.
…И в следующем листке я прочел непотребное.
«Сестренка, — писал Гаврилов, — один палач сказал мне: „Ни бога нет, ни дьявола. Я пострашнее. Я человек…“ Сестренка, их товарищ Горький утверждает, что человек — это звучит гордо. Я с ним согласен, но мы с ним делаем из этого разные выводы. Человек звучит гордо, когда ему никто не указ. А это бывает только когда он импотент… Умоляю, не пугайся этого слова, сначала подумай. Дело в том, что мы с тобой дьяволы».
…Не поддаваться отвращению, гудело во мне, не поддаваться отвращению, которое теперь рвотно душило меня. Каждому норову свое место?… А куда девать таких гадин?… Где им место?…
«До Евы была Лиллит, — писал Гаврилов, — которую Бог отстранил от Адама, так как она была создана раньше — из другой Вселенной, Вселенной одиночек, и Бог нас создавал поштучно. Но он хотел новизны, он, видимо, считал, что прежняя Вселенная в тупике, и подарил Адаму плодоносящую Еву. Но когда наша цивилизация достигла бесплотности, мы стали внедряться в новую, то есть — блудить, не плодонося. А вот еще пример, что я прав, — за то, что ангелы, заметь, ангелы, а не дьяволы, блудили в Содоме и Гоморре, эти два города уничтожены».
…Дальше начиналась уголовщина.
На льду реки нашли мешок, а в мешке труп. Молодая женщина. Видимо, хотели спустить под лед, но что-то помешало. Установили быстро: жена комполка. В городке шум. Закрутилось следствие. Ограбления нет — в ушах золотые сережки, кольцо на руке с камешком, дорогое пальто. Убита топором. Когда засовывали в мешок — рубили прямо по дорогому пальто. Кто последний ее видел? Теща. Куда она пошла? Пошла к Маркизе. Но Маркиза говорит: «Нет, не заходила. Все утро ждала…» Сотрудники подтвердили. На ботинках убитой — следы глины. Возле базы — недостроенный дом. Внутри, у фундамента, — глина. Пригляделись — та самая.
Комполка признался: была связь, были угрозы. Следователь вызвал Маркизу, якобы по делам базы. Пришла красавица, нога на ногу, сердится. Следователь занялся делами базы — авось что-нибудь найдет. Ничего. Бумаги в идеальном порядке. Даже неправдоподобное что-то. Одна бумажка неясная — бочонок спирта дан взаймы соседней базе, а возврата пока нет. Пошел на соседнюю базу, на всякий случай, а директор базы — в панике:
— Не брал я спирта. Документы оформил по просьбе. Разве ей откажешь? В порошок сотрет… Значит, недостача, растрата, есть повод начать следствие о растрате.
Следствие идет, людей вызывают. В городе шум. Все всё знают. И вот тут вдруг история — старое эхо откликнулось.
Врачиха из роддома пропала. Нашли ее через двое суток на соседней станции. А там всюду без документов переезд запрещен. Ее задержали, а она в истерику. Короче, заявляет, что сделала выкидыш жене комполка и ребенок родился мертвый. Маркиза велела. Запугала. Та, дура, сдалась. А теперь во всем призналась.
Железнодорожная милиция, услышав все это, мгновенно переправила врачиху в город — разбирайтесь сами. Вот так.
«…Сестренка, мы были созданы раньше, и нас задумали отменить… Эти плодоносящие мириады муравьев-недоносков, недокормышей, суетящиеся вокруг дохлой гусеницы.
Они хотят одолеть бесноватых, бесполых людей. Смешно! Природа нас производит поштучно, чтобы мы их использовали как орудия».
Колька все рассказывал, а Серега подкладывал мне торопливые каракули этой ночи, а я думал о Маркизе и мысленно сражался с ней, и у меня голова гудела от воспоминаний о Гаврилове и от всего, что было.
«…Да, мы вращаемся вокруг одного и того же — Зла. Ну что ж, значит, есть закон. Закон зла? Пусть. Значит, злодей — победитель? Но ведь жалкий Ницше сам же призывал быть по ту сторону добра и зла? Он только не сказал до конца — кто эти белокурые бестии. Одиночки? Но одиночка — это тот, кто не пытается плодоносить. Плодятся только бессильные».
Давний кошмар, который мучает человека… Битва ангелов с дьяволами…
Это было не во сне, но я видел чужой ад.
Черные лампадные тени метались в Клавдином вестибюле.
— … У тебя всегда был один-единственный козырь. Ничего не желая сама, ты добивалась, что тебя хотели. Значит, ты — объект, — сказал я Маркизе, которая стояла передо мной как живая.
— Все друг другу объекты, — сказала она, — а для себя субъекты.
— Нет, — говорю, — ты и для себя не субъект. Субъект не завидует, и значит, его нельзя отменить. А тебя можно, и ты это знаешь. И когда свежая выпечка твоя зачерствеет, тебя никто не купит для любования. И больше ты никому не нужна, кроме дурака, который ищет в тебе тайну. А кто же будет искать тайну в черствой оладье? И ты боишься, что пойдешь на сухари или на рыбий поклев… А в субъекте всегда тайна незаконченности, и старуха — субъект — манит к общению с ней еще больше, потому что отлетело от нее сходство с другими и накопилась тайна несходства. Я помню, как хоронили Ермолову, первую народную актерку державы, и Москва плакала по старухе, и королевский портрет ее я видел в музее, и он был незакончен, как сама жизнь. А кому нужны старые объекты, умершие еще при жизни и при жизни еще ставшие объедками?
И я читал и спорил, и Колька все рассказывал, и отвращение росло и спасало меня от ужаса нелюбви к женщине. И это была мера моего спасения. Потому что полной мерой спасения отвращение быть не может, а только восхищение и благоговение. Но его не было у меня…
— Маркиза, конечно, ни в чем не призналась, — рассказывал Колька. — Тут случай помог. В соседнем селе задержали двух человек, которые подрались в пустой избе, куда они зашли выпить и попросили хозяйку сдать им комнату. Напились, поссорились, не заметили девочки десяти лет, которая спала на печке. Она слышит — убийство, убийство, — выскользнула из избы и за людьми. Этих двух взяли. Оказались два рецидивиста, которые отбыли срок. А при них бочонок спирта — пятьдесят литров. А спирт там стоил ого-го рублей литр. Большие тысячи стоил бочонок. Как раз столько, сколько в заемной бумаге с базы Маркизы. У одного бандита кличка Рябой, у другого — Сифилитик.
Они все рассказали. «Сука… — сказал Сифилитик. — Из-за нее все…» Они вышли из заключения, болтались по городу, на работу не берут. Маркиза узнала Сифилитика: «Либо поможете, либо вам конец, никуда на работу не возьмут, обещаю и еще припомню кое-что. А поможете — пятьдесят литров спирта и работа на базе». Куда денешься? Убили жену комполка. Очная ставка. Они ее матерят, что продала, она им: «Болваны».
Был суд. Требовали смертной казни. Дали десять лет. Она ни в чем не призналась. Комполка застрелился. Мужа Маркизы увезли в больницу…
Не знаю, как я заснул, но я увидел сон про Кольку и про себя.
Будто прихожу я к нему в номер, а он дрожит весь, возбужденный какой-то. Я ему: «Что с тобой?…» А он: «Пошли, сейчас увидишь…» Подались мы в соседний номер, а там игра, вовсю карты щелкают, мотыльками порхают, и стол зеленый. Он говорит: «Хочешь, я тебе карту покажу, карту, которую всегда могу в колоде найти не глядя?… Я ее называю „двое из Костина“. У меня в Костине по Ярославке две знакомые блондинки… Не веришь? Я ее пальцами чувствую, беру ее в любой колоде и достаю…» — «Ну а что же ты дрожишь?…» — «Никак не пойму, откуда я знаю, как я эту карту отыскиваю…» — «Ты ведь выигрываешь?» — спрашиваю. «Всегда». — «Чего ж тебе еще надо?» — «Не знаю». — «Давай играй, раз пришли…» А на него уже жмурятся, однако не торопят. А сам думаю: чего ж он выиграл в жизни, кроме пальто с подкладкой, пьяни этой и лихорадки ума?
Колькина очередь сдавать. Он говорит: «Вот, гляди… Сейчас вытащу… Я ее называю „двое из Костина“… Гляди…» И вытаскивает даму. Масть не запомнил, только карты, видно, не наши. Все честь по чести — две женщины головами в разные стороны, как дамы в любых картах, но длинноволосые, белокурые, голые и во весь рост — вытянулись в длину тощенькие, головами в разные стороны и кудри спутаны. «У них все дамы такие, — говорит он, — только разных мастей». А я гляжу и думаю: чего ж это они его не трогают? Время-то идет? А он говорит: «Извините, я сегодня не играю…» Хлопнул бокал шампанского, официанту бумажку кинул, и мы вышли.
Вернулись в номер. Он на кровать лег и дрожит. «Может, чаю тебе?» — спрашиваю. А он мне: «Двое из Костина… Быстро… Принеси сюда эту карту…» А у самого зубы лязгают: «Быстро, — говорит, — быстро! И сюда!..» Я — пулей по коридору. А там уже игра кончилась, деньги по карманам собирают. Вижу, колода лежит. Беру колоду, смотрю… и обомлел. Да нет, думаю, это так, картонки, а карты где? На обороте — рубашка ковровая, а там, где крап, — ничего нет… Вообще ничего. Белые картонки. Все карты пустые… Вижу, на меня глядят, и, значит, я их застукал. «Ну… — говорю, — сами картишки делаете?» — «Ага, — отвечают. — Каждому по желанию… Ваш брат хочет даму блондинок, мы ему даем… Мы всем даем желанную карту… Каждому по желанию…»
Не знаю, так ли я понял этот сон, но, проснувшись, я подумал, что если нам дано воображать, то дьявол начинает с того, что проникает именно в воображение. Все остальное в жизни — это лишь последствия…
И тут Серега кладет мне каракули последних страниц письма, и до меня доходят все остальные страшные признания этой ночи:
«Сестренка! Не бойся отвратного и, главное, не люби никого», — и далее он сообщает: «Вот я твой брат, Гаврилов, половину жизни боролся с импотенцией, вместо того чтобы ею гордиться».
Уж чего только этот Гаврилов не делал, — у проституток руки отваливались, — а ничего не мог. И сочинить ничего не мог. «Опишу бордель — у Куприна лучше, опишу ночлежку — у Горького лучше и у Гиляровского». Опишет уголовного людоеда — у Власа Дорошевича лучше. Ну не везет человеку, ну что ты скажешь! Он уже и прыщами исходил, и марафет нюхал, и водкой блевал, и ничего придумать не мог, и кроме опять же прыщей — никакого расцвета. Знание жизни огромное, и все с изнанки. Судил по себе — я ничего не могу, значит, и другим не дано. А если кто может, значит, знает хитрость, но держит в секрете…
А тут война, стал главноуговаривающим. Войну все же проиграли. И тогда он решил, что он человек будущего, и после Крыма подался в Италию. И там наконец нашел нужного вождя — Бенито Муссолини. Ницше объявил, что гений — это сверхчеловек, а Бенито мысленно подвесил Ницше вверх ногами и смотрит, что выйдет. И вышел — Гаврилов. И тогда Гаврилов фамилию поменял и стал идеологом. А Муссолини ему говорит: «Валяй доказывай, что низ — это верх, что бесплодие и есть плодородие и что мы есть сверхчеловеки и гении. Но доказывай быстро, пока Ницше вниз головой висит. И наступит праздник импотенции…»
…И меня стал душить хохот, будто я опять в той камере и Гаврилов пишет протокол. Вся дешевка гавриловского катехизиса и оголения стала очевидна для меня, бабника. И если Гаврилов логически прав, углядев, что мы созданы позднее дьяволов, то господь знал, что делал, и, значит, у нас есть то, чего нет у ранних образцов.
Я еще ничего не мог объяснить, но страх исчез от этой простой мысли, и оставалась нормальная драка, которую Зотовы вели без малого тысячи лет и всегда знали с кем. Лилась кровь? Лилась она и за меньшие цели, и даже церковь нас предала. Две тысячи лет она, потрясая заветом любви, кидала наши толпы в войну и гибель, крича, как аббат Мило перед штурмом неугодного города альбигойцев: «Режьте всех подряд! И правых и виноватых! Господь отличит своих от чужих!»
Дорога длинная. Только начинается. Но праздника импотенции не будет.
Когда мертвецы грызут своих мертвецов, то это их покойницкое дело. Но однажды, в неуследимый момент, народ начинает смеяться, потому что он умеет смеяться и над собой. А когда народ начинает смеяться над собой — ангелы закрывают глаза, а дьяволы содрогаются. А бог открывает очи свои и говорит: «Ну! Ребята! Смелее! Сделайте то, чего не смогли эти бесплодные, созданные до вас! Ведь я же создал вас не по их образцу, а по своему образу и подобию, не так ли?…»
Но я очнулся от крика брата моего и сына.
Они гнусно кричали, обвиняя друг друга в своей жизни.
— Петька! Уйми сына, а то врежу! — крикнул Николай.
— Мне?! — Серега встал — ладный, крепкий, ледяной.
И бросился.
Кто кого первый ударил в скулу, я не заметил, но они оба покатились по полу. Сначала только хрипели, потом кто-то шарахнул по столешне, лампа покатилась, хрустнула, и керосин вспыхнул. Я Коль-киным драповым пальто успел накрыть пламя, и настала полная тьма.
Бухали удары твердые и помягче, потом разом прекратились, когда пинком распахнулась дверь, а окна ржаво и железно заскрежетали. Стало бледно и светло. Ночь кончилась. В дверях стоял дед. Немой снаружи срывал ставни, а Колька и Серега сидели в углу обнявшись, лица у них были в крови, и они плакали.
— Встэ-эть! — тихим дворянским голосом сказал дед.
Они поднялись с пола.
— Прибраться надо, молодой отец… Да поезжай в роддом, — сказал дед Сереге, плотно взял его за шиворот и повел к двери.
В дверях он отстранил Серегу на длину вытянутой руки и пинком вышиб его в сад. Потом вернулся за Колькой.
— Дед, — сказал Колька и потащил со стола пальто. — Ты во всем прав… Дед, не тронь меня.
Но дед уже вел его за шиворот, потом лягнул его ногой в задницу, сказал:
— Догони Серегу, — и закрыл дверь.
Я собирал пьяные каракули этой ночи, но дед отобрал их.
— Бей… — сказал я и наклонил голову.
— Сам ударился, — сказал дед. — Запомни, Петька, с дьяволом не заигрывают.
Мы спустились с крыльца, и я увидел пустой сад. Бабьи листья дотлевали в осеннем костре. Черные стволы распухали в тумане. Стыла серая лужа в желтой траве. Колька с треском отрывал от пальто промокшую в керосине подкладку.
Серый был рассвет, суровый, проникотиненный и проникновенный, но воздух был воздух, вода была вода, и земля была земля.
Дед и Немой ушли восвояси, а я проводил брата.
— Смотри, Колька, — сказал я ему, — возле золота работаешь… Цветные металлы это цветные металлы, а золото есть золото.
— Мораль… — сказал Николай, глядя в серое небо, лежавшее блином поверх тумана. — Меня всю жизнь пороли, чтоб запомнил чужие грехи. — Он вздохнул: — Дед что сказал?
— С дьяволом не заигрывают.
Он кивнул.
Мы влезли на железнодорожную насыпь окружной дороги.
— Братишка ты мой… — сказал я, и мы обнялись.
И через его плечо я наконец увидел лимонную полоску у горизонта под дымными тучами. Я отпустил его.
Он кивнул мне, дернул кепку за козырек и пошел по шпалам искать свою станцию и вокзал.
Под серым небом простирались пустыри с откосами мокрого песка, хибары, свалки, колокольни, заплаты огородов, кирпичные казармы фабрик и кое-где дома-новостройки. Ветер был сырой, свежий и тяжелый.
Но у горизонта вставала заря, с перстами пурпурными Эос.
Дымная предстояла эпоха.
Глава третья Собеседник
В племени маонг суженых выбирают по песням.
Вьетнам13
Витька по складам газету разбирает.
— Читай, читай, милый, читай заманчиво, — говорит Таня. — Зима кончится, и лето пройдет. Мы в этом году в школу пойдем, и будешь ты из всех начитанный. Папка нам ранец купит, и будешь ты из хорошей семьи мальчик, и мы не хуже других. Ботиночки новые купим. Пенал. Придешь в первый класс, все только а-а-а… бе-е, а наш мальчик читать может… Вот все и удивятся… А дед наш как ворон, его время отошло… Смотри, погода какая славная, апрель месяц… Деда с отцом не слушай. Они с Пустыря, из страшной жизни, а у тебя жизнь будет чистая… Ну что под картинкой написано, — расскажи мамке!
— Трамвай с прицепом будет теперь ездить. Три вагона сразу.
— Три вагона — хорошо!.. Видишь, как все славно?… И народу на подножках станет поменьше висеть. И будет чистая жизнь… А еще что прочел?
— В. В. Маяковский застрелился.
— Дай сюда! — крикнул дед.
Люди тонут не от глубины, а оттого, что нечем дышать, а для этого годится макитра и лужа, и мир рассыпается.
Но дед держал макитру железной рукой, и разнообразная философия хотя и захлестнула Зотова, он все-таки мог дышать. И заметил, что между вдохом и выдохом ему приходит догадка о том, что начитанные люди, обучающие других, чего-то не понимают из того, что понимают все.
Любой курильщик знает, что курить вредно, но не бросает, и значит, бытие и сознание увязаны друг с другом не впрямую, а как-то еще.
— Эмоции, — презрительно говорил обучающий, — страстишки, нервишки. Распустился организм, расшатался — вот и справиться с собой не может, а то бы бросил курить. Мен санум ин корниоре санум, — говорил доктор и переводил с аппетитом: — В здоровом теле — здоровый дух. — Хотя сам твердо знал, что почти всегда это вранье и вовсе необязательно в здоровом теле здоровый дух, и втайне боялся злодея с сокрушительными мышцами. — Разве вы не понимаете, голубчик, или сукин сын, что курить вредно? — спрашивал доктор, выходя на улицу. И удивлялся, что пациенты все еще курят, пьют, воруют, насилуют, пытают, уворачиваются от осмысленной работы и друг другу враги поодиночке или толпами.
Тогда он опять запирался в комнате, твердил: «Бытие определяет сознание». Но в форточку по-прежнему, уговаривая, кричал шкурникам и живоглотам: «Когда же сознание поставит предел вашему безобразию?!»
Зотов обнаружил странную вещь. Пытаются изменить бытие, повлияв на сознание, то есть уговорами.
И Зотов оставил бесполезное удивление и понял, что, если сознание не может придумать, как остановить зло, значит, мы не о сознании, а именно самом бытии недостаточно еще знаем.
Пора настала. Осень подходит.
Купил он сыночку своему капустному школьный ранец, твердый, с хрустом, о двух ремешках — на плечики накидывать, а еще линейку с деревянным запахом, тетрадь в косую клетку, на обороте цена — 3 копейки — и угроза: продажа по цене выше обозначенной карается по закону. И закон выведен столбиком: 2*2=4, 2*3=6 — называется «таблица умножения».
Умножай, сынок, и более тебе никаких законов не знать до самого 41-го года, до восемнадцати полных лет.
Первое сентября, стало быть. Свежий, прохладный зачинается денек. Пальтишко на сынке названом новое, неперешитое, ботиночки новые на кожаном ходу, а что в чулках мыски заштопаны, то этого не видать.
Ветер форточки рвет, передовой поэт на Электрозаводе многотиражку в стихах выпускает, трамвай новый пустили — вагон с двумя прицепами, двадцатому веку первая треть кончается.
Зотов с дедом Витьку из первого класса дожидаются. Дед постановил:
— Ты по норову своему рядовой. Но ты можешь добыть о вселенной и жизни такое знание, без которого руководить результатов не дает.
— Одно дело человек, другое — вселенная, — говорит Зотов.
— Это одно и то же, — сказал дед. — Что сказал Карл Маркс? Он сказал: впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере… в какой наука о человеке включит естествознание. Понял? Это будет одна наука…
— О господи! Петя! Петь, — позвала Таня.
— Ну что?
— Глянь в окно. Витька возвращается. Зотовы стали смотреть в окно, а там без пальто и ранца топает капустный сын Громобоев. Он возвращается домой, не начав учиться, и его оглядывают идущие в школу дети и их сопровождающая родня.
Пальто он прогулочно перекинул через руку, а ранец волочился по тротуару — сгребает окурки и листья.
Таня ему дверь открыла, молча охая.
— Почему вернулся? — поинтересовался дед.
— Там тетенька, — сказал Громобоев.
— Что тетенька?
И капустный Громобоев поведал: там в раздевалке за проволочной сеткой сновали нянечки, а дети в окошко отдавали «польты» и убегали по «калидору».
Когда Громобоев протянул пальтишко, то нянечка придержала его в окне и сказала: «Нюра, Нюр, смотри, какой мальчик хорошенький, какой красивый мальчик», — и из-за сетки стало глядеть второе женское лицо с сонными глазами.
И эта женщина спокойно мигнула.
Капустный сын вырвал у нянечки пальто: «Дайте».
И ушел домой.
— Знаю я ее, — сказала Таня.
— Кто такая?
— Так, — сказала Таня. — Нюра одна.
— Ну ладно, — говорит Зотов, — пошли снова.
Так капустный сын опоздал в школу первый раз в жизни. Сразу же, как только пошел, так и опоздал. Потому что на него незнакомая женщина сонным глазом мигнула.
Это только кирпичи одинаковые, а люди-то все разные. И как постичь древо жизни? Видно, надо приглядеться к ее семечку.
«Расти, семечко, расти, сынок названый. Серегу я упустил, две войны были и новое мироустроение, а тебя, подкидыш капустный, упустить не хочу. Потому что, выходит, ты теперь мой главный собеседник, моя вселенная».
Вот так.
— Витька, — спрашиваю, — скажи, а ты правда — вселенная?
— А? — спросила вселенная.
14
…Одна тысяча тридцать первый пошел. Япония Маньчжурию захватила, и опять злоба лютует. От злобы сознание костенеет. И остается одно остолбенелое бытие. И лицо у этого бытия — розовое, как выпоротая задница.
Вот взять национал-социализм, это уж потом он доктрина, теория и даже политика. А вначале это — злобное бытие.
— А никакого национал — социализма быть не может, — сказал дед, — а может быть только национал-фашизм… И раньше, чем фашизму явным стать, надо, чтобы тайные фашисты друг дружку обнюхали, и опознали, и постановили право на душегубство.
Будто в мире железная река старую плотину рвет.
Тридцатые начались, железные.
Планы, планы, согласование. Хлеб нужен, чугун. Америка 43 миллиона тонн чугуна в год плавит, Германия -13, а мы -1 миллион. Колька — по цветным металлам. Сашка — в торговле, Иван сгинул, немой Афанасий на электрокомбинате чернорабочим. Дед, Зотов, Серега — станочники, токариное племя. Ванька Щекин — директором на заводе; Ванька — Колькин приятель с Пустыря — головастый оказался.
— Круппы в Германии думают, что наймут Гитлера порядок навести и что он для них нужная сволочь, — сказал дед. — Деловые люди, а такая дурь и мираж… Не успеют оглянуться, как все монополии станут экономический пупырышек при полиции.
Громобоев в третий класс перешел.
Кризис в мире лютует. В Америке промышленность вдвое упала, в Германии — до сорока процентов.
Барыги пшеницу жгут, апельсины в море топят, чтоб на рынке цену поднять. Жуть. Вот она, анархия очумелая. И ясное дело, нам без плана нельзя. Дед сказал — война будет. Асташенков сгинул невесть куда. Американцы вроде бы нас признают. По утрам заводы гудят, смену собирают. Как-то вдруг оказалось, что в человеке — сил на десятерых.
Неужели все же война будет?
Колька из Берлина приехал. Привез пластинки на русском языке… «Прощай, малютка… мне так грустно без тебя… О-лле!» «Моя Марусичка… моя ты ду-ушечка… Моя Марусичка. Моя ты ку-колка!.. Моя Марусичка… А жить так хо-очется… Я весь горю, тебя молю — будь моей (пауза) женой!»
— Петька… — говорит. — Навидался я… Тебе такого сроду не видать… Феноменально!.. Фашистов видал… В ресторанах бабы почти что голые. Ну что еще?… Еда есть, витрины богатые… Безработных тьма… «Мерседес-бенц»… Вандерер. Унтер-ден-линден… Фарбиндустри… Ферфлюхте швайн… Хох!.. Барахла кое-какого привез… Ботинки с дырочками… Патефон… Русских песен много поют… Шпиль иммер баляляйка… айнен руссише танго… Прощай, прощай… прощай, моя родная… Пою… мое последнее (пауза) танго!.. О-лле!.. Куда в отпуск собираешься?
— Олле! — говорит Зотов. — Приехал и молодец… Меня на дедову родину зовут, под Владимир. Просят помочь в колхозе движок поставить. Может, на заводе кого сговорю, подработать за лето. А нет — один поеду… Тебе что, сынок?
— А мама? — спрашивает Витька. — Без мамы не ездий…
— Смотри ты… — говорит Колька. — Понимать начинает.
Трудно Зотову стало дома жить. Таня с ним на люди не ходит.
— Стыдно, — говорит. — Я твоих баб по глазам узнаю. Почему я тебе верная — сама не пойму.
— Таня, а кто не так? — спрашивает Зотов. — Мужик он мужик и есть. Такое его устройство. Вот возьми — бык один на все стадо…
— Так ведь то бык, — говорит она.
— Ну не буду, — отвечает.
Ну улеглись они спать в полнолуние. На половицах квадраты лунные. Лежат, в потолок смотрят.
— Надо бы полы покрасить, — говорит Зотов. — Возле стола доски лысые совсем. Где бы краски достать?
— Петя, а я видела, ковер на пол кладут, представляешь? Со стены снимают и на пол стелют.
— Да слышал я, — говорит он. — Тыщу раз рассказывала. Мечта твоей жизни.
— Да, мечта, — говорит.
— Мещанские у тебя мечты, — говорит. — Стыдно.
— Мне не стыдно, — говорит, — и Витеньке… Он подрастет, заработает и мне ковер купит. Он сам сказал. На стену.
— А на пол?
— И на пол. Он сам сказал.
Зотов смеется. На луну глядит.
— Петя?
— Ну?
— Сыночек наш непростой растет.
— Способный парнишка… Жаль, учится плоховато. По математике никак таблицу эту не одолеет — умножения.
— Нет, Петя… он не по-людски непростой… Материнское сердце знает.
— Так ты ж ему не мать, а приемная. Или нет?
— Слушай, Петя, что скажу… Так выходит, что не мы его приняли, а он нас. В родители. Он мне послан в защиту.
— От кого в защиту?
— От всех… Не смейся, слушай, что расскажу… Давеча приходила Нюра, Васи истопникова родня… Про нее всякое говорят… Ваш брат от нее чумеет… Пусти, Петя, не надо…
— Я думал, тебе надо…
— Погоди. Ты ее не видел во дворе-то?
— Нет.
— Ну вот, — сказала Таня.
И как бы с торжеством это промолвила.
— Что — ну вот? — спрашивает Зотов.
— Не мог ты ее не видеть. Ты по двору шел, а она на тебя уставилась.
— А я при чем?
— Вот я и говорю — шел мимо и не видел ее… А не мог не видеть. Вот так она стоит, а так — ты идешь и не видел… Это ты-то? Мимо такой бабы пошел и не глянул?… А я уж думала — семье конец. Она ведь разлучница.
— Давай, Танюша, спать, а?
— Дурак ты, Петя… А знаешь, что было-то?
— Что?
— Ты прошел, она глаза закрыла. Потом открыла, поглядела вдаль и поклонилась.
— Кому? — Он уж разозлился: лежат без толку — даром что вместе, об ерунде говорят. — Кому поклонилась? Мне, что ли?
— А никому, Петя… Ты прошел, двор пустой… Ее истопникова жена спрашивает — кому кланяешься? Двор пустой, кому кланяешься?
— А она?
— Я, говорит, знак видала… И пошла со двора.
Ну, Благуша, родная! Что ни год, то сказка. Видно, и тридцатым железным ее не унять.
— Ох, слушаю я тебя, слушаю — одна дурь и болботание.
— А знаешь, куда она глядела… на пустом дворе-то?
— Ну?
— На дальнем сарае, на крыше, мальчик спал, загорал… А когда ты шел, он проснулся, и глазки сонные. Сыночек наш названый… И выходит, Нюра ему поклонилась.
Зотов даже обалдел незначительно.
— Кому поклонилась? Витьке?
Таня лежит, в потолок смотрит, а в глазах две луны плавают. Отражаются, стало быть.
— Заболеешь ты, Танька, со своими мыслями, — говорит он.
— А ты — со своими.
Кто их, баб, разберет? Чепуху говорят или нечто — это есть тайна.
И поехали они в ту дедову деревню все вместе. Зотов, Таня и Витька.
Колхоз ихний только обживался, с хлебом было туго, но им продавали.
И тогда постановили они с Таней денег за работу не брать.
— Совестно, — говорит Таня.
А он думал — спорить будет.
А через двадцать дней движок электричество дал.
Собрались уезжать, а председатель говорит:
— Так не положено, не по-людски.
Пришли они с завхозом выпить, до утра говорили, председатель свою руку гладил, которую ему в тридцатом прострелили, и все Таню благодарил — спасибо вам за Петра Алексеевича, за мужа вашего, выручил, и токарь, и слесарь, и сборщик, и электрик — на все руки, как Петр — первый, отработал свое с верхом.
«А женка моя сидит — майская роза».
— А у его прозвище Петр — первый, у орясины, — говорит. — И вам спасибо, что с семьей приняли. А денег за работу мы не возьмем. Нам не надо.
— Это как же? — говорит завхоз, и на председателя глядит, и Зотову: — Как же это, Петр Алексеевич?
— Я в дому хозяйка, — говорит Таня. — Мне и решать. Помещение вы нам дали, дрова дали, хлеб я из пекарни покупала, всей семьей отпуск провели, сыночек полевым воздухом подышал — и квиты.
— А знаешь, Таня, сколько бы стоило, ежели специалистов позвать? — спрашивает завхоз. — А он один управился ай нет?… Не положено, Таня. Мы на специалистов фонды выделили. Нам утвердили.
— Как сказала — так и будет, — отвечает.
— Ну Таня! Ну человек! Ну жена у тебя, Петька! Не забудем!
Выпили крепко. «Снежки белые пушистые» пели и другие песни. Завхоз Тане руку целовал, а Таня пила — не пьянела. Вот тебе и Таня.
А утром погрузились в телегу, тронулись.
— Стой! Стой! — бежит завхоз с мешком, а из мешка гусь рот разевает: ага-га! ага-га!
— Не спорь, Таня, не спорь, — говорит завхоз. — От гостинца не отказываются. Личный мой гусь.
— Да он щиплется. Куда мне его?
— Дай! — говорит Витька. — Дай мне! И гуся обнимает.
— Ну вот и сладились… Держи, Витька… Не забыва-а-ай!
Колеса катятся, деревня пятится. Витька дражнится — ага-га!.. Ага-га! Гусь молчит, в суп готовится. Витька в небо смотрит, как облака уносит ветер, дождю идти не велит. Вот и станция.
В Москве гусь за Витькой ходит — куда он, туда и гусь: ага-га! Привыкли к нему, дураку долгошеему, а он к людям. Гадит вот только.
— Петя, — говорит Таня. — Я его все равно есть не смогу, и Витя. Правда, Витя?
— Ага-га, — отвечает Витя по-гусиному.
А гусь на Зотова смотрит, ждет: конец ему или нет?
Стыдно признаться: год голодный был, а Зотовы, как дураки, этого гуся одной семье под Москву — в хозяйство. И дальнейшая его судьба им неизвестна. Съели, наверно. А может, гусей развели.
«А Таня мне потом говорит:
— Петь, а Петь… ты эти песни не пой, ладно?
— Какие?
— Которые из Берлина Колька привез на пластинках… Моя Марусичка, моя ты куколка… Я весь горю, тебя молю… и взор ее так много обещает…
— Олле! — говорю. — Заметано.
А у меня в голове засело, поверите? Как Нюра в пустом дворе поклонилась, и как Витька не пустил меня одного в отпуск ехать. Может, и вправду знак.
Вот тебе и Таня. Неужели сказка и в тридцатые выживет?»
15
Ну рванули! Будто готовилась великая сила, косточки разминала, а теперь не удержишь. Зотовский завод пятилетку в два с половиной года выполнил — это же понять надо!
Индустриализация. Индустрия, индустриальная держава становится. Вера. Такое дело. Если тебе верят — у тебя силы вдвое. А у кого талант — у того втрое, вдесятеро. Тут не вычислишь. Вера. Такое дело.
Постановил некто Адольф считать свою нацию высшей, и точка, — кому не лестно. И уж эту логику придется не рассуждениями бить, а войском.
Дед сказал:
— Дело задымилось. Был у них шанс опомниться, да не опомнились. И все это — сны безумцев.
Национализм не тогда, когда ты хвалишь свой народ, а я свой, и даже не тогда, когда ты свой народ хвалишь, а мой хулишь, а я делаю то же самое. Это страсти, они проходят. Национализм — это когда ты говоришь: мои подонки лучше твоих подонков, — а я делаю то же самое.
— Петь, а ты в тетрадках своих ничего такого не пиши, — говорит Таня.
— Какого?
— Ну вообще.
— Да нет, я только так, наше, домашнее.
Витька, Витька… А Витька наш фортели откалывает. Я ведь с ним всерьез только летом, в отпуску. А в остальное-то время о нем больше по слухам.
И слухи чудные или глупые. Все ребята бузотерят, а этот — будто людей изучает. Вроде наизусть разучивает.
Вот ругаются — он свой класс зевать приучил.
Сначала сам зевал — весь класс за ним. Потом учитель географии рот разинет: «Ы-а-э-у, ой, что это на меня напало?» Ну и остальные учителя так-то. Зевота — дело заразительное. А потом Витька и зевать перестал. Ему без надобности. Локоть на парту поставит, из указательного пальца и большого клюв гусиный сделает и раскрывает. Да медленно так, с дрожью. Ага-га! Кто заметит — зевнет, и пошло.
Ну? Как это называется?
Или такое:
Собрались пацаны у нас в доме, возятся под столом, сражаются и в коридоре. Сумерки наступают. И я домой вернулся, в кухне над верстаком лампу включил. Потом стали они силой хвастаться своей и родительской — кто чего может неслыханного: кто съесть, кто выпить, кто от земли подтянуть или согнуть. Дело дошло до Витьки, он и говорит:
— А мой дядя, немой Афанасий, может тонну поднять.
Его на смех.
А ведь правду сказал.
Немой-то наш роста среднего, но силы дикой. Никто и не знал его пределов. Ну сильный и сильный, никто ему экзаменов не справлял. Немой, и все. А однажды прислали на завод машину полуторку за трансформатором, а грузчиков не прислали, понадеялись. Ждали-ждали, немой уперся спиной, наклонился и подтолкнул трансформатор к краю лестницы — всего-то и снести надо было два пролета, двадцать две ступеньки. Трансформатор — метр с лишком высоты, а вес — тонна. Немой на две ступеньки спустился и мычит, показывает: наклоняйте, мол, я спиной приму. Все друг на друга глядят и думают: «Дурак или кто? Тонна. Шестьдесят два пуда. Тысяча кило…» А немой улыбнулся и кивнул: давайте, мол. Ну, человек семь-восемь облепили железку, покряхтели, стали наваливать ему на спину эту непостижимую тяжесть, а еще столько же на лестнице притолклось для страховки: решили, хрен с ними, с грузчиками, сами снесем. В азарт вошли.
Он на спину принял и стал по ступеням идти, да на повороте всех и притиснул, которые ему помогали. Кто-то на площадке взвизгнул. Кто-то вниз шарахнулся — явное же сейчас смертоубийство будет и авария имущества. А потом глядят — человек по ступеням тонну несет. Шестьдесят два пуда с половиною.
Из дверей вынес и к полуторке — ждет, когда борт откинут. Еле-еле потом в кузов взгромоздили. Тонна. Вес дикий. Мешок зерна пять пудов, а тут — шестьдесят два.
Ну, конечно, народ побежал по цехам рассказывать, а не верит никто. Ладно. Прошло сколько-то времени. Велят Афоне электромотор со склада доставить. Дали ему лошадь с телегой-грабаркой, наряд выписали, спрашивают: «Грузчиков сколько?» А он головой мотает — нисколько не надо. Тут вовсе шухер поднялся. Не верили? Сейчас поглядите! А в электромоторе с ящиком — около пятисот кило. Не тонна, конечно. Но тоже вес для человека неподъемный. Ну, тут дело чистое — привезет, значит, правда — сила звериная, не привезет — брехня. Привез. Вот так-то.
А потом кладовщик рассказал, как дело шло. Складские, сколько их есть, ящик к воротам подтащили. Афоня боком телегу повернул, один борт снял, два колеса снял — телега набок и завалилась, на две оси. Афоня покаты, бревна, окованные для этих дел, на телегу пристроил, а другими концами под ящик. Потом лошадь выпряг, с другой стороны за телегу завел, к хомуту вожжи привязал и к ящику, потом сказал: «Ц-ц-ц…» — и свистнул. Лошадь потянула, и электромотор по бревнам-покатам на телегу полез. Ну а потом все наоборот — Афоня оси приподнимал по очереди и колеса надевал. Чеки вбил, борт поставил. Лошадку запряг и уехал.
Всю заводскую столовую от хохота качало. Вот и проверь у мужика силу, если у него голова на плечах.
Ну ладно.
Рассказал Витька ребятишкам про Немого и про эти дела, и они ему не поверили, что такая непонятная немая сила бывает, а он им говорит: ах, не верите, что непонятная сила бывает? Ладно. Сейчас прикажу, и свет погаснет.
— Слабо…
— Слабо?… Раз — два — три…
Свет погас.
Слышу, тишина.
— Кончай баловать, — говорю. — Давай обратно командуй.
Ну, думаю, попался Витька. Ничего. Наука, чтоб не брехал.
Тогда он снова: раз — два — три, — и резиновым верблюдом по стенке стукнул. Свет и зажегся. Все орут — ура!
Я спрашиваю: как сделал?
— Это ж от сотрясения, — говорит он. — Выключатель довернулся. Все дело в верблюде.
Ну конечно! Проводка открытая, жгутом на роликах по стенке идет, может, от сотрясения выключатель и довернулся. Все ясно.
Стали ребята дальше играть, а я на кухню, к верстаку. И вдруг соображаю: а почему у меня свет выключался и включился, если у них выключатель барахлил? На кухне-то выключатель свой. Верблюд резиновый даже не пикнул, когда Витька его об стенку. Какое, к черту, сотрясение? Да ведь и первый-то раз он только голосом командовал!
— Витька… выдь в коридор!
Вышел.
— Ты мне голову не морочь… Сотрясение…
Молчит.
— Ну и как же ты это сделал?
— Не знаю, — говорит. — Сам удивился… я, папка, знаешь когда сдрейфил?
— Когда?
— Думаю, второй раз скомандую, а не зажжется… Так и будем в темноте… Ну я и это… верблюдом помог… все-таки резиновый… изоляция…
— А при чем тут изоляция? — спрашиваю. — Ты дурак или кто?
А сам про себя думаю — а я кто?
Сначала дед со своей магией, теперь Витька…
Но тут сверхчеловеки рейхстаг подожгли, и стало не до магии, не до резинового верблюда, и не до игрушек никаких.
16
…Еще весной хлебные карточки отменили. В булочной после ремонта — на потолке зеркала клинышками, чистота, «жаворонков» сладких продают с глазками изюминными, плетенки румяные с маком, называется «хала».
Люди шли к открытию булочной и тихо покупали хлеб и булки.
Господи! Да ведь порядочному человеку больше ничего и не надо. Чистота, хлеб, небо высокое и семья живая — чудо живое.
И еще книги. Зачем читаю — не знаю.
Память, память, некоторые считают, что память и есть душа. Вряд ли.
Поехали Зотовы всей семьей в отпуск в город Вязьму жить на окраине. В этот год там подешевле еда была — творог, ягоды. Детей к зиме подкормить.
Зотов с женой и сыночком поехали и две жены его братьев с детьми. Одна жена Николая — второго, другая — Александра — третьего. Санька-Пузырь по торговой части: распределители, отто, брутто, нетто, тара, недовес, недолив, усушка, утруска, провес. А Николай, в Цветметзолоте — канцелярия с тайгой пополам — рудники, контракты, золотишко, драги. У Кольки зарплата высокая, у Саньки пайки и так доставал. Колькина жена деньгами не стеснена, Санькина — колбаса копченая, шпроты, сливы соленые — называется маслины. Одна горечь, а жрет, и ничего.
Сынок мой на меня поглядывает — может, он думает: а в чем твоя отличка, Зотов Петр — первый, токарь-пекарь, станочник, философ-пешеход? Только что дылдой вырос и, когда бабу за руку беру, баба млеет? Да что толку? Жена Таня рожать не хочет.
— Нет, — говорит. — Если б ты меня одну любил, а так что ж… Тебе все равно от кого дети, от меня или от любой. Старшенький у меня живой, здоровый, своей семьей живет, второй сыночек у меня умер от холоду, третий — приемный. Внук Генка растет-подрастает, а более не хочу. Гуляй с кем знаешь, только семью береги, разводы сейчас легкие. Не бросишь?
— Куда ж я от вас? — говорит.
«И то верно. Куда же я от них? Я как подумаю, что с ними какой-то другой долдон будет или они вовсе одни останутся, — у меня сердце перехватывает. Не могу я себе их представить брошенными. За что? Не за что. Нищету выдержали, войну пережили, голод выдержали, выдержим и скуку. А они мне родные, как рука или там нога. А с рукой или ногой не разводятся…
— А на баб мне твоих наплевать, — говорит Таня. — Одного я тебе не могу простить — твою тайну…
А тайна моя — могилка полузабытая, бурьяном заросшая, и курский соловей над ней поет. Женщины для меня все одинаковые, а соловья забыть не могу. Где ты, Машенька?…»
А жены братишек зотовских ругаться начали, как в Вязьму приехали, и друг перед другом величаются. Мой муж! Мой муж! Одна деньги не глядя достает из портмоне, другая колбасой копченой угрожает. Вот дуры! Обе телесастые, у обеих юбки выше колен и халаты распахиваются. Цветметзолотая в канцелярии сидит, считается — работает, а торговая и в канцелярию не ходит, дома греется. Цветметзолотая орет: «Тебе хорошо! Дома сидеть! А ты поработай, походи на службу, я посмотрю, какой у тебя дома порядок будет и какая ты сама будешь!..» А сама халда халдой, нечесаная, чулок перекручен, халат сикось-накось, рот не вытерт, — хоть крась его, хоть так оставь, как есть. Другая, торговая жена, Санькина, правда, почище будет. По дому быстро все уладит, обед сварит, простирнет что надо и маникюром намажется, и педикюром, и помадой, — ягодка, будто и не хозяйствовала.
Три комнаты сняли у трех хозяев на окраине Вязьмы. А вместе жить не стали. Невозможно. У каждой свои дети, Зотов один мужчина в отпуску.
Таня говорит:
— Смотри, чего твои братья достигли! Еще год-два, и начальство. И жены образованные. А ты как был… И от меня бегаешь.
— Я от тебя не бегаю, Таня. Моя душа всегда с тобой, и с детьми, и с дедом, и с бабушкой нашей тишайшей. А эти нам чужие, и Кольку с Сашкой к чужим занесло, и это скажется.
Сыночек приемный к тому времени чтение освоил полностью и читал вовсю — уж этот Зотовым родной и в род их пошел. И все слова, которые в смысл складываются, ухватывал на лету и с пониманием. А болботание отвергал и чурался. И Зотов с ним и с Таней полдня по травам ходили и средь камышей, и по мхам, и на цветы смотрели, и на облака, а полдня книжки читали — Зотов за домом, в лопухах, а сыночек капустный, громобоевский отпрыск, зотовское отродье, на чердаке — в нашем доме или в соседних двух. Хозяева разрешили и пускали в чердачной трухе копошиться под ледяной или жаркой крышей — по погоде. Там всегда рваные книжки водились.
Зотов, конечно, знал, что путного там едва ли сыскать — календари старые, «Нива» за девятьсот лохматый год да история Иловайского для начальных классов гимназии и реального училища — примитив: этот князь был хороший человек, а этот князь был плохой человек, вот и вся история. По этой истории выходило, будто того, кто писал, и того, кто читал, вовсе не было, а были Рюриковичи-варяги, потом Романовы-немцы, и на том жизнь на земле закончилась, не начавшись.
Однако капустный сынок Громобоев полагал иначе и с чердака не слезал. И ведь отыскал, стервец, книжку себе в назидание.
Ценности она, может, не представляла ни по узорному слову, ни по мудрости, да и прочесть ее почти что нельзя было — рванина и сало от беспечальных и бесчисленных пальцев, но, с другой стороны, это и есть признак, что кого-то и когда-то и почему-то эта не старая еще книжка за собой вела. Называлась она «Два Сфинкса», и рассказаны были в ней три истории про то, как в египетские времена и христианские времена и в нынешние времена любили друг друга двое, но все время вмешивалась третья. И всегда это было одинаково, и во все времена разлука.
Смотрит Зотов: капустный сын задумался, а он книжку прочел и тоже знает, о чем сын задумался, — время пришло.
Но вот он спрашивает:
— А куда мы деваемся, когда нас нет?
— После смерти мы распадаемся, — говорит Зотов.
— А до рождения где мы были?
— До рождения — часть в отце живет, часть в матери, называется «клетка».
— Значит, две наши половинки, — говорит он. — А до этого?
— В бабушке и дедушке были, — отвечает Зотов.
— Значит, и в них я был?
— А как же?
— По четвертушке?
— А?
— А в прадедушке и в прабабушке по восьмушке… и так далее…
— Что?
— Значит, тыщу лет назад от меня почти ничего не было, а две тысячи лет совсем почти ничего… А в самом-самом начале?
— И вовсе не было.
— А откуда же я тогда взялся?
Эх, милый, думает Зотов, если б знать, откуда мы взялись, то, может, догадались, куда мы деваемся, и придумали бы, как не уходить никуда.
— Нам в школе сказали, что бога нет?
— Ну?
— А если я тебе скажу, что ты бог? — спросил он. — Ты поверишь?
— Нет, — говорит Зотов.
— Почему?
— А если я тебе скажу, что ты бог, — ты поверишь?
— Я поверю, — сказал он.
Зотов у него книжку отнял, а он улыбается.
— Хочешь, чудо покажу? — спрашивает.
— Жарко, — говорит Зотов. — Лучше уж, когда попрохладнее, ладно?
Тут как ветер дунет, как рванет песком и пылью.
— Ты потерпи, — говорит. — Сейчас прохладней станет.
— Пойдем-ка, друг, домой…
Тут молния в водокачку шарахнула и гром ударил. На водокачке железный прут раскачался и раскалился, а конец громоотвода сияет и дрожит. У самых камышей по серой воде реки — как пулемета очередь.
А по пыльной дороге голубиные яйца скачут. Черное небо на деревьях повисло. Молнии вдоль дороги змеями вьются, а градины огромные от земли рикошетом — в воздухе сталкиваются. Зотова кто-то под навес вталкивает. А это не навес вовсе, это они под силосную башню попали, под кирпичные стояки, под недостроенную. Там народ сбился, и там он Таню обрел. Обнялись. Стоят. Ничего не поделаешь. Дрожат.
Как все кончилось и буря ушла, смотрят — по булыжнику телега тарахтит, а на телеге с кирпичом братнины жены с детьми глаза таращат, брезентом накрытые, а рядом дядька двух коников погоняет — ц-ц, но-о, кургузые, но-о, ласковые, — а коней в поводу капустный сынок ведет. Витька Громобоев, мокренький, одиннадцати лет от роду. Вышли, догнали их.
Добрались до своей улицы. Женщины слезли, по домам пошли. Сыночек их детей повел.
Зотов его дождался, слушал, не болит ли где от голубиных тех яиц, небесного льда обломков, и спрашивает:
— Ну как, детишка?
«А он мне:
— Не говори никому про наш разговор, ладно?
Что я, псих — рассказывать? Град — он погода. Пронзительный ветер».
Но с этого града перестал он от Тани гулять. Как отрезал.
А Таня расцвела тихим светом.
17
А в одна тысяча девятьсот тридцать пятом году были они в осенний выходной день в гостях у деда, и там произошел разговор о свободе воли, имевший загадочное окончание.
То ли от того, что в мире творилось, то ли после того града в Вязьме и бури белой немыслимой — сблизились они в семье, будто разглядели друг друга.
— Петь, да ты никак полюбил меня? — спрашивает Таня.
— Выходит, так.
— Петя, а ведь у меня уж внуку шесть лет.
— В нашей семье внуки ранние… Мы-то с тобой когда слюбились? А? Забыла?
— Это надо же… Выходит, я в сорок шестом прабабка стану?
— Таня, ты в случае чего мои тетрадки сбереги.
— А в случае чего?
— Ну мало ли…
В этом году Бенито Муссолини сокрушать Абиссинию поехал. Фашизм внутри окреп, созрел, внешнее наступление началось. Гнойный прыщ лопнул.
— Ну, похоже, что реализм кончился, — сказал дед. — Начинается сон и мрак… Сверхчеловеки мир сокрушать поехали.
А Витька вскинулся вдруг и спрашивает:
— А сверхчеловеки это кто?
— Это которые свободой воли балуются и живут во сне, — отвечает дед.
— А свобода воли это что?
— У отца спроси. Он теперь на четыре копыта кованный.
А Зотов уж к тому времени сквозь дебри проломился и мог своими словами говорить. И ясно видел, что все, кто полагает, будто мир таков, как его левая нога хочет, — либо жулики, либо мимо чего-то реального на деревянных конях проехали.
Имена в философии почтенные, школы научные, ученики ученые. Господин Шопенгауэр со школой, господин Гартман со ученики, господин Ницше с поносом, господин Штирнер в малой шкапе со жулики. Люди умные, не отнимешь, безграмотностью не огорченные, рассуждения у них звонкие, остроты до хохота смешные, а видения сонные, и все карусель на одной оси вертится — что моя левая нога хочет, то и есть, а также правая. И чтоб была пирамида из людей, а на вершине ее — унитаз небесного цвета, а на нем один, который всех одолеет, потому что его свобода воли, волюнтаризм его, этого схотел.
И крутит та карусель мимо жизни, и тошно людям смотреть на ту карусель. А им с каруселями этого не видно. Потому что суть жизни не в голове и мнениях, а в том, что есть на самом деле, в человеческих усилиях согласованно выжить телом и духом, и в том, что люди для этого придумали, — это и есть жизнь.
И все школы с «абсолютами» и «миром, как воля и представление» выросли из одной мысли давнего человека, грубого и правдивого.
Звали его Дунс Скотт, и он необоримо доказал, что ежели бог есть, то бог есть неограниченный произвол, поскольку ему никто не указ.
Все только рты разинули — никуда не денешься, если бог есть, то он всемогущ, а если всемогущ, то чего он хочет, то и будет. А это и есть неограниченный произвол.
Дунс Скотт первый из всех поставил точку, последнюю. Ну а у всей последующей карусели — труба пониже и дым пожиже, и чтобы не признавать, что основа всего труд и кто не работает, тот не ест, запустили иную карусель — «чего моя нога хочет», — однако ничего своего оригинального после Дунса Скотта не придумали… Только Дунс Скотт был человек честный и доказал, что произвол доступен лишь творцу вселенной, ежели он есть, а остальные уговорились считать, что неограниченный произвол доступен и шустрому.
А шустрых много, и произвол одного натыкается на произвол остальных, однако без труда не выловишь и рыбку из пруда. А есть-пить даже господину Ницше и господину Штирнеру, апостолу эгоизма, надо. И хочешь ли, нет ли, а придется проснуться в крови и злобе несусветных видений.
Все это Зотов Витьке растолковывал, надеясь на некоторое приблизительное его понимание, а потом оробел и спрашивает:
— Витька… ты чего-нибудь понял, что я про баловство со свободной волей говорил? Тебе ведь уже двенадцать…
— Понял, — сказал он. — Баловаться нельзя.
Таня засмеялась, и дед засмеялся, а у Зотова вдруг шевельнулось, что Витька нарочно пацаном притворяется. Спокойней ему, что ли? А дед говорит:
— Никак директор к нам пожаловал.
— Щекин, что ли, Ванька? — спрашивает бабушка.
А в том году, надо сказать, старики мастера в ход пошли. Надо новую технику осваивать. Стахановцы, совещания производственников, а также школы передового опыта и, стало быть, шефство старых мастеров над молодыми.
Деду семьдесят четыре, мастер — поискать такого. А вот насчет шефства над молодыми — сомнение. У деда слава — книжник и озорник. Такого опыта напередает, что, может, лучше и погодить его передавать. Потому что лозунг дня теперь стал не «техника решает все», а «кадры решают все». Однако «кадры решают все» — для освоения все той же техники. А дед не соглашается с этим ограничением. И это известно всем.
И потому директор Щекин Иван сам пожаловал.
— Здравствуй, Ваня, — сказала бабушка тишайшая.
На заводе тогда некая запинка в делах наступила, а замом Щекина был увлекающийся Найдышев, который все гайки подкручивал для пользы дела.
А директор знал: если дело на заводе вразнос пошло, значит, Зотовы к нему охладели и никакое подкручивание гаек не спасет. Подкручивать гайки можно, если Зотовы тебе верят, и это можно сделать один раз, ну другой. А если не верят, — все впустую, и директора снимут. И во второй раз в сверхсильного директора не поверят. А начнет кто гайки закручивать — резьбу сорвет.
— Ты, Зотов, не обобщай, не обобщай… Ты дообобщаешься, — сказал Найдышев-увлекающийся.
— Чихал я на тебя, — сказал Зотов-старший.
И Щекин вызвал деда к себе.
— Не жми, резьбу сорвешь, — сказал ему дед. — Директор в своем деле должен быть изобретатель, как токарь, иначе его никакой план не спасет… Тебе дали план — и соображай как быть… Глупый директор работает с бумагой или станками, а умный с человеками… Будь с людьми умный — они остальное сами сделают. А то один раз приказал — сделали, другой раз приказал — не хочется, а третий — халтура, или разбегутся — и дело стоп. Имей подход. А то у нас как? Либо приказ — смирр-на! На-апр-пра-гу! На-а-ле-е-гу!
— Не ори, — сказал директор. — Люди же кругом.
— Либо лебезят, угодничают… любому паскуде в ножки кланяются, чтоб только работал. А то, не дай бог, осердится и с работы уйдет… А куда уйдет? В жулики — не всякий, а на другой завод пойдет. А ты имей другой подход.
— Так какой же, к черту, другой подход? Ничего другого не придумано.
— А уважать не пробовал? — спросил дед.
— Конкретно. Болтовня надоела, — резко сказал директор, как сплюнул. — Конкретно.
— А конкретно — каждый чего-нибудь знает. Уважать — значит советы выслушивать. Тогда человек становится веселый и гордый и в своем деле не шкура.
Так они на заводе споры спорили, а теперь Щекин пришел уговаривать деда передавать нужный опыт, а ненужный не передавать.
И опять они схлестнулись насчет разделения труда в обществе.
А Зотов — младший глядел в осенний двор, где у сарая неизвестного назначения тщился восстать и воздвигнуться таинственный пьяница в сером кепи козырьком назад, дабы козырек не мешал ему елозить ликом по сараю.
Дед с директором спорили, а Зотов, как и дед, не хотел, чтобы его голова бегала от него отдельно и называлась специалист Иван Иваныч, а он был бы только руки и ноги и умел делать детей. Потому что это не есть разделение труда, а расчленение трупа. Он цельноскроенный и цельнорожденный человек, а общество это не машина, а федерация и союз. И если сравнивать общество даже с организмом, то и в организме еще неизвестно и дело темное — то ли руки работают, потому что голова думает, то ли голова думает, потому что руки работают. Ну и будьте любезны.
Дед спросил директора:
— «Радость» знаешь от какого слова?
— Ну?
— От слова «рада», что означает «совет», то есть со-ведение, совместное знание. А если у меня радость ушла, значит, мое ведение никому не нужно. И чтобы была радость, нужен совет — чего ты знаешь, я не знаю, а чего я знаю — того ты не знаешь. И совет это копилка жизни, где знание в оборот пущено. И когда с человеком советуются, у него радость. Или не прав я?
— Прав, — сказал директор Щекин. — Теоретически.
— И практически.
— А практически — приказ есть приказ, — сказал директор, — потому что война на носу. Газеты читаешь?
— Я и без газет знаю, — сказал дед.
— Откуда же?
— Я при капитализме жил и действовал, а ты сиську сосал — вот и все твое действие, — сказал дед.
— Тебя не переспорить.
— А со мной хоть спорь, хоть не спорь, я правду говорю.
— Правду! Правду! — закричал директор, будто убегая от чего-то. — А дисциплина нужна? Нужна?!
— Со-знательная, — сказал дед. — Со-ветская, иначе — радостная.
— Рассуждаешь, — крикнул директор. — Начетчик ты, как этот, как фарисей!.. А хочешь, я пример приведу? Прямо в дом приведу! Хочешь?! Я думал, он ушел, а он по твоей двери ползет, можно сказать, стучится.
— Кто?
— Да пример! Пьяница этот чертов. Вот, слышишь?
— Неужели не ушел? — спросил дед.
Зотов открыл дверь. Пьяница ввалился и по стене сполз на корточки.
— Вот она, правда, — сказал директор и даже повеселел. — И давай посмотрим правде в глаза.
— Не получится, — сказал Витька. — Они у него не раскрываются.
Директор захохотал.
— Да-а… конфуз, — сказал дед.
— Ему, наверно, идти некуда, — высказался Витька.
— Ты кто такой? Кто такой? — громко спросил директор пьяницу.
— Кто такой, кто такой… Анкаголик! — ответил мужик, не открывая глаз.
Директор махнул рукой и продолжил, горячась.
— Речь идет о сознательной совместной работе, — сказал директор. — Сознательной и совместной, — тогда можно планировать. А когда вот этакое… — директор опять кивнул на малого. — Кто ты такой?! Ну кто ты такой?!
— Р-рабочая сила, — неожиданно ответил тот. — С твоего завода трудящий…
— Ну вот… — сказал директор. — Ясно? С какого завода? С нашего?
— Нет, с твоего, — сказал Анкаголик и наконец открыл глаза. — Ты — хозяин, я — рабсила, ты в-велишь, я делаю, а к-когда не в-велишь, я пью. Такое мое з-занятие. Имею право?
— Как твоя фамилия, быстро… — Директор начал тяжело дышать. — Быстро, фамилия!
— … Тпфрундукевич! — быстро ответил тот и всех оплевал.
Витька заржал и попытался повторить: «Тпфрундукевич»- и тоже всех оплевал.
— Ладно… Милиция разберется, — сказал директор, опять утираясь.
— Мать… накорми его, — сказал дед.
— Молока поешь? — спросила бабушка. Анкаголик кивнул.
Так в одна тысяча девятьсот тридцать пятом году закончился разговор о свободе воли. Неужели, думал Зотов, и этот — Фрундукевич — тоже вселенная? А в нем-то что?…
18
А что было в тридцать шестом?
На сороковинах по дяде Васе-истопнику было негромко. Не то что после кладбища, когда вдова Селезнева, готовясь к поминкам, причитала на весь двор:
— Дру-жеч-ка ты мо-я!.. Да на кого же ты меня по-ки-нул?!.. Кланя, гляди, картошка не подгорела, а?!.. Дру-жеч-ка ты мо-я-а-а! Клань! Слышь, что говорю?!.. Дру-у-жеч-ка-а…
Ну и так далее. А под конец старшая истопникова дочь Нюшка сказала гостям шалившим: «А ну пошли отсюдова!» — и розово и сочно оскалилась. За это, а также за резиновую обливную фигуру была Нюшка местным игрушечником прозвана Миногой.
Однако эта кличка была как бы стрела, скользнувшая мимо, поскольку тот игрушечник был с мечтой в голове и не промахивался только в сказках. И потому Нюшка Селезнева раздалась в телку и погасла обыденно.
А зажгла та соломенная огненная стрела кличку Минога над совсем другой женщиной, и засияла она телесным очам невидимо, а лишь духовному зрению очевидно.
Стала жить у Селезневых их племянница Евдокия Копылова из Серпухова, двенадцати лет.
Ее Витька мой разглядел первый.
Сначала заметили, что любит безопасные костры жечь, на берегу Оленьего пруда в Измайлове, в старой кастрюле с дыркой для тяги. Горит костер, она смотрит. Потом заметили, что костер она зажигает перед каким-либо неблагополучием. И оно оправдывалось, и костер тот был предупреждением. А потом заметили ее отказчивость от всего, что не по ней, и небрежное пристальное внимание ко всему.
Подбородок чуть острый, золотые волосы как попало заколоты. Встанет — руку в бок, нога в сторону повернута, будто пляшет, другая рука, в локотке согнутая, далеко от лица отставлена, и розовые пальцы держат длинную голенастую травину, а другой конец стебля она покусывает белыми зубками, и губы кажутся будто пересохшими, будто опаленными и запекшимися в неодолимой жажде расцвесть.
— Чудо… — сказал дед, и один человек кивнул — Витька Громобоев.
Худенькая еще, сама как камышинка, но Витька не иначе зарю увидел, рассвет, с перстами пурпурную Эос.
Костер горит на берегу. Ни ветерка. А окликнешь ее — исчезнет, будто и не было.
Гибкая она была.
А костер горит на берегу, на Оленьем пруду в старой кастрюле, — предвещает неблагополучие.
Чтоб узнать, как сегодня жить, надо приглядываться к тем, кто завтра придет, — к детям.
А тут пошла такая полоса, когда двор подметать — и то стройными рядами. Стройными рядами к светлому будущему — будто полк по дороге пылит, так ведь дороги-то эти еще прокладывать надо. Ну это в счет не шло.
Кто стандарту поддавался, а кто нет.
Минога не поддавалась. А в чем? Того никто определить не мог. Потому что определить значит поставить предел. А как предел поставить, если она ни на кого не похожа?
Определили ее в новую школу, а за ней мальчишки стадом, и все физкультурники.
— Она мешает процессу учебы, — определили в школе.
— Я думаю, учеба должна начинаться с нее, — задумчиво заявил Витька.
Тогда в школу вызвали Зотова.
— Ваш сын за нее заступается… Эта девочка своим поведением кого хочешь с ума сведет.
— Уже свела, — говорит Зотов.
— Понимаете… Она не как все.
— А может, все не как она?
— Так не бывает… Не может весь полк идти не в ногу, а один господин поручик в ногу. Логично?
— Логично, — говорю. — Ежели полк по дороге идет. Но по мосту в ногу не ходят. Мост обвалится. Любой ротный знает. И по грибы в ногу не ходят, и гуськом тоже.
— Что же, мы должны под ее дудку плясать, так, по-вашему?
— Нет, — говорю. — Это она не хочет под вашу дудку плясать.
Конфликт на принцип пошел.
— И вы не как все, — говорю. — Все не как все. Потому человечество и развивается.
— Зачем они на нее накинулись? — спросил Витька. — Все скопом… Учителя — нет, а учительницы — все скопом.
— Для удобства процесса обучения.
— Жуть, — сказал он.
— Не дрейфь, парень… Это все во имя логики… Но в ней зерно страшной ошибки, которая не становится роковой, потому что в решающий момент на логику плюют, — сказал Зотов ему, как самому себе. — Витька, формальная логика годится для неживого. А живое лишь соглашается ее проверить. Но потом оно расстается с ней и начинается живое поведение.
— Вот! — сказал он.
— Непонятно.
— Что-то родилось, — сказал юный Громобоев. — Ну я пошел…
А кличка Минога прилипла к Евдокии, которая не поймешь когда вверх вывинтилась.
Ну такая стала прелестная, строптивая — глаз не оторвать. Когда она в Измайлове на Оленьем пруду плескалась, мальчишки пластами в траве лежали — подбородками в кулаки — и глядели.
А однажды Витька Громобоев опустился к воде и стал тритонов в банку ловить. Она обернулась, он тритонов в пруд выплеснул.
— Чего тебе?
— Сиринга, — сказал он.
А она саженками через пруд на тот берег.
Он — кругом по берегу. Добежал — там нет никого. Скрылась, как не было. Ждал он ее, ждал. Вернулся назад — а и одежды ее нету.
Стал он в свою банку свистеть: бу-у… бу-у… Потом банку в кусты закинул и срезал бузинную веточку.
К ночи, когда Зотов уже засыпать начал, вернулся с дудочкой в четыре дыры. По-нашему — жалейка, по-бессарабски — флуэр.
А наутро Дворникова вдова с дочкой и племянницей к родне уехали в Серпухов.
Хотел было он за ней, да бабушка не пустила.
— Школу надо кончить, голубчик.
— Какую школу?… Какую школу? — спросил он, прикрыв пустые от скорби глаза. — Этой школе тысячи лет…
— Я тебя не пойму, голубчик, — сказала бабушка. — Не напускай на меня тоску, ладно? А то ведь не выдержу.
— Ладно… — сказал он и стал — делать най из бузины.
Най — это дудка такая бессарабская, вроде губной гармошки или футбольного свистка, из многих свистков сложена.
А полюбил Витька, оказывается, навеки.
19
Такая полоса.
Немой зотовский в землю смотрит. И ни о чем не говорит, поскольку он немой. Забрел к нему Анкаголик, что-то сказал, и они ушли из дому, да через сутки вернулся немой Афанасий с девочкой на руках, на вид лет восьми. Хорошо одетая и бледненькая. Волосы каштановые, шелковистые, прямые, недлинные. В коридоре на пол поставил и руку ей на голову положил. Даже не так было. Пришел откуда-то с ребенком на руках, опустил на пол и ввел в комнату. А уж потом на голову ей руку положил, и она не стряхнула, а только смотрит. «Мы на них смотрим, они на нас. Что сказать, не знаем, а у всех одна догадка — ясное дело, что темное дело. Никто не знает, как быть, кроме немого Афанасия с бешеным взглядом да бабушки нашей тишайшей».
— За стол, за стол. Еда стынет, — сказала бабушка. — Сейчас супчику поедим. Перловый, с говядинкой. Тебя как зовут?
— Оля.
Никто Немого ни о чем не спрашивал, потому что он немой. Так и осталась Олечка у Зотовых, — тихая девочка, неразговорчивая. Бумаги все при ней. Немой повел ее сперва к Соколову, начальнику всей благушинской милиции. Чудесный мужик Соколов, фигурой медведь и лысый. Как они там разговаривали и куда он звонил, — а это точно, и все об этом знали, а тогда мало кто звонил, — но только после Соколова Зотовых тоже никто ни о чем не спрашивал, а осенью Олечке в школу идти вместе с Генкой, сыном Сереги и Клавдии.
Девочка тихая, незнаемая. Немой на нее пылинки не дает упасть, а кто подойдет к ней, Немой глаза на него подымет, и тот уходит. Приволок однажды лист фанеры — десятимиллиметровки, сетку достал. Ракетки выпилил. Три мячика купил, целлулоидных.
— Пинг-понг, — сказала Олечка и первый раз улыбнулась узнаваемо, как дитя.
Она в Немом души не чаяла, все его за руку держала, а когда никто не смотрел, то руку его раскачивала. Без костей, видать, та рука была, а сила в той руке была немереная, звериная.
Так бы и жили, если бы Клавдия все Витьке не рассказала. Клавдия всегда что не надо первая знала, а что надо знать, то вязло в ней, как полуботинок в дерьме.
У Олечки дядька профессор по аграрному вопросу, а у него жена — не то немка, не то англичанка. А теперь, стало быть, нет родни никакой.
Анкаголик с Немым у того профессора книжные полки строгали и строили — называется стеллаж.
А дед поманил Витьку скрюченным пальцем, чтоб он кончал рассказывать Клавдины известия, и говорит:
— Мы теперь ей родня, Витя.
Громобоев поглядел на него бутылочными глазами и кивнул.
А из комнаты Немого только и слышно теперь: мячик щелкает целлулоидный. Пинг-понг… Цок-цок… Да Олечка тихо смеется, когда Немой проигрывает в игру незнакомую. И чем дольше Олечка Немого обучает, тем больше, видно, Немой играть не умеет, и Олечка смеется чаще и чаще.
Пинг-понг… Щелк-щелк…
Лист фанеры на столе лежит, плотницкой струбциной привернутый, и бабушка говорит:
— Афоня, кончай дите мучить, Оленьке ужинать пора… — И Олечка смеется.
«Я у нее спросил однажды:
— А как же ты с Афанасием разговариваешь? Он же не говорит ничего.
Она отдула каштановую прядку со лба и отвечала:
— Он говорит… Тихо-о-онечко…
— Тихонечко? — спрашиваю.
— Да, — отвечает. — На ушко…
— А как говорит? — спрашиваю.
— Вот так…
И подышала мне в ухо. И я понял: такой разговор — главный разговор. Все остальные рядом с этим — одно болботание.
Ну ладно».
Потому что живой человек верит в чудо жизни, это машине все равно.
Однажды они пошли в Третьяковскую галерею, и проветривалась духота в их душах, и Генка-балбес глядел на Олечку, а она от Немого ни на шаг, держала его за палец, и ему неудобно было поправлять бант на шелковистых промытых ее волосах.
А Зотов с Витькой своим то отставали от них, то уходили безбоязненно вперед, зная позади немую защиту, и тыл, и прочность. И на «Незнакомку» художника Крамского Витька поглядел бегло и без интереса, а у портрета артистки Стрепетовой художника Ярошенка — задержался. И Зотов подумал: сколько же сейчас лет Марии?
Немой с детишками и зрителями толкались у гигантского Александра Иванова, Зотов звал Витьку смотреть, но он не пошел. Издалека смотрел, на всю картину разом, и разглядывал раба, и разглядывал того, дальнего. Вот пришел человек и сказал: «Я бог». Ну и как с этим быть? Не представитель бога на земле Моисей, не Магомет — пророк его, не Будда — один из будд, а сам — бог — и есть, этого не бывало еще никогда; и раб улыбается, и глаза красные. И Зотов смотрел, и старался мысленно понять, по какому образу Иванов рисовал их подобия в своей картине.
— И я, — сказал Витька.
— Что — ты?
— И я стараюсь понять.
Немой обернулся, и они повели детей в залы, где измученные демоны думали: неужели они никому не нужны? А художник Врубель не давал ответа, потому что они были прекрасны.
— Отец… — сказал Витька.
— Ну что?
— Пушкин гений?
— Гений, — твердо сказал Зотов. — Потому что он чувства добрые лирой пробуждал, и в свой жестокий век прославил свободу, и призывал милость к падшим. Пушкин гений.
— Пушкин сказал: гений и злодейство несовместны.
— Молчи, сынок, — сказал Зотов.
— Кто этот старик?
— Где?
И они остановились перед другой картиной художника Михаила Врубеля под названием «Пан».
И Зотов вспомнил золотую книгу «Гаргантюа и Пантагрюэль», и он вспомнил Телемскую обитель, где жили не монахи, а веселые люди, равные и разные. Они были равные, потому что разные, и потому разные, что были равные, и вспомнил стон островов — умер великий Пан — бог природного вдохновения, и бог-проводник в лесной чаще, и поводырь по пешеходной тропе.
— Это бог, сынок, — сказал Зотов. — Самый древний бог, потому что слово «пан» означает «все».
— Какое странное изображение бога, — сказал Витька. — Почему он такой облезлый?
— Он не облезлый, сынок, — сказал Зотов. — Он забытый.
20
…В 1939 году я догадался, что если б человек знал, что все, что он видит, он видит последний раз в жизни, то жизнь его была бы счастливая.
Родился человек и знает, что помрет. Ведь знает же, сукин сын, об этом всю жизнь. Не знает только — когда?
Время идет, дни идут, секунды тикают, и все, что человек видит, он видит в последний раз.
Если бы человек это помнил, он бы на белый свет наглядеться не мог…
Я решил найти Витьку. Завтра 1 сентября, как бы школу не проспал. Перейдя шоссе Энтузиастов, бывшую Владимирку, я углубился в лес и добрел до Оленьего пруда.
Из дачной уборной выскочил мальчик лет пяти и закричал, на бегу подтягивая штаны:
— Генка! Я понял твою мысль! Но не до конца!
И полдень плавил крыши за серыми соснами.
…Кровь быстро густеет на холодке…
Я лежал в траве и слышал, как Витька и Минога разговаривали у самой воды на незапятнанной полоске суши, отысканной ими в стороне от всех. Двое любимых — что они говорили, что они говорили?!..
— Гений и злодейство несовместны знаешь почему? — спросил Витька.
— Почему?
— Гений это не сверхчеловек, гений это сверхчеловечность, — сказал он.
Она уставилась на него.
— Ишь ты, сверхчеловечность, — сказала она. — Ты поэтому со всеми девочками такой добренький?
— Знаешь, почему мы ссоримся с тобой и никак не сговоримся? — спросил он. — Потому что мы мужчина и женщина.
— Открыл, — сказала она.
— Может, и открыл, — сказал он.
— Много на себя берешь, — сказала Минога. — Мы никто.
— Мы никто и все, — сказал он. — Но у мужчины и женщины талант разный.
Она приподнялась на локте и чуть отодвинулась.
— Мужской талант направлен изнутри наружу, — сказал он.
Она язвительно усмехнулась. Глаза у нее светлые и чуть выпуклые. Господи, бывают же такие очаровательные! Смеется, вытаращив глаза, а уголки губ презрительные, — ей все идет.
— Ты пойми, — сказал Витька. — Ты пойми… Мужчина вообразит что хочет — целый мир — и делает с ним в воображении что хочет… манипулирует…
— В воображении-то ты все можешь, — сказала она.
— Я и говорю… Но мужчина потом пробует перестроить жизнь по воображению, как картину по эскизу… Понимаешь?
— Ну?
— Но жизнь не поддается. Потому что во время стройки сама жизнь меняется и растет… не перебивай меня… Тогда мужчина сочиняет теорию, доктрину и хочет подмять под нее жизнь силком, и опять не выходит. Мужчина опять воображает, экстраполирует, интерполирует…
«Ого! — подумал я. — Ого!»
— Ого! — сказала Минога. — Ты и слова знаешь?
Но не засмеялась, а только пренебрежительно выпучилась, и губы, губы… Дурак ты, Витька.
— И все это у мужчины относится к внешнему миру, — сказал он. — К среде обитания его и женщины. Он переделывает внешний мир.
И тут я подумал, что если Витька скажет, будто женщина, в отличие от мужчины, занята перестройкой своего внутреннего мира, то он сподхалимничает и соврет. Потому что женщина-то как раз свой внутренний мир нимало не перестраивает, он ей и так годится, и так хорош, какой у нее есть. Некоторые религии даже считают, что у женщины и души-то нет, а есть пар.
— Что же делает женщина? — спросил Витька. — Что же она переделывает?
— Да… — сказала Минога. — Что же переделывает женщина?
— Она переделывает мужчину, — сказал он.
Это уже серьезно мне показалось, и я боялся, чтобы меня не заметили. Женщина доктрину не сочиняет, и внешний мир мысленно не переделывает, и ничего заранее не воображает, и не возится с переделкой самой себя. Она переделывает мужчину, и с этого начинается все остальное.
— И мы ссоримся знаешь почему? — спросил он.
— Почему?
— Потому что я не поддаюсь.
Она воздействует на мужчину. А переделка мира — это уже последствия.
Она встала с песка и через голову скинула платье.
— Не поддаешься? — спросила она. — А ты-то кто? Бог?
— Я?
— Да.
— А что такое — я? — спросил он.
Она стояла под солнышком во весь рост. Ей было шестнадцать. Через год она родит мне внука. Громобоев глядел на нее, не мигая, бутылочными глазами.
— Бог — это свобода, — сказал он. — У бога не может быть жены. Это смешно… Над Юпитером стали смеяться из-за его супруги… Что это за бог, который шалит по секрету?
— Да уж, — сказала Минога и, потянувшись, выпятила попку. — А не шалить он не может?
— Не знаю, — сказал Громобоев. — Я попытаюсь.
— С какой-нибудь другой дурой, — сказала Минога.
И, наклонившись вперед, вошла в пруд, тяжело расталкивая воду коленями. Потом нырнула и вынырнула без брызг.
— Сиринга! — крикнул Громобоев. — Я пошутил!
— Да мне-то что?… Не шути! — крикнула она, исчезая в расплавленной полднем воде.
До вечера Громобоев лежал и смотрел в небо, и я лежал и смотрел в небо. И мы поврозь смотрели на облака, в которых видели что хотели.
До темноты Громобоев лежал и смотрел в землю, и я лежал и смотрел в землю. Он смотрел на муравьев, которые тащили гусеницу, и я делал то же самое. И муравьи тянули гусеницу все врозь и куда попало, и процессия двигалась еле-еле.
Потом он встал и в темноте пошел от лесного пруда по шоссе Энтузиастов в Москву, и я за ним — метрах в пятидесяти и по другой стороне.
Городская ночь у приемыша, у сыночка моего.
Я шел за ним по пятам и увидел, как он наконец догнал женщину.
Я думал, наконец проснулось в нем и себя ищет. Себя искать — это другого искать. Иначе как себя найдешь? И тут, смотрю, он ее под руку взял и говорит: «Я вас провожу… Дайте я вас провожу». — «Да ты же мальчик совсем, — она говорит. — Рано ты эти дела начинаешь». Тут они на свет вышли, и она его разглядывает. «Да нет, — говорит он. — Я вас только провожу. Мне надо, — говорит, — мне кого-нибудь проводить надо». — «Чудной ты, — говорит, — какой-то… Может, ты больной, а я с тобой иду? А может быть, ты убийца?» Тут он засмеялся и говорит: «Вы же сами видите, что нет…»- «А ты целовался уже?» — спрашивает она. «Один раз, — говорит он. — Не понравилось». Она посмотрела на него искоса: «А я знаю, почему не понравилось. Тебе показалось, что во рту как будто чернила». Он очень удивился. «Откуда вы знаете?» — «У меня у самой так было первый раз». Он говорит: «А я думал, что так только у меня… Значит, вы теперь меня не боитесь?» — «Нет, — говорит она. — Я теперь за себя боюсь. Ты какой-то не такой». А он отвечает ей: «Такой… просто, — говорит, — я такой. И все. Идемте, мне вас проводить надо». — «Я понимаю, — она говорит. — Это я понимаю».
Я видел, как зарождается жизнь. Потому что жизнь зарождается ночью. Утром она только просыпается, день омрачен бесплодием суеты, а вечер — печалью узнавания. И только ночью, когда тем, кто спит, кажется, что все спят, только ночью зарождается жизнь.
«Мне надо вас проводить, — сказал он. — Вы кто?» «Я работаю на складе», — ответила она. «Все мы работаем на складе», — сказал он. «Если ты думаешь, что я тебя пущу в постель к себе, ты ошибаешься», — говорит она. «Нет, — говорит он, — мне не надо. Я люблю другую». — «Тогда не надо меня провожать, если я не любимая». — «А кто будет провожать нелюбимых?» — спросил он. «Ну-ну», — сказала она.
А под мостом кипели тощие электрички, но их не было видно и даже было не слышно из-за гула в ушах.
Первый час ночи. Кто будет провожать нелюбимых? Наступило первое сентября. Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. Через несколько часов этого проклятого сентября в Европе началась вторая мировая война.
Тысяча девятьсот тридцать девятый год.
Глава четвертая Состоится защита
И горы, ужасные в наших глазах громады, могут ли от перемен быть свободны.
Ломоносов21
…Тут финская кампания кончилась.
Вернулся мой сын Серега, ледяным ветром помороженный, снайпером-кукушкой простреленный, миной контуженный, и начал пить.
Попил, попил — перестал. Снова стал на тренировки ходить на стадион «Сталинец», но жить в семье не хочет. Клавдия его донимает — и такой ты, и сякой, и что тебе дома не сидится, дело мужа семью снабжать продуктами питания и три раза в неделю жену любить или даже чаще.
А он смотрит на нее, кобылу сытую, сына держит за белую макушку и говорит:
— Тоска мне от тебя, Клавдия. Хоть бы в артистки пошла, что ли.
А она — сыну:
— Гена! Гена! Видишь, как твой папа с твоей мамой обращается?!.. Вернулся, ни чинов, ни должности… Как был серый токарь, так токарь и есть… и остался ни при чем… Чему у тебя сын научится?… Как пальцем не шевелить, чтоб в люди выйти?… И разговор у тебя отсталый — учти… Сейчас не то что папанька-маманька, сейчас и отец с матерью не в моде, сейчас в моде папа и мама. Учти — сейчас и пыс-пыс не говорят, а пи-пи…
— Ну пи-пи, — говорит Серега, — так пи-пи… А скажи, Клавдия, знаешь кто такой Окба?
— Не начинай, не начинай… Опять хулиганничаешь?
— Окба, Клавдия, был арабский полководец. Завоевал всю Африку, влез с конем в Атлантический океан, саблю вон и говорит: «Господи! Ты сам видишь — дальше пути нет! Я сделал все что мог…»
— Если ты, зараза, еще раз схулиганничаешь… — говорит Клавдия. — Учти… Начитался, зотовское отродье, гулеван… Хоть бы пил, что ли…
— Нет, — говорит Серега. — С этим все.
А росла этажом выше девочка-соседка. Шестнадцати лет, звать Валентина, озорная, хорошенькая, прямо клоун какой-то. Отца нет, мать в типографии работает, в «Вечерней Москве».
И наладилась эта Валентина Сереге на этаже попадаться. Как он к Зотовым идет, так она сверху спускается, якобы за хлебом.
Ну, то се, стала в дом заглядывать.
— Тетя Таня, я в булочную. Если «жаворонки» с изюмом будут или другая сдоба, вам взять?
— Возьми.
— А если сушки?
— Можно сушки.
— А если с маком?
— И с маком хорошо.
Так и прижилась.
Однажды пришел Серега с ночной и заснул на диване, а эта Валентина тут как тут. Таня посуду моет, а Валентина эта тряпкой мебель наяривает и все мимо дивана — шасть-шасть. Тут звонок, Клавдия пришла и с порога блажит:
— У вас?
— А где же еще?
— Напился, стервец?
— Кто?
— Серега!
— Он не стервец, — говорит Валентина и тряпку к груди прижимает.
— А это кто такая? — спрашивает Клавдия.
— Соседка, — говорит Валентина.
— Соседка? Ну и ступай по соседству.
— Клавдия, уймись, — говорит дед. — Уймись!
— Дедушка, я вас не затрагиваю.
— А ты попробуй затронь, — говорит Зотов Петр Алексеевич.
— Не стервец? — уточняет Клавдия. — А кто же он?
— Герой… — отвечает Валентина.
— Если эта… еще раз меня оскорбит… — говорит Клавдия.
— А что будет? — спрашивает Зотов.
— Нет… видно, правды здесь не добьешься, — говорит Клавдия. — Надо в профком идти… или выше.
— Лучше выше, — говорит дед. — Выше надежней. Прямо к Михаилу Архангелу, — так и так, Михаил, у меня задница, как у твоей кобылы, а муж не трепещет, — накажи его, Архангел Михаил, как того змея!
Клавдия ушла. Посуда перестала звенеть. Серега глаза открыл и говорит из оперетты «Свадьба в Малиновке»:
— Дед, що я в тебя такой влюбленный?
— Какой я тебе дед? Я тебе прадед.
А Валентина на Серегу из угла во все глаза глядит — сидит с тряпкой в обнимку.
— А это что за чучело? — спрашивает Серега.
— Сами вы чучело… — отвечает Валентина.
— Ну ладно, — говорит Серега. — И правда, пора домой.
Ушел.
А как только ушел — Валентина из угла выскочила.
Она закричала:
— Не любит она его! Понятно вам?! Она ему врагиня!
— Я вот тя сейчас ремнем, — сказал дед. — А ну пойди сюда.
— Не имеете права, — отскочила она за стол. — Я вам посторонняя.
Щеки горят, волосы в стороны, на подбородке слеза повисла.
— Соплю вытри, — говорит дед.
— Это не сопля, — сказала она и вытерла подбородок.
— А он ее, — спрашивает дед, — любит?… Вот в чем загвоздка.
— А я откуда знаю?! — опять заорала она и рухнула на диван рыдать.
И на нее посыпались белокаменные слоны — семь штук.
Потом новогодние праздники подошли. Дед говорит:
— Надо всех собрать. Пусть все встретятся и запомнят, а то ведь 41-й наступает.
— Дед, а дед… — говорит Зотов. — Не смущай ты нас, не каркай.
— Петь, Петька, ничего уже не остановишь. Война назрела, как чирей на шее. Ее бы можно было на тормозах спустить, да Витька Громобоев у себя на шее чирей бритвой надрезал раньше времени. Одеколоном, правда, прижег, а все же раньше времени. Плохая примета. И по Нострадамусу на 43-й год конец света выходит и наступит разделение овнов от козлищ.
— Что же ты с нами делаешь, дед, с нечеловеческими своими приметами? — говорит Зотов. — Как после этого Новый год, веселый праздник, встречать?
— Я свое слово сказал, — говорит дед. — Но одному тебе. А ты — никому. Собирай всю семью, и ближних и дальних, и друзей ихних, — кто решится, и их возлюбленных. Повидаемся.
«Не забуду я того Нового года, до 12.00 сорокового, а через минуту — сорок первого.
Собрались все кто мог. В одной комнате — старшие, в другой — младшие. А в коридоре встречались, кто кому нужен. Отдельно.
— Простите меня, отец, — сказал Громобоев, — что я плохую примету принес. Но очень шея болела. Я и надрезал. Может, когда и лекарство придумают.
— Да кто ты такой! — говорю. — Щенок, чтобы из-за твоего чирея война началась?! У нас с германцами мир.
— Пойдем, отец. Дай Валентине с Серегой поговорить.
— Я ей поговорю!
— Нельзя ей мешать отец, сгорит она.
Мы с Витькой были в коридоре, а тут, гляжу, в кухне стоим, некрашеные половицы к закрытой двери текут, на окне цветы ледяные, а в коридоре за дверью, тишина.
Потом слышу, Серега говорит:
— Не надо, дурашка… Ты еще пацанка, подснежник весенний, а я уже битый-ломаный.
— Нет… Нет… — говорит Валька. — Нет… Так не может быть… Ты просто смерти не боишься, а жизни ты боишься…
— Ну погляди… — говорит Серега. — Видишь, всего меня слезами измазала… У меня сын и жена…
— Перворазрядник ты! — говорит она. — Всегда перворазрядник… Вот ты кто. Пойми, нет у тебя жены. Я буду у тебя жена. Неужели ты этого не жаждешь? Я буду у тебя жена! Через год… Мне Громобоев ваш сказал.
— Господи, а об этом откуда он знает?
— Такая у нас судьба… Я потерплю, и ты потерпи.
Эх, братцы…
Ну вышли мы с Громобоевым из кухни, в коридоре Серега на сундуке сидит и на косынку смотрит, на розовую.
Часы начали бить двенадцать раз. Пора стаканами греметь.
— Ушла? Серега кивнул».
22
1941 год начался тихо, для тех, кто не знал. Но в нашей семье знал дед, и это всех давило. И с марта месяца, как завыли коты, кто постарше, стали незаметно готовиться, будто прощаться.
Серега на тренировках носы сворачивал и сам приходил битый. И на лыжах стал ходить классно, опять первый разряд получил.
Немой со своей девчоночкой все в пинг-понг играл. Из комнаты его каждый вечер — щелк-щелк, цок-цок. Потом она смеялась. Она только с ним смеялась, а так тихая, хорошая девочка.
С Таней у Зотова было тоже хорошо. Он уж ей сколько лет не изменял, забыл даже, как это. Он ее спрашивает:
— Очень ты страдала?
А она отвечает:
— Гордилась… Только боялась, семью поломаешь.
— А чем гордилась, дуреха? Чем уж тут гордиться?
— Что у меня мужик, от которого бабы падают, а я ему хозяйка.
— Таня, — говорит Зотов. — Мне такие бабы, как ты, ни разу не попадались. Тань, прости меня, дурака.
А она:
— Какая же я тебе баба? Я тебе жена.
— Нет, — говорит, — Таня… Жены, они разные. Ты человек, Таня. Человек ты.
— Захвалишь…
— Не захвалю. Человек от похвалы расцветает.
Такое настроение пошло, что хоть снова начинай детей делать. Только уж некогда. Если в 41-м опять перемена судеб, значит, опять на грудного младенца судьбу наваливать. Хватит. Зотову на всю жизнь те проклятые семечки в память вонзились.
«Валька новогодняя совсем расцвела — хорошенькая такая стала, плясунья. В типографии работала, „Вечернюю Москву“ печатала вместе с матерью. Как перерыв — влезет на бумажный рулон босиком и из кинофильма „Петер“ пляшет — тири-тири-тири вундербар… тири-тири-тири вундербар, — умора. Прямо клоун Виталий Лазаренко. Или по-оперному закричит: „Са-а-лавей мой, са-а-алавей“. А то говорит мне: „Дядя Петя, я в натурщицы пойду. Голую меня рисовать будут, представляете?“ В самую пору девка вошла, а безнадежно по Сереге сохнет. У него тоже душа, видно, не на месте. Не иначе — перед ней совестно. А то бы сошлись, ясное дело.
А в июне Валька пришла однажды в выходной и стала с бабушкой нашей сундук перетряхивать от нафталина. А потом надела бабушкину фату, выходит к нам и спрашивает у Сереги:
— Правда, я в этой фате какая-то беззащитная?
Серега глядит на нее во все глаза и молвит так задумчиво:
— Может, мне на край света уехать?
А Валька:
— Вы подумайте, нас же больше всех людей на земле, а почему женщин не спрашивают? Может, нам не нравится, когда от нас уезжают?
А тут выходит Клавдия, оглядывает всех своими умышленными глазами и говорит, будто возвысилась над всеми:
— Обалдели вы все или нет, грамотные? Войну объявили, только что…»
А на следующий вечер прибежала к Зотовым Валька с «Вечерней Москвой»-еще краска не просохла:
— Можно Сереже позвонить?
— Звони…
— Это дежурный?… Позовите, пожалуйста, Зотова Сергея… Кто спрашивает?… Валя… Невеста…
— Правильно, Валька, — сказал дед. — А вы все — молчать!
А все молчат. Газету разглядывают и слушают, как их души прощаются.
— Сережа, ты?… Здравствуй, Сережа… Это я, Валя… Я не молчу… Хочешь, я тебе прочту, что у нас сегодня в «Вечерке»?… Она еще наполовину мирная газета. Еще в продажу не поступила… Почему «последняя „Вечерка“»?… Почему ты сказал «последняя»?… Сережа, не молчи!.. Сережа, а ты не можешь заехать проститься?… Может быть, удастся?… Сережа, я буду ждать у ворот… Сережа…
Вот она — «Вечерка» 23 июня 1941 года. Зотов из нее вырезки вклеил.
«…Ежедневно смотрите и слушайте художественные звуковые фильмы „Болотные солдаты“, „Семья Оппенгейм“, „Профессор Мамлок“, „Три танкиста“, „Богдан Хмельницкий“…»
«Мосгорэстрада. Эстрадный театр Эрмитаж. На днях государственный джаз-оркестр РСФСР под управлением и при участии Леонида Утесова. Премьера — „Шутя и играя“. Постановка Л. Утесова и заслуженного деятеля искусств Н. Акимова. Открыта продажа билетов».
«Управление санаториями и домами отдыха продает курортные путевки на 41 год в Кисловодский санаторий, вновь выстроенный, хорошо оборудованный и оснащенный всеми лечебно-диагностическими установками. Путевки имеются с июня по декабрь 41 года. Стоимость 26-дневной путевки -830 рублей. Москва, Неглинная, второй этаж, комната 209».
…Выступление по радио заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР, министра иностранных дел товарища В. М. Молотова…
«…Митинг на станкозаводе им. Орджоникидзе. На заводе „Калибр“, на фабрике „Дукат“, на заводе „Компрессор“, также голос советской интеллигенции: Чаплыгин, Вернадский, Хлопин, Манандян, Образцов, Маслов, Ротштейн, Каштаянц — академики…»
«Премьера „Ромео и Джульетты“ в филиале Большого театра, опера Шарля Гуно. Переполнившая зал публика горячо принимала исполнителей главных ролей — лауреатов Сталинской премии народную артистку Барсову и заслуженного артиста РСФСР Лемешева».
— Даже не верится, что так все было… — плачет Таня.
— Погоди, — просит Зотов. — Дай Сереже с Валей проститься.
— Сережа, я тебя люблю… Сережа, не молчи… Что читать? Сводку? Сейчас, Сереженька.
«Сводка Главного командования Красной Армии за 22 июня 41 года.
С рассветом 22 июня 41 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в гродненском и криспинопольском направлении противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки: Гальвары, Стоянов, Цыхоновец…
За правое дело, за Родину, честь и свободу советский народ ответит двойным сокрушительным ударом за неслыханное вероломное нападение врага».
— Проклятые… — говорит Таня. — Богом и людьми проклятые… Всю нашу любовь… Всю жизнь… Кровососы…
— Не надо, Таня.
— Я буду ждать у ворот!.. У ворот, Сережа!
Далее:
«Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому военным округам…»
Далее:
«Были проведены митинги: в Большом театре, на заводе „Электропровод“, на заводе им. Молотова, митинг полярников, в депо дороги им. Дзержинского, митинг писателей Москвы…»
Далее… Далее… Валька убежала давно…
— Дед, — говорит Зотов. — Послушай!
«2 июля 41 года в 14 часов дня на заседании Московского юридического института, Герцена, 11, состоится публичная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Г. И. Федоткиной на тему: „Роль правовых идей во время крестьянской войны в Германии в 1524–1525 годах“».
— Дед, — говорит Зотов, — смех сквозь слезы. Дед, когда по Нострадамусу конец света?
— В сорок третьем году… В день Иоанна Крестителя… Через два года.
— Ни хрена, — говорит Зотов. — Ни хрена… Состоится защита…
— Не победили они тогда в Германии, — сказал дед. — Вот теперь сказывается.
Потом вечер дымный и кровавый. У ворот стояли все Зотовы и Валька с матерью. Сережина колонна по переулку проедет, он так узнал.
Грузовики загудели, колонна вниз по переулку пошла, Валька с тротуара кинулась. Последняя машина остановилась. Серега соскочил.
Стали все его обнимать. Никто, кроме Клавдии, не плакал. Из машины кричат: «Пора!» Дед Клавдию увел. Серега сына поцеловал. Зотов говорит:
— За семью не бойся. Пропасть не дадим.
Он кивнул. Посмотрели они с Валькой друг на друга, и та ему на шею кинулась:
— А мне что делать, Сережа? Мне?!..
— Живи…
Оторвал от себя ее руки и в машину лезет. А с машины:
— Не забывайте! До свиданья! Не забывайте!
Валька крикнула:
— Никогда!
А с машины:
— Девушка! Давай с нами!
Мать Вали говорит:
— Валечка… идем домой.
— Домой?… А где он, дом? Мама, где он, дом?!
Завывает мотор, не заводится.
— Сережа, подожди! Сереженька!
Мать ее за плечи держит.
— Мама… прости…
— Валя!
— До свиданья, мама… Я вернусь!
Машина с места тронулась, Валька вырвалась, помчалась что есть силы и догнала ее. Схватилась за борт, цепляется, а машина-то все быстрей. У Сереги лицо потрясенное, а Валька не отпускает. Хочешь не хочешь, ее и втянули в машину-то.
— Мама, я вернусь! Вот увидишь!
А мама ее — только руками за виски держится.
Вот так. И умчалась их любовь. Чужую ненависть бить.
А через два дня Немой пропал со своей девочкой.
Вернулся один. В июле.
Где был? Где девчонку пристроил? Неизвестно. Думали, по военному времени ему что будет за это, — однако ничего не было.
С работы уволился, пришел домой с солдатским мешком. Поклонился Зотовым и ушел. А во дворе его Анкаголик ждет, тоже с солдатским мешком на плече.
— Ничего. Не волнуйтесь, — сказал Витька. — Все нормально… Так надо.
И повестку достает на свое имя. Таня крикнула:
— Сыночек!..
Немой ушел, сыновья ушли — Серега и Виктор, из братьев — Николай ушел, его старший ушел, Валька ушла. Хотел и я, Зотов Петр Алексеевич, но завод отказал: «Стоп! На тебя бронь. Будешь мальчишек учить. Тебе 46. Понадобится — отпустим…»
Знакомое дело, думаю, и в ту войну я не в первый год пошел.
Ладно. Поработаем пока и книжки спасем, какие успеем. На Кузнецком мосту, на лотках магазины нипочем продавали старые книги. Защита должна состояться, хоть ты тресни, а защита должна состояться.
Мчатся машины. Состоится защита.
Ну ладно.
23
Еще в сентябре 41-го прибежал Витька из казармы, уселся напротив меня и смотрит в окно на пустой двор.
— Я вот чего не пойму, — говорит. — Монизм признает, что у всего на свете есть одна причина. И идеалистический монизм и материалистический — у обоих одна причина для всего на свете, так?
— Ну так.
— А скажи… Дуализм может быть материалистический?
— Дуализм материалистический?… Погоди… Дай разобраться… Нет, — говорю, — пожалуй, дуализм материалистический быть не может.
— А жалко, — говорит он. — А то бы все складно получилось.
— Зачем тебе?
— Хочу понять, почему все со всем связано… Значит, дуализм материалистический не бывает?
— Нет, — говорю. — У него причины-то две да хотя бы одна из них обязательно нематериальная — ДУХ…
— А если доказать, что дух это тоже материя?
— Тогда опять будет не дуализм, а монизм… Причиной-то всего опять станет материя.
Тогда, не оборачиваясь от окна, он сказал:
— А если доказать, что дух — это другая материя, особенная, неведомая еще, на обычную материю непохожая, тогда что будет — материализм или опять идеализм?
— Не знаю, — говорю. — Похоже, что материализм, только какой-то чудной.
— Почему — чудной?
— Потому что материя — это объективная реальность, данная нам в ощущении.
— Так ведь и тут будет то же самое, — говорит Витька. — А сколько этих видов материи — хоть одна, хоть две, может, десять — не все равно?… Важно, чтоб они были на самом деле, а не выдумка, не мираж…
— Ну если так… — говорю.
На том разговор и окончился. Мне тогда было не до двух причин всего сущего, мне бы и с одной управиться — с работой, тело свое бренное кормить, страну вооружать. Однако разговор этот имел продолжение.
Перед тем как Витьке на фронт уходить, он прибежал из казармы в увольнительную и говорит, когда уж выпили отвальную:
— Отец, я Сапожникова встретил в Сокольниках, когда присягу принимал.
— Кто такой?
— Да ты знаешь. Из нашей школы. Он теперь в саперах.
— Ну и что?
— Помнишь, мы с тобой про монизм и дуализм говорили?
— Нашел о чем помнить… У тебя на сколько увольнительная?
— Погоди, — говорит. — Любопытное дело… Сапожников тоже считает, что мину разобрать можно, а потом собрать, хоть вслепую… А человека или даже блоху — разобрать можно, а обратно сложить нельзя — в принципе.
— Это уж точно, — говорит Зотов. — Который месяц разбирают, а еще ни разу покойники не оживали.
— Ладно, вернемся с войны — разберемся.
— Вот это ты дело говоришь. А вернешься?
— Вернусь.
Тут его стали со двора звать и окликать.
— Эх, Витька, кабы знать, кто вернется…
— Ничего, — говорит. — Ты вернешься, и я вернусь, и немой Афанасий вернется.
— А Серега с Валечкой?
— Иду! — крикнул он в фортку. — Иду!.. Ну, до свиданья, отец. Жди.
Обнялись мы, а он рюмку-лафитничек задел и на пол опрокинул.
— Ничего, — говорю. — К счастью… Ну, беги.
Он выбежал. Эх… к счастью… Машина загудела. Я выглянул — «ЗИС-101», лимузин со двора пошла. Вот на каких машинах Витька теперь ездит. Похоже, приглядели его для надобностей.
Тишина во дворе настала. Кто в эвакуации, как Таня с дедом и бабушкой нашей тишайшей, кто на войне, кто в дороге, кто на работе. И мне в ночную идти.
Так и не успел Витька ответить насчет Сереги и Валечки. А писем все нет и нет.
«Не знаю, как в философии, а у войны этой точно две причины — живая и мертвая. Живая ищет согласия и товарищества, а мертвая прет на нас, чтобы загубить людское согласие на веки веков и придавить его мертвой могильной плитой…
Если будущее мне будет, то будут и записи, а не будет — Таня старые сохранит, или дед, или еще кто.
До февраля 42-го я на номерном заводе вместе с пацанами точил снаряды и мины. Утром точил, днем, вечером и часто ночью, а потом утром снова и несправедливо точил пацанов за нерадивость и за то, что меня не отпускали с завода.
На электричество был лимит, и свет по ночам я добывал трутом, кремнем и обломком надфиля. Фитиль в снарядной гильзе со сплюснутым концом, а то и просто тряпочка, плавающая в блюдце с машинным маслом. Оставляю свидетельство для внуков-правнуков. Как в двадцатом веке в Москве добывал огонь для душевного обогрева и чтения.
Для пополнения же к пище телесной, покупаемой по карточкам, я брал в аптеке таблетки гематогена из бычьей крови, размачивал водой, жарил на сковороде, солил и потом это ел, так как при моем росте мне не хватало калориев.
Знакомый человек пособил, когда ушел я воевать с фашистом. По закону того года я был дезертир производства, но партизанам было послабление, и они сообщили в Центр о моем прибытии лишь после моего „хорошего поведения“ (как выразился Батька) на железных дорогах и других транспортных магистралях, на которых действовал отряд нашего Батьки, один из крупных отрядов окровавленной страны.
А потом с другими ранеными я был отправлен в госпиталь на транспортном „Дугласе“, на том самом, на котором за день до этого опустился в отряд с небес штатский представитель Центра, приехавший по никому не ведомым делам.
Я с этим представителем Центра не встретился, что неудивительно. Потому что представителя Центра, кроме Батьки, не видел никто. Потому что представитель Центра приходил к Батьке только по ночам, во время осенней бури, а потом опять уходил с ветерком. И только год спустя я узнал, что этот представитель Центра и непогоды был Витька Громобоев, но нас разминуло».
Зотов отмаялся, сколько причиталось, в прифронтовом госпитале, а потом доказывал тамошним военкомам и командирам маршевых частей, что без него армия зачахнет, и предлагал потрогать мышцы правой, а также левой руки.
Но командиры говорили, что армия без него перебьется, а военкомы махали на него бумагами и с трудом переговаривались друг с другом о его судьбе по устаревшим телефонам.
Зотов с голодухи и беспокойной жизни совсем захирел, и обносился, и почти на нет сошел, и потому, махнув на все, сел в эшелон ехать в Москву на номерной завод и подвергаться самокритике. А когда его разбудили, то оказалось, что они едут на фронт, и выкидывать его на ходу было нельзя, поскольку поезд шел без остановок по зеленой улице, и документы у него были в порядке, «и как меня проглядели — никто этого не знал, и, значит, отвечать не только мне. И я малость приободрился.
А когда приободрился, то стал тщательно припоминать о тех местах, где сражался мой бывший отряд, чтобы внести это в свою клеенчатую тетрадь, куда я записывал не хронику века, состоящую из важнейших событий истории и общественной жизни, а незначительные для остальных, но поразившие меня явления душевной неожиданности.
Потому что по этим неожиданностям поведения я и прокладывал свой путь и мне нужны были ориентиры».
…Как отряд уходил от черной команды в лес, и уткнулись в колючку, и Немой выдрал два кола и поднял их за проволоку над головой, и кровь текла по ладоням Немого, и люди уходили в эту Триумфальную арку… И два труса поганых, которые прикрывали их огнем, чесанули в лес, а Немой запутался в проволоке, и Анкаголик вытаскивал его, и грозил кулаком вслед двум гадам, и матерился, и это видели фрицы, которые высыпали на поляну… И как их схватили и привели в комендатуру, и Анкаголик кричал, что Афоня немой, а он расскажет все за двоих, и дышал на немцев такой спиртной вонью, что они поверили…
А Немому связали руки с ногами, просунув палку под коленями, и усадили во дворе, а Анкаголика заперли в пристройку позади сельсовета, где пировала вся комендатура… И когда стемнело, Немой начал вставать с деревянным хрустом, и трещали и лопались веревки… И как Немой перевернул на колеса и подтащил пушку с размозженным прицелом, и как он целил, глядя через ствол, в окно узилища, где Анкаголик стоял так, чтобы жерло глядело ему прямо в живот, и Немой поворачивал ствол туда, куда указывал Анкаголик… И как потом Немой принес снаряд и зарядил, а Анкаголик улегся под окно у стенки и заорал: «Давай!» Орудие через окно и дверь каморки разнесло комендатуру, расположенную как раз за нею… И как Анкаголик, над которым прошла смерть, вылез в пролом, и они стали уходить, и на Немого кинулся уцелевший огромный немец, и они схватились… И немец каким-то хитрым приемом повалил Немого на спину и навалился сверху душить, а потом вдруг заорал и потерял сознание. А когда Немой из-под него вылез и взвалил на плечи, то оказалось, что кость у немца была в запястье фактически перекушена пожатьем Немого, как будто руку эту схватила каменная десница… А когда они дотащили пленного до регулярной армии и Анкаголик все подробно докладывал, незаметно отливая к себе в кружку пайковую водку из взводного котелка, то ему, конечно, не поверили, недоуменно поглядывая на невысокого Немого, гражданского человека, который скорчившись спал на лежанке, наполовину заваленный патронными ящиками, упираясь спиной в железные ящики, а ногами в стенку сарая… А потом Немой отчаянно потянулся и ногами высадил тяжелую доску в стене, и все поверили… А когда пленный свидетель с рукой в лубке все подтвердил и разведка все подтвердила, атака полка все подтвердила и оформляли приказ о наградах, то на Анкаголика не оформляли, потому что к тому времени Анкаголик уже орал песни и, нарушая все уставы, на вопрос о фамилии безобразно отвечал: «Тпфрундукевич»- и всех оплевывал.
Когда в эшелоне ехали, во время трепа один ефрейтор рассказал.
Был мужчина по прозвищу Барин, и ему немцы говорят, чтобы он был с ними: «Вы же пострадали от революции и Советской власти, и вы наш по высокой крови рождения». А он им отвечает: «Вы мне не нравитесь, я немцев еще с той войны не люблю, и мы у себя сами разберемся… Минуточку… Ага… Теперь все…» — «А что все?» — спрашивают немцы. «Сейчас взорвемся…» И уцелевший немец об этом рассказывает, и его бьет колотун за его уцелевшую жизнь и потерю смысла.
И я спросил:
— Как имя того Барина?
И он мне ответил:
— Непрядвин.
И я с изумлением записываю про существо живое, неведомое и независимое под названием «человек».
Потому что за честь и независимость нашей Родины идет война.
Я независимый, Петр Алексеевич Зотов, и никому в пояс не кланялся, потому что я живой.
24
…Сорок четвертый во мне уже гудит колоколом и назад оглядываться не велит. И приближается Победа.
Но до Победы еще дожить надо, а сорок третий я прожил уже. Вот он, целенький, весь в крови, мне вчера в руки свалился. И я пьян, и пальцы мои каракули пишут. Но я соображаю все, соображаю все, соображаю я. Точка.
У меня вчера еще раз сына убили, Сережу, и его жену истинную, на веки веков Валечку с четвертого этажа. Прощайте, детки мои, в сорок первом убитые. Медленно, медленно убивали вас в моем сердце, и настигла вас она, проклятая, позавчера, в сорок третьем, а я и вчера еще не верил, а сегодня, в сорок четвертом году, я отрезвел сердцем. Точка.
Продолжаю не перечитывая. Пьян был. Пусть останется как есть. Машина по воздуху летает, и вместо сердца у нее пламенный мотор, и ихняя машина убивает, и наша убивает, и ихняя игла штаны шьет, и наша штаны шьет, и ихний молоток гвоздь вгоняет, и наш молоток гвоздь вгоняет, и вся суть в том, кто инструмент в руках держит и, значит, для чего в руки взял… И если молоток в руки взял, чтобы прокормить себя и своих, то ты человек и дело твое человеческое, а если ты взял молоток, чтобы себя и своих над другими возвысить и надмеваться, то ты кровосос и дело твое дьявольское.
И, значит, дело все в твоей цели, о которой знаешь только ты один и от других скрываешь.
И в этом вся суть.
И потому в сорок третьем до полной ясности все прояснилось и объявилось, и схлестнулись не машина с машиной, и не человек с человеком, и не войско с войском, а цель с целью и суть с сутью.
И, как бы сказал дед, человеческая, сиречь божественная, правота сломала хребет дьявольской неправоте.
И справедливый страшный суд произошел, начался в 1943 году на Курской дуге. И началось отделение овнов от козлищ, и это неостановимо.
И дальше будет плохо и трудно, и крови будет пролито немерено, однако уже прояснилось все и объявилось, когда панцири и доспехи хрустели и раздавливали человечье тело в адском огне и взрывах на Курской дуге, в танковом побоище.
И у них гибли люди, рожденные от людей, и у нас гибли люди, рожденные от людей, и ничем ихние люди от наших не отличались, кроме сути своих желаний, кроме цели. Потому что они хотели над другими надмеваться и возвыситься, мы же хотели работать друг для друга, и, стало быть, каждый для каждого.
И что бы потом ни возникло и как бы дела ни пошли, но честь и слава этого поворота в Страшном суде навеки веков, и нынче и присно, принадлежит нам и нашим.
Хрустнуло оружие, и из обломков его станут ковать инструмент для работы и магии человеческой.
Я не пишу хронику века — одному человеку в ней утонуть, и эту работу совершит совместное усилие. Я же пишу, до чего додумался душой.
И какие бы адские вихри и коленца ни выкидывала судьба, ничего не изменишь: открылась, выдержала и победила суть на Курской дуге, и началась работа невидимая и невиданная, но очевидная для имеющих духовное зрение. И назад пути нет.
…Третий день идут жестокие бои, третий день уже в атаку ходим мы, третий день наш батальон идет вперед, но ни сон нас, ни усталость не берет. Песня такая.
Приезжал нужный человек два дня назад и рассказал мне, как погибли Серега и Валя.
В сорок первом попала их дивизия в окружение, и был бой в лесу, в стальном буреломе. Раненых пытались вывезти под Красным Крестом, но и в Крест стреляли. И дивизия гибла, и тихое болото было заминировано сплошь, и выхода не было, кроме одного. Даже писать страшно.
Раненые слезли с телег и носилок, в кровавых бинтах, и запели «Интернационал», и пошли через минное болото по взрывам, и бинты и остальное разматывалось на кустах. И когда утихла песня, по болоту ушли все живые и унесли знамя, а среди тех, кто пели, был Сережа без руки и с ним Валя, совершенно целая.
Прощайте, детки мои, в жизни, в смерти и памяти неделимые.
Где взять силы?
Меня ведь завалило-засыпало на Курской дуге, и «фердинанд» утюжил траншею, но я жив. И откуда я узнал, кто сказал, кто рассказал, кто описал, откуда я голоса слышал Серегин и Валин, — я все вспоминаю вот уже полгода с лишком почти, а вспомнить не могу.
Ранен был не очень, и не раздавлен танками, и не убит, а что-то во мне надломилось в сорок третьем, и только понимаю одно: что началось воскрешение мира из мертвых.
Буду ли убит или проживу еще, но земля перелом прошла, и помнить ничего, кроме этого, не могу, или душа не хочет.
Курская дуга. Вот он, год, и день, и час. Сон ли я вижу?
…И слепящее, грохочущее безмолвие и безумие конца света.
Семнадцать танковых дивизий двинули немцы, и еще три моторизованных, и еще восемнадцать пехотных, а всего тридцать восемь дивизий, и с воздуха их прикрывали две тысячи самолетов. И с нашей стороны — войска с Центрального, Воронежского, Западного, Брянского и Сталинградского фронтов.
Тридцать восемь дивизий и войско с пяти фронтов рычат в одном котле у Обояни, у Ольховатки, у Прохоровки.
Полторы тысячи танков, взрываясь, сшибаются только у одной Прохоровки во встречных боях, в одной свалке, — это невозможно себе представить, если знаешь, что такое один танк.
Дорогие, если на ваши глаза навернутся слезы, то пусть иссушит их наша клятва, которую дали мы перед павшими героями, — мы падем лицом на Запад, до конца выполняя клятву спасения.
И в сорок четвертом я еще жив и знаю: Сережа! Валечка! Сон ли я вижу.
И тогда раненые не захотели умирать бессмысленно, и тогда они постановили своим высшим судом сделать то, чего живые сделать не могут, и они пошли на минное поле, жертвуя собой.
Это было в начале войны в районе Мясного Бора. Туман на лугу, и от росы видны следы в траве. Передние шли, и с «Интернационалом» шли за ними их товарищи. А когда первый взрывался на мине или падал, скошенный пулей или осколком, то второй шел по этой кровавой лыжне, по кровавой тропе. Лес, луг, трава в росе и трупы наших лучших товарищей, перебинтованных, раненых, в нижних рубашках… Вот слышите — некоторые еще живы, ползут по траве… Прощайте, товарищи. Это есть наш последний и решительный бой… Взрывы, взрывы… по своим костям идем… Народ вспомнит. Но как же я с этим буду жить… Это есть наш последний… Снимите шапки.
…Помни, отец, помните, дядя Петя… Помню, голубчики мои Сережа и Валечка, помню, родные мои, жених и невеста, войной обвенчанные… Помню. Помню, почему вы на мины пошли… Нет больше левого фланга, дядя Петя. Мы передвинулись метров на триста… Сотни трупов, немцы и наши вперемешку, кругом рвутся снаряды, из восьмидесяти шести раненых осталось сорок три… В эту сторону не пройдешь, даже если все ляжем… Нет больше и правого фланга, немцы вклинились в оборону, вводят в прорыв танки и мотопехоту, их головные подразделения вышли к шоссе — слышишь, отец?… Слышу, Сереженька, слышу, слышу, Валечка, слышу… По которому двигалась в тыл наша колонна с ранеными… Где немцы, где наши, понять нельзя. Все время в воздухе что-то рвалось… Счастье, что шли по краю болота, почва мягкая, и многие бомбы не взрывались… Вышли из болота, там завалы из деревьев, искалеченных снарядами, все перепутано колючей проволокой, и трупы, трупы, лошади и люди… Раненые шли не скрываясь, фашисты видели, что это — раненые… Они шли в бинтах, раскинув белые полотнища с красными крестами… как записано в международных конвенциях, дядя Петя… Они били из дзотов по окровавленным бинтам… Это были прекрасные мишени… Скажите нашим, в десяти километрах от основных сил гибнет сражающаяся дивизия, скажите им… Выхода у нас нет, окружены со всех сторон, кроме луговины, где заминирована каждая кочка… Скажите им, что, как только они начнут пробивать коридор, мы выйдем к ним навстречу… Слышите?… Слышу, Валечка, слышу, Сережа… Все слышу… На Курской дуге через два года все слышно. Все слышно… Эй, старик! Зачем мне твое прошлое! Что случилось? Что случилось — быльем поросло! В нашем раю счастливые души день и ночь рубят друг друга и не умирают! А как, рыча и плача, Бальдур махал рукой, оторванной от чужого тела? А как сыщики со спущенными штанами выскакивали из нужников ловить нас? А? А как сисястые японские борцы били друг друга животами и наездники на сцене кормили своих кобыл? А? Хлебово слез, крови, мочи и пота варилось в злобном котле, и обозы давили хлеб, перемазанный дерьмом! А, Иван?! А?… И обиды не находили выхода! А?
— Я не Иван, я Петр… А что же ты плачешь, Фриц?
— Я не Фриц, я Губерт.
И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.
Жизнь моя, спасибо, что довелось увидеть это и понять.
Остальные же мои муки, как у всех остальных — и боль, и страх неизбежные, и горе и горечь, как у всех. Жив, и ладно. И в общей беде душу мою убить могло бы только разочарование в сути самой.
Но этого не случилось.
Слава жизни живой, слава, слава! Адской же цели — презрение!
25
«Темная ночь… Только пули свистят по степи…»
1944 год.
Хлебные колосья… Дорога… Луч, прорвавший облако… Как быть?… Почему злоба на грядке земли? Зачем вавилоны богатства, если злоба пляшет и душевные развалины… А чуть забылся — придет шут гороховый, такой химик, такой секундант, а не понимает ничего, мизюра близорукий, ухан бесстыжий, пройдисвет, кондитер, как говорила бабушка наша тишайшая.
В общем, от тоски до тоски.
Чех один с лагерным номером на руке рассказал байку, что, когда кончилась война, народ решал, какой казни предать Гитлера, и не могли выбрать казнь смертью, потому что такой смерти нет. И тогда одна старуха предложила такое, что все согласились.
Проложили шнур зажигательный через всю страну и на одном конце к дровам, облитым керосином, привязали Гитлера, а другой конец подожгли, и весь оставшийся народ стоял вдоль шнура через всю страну и смотрел, как бежит огонек, и заслоняли его от ветра ладонями, и вспоминали о своем, и скрипели зубами, и стенали в лютой памяти.
И когда бегучий огонек дополз до поленьев, облитых керосином, на которых корчился Гитлер, то из толпы вышла эта старуха мать и пальцами погасила огонь на шнуре.
Люди хотели ее убить, но она отстранила всех и сказала:
— А теперь еще раз… Сначала…
Вот какие сказочки сочиняют люди, опасающиеся не дожить до Победы. Не о том, как с Гитлера рвали кожу, а как его убила людская память. Ибо скучен он народу до смертной зевоты.
Ну ладно.
Напиталось сердце мое смертными видениями и уже не приемлет ничего, кроме Победы огромной и побед махоньких добра над злом.
И воевать буду, пока не скосят, или до Победы добреду, но уже только вижу добро, а зла не вижу, ибо переполнилась душа моя непомерным.
Но видения сна тревожат меня, и забываю я дневную войну и ночную войну того сорок четвертого года, а видения сна — помню. И одно из них, как я с Витькой Громобоевым разговаривал.
Дед говорил мне: сознание родилось во сне, и человек разобраться не может — что у него от сна, а что от яви, и в нем все живет вместе. И это есть образ его жизни и фантазия.
И я во сне говорю:
— Кто был никем, тот станет всем.
— Мы и стали, уже становимся, — отвечает Витька. — Но мы, а не я. А может каждый из нас стать всем?
— Каждый?
— Да, каждый…
— Нет, каждый не может стать всем, — размышляю я.
— А хочет?
— Думаю, хочет.
— Значит, опять по головам?… Значит, опять наверху самый настырный и хитрый?
— Энергичный.
— Ну и так далее, — говорит Витька. — Сильная личность, сверхчеловек… Но мы их теперь всех бьем.
— Думать надо четко, — говорю.
Что скажет Витька?
— Чтобы думать четко, — сказал Витька, — надо сначала думать нечетко… Четкость — это выводы. Если думать одними выводами, перестанешь замечать, из чего сделан вывод.
— Перестанешь замечать? Что именно?
— Жизнь, — ответил Витька. — Реальную жизнь. А я глядел на Витьку и думал: мать честная, о чем он говорит? Такой пустенький разговор, а время идет, и я сейчас проснусь. И надо спросить о причинах и понять суть.
Но Витька, видимо, думал иначе.
— Я узнал из научных работ, что такое диалектика…
Я стал терять интерес. Я вспомнил, что сижу в окопе под неутихающим ливнем, что ночь, и трассирующие пули, и уханье артподготовки, артиллерия резерва Главного командования — РГК бьет издалека, у меня ПТР — противотанковое ружье, граната РГД и пистолет ТТ, и пулемет «максим»- во вчерашнем бою он раскалился так, что вода выкипела, и мы заливали кожух мочой. А сегодня ливень, и я сплю в окопе, и в мозгу у меня из всех слов скребутся и сталкиваются неживые — ПТР, РГД, КП, КПП, ТТ, БАО, ПАХ, ДОТ, ДЗОТ и вражеские неживые «мессера», «тигры», «пантеры» и «фердинанды», и союзные нам «доджи», «студебекеры», «спитфайеры» и «аэрокобры», и Витька, капустный сын, разговаривает о диалектике, и я должен проснуться, воевать за Родину, и не могу, не дослушав сна. И хорошо, что я этого не сделал и не проснулся еще.
— Я узнал, чем отличается логика от диалектики, — сказал Витька Громобоев. — Когда формальная логика приходит к противоречию, она кричит: «Вай!» — и ищет ошибку в рассуждениях. А когда диалектика видит противоречие, она не ищет ошибку в рассуждениях, а говорит: «Внимание! Мы столкнулись с неведомым!» И оглядывается на жизнь. И если у людей желание согласованной жизни, — сказал Витька, — спотыкается о желания отдельного человека возвыситься над другими, значит, мы на пороге неведомого, которое ждет, чтобы мы его открыли.
Я заледенел от непонятного ужаса: неужели скажет, что есть зло?..
— Зотов! — крикнули мне в ухо. — Заснул, черт старый! Зотов! Немцы! Атака!
— Я в порядке, — ответил я и положил РГД на бруствер.
И это был случай рождения моего сознания, и я знаю, что надо искать неведомое, которое отделяет желание жить согласованно от желания возвыситься и не дает людям понять, как им быть.
А потом я думал: если этот сон состоит из деталей того, что я видел в жизни, то почему такой простой сон принес душе моей чувство счастья и печали, а сердцу моему — покой и решимость жить?
И почему я твердо знаю, что буду помнить этот сон всю жизнь, пока живу, а другие сны постепенно забудутся?
Устало сердце мое и зрение, а душа полна непонятным восторгом. И потому кончаю запись этого года тишиной.
…Потом рассказали мне, как Немой и Анкаголик домой вернулись из партизанского леса.
Перед возвращением домой разыскали они тот детский дом, куда Немой в начале войны отвёз неразговорчивую девочку Олю.
Они пришли и искали ее среди малых детей и потому не заметили девочку, на вид лет тринадцати.
И новые незнакомые люди не хотели их допускать до бумаг и списков, потому что от Анкаголика разило, а Немой был немой.
А эта девочка смотрела Немому в спину и затылок так пылко, так отчаянно, что он наконец обернулся.
Незнакомые служители велели обождать до объяснения, но ничего выяснять уже не пришлось.
Потому что девочка кинулась молча к Немому, и он унес ее на руках в сторону рощи, за которой была дорога.
Анкаголик, прикрывая отход, кричал скверные слова и грозился оружием перепуганным новым нянечкам, опустив руку в карман штанов.
Но в этом кармане было не оружие, а огромный кукиш, который он сложил из твердых и грязных всеми грязями пальцев.
А из окна, как из киота, глядела женщина и знаками не велела служителям и новым людям догонять уходящих. И Немой, проламываясь через кустарник, последний раз оглянулся и кивнул ей.
А потом Анкаголик догнал Немого, который нес девочку на руках. Она всю дорогу до шоссе молчала, только сильно дрожала, зарывалась лицом ему в воротник и дышала ему в шею и в ухо.
А на шоссе он опустил ее на землю и поднял руку — остановить попутную.
И прибыли в Москву.
И там Немой остался на заводе, а Анкаголик, через военкомат, был отправлен для прохождения и продолжения.
Так записал я в сорок пятом, и у меня в глазах женщина кивнула из окна, а Немой с девочкой на руках проламывается через кусты, и она дышит ему в шею и дышит ему в ухо.
Кусты, шелестят кусты, и, наверное, было серое небо.
Солдаты спать зовут — бравы ребятушки.
26
«…Ну ладно. Вот и одна тысяча девятьсот сорок пятый наступил.
Вот и опять я возвращаюсь домой после огромной войны. Четверть века прошло с того первого раза, с гражданской, и теперь мне от роду — полвека, и как мне теперь быть?
Был в Кенигсберге, видел море, дом философа Иммануила Канта, поэта Фридриха Шиллера, мылся в частном доме в тазу, и воду мне лили из фаянсового кувшина.
Левая ляжка из крупнокалиберного прошита, из правой груди кусок выдран, но поверхностно, в спине осколок катается.
Человеческое бедное мясо не в счет, была бы кость цела.
А душа? Что душа? На то она и душа, чтобы хранить раны невидимые, и свои и чужие, и женщину с раздавленной головой, и детишку, от которого только рука с куклой, и трупы, трупы, трупы безглазые и с вытаращенными глазами, выкатанные в весенней грязи, в летней пыли и в зимнем снегу. О поле, поле, кто же это тебя так?
Одна тысяча девятьсот сорок пятый — огромный год.
И вот я опять германскую весну встречаю. В чужедальней стране. А она за окном. И любопытно мне, и муторно.
Война кончается, и опять я, живой, отлеживаюсь в госпитале, и повязки отстригают, и от ран отторгают, и снова накладывают бинты, и еду подносят, будто я с работы пришел.
Мне повезло в войне, я постепенно в нее входил.
Если сейчас от темной ночи, от темной и тайной боли или от случайной заразы не помру, то похоже, что я и в этой войне выжил. И даже знаю об этом.
А за окном весна и немецкие люди. И они на нас смотрят беглым взглядом поражения, а мы на них — долгим взглядом вопроса: как же так?…
Мне полвека, и тому, за окном, — полвека, и он несет кастрюлю.
У него ноги нет, может, еще с той войны и потому жив, а у меня еще вопрос решается — то ли будет нога, то ли тоже на протез встану.
„Эй!“ — кричу.
Тот останавливается — голова в плечи, из кастрюли выплеснулось, и ждет. Так и молчим. Нет еще у нас слов разговаривать. Я его язык слушать не могу, и буквы его на дорожных указателях для меня как колючая проволока. Я для него — руссиш швайн, и крикни я — отдай суп! — и он отдаст, и больше у него в голове про меня ничего нет, и, может быть, он боится, что я в него выстрелю из деревянного костыля, и, может, это руссише сверхсекретное оружие.
Что-то в нем начинает дрожать, и крышка на кастрюле зудит. Он поднимает на меня сначала брови, потом глаза, и что-то во мне начинает дрожать и зудеть. И я вижу, что он из своего тела на меня смотрит, как из покалеченной собачьей будки, и я смотрю на него из своего тела, как из покалеченной собачьей будки.
— Ладно, — говорю. — Что скажешь!.. Эх… Вифель тебе лет?… Таг тебе сколько?
— Фюнф… — Он прокашлялся. — Фюнфцейн.
— И мне фюнфцейн… — показываю на себя. — Полвека.
Он поставил кастрюлю на землю, плечи поднял, развел руками и мотнул головой.
— Эх… — говорю, и махнул рукой. — Иди.
Он поднял кастрюлю и ушел.
— Абедать!.. А-а-абедать!.. Ба-альные! А-абе-дать! — кричит сестричка. — Эй! Славяне!
Эй, славяне! Разруха-то какая! Аллес капут? Или, может, нет еще? Что же люди на земле друг с другом делают? Неужель эта война не последняя?
Мне повезло. Я в эту войну входил постепенно, как в реку, только соленая та река, и красная, и быстро густеет на холодке. И было время оглядеться. А молодым как, которые прошлую войну только по „Чапаеву“ знали, а в эту войну с первого дня нырнули, в адский огонь и смерть? Молодые, как они? Я даже представить себе не могу. А как я сам в пятнадцатом, я уже на этой войне забыл.
Я-то на войну в сорок втором пошел, почти через год, как началась, сначала в Москве к бомбежкам привыкал — было время оглядеться. Потом у партизан привыкал, опять же это мне знакомо, вроде гражданской войны. А когда уж фронта достиг, почти притерпелся. И выходит, что я постепенно к войне привыкал. К смерти не привыкнешь, но все же не то что из квартиры в огонь, как Сережа и Валя.
— Ты спи, — говорит сосед. — Сон оказывает чудодейственное влияние.
— Это верно.
— Всю эту страну надо под ноготь, — говорит.
— Этого нельзя.
— А если б они нас повоевали?
— Так ведь это не случилось.
— Ты, главное, не думай.
— Мне не думать нельзя, — говорю. — У меня внук Генка-балбес растет.
— А дети твои?
Что я ему отвечу? Где мои дети? Один в роддоме замерз, другой в войне сгорел, а третьего — приемыша — как ветром сдуло, может, ветром и принесет.
— Ну прости… — говорит сосед. — Тебе выжить надо. Тебе выпить надо.
— А где взять?
— Не знаю… Только в соседней палате один чмырь лежит… всегда под газом. Где берет — никто дознаться не может, а всегда бухой. Уж его обыскивали, а ты попроси.
А у меня сердце екнуло. Думаю — неужели?
Взял я костыль и поскакал в соседнюю палату. Мне показали, где он лежит. Я подошел, наклонился, он глаза открыл.
— Анкаголик? — говорю. — Никак ты, бессмертный?…
Ну, проговорили мы с ним с вечера до утра. Все мне рассказал, что знал, и я все вспомнил, что смог. А утром говорит:
— Пошли… Тут фриц один к нянечкам за супом ходит. Принесет. Тоже анкаголик. Тпфрундукевич. Ты меня с тылу прикрывай.
Спустились мы во двор, к ограде подошли, доску отодвинули, и вижу: идет вчерашний немец на протезе, кастрюлю несет и оглядывается. Увидал меня и затормозил. Но бессмертный Анкаголик ему машет: ничего, мол, свой. Анкаголик из халата достал резиновую грушу с белым наконечником, а тот наклонил кастрюлю набок.
— Понял? — спрашивает Анкаголик. — Клизьма. Сама втягивает.
— Снюхались Тпфрундукевичи, — говорю. — Неужели из нее пить будем?
Анкаголик набрал шнапсу, немцу сигарет дал, и тот ушел за супом.
— А зачем ротом пить? — спрашивает Анкаголик. — С другого конца вставь, и вася. Стой здесь, я тебе оставлю.
— Нет уж, — говорю. — Я так не могу.
— Ну и дурак, — сказал Анкаголик. — Раз дело прямо не пошло, надо с другого конца попробовать.
Он ушел за угол, а я стоял на весеннем утреннем ветерке в тенечке, на задворках госпиталя, и думал: может, и прав бессмертный Анкаголик — если дело прямо не пошло, надо с другого конца начинать, да только где у жизни другой конец?
Анкаголик вышел из-за угла задумчивый. Сказал:
— Клизьма… Великое дело, — сказал он и запел: — „Снежки бе-елые, пу-ши-и-стые…“ — А потом спросил: — Муссолини казнили знаешь как? Его повесили вниз головой.
— Вернули все же в исходное положение? — изумился я. — Ничтожество все же не превратилось в нечто. Ложные сверхспособности вернулись на свое место… Ладно… Так что же выходит? Раз сверхспособности все же не отменяются, опять кому-то будет все позволено? Неужели люди не одумаются?
— Ничего, — сказал Анкаголик. — Пропукаются.
Как хорошо, боже мой! Победа.
Теперь орудие на откат пойдет.
Многое переделывать, чего до времени не трогали, а оно цвело дурным цветом на брошенном поле. Однако жизнь — не орудие, что стреляет одинаково одинаковыми снарядами, и новый всплеск жизни на первый похож не будет».
27
Ну, сыграли свадьбу. В 46-м было.
Расписать их, конечно, не расписали, полгода еще Оле и Генке до восемнадцати. Свидетелями пошли Зотов с Таней.
— Чего не расписываете-то? — говорит Таня. — Невеста в положении, оформляйте брак.
— Как не стыдно? — говорит первая регистраторша. — Полгода подождать не могли.
— Ты глупая или как? — спрашивает Зотов.
— А вы не обзывайте, — говорит вторая, за другим столом.
— Ребенок-то при чем? Печать-то для ребенка нужна. Родители уже обошлись без печати, — объясняет Зотов.
— За аморалку агитируете? Вот мы напишем вам по месту работы…
— Валяй… — говорит ей Таня. — А мы на твое место. Напишем, сколько в войну народу побито, а загс мешает население увеличивать…
— Не знаю… не знаю… просите начальство. Разрешат — пожалуйста.
— И напишем.
— Да что с ними толковать, с чернильницами… — махнул рукой Зотов. — Идем, детишки, свадьбу справлять.
— Ну люди, ну нахалы… — говорит первая.
— Рабочий класс, — говорит вторая. — Чего с них взять.
— Цыц, — говорю. — Лишнего не болтай.
А ребятишки белые стоят. Генка-внук, Клавдии сынок ненаглядный, в окно смотрит, да Олечка каштановую прядь со лба отдувает.
Взял Зотов их под руки и вывел.
Олечка на скамью села и все каштановую прядку — со лба.
— Ребятки, — говорит Зотов. — Наплюньте. Водка пайковая накоплена, гости будут. Ребеночек родится — распишетесь.
Олечка подняла на него глаза и медленно так, в упор, улыбнулась редкой своей усмешкой. Мать честная, у Зотова сердце упало. Ой, думает, беда. Чего-то он не понял.
Дома спрашивает:
— Таня, беда какая-то у Олечки? Или почудилось?
— Чего уж хуже? — отвечает. — Олечка-то нашего Немого любит.
— Афанасия?!
«И тут крикнул бессмертный петух и открылось во мне внутреннее зрение на все годы немого брата моего младшенького, и на неслышный крик его сердца, и на его опоздание».
— Беда… Беда… А ребенок чей?
— Злодей ты! — говорит Таня. — Олечка честная. Разве б она с чужим дитем за Геннадия пошла?
— Ну бабы! Ну бабы! Одного любит, за другого замуж идет… Афанасий поэтому от нас уехал?
— Ну?
Что ж такое, ну что ж такое? А? Такой мужик геройский, и нет ему судьбы.
— Старый он для Олечки.
— Да какой старый, — отвечает Таня. — Тридцати шести нет. А что немой — то это ей виднее, кого любить… Когда они с Олечкой по улице Горького шли, народ оглядывался — такая парочка золотая… Я видела.
— Чего это вас в центр потянуло?
— Клавдия позвала.
Клавдия, — опять эта стерва, а Серега с Валентиной с войны не вернулись. Они бы и живые к ней не вернулись, но нет их. Вот какие дела.
На улице Горького «Коктейль-холл» открыли, так Клавдия туда пристроилась — молокососов и командировочных обштопывать. Генка, щенок, что ни день — веселенький, и запах от этой Клавдии, будто клей варила. «Я, — говорит, — запомните, не буфетчица, а барменша». Я барменш не видел, говорит Зотов, но ты, Клавдия, буфетчица — как была, так и есть, и «коктейль-холл» твой — это «ерш-изба».
— И ты как был, так и есть.
— Ну что ж, — говорит Зотов. — Я не отказываюсь. Но только погляди за Генкой, как бы он Ольгу не обидел. Ухлестывает за ней, люди говорили.
— Чего это я буду следить? Она мне никто.
— Тебе никто, а нам кто.
— Их дело. Молодые. Абы для здоровья полезно.
— Рано им еще жениться.
— Генке-то? А зачем ему жениться?
Тут до Зотова дошло.
— Ну, гляди… Много не обещаю, но если Олю обидит, в институте Генке не бывать. Похлопочу.
— Ты!.. — говорит. — Ты!.. Ты!..
— Ага, — говорит. — Я.
А теперь все как по расписанию. Семнадцать с половиной — свадьба. Зотовское отродье. Винить некого. Сам такой.
— Таня, а с чего ты решила, что Олечка Немого любит?
— Я не решила, я слышала. Она ему в лицо плакала… Я люблю тебя, почему ты молчишь? Ты же слышишь, ты же знаешь! Ты любишь меня? Кивни… Ну кивни!
— Кивнул?
— Кивнул бы — не уехал, — отвечает Таня. Где-то он сейчас? Где Витька Громобоев? Тоже без вести?
— Дед, а дед, — спрашивает Петр главного Зотова. — Как это может быть? Клавдия верх взяла над святыми любовниками?
— Нет, Петька, не взяла. Наступит перемена времен.
Тут Олечке пора пришла в возраст. Успели и печать поставить, и в роддом. Все успели.
Все спокойно прошло, по-хорошему. Мальчик. Решили Александром назвать.
Расти, Санька.
«Стали мы день в день Оле записки носить в роддом, цветы, еду домашнюю, из коммерческого магазина кое-что.
На пятый день возвращаемся мы с Таней из роддома вечером, и мне вроде почудилось.
— Ты что?
— Да нет, споткнулся, — говорю.
Отвез я Таню домой, а сам на улицу — шасть. Темнело быстро из-за дождя. Фонари помаленьку, цепь за цепью сквозь дождь вытаращились. Когда к роддому подошел, дождь полегче стал.
Прислонился я к дереву и стал смотреть, что он будет делать.
А Немой стоит — задрал голову и на окно второго этажа смотрит. Помотает головой, как лошадь от слепня, и опять на окно смотрит.
А потом к окну Олечка подошла, и тут они друг друга как бы разглядели.
Потом Немой достал из пиджака водку и, задрав голову, выглотал бутылку — ей напоказ, за ее здоровье. Поставил пустую на ступеньку и ушел в темноту.
Она все это видела и прижималась к стеклу светлым лицом. Но поскольку шел дождь, то я не видел, плачет она или нет.
Внук же Генка-балбес поступил в институт».
28
— Дед, а дед, очнись… — окликает Генка-балбес.
Зотов оглядывается — кому это он? И вдруг соображает, что ведь это он, Петр Алексеевич Зотов, и есть дед.
Всю жизнь «дед, а дед»- это был его дед, а теперь он стал кому-то дед. Неужели его жизнь кончилась и ему теперь в старых книжках шуршать офенским червем — в малой шкапе, в большой шкапе? Неужели отгорело все и вся жизнь его осталась по ту сторону войны, а по эту осталось дожитие? Неужели все?
— Ну чего тебе? — спрашивает.
— А скажи откровенно, — говорит Генка, — чего ты в жизни добился?
А чего он в жизни добился?
— Добился, что ты жив, — отвечает. — Что учишься в институте заграничных языков, и у тебя есть семья, и у меня есть семья.
— Ага… — говорит. — У тебя семья. Внук-балбес да дед офеня — вот и весь твой приз. А сам ты до империалистической войны гайку точил, после гражданской войны гайку точил, первый поход Антанты, второй поход Антанты… И во время нэпа гайку точил, и во время пятилеток гайку точил, война кончилась, папка мой убит, я имею в виду — твой сын убит, — ты вернулся покалеченный и опять гайку точишь! Большая, наверно, та гайка, если всю жизнь точишь — никак выточить не можешь…
— Это ты покалеченный. Только меня чужой покалечил, а тебя свой.
— Кто?
— Мамка твоя. Как ты хоть здесь жил в войну? Как время провел? О чем думал, расскажи.
— Думал, как бы мне из рабочего класса слинять.
— Ну что ж, — говорит Зотов. — Тебе это удалось.
— Ага, — говорит. — Удалось… Я, бывало, как вспомню про твою гайку, так холодным потом обольюсь и выть хочется. Нет, думаю, только бы выбиться в другую жизнь.
— А в какую?
— Дед, скажи, а почему идейные живут хуже безыдейных?
— Ну, к примеру?
— Ну, ты идейный, и дед твой идейный, и твой отец убит в начале века, и мой — в середине века убит. А я в войну ни одного дня не голодал, а кушать, однако, хотел каждый день и кушал — меня мама кормила.
— Нет, — говорит, — тебя не мама кормила, тебя мы кормили, работники. А мама твоя торговала налево тем, что мы наработали — и гайку, и булку.
— Все! Все, дед! Ты меня не задуривай. Все очень просто, — говорит он. — Ты живешь хуже, чем она и чем я.
— Нет. Не хуже… И в этом ты убедишься на своей шкуре.
— А когда? — спрашивает. — До конца света осталось года два… Одна бомба, и города нет…
— Не дрейфь, — усмехнулся Зотов. — Спасем тебя и на этот раз… Конец света уже был… В сорок третьем на Курской дуге… А теперь началось воскрешение из мертвых…
— Дед, а дед… Что ты со мной, как с маленьким?… Все же в миллион раз сложнее.
— Правильно, Генка, сложнее… Но это потом сложнее… А сначала — если гайки не будет и куска хлеба не будет, то ничего не будет. Гайка и кусок хлеба — продукты, молот и серп — инструменты.
— Примитив, дед! Ужас! Примитив!..
— Верно, — говорит, — примитив. А ты попробуй обойдись без него?! Был бы ты чужой, подонок, я б тебе дал по шее, и весь разговор. А ты свой, родимый, и живется мне плохо, и разруха кругом, и я впадаю в отчаяние. Но я беру себя в руки, и иду на завод автотранспортного оборудования, и работаю, работаю, работаю…
— Дед!
— Работаю, работаю и даю шару земному время опомниться от барыг. Потому что жадность фрайера сгубила, потому что тут пути нет. Но и мы еще бестолковые на своем пути, потому что учиться нам не у кого, мы — первые.
— Дед, я не подонок… Ты напрасно так думаешь…
— …И в нашем роду, в зотовском, были и дураки, и злодеи, но никогда не рожали мы ничтожества. Ты, Генка, первый.
«Так я потерял внука.
Я не верю, что можно понять, что происходит в мире, не поняв, что происходит в семье».
29
Лето хорошее стояло в 1950 году, сладкое, трава высокая. Они с Таней чай пьют. Дед в соседней комнате руки растопырил — бабушка шерсть мотает.
Клавдия прибежала. Трясется.
— Известия слышали? Война в Корее!
Передали — Южная Корея с американцами на Северную поперла.
Клавдия трясется:
— Генка в инязе английский язык долбит, дурак-отличник…
— Ну?
— Так отличник, говорю! Стипендиат! Если что — его в армию загребут… Не пущу! Умру, не пущу! Хватит с нас войны!
— Это верно, что хватит… А как не пустишь? Под подол спрячешь? Это, Клава, не нам одолеть. История.
— История? История?!.. Плевала я на вашу историю! Озверели Зотовы. Заморочили голову себе и другим тоже… Нет никакой истории! Кто устроился — тот живет, кто не устроился — не живет! Вот и вся ваша проклятая история! Нет, Петр Алексеич, давай головой верти — как Генку спасать! Черт с ним, с институтом. Надо Генку на военный завод устроить. Оттуда не возьмут. Анкета у него чистая, отец в Великую Отечественную погиб, ты воевал и в эту войну, и в гражданскую… Генка из потомственной рабочей семьи. Рабочий класс.
— Вот это номер, — отвечает Зотов. — Клавдия про рабочий класс вспомнила! А беда прошла — опять наперегонки? Кто лучше устроился?
— А ты забыл, что он тебе внук единственный?! Забыл, как сына в войну потерял?! Забыл?!
— Не кричи, пожалуйста, — говорит Зотов. — Про сына не кричи ни слова.
Тут дед выходит, потом бабушка тишайшая.
— Что за шум, а драки нет?
— Зотовы, Зотовы… Ну, Зотовы! — говорит Клавдия. — Дедушка Афанасий, у тебя знакомые большие люди, у тебя связи, сделай что-нибудь?…
— Чего это она?
— Да боится, — говорит Зотов, — что Генка в Корею загремит, если что начнется.
— Ну?
— Хочет его из института на завод устроить, на военный.
— Ишь ты… Клавдия, а ну как войны не будет — мы опять тебе не родня? Или как?
— Да вы звери, что ли?! — орет Клавдия. — Это же сын мой! Сын!
Тут бабушка говорит:
— Погоди, Клава. У меня верное слово есть… Я тебе скажу, а ты запоминай.
— Бабушка, может, ты что подскажешь?… Женщина женщину всегда поймет!
— А как же, — говорит бабушка наша тишайшая. — Запоминай… Оболокусь я облаком, обтычусь частыми звездами…
У Клавдии глаза на лоб.
— Это что? — спрашивает. — Заклинание?
— Ты слушай, — говорит бабушка. — Серега вот тоже не слушал… Три сестрицы прядут шелк. Выпрядайте его, на землю не роняйте, с земли не поднимайте, а у раба Геннадия крови не бывать… Три раза повтори, и будет жив.
— С ума вы тут посходили… — говорит Клавдия. — История… заклинания… классы… А за сына моего кто слово замолвит? Или никто не замолвит?
— Замолвить? — говорит дед. — Это можно.
— Ну?
— Пошла вон, — сказал дед. — Вон пошла! Вот и все слово.
— Ты, Клава, на нас не сердись, — сказала Таня. — В каждой семье по-своему живут. У нас так.
— Я не сержусь, — сказала Клавдия. — Я запомню.
И ушла.
Лето стояло тихое. Трава высокая.
Но ярость в Зотове какая-то появилась. А на кого — сам понять не может.
Войны начинаются, потому что кто-то этого хочет. А хотят этого всегда — бывшие. Бывшие — это те, кто отстаивает способ жить, который уже не годится.
30
«…Московское время ноль часов… Начинаем…»
— Не начинай, — сказал я и отключил радио. Ноль часов. Времени не было. Но я снова вернулся в 51-й год, с которого я начал свое повествование. Помните? Помните?
Я очнулся.
И тогда заговорил вдруг Витька Громобоев, а он говорил редко:
— Да, похабства не уменьшается, — сказал он. — Слушайте, дед и отец, слушайте, леди и джентльмены!
— Где ты видишь леди? — спросил Генка.
— Леди — это ты, — сказал Витька. — Поскольку ты еще порядочная баба.
Генка подскочил, но я ухватил его за штаны, и он сел обратно.
— Мне кажется, я сделал чрезвычайное открытие, — сказал Громобоев. — Я проверял его десятки раз, и оно десятки раз подтверждалось.
— Какое открытие?
— … Я назвал его «принцип гусеницы»… Отец, помнишь, как еще в тридцать девятом, на Оленьем пруду, ты подглядывал за мной?
— Я не подглядывал, — хмуро сказал я.
— Ты подглядывал, когда я смотрел на гусеницу, которую тащили муравьи.
И я вспомнил, как Минога зажгла костер неблагополучия и исчезла в брызгах, и как Витька смотрел на гусеницу, и как он потом сказал женщине в темноте: «А кто будет провожать нелюбимых?»
— Я смотрел на свою гусеницу, а не на твою, — сказал я. — Короче, в чем открытие?
— Муравьи тащут гусеницу к муравейнику… — сказал он. — Как ты думаешь, почему они ее дергают в разные стороны?
— Потому что ума нет, — говорю. — Догадались бы тащить все в одну сторону — тащили бы быстрей и не тратили бы сил попусту.
— Ты так думаешь?
— А ты не так?
И тут он сказал простое и удивительное:
— Если бы муравьи все тянули в одну сторону, гусеница вообще бы не сдвинулась.
— Почему?
— Потому что они тащат не по заранее проложенной дороге, а через буераки и колдобины… Если бы все тянули в одну сторону, то гусеница застряла бы у первой травины… Тащить в одну сторону можно, только если предварительно проложена дорога. А если дороги нет, то надо дергать именно в разные стороны. И тогда если гусеница упрется в препятствие, которое погасит усилия тех, кто тянул прямо, то именно те, кто тащит вбок, сдернут гусеницу в сторону, и она обогнет препятствие. Но так как цель у всех одна — муравейник, и они знают, где он, и все хотят туда, то все усилия все равно приведут их куда надо.
Мы сидели, притихнув, и думали. Выходило, что он прав. Элементарно прав. До смешного. Ай да муравьи! А мы их кретинами считали и хотели учить заносчиво.
— Допустим, — сказал я, — это наблюдение… Так в чем же твое великое открытие?
— В том, что в светлое будущее тоже не проложена дорога… Поэтому если у людей разные цели, то «гусеница» ни в какое светлое будущее не попадает. А будет очередная драка. Если же у людей одна цель, но все действуют одинаково, то «гусеница» тоже туда не попадает, потому что все упрутся в первое непредвиденное препятствие… Если же все будут действовать по-разному, но будут иметь единую цель, то «гусеница» туда попадет, потому что будет огибать неожиданные препятствия… Потому что «принцип гусеницы» есть способ добраться до единой для всех цели… А не драка за кусок или тупо упереться всем в неведомую травину.
Все молчали. Ветра не было.
— Если мы не догадаемся, как себя вести, то с человечеством случится ужасная история, описанная в английской песенке, которую перевел Маршак, детский писатель.
— Какая история?
— «Два маленьких котенка поссорились в углу… Но старая хозяйка взяла свою метлу… И вымела из кухни дерущихся котят… Не справившись при этом — кто прав, кто виноват».
Последнее было настолько серьезно, что каждый думал о своем, а все вместе — об общем.
— Старая хозяйка — это бомба? — спросил Генка.
— Да, — сказал Громобоев. — Гибель планеты.
Страшный суд уже был в войну выигран, но воскрешение из мертвых, видно, придется, как и все на свете, делать собственными руками.
Что ж, подергаем каждый в свою сторону, имея общую цель.
Позади мертвая, ядерная, дерганая злоба, но впереди встает живая, ласковая заря, с перстами пурпурными Эос.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Пункт встречи
Глава пятая Синица и журавель
Великое людей содружество
Впервые стало намечаться.
Асеев31
Человек рано или поздно начинает думать: зачем живу? Не как жить, а — зачем?
Гонит от себя эту мысль — уж больно она неудобна и требует перемен в твоей жизни, а перемены часто разрушают то, что есть, и ничего не гарантируют. А как знать, какая перемена Добро, а какая Зло? И как быть?
Гонит человек от себя эту мысль, а она приходит. Заполняет он чем-то свою жизнь, а она приходит: зачем я живу?
Говорят, будто в трезвом двадцатом веке эта мысль чаще приходит русскому человеку и есть всего лишь болезнь. Америка хочет разбогатеть, Азия — выжить, Африка — проснуться, а Европа жить спокойно. Что-то не очень верится. Но если оно и так, то временное это дело. И если мысль — зачем я живу? — наша болезнь, то это высокая болезнь и человечество ее не минует.
Говорят, лучше синицу в руки, чем журавля в небе. И каждый как-то решает: что лучше? Одни согласны с пословицей, для других все же лучше журавль, третьи считают — кому что, одним журавли, другим — синицы, четвертые хотят, чтоб каждому по журавлю и по синице. И никто не доволен.
А дело в том, что без журавля в небе синица в руке дохнет.
Потому что без высокого мотива поведения, который просвечивает сквозь нужды и помогает их вынести, освещает и освящает их целью, остается только короткий жизненный путь неистовой толчеи, среди которой мечется человечек с зажатой в руке мертвой синичкой.
Жизнь состоит не только из того, что есть, но и из того, что будет, и ее надо поддерживать, чтобы она развивалась. Если ее не поддерживать, нечему будет развиваться, если ее не развивать — нечего будет поддерживать.
Это только в голове их можно разделить — поддерживание жизни и ее развитие. В реальной жизни их не разделишь. Нельзя вначале поддержать жизнь, а потом решить, что пора уж и развивать, или наоборот — сначала развивать, а потом заняться ее поддержкой. Все происходит в одно время, знает об этом человек или нет, согласен или не согласен. Машину можно выключить, потом включить, а выключенное живое — умирает.
Это только разделение труда привело людей к тому, что одни добывают продукт, а другие сочиняют перспективы. Но и теперь человек-рука и человек-мозг существуют только в теории, на самом же деле это просто инвалиды и к «целому» человеку предстоит еще вернуться.
Но долог этот путь, а жизнь коротка, и человек нет-нет да и завопит: зачем я живу, и неужели жизнь — это черточка, тире на памятнике между годом рождения и годом смерти моей?
Жалкий отрезочек пути, где более или менее понятны причины и следствия тире — вот и вся твоя дорога. Ни более отдаленных причин, ни более отдаленных следствий я не знаю, но неужели я как тень?…
— Дед! — крикнула Настя. — Клуб кинопутешествий показывают! Про океанские острова! Ты любишь!
— Настенька, — сказал Зотов. — Не кричи… Тебе нельзя.
Она улыбнулась, большеротая, потом сомкнула губы, потом снова улыбнулась, как будто она таитянка.
А там на островах, над хлябями, голос диктора разносится, отделяет землю от неба…
«…Сегодня жена мастера Аюна намекнула ему, что неплохо бы скорей закончить птицу Гаруда, чтобы можно было ее продать на ярмарке и на вырученные деньги починить крышу. Но мастер Аюн сказал ей: „Ты видишь, что птица Гаруда еще не окончена?“ И снова погрузился в размышления. По всему видно было, что починка крыши волнует его меньше, чем окончание птицы Гаруда…»
— Бедный Аюн, — говорит Зотов, — оказывается, и у них так.
— Дедушка, дедушка… — бормочет Настя.
И он слышит благоухание ее волос, тонких, как летящая паутина осеннего сада.
Грузчики топают подкованными сапогами, вытаскивают из квартиры библиотеку, собранную за полтораста лет и состоящую из книг, написанных за две тысячи лет. А в тех книгах слова заключают мысли людей за бездонное количество лет.
Этой библиотеке стало тесно у Зотова, и книги везут в дом, который есть начало несчастий его жизни и ее счастливый венец.
Потому что венец это начало жизни духа, а не окончание, и венчают на царство и на свадьбу, надеясь на мудрое и счастливое продолжение.
«Я, Зотов Петр Алексеевич, восьмидесяти пяти лет от роду, по философским убеждениям материалист, хронист и оптимист, гляжу на ослепляющий венец своей жизни, и слышу благоухание волос, и снова догадываюсь, что я прав.
А грузчики топают ногами — потише, ребята, потише, жизнь перетаскиваете, а не транзисторы».
— Дед, ну дед… — говорит Настенька.
На стене висит старое зеркало.
Зотов глядит в это зеркало и радостно думает: «Я дурак, слава богу, значит, еще жив, и вовсе не пора умирать».
В жизни нет пустяков, а есть жизнь. Из двух клеток родится человек. А если уж и он пустяк, тогда можно закрывать лавочку.
32
В пятьдесят втором году окончил Генка институт — Клавдия пир горой. Собрались у них в Измайлове выпускники песни орать и по последней пропустить перед разлетом по белу свету, и нас, родню, вниманием не обошли.
Ну, потолкались мы среди них, подурачились, как умели, попели песню про кузнечика зелененького — коленками, коленками, коленками назад — и про чемоданчик: «а это был не мой чемодан-анчик». Немому стало нелюбопытно, и он двинулся с вечерухи, и Зотов с Витькой за ним. Таня спрашивает:
— Куда это вы?
— Продышаться.
— Мама, все в порядке, — отвечает Витька Громобоев.
А погода сказочная голову кружит, из мокрого леса запахом арбузов тянет, ветерок легкий, вечерний, а Генка-балбес песни поет: «Тзер из тзе герл ин тзе харт ов Мериленд», в переводе значит: «Есть девушка в сердце штата Мериленд» и песню «Мери Лу» неизвестно про что — видно, тоже про любовь. А где она у него, любовь? Жена его — Оля-теннисистка на Немого смотрела, а он на бутерброды под названием «тост».
Витька спрашивает:
— На Олений пруд?
— А как же! Куда же тебе еще? Думаешь, не помню, как ты за купальщицами подглядывал?
— Нет, — говорит. — Только за одной. Но теперь там меня Сапожников дожидается. Мы сговорились.
— Зачем это?
— Он мне нужен.
Нужен так нужен.
Они сразу отыскали — бессмертный Анкаголик песню орал, а Сапожников, радостный почему-то, когда подтягивал, а когда на небо глядел.
— Этот слущщай был вы городи Риме, — поет Анкаголик. — … Там служил карыдинал маладой… Днем абедыню служин оны во храме… По нощщам на гита-ри играл…
— Где ты его подхватил? — спрашивает Зотов.
— Сам прилепился, — отвечал Сапожников.
— Мелкий дожжик прошел в Ватикане… Собралыся карыдинал по грыбы… Вот приходить он к римыскаму папи… Папа-папа! Мине отыпусти!
— Пошли, что ли? — поднялся Сапожников. — По грибы… Я теперь большой специалист по грибам.
— Ну что? — спрашивает Громобоев. — Я так понимаю, что ты ответ получил?
— Идите одни, — говорит Анкаголик. — Погода хорошая, а у меня еще есть. Немой, хочешь?
И вышли они на бывшую Владимирку, давно переименованную в шоссе Энтузиастов.
Сумерки. Ни машин, ни велосипедистов. Машины по дачам разбежались, велосипедисты по вечеринкам.
— Что за ответ? — спрашивает Зотов. Сапожников смотрел на него с глубоким интересом.
— Понимаете, — сказал он. — Если живое — это не мертвое…
— А что? — удивился Зотов. — Есть сомнения?
— А как же? Говорят, что если мертвое вещество долго перебалтывать в колбе или, к примеру, кипятить, то получится живое.
— Получится суп, — говорит Зотов. — Или уж сотворилось у кого?
— Пока что только у господа бога, и то по слухам — взял прах, дунул и оживил. А академики все еще кипятят.
— Ну ладно. Давай объясняй по-своему.
— Если живое — это не мертвое, — сказал Сапожников, — то, значит, у живого все другое, и значит, законы другие и искать их надо по-другому, чтобы по-другому ими пользоваться… Нужен какой-то иной подход… Живое хочет, а мертвое — нет. Может быть, окажется, что главное отличие — все неживое вращается, а живое нет. Тянется к чему-то. И тогда причины у неживого — позади, а у живого — впереди.
— Да уж. Это точно. Тянется, — сказал Зотов.
Они все втроем — Зотов, Сапожников и Громобоев — уходили все дальше от Клавдии с дохлой синицей в руке, ища журавлей, которые не прилетели еще.
Посвежело. С шоссе унесло пыль.
— Обратно, что ли? — спросил Зотов. — Как бы дождь не хватил.
— Нет, — сказал Громобоев. — Дождя не будет.
У Громобоева было удивительное свойство — когда с ним говорили, то вспоминали, что он есть. Как будто он истина, которая под носом, но ее мешает разглядеть чванливо задранный нос.
В поте пашущий, В поте пишущий. Нам знакомо иное рвение. Легкий огнь, Над кудрями пляшущий, Дуновение вдохновения —сказал Сапожников.
— Это женщина сочинила, — говорит Зотов. — Я читал.
— Марина Цветаева, — сказал Сапожников.
— Тебе так не сочинить, — сказал Зотов.
— Другой бы спорил, — сказал Сапожников. — А знаешь, я письмо Сталину написал.
— Как это? — спросил Зотов.
Сапожников, конечно, понимал, что самому Сталину это письмо читать недосуг, может, кто из помощников в двух словах доложит, но и это вряд ли. Возможно, перешлют его на консультацию к специалистам. И тут уж хочешь не хочешь, специалист должен ответить по существу, получив сапожниковское письмо из такой инстанции.
Ну а дело в следующем.
Академик Павлов открыл у человека две сигнальные системы. Первая — зрение, слух и прочее, вторая — заведует речью. Сапожников додумался до третьей. Она, дескать, заведует вдохновением. Что такое вдохновение — не знает никто, но что оно особенное состояние, ни на что другое не похожее, — может подтвердить всякий, с кем это случалось. Ну и приводились в письме цитаты — от Пушкина до Менделеева, от Шопена до Авиценны. А главное, в этом состоянии что ни делает человек — все получается богаче и крупнее, чем без оного. И стало быть, надо это состояние изучать, и выращивать для человечьего интереса и пользы.
Написал Сапожников подробное письмо и послал.
А через месяц пришел ответ из Академии наук, подписанный членом-корреспондентом. Письмо-ответ было тоже длинное, но сводилось к следующему: во-первых, третьей сигнальной системы не может быть, потому что у Павлова их всего две, а во-вторых, мысль о третьей сигнальной системе не нова, ее высказывали академики Быков и Орбели, но после критики ученых они от этой мысли отказались.
И Сапожников понял, что дело в шляпе. Во-первых, потому что, поживи Павлов дольше, он открыл бы и третью сигнальную систему, поскольку к этой мысли пришел Быков, ученик именно Павлова. А ежели кому-то после смерти Павлова открывать новое стало лень, то это ихнее личное дело и к природе и науке отношения не имеет. А во-вторых, если такие экспериментаторы, как академики Быков и Орбели, к этой же мысли пришли, то, стало быть, у них для этого были основания не умозрительные, и, стало быть, для дальнейшего изучения открывается экспериментальный простор.
А больше Сапожникову ничего и не было нужно — немножко поддержки и догадка о том, что он не вовсе болван. А вдохновение Сапожников, по слухам, научился вызывать у себя по желанию. А более ничего и не нужно. Так как выяснилось, что в этом состоянии что ни делай, все к лучшему. И значит, мысль Пушкина, что гений и злодейство несовместны, подтверждается экспериментально. А больше ничего и не надо.
И безответственный Сапожников долго ликовал — есть, есть вдохновение, природное свойство человека, не то забытое, не то неразвитое, есть вспышки красоты и истины, есть природное вдохновение, при котором что ни делай, все к лучшему.
Что же касается члена-корреспондента, который ответил Сапожникову насчет вдохновения, то он оказался большим специалистом по грибам.
Последнее обстоятельство почему-то больше всего обрадовало Витьку Громобоева, который щелкал сапожниковскими подтяжками, хохотал и вел себя крайне несерьезно.
— Уймись… — говорил Зотов, прикрывая глаза от летящего и крутящегося под ветром песка. — Уймись!
Но Громобоев не унимался, ветер выл в горние трубы, песок летел, и Зотову с Сапожниковым трудно было даже стоять на ветру, на шоссе, а ведь надо было еще идти.
Однажды Зотову пришло в голову: кто такой устаревший? Это кто делает то же самое, когда пора уже делать другое. Устаревший — это автомобиль, который едет прямо, когда дорога завернула вбок.
Устарели два тысячелетия потому, что идет третье. Вот и все.
Деление на тысячи, конечно, условное, но устаревание безусловно. Устареет и третья тысяча лет.
Не Разум устарел, не Вера, а их отношение к творчеству.
Их отношение к творчеству уже сейчас глубоко провинциально.
33
Таня умерла… Таня умерла… Таня умерла…
Пятьсот лет назад родился Леонардо да Винчи, и недавно человечество справляло его юбилей. Но и он не придумал, как не умирать.
Даже когда букашка на земле умирает, меняется что-то на земле, меняется…
…Я внес Таню домой и уложил на диван.
— Кто тебе сказал?… Лежи, лежи…
— Клавдия.
Я вспомнил, как в саду еще услышал: Таня на кухне вскрикнула, как выскочил красный Генка, как Оля села на гамак и малолетний Санька наяривал морковку.
— И ты после… еще возилась с ее посудой и супчиками?
— Она меня пожалела, Петенька… а ты не пожалел.
Я пиджак скинул, галстук, ботинки. Таня говорит тихо-тихо:
— Петя, распусти мне волосы… Петя, Сереженька наш убит в сорок первом году. Клавдия сказала, что ты извещение хранишь…
— Она сука, — сказал я и задохся. — Сука гнойная…
— Она меня пожалела, — говорит Таня. — Почему ты не сказал, Петя?
Пожалела, думаю, она же ее убила!
— Не смог, поверь… Я сам узнал недавно…
— Нет, Петенька, ты узнал в сорок третьем еще, — сказала Таня. — А я только сейчас.
Сколько лет я один маялся знанием страшным, за Таню боялся, врал, что, может, в плену где-нибудь в иностранном мается. Думал, так и будет потихоньку смиряться, а вышел я — злодей.
— Ты кури, Петя, кури… Петя, хочешь я тебе семечек куплю… как тогда, в двадцать первом?…
Что я отвечу, если я злодей для нее?
— Опять вышел злодей…
— Нет, — говорит Таня. — Ты хотел как лучше… И ты меня жалел и берег… Только от этого моя война затянулась… Вот и моя война закончилась…
И Танечка сказала:
— Пойду Сережу искать, сыночка моего. Может, и встретимся. Может, я перед ним виновата…
— Ни перед кем ты не виновата, — говорю. — Все перед тобой виноваты… И я первый… Не уходи, Танечка.
— Я тебе о Марии скажу…
— Таня!
— Видно, ее права наступили… Намучилась она.
— Таня… Таня… Таня…
— И себя не мучай… Не надо… Мы счастливо вдвоем начинали… Всю жизнь вместе… И прощай…
— Таня! — крикнул я. — Таня!
— Что?
— Прости! — говорю.
— Что простить, Петя?
— Прости мне меня…
Бабушка потом меня увела и передала деду.
Если бы после смерти Тани я не получил письмо от Марии, я бы тоже умер.
Дело не в содержании самого письма, а в том, что я заспорил, занегодовал, — в общем, начал жить.
Не знаю, как другие, а у меня так: как начнешь отвечать за кого-нибудь, там и сам спасешься.
Оказалось, Мария жива и все про меня знает.
Вот из этого письма: «Слова „нищие духом“- все бестолково понимают эти слова, будто у этих людей нищенский дух и они убогие, серые люди. А все наоборот. Они ведь не духовно нищие, а дух им велит быть нищими. То есть их духовный принцип — не быть богачами. Потому что богатство растлевает. Дух этих людей богатства не приемлет. Им богатство и на дух не нужно. Неужели не понятно?!»
И далее она писала:
«Философией веру и не докажешь и не опровергнешь. За философией опыт и умозаключения. А они все увеличиваются числом и меняются, вырастая.
Либо верь без доказательств, либо не обижайся, если доказательства со временем окажутся ложными».
Маша, Мария… вот ты какая стала за свои полвека жизни без меня. Нет. За тридцать шесть лет. Точно. С 1916 года. Точно.
Я ей все же ответил:
«Вся церковь основана на страхе. Она переносит свободу в другой мир. А земной мир для нее — испытательный полигон, где смерть отбраковывает ей неугодных».
Она мне на это:
«Не будем о церкви. Церквей много. Но религия если и бегство, то бегство от страха».
И я ей на это:
«Машенька, не каждая религия есть бегство от страха. Может быть, она только твоя такая. К примеру, старая Германия, когда у них бог Один был. Тогда считали, что рай — это где всю дорогу рубят друг друга, только не умирают. Тебе такой рай нравится? Это же истерика».
Из этого видно, что Зотов опять неизвестно почему уцелел.
Его друг бессмертный Анкаголик теперь живет в доме напротив. Дом полукаменный, двухэтажный, частично обгорелый при пожаре в незапамятные времена. Пьяница он теперь — буйно-жизнерадостный, и как только слышит шаги по тротуару, скатывается по лестнице и предлагает выпить по сто граммов за здоровье тех, кого нет с нами.
От него спасаются кто как может.
Зотов было попал в его объятия, но его увел дед.
— Рассчитываешь до ста четырех прожить? — спросил Зотов.
— Как положено, — сказал дед.
И тогда Зотов написал Марии очевидное письмо.
«Бога не видели ни вы, ни мы. И вы и мы видели только церкви. Но и вас и нас тянет к чему-то высокому, и мы хотим иного.
Поэтому я не стану препираться о том, что ни доказано, ни опровергнуто быть не может. Но я хочу задать тебе один вопрос, Маша, любой ответ на который годится, потому что сблизит нас, так как иного выхода у нас нет — и это главное.
Если дела идут не так, как нам хочется, и льется кровь и злоба не уменьшается ни от религии, ни от науки, то этому даже у вас объяснение одно: пути господни неисповедимы. И как должен поступать человек, неизвестно, но человек должен как-то поступать, чтобы не быть уничтоженным. И если уже две тысячи лет бог не показывается, то это потому, одни из вас говорят, что надо все вытерпеть, а другие — что Он покинул нас с отвращением.
Но если пути его неисповедимы, то почему не допустить и третье? А вдруг он считает, что мы достигли того уровня, когда сами сможем установить на земле закон добра? Кто может доказать, что это не так, если пути его неисповедимы? Доказать это некому.
Но если это допустить, тогда получается, что наступили времена, когда даже для верующих вера в человека и есть вера в бога.
И тогда наступит век, когда люди станут радоваться неравенству равных, потому что оно будет не для насилия над остальными, а на пользу им.
И если ты веришь, что воля есть божье достояние и подарок человеку, то вера в людей и есть высшее проявление веры в бога, который считает, что теперь мы и сами выпутаемся. И еще раз спрашиваю: кто может доказать, что это не так?
И потому не надо мешать мне быть мной, а тебе быть тобой.
И если люди хотят узнать, кто они, — всмотримся. Мы отличаемся друг от друга лишь как ноты в строке.
Возвыситься можно только для равенства. Никакого другого возвышения нет. Все дело, до какого равенства возвыситься — до равенства убожества или до равенства великого духа».
И она ответила:
«На другой год приезжай. Поедем в Киевскую лавру. Подумаем окончательно. Мария».
«Когда Таня умерла, был такой ветер, что я понял, скоро приедет Громобоев, и он явился серым днем похорон.
Дед сказал Витьке Громобоеву:
— Уведи его.
И мы пошли пешком и шли долго. И пришли на Пустырь, окруженный армией бульдозеров в сером дыму, и бульдозеры дожевывали старое место.
И там я отыскал старое било — рельс на проволоке, еще с войны.
Рассказывали мне, что я бил в рельс булыжником, окровенил пальцы и одежды, безобразно не помнил себя и орал:
— Человек умер!.. Человек умер!..
И на меня смотрели бульдозеристы и не трогали».
34
Формальная логика, как и математика, это надежда, что допущенное обобщение пройдет безнаказанно. 1+1=2. А еще Асташенков знал, что стакан сахару и стакан кипятка дадут полтора стакана сиропа, а не два. А уж что касается живого, то один мужчина плюс одна женщина вообще неизвестно чему равняются — иногда семья, иногда враги, а иногда и банда.
— Что вам нужно? — спросила Клавдия. — Она вам нужна? Вот и возьмите ее себе. А нам она не нужна. А почему не нужна — должны сами понимать.
Итак, Оля переедет к нам. Я поглядел на Немого. Немой веселый и свистит.
— Не свисти… Денег не будет, — сказала Клавдия, уходя.
— Стой! — крикнул дед.
— Что вам нужно?
— Ключ оставь, стерва, — сказал дед. Клавдия вынула ключ из сумочки и швырнула на пол. Немой поднял.
Итак, Олечка будет жить у нас. И Санька, ее сын, мой правнук.
Санька умный мальчик, твердый. Во втором классе отличник по арифметике. Физкультурник. Клавдия не нарадуется, говорит, главное — здоровье и уметь считать. Поживем.
А потом был фарс развода, или драма пошлости — это на чей вкус.
Когда до Зотовых судиться очередь дошла, Петр Алексеевич голову в плечи втянул и только об одном думал — опозориться или нет, влезать во все, что ему на суде открылось, или все же в грязи не валяться? А пока он раздумывал в помрачении ума, судья-женщина из Анкаголика все и вытянула. Как он сюда на суд за нами проник и почему трезвый — есть вселенская загадка и тайна тайн, и Зотов перед ней с робостью отступил, однако на этом суде выяснилась Клавдина интрига, болотная и мерзко пахнущая.
Клавдия, оказывается, пришла разводить Генку-балбеса и Олю вовсе не из-за Немого, который любил Олечку безвинно и беззаветно. На это ей было наплевать — мало ли кто на чужую жену глаза пялит. А все как раз наоборот. Оказывается, перед разводом она подкинула Олю к нам жить в надежде потом Немого под подозрение приплести и на него сослаться. Да номер и не прошел. Анкаголик-то по любому навозному делу знаток и экспертиза, за день до Олиного переезда Немого к себе увел, растолковал ему что к чему, и Немой вовсе в деревню уехал. Да Клавдия об этом не знала. И когда на суде услышала об этом, то сказала, что вранье, мол. Но Анкаголик судье на стол справку — шарах! — из деревни, с места работы нашего Немого, и там число указано раньше, чем Олечка к нам приехала. Клавдии и крыть нечем.
— Есть документ из колхоза, — сказала судья. — И дата поступления на работу.
— Она за него замуж собралась! — шумит Клавдия.
А ей:
— Разберемся…
— Кто он по профессии? — спрашивает заседатель.
— Святой, — отвечает Анкаголик.
Судья засмеялась:
— А земная профессия у него есть?
— Разнорабочий.
Все опять засмеялись с облегчением.
— Как муж, по-видимому, неподходящий, — сказала заседатель. — И изменой не пахнет.
— А чем подходящий муж пахнет? — оживленно спросил Анкаголик.
И его, конечно, хотели из зала удалить, но он забожился, что будет тихий. А когда стали выяснять, из-за чего же такая мерзостная интрига, он все же среди людей просунулся и на весь зал:
— Клавдиному сыну загранпоездка светит, а такая жена им ни к чему.
— Какая? — спросила судья.
Никто судье не ответил, и она настаивать не стала, а только потупилась да вздохнула. А Генка от стыда за всю картину сказал от полной безвыходности:
— Да плевал я на всех вас…
— Проплевался, — говорит Зотов внуку. И Оленьке: — Не горюй, доченька.
Она кивнула.
Клавдия в бешенстве, идиотизм на идиотизм наехал, грязь на грязь, туман на туман — загранпоездка у Генки, похоже, треснула, развела без пользы, и имущество постановили поделить.
— Пускай кольцо отдаст с надписью! — крикнула Клавдия.
Оленька тут же кольцо сняла с латинскими литерами и — судье.
— Что за надпись? — спросила судья. Оленька перевела с латыни:
— «Я скаковая блестящая лошадь, Но как бездарен правящий мною ездок».
Генка оттолкнул Анкаголика и выскочил из зала.
— Ездок… — сказал Анкаголик ему вслед.
Немой дожидался нас на улице.
После развода он пришел проститься с нами, с Олей и Санькой-малолеткой. Но Оли не было, погода сорвалась внезапно ледяным ливнем, где-то прорвало трубы, и из крана в кастрюли даже вода не капала, а бабушка хотела варить картофель.
Бабушка молчаливая, а внук ее Афанасий и вовсе Немой. И бабушка открыла Немому, почему он зло победил. Он бессловесный, а против него бес словесный — нуль без палочки.
Дед хохотал так, что перехохотал погоду, и она изменилась к лучшему и потеплела, и из крана в кастрюлю потекла вода.
И в той воде бабушка сварила картофель в мундире, и мы чистили картофель краем вилки, и было желтое подсолнечное масло, и белая соль, и черный хлеб, и торная дорога по нашей зотовской тропе, где даже у бессловесного больше сил, чем у беса словесного, а уж словесные-то Зотовы любого беса переговорят, и потому не столь важно, какие ты слова говоришь, а главное — кто ты?
Бедная моя Таня…
А Немой наутро уехал из Москвы под Владимир в деревню, где жила Мария, и там он громил в работе свою силу, но она не убывала, а прибывала.
Генка же напросился и уехал на целину.
Это надо же!
35
Вы когда-нибудь читали мемуары? Читали.
А чьи? Вы когда-нибудь читали мемуары плотника? Не плотника, ставшего начальником строительного управления, а плотника, ставшего хорошим человеком? А мемуары плотника, не ставшего хорошим человеком? А мемуары портного, а вагоновожатого, а жены-домохозяйки, а, страшно сказать, мемуары чистильщика сапог? Да нет, конечно. Мемуары пишут либо исторические лица, либо лица, знакомые с историческими лицами.
Кто есть лицо историческое? Это лицо, влиявшее на исторические события. Все остальные лица — неисторические.
А что есть историческое событие? Если отбросить ученые слова, то это когда жизнь шла все так, так, а потом вдруг пошла эдак. Только «эдак» — и есть историческое событие, а «так, так» не есть историческое событие, потому что вообще не есть событие. Если, конечно, не считать самым большим событием в истории то, что вообще существует жизнь.
И вот любопытно было бы узнать — представляет ли интерес сама жизнь? Или она представляет интерес, когда она сламывается и выкидывает номера?…
Короче, чем дальше Зотов жил, тем больше его интересовали промежутки между историческими событиями, не Ниагары, так сказать, а реки, из которых Ниагара получается.
Конечно, на Ниагаре можно поставить движок, и будет полезная электростанция. Но полезная для посторонних граждан, а для самой реки, а также для рыбы, которая в реке живет, даже иногда вредная.
Можно подумать, знаете ли, что Зотов был ужас какой консерватор. Вовсе нет. Просто чем дольше он жил, тем больше понимал, что кесарево сечение не есть лучший способ родов, применяется лишь в случаях аварийных, пытается сохранить жизнь матери и ребенку — и именно этим отличается от смертоубийства. А также если бутон лапами раскрывать, то это не будет для бутона качественным скачком. Потому что цветка не будет, а будет труп.
И революция от контрреволюции отличается тем, что революция — повивальная бабка, а контрреволюция — убийца. И потому и научно-техническая революция не тогда, когда рыба дохнет и цветы вянут, а когда рыба и цветы размножаются и плодятся. Это относится и к человеку. Потому что он тоже живое, знаете ли.
Немой приезжал, когда у Олечки дальняя родня нашлась.
…Бывает, запах, краски заката или рассвета сквозь зелень, глоток воздуха вдруг кинутся на тебя старой печалью, и вдруг понимаешь: что-то такое простое и нежное от тебя ушло, ушло, ушло, и люди, и места, где бывал, и дом, и осталось только в памяти, что уже никогда… никогда…
Да что же это такое, господи! Куда же мы уходим? От родных, близких нам людей, и они от нас уходят… Куда же мы уходим?
Ушла от нас Оля-теннисистка, ушла и Саньку забрала. Увела. Но разве остановишь? Нашлись родные люди и хотят быть вместе.
И остались в доме одни старики. Петру Алексеевичу уже тоже шестьдесят. Молодой ишшо. Деду с бабушкой на тридцать четыре больше.
И Немой.
Он всю жизнь немой, а тут вовсе замолчал. Зотовы поняли — замолчал. Как это можно понять, что немой замолчал, — не знаю.
Бабушка сказала:
— Надо Немого опять отпустить. Не может он здесь. Сила его задушит.
— А управимся одни?
— Все ж таки нас трое.
Сказали Немому. Он надел кепку и ушел.
А потом от Марии письмо пришло, и Зотовы узнали, что это Немой разыскал Олечкину родню. Сам отыскал. Вот зачем приезжал, вот какие у него были дела.
…Что же ты с собой наделал, братишка мой? Олечка ушла от нас. Годы отпустила тебе судьба, братишка мой, чтобы ты решился. Но ты решился лишь на разлуку…
Как понять тебя, брат мой Немой?
36
Пасмурная погода стояла, когда Зотов с Олей, Немым и Марией поехали в деревенские места.
«„Деревенщина моя золотая, бриллиантовая“, как сказала Маше цыганка во Владимире, откуда мы должны были на попутной добраться в село, старое, родовое, откуда даже еще и не Зотовы, а Изотовы произросли. И я знал, что там на старом кладбище схоронены здешние предки Непрядвиных, и там вдали муромские леса, и там село Карачарово, откуда Илья Муромец.
Серое небо, тихо, листва шелестит. Хорошее село, близко от шоссе, тем и спаслись, когда трудодни не кормили. Председателя того, знакомого, на войне убили, завхоза, который Витьке гуся Ага-гу подарил, тоже… И знакомых в селе никого, кроме движка, который с тридцатых годов чиненый-перечиненый, а электричество давал, но и ему приходят последние дни. Осенью к городской подстанции подключат».
Ходики тикают, Немой печку топит. Оля сидит в красном углу и на Немого смотрит.
Приходил чернявый бригадир по прозвищу Яшка Колдун. Ростом с Зотова, а на Марию снизу вверх смотрит. Воспитанник ее из детского дома военных лет. Так и остался тут и Олечку помнит. Мария по улице идет, ей бабы кланяются.
— Уважают, — говорит Зотов. — Машенька, ты никак начальство здесь?
— Нет, — смеется.
Яшка Колдун сказал: «Бабы верят, когда Мария больного ребеночка на руки берет — ребеночек выздоравливает».
— Живи тыщу лет, мама Мария, — сказал Яшка Колдун. — А я возле тебя… А кто тебя от нас уведет, тот мне враг по гробовую доску…
— Нет, — говорю, — Яшка. Не трудись гневаться. Машенька со мной не поедет… Она меня любит…
— Не пойму я вас.
— Я тоже, — говорю. — А кто она у вас?
— Телятница. Лучшая в округе. Она всю жизнь с детьми.
— Это я знаю. Она и Немого взрастила, и Олечку.
— И меня… К ней дети идут.
— А от меня бегают, — говорит Зотов. — Как сначала пошло, так и посейчас.
Сидели возле церкви на камне, на плите надпись: «Непрядвинская».
— Род старый, — говорит Зотов. — И не осталось никого.
— Судьба побила.
А Зотов думает: «Какого дьявола! Почему они не вместе? Геройская душа, брат мой бессловесный, и Оля, женщина нежная и прекрасная…»
Тут служба кончилась. Мария вышла и говорит:
— Ты, Яша, иди. Нам поговорить надо.
Яшка Колдун ушел, ревниво оглядываясь. Галки на ветлах дурака валяют, движок постукивает.
— Ну, пошли бумаги смотреть, — сказала Мария.
— Какие бумаги?
— Оля велела тебе отдать. Это бумаги ее дяди-профессора. Сохранились.
Зотов ахнул:
— Как они к тебе попали?
— Попали, — ответила Мария.
Дотом в избу дали свет. Олечка и Немой в углу рядом сидели. Мария вышла.
— Афанасий, — спрашивает Зотов. — Это ты Марии профессоровы бумаги принес?
Разве у него добьешься?
Мария принесла тетрадь толстую, в платок завернутую. Протянула Оле.
— Петр Алексеевич, это вам, — сказала Оля.
Зотов открыл. На первой странице, зелеными чернилами: «Структурный подход к производству и аграрному вопросу. Наброски».
— Петя, что с тобой?
А я и сам не знаю, что со мной.
— Олечка, — говорю. — Тебе дядя не говорил, что был расстрига?
— А что это? — спрашивает она.
— Бывший священник! — Это я так.
Мария вышла. Спрашиваю:
— Родные мои… Вам вместе постелить?
Оля посмотрела на меня огненно, побелела и кивнула. А Немой мотнул головой — нет, потом еще раз мотнул: нет. И вышел.
Олечка дрогнула, уронила лицо на руки. Вошла Мария, принесла мне подушку и одеяло.
— Не годится так, Петя, — сказала. — Ты брата не знаешь. Пошли, Олечка.
И они вышли. Я до утра читал.
Главная мысль Агрария-расстриги: «Поле живое. Не в переносном смысле, в буквальном. В нем живности от микробов до червей и прочее — 300 — 400 кг на кубометр почвы. И поэтому зерно посеять — это не гвоздь вбить в доску, а жильца поселить в общежитие».
Эта мысль показалась Зотову поразительной, но не по его ведомству. А дальше Аграрий ставил вопрос так: «Чем отличается план от проекта? — И отвечал: — Тем, что о проекте нам известно все, а о плане плохо известно, кто его будет выполнять». То есть у него получалось, что даже если замечательно спланировать, чего и сколько выпустить, то результаты все равно неизвестны, так как все — ВСЕ — зависит от тех, кто будет эти планы выполнять. И в конечном счете все упирается в исполнителя, т. е. в субъективный фактор — в «хочу», «не хочу».
То есть, чтобы план был выполнен, огромные массы людей должны хотеть его выполнить даже тогда, когда личной нужды в конкретном продукте они не испытывают.
Но план не может зависеть от прихотей отдельных людей. Потому что в отличие от рыночной экономики, где каждый выпутывается как может и общее количество товара возрастает от предприимчивости, инициативы и даже жадности конкурентов, то в отличие от рынка — нарушение плана безынициативностью исполнителя — приводит к экономическому хаосу, от которого страдают все — и правые и виноватые.
Вместе с тем преимущества плана перед рынком очевидны. Вместо конкурентной борьбы, безработицы и войны — согласованные усилия, когда продукта производят столько, сколько надо для потребления.
Значит, на стороне рынка — инициатива, на стороне плана — согласованность. Поэтому вопрос стоит так — как вызвать инициативу, чтобы она привела к согласованности? — т. е. та же мысль, что и у Громобоева в его «гусенице».
А значит, вопрос стоит так: на какой базе совместить согласованность с инициативой. И отвечает: на базе артели.
Артель — это группа лиц, заинтересованных в выполнении единого заказа, которая сама делит общий доход между собой, как им надо.
«В этом случае личная инициатива совпадает с согласованием усилий. В этом случае вопросы дисциплины, мастерства, качества и количества продукта решаются сами собой. Поскольку в выполнении заказа материально заинтересованы все сотрудники.
Т. е. возникает личная инициатива без конкуренции и согласования усилий без скрытого саботажа, формализма, халтуры, т. е. возникает то, что мы называем товариществом, которое и является конечной целью человеческой деятельности».
Сначала Зотов был разочарован и разозлился даже — такая застарелая муть!.. Вместо государственного размаха какая-то артель. Но когда сверкнуло слово «товарищество», он затормозил. Товарищество — это магия, тут шутки прочь и ухо топориком. Тут нравственность общая не делится — каждому по огрызку, — а сама складывается из норовов, где каждый отыскал свое место, как нота в строке.
Давняя идея Агрария, только теперь он сливал ее с экономикой.
Ну а как же эти артели приведут к плану? Отвечает: единая неразрывная цепь артелей, где конечный продукт одной из них есть начальный продукт для следующей.
Ну а разве сейчас не так? — думает Зотов. Одно учреждение строит дорогу, другое по ней ездит на свою работу… Верно, отвечает Аграрий, только так, да не так.
При государственной собственности на средства производства самый страшный враг — это халтура. Рынок сам регулирует — халтуру не купят. А в планировании? Как халтуру погубить? Госконтроль? Милиция? Воспитание совести?
Ну, допустим, за жуликами можно кое-как уследить, а за халтурщиками как? Работу сделал — заплати. Качество? С кем сравнивать? Покупатель не берет? Возьмет. Куда денется. Конкурентов нет. Люди недовольны? Ничего. Они на своих местах то же самое делают. Не ангелы. Мрачная картина. При общественной собственности страшнее халтуры нет ничего. Халтура общую собственность превращает в ничейную — хватай, ребята, — и любую собственность растащат, любую базу. Мрачная картина.
Что же он предлагает?
Он предлагает, чтобы артель получила зарплату не прямо от государства, а от заказчика, т. е. от другой артели.
Это как же? А так. В наших условиях артель не частная лавочка. Средства производства государственные, т. е. дорожная артель ни материалы, ни транспорт не покупает, ей так дают, как колхозу землю. Но если зарплата государственная, то опять — как проверить качество?
Короче, если бы дорожная артель получала зарплату от того колхоза, мимо которого она строит дорогу, то все деревни были бы асфальтированы.
Иначе план может стать проектом, годным лишь для машины, — нажми, поехали. Мы ее сами сделали, в ней все известно — она неживая. А в человеке известно лишь, что у него есть потребности, желания, значит, надо искать способ вызывать такие, которые были бы направлены на выполнение общего желания согласованной жизни. И ее инструмента, т. е. плана.
Потому что социализм все же не самоцель, а материальная база для исполнения цели. А при халтуре любую базу растащат.
Почему вещь на экспорт делают лучше, чем на внутренний рынок? Потому что там халтуру не возьмут.
Вся беда в том, что мы производим работу для потребителя, а деньги за это получаем у государства. А как может государство проверить мою работу? Только по жалобе потребителя. А если бы я деньги получал от самого потребителя, то не халтурил бы как миленький, потому что в артели вся работа как бы на экспорт.
Короче — если бы зарплату артель получала от того, с кем заключила подряд, т. е. от другой артели, а не непосредственно от государства, то халтуры бы не было.
Потому что цепь артелей — это саморегулирующаяся система, живой организм, а не машина, которая ничего не изобретает, и если у нее задание повесить пальто на вешалку, то ей все равно, пустое пальто или в нем его владелец.
Сейчас казна финансирует предприятие, оно казне и отчет держит. Значит — неизвестно кому. А надо, чтоб предприятие финансировало другое предприятие — и круг замкнется.
А отчисления — в казну, она общая копилка и хозяин, ей и планировать, какое стране предприятие нужно, какой новый завод заводить, какое хозяйство — и под это дело, под этот объект деньги давать и собирать артель.
И сольются объективный план с субъективными хотениями, общая дисциплина с личной смекалкой.
И растет выработка, а халтура никнет.
Все деньги у казны с выработки. Других не бывает. Значит, если все артели связаны рублем, то все и заинтересованы впрямую. Значит, при этом методе инициатива человека — прямой доход казне. Потому что голова у человека так устроена, что он изобретает… Это его природное свойство. То есть производит больше, чем потребляет. И общая копилка растет, и можно планировать.
Короче. Он пришел к простому и поразительному выводу.
Чтобы сохранить и приумножить социалистическую собственность, надо использовать коммунистические стимулы. Ничто другое не сработает.
А коммунистические стимулы — это творчество, массовое, все проникающее и всеобъемлющее. А творчества директивами не добудешь, оно самодеятельно по определению и по природе. Когда человек свободен в пределах задачи, ему поставленной, он находит выход, потому что в артели ему — хорошо. То есть творчество материальное начинает становиться творчеством поведения. А это и есть товарищество.
Если этого не сделать своевременно, то общественную собственность перестанут считать общей, а станут считать ничьей. И если с воровством можно бороться законом, то халтура неуловима. А главный враг халтуры — развернуть инициативу в рамках поставленной задачи — то есть план.
В конце этих записей было написано: «На память…» А кому на память — фамилия ластиком стерта.
— Кому на память? — спрашивает Зотов Немого.
Немой протянул палец вперед и показал на Зотова.
Встретились, Аграрий, встретились, Сократ-расстрига. Земля, она — живая.
37
Одни говорят: «У хорошего человека много врагов». Если это правда, то, кажется, я человек так себе. Другие говорят: «У хорошего человека много друзей». И опять выходит, что человек я так себе. Но я не унываю, потому что одного у меня было много в моей жизни — товарищей. И мне этого хватало вполне, и я даже гордился этим, что у меня много товарищей, и даже считал, что в этом вся суть.
Друзья лезут в душу и ревнивые, как черти, а я этого не люблю. Такой мой норов. И отношения с ними чересчур зависят от настроения. А товарищ — это товарищ, и нету того гимна, которого бы я не спел товарищу. Но товарищам почему-то гимнов не сочиняют.
Друзей и врагов у меня было немного. Но зато они были особенные. По нашему взаимному выбору. И мы с ними не могли разлепиться.
О друзьях что говорить? Их не рассматривают ни в микроскоп, ни в телескоп, с ними дружат, потому что дружат. Это как любовь. А любовь начинается тогда, когда кончаются сравнения. Это Гёте сказал. Как классик велел, так я и поступаю. Зато врагов разглядывают. Лень объяснять почему.
И вот я заметил, что под всеми личинами, обличьями, масками и камуфляжем у меня всегда был один враг — спекулянт. Как у других, не знаю, а у меня — спекулянт, барыга.
На заводе у нас работал один мужчина, и теперь он мой враг. Не я ему враг, а он мне. И это надо записать.
Парень здоровый, красивый, последний год в комсомоле, усмешливый, ласковый, голова на плечах. И решил этот парень сделать почин. Собрание было в цеху, он выступил: «Грязно у нас, старики, стружки завал, окна копотью заросли, работать скушно… Может, разгребем, а?»
Вообще-то лень, конечно, но дело доброе. Собрались. Разгребли, стекла протерли-промыли. И правда, веселей стало. А как веселей стало — глянь, норму все стали выполнять. Без прежней усталости. Чего бы лучше? И парня заметили. Дальше. Парень на радостях норму перевыполнил на 2,6 процента. Опять хорошо. Лозунг повесили — равняйтесь на передовых. Годится. Стали равняться. По цеху устойчивые- 1,8 процента перевыполнения. Парня хвалят, ему хорошо, и нас хвалят, и нам хорошо. Он поднапрягся и еще полтора процента накинул. А нам норму увеличили… И так еще два раза… Все… Слава, конечно, хорошо, но люди на пределе. Дальше что?…
Дальше корреспонденты и бюллетени. Сначала бюллетени об очередной победе, потом бюллетени из районной больницы — болеть стали, люди не железные, запчастей нет.
Ему говорят:
— Остановись. Дело, конечно, передовое, но не каждый выдерживает. Есть люди и постарше тебя и помоложе…
— Да что вы! — говорит. — Перенимайте опыт. Молодых я сам подучу, а со старых какой прок? До пенсии дотянут, и ладно.
Ах ты, поросенок… И ведь не подкопаешься, не пожалуешься никому. Начальство- за него горой, портрет — на доске, квартира обещана, на плакате — равняйтесь на передовых. По шее, что ли, надавать? Не годится.
— Старики, — говорит, — вы на меня не серчайте. Я в себе силу чувствую еще процентов на девять.
— А дальше что?
— Не знаю, — говорит. — Что-нибудь придумаю. Резервы найдем. Почин есть почин. Стране продукция нужна.
Все правильно. Не поспоришь. А люди вымотались. Настроение хреновое. Чуют, какая-то липа здесь есть… На пределе человечьих сил не работа. Ведь не война.
— Зотов, а ты что скажешь?
— Продукция стране, — говорю, — нужна. Но рабочие еще нужней. Без рабочих никакой продукции не бывает. На износ работать — люди разбегутся. Слава богу, есть куда — хоть на целину, хоть на стройки.
Меня вызывают по начальству. И там Найдышев — ему износу нет, увлекающийся — говорит:
— Что ж ты, Зотов, против почина идешь? Наш завод на виду. А когда завод на виду — ему все в первую очередь. И авторитет парня передовика нам не роняй. Не позволим.
— Ладно, раз не велите ронять, не будем, — говорю. — Сила есть, ума не надо… А когда сила кончится, что тогда? Тогда как?
— А это уж не твоя забота… Твое дело держать высокие показатели.
— Ладно, — говорю. — Будем держать. Хозяин — барин.
— Ну зачем же так? — говорит новый директор. — Это действительно проблема будущего — как двигаться дальше. И мы о ней думаем. Зотов прав. Но и мы правы, Петр Алексеевич, — нельзя энтузиазм гасить.
— Да где он, энтузиазм? — спрашиваю. — Энтузиазм-то как раз и усыхает. Люди бояться начали. Энтузиазм, он как золотая рыбка, как зарвешься — враз у корыта затоскуешь.
Ну ушел. Иду в цех, соображаю. Ладно, думаю, а где выход? Неужели этот щенок меня, Зотова, токаря с бородой, обставит и честных работяг в глухой тупик загонит?… А навстречу мне бессмертный Анкаголик с обходным листом.
— Я, — говорит, — опять увольняюсь. Мне все одно. Идем, я тебе по старой памяти секрет покажу… А мне эта надрываловка до феньки.
— Пить надо меньше.
— Правильно говоришь. И передовик так же говорит… Гнать, говорит, анкаголиков. Они показатели снижают.
— Факт. А в чем секрет?
Пришли в цех. Он мне из сундучка достал резец и говорит:
— Вот секрет, вот оружие… Сражайся, Зотов, а я — пас.
Ну, разглядываю — резец как резец. Нет. Не совсем. По-чудному заточен. Будто тупой.
— Ну и что?
— А то, что при такой заточке можно и тринадцать процентов дать.
— Врешь!
— Нет, Зотов, не вру. Попробовал я, как по маслу идет. На меня за этот резец от «передовика» гонение. Он мою заточку поглядел и теперь меня ненавидит, как последнего гада.
— Ах, сука, — говорю. — Монополист вшивый. Ладно, — говорю. — Оформляй рацпредложение, Анкаголик… Все резцы переточим, а этому курицыну сыну фитиль вставим…
— Зря его несешь, — говорит. — Кто ж от своего счастья откажется? Ему квартиру дают. Он головастый.
— Головастый, — говорю, — это верно.
На другой день переточил я резец по-тупому, как у Анкаголика. Включил станочек, побежала стружка — железные кудри. Ну, блеск. На душе радость и злость. Готовые детали сами в горку прыгают. Перерыв.
— Объявляю почин! — говорю. — Перетачиваем резцы, ребята. С энтузиазмом…
Все с энтузиазмом переточили резцы, и с энтузиазмом включились в борьбу за повышение производительности труда, и, с энтузиазмом матерясь, перекрыли монополиста.
— Запомни, Зотов, — он мне сказал. — Запомни…
— Ну что? Что?
— Ничего… Я тебя сделаю… И твоего алкаша…
— И ты запомни, вражина… — говорю.
Грустно. Ему бы, дураку, обрадоваться, что жилы рвать не надо, что смекалку не остановишь, что на нее монополии нет, а он уже гнилой. И передовик он был, только когда сговорил нас в цеху прибраться. А потом тараканьи бега устроил. И теперь он мне враг. Обещал — на всю жизнь.
— Поплавок ты, — я ему говорю. — На чужой волне вознесся.
— Против жизни не иди, Зотов, — отвечает. — Жизнь есть борьба.
— С кем? — спрашиваю. — Со своими?
— Устарел ты, Зотов, — говорит. — Это в ваше время — стройными рядами… Сейчас время другое — материальная заинтересованность. А уж тут кто сильней. Тут лесенка. На одном конце слабый, на другом конце…
— …Гитлер, — говорю, — Адольф на другом конце. Мысль не нова.
— Ты мне политику не шей. На уравниловку теперь никто не пойдет…
— Это верно, — говорю. — Какая уж тут уравниловка? Одному хорошо, когда всем хорошо, а другому хорошо, когда остальным плохо. Какая уж тут уравниловка?
И теперь у меня враг. Ну что ты скажешь?
И тогда я пошел к директору и рассказал идею Агрария — государственный план, зарплата от заказчика и цепь артелей, где инициатива сливается с дисциплиной и выработка растет, потому что в товариществе голова работает изобретательно.
Но эти здравые Аграриевы слова тогда услышаны не были.
Потом почти обо всем этом догадаются другие люди и назовут это «бригадный подряд». И будут платить за урожай, а не за то, сколько раз по полю проехал: А тогда поиск устремился в запретные доселе науки генетику и кибернетику в надежде, что первая сама увеличит продукт без изобретательного поведения человека на полях, а вторая — сама спроектирует общий план, без изобретательности руководителя.
И на артель внимания не обратили.
Витька Громобоев приезжал. Два дня пробыл. О Немом велел не беспокоиться. Он у Марии в колхозе работает. Новый председатель Яшка Колдун не нахвалится.
— Колдун это фамилия такая?
— Нет. Он погоду угадывает и загодя к ней готов, — сказал Громобоев и засопел, будто спит.
— Ломоносов говорил, если б знать, какая будет погода, то больше у бога просить нечего… А? Витька?
Смотрю на часы: и правда полдень. Витька всегда в полдень дрыхнет.
Ну ладно.
Но я так думаю, что мимо артели ни проехать, ни пройти. Потому, что все Кижи строят не святейшие синоды, а артели.
38
А потом был пикник на Оленьем пруду. На старом пруду в Измайлове.
Принесли много хорошей еды, и пришли неинтересные люди. Их собрала Кротова, старая приятельница Оли, из тех инязовцев, которые созрели для загранкомандировок.
Я не знаю, может, это были достойные люди, когда оставались наедине со своей работой, но на пикнике они были недостойные люди и занимались одним — они выламывались в стиле бомонда той страны, куда тренировались поехать.
Кротову звали Магда. И я не сразу догадался, какую роль играли молчаливая Оля и я, которого Оля зачем-то просила прийти. Пугала она меня, что ли, — смотри, старый дурак, на кого ты меня бросил, — так, что ли? Если так, то не стоит трудиться. Я не верил, что Олечка приживется у них, если до сих пор не прижилась. И я не понимал, какая роль отведена мне.
Но потом пришел веселый журналист с Дикого Запада, из прерий, и все стало на свои места. Он хорошо говорил по-русски, и через плечо у него висел кофр с записывающей снимающей техникой, которую он сразу вынул и расположил на притоптанной траве.
Все бегло заговорили на различных иноязыках, но Чарльз, так его звали, как бы оттолкнул их выпуклыми светлыми глазами и сказал:
— Хватит валять дурака.
Смотри ты, подумал я, парень-то хват…
— Хочу вам проиграть одну запись, — сказал он и кивнул на меня. — При нем можно?
Оля хотела что-то сказать, но получилось это не сразу, она слишком долго молчала.
— … Аккуратней… — сказала она. — Это мой друг.
Он ласково улыбнулся. На их языке это означало — любовник.
— Ты обалдела? — тихо спросил я.
— Он все равно так решит.
— Ну ладно, — сказал я.
Из магнитофона раздался слабый голос Чарльза из прерий. Он усилил звук.
— Вот это место… — И Чарльз из магнитофона бодро сообщил: — Во всяком случае, наши рабочие живут лучше ваших.
— А почему вы лично не пошли в рабочие? — спросил другой голос.
— Глупый вопрос… — сказал Чарльз из магнитофона. — Каждый ищет свою удачу.
— Значит, они у вас неудачники?
— Почему? У них практически есть все.
— А почему вы лично не пошли в рабочие?
И так далее. И на все соблазнительные слова журналиста с Дикого Запада из прерий второй тупо отвечал вопросом — почему вы лично не пошли в рабочие.
Все смеялись, поеживаясь. Журналист проиграл запись до конца.
— Клинический случай… Полный кретин… — сказал он. — И вы все собираетесь с этим ехать к нам?
Кротова рассмеялась:
— А кто это? Как его фамилия?
— Некий Зотов.
Кротова быстро и опасливо оглянулась на меня, потом открыла рот, но ничего не сказала.
— Геннадий Сергеевич Зотов, — сказал журналист. — Переводчик… Безмозглая скотина.
— Но-но, — сказал я.
— Это его внук… — Кротова осторожно кивнула на меня.
Тот затормозил:
— Извините… Я этого не знал.
— А все остальное вы знаете? — спросил я.
Он стал молча собирать все в кофр. А я подумал: Генка не совсем балбес. А может, он просто инфант, королевский, Клавдиин сын, позднее развитие. Ну поглядим.
Все испуганно смотрели на журналиста, будто смотрины не состоялись, жених сейчас смоется и семейство опозорено, а он вдруг сказал, выпрямившись с колен:
— Мне бы хотелось с вами поговорить.
— А мне? — спросил я.
— Неужели вы так же примитивно мыслите, как ваш внук?
— Куда мне до него! — сказал я. — Мой вопрос будет еще примитивнее: кто вы?
Он выбил трубку о камень и сунул ее в карман.
— Замечательно вас выдрессировали, — сказал он. — Ну хорошо, я журналист. Человек. Какое это имеет значение: «Кто вы?» Неужели это важно?
— Важнее нет ничего.
— Мысль от этого не меняется, — сказал он. — Или вы считаете, что она меняется оттого, кто ее произносит, извините, выскажет?
— В самую точку. Потому и спрашиваю: кто вы?
— Я вам уже ответил.
— Вы себе-то ответить боитесь, а уж мне-то…
— Я думал, что вы интеллигентный человек…
— Ну что вы! — говорю. — Мои мечты дальше выпивки не простираются.
Он мгновенно сел.
— Так бы и сказали. Вот это по-русски. — Он оглядел всех и сказал высоким фальшивым голосом: — Куда же вы?…
И все сразу стали уходить в лес, обнимая друг друга за плечи и посмеиваясь.
Остались только мы с ним, Оля и Кротова.
— Будем пить на равных?… Или вам уже нельзя? — спросил он и достал из своего кофра виски «Белая лошадь».
— А вам? — спросил я и достал из пруда бутылку «Московской».
— О! — сказал он, отвинтил от термоса две крышки — одна под другой — два стакана — и стал разливать. — Сколько? — спросил он.
— До краев.
Он налил до края и осторожно протянул мне. Потом налил себе, глядя мне в глаза.
— Ну, вздрогнем, — сказал я и выпил стакан. Он побледнел, но выпил.
— У вас разбавляют? — спросил я.
Он только помотал головой. Тогда я налил два стакана своей и, постучав ими друг о друга, один протянул ему.
— Ну, вздрогнем, — сказал я. Он вздрогнул, но стакан взял.
Через пятнадцать минут у нас состоялся проблемный разговор.
Он мне кусок своего толкования жизни, а я ему — откуда толкование пошло — Шпенглер, — он мне другой, а я ему — Ницше, Штирнер. И так далее. Чувствовал я себя препаскудно, потому что ничего нового и я ему не говорил, а только взаимное сшибание спеси у нас было.
— Блистаешь начитанностью, — сказал он и задумался. — Или я?…
— Тебе видней, — говорю.
— Чарльз… — сказала Кротова, кивнув на меня с отвращением. — Он читал все.
— Не все, — сказал я. — Только то, что достал.
— Неважно, что он читал, — сказал Чарльз. — Важно — кто он?
— У нас с этого и началось, — говорю. — Кто вы?
— Ах, вот как? — сказал он. — Ладно. Слушай, старый, э-э…
— Хрыч… — подсказал я.
— Вот именно, — сказал он. — Сейчас я тебе про духовную суть всей вашей затеи… Коммунизм — это идея нищих… Богатые на нее не клюнут… А вы хотите, чтоб все разбогатели…
Одно и то же…
Конечно, я мог ему ответить, что коммунизм — это идея не нищих и не богатых, а идея согласования условий, но понимал слабость этого ответа, потому что согласия среди сытых трудней достичь, потому что сытому зачем усилия?
— Съел? — сказал он и захохотал. — И тогда все остановится… И опять все сначала… Поэтому наш путь реальный, а ваш — фантастика… Пусть уж хоть некоторые будут богатые… у кого сила или кому повезло… И это у нас знает каждый… и революции у нас никогда не будет.
Разговор опять опошлялся. А ведь что-то мелькнуло.
— Вы ее сами устроите, — сказал я.
— Мы?
— Вы существуете, пока есть покупатель. Как только он исчезнет — вам конец. Вам придется искусственно его создавать.
— А вам — работу, — сказал он.
Вот оно. Мелькнуло, пропало и снова вылезло. Гнал я от себя это, гнал, но оно не уходило. Потому что это было мне тогда вопросом вопросов — если отнять у человека производство, что останется делать человеку? А производить без толку — зачем?
Он понял, что попал.
— Вы в технике достигнете всего, — сказал он. — Как и мы. Бомба у вас уже есть… потом будут другие выдумки… Сначала автоматика, и оператор будет нажимать на кнопки, потом роботы, робототехника и компьютеры, это завтрашний день. А послезавтра они перейдут на биоэлектрическое управление… датчики снимут импульсы желаний, компьютеры их обработают, усилят, подадут на магнитную ленту, и роботы сделают остальное… И даже кнопки не понадобятся.
Он был прав. Это достижимо. Сапожников рассказывал еще и не такое.
— Допустим, что роботы сделают все, — сказал он.
— Все? — спрашиваю.
— То есть все, что традиционно считалось человеческим делом. Два-три поколения — и это будет сделано, — сказал он. — Назовем эти поколения «мы». Но потом родятся «они»… Ну хорошо, еще два-три поколения уйдет на очистку авгиевых конюшен прежней жизни. Но это все еще «мы». Но потом родятся «они»… Чем «они» будут заниматься в вашем мире?… Ходить с арфами и петь псалмы?
Действительно, что потом? Уговаривать друг друга духовно улучшаться? А до каких пор?… Неужели на земле станет делать нечего? Неужели человек рожден, чтобы решать проблемы, а в конечном счете одну — проблему безделья?
— Вот жизнь в вашем бесконечном раю, — сказал он и захохотал.
— А в вашем?
— А в нашем — жизнь коротка и потому — драка.
— Знаю, — сказал я. — В вашем раю рубят друг друга, но не помирая… Ты одну фантастическую бессмыслицу подменил другой… Ты фантаст.
— Нет, это ты фантаст… К черту… — сказал он. — Это жестокая реальность… Тебе меня не понять.
— Или наоборот, — сказал я.
— Вы хотите обойтись без аксиом, — сказал он. — Аксиома — это утверждение, которое определению не подлежит… Все остальное выводится из нее формально-логическим путем… Это знает любой ученик колледжа…
— А куда же девать открытие неведомого? — спросил я.
— Ну знаешь ли!
— Где у живого аксиомы? — спросил я. — Может, они есть, но неизвестны ни тебе, ни мне… Так какой же к черту формально-логический путь? Если перед нами неведомое?
Он захохотал, приблизив ко мне лицо и вглядываясь мне в глаза. Мы отражались друг у друга в зрачках, только были маленького размера.
Кротова взяла его за плечи.
— Убери ее… — попросил он не поворачивая головы. — Убери ее к черту…
И тут Кротова замахнулась на Олю, но я перехватил руку.
— Из-за тебя… — со свистом сказала ей Кротова. — Из-за тебя все… Привела… Ты все испортила… Ты понимаешь это?
— Я ее сейчас укушу, — сказал Чарльз.
Теперь мне пришлось его схватить поперек живота. Он захохотал.
— Мы похожи на фонтан, — сказал он.
— Петр Алексеевич… бежим отсюда! — весело сказала Оля.
— Они упадут… — сказал я.
Бедлам нарастал.
— Ваш рай не лучше нашего, — сказал он, дрыгая коленками и пытаясь устоять. — Оба нелепы… Но наш веселей… Вот и вся разница.
— Есть еще одна, — сказал я. — Ваш рай может закончиться одним взрывчиком на всех…
Он на секунду перестал бороться со мной и Кротовой и пинать кофр с техникой.
— Значит, надо искать Аксиому? — спросил он.
— А как же? — ответил я, и отпустил обоих. — Живую аксиому.
Кротова пошла прочь, упираясь рукой в бок, за который ее ущипнул Чарльз в горячке боя. Чарльз медленно ложился на землю, как будто раскатывали ковер. Он хохотал и был бледный. Потом заснул.
— Пойдемте, Петр Алексеевич, — сказала Оля. — Бабушка нас чаем напоит. Она обещала яблочный пирог…
Она всхлипнула.
— Олечка, — сказал я ей, как Тане. — Прости мне меня… Я виноват, что ты вышла за нашего балбеса…
— Нет… — сказала она. — Просто никто не знает Аксиомы… Я тогда думала, что изобрела лучший выход… Выход к вам…
— Зачем ты меня сюда притащила?
— Он сказал, что наши рабочие продали свою интеллигенцию, — сказала она. — Он очень образованный… Я хотела, чтобы все до конца выяснилось.
— Олечка, родная… — сказал я. — Мы с Марией были в Лавре и ходили в пещеры. Это жуть… Осклизлые подвалы, пещерная слизь. Жулики и кликуши. Шизофрения. Мы с Марией выскочили еле-еле наружу — а там солнце, блеск Днепра… зелень деревьев и храмы, понимаешь? Природу создавали не люди, это уж точно… А пещеры и культы — мы только от людей знаем, что их создал бог, а лгали они или были шизофрениками — это нам неизвестно. Мы знаем только их утверждения, которые совпадали с нашим желанием чего-то высшего… Олечка… Когда я вижу таких людей, как ты, или Пашка Сапожников, или Витька Громобоев, или дед, или Мария, или брат мой немой Афанасий, или Таня моя, или Серега мой, или Валька…
— Не надо, Петр Алексеевич…
— Я знаю, что высшее — не мираж, — сказал я.
39
Спутник сфотографировал обратную сторону Луны. Фотографию передал на Землю. А сам летал-летал, а потом сгорел.
И вот Зотов лежит в больнице и смотрит на снег, и неужели он новый, шестидесятый год встретит в палате, где гундосят мужики, опасаясь за свои покалеченные инструменты?… Выставив вперед загипсованные руки, согнутые в локте, они с телесным грохотом сползаются покурить и выруливают на лестницу, и лежачие больные называют их «ночные бомбардировщики».
Зотова готовят и обмывают перед операцией и на каталке головой вперед везут вынимать осколок из спины, осколок чьей-то злобы и золотого рубля, и чем дело кончится, никому не известно… И не ногами ли вперед привезут.
Осколок вынули.
Его навещали. Однако в глазах у них была печаль, и это ему было не надо. Но однажды пришел Сапожников. Юморист.
Он не поздоровался и не присел на кровать.
— Петр Алексеевич, куда сдвигается остальная материя, когда сквозь нее движется какое-либо тело? — спросил он.
— Я тебя не понимаю, голубчик.
— С одной стороны, утверждают, что все заполнено материей, а с другой — что было время, когда вся материя была собрана в одну точку…
— Ну и что?
— Если все заполнено материей, то как возможно передвижение в пространстве? — это во-первых. А во-вторых, если вся материя была собрана в одну точку, то что же было вокруг?… То есть в центре всего — вопрос о пустоте. Потому что если материя заполняет все, то пустоты нет… если же пустота есть, то материя заполняет не все… А?!
— Дальше давай.
— Раньше считалось, что вселенную заполняет нематериальный дух, сквозь который движутся материальные тела. Потом все стали заполнять материальным эфиром, но отказались и от него. Теперь ее начинают заполнять так называемыми полями — а что это такое, не знает никто. Поле — и точка… Электрическое, магнитное, биополе, гравитационное и прочее. Эйнштейн с Бором не сошлись — с одной стороны, свет это волна, с другой — «частицы». Но если волна — то что волнуется? А если частицы — то что между ними?
И никому не приходит в голову, что и волна и частицы есть признаки чего-то третьего, неизвестного, общего для них.
Все упирается в пустоту, вакуум, где нет температуры.
Все упирается в пространство, заполненное невесть чем, но влияющим на все остальное… То ли надо отказываться от материи, то ли от пространства. А ни того, ни другого делать нельзя… Как от материи откажешься, если мы сами из нее состоим? А как от вакуума откажешься, если он заполнен гравитацией, которая влияет на все?
И если вакуум — это неведомое, то и нужен к нему иной подход. И тогда вакуум есть нечто, а не отсутствие всего. И тогда внешнее проявление его присутствия есть гравитация.
Но тогда мы имеем дело с неведомой материей. Потому что материя это то, что есть, и оно движется. То есть оно существует на самом деле, и наши ощущения могут о нем сигналить.
— Так, — говорю. — На словах похоже, что все складненько… Но какая же может быть материя кроме материи?
— Неведомая!
— Это я понял. А какая?
— Живая…
Прошло какое-то время, пока до Зотова начало доходить его гигантское обобщение, основанное, правда, лишь на чужих противоречиях, но так, наверное, и должен выглядеть первый шаг.
— То есть ты считаешь…
— Вот именно! — крикнул Сапожников. — Вот именно!.. Может оказаться, что никакой пустоты нет, но и эфира нет, потому что его пытались представить в виде неживых частиц. А если вакуум — это особенная материя, потому что живая?… Мы привыкли, что живое — это ты, я, блоха, амеба… А живое может оказаться материей… Но особенной.
Живая материя — это захватывало… То есть не тело и дух, а две материи — живая и неживая, вечно существующие по своим законам и вечно взаимодействующие… и высшее их взаимодействие — живые существа и организмы…
«Наблюдения нужны… наблюдения… факты, — говорю, а у самого зуб на зуб не попадает. — Иначе все липа… Неважно — свои, чужие, но нужны факты, которые подвергались бы новому толкованию… Пал Николаевич… чересчур великая догадка… Иначе нельзя…»
Он заржал и сунул Зотову бумагу:
— Вот… Тут есть кое-что. Первые наброски. У самого голова кругом… Но пока все сходится.
Зотов прочел и спрашивает:
— А можно это взять себе?
— Валяйте, — сказал он. — В свою библиотеку. А я двинулся дальше. По той же дороге.
Может, потому, что я лежал в больнице, мне это показалось таким важным, и читать это трудно, и кому трудно, тот пусть не читает, но это должно сохраниться для моей библиотеки. А вдруг Сапожников прав?
Вот краткое изложение и комментарий этих заметок.
Сначала он перечислял некоторые основания для недоумения.
— Еще Менделеев говорил, по всему видно, что эфир должен быть. Но известными ныне способами его обнаружить нельзя, как нельзя взвесить воду в воде.
Еще Менделеев говорил, что никакие известные взаимодействия частиц не дают эффекта гравитации. Сто лет прошло, мю-мезоны, пи-мезоны и прочие, но никакая гравитация от их взаимодействия не возникает, ни в теории, ни на практике, и гравитация существует покамест сама по себе.
И философия, и естествознание знают: пространства без материи быть не может. Но что же тогда вакуум, который все стыдливо обзывают пустотой?
Эйнштейну не удалось создать теорию «единого поля», когда все связано со всем при помощи частиц. Значит, в этой общей связи всего со всем должно учитываться еще нечто.
Философия открыла, что движение высшего порядка не есть комбинация движений низшего порядка, и значит, из суммы перемещений в пространстве нельзя получить развитие. Значит, развитие предполагает наличие еще какого-то фактора.
Биологии известно единственное отличие живого от неживого, а именно: живое хочет, а неживому все равно. И уже белки научились создавать в колбе, и капли, похожие на амеб, которые перемещаются в пространстве, но ничего не хотят.
И последнее: если некогда материя была собрана в одну точку, то возникает не только вопрос «А что было вокруг?», но и вопрос «А что было до этого?».
Сапожникову казалось, что многое говорит о том, что мы ходим вокруг какой-то особой второй материи, без которой не объяснить, как все увязано со всем остальным, и что речь идет о материи вакуума.
Но если вы думаете, что сначала он собрал все эти недоуменные противоречия, а потом додумался, то это будет большая ошибка. Это все уже было потом. А сначала?
Сапожников, когда сочинял свой аммиачный, вечно вращающийся пустотелый диск, все время имел дело с теплотой, а проще, с ее внешним видом — температурой.
Однажды ему пришла в голову простая мысль. Мысль, как всегда у него, была идиотски простая, но почему-то пришла в голову ему одному и лишь после того, как он был помят жизнью, войной и естествознанием.
Вот она. Ведь что такое температура? Это количество соударений бешено вращающихся частиц. И если в космическом вакууме температура абсолютный нуль — 273№, значит, в космосе просто температуры нет.
Потому что нет частиц, которые бы соударялись.
Вернее, частиц так мало, что они не сближаются.
А так как пространства без материи не бывает, то, значит, космос заполнен какой-то материей с иными свойствами.
И если температура ее — 273№, значит, эта материя состоит не из частиц. И, значит, температуры там просто нет.
Вот так-то.
Причем речь идет именно о материи, то есть «объективной реальности, данной нам в ощущении».
И значит, эта философская формула поиска иного типа материи не закрывает. Важно, чтоб эта материя была не выдумка, вроде незабвенного «флогистона» или, упаси боже, мистика. Важно, чтоб она была материя, то есть чтобы она была на деле и мы ее ощущали. А какие у нее будут свойства и признаки? Какие откроют, такие и будут.
Ну а все остальное вытекало из того, что Сапожников начал думать: а какие же у этой материи могут быть свойства и признаки?
И понял, что если у нее температуры нет, значит, выходит, что и вращающихся частиц нет.
А как раз вся неживая материя состоит из вращающихся частиц.
И тогда выходит, что если вся неживая материя состоит из вращающихся частиц, то материя, которая состоит не из них, может быть живая.
Сапожников потом рассказывал, как он обомлел от такой догадки, потому что если логика вообще чего-нибудь стоит, то получалось все именно так, как он догадался.
Сапожников потом рассказывал, как все сбежались на грохот, когда он кулаком расшиб стекло витринной толщины на канцелярском столе в своей конторе. Пришлось соврать, что он уронил на него машинку «Эрика». А зачем он ее поднял, он не мог придумать, и тихо смылся, пряча разбитый кулак в карман штанов.
И тогда у Сапожникова сложилось то, что до сих пор ни у кого не складывалось.
А именно: что в мире существуют не материальное тело и некий нематериальный дух, а просто взаимодействуют две материи, которые и создают отдельное живое существо, иногда даже мыслящее.
Вот почему не удается вступить в контакт с вакуумом, из которого мы наполовину сами состоим, и почему из взаимодействия вращающихся частиц не возникает гравитация, которая теперь оказывалась свойством другой материи, и почему Эйнштейну не удалось его «единое поле», и почему не удается соорудить белок, который бы чего-нибудь хотел, и что было вокруг, когда неживая материя была собрана в кучу, и что было до этого вселенского происшествия.
И самое интересное и даже удивительное, что теперь при второй материи, да еще окажись она живая, этого происшествия, этого вселенского первичного взрыва вовсе могло не быть. Потому что выходило, что вселенная не разлетается, а, может быть, даже расселяется.
То есть она становится именно вселенной, живым вакуумом, в который вкраплены всякие млечные пути, нейтринные облака и прочие неживые вращающиеся подробности.
— Пусть вращаются, — нахально размечтался Сапожников. — Мне не жалко.
«Если моя мысль о второй материи ошибочна, — писал Сапожников, — она рухнет, но все равно придется на эти недоумения отвечать! Как окажется, так и будет. Но если эта мысль верная, то понятно, почему из суммы перемещений в пространстве не может возникнуть развитие… Потому что для развития кроме материи вращающихся частиц нужна еще материя с другими свойствами».
«Какие же это свойства? — думал Сапожников и отвечал себе: — Если материя вакуума существует, то кое-что мы о ней знаем, а кое-что можем предположить, так как есть, наконец, берег, стоя на котором можно ее „взвешивать“, как говорил Менделеев, и этот берег — материя частиц.
1) А тогда если эта вторая материя имеет — 273№ то она не холодная, а просто у нее температура отсутствует.
2) Ее свойство — гравитация.
3) И значит, она активна, а материя частиц — пассивна.
4) И значит, все перемещения в пространстве, вся неживая энергетика, все вращения первопричинно вызваны гравитацией.
Причем (и тут самое интересное) совершенно даже необязательно, чтобы вторая материя была живая и имела хотения. Может быть, как раз желание, хотение, потребности и появляются только тогда, когда обе эти материи взаимодействуют. Но по всему получается, что для возникновения живого существа нужны две материи, а не одна. Две материи, из которых одна вращается, перемещается в пространстве и пассивна, а другая пульсирует как сердце, по всем радиусам и гравитацией перемещает первую.
И тогда к развитию всех живых существ совокупно, то есть к эволюции, можно, подойти совсем с другой стороны, а именно: с энергетической.
Бытие первично, а сознание вторично. Это уж точно. Только бытие теперь состояло из двух материй, а не из одной.
Но теперь исчезала путаница — сознание и духовная жизнь. Это не одно и то же. Сознание — это копилка знаний и аппарат их использования, и к нему уже подбираются кибернетика и счетные машины — их стали называть компьютерами. А духовная жизнь это именно жизнь, то есть бытие. Но в бытии участвует эта вторая материя, та самая, которая тоже объективная реальность, данная нам в ощущении, и признание которой только и делает материалиста материалистом и перед которой аппарат сознания — вторичен.
Живут себе две материи, взаимодействуют, а вторичное сознание, которое они же и породили, старается их осмыслить.
…Жизнь возвращалась на землю как жизнь, а не как сочетание мертвых осколков разлетающейся мертвой вселенной…»
«Жизнь возвращалась на землю. Жизнь возвращалась ко мне. Мертвый осколок из меня вынули. И я хотел успеть исправить хоть одно зло, совершенное мной».
Красное небо повисло и гаснет над черным лесом. Белеют бетонные столбы забора, который окружает скучные стеклянные корпуса. Ветер свистит по пустому двору.
— Здесь ближе, — говорит молодая доктор, курносенькая. — Там два столба повалены… Мы в эту дырку пролезем, и влево по улице, а там направо. Через дорогу метро… Застегнитесь как следует, Петр Алексеевич… ветер.
— Спасибо вам за все, — говорит Зотов. — Даже не знаю, как вас благодарить, что в Новый год отпустили.
— Ну что вы… — говорит доктор, молодая, совсем курносенькая. — Мы же понимаем. Вы наш старый больной.
Ветер треплет одежду прохожих. Поздние зимние сумерки на просторных улицах окраины. Зотов переходит трамвайные рельсы и спускается по ступенькам, ведущим в метро. Мотаются стеклянные двери.
Он опустил воротник. Здесь было тепло.
Мимо него спешат фигуры темные, зимние. А кафель сверкает, а разменные автоматы монетками лязгают, а другой автомат мужику с портфелем в живот уперся железной ногой.
— Отойдите с прохода, гражданин, — говорят Зотову.
Куда ни отойдет — все на чьей-нибудь дороге торчит. Ну прямо хоть в воздух взлетай.
Он оглянулся и увидел Немого, который глядел на него львиными гордыми глазами. Зотов тоже снял шапку, сунул ее под мышку и сказал в телефонную трубку:
— Оля?
— Да…
— Это я говорю, Афанасий… Ты поняла меня?…
«В ответ я услышал ошеломленное молчание. На секунду она поверила, что это говорит Немой.
Много я глупостей наделал за свою жизнь, — думал я, дожидаясь ответа и понимания, — но, может быть, самую большую глупость я делаю сейчас. Но или сейчас, или никогда».
Там было долгое, чересчур долгое молчание, поэтому он сказал:
— Не реви… Оля, я приехал еще утром. И был у брата Петра в больнице… Я тебя люблю…
Люди начинают оборачиваться на ходу.
— Оля… Я тебя тут в метро дожидаюсь… Тут полно автоматов… монеты разменивают, в животы упираются, а тебя все нет… Оля, я тебя люблю… Немой вжался в стенку, как приговоренный к выстрелу.
— Проходите, граждане, — говорит дежурная. Но люди задерживаются и смотрят на двух седых людей у телефона-автомата. Зотов вытер лицо шапкой и сказал в трубку:
— Я больше говорить не могу… Я из автомата… Тут народ собрался.
— Говорите, говорите, — торопливо сказал народ.
— Оля, мы тебя ждем здесь… Отпросись с работы… Оленька, я тебя люблю…
— А мы, дуры, верим, — сказала кассир.
Зотовы нахлобучили шапки, и кинулись вон из метро, и взлетели в воздух, где Немого ждала Оля. Поэтому Петр Алексеевич стал опускаться на землю, а оттуда стал слушать их разговор.
— Поверни лицо к Луне, — сказал Немой. — Я ведь никогда не разглядывал тебя…
— Ты всегда боялся…
— Я всегда боялся, что не имею права…
— Ничего не бойся, милый… Я с тобой, — сказала Оля. — Не надо.
— Потому что если я не с тобой, то все обессмысливается, — сказал Немой.
— Не надо, — говорит Оля. — Молчи…
А так как они разговаривают, летя по воздуху, над морозными улицами и дворами, то под ними начинает проворачиваться земной шар.
Ну, у этих двоих теперь вторая космическая скорость, скорость спутников, и теперь их двое, и они уже не сгорят.
Подошел поезд. Отошел поезд.
Немой взял у нее авоську, и они пошли по бесконечному керамическому и кафельному переходу.
Зотов посмотрел на часы и пошел встречать Новый, 1960 год.
Над Москвой пылало ночное зарево. Но завтра, когда погаснут фонари, над городом встанет с перстами пурпурными Эос.
Куда ей деться!
Глава шестая Хронический оптимист
Гордо выпрямившись, стоит он в своем запальчивом недомыслии. Ну и оставим его так стоять.
Томас Манн40
Эмоции, знаете ли, страстишки, нервишки…
Автор обещает в дальнейшем ко всему подходить трезво.
Шестидесятые годы наступили и от кибернетики в восторге.
Об чем волноваться?
«Ах, хорошо бы этот балда Сапожников оказался прав, — думал Зотов, — и пустота бы оказалась не пустота, а другая материя и, может быть, даже живая. Тогда бы ко многому надо было искать другой подход». Чудо? При чем тут чудо? Что непонятно, то и чудо. Пока не выяснится. Тайна — другое дело. Тайна — это не вопрос веры. Верю, не верю — не в этом дело. Что подтвердится, то и правда. Однако Зотов по опыту жизни и чтения знал, что такие догадки могут бесконечно валяться в пыли до полного забвения. Правда, история идет с ускорением. Так что как знать.
Ясно одно. Если две тысячи лет призыв любить друг друга почему-то не сработал, значит, и к жизни, и к злу, и добру нужен иной подход.
А потом Зотов включил телевизор «КВН» с линзой, в которой дистиллированная вода содрогается. Из аптеки. И сквозь линзу он увеличенно глядел на Римскую недавнюю Олимпиаду, где ликовало человеческое тело. Видел Рим — вечный город и девушек в кринолинах — вошли в моду юбки врастопырку, и девушка становилась как цветок — идет, покачивается.
А потом Зотов смотрел в окно, как Санька свою первую девочку провожал до соседнего фонаря.
Саньке, правнуку Зотова, четырнадцать лет. И ей столько же. В кринолине. Как цветок девочка.
Зотов глядел на них из окна, они не видели. Хорошенькие, как собачата. Только одинаковые очень. Почему из этого ничего не получается? Жаль. Прощаются. Она оглянулась и удивилась, что он не оглядывается. Хотела идти дальше, но остановилась и стала смотреть ему вслед. «Дурачок ты, правнук, я бы, пожалуй, оглянулся… Н-да, приглядывай не приглядывай, а если она за него возьмется — ему не устоять».
Тут Санька позвонил в дверь. Зотов ему открыл. Тот бегом в комнату, смотреть в окошко, от которого Зотов отошел. «Нет, друг, уже ушла. Теперь жалеет, что не попробовали поцеловаться. Сейчас самый раз ему спросить — как это бывает? А никак. Но до чего отвечать неохота…»
— Дед…
— Ну?
Сейчас он попросит сказать правду, и только правду, а правду как раз говорить не годится. Мало ли как у Зотова было, не у всех же так?
— Отвали, а? — говорит Зотов.
— Дед…
— О господи…
— Дед, ты помнишь, как ты первый раз целовался?
— Я много раз целовался, — увиливает Зотов.
— Нет, самый первый… Что ты почувствовал?
— На пустыре стоял шалаш из листьев. Возле него жгли костры. Мы с ней туда влезли на минуту. Если в одну сторону смотреть — был виден нужник, в другую — монастырь.
— Нужник — это туалет?
— Туалет это клозет, пур ля дам, а нужник — это очко, сортир, понял? Ничего ты не понял. И от него запах. От монастыря тоже. Ладан и дерьмо — так на всю жизнь и запомнился первый поцелуй. Ничего из этого не вышло.
— А почему очко? — спрашивает. — Что такое «очко»?
— А что такое монастырь?
— Народное творчество… Памятник… Не так?
— Так… Мы там, в шалаше, пробыли две-три минуты. Потом она убежала. Хватит с тебя?
— Нет… Неважно, где это было. А что ты почувствовал? Самый первый раз…
Ладно, думает Зотов, скажу.
— Что-то мокренькое, — ответил Зотов.
Он кивнул и сказал серьезно:
— И у меня так же.
Господи, неужели жизнь — это что-то мокренькое?
41
«…Передаем сообщение ТАСС! О первом в мире полете человека в космическое пространство!..»
— Ура!.. — неистово закричала площадь.
Всего два века тому назад, в 1761 году, когда Венера проходила мимо Солнца, Ломоносов писал: «Появился на краю Солнца пупырь», — а в дедов юбилей Юрий Гагарин в космос вырвался, и дед орал:
— Вот так вот!.. Ясно?!. Вот так вот!.. Парнишечка мой золотой!.. Вырвались!.. Волхвование!..
И отец Санькиной подружки был немало смущен этим мистическим восклицанием по поводу научно-технического факта.
— Выпьем! — восклицал Анкаголик, и все гости немедленно и недостойно откликались.
И подтянутый научно-технического звания отец Санькиной девочки глядел на застолье вооруженными глазами.
Мудрец сказал: история смеясь расстается со своим прошлым. Дед — это история. Он смеялся.
Еще бы ему не смеяться! Двадцать дедов тому назад началась новая эра. Господи! Всего-то и прожито, а разговоров, разговоров!..
Двадцать дедов тому назад — сказано — любите друг друга, а сегодня вопрошают: может ли машина мыслить? А почему бы и нет? И не убьет ли она нас?… А почему бы и нет?… Но вопрос в том, может ли она хотеть? Хотят-то люди у кнопки.
Этого, видно, не понимал и понимать не собирался отец Санькиной девочки, который посетил нас со своей женой и принес от завода адрес с поздравлением по поводу круглой даты дедова существования на этой земле. Сто лет.
Но он пришел в неудачный для торжественного вручения момент, когда дед был возбужден земными делами и не годился в экспонаты.
Отец Жанны попал на дедов юбилей по большой протекции. Правда, он считал, что дело в указании чуть не министра, но если б знал, кто за него хлопотал, то, пожалуй, увернулся бы от чести.
Предыстория была такова.
Когда стало известно, что одному из бывших работников завода стукнуло ровно сто лет, то началось с того, что дед к себе бойких делегатов с завода не пустил.
— Вы меня знаете? — спросил дед.
— Нет.
— Ну и я вас нет… Топайте, ребята, топайте. Делегаты ушли и долго топтались под окнами, совещались.
Потом пошли телефонные звонки, но трубку брал Анкаголик.
— Еропкин на проводе, — говорил он из старого кинофильма.
После третьего звонка его стали узнавать и бояться, потому что когда деда просили к аппарату, то Анкаголик объяснял, что дед еще не вернулся с конгресса, который проводится под эгидой. Там спрашивали: под какой эгидой? Анкаголик отвечал: под какой надо.
Тогда подняли в архиве личное дело деда, и когда сдули пыль, то обнаружили, что дед в гражданскую не воевал, в Отечественной не участвовал, с басмачами не сражался и за всю жизнь в него не попала ни одна пуля. Не был он и основателем рабочей династии, поскольку, за исключением Петра Алексеевича, его внука, вся династия либо разбрелась по другим должностям, либо была перебита в войнах и революциях. А в биологические экспонаты он не годился, поскольку в Кавказских горах доживают и до полутораста. И с какой стороны ни подходи, получалось, что дед ни в одну юбилейную категорию не лез. Но чем больше он не лез как правило, тем более жгучий интерес он вызывал как исключение. Выяснилось, что трудовой стаж ему надо считать с семидесятого года прошлого столетия, поскольку работать он начал с девяти, — девяносто один год трудового стажа. В браке состоял хотя один раз, но зато с 1878 года и по сей день накопил восемьдесят три года супружеской жизни. А когда взялись за бабушку, то оказалось, что все сто лет своей жизни она вела паразитический образ жизни и была тунеядкой, поскольку нигде и никогда не работала. И была дедовой женой, а больше ничьей. То есть дед не давал ни малого повода зацепиться, чтобы провести мероприятие. Но дело, видимо, закрутилось не на шутку, потому что звонки одолевали, и однажды дед сам взял трубку.
— Ну чего надо? — спросил он.
— Мне бы хотелось с вами поговорить, — ответил четкий девичий голос.
— А ты кто? — спросил дед.
— Я Жанна, я учусь в одном классе с вашим внуком Саней.
— С прапраправнуком? — уточнил дед. Там помолчали. Потом:
— Мы хотим вас пригласить в школу на встречу с интересными людьми.
— А зачем они мне? — спросил дед.
Там снова помолчали, потом девичий голос сказал:
— С вами хочет поговорить ваш прапра…
— Пра… — добавил дед.
— Внук, — сказал девичий голос.
— Ну давай, — сказал дед. — Санька, это ты?
— Я…
— Как хоть ты выглядишь? — спросил дед.
На это Санька ответил, что выглядит нормально, что школа с математическим уклоном и что интересные люди — это он, прапрапрадед, и ребята хотят его видеть. Но дед сказал, что в арифметике не силен и им не подойдет. Тогда Санька спросил: может ли дед хотя бы ответить по телефону? Какое качество в человеке он больше всего ценит? Что он считает главным положительным качеством человека? Но дед и на этот вопрос отвечал, что вряд ли сможет и что он не то ляпнет, что надо. У телефонной трубки возникло многоголосие, но потом деда снова спросили о главном положительном качестве, ожидая чего-нибудь вроде «мужества», «трудолюбия», или в последние годы пошло настроение на слово «доброта», ему перечисляли, но дед все говорил «нет» и «нет».
— А что же? — спросили его, ожидая ответа с заученным восторгом.
И дед ответил не задумываясь:
— Стыд.
Тогда снова взял трубку Санька и, путаясь между «ты» и «вы», спросил:
— Дед… может быть, совесть?
Но дед ответил:
— Совесть — это уже сознательное… А стыд есть рвотное движение души.
Там тихо положили трубку.
Тогда на заводе кого-то заело, и кто-то, посовещавшись со стариками, узнал, перед кем дед не устоит.
Раздался телефонный звонок.
— Еропкин на проводе, — сказал Анкаголик. — Зотов на конгрессе под эгидой.
— Тпфрундукевич, ты, что ли? — спросил мужчина.
И Анкаголик сразу же отдал деду трубку.
— Щекин… — сказал он. — Из Совета Министров.
— Иван… — сказал дед. — Что они ко мне прилипли?
— Афанасий, не дури, — сказал бывший директор с Пустыря. — Дай им поглядеть на сверхчеловека.
— Ванька, я тебя не понимаю, — сказал дед. — Честно.
— Не понимаешь?! — крикнул Щекин. — Он не понимает! Непонятливый стал! Твой, что ли, юбилей?! Эгоист паршивый!.. Это Пустыря юбилей! А ты можешь людям объяснить, как ты за сто лет ни разу не поругался с собственной женой, с Евдокией Панфиловной?!
— Ну подход у тебя! — восхитился дед. — Ну подход!.. Сам-то придешь?
— На конгресс еду… под эгидой, — сказал Щекин. — Заместителя вашего директора пришлю. Я бабушке вашей тишайшей стих написал. Золотом в типографии, на меловой бумаге… «Роза вянет от мороза, ваша прелесть — никогда!»
— Хороший стих, — сказал дед. — Сверхчеловеческий.
— Ну? — сказал Щекин. — А знаешь, кто мне рекомендовал заместителя прислать?… Тпфрундукевич. Спроси его — почему?… Ну, целую вас всех. Не дури. Люди хотят как лучше.
Дед спросил у Анкаголика:
— Ты этого заместителя знаешь?
— Это ж отец Санькиной барышни. Ее звать Жанна.
Вот, стало быть, по чьей протекции отец Жанны попал к Зотовым.
Этого отца Жанны все здесь раздражало. И то, что юбилей не в Доме культуры, и что столы поставлены из квартиры в квартиру через лестничную площадку, и что работали все кухни всех четырех квартир этажа, со случайными для юбилея пестрыми жильцами, и что спускающиеся по лестнице, и поднимающиеся, и вовсе посторонние жильцы задерживались на площадке по разным поводам покалякать, и что когда калякаешь, то неизвестно с кем — ни чина, ни звания, ни профессии, а только возраст, пол и толщина — как в бане. И еще раздражала экология — праздничные сигареты с фильтром и «беломоры» были давно выкурены, и дым от махорки, пачечной, «моршанской», стоял такой, что тунгусский метеорит в нем бы плавал, и землю бы и небо не поджигал, и не вызывал споров.
Он выглядел, как метрополитен в коровнике, — этот отец Жанны. Напряженное высокомерие, волосы рыжие с сединой, и губы сиреневые. В этой сутолоке он как бы представлял порядок и, может быть, даже самое Науку, которую, ему казалось, этот махорочный туман отрицает…
Да ни боже мой! Науку отрицать глупо.
Не говоря уж о том, что дело зашло так далеко, что без науки не выжить, человек всегда будет стремиться узнать, «что у куклы в животике». Человек не может просто поселиться и жить, и в любом раю Ева всегда сорвет яблоко.
Речь может идти только о пути, который наука избрала.
В общем, кибернетика только еще ликовать начала, а дед уже упирался и не ликовал.
— Ни хрена, — говорил он отцу Жанны. — Это все со страху и сгоряча. Жизнь не вычислишь. Она вывернется. Не машина в небо Юру несет, а он на ней едет.
— Нет, — утверждал отец Жанны. — Все же машина его несет. А завтра мы ее научим думать.
— Попробуйте сначала мартышку, — сказал дед.
Кибернетика только растопыривалась, а дед уже из нее выпрастывался, как из чучела. Потому что она второпях объявила, будто человек — это компьютер, только посложней — усовершенствованный.
Особенно отца Жанны раздражала пара — скуластый человек с бутылочными глазами, а рядом с ним женщина с вульгарным взглядом и длинными ногами, которую юбиляр называл Минога.
— Говорят, в одном доме у физиков в сортире стоит манекен, — сказала Минога. — Звать Рауль. Когда дверь отворяют — он вскидывает руку, будто это он отворил.
— Вся ваша кибернетика — это Рауль, — сказал дед. — Ей кажется, что это она открывает дверь.
Мимо отца Жанны все время проходили какие-то люди. Это мешало ему понять, на каком уровне вести разговор.
— Машина уже научилась распознавать образы, — сказал он деду. — Трудно, но мы научились это делать.
— Облики, — сказал Громобоев, человек с бутылочными глазами. — Не образы, а облики. Образы машина распознавать не может.
— Почему же? — высокомерно спросил отец Жанны.
— Образы родятся в живом человеке. А когда он их превращает в плоть, воплощает в подобие, они становятся обликами, и тут их может различить машина… Да вы сами это прекрасно знаете…
— Нет. Не знаю, — ответил тот.
— Вам так кажется. Вам кажется, что вы найдете самое последнее лучшее правило, облечете его в термин, и тогда жизни из машинной программы уже не вывернуться.
— В общем, да, — спокойно ответил тот.
— Вы останетесь с носом.
— Поживем, увидим.
— Увидим, если поживем, — сказал дед. — Мартышка уже у кнопки.
Вот об этом все и думали: машина вычислит, мартышка нажмет кнопку.
— Выпьем! — опять раздался громовой голос Анкаголика.
И отец Жанны поморщился.
Он знал этого типа. При первом знакомстве новый директор завода, которого сопровождал отец Жанны, конечно, накричал на Анкаголика и хотел притоптать, но Анкаголик не поддался и непонятно пригрозил директору, что если на него будут кричать, то он всех заплутает в заблуждении.
Новый директор ничего не понял и рявкнул:
— Как фамилия?!
— Тпфрундукевич! — бодро ответил Анкаголик и опять всех оплевал.
— Не выношу этого типа, — сказал деду отец Жанны. — Кто это?
— Это наш старинный друг, — сказал дед. — Со странностями.
А странностей у старинного друга было сколько хочешь, и главная — что он был задумчивый. И его вопросы оглупляли любой ответ. Бывало, спросят его про известного и достигшего человека:
— Да ты знаешь, кто это?
— Кто?
— Чемпион на 50 километров.
— Квадратных? — спросит он.
— Почему квадратных?
— А что он с ими сделал?
— С кем?
— С километрами?
— Пробежал… А ты что думал?
— А я думал, вспахал… или застроил…
И так во всем. Когда ему говорили, что такой-то прыгнул вверх или в длину, он спрашивал: зачем? Когда ему говорили, что такой-то могучим ударом или приемом положил кого-то, он спрашивал: за что? А когда ему говорили, что такой-то проявил себя настоящим спортсменом и сражался до конца, он спрашивал: за кого?
Он задавал вопросы, на которые ему ни один собеседник не мог ответить. Это было отвратительно.
А когда ему отвечали, что он и есть тот дурак, на вопросы которого сто умников ответить не могут, он спрашивал: почему?
И становилось непонятно — а действительно, почему сто умников не могут ответить на вопросы одного дурака, и становилось страшно, что он вдруг спросит: а что такое умник?
Все дело в том, что выражение насчет ста умников и одного дурака подразумевает, что дураку потому бессмысленно отвечать, что он ответов не поймет.
А этот тип такое производил впечатление, что он ответы поймет. И это было самое непереносимое.
Вот, задумавшись над именем Жанны, он сказал:
— У моего кореша детей много. Сперва были Иваны, Прасковьи, потом стали его выдвигать вверх, и у него дети пошли Жорж, Искра, потом он стал начальником — и дочь Венера. Потом его сняли — имена в обратную сторону покатились. Последняя дочь — Дарья. Выходит, Жанна, твоего отца еще не сняли?
А отец ее тут же сидит, в директорской делегации. У отца волосы рыжие с сединой и губы сиреневые. Жена полная в пустую тарелку смотрит, не ест, не хочет. Фигуру бережет. А что там беречь? Там на всех хватит.
— Сань, а ты за кого? — спросил своего правнука Зотов.
— За математику, — сказал он.
— И я, — сказала Жанна. — Жизнь должна быть чистая.
— Как математика? — спросил Зотов.
— Да. И как спорт, — сказала Жанна. — Саню тренер хвалил. По боксу. Теперь за нас не надо заступаться.
— Ну и унгедрюкт цузамен, — сказал Анкаголик и заорал: — Выпьем?
Это у него поговорка такая.
Анкаголик, бывает, рассказывает про что-нибудь, а в конце добавит: «Ну и унгедрюкт цузамен».
Сколько Зотов ни спрашивал, такого слова «унгедрюкт» в немецком языке нет. «Цузамен» есть, а «унгедрюкт» — нет.
Но самое интересное, что в любом рассказе, или, как говорят, контексте это слово понимали все. Так что пример с «глокою куздрой, которая бодланула бокра и бодлает бокренка» тут не годится. У глокой куздры и падежи были, и числа, и другие дорожные знаки для соображения.
«Унгедрюкт» же таковых не имел, и потому смысл его доходил путем мистическим и запредельным, и доходил исключительно до людей, немецкого языка не знавших.
А ведь если подумаешь, то и правда унгедрюкт цузамен. У живого поведения есть, конечно, своя логика, но она иная. Ее и надо изучать, как иную и особенную. Иначе постоянный конфуз и тайфун. Один дал другому в рыло. А дальше что? Действие равно противодействию? А кому вмазали, может и убить, может посмеяться, а может и утешить обидчика. Все может. Как пожелает, так и сделает. Потому что основа живой логики — желание и нежелание, а также — свобода и несвобода их выполнить.
— Короче… — сказал отец Жанны. — Что же такое математика, как не отражение природы?
— Короче? — спросил Громобоев. — Ладно… Математика — это тайная надежда, что допущенное упрощение сойдет безнаказанно.
В нахальную компанию попал отец Жанны. Он хотел было отреагировать, но не успел сообразить — как, и тут его добил бессодержательный и бессмертный Анкаголик.
— Вот времена переменились, — загадочно сказал он. — Крестная моей матери каталась верхами со своим женихом. Богатая была женщина… А ее лошадь пукнула. После этого крестная от стыда осталась старой девой…
— Слушайте! Слушайте! — крикнул дед.
— И даже в тридцатые годы был в Москве случай — невеста пукнула за свадебным столом. Гости сделали вид — не заметили. А невеста ушла в другую комнату и повесилась.
— Может быть, хватит? — спросил отец Жанны.
— Я к тому, — ответил Анкаголик, — что в нынешние времена, если невеста пукнет, все заржут. И на этом дело кончится. Я ж не говорю — хорошо это или плохо, я говорю, времена переменились.
Отец Жанны поднялся и вышел с изумлением. Мама Жанны сделала то же самое, но медленно. И по дороге кивала всем головой.
— Ну и унгедрюкт цузамен, — сказал Анкаголик. — А теперь выпьем за старых Зотовых, которые Юру в космос воздвигли… Горько!
«Когда будет воскрешение из мертвых, Анкаголика восстановят первого. Сделают череп по фотографии с паспорта, оденут плотью, разыщут душу по моим записям и вдохнут обратно.
Алкаш бессмертный, когда же ты пить бросишь!
Ну ладно.
Так мы справляли дедов юбилей».
Живая материя отличается от неживой. Все. Точка.
И пытаться объяснить, что происходит с живой при помощи неживых механизмов, — только себя обманывать.
И не потому, что живая сложней. Дескать — вот доберемся до корня, и весь механизм налицо. Нет. И в корне не механизм, а другое. И потому — нужен другой подход.
Человек это не «механизм, только посложнее». Живое вообще не механизм. Живое — это другое. Нельзя взвесить желание. Чтобы взвесить воду, надо стоять на берегу. А где у желания берег?
42
У Громобоева, еще когда он в школе учился, несколько раз выскакивал чирей, по-научному — фурункул. И какое совпадение: как только выскочит фурункул — так начинается какая-нибудь война — Хасан, Халхин-Гол, финская. Ему, конечно, велели пить дрожжи, но не помогало. Войны начинались, а тучи в мире сгущались все больше.
— Я начинаю бояться этого мальчика, — говорила учительница немецкого языка.
И вот спустя столько лет после войны эта учительница встретила Громобоева на улице. В одна тысяча девятьсот шестьдесят втором году она встретила этого бывшего мальчика, который внушал ей суеверный страх, и она ничего не могла с собой поделать.
Он шел, стараясь не сгибаться.
— Что с тобой? — спросила она.
— Фурункул начинается на пояснице, — ответил он, сморщившись. — Натер… Надо переходить на подтяжки… Говорят, трут меньше, чем ремень.
Она взялась рукой за сердце.
— Не бойтесь, — сказал он, — войны не будет… Я в аптеке нашел средство против фурункула… Называется «Оксикорт»… Все останавливается.
Самое замечательное, что это случилось во время Карибского кризиса, когда чуть было не доигрались, но который, если помните, остановился вовремя.
Зотов не поленился, сходил в аптеку и купил «Оксикорт»- мало ли что.
А потом, возвращаясь домой, увидел, как из-за утла выскакивает мужчина и что есть духу бежит на него и — мимо по тротуару. А потом из-за угла вываливается толпа — и за ним. Только было Зотов подумал — «химика пымали», как из-за угла выползает троллейбус, и все выяснилось. Оказывается, люди бежали к остановке, а тот мужик — первый.
Прямо хоть в копилку собирай простые объяснения запутанных людских дел.
Но и наоборот — бывает за пустяком такая бездна, что голова кругом.
Люди погрузились в троллейбус и укатили, а последним из-за угла показался Громобоев, как всегда опоздавший.
— Стой, — говорит Зотов, — отдышись. Троллейбус ушел.
Покурили.
— Виктор, — говорит Зотов, — Саньку спасать надо.
Тут ветер погнал облака, прохожему залепило лицо газетой.
— Так как быть с Санькой? — спрашивает Зотов. — Неужели мы и этого потеряем?
— Ты спроси Саньку, как он относится к числу «пи», — сказал Громобоев и побежал к остановке.
Из-за угла выползал троллейбус. И опять выяснилось: Громобоев не первый троллейбус догонял, а опережал второй.
Часто, бывало, думали, приемыш догоняет прошлое, а оказывалось — он опережает будущее. Делать с этим открытием покамест было нечего, но Зотов его запомнил.
Он пришел домой и увидел Саньку, который тупо смотрел в зеркало. «Наконец-то!» — подумал Зотов.
— Санька, как ты относишься к числу «пи»?
Он встрепенулся, сделал у зеркала бой с тенью, потом обернул каменную физиономию и сказал:
— Оно меня измучило.
— Странно.
— Я не могу понять, почему прямая и окружность несоизмеримы, почему проволочное кольцо нельзя распрямить, разделить на равные отрезки, а потом ими же измерять все остальное.
— А больше тебя ничто не мучает?
— Нет, — сказал он. — Только число «пи».
— А тебя не мучает, что аксиома «В здоровом теле здоровый дух» оказалась враньем? — спросил Зотов.
— Почему же враньем?
— Потому что хотя все попытки улучшить жизнь, повлияв на нравственность, ни к чему не привели, но и попытки улучшить жизнь, повлияв на телеса, окончились тем же.
— Ну и что?
— И выходит, что мы о жизни чего-то не знаем.
— Мы не знаем математики, — сказал он.
И снова стал лупить эту тень, потому что он, видно, никак не мог ее победить.
— Санька, — сказал Зотов. — Не того бьешь.
— Дед, все очень просто, — сказал он. — Происходит математизация жизни.
— Это невозможно. Математизация годится только для абсолютно твердых тел, а их на свете нет… Все остальное — округляют приблизительно… Число — это упрощение, Санька… Математика — наука точная, потому что математика наука тощая… Неплохо сказано? А?
— Это сказал дурак.
— Первый раз слышу, чтоб так обозвали Гегеля.
— Дед, один плюс один — всегда два… два яблока или два паровоза.
— Стакан сахара плюс стакан кипятка, — говорю, — это полтора стакана сиропа, а не два…
Он усмехнулся:
— Остроумно. А это тоже Гегель сказал?
— Нет. Один трактирщик.
— Какой поэдинок, — кривляясь, сказал Санька. — Какой поэдинок… Сэрдце, тебе не хочэца покоя… Спасибо, сэрдце, что ты умэешь так любить…
— Глупый ты, Санька, — вздохнул Зотов. — Любить — это не слюнявая рекомендация… Сегодня любить — это жестокая необходимость. Иначе просто не выжить.
— А где доказательства? — спросил он.
— Поверь на слово. Иначе испытаешь на собственной шкуре. Приближается страшное доказательство высыхания твоей души.
— Докажи, что она есть, — сказал он.
— У тебя есть всего несколько лет… Потом будет поздно.
Увы. Это случилось гораздо раньше.
…Мать Жанны оглядела Зотова, оглядела комнату.
Крупная женщина. Наверно, сейчас скажет — сэрдце болит, тогда придется спросить — какое сэрдце, левое или правое? Как Серега в детстве жену Асташенкова Полину, бывшую Прасковью.
Она села и начала дышать. Дышала, дышала и говорит:
— Уймите вашего внука.
— Наверно, правнука! Санька мой правнук.
— Ну хорошо, уймите вашего правнука.
— Значит, все-таки Жанна? — догадался Зотов.
— Да. Я не хочу, чтобы моя дочь и он…
— А ее вы спрашивали?
— Мне достаточно приказать.
— У него тоже есть отец, обратитесь к нему.
— Ваш Геннадий ссылается на свою мамочку.
— А что Клавдия?
— Она прислала меня к вам.
— В таком случае и мне надо посовещаться с моими дедушкой и бабушкой, — говорит Зотов.
— Не доводите до абсурда.
Решительная женщина.
— Давайте позовем их двоих, — говорит Зотов. — Обратимся к первоисточникам.
Она опять начала дышать.
— Ладно… Ну, если что не так, я вам всем покажу.
— Интересно — что именно?
Правнук пришел один. Жанна не пришла.
— Где моя дочь? — спрашивает мама.
— Здравствуйте, Петр Алексеевич, — говорит правнук. — Жанна не придет.
— Здравствуй, Санька, — отвечает Зотов.
«Санька, Санька. Стоит передо мною Санька шестнадцати лет, рослый, красивый, не похожий ни на мать, ни на отца, ни на проезжего молодца. А похож он на моего Серегу, на своего деда, в его шестнадцать лет… Это в каком же году ему было шестнадцать? 1912 плюс 16… В 1928 году это было… Как раз когда они с Клавдией сошлись, будь оно все неладно… Таня, моя Таня, увидела бы ты сейчас своего сыночка — ну вылитый Серега. Почти».
Мать Жанны кинула телефонную трубку.
— Жанна говорит, что ты не велел ей приходить… Это верно?
— Да, — сказал Санька.
— Велеть могу только я! Запомни! Я!
— Нет, — говорит Санька, — только я.
— Что?!
Пора вмешиваться. Все ясно.
— Насколько я понимаю, Жанна ждет ребенка? — спрашиваю.
— Что? Что?! Да я вас!.. Я вас всех!.. — кричит она.
— Санька, дай воды! — кричу я. — Вот валидол! Мадам, вот нитроглицерин! А вот валокардин — заметьте, венгерский!
— Я сейчас же… мужу… мужу!
— Санька! — ору я. — Говори, мерзавец! Ты Жанну силком взял?! Или вы по-доброму?!
— Ну я пошел, — говорит он. — Не ожидал от тебя…
— Мадам! — кричу я. — По-видимому, Жанна согласилась добровольно! У нас один выход — отдать обоих под суд!
— Что значит под суд?! Что значит под суд, я вас спрашиваю?
— Конечно, под суд! Виноваты оба!
Она малость затормозила.
— Боже мой!.. Что же делать?… Жанна… Красавица… И этот…
Как это я забыл, что Саньке шестнадцать с половиной. Зотовское отродье.
— Боже мой… Что же делать? Что делать?
— Женить, мадам, женить как можно скорее… Когда ей рожать?
— В будущем году, — ответил Санька.
— Ну вот, и будет почти восемнадцать, — говорю. — На недостающие месяцы возьмут справку в райисполкоме… А ты, сопливец, не мог поостеречься? Девушку подвел.
— Да она сама хотела ребенка! — говорит он. — Можете вы это понять? Надо быстрей разделаться.
Тут я начинаю кое-что соображать.
— Ложь! Ложь! — кричит мама ее.
— Погодите, — говорю. — Как это «разделаться»?
— Она считает — чего тянуть? — говорит он. — Отделаемся пораньше, потом будем жить и заниматься делом.
— Мадам, позвоните дочери и спросите: так она считает или нет?
Мать Жанны взяла трубку, в смысле «ну я вам покажу».
Как же это я забыл, что он не только мой правнук, но и внук Клавдии? Где же его мать Оля, черт ее дери? Почему ее никогда нет, когда надо?!.. Все рассчитали, головастики… Какая свирепость…
Мать Жанны положила трубку и сидела грузная, опустив голову, в которой у нее, наверно, все перемешалось. Они с мужем из тех, кто думает, что жизнь — это помеха инструкции, а с помехами надо бороться.
Она поднялась — бороться и не сдаваться.
— Ну, мне здесь делать нечего, — сказала она.
— Встретимся в роддоме, — говорю я.
Хлопнула дверь.
Сейчас и этот уйдет.
— Ты тоже хочешь быстрей отделаться? — спрашиваю.
— От чего?
— От ребенка?
— Знаете, Петр Алексеевич, — говорит он. — Давайте договоримся. Я не продолжение зотовского рода. Я родоначальник своего.
— Это интересная мысль, — говорю я. — Жаль, что не нова. Но беда в том, что это неисполнимо. Род один — людской. Значит, надо сосуществовать как-нибудь… Это ясно. Вот только как? Можно через силу, можно любовно. Как тебе больше по душе?
— Сегодня все знают все слова, — сказал он.
— Санька, — говорю. — Это не слова. Но, к сожалению, большинство понимает это с опозданием. Это не лирика, Санька. Любовь — это не чье-то пожелание, а свирепая необходимость, а стало быть, долг. Гораздо более жестокая необходимость, чем смерть. Иначе роду людскому не выжить. Он или воспрянет, или ему хана.
— Ничего… Как-нибудь… — сказал он. — Тыщи лет кровь пускают, а род людской жив — здоров. Живет помаленьку.
— Саня, и без ноги человек живет, и без руки, но это не жив — здоров, Саня, это инвалид, и ему дают пенсию. Роду людскому пенсию взять не с кого. Да и средства кровь пускать прежде были не те. Теперь только кнопку нажать. Саня, теперь любить — не можно, а должно. И лучше это сделать добровольно.
— Мне говорили, что ты такой… у тебя из каждой мухи — слон. А почему я должен тебя любить?
Я не знал, что ответить.
— Потому что тебе хочется, — догадался я сказать.
— Мне не хочется, — ответил он.
— Ну ладно… — говорю. — Там поглядим… Но смотри не опоздай. А то и мне перехочется.
Он кивнул, поглядел на меня, снова кивнул и ушзл.
Вообще-то насчет опоздания говорить было нечестно. Это в него засядет, и он будет думать — как бы не упустить чего-то, заработает хватательный рефлекс — мое, не отдам… — как собака ненужную кость. А я и нужной костью не хочу быть, и я не хочу быть запасом и лежать в сберкассе на черный день… Но я не мог удержаться. А кто удержится? Я его любил.
…Серега мой, Серега…
Ну ладно.
Старый ты дурень, Зотов.
43
Мужичок молоденький, мальчик хамоватый, со школьными фокусами, на работе не бывший, в рядах не служивший, знающий, что такое параметры и почем Цветаева на рынке, пришел в роддом, где у него сегодня ночью родился сын — три кило четыреста.
Жена — одногодок, чистота, любимица и в институт поступила.
Ну, ладно.
Приехал в роддом, а там мужички и тещи — записки, как на свидании, передачи, как в заключении, цветы, как артиста ждут, а килограммы выкликают, как не то на чемпионате, не то в магазине. Духами пахнет, медициной и выпивкой. Великая лотерея судьбы и тихая биржа.
А ну еще раз — посеян человек в земную грядку, и капля жизни его летит в космосе для неведомых и невероятных дел.
Но жена моего правнука была так хороша для земной программы жизни, что, казалось, она и для космической в самый раз.
Так хороша была жена моего правнука, что ни убавить, ни прибавить, жизнь несла ее как драгоценность, и зло не покушалось на нее.
Всем, чем можно наградить, природа ее наградила, все, чего надо добиться, она добивалась по своему сезону.
Природа наградила ее рождением от здоровых родителей, которые сошлись в дни мира и личной сытости, и зачатие не было омрачено ни истерикой хмеля, ни равнодушием расчета.
Тело ее росло на спокойной пище, а чувства формировались музыкальными упражнениями. Все остальное шлифовалось обычной жизнью, и в каждый сезон она входила, как его наилучший и неоспоримый образец — ребенка, девочки, подростка, девушки и женщины.
Про таких говорят: красавица, — но и в это не верилось.
В красавице есть свернутая трагедия.
В окне роддома с верхнего этажа над лоджией и мужчинами свисала голубая сосулька. Значит, окна выходят на теневую сторону, а на дворе — март.
Итак, пришел мужичок в роддом, отдал апельсины и записку, высвободился из объятий тещи и стал ждать ответа, который не замедлил.
Его поманила голубоватая медицинская сестричка и, отведя в сторону, рассказала, что жена его отказывается кормить новорожденного сына, поскольку боится испортить грудь.
Вот какие дела.
…Квартира еще дожидалась мебели, но газ, вода, лифт их будущей квартиры уже фурыкали, а по белому кафелю ванной ползли крокодилы и бармалеи.
На всех этажах глухо топали жильцы — торопились выгружать лифт — как будто бежали толстые лошади.
Мой правнук лежал на матрасе, переоборудованном под тахту, и вспоминал, что означает сон, если приснились толстые лошади.
Он подскочил как укушенный и вспомнил, что в пять утра ему по телефону крикнули, что у него сын родился!
Схлопывались черные дыры, пульсировало солнце, на земле циклоны вытесняли антициклоны и наоборот, барыги торговали оружием, запугивая население, которому все меньше хотелось его покупать, а у моего правнука сын родился.
…И что поскольку молодая мать кормить сына отказывается, чтобы не испортить грудь, то выход один — в палате лежит мать-одиночка, такого же возраста, как его жена, но родившая по глупости невесть от кого, и у нее молока много, и согласна кормить его сына, то ему следует приносить этой дурочке калорийное питание, поскольку ей передач дожидаться не от кого.
Жена его молодая была рождена по справочнику, воспитана по учебнику, обучена жить по разумным инструкциям. Она была что надо и без этих, знаете ли… Без чего?… Ну, без этих, как их… без сантиментов. Ну что вам еще надо? Красавица, разумная, здоровенькая, нешумная — картинка девочка, знает зарубежные языки, брак ранний, муж молоденький, ребенок здоровенький, и хорошо, что все случилось пораньше, чтобы, может, еще и второго успеть родить и остаться юной. В шестидесятые годы главное — остаться юной. Все, что не юное, не способно к развитию и ужасно. И хватит об этом.
Ни один специалист не возразит. Ни один журнал «Здоровье».
Нас хотят поделить на специалистов и рассовать в папки. И уже дошло, что куда ни ткнись — не твоего ума дело, пока справку об окончании не предъявил. Ты специалист по правому уху, а я специалист по левому — каждый лечит свое ухо. У тебя свой хутор, у меня свой хутор.
Ну, Зотовым это не подходит. Говори им не говори, толкуй не толкуй, а Зотовы всюду лезут и обо всем думают настырно. И когда они слышат, что «нас губит дилетантство», то спрашивают: а откуда они берутся, дилетанты, если специалисты на всех хуторах притаились? и из каждого ухо торчит — левое или правое?
И выходит, что дилетантов столько же, сколько специалистов. Конечно, человек должен знать свое дело. Но одно это еще ничего не спасало. Важно не потерять чутье на общее, на огромное, на объединяющее и не думать, что если ты изучил хобот, то знаешь, как слону жить. Мало быть специалистом. Энтузиасты нужны. Энтузиасты.
И кораблей, утонувших по правилам, больше, чем утонувших без правил, — так статистика говорит.
Значит, дело в чем-то большем, чем знать или не знать, и глубже, чем дилетант или специалист.
Молодой муж Санька загнал в комиссионный магнитофон «Астра», стереофонический, принадлежащий лично ему, и стал возить в роддом калорийную пищу, чтобы она, переработанная телом и душой неизвестной матери-одиночки, стала пищей для его сына — святым материнским молоком.
Он хотел было сходить в общежитие матери-одиночки — узнать как и что и объяснить ситуацию, но побоялся, что его примут за невидимого мужа этой матери-одиночки и девки его побьют.
Да и родители его жены воспротивились, чтобы он увязал еще в не-дай-бог-какой-нибудь истории. Конечно, они мечтали, чтобы муж дочери был принц, но принц не принц, а теперь Санька все же отец их внука. И Санька в общежитие не пошел.
Кто такой принц по нынешним временам?
Это как в балете — принц живет внизу и играет сильными ногами, а она — наверху цветком растопырилась. Иногда и ему хлопают, когда он прыжком одолевает сцену, но главное внимание устремлено не на его ноги, а на ее ноги, и ему хлопают чуть вежливо, как аккомпаниаторше сольного скрипача. Принц — это пьедестал. Кто согласен на такую роль в семейном союзе — того определяют в принцы.
Но она — бедная молодая Санькина жена — не знала, что, перелистывая принцев и отбирая получше, она совершила космическую ошибку, решившись на Зотова. И тут она нарвалась.
Потому что зотовское отродье в пьедесталы не шло, а годилось разве что в ракетоносители.
Отец Саньки, Генка, внук мой, магнитофон «Астру» из комиссионки выкупил да ему же деньги подбросил, Саньке, на пищу для матери-одиночки. И его сын Санька, мой правнук, стал без помех возить передачи, после чего отец его, Генка, мой внук, все девять роддомовских дней стал приходить домой в нетрезвом виде.
«Я бы не хотел навести на легкую мысль, что родители молодой жены были аморальными жуликами, пусть даже неопознанными, а Зотовы лопухами, хотя и способными на реальную догадливость. Я хочу подчеркнуть, что дело не в этом.
А в чем же?
Я и сам не знаю.
Есть одно объяснение, вытекающее из давнего рассуждения Зотова — главного, моего деда, но оно кажется мне настолько невероятным, что я теперь же хочу его записать.
Дед утверждал, что когда что-то чересчур закончено, то хотя оно может радовать глаз, но именно оно уже не способно к развитию, то есть оно начинает исчезать, хотя и хватается руками за воздух.
Ну ладно».
Наконец срок в больнице лежать и приходить в себя у молодой жены кончился, и молодой муж Санька поехал в такси встречать красавицу жену. И букет с тещей заслонял ему ветровое стекло и пространство.
В роддоме ему выдали сверток с сыном в обмен на букет, и молодая жена прильнула к нему исправной грудью. Она была немного бледна, но хороша необыкновенно. Я имею в виду жену.
Розовые кирпичи подсохли, сосулька растаяла, и мартовский ветер трепал пальтишко матери-одиночки, которую никто не встречал.
Она спустилась по ступенькам вслед за супругами и их свертком и хотела было унести в общежитие свой сверток, но молодой муж Санька распахнул дверь такси и, отстранив жену, потянул в машину мать-одиночку, взяв ее за мягкий локоть.
Ей было столько же лет, сколько ему и его жене, и она стеснялась.
Она кое-как влезла на заднее сиденье и пыталась прикрыть коленки.
Санька отдал ей второй сверток со своим сыном.
Жена хотела сесть туда же, но Санька отворил переднюю дверцу, а заднюю захлопнул. Жена хотела сесть на переднее сиденье, но Санька посмотрел на ее ноги, посмотрел ей на грудь и посмотрел на небо, где воздух и март, и сказал:
— Ты берегла бюст, а она — сына.
Влез в машину и захлопнулся.
Жена что-то крикнула и схватилась за тещу, которая тоже что-то крикнула и схватилась за воздух и брызги.
А Санька, отлетая по улице, в зеркальце заднего обзора увидел серые глаза матери-одиночки и двух младенцев на ее руках, которых она только еще начинала кормить.
— Не бойтесь, детеныши, — сказал им Зотов, когда они приехали к нему. — Не бойтесь, детеныши, — сказал им Зотов Петр — первый Алексеевич. — Не бойтесь… Мы снова уходим в рай.
44
Мать-одиночку звали Верой.
«Верочка прожила у нас до февраля следующего года и кормить Серегу-второго не бросила. Так и кормила чужого Серегу и Люську свою — молочных близнецов. Приходила пора отнимать их от груди. Детишки росли здоровые.
Но на них надвигалась Жанна с родителями и судопроизводством — мать есть мать, и у нее права. Они не торопили. История вышла такая постыдная, что лучше было подождать, когда все малость утихнет. Жанна звонила раз в месяц и приходила».
Первый раз Зотов ей сказал:
— Вот что, девушка… если я узнаю, что ты как-нибудь обидела Верочку, я пол-Москвы подниму. Вашим родителям это боком выйдет… С этим условием пущу в дом.
Она ответила спокойненько:
— Я ее ни в чем не обвиняю. Пусть живут с Сашей, если им нужно. Вы наивный человек.
Зотов на слово быстрый, но что ответить — не нашелся. «Не обвиняю!» Нынче, у кого бюст, у того вины нет. Он бы нашелся что ответить, но отвечать было некому.
— Ты Саньку-то хоть любила? — спросил он.
— Теперь это не имеет значения.
Верно. Но и раньше не имело.
— А сына?
— Не знаю. Пытаюсь, — она пожала плечами. — Помню, было больно, когда рожала. Теперь смотрю — он маленького размера.
— «Не знаю»! — заорал Зотов. — Он твою сиську губами не брал — потому и не знаешь!
Она пожала плечами и посмотрела на ручные часики — золотой краб.
Надо будет Верочке такие купить.
Каждый раз, когда Жанна посещала Зотовых, все происходило одинаково.
Она подходила к кроватке. Вера уносила дочку, и Жанна разглядывала сына. Он смотрел на нее, она — на него. Потом она смотрела на часики — золотой краб, поправляла прическу и уходила. Это не была раздирающая душу встреча матери с отторгнутым у нее сыном, вроде как из «Анны Карениной», это было алиби для суда. Как у жильца, что полгода не живет в месте прописки и опасается, что его выпрут.
Потом внизу гудела машина со свидетелями. Потом они возвращались ровно через месяц.
Зотов такого еще не видел.
Серега-второй рос хороший, теплый, цеплялся за Верочку, как мартышонок, а Зотову лез руками в пасть и дышал в нос. Не то беда, что его от Зотовых заберут, а то беда, что он к этим попадет.
Дед пришел под руку с бабушкой и сказал:
— Пора это дело решать.
А бабушка сказала:
— Мать она, конечно, мать, но и мы родня… Санька, а правду твоя Жанна сказала, что ты с Верочкой живешь?
— Неправда, — сказал Санька.
А дальше дело пошло колесом.
«На другой день я сидел у стола и что-то читал. Не помню.
Санька пришел с улицы и хотел в пальто войти к Верочке. Но я не велел ему. Он кинул пальто и шапку на стул, постучался и вошел к ней. Было слышно, как он сел на скрипнувший диван и сказал:
— В тебя мой отец влюбился.
Она помолчала и ответила:
— Я думала — ты.
— Нет… А ты в меня?
— Нет, — быстро ответила она. — Не сомневайся.
Опять молчат. У меня душа в пятки ушла. Неужели Генка?
— А ты как? — спросил он.
— Мне все равно, — сказала она. — Как он хочет.
Пора вмешиваться или нет?
Правнук вышел и стал одеваться.
— Чествовать — это необязательно, Саня, — сказал я.
— Некогда. Я по делу, — ответил он и выкатился.
Все головастики, Санька, Жанна, Генка, Вера — все головастики чертовы».
Зотов заглянул к ней. Она сидела на стуле, положив руки на колени.
— Вот что, дочка, не дури, — сказал он. — Никому ты ничем не обязана. Это мы тебе обязаны. Делай, как тебе лучше.
Она кивнула, не поднимая глаз.
«— Генка добрый малый, но балбес, — сказал я. — Сто раз подумай.
— Он странный, — сказала она. Вот это уже интересно.
— И насчет жилья ты в голове не держи. Это я беру на себя. Решай свободно.
Она опять кивнула.
Более идиотского разговора, чем тот, который случился потом, я не слышал в своей жизни.
Генка явился веселенький и с глупой улыбкой прошелся по комнате.
— Дед… скажи мне…
— Я знаю, — говорю.
— А как ты думаешь, она — мягкая?… Не физически, конечно… — сказал он. — А в другом смысле… В смысле человеческом…
За дураками за море не ездить, своих полно.
— Она вроде нашей бабушки, — сказал я. — Только обманутая. Ну иди. Иди к ней.
— Прямо сейчас?»
— Запомни, — сказал Зотов, — она в нашей семье саженец. За ней нужен уход.
— Это сколько угодно.
Он вошел к ней и оставил дверь открытой. Болван. Надо было постучать. Он пригладил волосы. В Танином незабываемом трюмо было видно, как она выпрямилась от кроватки и застегнула пуговицу у горла.
«Повторяю, более идиотского разговора я не слышал за всю жизнь.
— Давай с тобой жить, — сказал он. — Распишемся. Девочку я усыновлю.
— Давайте.
— Называй меня на ты.
— Давай.
— И Серега с нами. Ты его считаешь за сына?
Серега-второй заорал.
— Считаю, — сказала она и расстегнула кофточку. — Отвернись.
— Я интеллигент, — сказал он.
— Это ничего, — сказала она.
Серега начал чмокать.
— А интеллигентов всегда к простому народу тянет, — сказал он.
„О мама мия! О матка боска ченстоховска!“
Генка прошелся по комнате, посмотрел на себя в трюмо.
— Мы с тобой в Африку поедем, — сказал он. — На три года.
— Ладно, — сказала она.
— У меня все запланировано. Или куда-нибудь еще. А ты меня любить будешь?
— Как ты, так и я, — сказала она.
Генка распрямил плечи и сделал несколько физкультурных движений.
— Нет, в Африке жарко, — сказал он. — Для детей. Давай здесь жить.
— Давай.
— А кто отец Люсеньки?
— Ты не знаешь.
— Я ему пасть порву, коленки покусаю, — сказал интеллигент.
— Он пожалуется, — ответил простой народ.
Но дело в том, что этот разговор из наиглупейших вовсе не передавал смысла того, о чем на самом деле они говорили. И я понял: надо, чтобы этих балбесов никто не тронул».
Есть притча, Зотов уж и не помнил, в какой библии ее вычитал. В какую-то священную ночь отец собирает четырех сыновей, чтобы рассказать историю народов.
Первый сын с высоким челом философа и пророка — этому сыну надо рассказать все и растолковать скрытый смысл судеб. Второй сын кругломордый, торговый — надо сокращенно объяснить историю и установить пределы его хитроумия. Третий сын — шея, прямая как колонна и руки, пригодные к мечу, — ему надо приказать, делай так, а так — не надо. Младший же сын поднял к отцу детские глаза пастуха, и, не понимая, он слушает отца с надеждой и любовью. Ему ничего не надо объяснять, его надо только погладить по голове.
Но остальным трем надо сказать огненные слова, что все их оправдание на земле — сделать так, чтобы было хорошо этому младшему. Иначе будут они прокляты.
— Верочка, поди сюда, — позвал Зотов. — Прикинем, где ты будешь жить.
Они вышли. Генка сел на стул, а она встала у его плеча.
— Поднимись! Ты!.. — сказал Зотов.
— Ах да, — ответил Генка и подскочил.
Зотов взял ее за руку и усадил.
— Верочка, — сказал он, — давай прикинем, где ты будешь жить с мужем и детьми и будешь им хозяйкой, и крышей, и защитой души.
Генка-интеллигент сел рядом с ее стулом на корточки и прислонился к ее опущенной руке.
Она подняла на меня глаза.
Эх, мать честная. Ну ладно.
А Санька в армию пошел.
45
Это было в 65-м году восьмого мая, и город готовился к Дню Победы, который впервые за двадцать лет собирались отмечать широко и по-людски.
— Со мной пойдешь или останешься? — спросил дед.
— С тобой, Афанасий, — ответила бабушка.
— Подождать, что ли?
— Подожди, голубчик, День Победы встретим и двинемся… В мае…
И эти слова послужили яростному спору Зотова с Марией. Такого у них не было никогда.
— Вам надо доспорить безбоязненно, — сказал Витька Громобоев.
И увез их на водохранилище, где у него была изба. Потом уже узнали, что это была изба Миноги.
Двадцать лет прошло! Господи!
И у всех надежда, что жизнь и мир можно переделать умело и с достоинством.
Еще зимой дед позвал Зотова.
— Петька… — сказал дед. — Мне уходить пора, а куда — поглядим, если покажут, а может, никуда, а может, в тебя… Вот дождемся Дня Победы и пойдем с бабушкой.
— Что ты это надумал?
— Хватит. Сто четыре года. А тебе завет — тетрадки свои не бросай. На старое обопрешься — легче в новое прыгать.
— Дед… а во что новое?
— Надо догадаться, как жить, когда в мире мир…
Хотел было Зотов перебить, дескать, сейчас все об этом думают, но он палец поднял — цыц! — и сказал главное, которого Зотов еще не слыхивал:
— И бороться со злом оборачивается злом, и не бороться со злом оборачивается злом — вот противоречие. Вот противоречие, Петька! Значит, зло есть нечто неведомое.
— Так…
— Пора узнать, что есть зло и с чего оно начинается. Тогда и откроется — как его не начинать…
А Зотов как в проруби тонет.
— Дед, дедушка… почему такая печаль?… Неужели нам в этом десятилетии расставаться?… Такая сладкая привычка жить возле тебя. Так было прочно, что ты меня старше и все скажешь, а чего не знаешь — не солжешь мне ни языком, ни рукой… Неужели не осталось года твоей любви ко мне?… Может быть, еще передумаешь ты?
— Хватит, Петька, хватит. Будет тебе за сотню, и ты задумаешься: не пора ли?
— Ну подумай, дед, подумай. Может, бабушка отговорит.
— Да она-то вот и устала. А как я ее одну туда пущу?
— Куда, дед?
— Да в этот, в сапожниковский вакуум. Холодно ей там будет… у кого на груди заснет? Привыкла она… За столько лет сердца наши срослись… да и отстучат вместе.
— Дед, дед… Жизнь моя.
Ему бы, дураку, запомнить этот разговор, но так вышло, что они с Марией накануне Дня Победы оказались на водохранилище, и отвел их туда Громобоев.
Они, как всегда, спорили, а Громобоев из угла мерцал бутылочными глазами.
Вдруг стало темно, ахнул, а потом заурчал гром, буря дунула в стены.
— Как бы стекла не полетели, — трезво и озабоченно сказал Громобоев. — Я ставни закрою. Свет не включайте, пробки полетят к черту, — в воздухе электричества на две грозы. Так посидим. Скоро кончится.
А стены дрожали, выдерживая ветер… Громобоев снаружи захлопывал ставни, будто ладонью комаров бил.
— Вот видишь, Петенька, сидим в темноте, — сказала Мария. — Опять в темноте… Все небывалое, сотворенное человеком, все рукотворное, даже лампочки, даже стекла, даже стены дома могут привести к гибели. Как же узнать — творчество спасение для жизни или нет? Видно, самой жизни этого знать не дано.
Как отличить божественный принцип от дьявольского?
— Между ними есть одно заметное отличие, — сказал Громобоев. Они не видели, как он вошел. — Бог не требует расписки, а дьявол требует. Потому что богу важно знать — чего ты стоишь, если дать тебе свободу, а дьяволу достаточно знать, что ты у него в руках.
И эти слова были сильнее грома.
Громобоев оставил нас и пошел отпирать ставни.
Буря кончилась. Месяц лежал в воде лодкой непричаленной, и таращились звезды. Громобоев сидел на берегу хранилища воды.
— Сиринга, — сказал он. — Сиринга.
И достал плохонький най — музтрестовскую губную гармонику, дальнее подражание волшебной флейте великого Пана, бога природного вдохновения, бога-поводыря.
— Зотов! Кто здесь Зотов? — раздался крик.
— Ну я…
— Домой… Быстро, — кричал парень с бумажкой в руках.
Потом они бешено мчались рядом, проламывая кусты.
В автобусе сидел Немой. Шофер с бумажкой в руке и Зотов влезли.
На заднем сиденье уже был Витька Громобоев.
…Когда Зотов вылетел из лифта, дверь квартиры приоткрылась, и их впустили.
Зотов успел. Они увидели, что он все же пришел. И губы деда шевельнулись, будто он хотел сказать: «Ну пошли».
Держась за руки, они чуть усмехнулись друг другу, а потом стали смотреть неподвижно.
Они оба умерли в мае, в День Победы, держась за руки.
— Отмаялись, — сказала Клавдия.
Немой закрыл им глаза.
Раздался дикий, нечеловеческий вопль, все опустили головы, и только потом их объяла дрожь.
Это Громобоев завыл по-волчьи, по-нелюдски, по-неведомо-звериному. Будто воет природа, не успевшая довести дело до неизвестного нам рубежа.
Потом он резко оборвал вой и уставился в окно.
И тогда все поняли: оказалось, это ветер воет в сквозняках на лестничных клетках, в лифтовых колодцах и распахнутых дверях.
После этого он вышел из комнаты и исчез.
Он исчез, а Зотов записывает через год, что было.
46
После смерти деда вышел Зотов на пенсию. Описывать, как он вышел на пенсию, не будем, — вышел и вышел, как осенний лист упал. Природное дело. И остался он совсем один, делать было нечего. И беззаботный он стал человек. Все, кто старше его, убиты друг другом, все, кто моложе, — стремятся друг друга убить преждевременно.
«Санька приезжал на соревнования в Москву. Он кого-то там победил, кто-то ему накостылял в полутяже. За это ему дали постоять на подставке с номером, и две минуты он был памятником самому себе. Стютюэтка, мать его… „Как вы достигли таких результатов?“ — „Сначала у меня ничего не получалось, но потом…“- „Какие вы испытывали чувства, когда стояли на…“- „Неизъяснимые…“
— На хрена я в Москву приехал? В армии лучше. Я баб видеть не могу.
— Напрасно, — говорю. — Это не по-зотовски. Баб надо любить.
— А как, дед?…
— Неужели не знаешь?… Сильно… Чему вас только в армии учат?
— Дед, Сапожников не появлялся?
— Нет. Зачем тебе?»
Зотову лично стало наплевать, есть живая материя вакуума или ее нет. И была ли жизнь до появления нашей вселенной, которая не то разлетается после взрыва, не то расселяется после живого сжатия великого сердца вселенной. Но он любил любить, и ему хотелось, чтоб так было сплошь и кругом.
В общем, они пошли навестить зотовского праправнука Сережку-второго, бедного малыша, которого математики родили, чтоб отделаться.
Пришли, а там народ: Жанна, видно, блеснуть хотела свободой нравов.
Ну-с…
Прически — «Приходи ко мне в пещеру», «Нас бомбили, я спасался», «Лошадь хочет какать», «Я у мамы дурочка»- всякие. Юбки укорачиваются, волосы удлиняются. Отгремели битвы с узкими штанами, назревают битвы с широкими.
Санька и Жанна старательно показывают разумные отношения, каждый танцует свободно с кем-нибудь дико увлекательным. Жанна с золотозубым, Санька — с тощенькой.
И тут Зотов замечает, что мужчинка величиной с вирус говорит не умолкая и оживленно вскрикивает в паузах. Дураков нет, всем ясно, что он прицеливается в Жанну.
— Приценивается… — сказала тощенькая, проходя мимо.
Ее называли Твигги — прозвище, наверно. Прическа под мальчика, юбочка открывает голые ноги, кофточка без лифчика, под которым все равно нечего было прятать, и голый живот. А глаза, как у китайской собачки, тоскливые, обморочные.
— Зачем ты его привел? — спросила она Саньку и затанцевала возле Зотова.
— Это мой прадед, — отвечал он.
— Ладно врать. Живых прадедов не бывает… Кто вы?
— Он не врет, — сказал Зотов.
— Значит, и он таким будет? И я?… Ну это еще не сейчас… Но надо торопиться.
И они начали торопиться.
И все на одном месте. Только паркет скрипел и диваны. Но, может быть, дому в целом казалось, что он — электричка и куда-то едет.
Потом в углу два инфанта подрались, королевские дети, наследники незаработанного. Инфант инфанту дал по рылу и потребовал, чтобы… и т. д. Чистый человек закричит: я не хочу с вами жить! Тут как в детском кино — хоть бы скорее красные пришли!
Что-то стали Зотову чудиться и вспоминаться весны. Неужели еще не все? Неужели есть перспективы?
— Я хочу в ваше детство, — сказала Твигги.
— Это тебе только кажется.
«Пир ретро, мечта о вони золотарей вместо бензиновой. В старости они так же будут мечтать о теперешних консервах, как я о прежних.
Когда была драчка, Сережка-второй прятался за меня. Я дотянулся со стула и на ощупь накрыл его рукой.
Потом он выглядывал из-под руки и снова прятался. Ему понравился этот номер. Потом он залез под тахту и поманил меня туда. Но я видел, что мне туда уже не влезть.
Тогда он выбрался, и мы вышли в коридор. Но там кто-то сопел и отбивался. Я заглянул в спальню, там было темно и скрипело. Стенные шкафы были забиты одеждой. В ванной лилась вода, и были слышны увещевания расстегнуть ворот. В нужнике раздавалось рычание, грохот водопада и снова рычание.
В этой квартире совершенно негде было спрятаться.
Я посадил его на плечи, и мы стали вдвое выше. Теперь мне было плевать на остальных. Я держал его за щиколотки, а он меня — за уши. Голые коленки были шенкеля, а я был конь. Куда он пришпорит, туда я и пойду. А куда? Сереженька, — а куда?»
И тут малыш замотал головой, и Зотов понял, что он показывает на антресоли, где никто не мог поместиться, кроме него. Зотов открыл дверцу, подсадил его, и он туда юркнул, семеня коленками. Потом оттуда высунулась его счастливая рожица. Он был недосягаем.
А вирус, Зотов даже бы сказал — кукушонок, говорил и журчал.
Он сам себе пожимал быстрые отмытые ручоночки и рассказывал анекдоты из жизни кандидатов противоестественных наук. Иногда он облокачивался на спинку стула и отставлял пухловатую задницу. Он в ихней компании вождек и чему-то радуется. Ну, Зотову это было ни к чему. Он уж было собрался отваливать от стенки, но услышал знакомую фамилию:
— Мы сегодня Сапожникова били на ученом совете.
Может, однофамилец?
— Абсолютный дурак.
Ну, если абсолютный, значит — он. Зотов сам абсолютный дурак, и его сын Серега, и Панфилов, и Анкаголик, и вся зотовская родня такая, вся артель. А этот кукушонок был умный.
— Посидите еще, — сказала Жанна.
— Кто этот малый?
— Это замечательный человек.
— Что ему от вас нужно?
— Ему ничего не нужно для себя. Он всегда выдвигает способных людей.
Зотов подумал о людях, которых он выдвигает. Бедные люди! Сапожникова он задвигал. Это успокаивало. Он, похохатывая, рассказывал, нежно подворачивая язык:
— Я ему говорю: Сапожников, вас высмеет любой ученый. Я ему говорю: ваша материя вакуума с абсолютным нулем есть абсолютная глупость.
— Можно вопрос? — не выдержал Зотов.
— Пожалуйста, — он улыбнулся с лаской.
— А в чем движутся материальные частицы?
— В вакууме, проще сказать — в пустоте.
— Значит, есть пространство без материи? — спросил Зотов.
— Начинается… — сказал он и подмигнул окружающим. — Это сложно объяснить. Почитайте популярную литературу… Есть прекрасные брошюры, которые…
— Популярную мне не одолеть. — сказал Зотов. — Так как же, есть пространство без материи или нет? Он поулыбался еще, потом перестал, потом посмотрел на Жанну, потом на Зотова:
— Кто вы по профессии?
— Он рабочий, — сказала Жанна.
— Инструментальщик, — объяснил Зотов. — Токарь-пекарь.
— А-а… металлолом… Как же… как же… собирали, помню, — сказал кукушонок.
«— Зотов, а сколько тебе лет? — спросила Твигги.
— Вторая тысяча кончается, — говорю.
— Ого! Самомнение!
— Да уж не меньше, чем у тебя.
— Из грязи в князи… — сказал другой вирус, золотозубый.
— Все князи из грязи, — сказал я…
Мы пришли серые, и серые должны были уйти. Чтоб все было ясно. Аутсайдеры. Но тут все поломал Сережка. За всей этой чушью я забыл про Сережку.
Раздался детский плач, который за визгом проигрывателя был почти не слышен. Дверцы антресолей были распахнуты. Сережа высунулся почти по пояс. Ротик его был распялен обидой, он что-то закричал и стал кидать в гостей липкие конфеты.
Все остановились на секунду. Я успел подхватить его, когда он вываливался…»
Еще через секунду он спал у Зотова на руках. Еще через секунду завизжали электрогитары. За окном было утро.
— Санька, скажи им, чтоб вышли вон из спальни.
Он отворил дверь спальни, сказал… «Эй… пилите отсюда». Вышла пара с измочаленными губами. Зотов внес спящего Сережу, раздел, уложил в постель, не мог найти одеяла, накрыл его каким-то платком, вынул из кулачка слипшуюся конфету и погасил свет. За окном было утро.
— Окно есть, а дома нет, — сказал Санька. — Как при бомбежке.
— Аналитики, — сказал Зотов. — Частицы… Пи-мезоны, мю-мезоны… Разбираете дом на кирпичи, потом жалуетесь, что дует.
Они вышли из спальни.
— Нет, правда, а сколько ему лет? — спросила Твигги. — Он еще может жениться?…
— Вы меня шокируете, — сказал Зотов. — Я такой стеснительный.
— Смотри ты!..
— Кончайте, барышня.
— Я не барышня, понятно?!
— Барышня, я с Пустыря. А там еще не такое видели.
— О чем он?
— Он хочет сказать, что мы не первые, — сказал Санька. — Не основоположники. Он хочет сказать, что мы второй сорт.
— На второй сорт вы не тянете, — возразил Зотов. — Вы — уцененные. Всем желаю здравствовать.
И ушел.
Тут полагалось бы описание утра после вечеринки в многоэтажном доме на Сретенке. Чувство опустошения, брошенности, бродяжьего одиночества, помятости, конца всего, чего ждал от жизни.
Вот идет сирота семидесяти лет. И на нем пыльные синие брюки хорошего материала. Свитер.
Было утреннее солнце и недоуменные встречные, которые шли служить. А Зотов глядел то на свои брюки, ставшие штанами, то на утреннее небо и спокойно думал, без отчаяния, — вот и закончилась жизнь придорожной канавой и никому не интересными болезнями.
Кто-то идет рядом? Может быть, это какой-то Зотов идет рядом. Зотову показалось, что рядом идет правнук. Нет, не показалось.
— Санька, а кто этот вирус, этот кукушонок маленький?
— Ах, этот… — говорит. — Ну, знаешь, есть такое морское животное… Забыл, как зовут… В общем, оно когда хочет кушать, то выбрасывает наружу свой желудок, обволакивает жертву, переваривает ее снаружи, потом втягивает обратно…
Зотова повело от отвращения.
— Это метафора? — спросил Зотов. — Или есть такие?
— Есть, — говорит. — Называется — наружное пищеварение… Только этот сначала выпьет душу, а тело само распадается… Жанна этого не видит… Пропадет, дура. Дед, тебе кто-нибудь там понравился?
— Один человек.
— Я понимаю… А кроме Сережки?
— Кроме Сережки?… Пожалуй, эта тощенькая…
— У нее ребенок умер.
— Давно?
— Недавно, — говорит. — Врачи сказали — наследственность плохая.
И тут вдруг стало с Зотовым происходить… И он крикнул, не понимая, что с ним и почему надо об этом кричать так громко, как хватит голоса, но он крикнул, надувая жилы души своей:
— Ах, врачи?! Наследственность плохая?!.. Он наследственно был никому не нужен!!! Не нужен! Понял?!
— Тише… Понял… Тише…
«Наследственно не нужен. Вот. Идем.
— Дед, кто такие гностики?
— Сложное это дело, Санька… Фамилии назвать?
— Как хочешь.
— Они искали знание, как все уладить.
— Где?
— На земле, в космосе… Религия этого не искала. Она велела — верь, без тебя разберутся, пути его неисповедимы, земля — испытательный полигон, бог сам знает, за что награждать… Хиросимскую бомбу кинули? Значит, надо… Гностики же считали, что наша жизнь есть последствия какой-то космической трагедии, катастрофы… случившейся еще до сотворения мира… И если узнать, как быть, то земная гармония возможна.
— Вот как? — сказал он и остановился. — Может, поэтому и взрыв был, всей материи. Ты так считаешь?
— Я считаю, Санька, что дело в чем-то простом.
— А ты знаешь, что это самое простое? — спрашивает Санька.
— Нет, Санька, не знаю. Но время еще есть.
Он покосился на меня:
— Ты что, правда считаешь, что с „милым рай в шалаше“?
— Сань, — сказал я. — В шалаше может быть рай… Но для этого надо, чтоб в шалаше был милый… Другие не подойдут.
— Н-да… — говорит.
— Если бы половина таланта, которую цивилизация потратила, чтоб изобретать инструмент, она потратила бы на то, чтоб изобретать поведение, то человечество уже давно бы жило в раю… Санька, неужели до сих пор не понял, что математика грязи не помеха?…
— Хочешь, выпьем? — спросил он.
— Мне нельзя, Санька, — говорю. — Сопьюсь».
47
На эти соревнования по боксу Зотов пошел потому, что узнал: туда пойдет компания Жанны с кукушонком, а он хотел увидеть Сережку-второго, хоть мельком, мальчика своего, праправнука.
Их позвал Санька — Зотова, Панфилова и бессмертного Анкаголика. Но Зотов пошел увидеть мальчика своего.
Еще в ихнем предбаннике Зотов увидел, что Санька — яростный. В конце коридора толпилась хорошо одетая компания, и Сережка ел конфеты. Жанна была одета ярко и неряшливо. У остальных родовитых был немытый вид, — теперь полагалось так. Видно, им понравилось, что все князи из грязи.
Потом в коридоре Зотов с ними столкнулся, с грязными князьями. Они были умники, и каждый из них был хрупкий сосуд.
— Дети — это очень трудно, — сказал кукушонок. — До тринадцати лет практически они нам не интересны, после тринадцати лет мы им не интересны.
— Интересная мысль, — сказала Жанна.
«— Это не мысль, это злодейство, — говорю. — Сережа, плюнь конфетку.
Он выплюнул конфету мне в ладонь.
Им в основном по двадцать лет. Кукушонок старше.
Двадцать лет — это возраст пожилой лошади. Молодежь — она, конечно, молодежь, но похоже, что эта — безнадежно устарела. Мне неинтересно, что ты отрицаешь, интересно — что ты предлагаешь. А главное — кто это должен осуществить.
Вся эта дохлая элита стала родословные искать, как нанятая. Будто не знают, что каждый произошел от двух брызг, как говаривал Шиллер».
А некоторым даже надоело происходить от обезьяны и хочется происходить из космоса. Пусть. Зотову не жалко. Его это не колышет. Он хочет понять, как из космических потомков получается столько подонков. Ах вы, химики… Когда же вас пымают?
— Дед, — громко сказал Санька, стоя в конце коридора. — Самое любопытное, что с точки зрения термодинамики эволюция невозможна. Основной ее закон — уменьшение запаса движения, распад и упрощение структур… А вся эволюция — это усложнение структур… А?… Лихо?
— Санька… Не здесь… не сейчас, — пытался Зотов его остановить.
Но он говорил все громче, все заносчивее, чтобы слышали эти все и что он их всех — и по силе, и по уму — запросто переплюнет. Зотов понимал: ему нужно, — но это было непереносимо. Он хотел сразу всему ихнему противопоставить все свое: грязи — чистоту, болтовне — мысль, он хотел сразу, а так не бывает.
И Зотов стал Санькой, и слышал все, что было в нем.
И до Зотова дошло — происходило не одно соревнование, а два. Одно на ринге, другое — в зале, и оба были дурацкие. Ринг и зал соревновались между собой. В воображении. И ринг считал, что в случае чего он этому залу рыло начистит, а зал считал, что в эпоху НТР он всегда этот ринг облапошит.
«Может быть, это конфликт физических и умственных занятий? — подумал Зотов и тут же понял: — Чушь!» В зале через одного сидели кирпичи с дипломами, а на ринге математики били друг друга по почкам.
Женщина позади Зотова сказала:
— Между прочим, отец этого Александра Зотова — в красных трусах — знаешь кто? Геннадий Зотов. Он сейчас со своей женой на Западе. Он ест землянику зимой, а лето проводит в шхерах…
Неужели Кротова? Зотов хотел оглянуться. Нет. Ну ее к черту.
Воздух откуда-то в форточку втягивался запахом весны, как будто стекло разбито, и Зотов с Таней целуются в котельной у Асташенковых, и он совсем молодой еще и еще не встретил Марию.
— Я тоже хочу зимой землянику, а лето проводить в шхерах, — сказала Кротова своему мужу. — Ты не знаешь, что такое шхеры?
— Не знаю, — сказал муж и заорал: — Бей! Бей!
— И я не знаю, — сказала Кротова. — Обещай мне, что повезешь меня в шхеры.
— Заткнись, — сказал муж.
Гонг. Второй раунд.
Ну хорошо: зверь, грызущий зверя, не знает, что сам подохнет. Но ведь человек-то знает? Почему же он убивает — всеми способами укорачивает ниточку?
В глазах рябило от разноцветных платьев, заполняющих весь этот станок для мордобоя, и неряшливо одетая Жанна кормила Сережку конфетами.
— Говорят, она стала попивать не только кисленькое винцо, — сказал Гошка.
Господи, этого еще не хватало! Сережка мой…
Зотов вспомнил, как вчера вечером он встретил Панфилова в чужом доме, в лифте, и он на плече возил чужого кота — вверх-вниз.
— Зачем ты это делаешь?
— Я ему обещал, что покатаю.
Вверх-вниз, вверх-вниз. Совершенно трезвый.
— А почему ты такой дохлый?
— Так…
— Ты стал известен… Выступаешь…
— А ты спроси, что я делаю после выступления!
— Я вижу — катаешь чужих котов. А что Сапожников? Куда он пропал?
— У него жена умерла. И двигатель вечный лопнул. Санька спрашивал. Диск. Вечно вращающийся.
— Я даже не знал, что он был женат.
— Она тоже этого не знала…
Ясно. Веяние времени. Ну еще бы! Она не хочет быть белой рабыней, она хочет вращаться. Сначала отдельно. Потом они сбиваются в ансамбли и вращаются все сильнее, — Зотов это видел у Жанны.
Катаются. Вверх-вниз. Панфилов говорит:
— У Брейгеля есть картина — из воды торчат чьи-то ноги… Картина называется «Икар». Никто и не смотрит, как кто-то с неба сверзился… А теперь на небо смотрят — не кинули бы бомбу…
— Вот что, пойдем ко мне, — сказал Зотов.
— А кот?
— Отвези кота, и пойдем ко мне. Я тебя подожду внизу. А завтра пойдем смотреть бокс, Санька демобилизовался и зовет. Хочет, чтоб были свои.
Лифт укатил вверх, замигали цифры. За стеклянными дверями, ведущими вон из дома, была черная духота — плохая погода.
…И Зотов снова стал Санькой и слышал душой все, что было в нем.
Век заканчивался. Вечерело над двадцатым, стальным, электрическим, ракетным, атомным, молекулярно-биологическим, лазерным, хаотическим и отрегулированным и, в значительной мере, нацистским. Странно. Куда же главная-то сила века подевалась? Ну какая разница, кто кому порвет пасть, если уцелевший все равно не знает, куда себя потом деть?
— Бей!.. Бей! — кричала компания кукушонка.
— Санька! — крикнул Анкаголик. — За что бьешь?!
В зале раздался хохот.
— А действительно, за что? — спросил Панфилов.
Зотов отмахнулся. Он тоже не знал.
Жанна разворачивала Сереге очередную конфету.
— Бей! Бей! — кричала ее компания. — Бей!
И Санька наконец увидел их.
Левой, левой, потом правой, правой… Инструмента для хорошей жизни не изобретешь! Изобретать надо поведение!
— Бей! Бей! — кричал бельэтаж и бил в ладоши.
Санька обхватил соперника.
— Брэк! — крикнул лысый с бабочкой. Санька не отпускал.
— Брэк! — повторил тот.
— А пошел ты… — невежливо и отчетливо сказал Санька.
В рядах стали вставать. Судьи зашелестели протоколами.
— Хочешь быть чемпионом? — спросил Санька противника.
— А кто не хочет? — вырываясь, спросил тот.
— Я, — ответил Санька.
И отскочил в угол. Зал засвистел, заулюлюкал.
Санька зубами развязал узел, зубами растянул шнуровку. Сорвал перчатку, сунул ее под мышку, свободной рукой развязал вторую и тоже сорвал ее.
В зале перестали свистеть, и кто-то ахнул, когда Санька запустил перчатки в зал, пригнулся, перешагнул через канаты и ушел по проходу не прощаясь.
Начался бедлам, какие-то звонки, свистки, что-то беззвучно кричали судьи. Лысый, в белых одеждах с бабочкой, нерешительно поднял руку внезапному чемпиону, который был никому не интересен.
Потом ринг стоял пустой и освещенный, без единого чемпиона. Потом над ним погасили свет. Судьи собрали шмотки, и зал стал расходиться. Куда-то прошел милиционер, кто-то пронес полотенце и графин с водой. В верхнем ряду осталась Жанна и четырехлетний Серега с шоколадной эспаньолкой на подбородке; Жанна была одета нарядно и неряшливо, у Сереги был запущенный вид.
— Привет, — сказал Панфилов и помахал ей рукой.
Она ответила, встала, наклонилась к Сереге, вывела его из рядов в проход, постояла, посмотрела на пустой ринг и ушла куда-то наверх.
— Откуда ты ее знаешь? — спрашивает Зотов.
— Знаю, знаю. Вот это бокс! Ты что-нибудь понял?… Нас дисквалифицировали.
Анкаголик сидел откинувшись, как боксер на ринге, обхватив спинки пустых стульев.
— А дисквалифицированный не человек? — спросил он.
Так.
А на следующий день прибежал Санька и сказал:
— Беда.
А уже давно видно, что беда.
— Жанна пропала.
— При чем тут Жанна?! — крикнул Зотов. — А сын?! Серега как?!
— Я не знаю… — сказал Санька.
— Отделались!
Потом пришла ее мать. Зотов ее не узнал даже. Она взмолилась — помогите.
— Я с тобой, — сказал Санька.
— Нет, — сказал Зотов. — На этот раз без тебя.
«Я пришел к старому дому и стоял перед ним как во сне. И это описание того, как человек вернулся через много лет в свой старый дом и обнаружил, что все на месте и даже замок на двери не переменили. Он смеясь достал хранимый как талисман старый ключ и тихонько отворил наружную дверь. За ней была вторая. Он толкнул — заперто на крючок. Там голоса знакомые — видно, слышали, как он открывал ключом. Он закричал: „Это я! Я! Откройте!..“ Там засмеялись, узнали его и не открыли.
И тогда он вспомнил, что все, кого он ожидал встретить в этой квартире, давно умерли и за дверью смеются совсем новые, другие люди».
Зотов вошел и увидел компанию. Это была такая мерзость и срамота, что мы описывать не будем. Как Зотов увел оттуда Жанну и с какой философией столкнулся — об этом тоже вспоминать не хочется. Может, и не удалось бы увести, да он позвонил немому брату своему. Тот пришел, и дело решилось домашним способом.
Из всего, что говорил кукушонок, запомнилось «для». Мол, поскольку после бомбы все святое попрано, надо жить «для». Для чего? Для. Абсурд. Но в этом якобы абсурдном предложении чувствовалась ба-альшая целеустремленность.
«Мы вышли. Оля вела Серегу-второго.
Я запер квартиру на ключ. Теперь в моем старом опоганенном доме никто не жил. Даже тени.
В нем сделают дезинфекцию, косметический ремонт, и в него въедут новые жильцы, которых будут тревожить собственные тени».
Зотову добыли путевки. Он забрал Серегу и Жанну, и они поехали в Крым. На самолете. Первый раз Зотов ехал до Крыма две недели, а второй — несколько дней. Но земля уменьшилась, и теперь они были в Крыму к обеду. А к ужину их разыскал Санька. Он снял комнату со всеми удобствами. Это теперь называлось «жить дикарем».
— Зачем ты прилетел?
— Я недоспорил, — ответил он каменным голосом. Лицо Жанна прикрыла полотенцем.
Серега в песке рыл яму и рядом с ней строил город.
— Человеку надо в себе преодолеть машину, — сказал Зотов. — Машины пускай урчат продукцию — они железные, а для человека — мы это уже обсуждали — с милым рай и в шалаше.
— Ага. С кондиционером и транзистором?
— С чем угодно. Но в шалаше рай, только если в нем милый. Другие не подойдут.
— Милый… — сказал Санька. — Слово из пяти букв. По вертикали.
— У меня есть письмо, которое немой Афанасий написал Олечке, твоей матери… Она плакала, закрывая лицо письмом… Я вымолил у нее переписать в свои тетрадки…
— Представляю… — сказал Санька. — «Роза вянет от мороза, ваша прелесть никогда…»
— Примерно так, — сказал Зотов. — Жанна, прочти вслух. Хочешь?
— Да…
Она приподнялась на песке, подпираясь рукой, а другой взяла листок. Прочла молча, хотела вернуть мне, но отдернула руку, кивнула и, тихонько кашлянув, прочла вслух:
«Я никогда так страстно не желал тебя хранить, не только от скорбей, что дух гнетут и оставляют раны, но даже от теней едва заметных, что мимолетно омрачают души, — хотя бы сам такую тень набросил».
— Дальше, — сказал Зотов. — Дальше самое важное.
— Дальше, — сказал Санька.
— «Тебя хранить я буду, как ресница хранит зрачок: не только пылинки я не допущу, нет, даже солнца луч я отвращу, когда он вдруг ударит».
— Это не он написал. Он так не мог написать, — сказала Жанна дрожащим голосом.
— Это отрывок из трагедии Фридриха Геббеля «Гиг и его кольцо».
— Вот видишь! — сказал Санька.
— Но Немой послал это письмо от себя. Конечно, слова подобрал не он. Он из обыкновенных слов знает только одно слово — «на». Однако это письмо пришло именно от него. И потому это его письмо.
А потом Зотов повторял:
— Жанна, не надо… Перестань… Не надо…
Днем была буря и солнце.
Кто-то купался в волнах и утонул. Множество народу кинулось в волны — желтые, пронизанные бурым солнцем, — и вытащили. Люди стали возвращаться на берег к своим стоящим на пляже спутницам.
Пляж стал укладываться на песок. Только кучка людей возилась с утопавшим — откачали. Он сидел в кругу голых ног, мигал, и у него из носа текла морская вода. Голые люди разошлись. Буря продолжалась.
Вечером на пляж выкинуло челюсть.
Ее нашли Жанна и Санька.
Естественно, поднялся ветер, раздул волну, и море, естественно, выбросило золотую челюсть. Все было естественно.
Они ходили по берегу и кричали:
— Чья челюсть? Чья челюсть? Это не ваша вставная челюсть? Золотая!
Никто не отозвался. Все отворачивались от них с ужасом, преодолевая невольное любопытство.
Золото было свеженькое, а розовое искусственное нёбо щербатое и многолетнее, и его проели соль и время.
Они сели, держась за руки, и до ночи смотрели в море.
Наутро они сказали:
— Дед… Мы опять поженились. Мы забираем Серегу.
— Генке хоть сообщите. И Верочке.
— Мы сообщим, — сказала Жанна. — Вы не беспокойтесь.
…В Москве я получил от Саньки письмо:
«Дед, помнишь, ты спросил у меня, как я отношусь к числу „пи“. Я ответил, что оно меня измучило. Я не мог понять, почему круг нельзя сложить из прямых отрезков. Теперь дошло.
Круговое движение и прямолинейное принадлежат движениям двух типов материи. То есть похоже, что Сапожников прав.
И если Сапожников прав и два вида материи это не липа, то круг и правда нельзя сложить из прямых отрезков.
И галактика, и частицы вращаются, а гравитация в вакууме действует по прямой.
То есть я догадался, что прямая не есть часть кривой просто потому, что они следы разных материй. Понял?
И еще одно.
А вдруг Сапожников прав и без вакуума жизнь невозможна? Тогда понятно, почему вакуум изучению не поддается. Он на наше хамство не откликается. Аппаратура-то вся силовая и мертвая. И, может быть, изучать-то его можно только лаской. И выходит, дед, что ты элементарно прав, — без любви в науке никуда. Хе-хе».
Все-таки «хе-хе» добавил, стервец.
«Ничего, Санька, ничего… — думал Зотов. — Не ты первый… Я ж говорил, а ты не верил — с жизнью никакому транзистору не справиться… Жизнь из математики и машины вывернется…»
Но если теперь, чтобы выпустить бабью заколку, надо строить военно-промышленный комплекс, то рано или поздно жизнь рявкнет: «Але! Мадама! Перемени прическу!»
48
Летним вечером показали в телевизоре — человек пошел по Луне. И начались чудеса!
Этой ночью дико орали коты, и я не спал. В открытое окно било пространство, которое совпадало со временем… И дикий запах зелени, запах зелени… И виднелся высохший дуб, который, видимо, погубили капитальными ремонтами.
Хиреет Зотов. Мне семьдесят четыре, контора планирует ремонт моей квартире лишь в четвертом квартале, а мне уже семьдесят четыре. Поэтому ранним утром я вышел из подъезда, чтобы по магазинам присмотреть материалы — обои, краску, кисти, клей и прочее для самостоятельного ремонта. Потому что я, как Мичурин, не жду милостей от природы и, как пионер, считаю: если не я, то кто же? Жаловаться я, конечно, не пойду, но кто-то виноват, что так. Потому что на земле, кроме урана и воды, все причины субъективные и происходят от субъектов. И значит, виноваты все, если одному плохо. И виноват каждый, если всем плохо.
Я прошлялся по магазинам почти до вечера, вымотанный, забрел в ЦПКО, чтобы отдохнуть среди зелени, и увидел плетущегося куда-то Сапожникова, и вид у него был не ахти, и я все про него знаю.
Сорок шесть лет. Есть некоторое имя. Рухнул дом, работа, денег — рубль. Потянуло на траву. Пришел в ЦПКО имени Горького — бесплатный вход. Песок, пыль, толпы на красных дорожках. Шел, шел — дошел до затоптанного клочка травы. Лег.
Мимо его лица проходят штаны, ботинки, пыльные туфли.
Я сел рядом с ним.
Когда же Сапожников проснется?
Мне надоело, да и темнеть стало, и я его поднял.
— Надо добраться, — сказал он.
— Куда?
— Не знаю, но надо добраться туда, где нас нет.
— Парень, — сказал я. — Покойный дед говорил: если там хорошо, где нас нет, значит, нас там не было, откуда мы вышли.
Я привел его в свой дом. Когда мы поднимались по темной лестнице, он что-то глухо бормотал. Из внутреннего кармана пиджака у него торчала грязная пачка листков, сколотых толстой канцелярской скрепкой, и мне казалось, что от них пахнет ремонтом.
Шаркая по темной лестничной клетке, мы открыли дверь. Я включил свет и ничего не понял: новые обои, покрашены двери, плинтуса, кухня, потолки, на отциклеванных и покрытых лаком полах лежали доски на поперечниках. Оставалось только вымыть окна и разморозить холодильник, еще выветрить запах пола — ландрин и авиамодель. Но — окна были отворены в летнюю ночь.
Я тогда еще ничего не знал, но за эти сутки произошли четыре чуда, и я излагаю их в не поймешь каком порядке, потому что они происходили одновременно. И хотя они друг из друга не вытекали, но каким-то таинственным образом они все же были связаны между собой.
О первом я рассказал: человек пошел по Луне.
Но до этого ко мне пришел бессмертный Анкаголик и разговаривал со мной угрюмо.
Потом ночью дико ревели коты, хотя они орут весной, а уже давно развернулось лето.
Потом я пошел по магазинам и к вечеру увидел Сапожникова в ЦПКО имени Горького. А в это время происходило второе чудо. Вот оно.
Трепет пошел по зотовскому потомству, когда к каждому из них пришел бессмертный Анкаголик и каждому сказал слова. И со всех концов Москвы съехалось в мою квартиру зотовское отродье и другие незнакомые мне лица. Они съехались, отпросившись у жен, со службы или симулируя болезнь.
Все приехали. Все мастера. И починили квартиру Зотова Петра-первого Алексеевича. И даже прихватили лестничную площадку. А потом зотовское отродье на всех этажах бутерброды ело и пило кефир. Потом покивали всем и побежали по своим делам. И это было чудо второе.
А пока я соображал что к чему, Сапожников добрался до комнаты, рухнул на тахту, и из кармана у него вывалились грязные листки.
Я погасил все лампы, оставил только над письменным столом, собрал листки, стал читать. Когда я прочел, я понял, что это было третье чудо.
Это была новая космогония, которая теперь была увязана с эволюцией, а прежняя — только с термодинамикой.
Первую часть я узнал: живой вакуум и материя частиц, и гравитация — это не притяжение неживых тел, а внешняя для них сила. Это все изложено в моих записках от 1959 года. Вторую часть — от нее кружилась голова — излагаю вкратце.
Энергетический подход к эволюции.
Каждое живое существо, в том числе и клетка, имеет определенный объем. Но если живая клетка есть взаимодействие двух материй, то почему объем клетки ограничен?
Очевидно, что каждая из материй вносит в развитие свою специфику и тем влияет на общий результат.
Поэтому далее он рассматривает эволюцию с энергетической точки зрения и делает это на примере живой клетки.
Каждая часть клетки есть взаимодействие материи вакуума и материи частиц.
Когда взаимодействие исчезает — наступает распад, т. е. смерть организма.
Но так как каждая частица имеет запас энергии, который может только уменьшиться, то нужно пополнение запаса, т. е. нужен оптимум энергии, который выражается в определенном объеме, так как для вращения нужно пространство.
Только в этом объеме и может происходить взаимодействие двух материй, которым и является живое существо — клетка. Ни больший, ни меньший объем клетки просто невозможен энергетически, — эта мысль была жирно подчеркнута.
То есть, попросту говоря, оптимум — это уровень тесноты, в которой только и возможно существование клетки как организма.
Если теснота меньше уровня — клетка распадается от недостатка взаимодействия, если теснота больше уровня — клетка делится от переизбытка энергии и тем как бы расталкивает связывающую все гравитацию, как растущий ребенок чрево матери.
Но чтобы жить дальше, клетка должна пополнять запас веществ и выбрасывать отходы. А это значит, рано или поздно, и он окажется заполнен делящимися оптимумами, то есть попросту однородными клетками, и деление либо прекратится и жизнь вымрет, либо в какой-то момент последнее поколение клеток приспособится, то есть «изобретет» способ использовать отработанные вещества предыдущих поколений клеток.
Но так как «тела» этих новых клеток и будут состоять из «утильсырья» прежних клеток, то живая материя должна использовать это «вторсырье» в других целях. То есть последнее поколение клеток должно «пригодиться» всем остальным. То есть попросту у последнего поколения клеток должна появиться в этой тесноте новая функция — так как деваться им некуда: или приспособиться и быть полезным, или умереть. То есть рано или поздно образуются клетки с новыми функциями в общей тесноте, т. е. с новой «службой» в этом новом глобальном Оптимуме Мирового океана.
Но так как деление продолжается по названным внутриклеточным причинам, а Мировой океан заполнен, то единственной формой существования все новых делящихся поколений клеток становится их объединение в группы, ассоциации с разными «службами» у разных поколений клеток, то есть начинается появление многоклеточных организмов.
Таким образом, основным свойством любого живого существа является двуединый процесс — образование тесноты в изобретательность.
Так как без нужной тесноты нет взаимодействия двух материй, а без изобретательности нельзя приспособиться к увеличивающейся тесноте.
И по Сапожникову выходило, что эволюция есть совершенствование этих двух особенностей жизни.
И поэтому эволюция это все большее усложнение многоклеточных структур, где каждое последующее поколение клеток и многоклеточных организмов выполняет новую «службу» в их общем объеме — планете Земля.
Получалось, что планета — это фактически материнская утроба, т. е. не планета, а — плацента.
И тогда эволюция становится не следствием случайных мутаций, а следствием отыскания существами оптимального энергообъема всей планеты в целом. Особенно это заметно на примере рождения человека.
Тогда именно всем этим объясняется внутриутробный цикл — от клетки до человека, который в ускоренной форме повторяет всю земную эволюцию, — энергетика та же самая.
И этот путь в утробе от клетки, через зародыши всех этапов эволюции, до человеческого зародыша становится необъяснимым, если настаивать на том, что главный фактор эволюции — внешний отбор.
Потому что в утробе, в плаценте, никакого отбора и борьбы за существование между клетками не происходит, а тем не менее все этапы эволюции каждый раз налицо.
И рождение ребенка в этом смысле есть уже расселение его в новый оптимальный энергетический объем планеты, в новый оптимум.
Таким образом, представление об оптимуме в корне меняет представление об эволюции видов.
В этом случае вид развивается до своего энергетического потолка, после которого выживание этой живой структуры становится энергетически невозможным. То есть вид исчезает. Не из-за борьбы за существование, не за сохранение своего энергетического уровня, а именно из-за превышения его. Не из-за голодухи, а из-за кризиса перепроизводства. И его место в земном объеме занимает плодоносящий изобретательный вид, т. е. энергетически возможный.
Короче, оптимум это оптимум. Голодному надо изобретать, как достичь оптимума, ожиревшему — как за его пределы не вываливаться.
Поэтому представление об оптимуме и его объеме есть основополагающее энергетическое представление об эволюции живого, возникшей из взаимодействия двух типов материи, одна из которых активна, другая — пассивна. Потому что, несмотря на кажущуюся активность взаимодействий неживых частиц, общая первичная причина их сближения есть гравитация. И значит, развитие — это расселение в другой объем, когда исчерпаны возможности изменений функций.
И тогда начинает проясняться разница между двумя, как теперь полагают, видами движений — перемещением в пространстве и развитием, — действительно несводимых друг к другу. Потому что движений не два, а три — перемещение в пространстве (вращательное), шаровая пульсация (волновое) и их общий результат — развитие…
— Ну что, лихо? — спросил Сапожников. Он проснулся и смотрел на меня. — И выходит, что не жизнь на земле зародилась, — сказал он. — А что жизнь эту землю и создала, когда расплавилась глыба космического льда и стала одной каплей. А вся неживая земная твердь есть переработанные отходы… И тогда жизнь на земле не пленочка и уже почти дозрела до расселения…
— Ладно, — говорю, — что подтвердится, то и правильно.
— Это железно, — говорит. — Я вообще думаю, что количество биомассы на земле всегда одинаково. Когда уничтожается одно существо — плодится другое. Оптимум земли есть оптимум. Поэтому в войну крысы, вошь, бациллы, вирусы — вот идиотски простое объяснение всех эпидемий. Людей убыло, паразитов прибыло.
— Да подожди ты, — говорю. — Дай освоиться… А он дурацки улыбается.
— Если для изобретения новой функции клетке нужен новый повышенный уровень тесноты, то появление разума именно у человека тоже можно объяснить идиотски простым способом.
— Что еще выдумал?
— Кора головного мозга — это у человека последнее поколение клеток с особенной «службой» — сознанием, — сказал он. — А когда человек стал ходить на двух ногах, то его ребенок в утробе матери стал жить вниз головой… И на кору его головного мозга давит вес всего тела. Перед родами-то голова перевешивает… А четвероногие детеныши развиваются лежа! А?…
Я тоже испытывал давление на кору головного мозга, но мне уже не хотелось развиваться, и я прилег на тахту и лежал не дыша.
Черт его знает, может, он и прав…
— Ну что ж, — говорю. — Значит, с древом жизни у нас полный ажур? А как насчет древа познания добра и зла?
— Этого я не знаю, — говорит. — Видно, тоже найдется неожиданный подход… А пока что одно я знаю: материя — это объективная реальность, данная нам в ощущении. Так?… И еще — бытие первично, сознание вторично? Значит, не нарушая этих двух формул, я остаюсь в пределах материализма? Так?
— Значит, ты думаешь…
— Вот именно… Значит, не тело и дух, а две материи, одна из которых неизвестна почти… А сознание по отношению к ним обеим — вторично.
Что я мог ему сказать?
— Я ничего не утверждаю, — сказал он. — Я просто пытаюсь рассмотреть эту версию… Материя — это объективная реальность, и мы можем познать ее свойства… А какие у нее будут свойства — дело десятое… Какие откроют, такие и будут. Ну что? Лихо?
Я кивнул.
Его опять уносило. Пускай. Он приободрился.
— Не горюй, Петр Алексеевич, — сказал он. — Будет и на нашей улице праздник.
Он ушел домой, а я продолжал чтение:
«Мы не знаем причин, по которым живая материя вступает в контакт с неживой. Мы не знаем даже, существует ли она, вторая материя, и живая ли она, но ее наличие вытекает из необходимости объяснить то, что без этого положения не объясняется. Но если сказанное справедливо, то возникает возможность представить себе реальную модель пространства, совпадающего со временем. Это совпадение возможно, если Время, — это взаимодействие двух материй. В этом случае Время становится единой „третьей“ материей, состоящей из взаимодействующих двух материй. И похоже, что одна из них активна, а другая пассивна.
Поэтому в конечном счете пространство и время совпадают, т. е. время и пространство — это практически одно и то же, так как время — это развитие живого, а развитие — это увеличение объема с изменением функций его частей.
В этом смысле Время — это живое, вернее, сверхживое, поскольку энергетическая основа движения времени есть шаровая пульсация живой материи, типа „сердце“. В этом смысле смерть есть распадение времени на составляющие его живую и неживую материи, т. е. прекращение их взаимодействия…»
И далее он этак спокойненько сообщает:
«Поскольку первичная форма движения живой материи есть пульсация, то можно предположить некое дыхание вселенной в целом — типа „вдох-выдох“. Тогда переход от полного „вдоха“ до полного „выдоха“ и наоборот есть конец одного „Времени“ и начало другого. То есть не сжатие вселенной в неживую точку и дальнейшее ее разлетание от взрыва, а разделение при „выдохе“ двух материй и их взаимодействие при „вдохе“, когда живой вакуум, взаимодействуя с неживыми частицами, становится „новым Временем“.
В этом случае вся известная вселенная имеет конечный объем, о чем как будто говорит положение о том, что „вселенная заворачивается на себя“. Но в таком случае ничто не мешает предположить, что вселенная, которая заворачивается на себя, есть одна из многих вселенных, также заключенных в общий для них сверхобъем, и что внутри этого сверхобъема вселенные также делятся на „клетки“, где каждое следующее поколение вселенных в заполненном сверхобъеме есть вселенная с другими функциями. То есть происходит эволюция вселенных, подобная эволюции всей жизни на земле в целом.
И тогда появление разума в человеке означает начало всеобщего разума вселенных, познающих самое себя, для переустройства нынешнего этапа пульсации с целью сделать его непохожим на предыдущий.
Вероятнее всего допустить извечное существование двух типов материи, как и двух типов движения, в своем цикличном взаимодействии создающих третью — материю Времени, из которой состоит все сущее.
Но если материя Времени есть взаимодействие живой материи с неживой, то и развитие разума должно происходить в этот период существования материи Времени. В момент же разделения Времени на две материи неживая должна служить для сохранения информации о прежнем цикле жизни и ее цивилизации, как это происходит при смене земных цивилизаций, где по неживым останкам восстанавливают живую картину прежнего способа жить, чтобы найти новый способ».
«У меня от этого парня голова кружится», — подумал я.
Я услышал звук открываемой двери.
Похоже, что у всей Москвы теперь к моему дому подобран ключ. Потом скрип паркета.
Я поднял голову и увидел: в дверях стояла женщина средних лет и, подняв полные локти, завязывала серую косынку.
— Читай-читай… — сказала она. — Я окна вымою. И ушла.
— А ты кто? — спросил я вслед.
— Нюра… Ай не узнал, — ответила она, и я услышал, как в ведре гремит вода и как рвут газеты, — протирать окна, догадался я. — Дунаева я… В соседнем дворе жила.
Что-то прошло во мне… Но я отогнал видение… Таня… Лунные квадраты на полу… а до этого — день… белесый двор… Витька-приемыш на крыше сарая проснулся и трет глазки… и женщина поклонилась ему… нет, нет… чересчур дикая, чарующая, далекая и острая боль… не надо, не хочу… и не могу… Ничто не возвращается.
И я услышал, как Нюра в соседней комнате моет окна и стекла пищат, когда их протирают досуха, и был бледный рассвет — беззвучный и без воробьев еще.
И я стал дочитывать последние выводы неистового Сапожникова.
Далее он рассуждал так:
«Если мы присмотримся к жизни, то главное, что ее отличает от неживого, во всяком случае, главное из того, что можно заметить сегодня, — это то, что она производит новое, т. е. не просто размножается, а развивается. Пульсирует, но развивается. Скачками, но развивается. Т. е. производит новое, и это новое сложнее старого. А мертвое только распадается. И для того чтобы оно из распада соединялось, нужно это делать специально.
То есть, иначе говоря, живое от неживого отличается творческой способностью, позади которой — желание.
И ни вера, ни разум не могут породить новое, они могут только помочь или помешать, а породить новое может только сама жизнь, только сама эта способность, которая присуща и бацилле, и Моцарту. И, видимо, Моцарт отличается от остальных людей не тем, что он умнее их, — были, видимо, и поумней, — а тем, что он свой ум направил в помощь этой способности, а не во вред, как Сальери, т. е. он был мудрым и не шел против живой природы, а подчинялся ей и использовал.
Поэтому сознательное творчество начинается не с регламента, не с вычислений, не с инструкций, а с прислушивания к тому в себе, что творится бессознательно.
Творчество начинается не тогда, когда ты постановил: дай-ка что-нибудь сотворю, — а наоборот, ты это постановил сотворить, потому что клетки, из которых ты состоишь, творят все время, пока тебя не осеняет их общая нужда оформить новое. Ведь инструкции и регламенты годятся только для повторения того, что уже было сделано, но не для того, до чего еще нужно дожить. Потому что жизнь — это не размножение того, что уже было, а размножение новых попыток произвести новое.
Если одна половина живого съест другую половину, то кого она будет есть потом?
Поэтому убийство — это путь к самоубийству.
На земле все живое делится на две армии — одна синтезирует белок из неживых веществ, а другая поедает этот белок вместе с теми, кто его синтезирует. То есть одно живое добывает себе пищу из неживого, а другое поедает первое.
Но теперь живое доросло до сознания, и добыча пищи сразу из неживого — это вопрос времени и усердия. И человек — первый, кто сознательно перейдет на искусственную пищу. Потому что любую пищу (любую!) можно создать. И кончится убийство живого из-за белков, жиров и углеводов.
Потому что нарастает, грядет — Великий Стыд.
Жизнь порождает инструменты, а не наоборот.
Инструменты влияют на жизнь, они могут облегчить жизнь, могут затруднять, могут ускорить развитие, могут замедлить, может быть, могут уничтожить жизнь, хотя на этот счет есть сомнения, так как бациллы живут и в кипятке и не доказано, что жизни нет на других планетах.
Но инструментом нельзя породить жизнь.
А если это так, а похоже, что именно так, и ни разу еще не было иначе, то не пора ли снова приглядеться к жизни, к той, которая уже есть и сложилась до нашего мнения о ней? Не пора ли приглядеться в надежде, что мы заметим в ней нечто пропущенное в суматохе вер и исследований, и оно опять нам подскажет новое обобщение, и положит иное основание для третьего тысячелетия, третьей тысячи лет нашей эры. Пора об этом задуматься, иначе наша эра может перестать быть нашей».
Я включил лампу и увидел, что небо уже серебряное… Нет, подумал я, дудки… ошибаетесь, теологи… праведность все же кое-что значит в глазах вселенной.
Рассвет. Рассвет, и я описываю четвертое чудо, от которого я застал только завершение или, если хотите, начало.
Вошла Нюра, велела мне перебираться куда-нибудь подальше и влезла на подоконник, чтобы сиять и просвечивать.
Я смотрел на нее во все глаза.
— Не гляди, — сказала она, протирая стекла газетой и не оборачиваясь.
Я вышел из комнаты, а потом — из квартиры.
Такого в моей жизни не было — ни с Марией, ни с Таней, ни с кем.
Как будто во мне медленно плавилось что-то и становилось живой водой. Как будто мертвая вода уходила, и ее вытесняло живое время.
Но не мое время, будущее, другое время, не мое. Как будто пришел срок, и Витька настиг свою Миногу в вечной погоне, и они идут по тропе, возвращаясь под звуки тростникового ная.
И тут в окно лестничной клетки я увидел чудо.
Я, торопясь и спотыкаясь от ступеней и одышки, выскочил на утренний двор и увидел… Боже мой… Вот почему орали коты!
Прошлой ночью заорали коты. Десятки котов орут ночью ужасными голосами. Никто ничего понять не мог. Утром услышали странный стук и, выглянув, ахнули. Высохший дуб весь облеплен дятлами.
Сначала даже не поняли, что это дятлы, они вроде на штучной работе, а тут — огромная стая.
Дуб как в ярких цветах. Десятки дятлов облепили дуб. Долбят. Стук — головенки покачиваются — работают клювы. Коты начали сходить с ума.
Все выбежали — разогнали котов.
Дятлы работали весь день и весь вечер, и дом испуганно недоумевал и вспоминал плохие приметы — глад, мор, война…
Потом дятлы улетели.
Ночь прошла. Утром смотрят — дуб зазеленел.
— Выправился, — сказал бессмертный Анкаголик. — Дятлы червей съели.
Дятлы, дятлы, работники всемирной… Боже мой… Вот почему он усыхал. Его жрали гусеницы, и их личинки, и гниды… Дятлы выбили подкорковую гадость…
И всю эту ночь я познавал Древо Жизни и увидел это чудо только утром, сейчас… Лукоморье… по золотой цепи ходят коты ученые… Но сядет ворон на дубу, заиграет во дуду… И вдруг утро мое услышало звук дуды… И город понял: это Минога и Громобоев возвращаются под звуки Пан — флейты, тростникового ная, Сиринги.
И я вспомнил, что вчера вечером показали человека на Луне, — что это будет? Новинка или репродукция? Новый путь или повторение пройденного? Товарищество или разбой? Смутные человечки в скафандрах на фоне черного неба. Они передвигались по Луне осторожно и слегка подпрыгивали.
«Нет! — подумал я. — Все рожденное непохоже на прежнее, и каждое дитя — новинка».
Весь дом спал. Пронзительно пахло зеленью. Угасал и снова вспыхивал трепетный крик воробьев.
Над серыми глыбами города вставала розовая Заря, Аврора, с перстами пурпурными Эос.
Глава седьмая Пауза перехода
Лучше какая-нибудь гипотеза, чем никакой.
МенделеевУченому фантазия важнее, чем знания.
Эйнштейн49
Однажды пьяница обернулся к Зотову в очереди за сосисками и сказал:
— Куда же ты прешься, японский бог!
А как-то еще до этого Зотов пошел в гости. Квартира была огромная, и в ней жило несколько семей, которые произросли из одного ствола. В этот день они все сидели в коридоре — молодые и старые и смотрели телевизор, потому что они болели за пианиста, побеждавшего на международном конкурсе.
Зотов тоже поболел немножко, а потом молча закричал:
— Гол! Гол! — и пошел смотреть картины и безделушки.
И вдруг ему стало смешно. Стоит, и смеется, и не понимает почему. Смотрит на безделушки фарфоровые, костяные и деревянные, и смеется, и думает — почему же он смеется? А потом присмотрелся и видит — стоит на старинном шкафчике коричневая деревянная фигурка, лысая, с отвисшим пупкастым животом и поднятыми вверх побитыми и поцарапанными руками, и смеется, и видны белые костяные зубки.
Он на Зотова смотрит, жирный человечек, а Зотов на него. Смеются оба.
— Это кто такой, почему он смеется? — спрашивает он у одной из хозяек.
— А это японский бог старинной работы.
— Какой же это бог? — говорит Зотов. — У него живот на коленях лежит. Бог должен быть физкультурно подтянутый, бог это образец. Зарядовой гимнастикой надо заниматься, культуризмом. Ему плакать надо, а не хохотать молча и бессмысленно.
— Не знаю, — говорит одна из хозяек. — Но только он смеется потому, что проглотил все несчастья людей, и теперь они у него в животе и живот раздуло. У людей не осталось несчастий, и поэтому он смеется. И мы его за это любим. Вся квартира.
— Он хороший парень, — сказал Зотов и перестал смеяться. — И с ним можно иметь дело.
Вот как было. А потом пьяница сказал ему:
— Куда же ты прешься, японский бог?
— За сосиской, — сказал Зотов.
Пьяница посмотрел на него и вдруг улыбнулся ласково, как ему жизнь никогда не улыбалась, и сказал:
— На тебе сосиску, садись к нам, не стой в очереди, ну их к черту.
Опять засмеялся Зотов. Таким богом он согласен быть. И пусть его узнают в очередях.
…Орды туристов скребут подковами плиты Парфенона, и колонны его от сажи личных машин все больше похожи на заводские или печные трубы. Орды туристов гремят подковками по картинным галереям, которые уже не гордятся посещаемостью. Орды туристов высасывают из книжных магазинов все переплетенное в твердые и мягкие обложки и имеющее корешок с надписью. Орды туристов мгновенно вытаптывают любую поляну, показанную по телевизору, и следующая орда застает воронки — как от бомбы — пятисотки — от шашлыков и фекалии.
Всем надо все в одно и то же время. Всем нужно первое место в театре, кинотеатре, очереди в магазин и Третьяковскую галерею, билет на самолет, теплоход, тепловоз и подписку на эпопею «Болезни кишечника», круиз по Европе, курорт «Золотые пески», вы были в Акапульке? Я не был в Акапульке. А я был в Акапульке, а вы были в э-э-э… А что вы там видели?… Э-э-э… А каким вы стали после поездки?… Э-э-э… И с вываленных языков капает усталая слюна.
Добыча икры, проблема икры, страдания из-за икры, инфаркты из-за икры, интриги из-за икры, доносы из-за икры, разводы из-за икры, брошенные в роддоме дети из-за икры, и наконец — икра на столе!
Какой ужас!
Оказывается, икра — это уже не предел! Нынче на горизонте пищеварения, по слухам, где-то в сияющей продуктами тучной туче будущего появилось блюдо нового значения и престижа, называемое — папайя! А что это? Кто его знает… Говорят, едят в высших торговых кругах, говорят, она растет на какой-то части суши, со всех сторон окруженной водой…
Размышляя об этом, Зотов все время помнил, что Сереге и Люське предстояло любить.
Зотову никогда не нравилось ханжество и запреты любить, как людям этого хочется. Но ему не нравились задранные подолы на сценах и пляшущие шлюхи.
Запреты ничего не давали, плоть уходила в подполье, и души уродовались ложью. Но дрыгающееся тело, выставленное напоказ, хотя и вызывало общий разогрев, но убивало жажду и тайну отдельной любви.
Семьи трещали, каждый хотел верности от партнера и свободы для себя.
Освобожденные женщины выпрыгнули из платьев, но каждая искала мужчину, который бы не глядел на остальных, и все еще женщина кричит: имею право! имею право!
Когда очень качают права, хочется спросить про обязанности.
…Первое сентября 1970 года. Дети родятся гениями, потом их переучивают во взрослые.
«Я не хочу обучать прошедших по конкурсу, — думал Зотов. — Я не знаю условий конкурса и не верю в беспристрастность членов комиссии. Они люди, и у них есть пристрастия. Я хочу обучать тех, кто сам себя выбрал. Я хочу обучать тех, кто постучится в дверь».
Стука не было. Но раздался телефонный звонок, и Зотов очнулся.
Позвонил Серега и сообщил, что сегодня первое сентября и ему идти в школу в первый раз, так вот, не мог бы Зотов…
Мог! Мог! О чем разговор?!
— Ну и чего бы ты хотел? — спросил Зотов как можно равнодушнее.
Ему семьдесят пять лет. Не может же он в самом деле…
— Ну и чего бы ты хотел? — спросил Зотов, слушая в трубке тишину.
За окнами трезво и пасмурно. Дети пойдут в школу, и начнется новое обучение.
— Что тебе подарить? — спросил Зотов.
— Дай мне собаку взаймы, — небрежно сказал Серега-второй и добавил дребезжащим голосом: — На один день. Дашь?… Взаймы.
— Хорошо.
Он там, в Зазеркалье, перевел дух и спросил:
— А дорога?
— Что дорога?
— Дорога к нам и от нас входит в этот день? Или это отдельно?
— Как отдельно? Говори яснее?
А где уж яснее? Яснее не может быть.
— Мы с ней будем по траве бегать и по квартире бегать… Мама уже ковры закатала.
— Хорошо. Только знаешь как сделаем?
— Как?
— Я сам отведу тебя в школу, а потом ты придешь ко мне и будешь гулять с собакой сколько хочешь.
— Я согласен… — быстро сказал он.
— С родителями я улажу.
На школьном дворе среди цветов и речей молодая мама сказала с завистью, поглядев на Зотова и на часы:
— Хорошо, когда у, ребенка есть дедушка или бабушка.
— Я не дедушка и не бабушка, — сурово ответил Зотов.
— Кто же вы? — усмехнулась она.
— Я прапрадедушка.
Она испуганно отодвинулась. Она думала, что прапрадедушки только покойники.
Зотов дождался конца первого дня занятий и, когда Сергея отпустили, забрал его к себе на квартиру на встречу с собакой, взятой у судьбы взаймы.
Зотов устроил пир горой для них обоих, и они милостиво разрешили присутствовать остальным. Они визжали, брали барьеры, устраивали шалаш под столом, а взрослые пировали — когда вместе с ними, когда отдельно.
Взрослые — это Зотов и Анкаголик. Генка, Вера и Люська все еще были в загранкомандировке и проводили лето в шхерах.
Потом явились родители забирать Серегу — второго, выданного Зотову взаймы. И когда пришла пора расходится в разные жизни, Зотов сообразил, что не спросил даже, чем они там занимались, в своей школе в первый школьный день.
— Серега, — позвал он.
И тут все услышали тишину, как будто кто-то опять молчал в телефонную трубку.
Их разыскали в коридоре. Серега-второй стоял, вжавшись в угол, куда она его загнала. Он стоял закрыв глаза, вытянув шею и — руки по швам, сжатые в крошечные кулаки, а она длиннющим языком полоскала его со щеки на щеку. Дорвалась. Видно, весь день готовилась облизать его в свое полное удовольствие.
Жанна вскрикнула.
— Они прощаются, — сказал Анкаголик.
И Серегу оставили у Зотова взаймы еще на один день.
А Павлов не велел даже говорить: «Собака захотела» — и штрафовал за это сотрудников, чтоб они сосредоточивались на рефлексах ихней химии и физиологии.
Дожили. Все живое — хочет. Теперь узнали, что это была его ошибка, Павлова, но никто ни перед кем не извинился. Я имею в виду собаку. Хотя подумаешь — собака! Когда-то давно вопрос стоял даже так: «Химические причины подвига Сократа».
Когда Серегу отмывали под краном, Анкаголик сказал Жанне:
— Не боись. Собака любую заразу слижет.
А потом родители ушли, и Зотов спросил: что было в школе?
Оказалось, все рассказывали сказки по очереди, и когда дошла очередь до Сереги, он рассказал историю пересохшей реки.
…Река пересохла и стала улицей, по берегам которой выросли городские дома.
Однако заметили: промокают дома, фундаменты, и плесень на стенах. Значит, под улицей все еще протекает река.
Реку заключили в подземные трубы, но и это до первого ливня. Потому что вращение земли дает трещины в трубах, и все время надо чинить.
Люди получили водопровод и потеряли реку.
Но вот земля тихонько вздохнула, и трубы полетели к черту.
Люди ушли искать другие берега, и посреди улицы потекла река, и на нее опустились лебеди.
И тогда вернулся первый человек, открыл ключом дверь своей квартиры на третьем этаже, насыпал крошки на подоконник, и к нему слетелись пыльные воробьи.
Через окно на капроновой веревке он опустил полиэтиленовое розовое ведро и зачерпнул воду из реки.
И тогда забился над городом, и закричал жареный петух, и клюнул в темечко каменную громаду, и город очнулся от сообразительности и наконец проснулся, потому что дорога проходит там, где под землей текут неизвестные, невидимые реки…
Зотов, видимо, задремал под эту сказку и в дреме своей кое-что сочинил сам.
— Аста ля виктория сьемпре — всегда к победе! — сказал Серега.
Ствол повело вправо.
Старуха с золотой челюстью выстрелила. Зотов очнулся.
— Где выстрел?! Где?! — прохрипел он, очнувшись.
— Где, где… У тобе на бороде, — раздраженно ответил Анкаголик. — Валяй дальше, Серега.
И Зотов понял, что его отодвинули куда-то в сторону.
«Дед, дед… Где ты? Первый раз без тебя встречаю новый десяток. Спросить некого: что есть фантазия?»
Так что же такое фантазия?
50
Эту жизнь прожило много людей, записал один человек, а читаете вы — то есть все происходит как в жизни, где половина того, что мы знаем, мы знаем понаслышке.
Единственная оригинальность сказанного в том, что оно вообще сказано. Обычно уважающий себя реалист божится, что все происходило, как написано.
Самое интересное, что если он художник, то он даже не врет. Он только забывает добавить, что все написанное происходило у него в мозгу.
А это существенно меняет картину.
В суде два свидетеля по-разному описывают происшествие, детей предупреждают, что Кощея Бессмертного нет, а заяц и волк нарисованные, но шустрая Кротова с родственниками по боковой линии и детьми от первого и второго брака твердо знают, какое количество жизни не вошло в книжку и насколько оставшееся правдиво.
Великие умы тысячелетиями бьются над тайной разума и фантазии, а она — знает.
Хорошо ей.
Но вот простой вопрос: что правдивей — гоголевский «Ревизор» или гоголевский «Вий»?
Ответа не знает никто.
Однажды приехала Мария и рассказала, что проделали Громобоев со своей Миногой, когда, путешествуя туризмом, заходили в их места.
У них председателем по-прежнему был Яшка Мордвин по прозвищу Колдун — за то, что угадывал погоду, и у него росло то, что у других никло. А дело простое: у него наготове резерв. Как услышит сводку, так готовит резерв ей поперек — мало ли! Прогнозы ошибаются, а председателю нельзя.
Но в это лето погода стояла сухая до ужаса. Значит, машинный рев, людской пот и коровьи слезы. Гарь стояла.
Приехали из района и смотрели на все. «Резервы давай, резервы!» — твердили безнадежно, понимая, что их нет.
— Какие резервы! — орал Яшка. — В колодцах воды полкуба! Артезиан пузыри пускает, и насосы хрюкают!
— Колдун… — пренебрежительно сказал соседний горький председатель, у которого дела шли еще хуже. — Видать, и ты с прогнозом не сладил… Одна надежда на тебя была — может, ты что подскажешь хорошее.
— Пить охота, — твердо сказала Минога.
Они с Витькой стояли среди окружающих и смотрели на разговор.
Громобоев спросил Марию: хорош ли у них председатель? Мария кивнула.
— А ты поплачь! — яростно ответил Яшка Колдун горькому соседу. — Может, дождь пойдет!
— Да пошел ты… — сказал горький председатель и, чтобы не уточнять куда, сам пошел к своим лимузинам, которые разворачивались в мареве на дрожащем от зноя шоссе.
Яшка протянул ему вслед два пальца и крикнул уничижительно:
— У-тю-тю! Поплачь! Утю-тю!
И все увидели, как из его пальцев вылетели тонкие кривляющиеся молнии и ушли в землю у самых ног уходящего.
Тот обернулся к перепуганному Яшке Колдуну, раскрыл рот, чтобы ответить. Но его заглушил небесный грохот. Над полем росла и вздымалась черная туча, в которой вихрились и вихлялись сражающиеся молнии.
— Стадо! Стадо с поля! — крикнул Громобоев.
И хлынул ливень.
А вечером того же дня под хлест дождя — в бочках, ведрах и корытах, под треск помех в телевизионных антеннах женщина, стоявшая у карты на экранах всех телевизоров, объяснила, что именно циклоны делают с антициклонами, и наоборот. И еще она сказала растерянно, что, несмотря на общую у нас сверхсухую погоду, язык ветра, дождя и молний протянулся с Атлантики, и показала на карте — куда. И все увидели, что он протянулся аккурат в ихние места, а больше никуда не протянулся.
— А при чем тут Громобоев? — вступился Зотов за Витьку.
— Он опять при этом присутствовал, — спокойно ответила Мария.
— Машенька… — сказал Зотов. — Я устал от твоих фантазий.
— А я — от твоих, — сказала Мария. — Неужели и сейчас не веришь?
— В антициклоны?
— Но это же очевидно! — сказала она с возмущением. — Только слепец не видит, что когда появляется твой сын…
Вернулись из вояжа Генка с Верочкой и тощей Люськой, одетой в дико модное что-то. Им было неплохо там, в шхерах, но Верочка посчитала, что программа жизненного возвышения для их семьи закончена и надо начинать развиваться в нормальную сторону — зимой учить детей в школе открытого типа, а летом ездить в деревню, если есть куда. Генка недолго думая согласился с ней, потому что она была тихая.
И тогда Зотов отвез Люську и Серегу к Марии, потому что она давно звала.
Приехали на природу, и Мария стала отпаивать двух тощих зотовских потомков молоком священной коровы.
— Я придумал, это священная корова, — сказал Серега. — И у нее должно быть особенное имя.
— Матильдия… — быстро сказала Люська.
— Почему? — удивилась Мария.
— Не знаю… — мечтательно сказала Люська. — Матильдия…
У них с Марией и коровой быстро образовался свой язык.
В юности эта корова была буйно-жизнерадостная и огненно-удовлетворенная в зрелости и поила Серегу и Люську горделивым молоком.
Они украшали ее венками из полевых трав, и она их жевала.
Потом смотрела на детей и дышала на них, и у нее изо рта свисала травина.
Как будто Зотов смотрел кинофильм из своей жизни, в которую его не пригласили.
Серега и Люська кувыркались в траве, а Мария тихо смеялась их чистоте. И молочные близнецы, которых не успели полюбить после рождения и разверзли по разным жизням, снова кувыркались в одной траве у гигантского коровьего вымени.
51
…Фантазия… Искусство… Священная корова…
«Над вымыслом слезами обольюсь», — сказал Пушкин. А почему? Значит, с нами на самом деле что-то происходит? Какое-то материальное движение? А в нематериальное движение Зотов не верил.
«Почему древний бык на стене пещеры нравится мне до сих пор? И почему все стареет, кроме искусства?» — думал Зотов.
Как это может быть, он не понимал. Но когда он прикасался к этой тайне, его охватывала оторопь… Видно, тут мы подошли к чему-то неведомому в самом человеке… Не поняв, что есть искусство, не понять, что есть Добро, а что Зло. А Зотов вспомнил завет деда — найти.
Потому что либо надо признать искусство за устойчивое помешательство всего человечества, либо к понятию «нужда» придется искать иной подход.
И Зотов разыскал Панфилова. Где? Конечно, у «нерукотворного» памятника. Александр Сергеевич смотрел на них хотя и не свысока, но с высоты, и потому Панфилов чувствовал особую ответственность, когда докладывал Зотову Петру — первому Алексеевичу свои соображения насчет художества.
— Итак, внимай, старче, — сказал Панфилов, — ибо похоже, что ты знаешь в жизни все, а в моем деле — сосунок. Поэтому я не буду тебе сообщать, что об искусстве говорят другие. Тебе это ни к чему, а они сами знают. Скажу только, к чему добрался мимо них.
Я тебе расскажу некоторые новинки, которые ты не мог нигде прочесть, потому что они никем не написаны. Ну, слушай.
Сила искусства не в том, что оно высказывает идеи, а в том, что оно их порождает. Сила же науки как раз в том, чтоб высказывать плодотворные идеи. Наука их рекомендует, а искусство пробуждает. Поэтому наука и искусство развиваются разными путями.
Искусство — это способ преподнесения и самих идей, и всего, из чего сложено произведение… Запомни. Способ преподнесения!
И потому в искусстве на одном и том же материале возникает и великое, и ничтожное, и никчемное.
Конечно, каждая эпоха отпечатывается на авторе — неважно, спорит ли он с ней или согласен. Но так как сила его как художника не только в открытии свежего материала, но и в умении даже в старом материале открыть новый способ его развертывания, т. е. догадаться о силе его будущего воздействия, то новизна в искусстве — обязательна…
Ночь была городская, звонкая, реальная. Над силуэтами домов небо стояло еще светлое. И там, где раньше были кафе, аптека и шашлычная, в сквере светились здоровенные загадочные часы, стрелка моталась взад-вперед, и Зотов никак не мог понять, в каком времени он живет теперь. Ночь была фантастическая.
— Но ты скажешь, что и в науке так, да и не только в науке? Но в этом внешнем сходстве вся путаница. Наука начинается с изучения природы, а кончается технологией, т. е. как с меньшей затратой калорий достичь большего результата.
А у искусства задача прямо противоположная. Искусство для того, чтобы калории растрачивать. Их изобилие так же вредно отдельному человеку и обществу, как и их недостаток. Растратить! Запомни. И это его первое главное отличие.
Растратить — это нормальная задача любого живого организма. Если накормленный скакун не растратит полученные калории, у него отекают ноги. Если не выдохнуть — то не вздохнешь.
«Видно, это и есть тот самый катарсис, — подумал Зотов. — Значит, впрямую — очищение. Похоже, он знает…» Но многое у Зотова вызывало торопливые возражения. А как только это возражение высказывалось, Панфилов его снимал. И Зотов решил: главное — не торопиться. Выслушать. До конца.
— У новизны в искусстве есть еще вторая задача, — сказал Панфилов, — отличающая ее от новизны в науке. Пользование искусством дело добровольное. И если люди говорят — слышали, старо, сыты по горло, то это навсегда и ему подавай новое. Еда может быть и старая, а искусство — только новое. Потому что оно дает душевное развитие, которое порождает у потребителя новые идеи.
Вот какую ничем не заменимую роль играет в искусстве новизна. И вот чем ее роль отличается от таковой же в науке.
В науке новизна для добывания калорий, в искусстве — для их растраты. В науке — для сохранения организма, в искусстве — для его развития.
Живому существу, человеку, нужно и то и другое, так как эти две вещи связаны — организм без развития не живет, так как он не машина, т. е. развитие не может быть остановлено. Но если организм не сохранен — развиваться нечему.
Однако это еще не все. Есть еще третье отличие новизны в науке от новизны в искусстве. Это отличие не только в добыче энергии и ее растрате, не только в сохранении организма и его развитии.
Если бы различия в новизне ограничивались только этими двумя, то искусство превратилось бы в некий аварийный клапан, спасающий от перегрева, или в плохие рекомендации развития. Первое гораздо лучше делает медицина или спорт, второе — та же наука. Если бы все сводилось к этим двум отличиям, то искусство стало бы суррогатом и самоликвидировалось.
Этого не происходит потому, что есть и третье отличие.
Наука в конечном счете возникла от нужды. Хочешь не хочешь, нравится не нравится, пришлось ею заниматься, чтобы выжить. Конечно, плоды ее и процессы доставляют разнообразные удовольствия, в том числе и духовные. Но если их и не будет, наука все равно должна существовать, иначе — нужда, голод, потом распад? Поэтому новизна в науке служит для повышения энерговооруженности человека и общества. Для искусства удовольствие — это главное, из-за чего и для чего оно существует и производится.
Удовольствие — это тоже нужда, но коренным образом непохожая на предыдущую.
Пользование наукой, в конечном счете, вынужденное, а искусством — добровольное. Простой пример. Никто не может заставить человека получать удовольствие от вида чужих несчастий. Но если показ чужих несчастий почему-либо важен, то надо найти способ, чтобы человек захотел на них поглядеть. Вид страдания старика отца непереносим для любого нормального человека. А на «Короля Лира» бегают смотреть уже пятьдесят лет. А насильно, как известно, мил не будешь.
Значит, в искусстве поиск новизны — это еще и поиск удовольствия.
В науке еще кое-как можно сказать — повторение мать учения, в искусстве же повторение — мать скуки, т. е. душевной лени, которая и есть мать всех пороков. Устарелая наука приводит к голоду, устаревшее искусство приводит к порокам. Порок — это попытка избавиться от развития самоубийственным путем.
Возникает вопрос: может ли человек вообще обойтись без искусства?
Отдельный человек может, общество в целом — нет.
Потому что само удовольствие от новизны в искусстве — тоже особенное…
И тут мы переходим к Образу.
— Ты не очумел? — спросил Панфилов.
— Отвали, — ответил Зотов, — кончай.
А у самого сердце вздрагивало, как при угрозе.
— Конечно, суть искусства не в новизне, — сказал он. — Суть его во вдохновении. Искусство вдохновением создается и должно его же вызывать.
Но без новизны вдохновение не возникнет ни у автора, ни у потребителя. Поэтому новизна в произведении искусства — это не сервировка блюда, а способ вызывать вдохновение, т. е. такое состояние, при котором все, что ни делается, делается к лучшему.
И если критерий искусства есть вдохновение им вызываемое, то отпадает традиционная болтовня о том, какая нужна новизна, нужна ли она вообще и сколько граммов ее класть в старое блюдо.
Потому что если критерий искусства — вдохновение им вызванное, то новизна нужна такая, которая его вызывает, а которая не вызывает — не нужна.
В чем же суть этой новизны?
Если рассуждать по аналогии с наукой, любая новизна со временем перестает быть таковой. Однако опыт показывает, что трехтысячелетняя «Илиада» или пятитысячелетняя Нефертити, да что там Нефертити, неизвестно сколько тысячелетние «бизоны» не перестают на нас действовать.
— Вот! — крикнул Зотов. — Бизоны!
— Не ты один, — сказал Гошка. — Многие ученые поражаются. Но все дело в том, что здесь по аналогии с наукой рассуждать как раз и нельзя. Потому что новизна в искусстве, вызывающая вдохновение, — это новизна образа.
Что же такого нового в этом образе, который чаще всего выглядит как зафиксированная жизнь, что же в нем такое новое, что не становится старым? И как такое вообще может быть? И неужели все стареет, кроме образа, если он в произведении оказался? А ведь это так — старые песни, старые сказки, старые лики, — ими упиваются и в их прежнем виде, их переписывают, переиначивают вновь и вновь и передают из народа в народ.
Казалось бы, полное противоречие с утверждением, что в каждом произведении должна быть новизна? Но противоречие это, если рассуждать по аналогии с наукой. Если же этого не делать, то никакого противоречия нет.
Новизна образа — это не новизна реального факта, хотя чаще всего образ выглядит как этот факт, новизна образа — это новизна явления типа сна.
А все знают по собственному опыту, что, повторяйся счастливый сон хоть всю жизнь, никто бы не отказался его смотреть. Обратное положение для кошмарного сна — его не хочется смотреть и один раз.
Ведь странная вещь: опасность, пережитая в жизни, часто влечет человека пережить ее вновь.
Но никто еще не выражал желания повторить во сне кошмар. И наоборот — в жизни полное повторение вчерашнего счастливого свидания не выглядит таким же сегодня. Так как в жизни оно требует развития. Счастливое же свидание, пережитое во сне, человек хотел бы пережить каждую ночь и мечтает, чтобы сон не изменился.
В чем же тут дело? Не перебивай меня!
Кошмар, опасность во сне — это образ абсолютной опасности, не оставляющей надежд. А опасность, пережитая в жизни, оставляет надежду выпутаться. Поэтому можно рискнуть другой раз и закалять мужество.
Счастливый сон — это образ абсолютного счастья, без нужды в поправках. Счастливое же событие в жизни зависит от обстоятельств неповторимых, и чтобы добиться прежнего эффекта, приходится на них влиять, отвлекаться, и радость блекнет.
А потому мало того, что сон всегда новинка, — он новинка навсегда.
Я не мистик, — сказал Гошка. — Я материалист. Что такое сон, я не знаю. Но из всего, что я знаю на свете, образ больше всего похож на сон. Образ в искусстве — это забегание вперед, приманка к результату или предостережение, т. е. стимул развития.
И художник, переполненный образами, жаждет воплотить их, превратить в плоть, т. е. из образа сделать его подобие…
И голос его затих, и что-то стало торжественно распрямляться в душе у Зотова.
«А правда, — думал Зотов, — только и слышишь о сражении веры и разума». А ему вспомнились вещие слова деда, что людское сознание зародилось на стыке сна и яви и отделило человека от зверя, и человек не знал, как быть — отбросить или прислушаться. И может быть, сама способность мыслить и есть попытка в этом разобраться.
Ночь стояла над городом. Машин поубавилось. И вроде даже свет сэкономили. В окнах, что ли? И только к памятнику Пушкину нет — нет да и подходили девочки и клали к подножию цветочки в надежде, что у них что-нибудь сбудется.
52
В 1973 году состоялось чудо святого Макария Калязинского, совершенное вовремя.
На то оно и чудо.
В этом году решили справить полувековой юбилей капустного подкидыша Витьки Громобоева и его однолетков.
Но когда собрались гости, то оказалось, что именинников-то и нет. А когда почтальон принес бандероль, все поняли, что это ихние штучки, и дожидаться не стали, а сели за стол. Потому что всем громобоевским однолеткам было по восемнадцати, когда началась война. А пришли они или не пришли — это уж как вышло, и когда деду справляли юбилей, Пустырь справлял юбилей поколению.
Раскрыли бандероль, там оказалась книга Зимина А. А. «Россия на пороге нового времени». Изд. «Мысль», 1972. На обертке написано: «Сенсация!» — а от Сапожникова имелась на нужной странице закладка о Макарии Калязинском.
Открыли страницу и прочли, что все у них там, в Калязине, началось с незначительного факта. Купец Михаил задумал построить новый каменный собор в Калязинском монастыре вместо деревянного. И при сооружении фундамента они обнаружили мощи основателя монастыря Макария. Для проверки туда едет чудовский архимандрит Иона. И в 1523 году церковный собор признает мощи нетленными и чудотворными.
И выходило, что Витькины одногодки отмечают не только свой полувековой юбилей, но что их рождение приходилось на четырехсотлетний юбилей Макария Калязинского. Сейчас — 450 лет со дня его признания чудотворным!
Однако сенсация была не только в этом совпадении юбилеев, а в том, что, согласно книге, Макарии Калязинский был первый на Руси чудотворец. Первый!
Святые были и до него, а чудотворцев не было. Вот так. Видно, разные это дела. И выходило, что все чудотворцы на Руси начались с заштатного города Калязина.
Зотов только кряхтел.
Эх, чудотворцы 1923 года рождения!
Все ушли. А Зотов с Анкаголиком остались покалякать о том о сем.
А теперь переходим к описанию чуда.
…Слушайте! Слушайте!..
Санька и Жанна давно заметили, что ихний Серега прилип к Анкаголику, и это их, конечно, волновало. Однако Серега-второй не поддавался. Поэтому, когда раздался звонок, стало ясно — вернулся Серега.
Анкаголик и Серега-второй сели на диван, лица у обоих были хмурые, и они не смотрели друг на друга.
— Нам не велят дружить, — сказал Серега.
— Ага… Это ничего, — ответил Анкаголик.
— Как же ничего?… Я же вижу, ты страдаешь.
— Да ну! — небрежно сказал Анкаголик, глядя в сторону. — Делов-то.
— Я тоже страдаю, — сказал Серега.
— Ну и зря… — радостно сказал Анкаголик, ухмыльнулся своей нержавеющей улыбкой и, оглядев Серегу, спросил: — Ну да?
Зотов делал вид, что безумно увлечен сводкой погоды.
— В страданиях немеет человек, мне ж дал господь сказать, как я страдаю, — сообщил Серега и добавил правдиво: — Это я прочел!
— Читаешь что попало, — радостно сказал Анкаголик.
— А ты бы не мог бросить пить? — нерешительно и с робостью спросил Серега. — И у них бы тогда не осталось аргументов?…
— Чего не осталось?
— Ну… — затруднился Серега, подыскивая слово на другом языке. — Ну им бы тогда крыть нечем.
— А-а…
— Ты бы не смог бросить пить?
— Делов-то… — так же небрежно ответил Анкаголик.
Зотов сгорал от ревности. Он присутствовал при великом событии, которое происходило буднично, потому что это чудо было под силу только этим двоим.
— Ну, я им сейчас скажу… Они у меня услышат… — забормотал Серега и снял телефонную трубку. — Они там все собрались и ждут… Это они мне велели вернуться и сказать, что не велят… Понимаешь, они уселись дома и ждут.
Диск отжужжал положенное, трубка отгудела.
— Але… Это я… Ну все в порядке, — надменно сказал Серега. — Нет, вы не поняли… Он бросит пить… Я снимаю ваш последний аргумент…
Это говорил зотовский праправнук из четвертого класса средней школы, акселерат.
— Что? — Он прикрыл трубку и спросил у Анкаголика, который развалился на диване и притих, как перевернутый жук: — А когда?… Они спрашивают, когда ты бросишь пить? Это они спрашивают, а не я.
— Вот только харю вымою. — Жук пошевелил лапками.
— Он бросит пить… как только вымоет… — Серега сморщился и с отвращением подобрал в трубку слово на их языке, — лицо.
Ничего не поделаешь: Зотова опять отстранили.
И ему тошно.
Не обратил на него внимания Серега, а обратил внимание на его собаку и на Анкаголика.
В ванной шелестела вода и слышалось хрюканье, сморкание, плеванье и, мы бы даже сказали, рычанье — это бессмертный Анкаголик бросал пить.
— Ну и когда же ты… — Зотов подавил вздох, — обратил на него свое просвещенное внимание?
Он спросил Серегу голосом интервьюера по телевизору, но с душевным скрипом и старался, чтобы Серега не расслышал этот ржавый скрип.
— Впервые я обратил на него внимание, — задумчиво ответил Серега, — когда все говорили, говорили, думали, думали, а он созвал всех наших ремонтировать дом. И прилетели дятлы…
И Зотов подумал на двух языках, что крыть было нечем, потому что не было аргументов. Серега был прав.
Из ванной Анкаголик вернулся в зотовском галстуке. Он причесал зотовской расческой свои мокрые волосы и сказал, что его зовут Дима.
Это Зотова потрясло.
53
Ну-с, далее.
Этот день был такой свирепый и такой ничтожный, что казалось, будто его ампутировали от других дней и от остальной жизни, и теперь он извивается, как оторванный хвост ящерицы, который полагает, что он все еще ящерица, и живет.
Раздался звонок в дверь, и когда он, удивленный (а он был с ней едва знаком), пригласил ее войти, Нюра сказала с неожиданным гневом:
— Пока вы тут языки чешете, эта стерва учит вашего Серегу стаканы бить!
— Никак Нюра? — спросил Зотов, глядя против света. — Смотри, не стареешь… Не пойму, какие стаканы?…
— Да живей ты, старый черт! Некогда! — крикнула она на все этажи.
Снизу забарабанили в сто кулаков, требуя отпустить лифт. Но в дверях лифта Нюра поставила сумку, и автоматические двери его не закрывались.
Потом от Люськи Зотов узнал подробности и восстановил картину.
Она шла с мальчиком из своего класса, и они встретили Серегу у кафе-модерн.
— Пошли с нами, — сказала она Сереге-второму.
— У меня денег нет, — ответил Серега.
— У меня есть, — сказал Люськин спутник.
Но Люська оглядела его и сказала:
— Вот и иди…
Он ушел. Люська всегда была на стороне Сереги-второго.
— Пошли. У меня есть, — сказала она ему.
И они отправились в кафе вдвоем. Там их углядела Болонья.
«У нас теперь возле дома — кафе-модерн, а в нем буфет, а в буфете красивая буфетчица, прозвище — Болонья. Я ее встречаю, когда иду с собакой вечером, а она с сумками ждет такси.
Квадратная фигура. Средний рост. Плащ болонья лилового цвета. Рукава подкатаны, как для схватки в партере. Платок-косынка. Красивое лицо с коротким носом и выжидательной улыбкой, нацеленной как выстрел. Ноги на ширине плеч. В руках сумки с тяжелой едой, а в глазах… знание цены всех продуктов, знание всех цен и всему цены. Она решительно, раз на века, отбросила любые мысли о возвышенном — кто же всерьез верит в эту липу? — и живет, только иногда поскуливая от непонятной тоски. Но этой мелочью можно и пренебречь. Красивая буфетчица Болонья».
— Вам по сколько лет? — спросила она.
— Пятнадцать, — соврал Серега.
— Неужель пятнадцать?… По ней не скажешь, — она кивнула на Люську.
Он кивнул.
— Почти, — сказал он.
— Я вам своего кофе принесу, — сказала Болонья. — Этот ерундовый.
Ушла.
Люська скисла. Сидит хмурая. Болонья принесла две чашки кофе с ликером и сказала, что фирменный:
— С ликерчиком… от души.
Серега, поколебавшись, попробовал.
— Вкусно? — спросила Болонья.
— Мы не пьем, — сказала Люська.
— Ничего… По рюмочке можно.
Серега выпил. У Люськи чашка стынет.
— Ну, мы пойдем, — сказала Люська. — Спасибо.
Болонья посмотрела на нее пристально и улыбнулась, как выстрелила.
— А ты иди… — сказала она. — Или ревнуешь?
— Сережа, пойдем… Вот, пожалуйста… — Люська достала деньги и положила на край стола.
— Платить должен мужчина, — сказала Болонья и сунула деньги ей в карманчик.
Серега покраснел и набычился. Болонья сверкнула глазами. Люська убежала. Он оглянулся на мотнувшуюся стеклянную дверь, ярость захлестнула его, и он сжал кулаки.
— Побежала, — сказал он с ненавистью.
На него подняла глаза женщина, которая ела мороженое, а теперь уставилась на него незнакомо. Это была Нюра.
— Не злись… Не трать сердца, — сказала Болонья. — Хочешь еще?
— А можно? — спросил он.
Она еще подлила ему в кофе.
— Почему нельзя? Все можно, мальчик. Все можно, только осторожно.
Серега выпил. Болонья разглядывала его.
— Высокий ты мальчик, красивый мужчина будешь, — сказала она и заперла стеклянную дверь на щеколду.
Серега мрачно покосился на дверь и стиснул кулаки.
— Побежала… — сказал он. — Дура…
— Никогда сердца не трать, — сказала Болонья. — Лучше стакан разбей.
— А можно?
— Тебе все можно, — сказала Болонья. — Ты красивый.
Серега запустил стаканом в стену и захохотал. Нюра подошла к двери и толкнула ногой.
— Чего тебе? — спросила Болонья.
— Ну-ка… — сказала Нюра. — Дверь отопри.
И Нюра пришла к Зотову.
Пока шли в кафе, Зотов думал: «Красивая буфетчица Болонья пасется в сфере самообслуживания. Но это не Маркиза — никаких гимназий и скрытых страстей, и не Клавдия — никаких Элен с белыми плечиками. Тут все другое: крепкая, как свая, манкая. Про таких Максим Горький говорил — Батый. Я знаю жизнь от и до — вот ее формула. В Солнечногорске у нее дом возле курорта, с мансардой, моряк с флотилии… У нее одно увлечение — победить. Победить проклятую жизнь до самой смерти, а там, глядишь, чего-нибудь придумают, — купим и это. Никаких увлечений кроме, никаких мыслей кроме, никакой распущенности против здоровья. Все нормально. И в жадности не увлекаться: само придет, если не тратить попусту. Прочность. Себя не продавать — ни-ни, не те времена, мужик стал не добытчик, наоборот, купить его подешевле — кого телом, кого делом, а кого и так: подмигнуть в черный день его тоски — не дрейфь, мол, отпустит, — он и готов».
Пришли. Народу в зале немного. Ревут усилители. Болонья в буфете на витрине шоколадки раскладывает.
— Ты зачем пацанчика тронула? — говорит Зотов.
Она шоколадки разложила, а одну стоймя поставила.
— Никак боишься меня?
— Тебе сколько лет? — спрашивает Зотов. — Сорока нет, не более тридцати двух, году в сорок пятом родилась?
— Верно.
Он прикинул и говорит:
— Значит, либо ты случайное дитя, мать не убереглась, либо зачала тебя на радостях, что война кончается…
— Вычисляешь… — сказала Болонья. — Ну вычисляй.
— И у меня сноха тоже в торговом секторе работала, — говорит Зотов. — Теперь на старости лет с хахалем спивается. А хахаль вдвое моложе. Богатая — вот жить-то и нечем.
— Глупая. Ума нет.
— Ума тебе не занимать.
— А более и нет ничего.
— А есть, — говорит Зотов.
— Уточни.
— Человеческая жизнь, — говорит. — Как же тебе жить?
Она Зотову налила, потом ответила:
— Нормально, гражданин, нормально, — и глаза так бегло на него подымет и опустит. — Толкутся возле меня весь день, а я присмотрелась. Один зашел — портфель, другой зашел — шляпа, третий — галстук. Бывает, трактор зайдет или станок, а чаще — либо канистра, либо сверло, либо запчасть. А чтоб человек зашел — этого не было. Чего не видела, того не видела — врать не буду. Мать говорила: отец человеком был. Не помню. Значит, последний скончался в сорок пятом. И остались мы с мамой смотреть на пиджаки, на велюровые шляпы. Маме скучно, завела одного. Этого помню, все твердил — дом, очаг, а сам не очаг, а дымоход. Мама его прогнала. Смешно мне на нее стало. Хватит, думаю, пора своим умом жить. Сейчас она письма пишет Расулу Гамзатову, чтоб еще раз написал про белых лебедей. А он не отвечает, стесняется, что мать моя дура. Смешно мне на вас глядеть.
— Ну и к чему ж ты пришла?
— Мне и сидя неплохо. Кому надо — сам зайдет… и твой пацанчик зашел, и ты зашел.
— Зайдет и уйдет, — говорит Зотов. — Потому что ты знаешь кто? Ты — ты буфет.
Она прищурила глаза:
— Расплатился?… Ну, иди помечтай… Хоть домой, хоть в залу. Тебе где лучше?… Иди своей дорогой.
— Лучше в залу, — говорит Зотов. — У меня столик заказан. Мне сегодня восемьдесят, дочка.
— Что ж сразу не сказал, старый черт? — тихо спросила она.
Второй раз в этот день его обозвали старым чертом — Нюра и она. Погромче, потише, а все одно — старый черт. Вдруг правда? Но голоса у обеих были, голоса… бархатные, грудные. Неужели природа еще живет?…
Зала… Неживая, машинная… Лиц нет. Только одежда.
Галстук, одиноко пирующий за столиком, а за соседним — столичная длинная юбка с кавалерийскими сапогами, и провинциальная юбка, все еще открывающая ноги до самого до «ура!». В проеме дверей два головных убора — мужской блинок и женский, нашлепкой. Три алюминиевых пиджака на эстраде, с прилипшими к ним бормашинами устарелой конструкции без обдува, и рев усилителей, заглушающих визг тормозов однообразных машин за окном, остановившихся послушать музыку про любовь пылесоса «Буран» к электробритве «Эра».
Обслужили мгновенно. Она подсела, твердокаменная, и говорит:
— Ты меня прости, мальчик, и забудь.
— Нет, — сказал он, — не забуду. Я акселерат.
Тогда Зотов увел Серегу, который бессмысленно смеялся, был красный и охрипший, и руки у него были мокрые и сильные, а в глазах застыл яростный настырный блеск фокстерьера.
Какие тут сказочки про пересохшую реку и пыльных воробьев?
Одним щелчком буфетчица сшибла его на землю и вывернула наружу обратную сторону души, о которой он сам и не знал, пока не встретился с железным спутником Болоньи — никелированным кофейным аппаратом.
Дома Зотов дал ему молока из пакета.
— Дед, как ты относишься к сексу? — спросил Серега, вытирая подбородок.
— Раньше говорили — блуд.
— Как ты относишься к блуду?
— Не знаю. Я старый. Раньше я думал, что весь кобеляж от грязи и нищеты, а будет другая жизнь, и вы будете другие. Теперь жизнь другая, а вы — те же.
— Значит, ты против?
— Мужчину всегда тянет к женщине, и наоборот. Кто будет регулировать их отношения, если не они сами?
— Дед, а как быть, если ему нравится и эта, и эта, а ей — и этот, и этот? Как они должны поступать?
— Сынок, но ведь это боль… Это всегда чья-нибудь боль… Сынок, это вначале приманка, а потом — боль.
— А если все равно тянет?
— Ты помнишь, что ответил Анкаголик, когда тебе не велели с ним дружить, а ты спросил, может ли он бросить пить? Что он тебе сказал?
— «Вот только лицо умою…»
— Ты забыл. Он сказал — «харю». Он умыл харю и стал «лицо» — Дима.
Он посмотрел на Зотова со злобой, в нем неожиданной:
— А если когда-нибудь это не будет болью?… Дед, эта боль, наверно, для тех, кто уже успел полюбить. А кто не успел?
— Верно, Сережа, — говорит Зотов. — Когда ты родился, тебя еще не успели полюбить. — Из-под него будто табурет выбили. — Уеду я от вас, — сказал Зотов. — Чересчур вас много, Зотовых, а я один. Отдохнуть пора… Сережа, самую лучшую молитву, которую я узнал, я прочел у Фолкнера. Ее придумал покалеченный человек, бывший морской пехотинец: «Господи, прости нас, сукиных детей». Сережа, все остальное человек должен сделать сам.
Боже мой, что вы наделали! Поздравляю вас с восьмидесятилетием.
Зотов смотрит теперь по телевизору только детскую передачу. Остальное не может, не может Спокойной ночи, малыши! Хоть бы вы не вырастали.
54
…Клавдия умерла. Отмучила и отмучилась.
…Очень важно различать, что люди думают и что люди делают.
Казалось бы, очевидно, что это связано, а никакой очевидности тут нет. И не потому что человек плох и у него мысль и дело не совпадают, а потому что жизнь к мысли и делу не сводится.
Мы настолько привыкли, что мы либо думаем, либо делаем, что как-то забыли, что мы еще и созерцаем. Настолько забыли, что кажется, будто созерцание и безделие это одно и то же. А это не так. Просто ему нужно найти место в жизни.
Созерцание — это не отказ от дела и мысли и тем более не от жизни. Жизнь и во время созерцания не останавливается. Остановленная жизнь — это смерть. Человек не машина. И выходит, что во время созерцания продолжается жизнь, но только непохожая на мысль или дело.
Наступает момент у человека, когда он отдыхает от мысли и от дела, но не от жизни, и тогда его мозг занимается самодеятельностью. Именно в эти моменты закладывается основа для будущих мыслей и дел, хотя человек об этом и не догадывается. Но именно между этими моментами в паузе перехода к нему приходит то, что мы так и называем — Вдохновение. И именно тогда он находит неожиданное решение проблем, которые никаким другим способом не решить.
Как бы короток ни был момент созерцания, именно в этот момент и наступает открытие, как быть.
Он перестал упрямиться, стараясь силком прорваться к решению проблем. Чаще они потому и не решаются, что человек столкнулся с чем-то новым и нужен новый подход, а он тычется со старым. А когда он перестал упрямиться и не старается силком прорваться к решению, то он слышит сигналы этого нового и догадывается, что оно совсем новое, а для нового замка старый ключ не подойдет. И это происходит не у какого-нибудь там необыкновенного гения, это происходит ежедневно у каждого обыкновенного работающего человека, когда он делает передышку.
Считается, и ему так кажется, что он просто восстановил потраченные силы, вроде как в машину залил новый бензин. Но это ошибка. Потому что после заливки машина осталась прежняя, а человек после отдыха уже другой.
И потому даже в момент обычного отдыха тела к человеку приходит маленькое незаметное вдохновение, и он догадывается, как быть ловчее. Т. е. он от передышки к передышке растет, становится мастером. А машина не растет, и остается прежней, и только изнашивается. Человек устает не потому, что в нем пища кончилась, — устают и сытые, — а потому, что он уже другой, а пытается делать прежнее. Человек устает потому, что в деле своем остановился, и дело уже мешает его развитию, и значит, надо и в деле что-то менять.
Потому что живое или развивается, или гибнет, и что полезно листве — вредно яблоку, у яблока свои проблемы. И в момент передышки организм человека соображает, как то же самое дело делать ловчее, и это даже в самом простом, однообразном деле и обыкновенном отдыхе.
А в случаях сложных, когда человеку нужно решать — нужно ли вообще колоть дрова, если лес почти вырублен, и что делать взамен, чтобы было чем обогреться, — ему уже нужна не простая передышка в прежней работе, а отдых от прежних мыслей о ней, от прежних мнений.
И тут ему нужно созерцание. И тогда он слышит те сигналы внешней природы и своей собственной, которых он не слышал в своем упрямстве, и в мыслях у него наступает скачок, потому что мозг его осознал эти сигналы, этот скачок, и называем мы этот скачок — вдохновение, — это природа вдохнула в его мозг свое новое, непримелькавшееся отражение, а мозг сообразил его не спугнуть. И это приводит к небывалому выходу или изобретениям.
И это есть диалектика живого, потому что живое хочет жить, а машине все равно.
Развитие сообразительности идет именно так. Но человек так увлекается найденным способом жить, что не замечает, как он сам изменился, и страдает от того, что его обрадовало когда-то. И для него становится злом именно то, что было добром.
И как же ему быть?…
Вот к чему пришел Зотов, проработавший всю свою жизнь и не уклонявшийся ни от какого труда — ни от мирного, ни от ратного, ни от любовного, и не тративший свои передышки на ерунду, а только на созерцание великой природы жизни, чтобы отыскать рабочую магию. Вот к чему пришел Зотов на склоне лет своей единственной жизни. И если ему удастся не упрямиться, то есть надежда понять в паузе перехода выход из противоречия, всей жизни в целом. Если это доступно человеку.
Конечно, это будет только в его мозгу — эта осветляющая темноту мысль, и потому без проверки на деле она и останется мыслью. Но важно, чтобы она пришла, если ей суждено прийти. Потому что проверить ее Зотову уже не хватит времени.
…Обычно, когда Клавдия решала умирать, она распахивалась пониже и высовывала плечи.
— Хочу умереть, как Элен Курагина. Сестра Анатоля, — объясняла она участковому врачу. — А от чего она умерла, помните? Нет? От ангины, ха-ха…
Вот все, что она усвоила из изящной словесности.
Зотов знавал людей, которые усвоили меньше.
Одна дама говорила про своего покойного мужа: он любил меня, как Данте свою Петрарку. Зотов ей сказал, что это чья-то острота, но она не поверила. Говорят, культура дело наживное, хотя за эту наживу и до сих пор на рынках не дерутся…
Но умерла Клавдия не от ангины. Ее высунутые плечи заметил золотозубый бакенбардист и начал с ней пить и помаленечку обирать. Он ее обобрал, но она его уже прописала мужем. Потом пришлось разводиться, и она разменяла квартиру на две комнаты в разных районах. Потом строение, где она поселилась, пошло на слом, и ей выделили комнату в особнячке, охраняемом государством, и значит, дом не сломают, разве что устроят музей или еще какое-нибудь учреждение. Потом она умерла, и Генка оказался владельцем прописки в особнячке, в котором он ужасался жить, а Зотову там было в самый раз… На том и порешили.
Зотову нужно было созерцание.
Он осмотрел комнату — большая, высокие окна, высокие потолки, высокий первый этаж, раньше говорили «бельэтаж». Годится.
Свежесть, чистота. Окна пасмурные от утренней тени. Родня расстаралась, и, пока он был в доме отдыха, привезли в комнату его диван с клетчатым пледом, столик и стул. Так он хотел. Ни одной книжки. Так он тоже хотел.
Кто-то живет в другом конце коридора. Но ему не любопытно. Вышел пройтись.
Только тут оглядел дом — чистенький, бело-голубоватый особнячок, прямо сейчас под краеведческий музей. Ничего. Поживем пока что… Утро было всего лишь неяркое, а не пасмурное. Такие бывают в Ленинграде. Недалеко от Невы. Больше нигде таких дней быть не может.
Зелень. Холодный воздух. Тишина и прохожие. «Неужели здесь не проезжают машины? Интересно, что здесь со мной будет?» — думал Зотов. Уединение или одиночество? Покой или тоска? В этом особнячке он будет жить особняком.
Он прошел по тротуару мимо дома, опоясанного серыми глыбами рустики — так называются неотесанные глыбы. В начале века такие дома считались высокими. Потому что у них высокие окна с промытыми стеклами, высокие этажи, мощные крепостные основания, а над ними — высокое небо.
Высота относительна. Когда-то с вожделением глядели на фотографии небоскребов. Казалось — какие они? Как они выглядели бы в Москве? И как это, наверно, увлекательно и дико! Первое успокоение принесли пять высотных домов с острыми шпилями. Глаз плохо различает высоту. После первых десяти этажей все уже не имеет значения, небо все равно выше.
Глядя в прошлое, и то с трудом делаешь открытия и понимаешь незаметность начала сегодняшнего величия, а что будет великим завтра? В «Короле Лире» все смотрят на Лира, а сердце тянется к шуту, потому что он ни в чем не виноват…
Зотов повернул обратно.
Издалека он увидел свой одноэтажный особнячок, беленький и бледно-голубой, похожий на украинскую хатку среди домов города, и поверил, что его не сломают именно поэтому, хотя будут думать, что берегут его как памятник дворянской культуры девятнадцатого века. В этом памятнике дворянской культуры все — от фундамента до эскизов мебели — было придумано и сделано не дворянами.
Он поднялся по ступенькам крылечка, отворил хорошую дверь и в прихожей наткнулся на возню и восклицания.
— Уходи! Уходи!.. Прогоните его!.. Мама!
Зотов влез между ними, и она убежала в его комнату.
Ему было лет тринадцать.
— Давай, иди давай, — сказал ему Зотов. Он сопротивлялся и повторял:
— Она так хорошо здесь жила одна… Она так хорошо жила здесь одна…
Ну, ничего не поделаешь: Зотов запер за ним дверь.
Потом он вошел в свою комнату. На диване лежала она, натянув до подбородка клетчатый плед, и смотрела на Зотова с любопытством. Светлые влажные глаза…
— Ушел?
— А как же! — сказал Зотов.
— Все ходит… Что ему здесь надо?
Он уклонился от ее вопроса. Хорошо бы она была подкидыш: он бы тогда взял ее в потомки. Выдал бы замуж за кого-нибудь из праправнуков, и она бы Зотову родила прапраправнука.
— Почему он сказал, что ты здесь жила одна?
— Я ему так сказала.
— А кто твои родители?
— Папа тореадор, а мачеха — летучая мышь.
— Что-то до меня не доходит. Давай попроще.
— Они поют, — сказала она. — Певцы они. Только в разных театрах и разных гастролях.
— А ты — подкидыш. Ясно, — сказал Зотов. — А почему ты в мою комнату забралась?
— Чтобы он не знал, где я живу.
— А где ты живешь?
— Вообще-то я живу не в этом доме, но сейчас я живу на чердаке и в этом доме.
— Почему же на чердаке?
— Чтобы он не знал, где я живу.
Наверно, для нее это убедительно. Зотов такую счастливую рожу сто лет не видывал. Нет. Не сто. Тридцать семь лет. Тогда ее звали Валентина. Они с его сыном так и не вернулись с войны.
— У меня на чердаке фотографии и личные бумаги, — сказала она. — Архив. Часть архива я должна передать вам. Вы ведь Зотов? Петр Алексеевич?
— Говори, пожалуйста, яснее.
— Я вас выслеживаю уже шестнадцать дней. Вы ведь тоже живете не там, где живете, правда? Чтобы никто не знал?
— А кто ты такая? — спросил он.
— А разве вы не получили письмо? Мне у вас в доме сказали, что вы получили из Орши. А второе — из Костромы.
— Я дома не был уже два месяца.
— А-а… — сказала она. — Вот в чем дело.
— Ладно. Вылезай, — сказал Зотов. — Давай займемся бытом. Я еще сегодня ничего не ел. Я прямо с вокзала.
— А вы скажите ему, чтобы он ушел.
— Он ушел.
— Нет. Он за окном стоит.
— Откуда ты знаешь?
— Я знаю.
Но и он знал. Дело нехитрое. Все Зотовы настырные.
— Это мой родственник, — сказал Зотов. — Праправнук. Звать Серега-второй.
— Я знаю. Я с ним у ваших познакомилась, когда вас разыскивала. Я должна вам передать бумаги от одного человека, от моего дедушки. Это ваш старинный друг.
— А как его фамилия?
— Непрядвин.
Зотов отодвинулся подальше. Тошнотворный холод стал подниматься у него от ног до самого сердца.
— Он умер недавно, месяц назад. В Орше, — сказала она. — Я узнала ваш адрес в справочном бюро.
…Месяц назад Зотов почувствовал освобождение. Он хорошо помнит. И он окончательно решил перебраться сюда. Соседи по столику в доме отдыха спрашивали: что это вы повеселели, Петр Алексеевич? А он и сам не знал почему.
— Дедушка сказал про вас — он от меня освободился, значит, я скоро умру. Тореадор и летучая мышь от него отказались, он и я жили вместе. Деньги они не высылали, но у нас было имущество.
— Подожди меня здесь, я позвоню. Нет, — сказал Зотов. — Пойдешь со мной. Вылезай.
Она вылезла. На ней было белое платье в синий горох. Он взял ее за руку и пошел в коридор звонить.
Когда он взял ее за руку, ее ладошка трепыхнулась, устроилась поудобнее и притихла, как будто уснула, в его руке. Боже мой, вот он, дом сердца моего!
Пока он вел ее по коридору и говорил по телефону, пальцы его окаменели и высохли от неподвижности, как старые корни, будто он держал в руке не ладошку, а сердце.
— Маша, — сказал он в трубку. — Хорошо, что ты еще не уехала. У меня здесь внучка Непрядвина… Ага. Надо поговорить и все обсудить… Он месяц как помер… Как ее зовут? Как тебя зовут?
— Анастасия.
— Слыхала? Настя ее зовут.
— Сейчас приеду, — сказала Мария.
Потом он положил трубку и спросил Анастасию:
— А почему у тебя такая счастливая рожа?
— Я не знаю.
— Что там, в бумагах?
— Не знаю. Дедушка велел передать сверток и письмо. Он сказал, что вы обрадуетесь.
Она достала из-под подушки сверток и письмо. Когда Зотов вскрыл сверток, он не стал читать письмо. В свертке были его тетрадки с 1910-го по 1919 годы. И Зотов опять встретился со своей старой ненавистью, старой любовью и старой магией дедова и отцовского общения с ним. Зотов встретился с собой самим, каким он был в начале века. Он отвернулся и заплакал. Вот так.
Потом он спросил не поворачиваясь:
— Я не понял, кто твои родители?
— Папа тореадор, а мачеха — летучая мышь. Они уехали на гастроли насовсем. Они нас бросили. Официально.
— А ты?
— Я и раньше жила с дедушкой. У нас было имущество, и я стала дедушкина дочь.
— Почему же у тебя такая счастливая рожа?
Она всхлипнула, и это было как дождь при солнце, как грибной дождь и как ее светящиеся волосы.
— Я не знаю, — сказала она. И стала смотреть на него.
— Потому что вы так смотрите, — сказала она.
А как же ему смотреть на этого ребенка, который не знал, кто он, от кого приехал, и не ведал, что творит с ним, с Зотовым.
Боже мой, двадцатый век кончается! А казалось, ему сносу нет.
В письме было написано: «Зотов, сбереги Настю».
Чтобы это прочесть, пришлось отпустить ладошку. Чтобы это прочесть, нужно было прожить жизнь, и все смерти, и его смерть.
Потом начались бытовые хлопоты.
Приехала Мария, и Зотов сошел с ума и вел себя недостойно.
Он понимал, что сошел с ума, но его оправдывала важная причина — Настя свела его с ума, и Зотов с него сошел, торжественно держа ее за руку.
Зотов умел любить, братцы, черт возьми, он ведь умел любить!
Ум ему уже был ни к чему. Он не стал дураком, но ум ему больше был не нужен. Зотов стал огрызающийся пес.
Когда приехала Мария, у них состоялся тихий разговор. А его девочка смотрела в окно и смеялась.
— Надо торопиться все оформить. Официально, — сказала Мария.
— Это кто же будет усыновлять? — прорычал огрызающийся пес.
— Я, Петя, я.
— Ага, — прорычал огрызающийся пес. — Она ко мне приехала, а ты усыновишь?
— Сердцем чую, что так надо. Мне без нее не жить.
— Жить не жить… Мне она самому нужна!.. У меня одни оглоеды… — прогавкал огрызающийся пес. — Я ее на фортепьяно буду учить, рисованию и физике по Хвольсону! Панфилов на гитаре обучит! Книжки ей подарю с рецептами — кухня таджикская, грузинская, Молоховец — советы молодым хозяйкам, последнее издание 18-го года — больше не издавали! У меня стихи Блока есть про любовь! Пушкин юбилейный 37-го года! Фотоаппарат куплю! В балет отдам!
— Петя… — сказала Мария. — Уймись, а?
А девочка смотрела в окно и смеялась. Видно, Непрядвин в ней хотел исцеление найти и продление своей тропы, когда писал письмо: «Зотов, сбереги Настю», — и это его посмертная истина и магия. И ясно, что оставалось делать, удочерять в приемыши, и не дать пропасть роду Непрядвиных, и вернуть к истокам их дороги. К великому Митусе… вы, князья, Всеславовы внуки, крамолами своими наводите поганых на землю русскую, и век человеческий прекращается… проклятие вам вовеки и мечами опозоренными рыть землю на могилы себе… А девочка смотрела в окно и смеялась.
— Опять не ушел, — говорила она.
И волосы ее светились.
Но Зотов хоть и дурак — дураковский, а голова на плечах, этого не отнимешь. Марии деваться некуда.
— Все, Маша, — сказал он. — Выхода нет. В загс пойдем. Будем расписываться.
— Нет, — сказала она с тоской. — Не срами меня.
— Не бойся, — сказал Зотов. — Живи где живешь, и я буду жить где живу, а будем мы ей отцом и матерью. Деваться тебе некуда. А я хочу на тот свет твоим законным мужем пойти и отцом Настеньки. Как это и было в начале начал. Потому что род наш старше непрядвинского. Потому что, когда Адам пахал, а Ева пряла — кто тогда был господином?
55
Марию провожали на пенсию и всех позвали.
— Ты уже был в поле?
— Был.
— Что тебе понравилось в поле?
— Поле.
Вообще-то Серега еще ни хрена не понимал в биологии, но он знал твердо: корову есть нельзя.
Ее надо кормить и доить, но есть ее нельзя. Она корова. Она смотрит, и у нее изо рта торчит травина.
— Давай поклянемся, — сказал он.
— Давай. А в чем? — спросила Настя.
— Что мы придумаем еду, из-за которой их не надо будет убивать.
— Клянемся, — сказала Настя. — А что мы будем есть? Нужны белки.
— Вообще-то можно делать искусственные белки.
Ясно. Он собирается в химики. Жалко, что умер дед. Он знал Дмитрия Ивановича Менделеева. Но Менделеев тоже умер. Начнем с малого: кто у Зотова есть на химзаводе? Похоже что Дима.
Но он ошибся. У Сереги-второго были более обширные планы.
— Вообще-то есть другой путь, — сказал он уверенно. — Если сделать, чтобы человек вырабатывал хлорофилл, то он сможет питаться прямо от солнца. Как трава.
Она обдумывает эту идею.
— Но тогда люди будут зеленого цвета, — сказала она. — Я не хочу быть зеленого цвета.
— Ничего, — успокоил он. — Если все будут зеленые, будет незаметно. Ходят слухи, что инопланетяне зеленого цвета. Наверно, они догадались.
Так рассуждали зеленые человечки.
Зотов с Марией слышали этот разговор, они сидели в клубе у открытого окна. Мария смотрела, как бегут облака, а он видел, как изо всех пор земли лезет трава.
Когда набился полный зал, поднялся председатель колхоза Яшка Колдун. Он сказал в полной тишине первые слова.
— От нашего качества — качество всей жизни, — сказал Яшка Колдун, председатель колхоза.
И далее в своей речи он начал кричать слова и сопровождать их жестами.
— Когда она уходила на пенсию… — закричал председатель, — она пришла прощаться со стадом!.. Коровы все ревели и плакали!.. С двух войн — вдова без колечка!.. Что тебе подарить, родная? — спросил он ее на этих проводах. — Ты — герой! Бери из колхоза все, что хочешь. Хочешь машину «Волгу»? Бери. Хочешь трактор — трактор подарим… — сказал он с вызовом на собрании — проводах в присутствии областных начальников, стукнул кулаком по столу и заплакал. — Марья, хочешь, трактор подарю? Я хозяин, я! Им не понять! Я уже и забыл, когда я ссуду в банке брал! Этот год был тяжелый, а результаты нас радуют! Радуют нас результаты, и три с половиной миллиона на счету, и колхоз мой от банка независим. Радуют нас результаты? Радуют. Но ты, Марья, сработалась и уходишь на пензию, и все стадо ревет и прощается, — пусть проверят, ревет стадо и прощается; и чемпионка твоя ревет и слезы роняет на белые ведра, но ты сработалась, Марья, и нету у меня для тебя запчастей. Нету! — сказал председатель в присутствии всех людей, местных и областных, и опять ударил кулаком по столу, и отбил руку, и полил на нее водой из графина, а остальную воду выхлестал глотками гулкими, как слезы, в полной тишине. — Марья, что тебе подарить на память от колхоза, который радуется, что ты с нами живешь?… Марья, не угнетай нас молчанием и печалью, а угнетай нас своим разговором, от которого мы радуемся. Марья, возьми сувенир от нас, — хочешь, мы скинемся, и механики соберут тебе на дворе комбайн? Или купим тебе вертолет или золотой графский портсигар с каменьями для мужа, которого у тебя нет, потому что его убили, неженатого, в первую половину любой войны? А может быть, ты хочешь подводную лодку?
И все ждали — что скажет Марья.
— Нет, Яша, — сказала председателю Мария в пронзительной тишине. — Нет, Яша, не надо мне подводную лодку, потому что из всех детдомовских сопливцев того военного года ты назвал меня «мама», и не плакал, и околдовал мое сердце, и по прошествии времени ты стал всем Яшка Колдун, а потом люди признали тебя председателем. Не плачь, Яша, а подари мне теленочка.
— Стадо? — спросил председатель, утирая лицо краем скатерти.
— Теленочка, серенького с белыми ушами.
— Какого пола? — спросил председатель в полной тишине. — Девочку или мальчика?
— Девочку, — сказала Мария. — Я уже приглядела ее на лугу.
— Тихо! — крикнул председатель изо всех сил в полной тишине. — Если кто нарушит тишину, я наведу порчу на погоду в пределах района, и хлебные культуры полягут, а жирность молока упадет до ничтожного процента!
И все собрание местных материалистов не мешало Яшке Колдуну говорить, как он хочет, потому что уже четверть века его нелепые слова оборачивались общей пользой.
— Не дари ты мне, Яша, подводную лодку, а подари серого теленочка с белыми ушами, и я назову ее Матильдия… Потому что судьба мне послала кого поить.
56
Жизнь плодится и развивается. Но, плодясь, она плодит тесноту и, чтобы выжить, творит новинку. И эта новинка опять плодит тесноту, и в этой тесноте опять родится новинка.
И потому естественный отбор, и искусственный отбор, и случайные катастрофы мутаций, и борьба за существование с другими существами и с себе подобными есть всего лишь следствия, а не причины живого развития. А причиной является закон тесноты и творчества, и одно без другого невозможно. А все остальное есть множественные попытки жизни этому закону соответствовать и жить дальше.
Потому что жизнь порождает только сама себя.
Это только раньше думали, что мухи родятся от гнилого мяса, а оказалось, что мухи родятся только от живых мух.
Сапожников Павел Николаевич называет зависимость творчества от тесноты, а тесноты от творчества словом «Время», по-гречески «Хронос». И стало быть, Зотовы — хронисты. А так как он считает, что жизнь это энергетический оптимум, то Зотовы еще и оптимисты.
Все так. Но как быть с фантазией? И в чем ее отличие от сознания? Ведь она тоже в голове, как и сознание? Как же они уживаются в одной голове? Там, наверное, такая толчея…
Однажды к Зотову пришел Сапожников и стал уклоняться от разговора. Прямо от порога было видно, что пришел уклоняться. Понюхал воздух и сказал:
— Прокурено все… Хоть бы окно открыл…
Ладно. Открыл.
А на дворе была отвратительная холодная погода. Видно, брала реванш за одичалую жару.
Выходной. Утренний телевизор хрипит. Организация механизации, механизация организации. Потом физзарядка пошла — одна нога здесь, другая — там. Потом — по области — семь — девять, а сейчас в столице пять градусов тепла. Потом информация о термоядерном вечном двигателе — хотят потратить меньше энергии, чем получить.
А Сапожников говорит:
— Видел? Однако вечный двигатель — это живое, жизнь, а другого нет. И с термоядерным не исключено, что у них получится неувязочка, и мне кажется, я знаю почему.
— Почему?
— Они хотят эту плазму силком взять. Сдавить так, чтобы лишняя энергия выдавилась. А уж дальше-то она ого-го! Все уладит.
— А как надо?
— Надо искать, как отделять атомы, вращающиеся в одну сторону, от атомов, вращающихся в разные. Тогда те, которые вращаются в разные стороны, слипнутся и сами выделят энергию, а которые вращаются в одну — разбегутся, отталкиваясь… Это как в шестеренках. С вращением в разные стороны — зацепятся зубьями, а сблизить шестеренки, вращающиеся в одну сторону, — у них зубцы полетят. Я понятно объясняю?
— Про шестеренки понятно, — говорит Зотов. — Ну а как твой-то двигатель, вечный-аммиачный-механический? Как твой диск пустотелый? Ты ж ведь тоже обещал, что он все уладит?
— Вращается, — говорит. — На бумаге… Никто его не полюбил… Только никуда не денутся. Все перепробуют. Все самое мощное… Пока однажды токарь не сделает на глазок мой диск… И отключит в квартире свет, отопление, газ… и подключит мой диск, который через неделю-другую станет работать бесплатно… поскольку погода налогом не облагается… Потом диски начнет выпускать артель игрушек… потом заводы… Потом отменят уголь, нефть, торф, атом и термояд, и топливные монополии рухнут, и земля очистится… Как там у Гошки — мы придем в этот чистый город, потому что мы так хотим…
За окном оркестр искажает вальс «Дунайские волны».
«— Похоже, что я дошел до краю, — сказал Сапожников, потом помолчал и добавил: — В моем представлении, конечно.
— Да… — говорю. — Похоже что так.
Теперь в комнате была такая тишина, как будто еще не кончился первый день творения, а до человечьего болботания остается еще пять рабочих дней. Оглохшие от тишины, мы с Сапожниковым глядели в окно, где ничего не происходило.
Потом мы уставились друг на друга, потому что если не сейчас, то никогда не будет произнесено нами то, что положено.
— П-почему ты б-боишься сказать? — спрашиваю.
— Потому что я не могу п-предсказать результаты, — сказал Сапожников, так же заикаясь, как и я. — С-слово не воробей, слово — пуля, слово — соломенная зажигательная стрела… и все в крепости начинает загораться.
Ветер выдул штору на улицу и распахнул дверь. Я дотянулся, захлопнул дверь на крючок, но ветер выл в замочную скважину как зверь.
— То заплачет как дитя, — сказал Сапожников.
— Стреляй, парень, стреляй… Насколько я понимаю, дело идет о Добре и Зле…
— Ты догадался? — спрашивает.
— Тебе кажется, что ты понял их абсолютное значение — Добра и Зла… Не лязгай зубами.
— Тысячи лет… тысячи лет, — лепетал бедный искатель потонувшего города Калязина. — … Тысячи лет… и вот теперь, в этой незначительной квартире, со сквозняками…
— Не дрейфь, — сказал я. — Я сам боюсь… Но если пришло время сказать, надо говорить.
— Время… — сказал Сапожников, лязгая зубами. — Такое простое решение… оно лежало прямо под носом, и никто… понимаешь, никто… — Сапожников стиснул коленями руки. — Если причиной всему — движение времени, то зло — это то, что идет против времени, а добро — это то, что ему следует… То есть, говоря житейски: добро то, что вовремя, а зло то, что несвоевременно».
— Истина… — прохрипел Зотов. — Истина… Неужели так просто?!
И перед ним пронеслась вся его жизнь века ожидания.
Не было ни труб архангелов, ни райских птиц, опустившихся поклевать крошки с ладони Сапожникова. И неужели истина так проста и так прозаична, пока не посеяна в сердце человека?
Но как знать наперед и, главное, объективно — что своевременно, а что нет? А то ведь этак каждый…
— У Ломоносова я прочел, что если бы научиться предсказывать погоду, то больше у бога просить было бы нечего, — говорит Зотов в шутку, а самого колотит, потому понимает: этой формулой своевременности можно оправдать что угодно. Любую гнусность. Нет уж… Надо знать объективно.
— Погоду?! — вскричал Сапожников. — Ну конечно!..
— Ты что?
— Погоду?! Но ведь если вакуум, основная и активная часть материи Времени, вращает землю за воздух, как за обод колеса… то погода и есть его наипервейшее влияние и, значит, объективный показатель… Алексеевич… Ты знаешь кого-нибудь, кто чует погоду? Ну, всегда одевается предусмотрительно, что ли?… Или, скажем, у которого кости болят к перемене…
Было видно, что Сапожников уже включился.
— Знаю, — сказал Зотов. — Витька Громобоев.
— Слушай… — взмолился Сапожников — влиятельный человек. — Позвони ему! Давай позвоним!
— Сейчас?
— Прямо сейчас…
Они выскочили в коридор. Зотов набрал номер. Диск заедало. Телефон хрипел. Шнур был перекушен собачьими зубами, да так и не починен почему-то.
— Але! Але!.. Евдокия?! Громобоева давай! Это я, Зотов.
— Он спит. Зачем вам? — раздался вульгарный голос Миноги. — Через двадцать минут встанет.
— Та-ак… А ты не знаешь, чего он собирается надеть, когда в город пойдет?
— Зачем вам?
— Евдокия!
— Как не знать?!.. Я ему, паразиту, говорю: надень теплую шапку, надень пальто, надень кашне и свитер, — видишь, какая холодрыга?
— А он?
— Ясное дело, летнюю шляпу вытащил и пиджак… Всю жизнь мне назло… Паразиты вы все…
Они переглянулись. Минога была права. За окном в сером дремучем небе металась холодрыга.
— Слушай, — возопил Зотов. — Потом доспит… Пихни его и спроси: почему он решил, что погода будет теплая?
— Зачем вам?
— Дуська! Не выводи меня! Вопрос жизни и смерти!
— Ну разве что… — ответила Минога.
Трубка хрипела и у них. Минога бросила ее болтаться на шнуре, и теперь она качалась и почесывала свои бока о коридорную стенку, которую давно было пора красить. Но Миноге было некогда этим заниматься — все ее время уходило на битву с Громобоевым. А может быть, время ее уходило? А может быть, еще не наступило? И Громобоев это знал? Как узнать, кто была Минога в жизни Громобоева? Добро или зло? Все-таки грубее этой женщины…
— Але! Вы тама? — спросила Минога нарочито вульгарно.
— Тут! Тут!.. Ну что он сказал?
— Он говорит, не вовремя звоните… Он спать хочет.
— Ишь ты… Не вовремя, — обернулся Зотов к Сапожникову.
— Петр Алексеевич… не надо, — сказал Сапожников. — Я чего-то боюсь…
— А не дрейфь, я сам боюсь, — говорю. И заорал в трубку: — Несвоевременно?! Не его собачье дело! Раз в жизни его отец разбудил! Что он ответил по существу вопроса? Подтащи его к трубке!
— Говорите сами, — сказала Минога.
Опять трубка хрипела. Потом Громобоев откашлялся.
— Витька, — сказал я, — ответь на поставленный вопрос… Как ты угадываешь, какая будет погода?
Громобоев довольно долго откашливался, потом было слышно, как он чиркал спичкой и закуривал, затягивался, выпуская дым. Потом ответил:
— Я не угадываю… Я ее делаю.
Вот так. И заржал.
Холодрыга завывала в мире и вонью зла окутывала планету, но Громобоев вытащил свою летнюю шляпу.
Ну ладно.
57
Есть латинский силлогизм: «Кай не дурак, ибо Кай признал истину, что Кай дурак». Тупик логики.
Но теперь противоречия формальной логики Зотова не смущали. И он знал, что Кай не обязательно дурак, если Кай наблюдательный.
Ну и будьте любезны.
Теперь любой Эйнштейн с первого курса знает, что все конкретно и относительно и что на старый вопрос «Хорошо это или плохо?» ныне существует ответ, подкупающий своей четкостью: «Когда как». Когда хорошо, а когда и нет.
И по этой относительности хиросимская бомба — когда плохо, а когда и хорошо, хотя тому же любому Эйнштейну понятно, что хорошей бомбы не бывает.
Ну если так, постановил Зотов, то может оказаться, что в жизни есть постоянная причина, хреновина, которая все переворачивает, переиначивает, выворачивает наизнанку и кривляется. И превращает все, что мы называем добро, во все, что мы называем зло.
И значит, надо оглядеться и эту причину искать, если она объективна.
Все живое родится, чтобы жить, в том числе и человек. И если, несмотря на весь наилучший инструмент, опасность жить все усиливается, значит, История уперлась во что-то, в какой-то тупик, и чего-то недоглядела.
Энергетикой пусть занимаются физики. Если вакуум — это материя, то рано или поздно они займутся и ею.
Но никакая физика не скажет, в чем разница между добром и злом, потому что у них разница не в знаках, а между ними — пропасть.
Зотов считал, что Желание — это Добро, а Нежелание — это всегда лишь из двух Зол наименьшее.
Но вся беда была в том, что Желания и Нежелания были похожи друг на друга, как две капли воды, и как было отличить живую каплю от мертвой?
Зотову почему-то всегда казалось, что добро многообразно, а зло всего лишь многолико. И он теперь знает почему.
Ему почему-то казалось, что позади всего пестрого зла лежит какая-то унылая стандартная причина, одинаковая для всех.
Он думал, что добро коренится в живых желаниях, а зло всего лишь в нежеланиях, причина которых мертвая — страх смерти, страх демонтажа, страх превратиться в чей-то инструмент и отходы. И потому желания плодоносят, а нежелания — импотентны. Но какие причины вызывают этот страх, Зотов не знал. Слишком часто реальных причин для такого рода страха, то есть зависти, ревности, конкуренции, не было, а в нереальные причины Зотов не верил.
— … Машенька, — говорит Зотов. — Надо детей куда-то увозить.
— К нам в деревню не хочешь… Куда же?
Она Зотова создала в своем воображении, и в ее воображении он был Зотов Петр — первый, могучий и великий, первый и последний возлюбленный ее, погибший в германской войне, в начале века. Таким и остался созданный ею образ, и она не хотела жить с его жалким подобием.
Она Зотова любила, только издалека любила. А вблизи от него — не могла примириться с плотью, запахом вина и железа. Она была права, но и Зотов был прав.
Потому что был посеян в землю и считал постыдным бросить тех, кто был посеян рядом с ним.
Он не мог ждать, пока превратится в образ, созданный ею в ее чистой душе. Он шел по тропе и делал людское дело как мог и был с теми, кто был рядом с ним.
Но вот появилась Настенька, и отпала причина не быть им вместе, и единственная возможность Марии переехать к нему. Но Мария сказала — нет, надо переехать к ней. Настеньке нужен воздух и молоко. И опять между ними вставала городская черта.
И некому было вмешаться, кроме судьбы.
Утром собрались Генка с Верой и Люськой, Сашка с Жанной и Серегой, Зотов с Марией и Настей. Потом пришли Гошка Панфилов и Сапожников.
Это было последнее лето собраться вместе — после девятого класса Сереги, и Люси, и Насти. После десятого — жизнь.
Пришла даже Нюра, бывшая блудница, ныне праведница, но особенная, и пришел непьющий Дима, бывший алкоголик, и именно он сказал, что знает место, куда стоит поехать, — на водохранилище к зотовскому приемышу Витьке Громобоеву.
То есть выход нашелся, когда вспомнили о хате, брошенной Миногой и Громобоевым, которые жили пестро и неожиданно, и постоянное жилище им было ни к чему. Им лишь бы быть вместе, а там годился шалаш да костер на берегу.
А кто есть Минога, огрубевшая возлюбленная Громобоева, вообще объяснить нельзя, а ведь была тоненькая и звонкая, как песенка тростника. Такая у Зотова подобралась сокрушительная родня.
Генка сказал:
— Хорошо бы в Прибалтику… Там тоже есть шхеры.
Жанна сказала:
— Не шхеры, а дюны.
Генка застеснялся. Люська не вступилась за приемного отца и спросила с вызовом:
— А вы можете быстро произнести: это институт фармакологии? Будьте добры Эдуарда Ромуальдовича!
Все застеснялись. Никто не мог. А она могла.
Так все оказались на водохранилище.
Они ехали ловить Зло. Они не мечтали изобрести, как с ним покончить и задавить, но они надеялись его открыть.
Уже к ночи того же дня они сидели в избе и ждали ужина, который женщины готовили на костре у самой воды. Дети купались. Взрослые слышали их сладостный живой визг, родителей увезли городские дела, собака скакала по берегу и лаяла. Мозги плавились от жары и печали.
Сапожников вытер лоб.
— Как жить, братцы? Какая жара, — сказал Сапожников, обмахиваясь журналом «Экран». — Какая дикая жара.
— Это мы уладим, — сказал Громобоев.
Сквозняком распахнулась дверь. И стало прохладно. Все посмотрели на Громобоева в некоторой панике. Но, как всегда, нашлось реальное объяснение.
Входную дверь открыла Нюра.
— Вот кто все делает вовремя, — сказал Сапожников и крикнул: — Нюра, не закрывай дверь! А то мы здесь задохнемся!
— Витька, ужинать, — сказала Минога. — Ждать надоело.
Громобоев поднялся, пощелкал подтяжками и надел шляпу.
— А еще к вдохновению призывал, — сказал Громобоев, послушно направляясь к выходу, и кивнул на Нюру: — Спроси у этой валаамовой ослицы, когда бы она хотела жить?
Сапожников кивнул и спросил об этом у Нюры.
— В добрые времена, — ответила Нюра. — А что?
— Слишком просто, — в отчаянии сказал Сапожников. — Чересчур. Нюра, погуляй…
— Нам ждать надоело, — сказала Нюра и ушла.
— Кому «нам»?! — крикнул Сапожников.
Но, конечно, ответа не получил.
— Не унывай, Сапожников, — сказал Громобоев. — Критерий почти найден. Не унывай.
И этими словами он будто вышиб клапан, и из кастрюли-скороварки рванул перегретый пар.
Все шипели и орали вокруг костра одно и то же, и поэтому никто никого не понимал, и раздавались клоунские вопли: «Бим! Я купил новые галоши!» — «Бом! Ты говоришь, что ты купил новые галоши?!» — «Да, Бим, я говорю, что купил новые галоши!» Но клоуны орут одно и то же, чтобы галерка расслышала, а они орали в первом ряду партера, потому что не знали, как быть, и мечтали добраться до истины.
— Товарищество! — орал Зотов. — Не сборище соумышленников — на словах они заодно, а на деле — скрытые конкуренты! Товарищество. И жизнь без конкуренции возможна лишь на этом пути! Тут личное возвышение остальных не корежит не потому, что все окончательно замечательные! А просто каждый умеющий может уметь только свое, а не чужое!
— Бытие определяет сознание! Бытие! — орал Панфилов. — Как я живу, так я думаю! А не наоборот! Когда наоборот, то я становлюсь маньяком и подминаю жизнь под сознание, под логику, и жизнь умирает от этого, пойми! Она, жизнь, становится тоскливой машиной, ужасом перед кнопкой и теориями маньяков! Бытие определяет сознание! Бытие!
— Не просто бытие, — тихо сказал Громобоев. — А два его типа. Внутреннее и внешнее.
И тут Витька Громобоев, приемный сын, капустный подкидыш, произнес свое слово, самое длинное из всех, которые Зотов от него слыхал с сорок девятого года.
— Представьте себе некий, скажем, электронный газ, который плавает облаками где-то в живом вакууме мозга, и представьте, что мы можем на него влиять любым мельчайшим сигналом желания и чтобы от этого электронные облака меняли бы свою форму, и мы получим модель Образа. Который хотя и рождается бессознательно, однако потом мы им можем манипулировать сознательно и как хотим!
Второй тип бытия — это образы. Они теснятся где-то внутри нас… и там происходят такие же битвы, как во внешней жизни… И поведение наше зависит не только от того, с кем ты столкнулся в трамвае, а и от того, с кем каждый из нас столкнулся в своем воображении. Потому что каждый лезет в трамвай со своими образами, со своим вторым бытием.
Есть два мира — мир образов и мир повседневный, и от каждого из них наше сознание получает свои впечатления. То есть мир образов и даже сны впечатывают в наше сознание такие же сигналы, как и пейзажи на улице. И сознание, которое вторично, должно выбрать, что предпочесть — воображаемое или повседневное. Но оба они реальны.
Если сознание выбирает только воображаемые воздушные замки или кошмары, то человек гоняется за сладостными образами или бежит от воображаемых ужасов. И либо сам терпит крах, либо терпят крах его окружающие, когда он становится маньяком.
А если сознание выбирает только то, что видит глаз, то человек становится скотом и терпит крах или терпят крах его окружающие, потому что он живет без образов, то есть безобразно, и становится быдлом. То есть он или боится непохожих на себя, или куражится над ними.
Но ни один человек не может жить совсем без образов и совсем без внешних впечатлений, и потому надежда на гармонию есть. Это — восхождение к цельному человеку, у которого впечатления от образов и впечатления от внешней жизни сознание приводит в соответствие друг с другом. И лучший вариант поведения — гармония каждого шага.
Хорошее стихотворение должно состоять из хороших строчек, и не может хороший стих состоять из плохих строк, и не может хороший дом состоять из плохих кирпичей. И от того, из каких шагов ты складываешь свою судьбу, будет зависеть вся твоя дорога.
Мудрец сказал, что когда-нибудь естествознание и наука о человеке сольются и это будет одна наука. Так вот, образ — это и есть пункт встречи. И с него начинается.
Поэтому встреча науки о человеке и естествознания возможна лишь через образ…
И тут до Зотова дошло…
…А все-таки он нашел зло, и теперь все подтверждается.
Не просто страх смерти, как думал Эпикур, не страх перед реальной опасностью, а страх выдуманный, страх перед воображаемой опасностью, страх почувствовать себя неживым, инструментом, кибером, роботом, отходом, фекалиями. То есть причиной всех бесчисленных обликов зла является одна универсальная, но не объективная, а субъективная причина — страх признать себя отходом.
Человек больше смерти боится, что его до времени демонтируют как неживого и как дерьмо спустят в сточную канаву.
Воображаемые кошмары — вот причина любого зла. Битва с реальными опасностями хотя еще не есть само добро, но оно часто из двух зол наименьшее. А уж битва с воображаемыми кошмарами — это уж точно зло — Его Ничтожество Зло в первом лице.
Чтобы совершилось Зло, страх, что ты отход, должен проникнуть в сам Образ, то есть Зло начинается с чьего-то личного образа, кошмара и превращается в общий Образ-кошмар, то есть в Панику.
Даже страх перед оружием — это страх перед намерениями его владельца. Вот оно, Зло — мучительный и, главное, выдуманный страх быть отходом.
То есть реальная опасность начинается с выдуманной. Зло, как и добро, начинается с образа. Все остальное только последствия. Вот он, пункт встречи живого с неживым и желанного с нежеланным.
— Поймите вы, люди, — сказал Витька Громобоев, — Каждый шаг должен быть хорош! Каждый! Не может состоять хороший путь из плохих шагов!
— А как сделать этот хороший шаг? — спросил Серега.
— Это человек должен открыть сам. Вообразить и воплотить.
— Это и есть творчество?
Громобоев кивнул. Потом он ушел.
— Почему он сказал: «Поймите вы, люди?» — тихо спросила Настя.
— А кто он сам? — спросила Люська.
— Я не знаю, — ответил Зотов. — Девчонки, я всю жизнь думаю, выдумал я, что он особенный, или нет? Может, он и есть мой пункт встречи.
И тогда забился, закричал петух, потому что он единственный из живущих тварей горд тем, что каждую ночь слышит Время. И оно ему говорит — утро! Аврора! С перстами пурпурными Эос!
58
«Хроническим оптимистом» назвала его Настенька в отчаянном споре, когда ее знание жизни схлестнулось с его знанием жизни и ее опыт — с его опытом. Она думала уязвить его, чтобы он оправдывался, и она бы тогда победила, и ей бы стало от этого хорошо. Но он неожиданно согласился и сказал, что — да, он хронический оптимист, потому что «Хронос» это «Время», а живое существо это энергетический Оптимум, — это Сапожников открыл, с него и спрашивай.
Она сказала: «Опять вы все переиначиваете, из каждого слова делаете философию». И он ответил, что каждое слово и есть философия, но все превращают слова в термины, и потому забылось, что философия это не термин, а любовь к мудрости.
В общем, опять заговорил ее. И она сказала, что он ее опять задуривает, когда все и так ясно, а у него выходит, будто люди разговаривают не словами, а философиями. А он сказал, что так и есть. Потому что все слова связаны между собой не грамматикой, а реальной жизнью, опытом и соединены забытыми смыслами. Но Настя сказала: хватит, — и взялась руками за голову.
Потому что еще не забыла, как Зотов объяснил ей разницу между «любопытством» и «любознательностью»: любо-пытство — это любовь к пытке, а любо-знательность — это любовь к знанию. Естествопытатель пытает естество, натуру, и она вопит, а он записывает показания. А естествознание за природой наблюдает, т. е. блюдет ее, хранит и делает любовные выводы. Естествознание — это нянька и бабушка у ребенка, а у естествопытания — бомба. Они втроем — Настенька, Люська и Серега-второй — взялись читать, зотовские записки не из любознания, а из любопытства. «Хватит! — сказала Настя. — Хватит!» Но Зотов не мог остановиться.
Боже мой! Век кончается, а казалось, ему сносу нет! Двадцатый век кончается, а Зотов помнит, как он начинался.
Все еще кажется, что он новый, двадцатый век, а он уже старый, двадцатый век, и уже кончается. Еще два десятилетия, и с ним будут прощаться и вспоминать о нем, как нынче о девятнадцатом.
О прошлом мы знаем понаслышке, а двадцатый Зотов помнит сам, весь. Он знает его на вкус и на ощупь, и раны и синяки, все беды его он знает на собственной шкуре. Из года в год ускорялся его бег, и магнитный маятник увеличивал свой размах, и вот он кончается, двадцатый век, и маятник бьется о его края, как о грудную клетку.
При Зотове возникало скоропалительное нечто с обещанием на века и превращалось в ничто. Двадцатый век — это огромный вдох, и надо о нем рассказать счастливым детям выдоха.
Древо жизни и Древо познания Добра и Зла стали известны Зотову на внезапном повороте его тропы.
А между двух деревьев, двух этих ботанических феноменов, двух метафор, — общая для них почва — Образ, Пункт встречи живого с неживым и двух миров — желанного с нежеланным. Потому что Образ может быть и Рай и Ад.
Зотов чувствовал себя в раю, его окружали любимые Живые существа — они были подобием тех Образов, которые грезились ему всю жизнь.
Но недолгим было его счастье с человечками, беда которых была в том, что они зеленые.
Дело кончилось так же быстро, как в том давнем воображаемом раю.
— Мы ничего не знаем о жизни, — сказала Настя.
— Есть простой способ, — сказал Серега. — Надо прочесть тетрадки прапрадеда.
— Я знаю, где они у него спрятаны, — сказала Люська.
И это было началом всего остального. Когда он открыл дверь, Серега и Люська испуганно смотрели на Настю, а увидев Зотова, тихо смылись.
— Что ты делаешь?… — спросил Зотов с горькой горечью, когда увидел, как она читает его тетрадки, которые он не догадался упрятать туда, откуда они пришли, — в прошлое.
— Дед, мне снился страшный сон, — сказала она. — Я прогоняла прошлое…
Настя отложила тетрадку, светлая и бледненькая, как за чужие грехи козленочек. Она отложила тетрадку, где ее другой любимый, добрый, благородный, бережный дед бил Зотова и Сократа головами об стенку в южной тюрьме.
Настя отложила тетрадку и сказала тихонько:
— Я все поняла… жестокость всех, во всем и всегда.
— Не всех, не во всем и не всегда, — сказал Зотов. — Иначе мы бы с тобой не встретились. Если жизнь есть, значит, она до сих пор сильнее смерти… Значит, сумма плюсов превышает сумму минусов… простой расчет… Несмотря ни на что — превышает.
— Да… мы с тобой космонавты на земле, — сказала Настя. — Веселые, прилетевшие… Сейчас они отдыхают и у них антракт… Я знаю, как начать стих: — в антракте засиделись космонавты… на сцене пьеса страшная идет… Я не хочу с ними жить…
— С кем?
— С людьми… Я не хочу с ними жить… Я хочу улететь с земли… Петр Алексеевич, давай улетим…
— Нет… — сказал Зотов. — Я останусь.
— С кем?
— С людьми, — сказал Зотов. — У меня чересчур сильное земное притяжение — оно называется любовь… Я всю жизнь принимал в них участие, я участник всего и хочу разделить с ними участь.
На следующий день Настенька уехала.
— Преждевременно она прочла все это, — сказал Панфилов, когда все узнал.
— Я жил в раю, — ответил ему Зотов. — Яблочко сорвала она, а из рая погнали меня… Говорят, прежде случилось наоборот.
Настенька переехала к Генке с Верой, и Люська Зотову обо всем рассказывала. В бытовом смысле все было нормально. Вера присматривала за ними обеими. Но Настенька стала вялая и раздражительная. Она так много спала, что было ясно, что она хочет увидеть то, чего нет. Она не знала, что для того, чтобы на самом деле увидеть то, чего еще нет, надо это превратить в плоть. Она не знала, что в конечном счете духовная работа совершается руками. Она хотела заспать эту жизнь.
И Зотов ничего не мог сделать. Он иногда приходил к ним по утрам, когда уже было ясно, что ночь прошла и спать незачем. Тогда он ее будил:
— Настенька, в школу пора…
Она просыпалась и смотрела сквозь него, как сквозь дым.
Потом она исчезла.
Зотову сказали, что его вызывают на родительское собрание. Но он не пошел на родительское собрание. Он замшелый рабочий, посягнувший найти рабочую магию и пришедший к концу своей дороги, когда он только начал кое о чем догадываться.
Приходили и уходили люди, что-то говорили. Потом кто-то сказал, что она теперь живет у Саньки и Жанна ее боится. Но Зотов понимал, что и это еще не все. Потом пришел Серега-второй.
— Дед, сделай что-нибудь, — сказал он. — Она говорит, я не хочу с ними жить.
— С кем, Сережа? — Он знал ответ, но надеялся, что его не будет.
— С людьми.
Зотов помертвел.
— Дед, сделай что-нибудь… А то она уйдет… Посоветуй что-нибудь, дед!
Да, уйдет. Они, Зотовы, ей не глянулись.
— Я могу посоветовать только одно, — сказал он. — Иди за ней. И не спускай с нее глаз. Я бы сделал то же самое, если бы мне было столько же лет, сколько тебе. Но мне значительно больше.
— Она не хочет меня видеть, — сказал он.
Это был конец. Зотов прикрыл глаза.
— Нет… — произнес странно знакомый голос. — Будет еще хуже. Она предаст тебя.
— С кем я говорю? — молча спросил Зотов, как будто ему позвонили по ошибке.
— С кем надо, — ответил голос. — Беги домой, пока не поздно.
…И Зотов увидел, что они с Серегой сидят на бульваре и что в конце тропы жгут листья и пошевеливают их вилами, чтобы горели.
— Сережа, — сказал Зотов. — Отвези меня домой… Быстро… Поймай такси… Что-то я не того…
— Этого еще не хватает, — сказал он. И кинулся искать машину.
Когда они примчались домой, Зотов сразу понял, что опять опоздал.
Сундук был открыт, и груды тетрадок, в которых Зотов был записан весь, исчезли.
— Ну иди, Сережа, — сказал он. — Все в порядке.
Теперь Зотова не было. Если он теперь умрет, никто не узнает, что он когда-то был и родился. Приходим неименитые и уходим безымянные, сказала Таня.
От человека остается дело. А скорее всего, дело его сейчас догорает на свежем костре возле райского шалаша. Теперь Настя зажгла костер, она этому научилась у Миноги. Но Минога костром сигналила о тревоге, а Настя хочет с ней распрощаться. Она предала его.
Ладно. С этим все. Но она не знает, что она делает с собой. Она не знает, что предают всегда двоих — другого и себя. Она этого не вынесет.
Горит костер, оповещая, что пришло зло. Но чье?
Праправнук ушел. А Зотов оглядел пустой от его жизни сундук, порылся в карманах — денег было как раз на буфет — и спустился вниз.
Денег бы хватило на дорогу до водохранилища и обратно, и мысленно он там побывал. Нет. Не поедет. Полет есть полет. Если Настя подобие того Образа, который неизвестно откуда возник в его душе старого греховодника и путаника, то в ней есть полет. Если нет — нет. И кончено с ней, а значит, и с Зотовым.
Но, видно, кто-то следил за его душой. Когда он пришел, за столиком у самого буфета сидели Нюра и Анкаголик.
— По Насте тоскуешь? — спросила Нюра.
— Не пей, — сказал Анкаголик. — Не спеши.
— Да, — говорит Зотов. — Спешка противна человеческой природе еще больше, чем лень, сказал граф Толстой, народный заступник… Я поспешил, Дима, и вот плоды. Каждый шаг надо делать вовремя. Только я не знаю как.
За соседним столом уже сидели выпившие молодые парни в пестрых куртках. Они смеялись, и сквернословили, и поглядывали на них троих, некрасивых и сильно поношенных.
Болонья прошла к буфету, победно загребая ногами, и открыла ключом дверь своей молельни, где сиял и плавился иконостас цен и этикеток.
— Рабочие, рабочие… — пропела прекрасная буфетчица, — гегемоны чертовы… Житья от них нет… лезут всюду…
Зотов высмеян весь. Как-то незаметно оказалось, что он высмеян весь — его привычки, его внешность, его мысли и его должность — рядовой. О языке и говорить нечего. Если он говорит грамотно и не втыкает через слово невпопад «именно», «в основном», «несколько необычно», «собственно говоря», то это не его заслуга, а учителей, но если он матерится — считается, что это уж точно его изобретение. Хотя все черные слова, весь мат и любая гнусность, которую может произнести человечий язык, есть изобретение людей грамотных, книжных, богатых, сытых, воспитанных и обученных, и так было во все времена. Любой языковед это знает.
Тут Зотов почувствовал, что ему совсем худо. Вот мы догадались: что вовремя — добро, а что не вовремя — зло. И что Образ — это пункт встречи живого и неживого, а также — желанного и нежеланного, и наука станет единая. И вот он высмеян. Потому что детеныши пролистали его жизнь, но не вынесли тяжести мысли. И теперь они смеются над ним и сквернословят. Потому что они еще зеленые… Зотов Настеньке сказал: «Учись, хозяйкой будешь…»- «Я не хочу быть хозяйкой, — сказала Настенька. — Я хочу быть товарищем». А разве это не одно и то же?
— Чего тебе не хватает, старый? — спросила Нюра.
— Ветра, — говорит Зотов. — Полета и бури волос… Пешеходу без этого нельзя.
Пестрые куртки засмеялись.
— Не спешите, ребенки, — сказал Зотов. — Дорога дли-и-ин-ная. Ее без полета не выдержать.
— Вот кого я ненавижу, — неожиданно звонко сказала Болонья. — Старая гнида… Мало ему, что на свете зажился… ему летать надо.
Все малость примолкли и стали глазеть на них.
— Слышь, толстомясая, — возразил непьющий Дима, — летим с нами.
— Кого слушаете? — не откликаясь на призыв, пропела Болонья пестрым курткам. — Он вас задуривает… На его дороге пути нет.
В глазах у Зотова плыли гипертонические круги.
— Верно, ребенки, — сказал он. — Некуда мне вас вести. Она права. Ничего на свете нет, кроме буфета… На буфет, конечно, надо заработать… Это не отменяется. Но заработал — и в буфет… Важно только, чтоб над стойкой свисали две шелковые медовые сиськи… а больше ничего на свете нет… остальное выдумки… не уходите, ребята, далеко от буфета… Вам еще не время понять, а мое время кончилось… я — пас… А наука там, разум, сердце, совесть, стыд, искусство, что там еще… вера, надежда, любовь…
— И мать их София, — сказал Дима, как выругался.
— И мать их София — они все, ребята, либо работают на буфет, либо — выдумки. А любовь и вовсе ловушка — зашла курица в аптеку и сказала ку-ка-реку… дайте, дайте мне духов для приманки петухов, — вот вся любовь, и лягемте у койку. И ничего, кроме буфета, нет… Приняли у стойки свои триста, заели конфеткой и запели: мы дети Галактики, — и все… Жизнь есть жизнь… Все, ребята, отлетался, время мое кончилось.
— Идем, идем, старый, — сказала Нюра. — Баб она продала, а мужика еще в глаза не видала.
— Ты, слышно, много видала, — сказала Болонья негромко.
— А чего мне их видать… — лениво сказала Нюра. — Я их делаю.
Громобоев делает погоду. Нюра — мужиков. Сапожников — идеи. Панфилов — образы, а Зотов — только записки по дороге. Но их нет. Значит, дорога его затоптана. И все они — фантазия.
Нюра повела его к мотающейся стеклянной двери, он споткнулся и вышел, а ребята потянулись вслед не поймешь за кем…
— А платить кто будет? — высоко спросила Болонья.
— Виноват, исправлюсь, — ответил последний из уходящих и кинул на стойку десятку.
Он догнал остальных. Дверь еще мотнулась, и Зотов услышал, как вслед им в стенку со свистом рванул стакан.
На улице шел дождь.
— Иди домой, — сказала Нюра. — Похоже, беда какая… Дверь нараспах открыта.
— Проводи, — сказал Зотов. — Морозно мне.
Они поднялись в лифте, вошли в квартиру без ключа. Никого не было.
— Ну, иди, — сказал Зотов. — Все нормально.
В груди пекло, и затылок застыл, будто зажат в кресле у зубного врача.
Это не страшно, что мы уходим. Страшно, что с нами уходит все, что мы пережили, все города, где мы не бывали, и, главное, города, где мы никогда не будем, все утра, полдни, вечера и полночи, все впечатления сердца и глаза и запахи цветов, воздуха и воды…
Жалко, черт возьми.
И тени колонн… и тени колонн…
Я иду по небу, как по тонкому льду.
Как жалко расставаться с привычной грядкой, на которой ты произрастал и на которую тебя посеяли…
Какой знакомый теплый запах шинели и куска хлеба, и крик петуха, и снова запах весны сквозь щель зимнего окна…
Лебеди над зеленым морем. В синем небе с облаками, как лебеди. А на горизонте — рыжие горы с пятнами облезлого ледника.
Лебеди… Если ты лебедь — неважно, что ты родился в курятнике. Важно, что ты вылупился из лебединого яйца.
Зотов сам не знал, спит он, или бредит, или грезит; он начал подниматься в воздух и закрыл глаза.
— Это могло бы случиться значительно раньше… — сказал он.
— Твоя смерть? — спросил голос.
— Нет… Лебединые крылья…
И Зотов поднялся в воздух и увидел…
…Бедность. Тишина. Высокое небо.
Пустота негромкой земли. Кибитка на горизонте.
— Никогда не показывай, что ты общаешься с иными мирами, — сказал Зотов ему.
— С какими мирами? — спросил Витька Громобоев.
— Молодец… Так и держись, — сказал Зотов. — Иначе тебе этого не простят.
— Кто?
— Вот видишь — ты спросил «кто?». Значит, «что» не простят, ты знаешь сам? Ладно… Не отвечай… — сказал Зотов. — У тебя будут выпытывать, а ты не говори… Мне самому до смерти любопытно, как ты это делаешь… А?… Ну ладно… Ничего не отвечай. Слушай молча, а я тебя буду уговаривать…
Громобоев кивнул.
— Что? — спросил Зотов, надеясь на ответ.
— Я молчу.
Зотов тогда прерывисто вздохнул и сказал:
— Всегда притворяйся, что ты умеешь меньше, чем умеешь… и слыви недоразвитым… Иначе тебя спросят — почему ты умеешь, а я нет? И тебе придется отвечать. А тогда никакая скромность поведения тебя не спасет от пинков. Потому что любое твое объяснение никого не устроит… Поэтому — молчи. И если спросят, как тебе удается сделать то, чего другим не под силу, отвечай: «Упорной тренировкой…» Часть вопрошающих отвалится. А если остальные спросят: а почему нам тренировка не помогает? Отвечай: «Мне попался лучший тренер, чем вам…» Но упаси тебя боже признаться, что твое умение приходит само, когда ты общаешься с глубинной природой, которая одна для всех, кроме бессердечных… Говори всем — тренер был хорош, и я насобачился.
— А если спросят: а как тренер догадался, что надо тренировать именно тебя? — спросил Громобоев.
Но свежий ветер принес только запах снега, воды и травы, и Зотов не ответил.
— А теперь скажи мне то, что ты хочешь мне сказать, и что можешь, и что я заслужил по твоему доверию ко мне… — сказал Зотов.
Громобоев посмотрел на него, отвел глаза, потом произнес отчетливо и буднично:
— Вы ошиблись, Петр Алексеевич… Я не общаюсь с иными мирами.
— Ну-ну… — сказал Зотов. — Я всего лишь прокладываю свою дорогу… Я понимаю, доверять мне не обязательно.
— Вы не поняли опять… Я не общаюсь с иными мирами, — сказал Громобоев. — Я сам и есть иной мир. — И добавил: — Только спокойненько.
Зотов взялся за грудь.
— То есть? — прошептал он. — Кто же вы?
— Пан.
— Панов у нас не любят… — произнес Зотов. — Рождение ваше скрыто темной завесой… но панов у нас не любят.
— Вы опять не поняли меня, — сказал Громобоев. — Я Пан — бог природного вдохновения и пешеходной тропы.
Весенний ветер начал дуть с неодолимой силой.
— И на земле у меня только один враг, — сказал Пан.
— Кто? — спросил Зотов.
Он поверил сразу, и все в его душе облегчилось и стало ясным и светлым, и он понял, что умирает и теплый ветер отделяет его от холма.
— Нет, — сказал Пан. — Это еще не смерть.
— А кто твой враг на земле? — спросил Зотов.
— Враг только один. Термин.
— Я вас не понимаю… — в светлом отчаянии сказал Зотов. — Кто?
— Термин… — сказал Пан. — Римский бог межевого камня… Пограничный бог. Ему поклонялись как примирителю споров и с песнями о перемирии поливали камень жертвенной кровью… Когда-то ему поклонялись явно, теперь — тайно. Бог разделения. Бог отдельного шага… Бог стоп — кадра… Бог остановки и зависти… Бог мертвой части, тормозящей развитие живого целого… Бог окаменения и окостенения… Бог наживы явной и тайной… Бог амбиции, бог самовосхваления… Бог сформировавшегося вида, то есть тупика эволюции… Бог ненависти к перерастающему и обтекающему его движению… Бог разводов, разрядов, склок, категорий, титулов, чемпионов, отметок… Враг метаморфоз, трансформации… Враг слова… Мой враг… Ибо часть отграниченная есть труп.
Ветер сорвал с Громобоева шляпу, и он погнался за ней.
— Подожди! — крикнул Зотов. — Только одно!.. Если ты Великий Пан — почему ты похож на человека?!..
— Именно поэтому, — оглянулся Пан на бегу. — Именно поэтому…
И закрутился белый вихрь живого времени, и Зотов осознал себя на земле, и вспомнил, и перестал фантазировать.
У него умерла жена, они с ней были одногодки. И когда она умерла, Зотов стал мечтать о приемыше. Почему? Он сам не знал.
Теперь он знает: он искал себе собеседника.
Но вот сроки пришли, и он обрел приемыша — девочку. Потом странные полунасмешливые отношения… Потом он узнал, что она хочет совершить ужасное по отношению к нему, и не стал мешать ей в этом — от неожиданности и невыносимой любви. Он думал только о ней и понимал, что такую правду нельзя вынести.
А она лежала в шалаше и смотрела на звезду Сириус, которая отражалась в хранилище воды, и думала об этом треклятом оптимуме. И о треклятом образе, и о легендах догонов, будто земляне пришли с Сириуса, и о прочей, вполне возможно, что гипотетической, чепухе, и что, может быть, найдутся другие объяснения, но пока их нет — годятся и такие, лишь бы было хорошо, лишь бы было добро, лишь бы была любовь, лишь бы была Любовь. А объяснения? Какие вызывают Любовь, те и правильны, потому что все остальное — зло. Потому что она тетрадки прочла до конца. И там было про нее.
И что-то в сердце ее вошло, какое-то предчувствие, предчувствие ожидания, — если только такое бывает.
И только тут вдруг она увидела костер на берегу и сообразила, что Минога зажгла его в знак беды, и увидела на бугре Громобоева, и ветер будто пытался задуть костер, но только раздувал его.
И тогда Настенька, как та легендарная праматерь Ева, испытала печальный ужас рая.
И дальше все зависело от того, как она поступит, будучи окончательно свободной. Потому что критерий личности есть ее свобода.
И как ты поступишь, если воля твоя свободна, — таков ты и есть.
…На Зотова налетело бурей, обхватило его, рыдая и ужасаясь, задышало — две розовые ноздри, сто рук, сто губ.
— Подлость… девочка… подлость, — прохрипел Зотов, и слезы выдавливались из стиснутых век.
Но его тормошило, разворачивало, пыталось поднять его подбородок, дотянуться до его лица, опутало бурей и благоуханием волос…
— Давай… никогда… никому… — твердила она.
— Никогда? — спросил он.
Ему ответили:
— Нет… Может быть, когда-нибудь…
А что когда-нибудь? Зотов не знал.
— Зато ты теперь знаешь… что я тебя люблю… Знаешь… знаешь… Не ври! Знаешь…
— Я прожил жизнь. Мне не понравилось. Все, — сказал Зотов. — Я, конечно, не хочу умирать. Но лучше бы я не родился. Поэтому позвольте вас кое о чем спросить и кое-что сообщить вам…
Настя стала бить его кулаками по спине.
— Не смей!.. — кричала она. — Перестань!.. Не уходи!
И так далее, в этом роде.
И тогда он подумал: «Может, и правда не стоит?…»
И вернулся жить.
Когда она отплакала свое и только всхлипывала и дрожала, Зотов спросил:
— А от кого ребенок?… Кто отец?
— Твой праправнук, дед… — ответила она. — Ты будешь прапрапрадед… Я про таких даже не слыхала… Дед, мне снился страшный сон… Я отгоняла прошлое.
— Уйди… я отдохну… — сказал Зотов.
И все в нем потихонечку оттаивало, как будто каждая клетка и каждая капелька его крови, сжавшаяся от белого ужаса предательства, теперь распрямлялась и начинала делать мелкие биения вздохов.
— А ты не умрешь? — спросила девочка.
— Нет.
— А завтра отвезешь меня на водохранилище? Мы с ним сговорились.
— Ладно… — сказал Зотов. — Иди спать. И в эту ночь Сиринга нашла своего Пана. И он посмеивался.
И Сиринга ему говорила прекрасным теперь голосом:
— Дурак… почему ты не мог мне сказать раньше?
— Мне нужно, чтобы сначала об этом узнали все, — отвечал он.
И Мария и Зотов стояли, как темные каменные истуканы в меркнущей степи, которых будут разгадывать тысячу лет — кто они? Почему стоят на холмах? Символом чего? Чем страдали? Зачем?
Но они с Марией теперь знали: свобода воли дана, чтобы узнать, чего стоит человек в каждом своем поступке. В каждом.
В комнате неслышно двигалась и прибирала в сундук тетрадки неслышная серая Нюра, которая позвонила Марии и сообщила ей, что Зотов вполне готов.
Он думал, что сундук остался пустой. Нет. Неправда. Когда давным-давно непослушная Пандора открыла запретный ящик и из него разлетелись несчастья, то на донышке осталась Надежда. Мало кто помнит эту деталь.
Глава восьмая Красная книга
Когда-нибудь наука и Естествознание в такой же мере сольется с наукой о человеке, в какой наука о человеке сольется с Естествознанием. И это будет одна наука.
К. МарксНужно чем-нибудь быть, чтобы что-нибудь сделать.
И. Гёте59
Трезвый Дима, бывший бессмертный Анкаголик, сказал:
— Человека надо записать в Красную книгу, и всё уладится.
Зотову восемьдесят пять. Он бывал сшиблен наземь жизнью, смертью, старостью и унижением души. Ему восемьдесят пять, но он поднимается на счет «восемь» и снова встает в стойку — за своего деда, отца, сына, внука, правнука, праправнука, прапраправнука и всех, кого они могут породить. Он поднимается с пола, ограниченный канатами, пока еще не прозвучал счет «девять» и гонг.
Потому что Человек должен быть оправдан.
Тяжелые грузчики унесли книги. И остались Зотов с Настенькой вдвоем дожидаться Серегу. Пусто стало в квартире без книг и Сереги-второго, который поехал присмотреть, как им там, книгам, на новом месте — в непрядвинском доме! Фантастика.
Особнячок-то, в котором Зотов Настеньку обрел, он и был Непрядвина последний родовой дом. Фантастика. Предложение создать в особнячке философскую библиотеку начальство одобрило без затруднений. Фантастика.
Настенька ребенка ждет от Сереги и похожа на крольчиху… «Пузо три арбуза, — говорит она и прислушивается. — И растет ребенок там не по дням, а по часам». Фантастика.
И родильный дом с центральным отоплением ждет не дождется очередного князя Гвидона на острове Буяне. Фантастика.
А вокруг острова Буяна… Буян, Буян… На твоих рубежах полыхают пожары… Каждый год словно храм, уцелевший в огне… Каждый год как межа между новым и старым… Каждый год, как ребенок, спешащий ко мне… Фантастика. И весна вовсю, весна в цвету. Фантастика.
И на всем этом очередной барыга хочет попробовать ограниченную, небольшую такую, уютную ядерную войну? Репортер спросил мартышку у кнопки: знает ли она, на кого нацелены ракеты?… «Нет…»- ответил солдат. «Почему?…»- «Если б я знал, я бы свихнулся». Чтобы изобрести бомбу, надо сначала вообразить, что кого-то убиваешь безнаказанно. Мальчик написал в сочинении: «Зачем вы нас рожаете, чтобы потом убивать? Что мы вам сделали?…» Страшнее этого детского вопроса нет ничего.
Зотов читал много фантастики, и большинство читанного о том, как залететь подальше, лететь подольше и увидать побольше, — а вдруг где-то вдали еще живые существа живут, не вовсе такие, как мы?
И тут тарелки летающие без закусок или дыры во времени и пространстве, и ничего достоверного неизвестно, и любые летающие факты при жестком взгляде полной достоверности не дают, и большинство рассыпается на ошибки и мираж. И все хотят обнять вселенную логически, «линейно», как говорит Сапожников, и воображение летит не туда, не туда, и нет оглядки на то, что лежит под самым носом.
И вся планетная система вокруг Солнца, на которую ежели с другой звезды посмотреть, то Землю можно и не учитывать, такая она пылинка рядом с Солнцем, Юпитером и Сатурном?
А ведь именно на этой пылинке и капельке и живет живая жизнь. И перед этим невероятным фактом бледнеет вся механика вселенной и вселенной вселенных. Потому что достоверно известно, что все открытые вселенные — дохлые, а все остальное — недостоверно и догадки.
Когда-то думали, что Земля есть центр Вселенной и Солнце с остальными небесными подробностями вращается вокруг Земли. Теперь узнали, что вселенная необозрима и Земля — одна из ее пылинок.
А дальше сработала линейная логика — если вселенная бесконечна, значит, и планет на ней беспредельно, а если планет на ней беспредельно, значит, и живности на них бесчисленно.
Значит… Значит… А ничего не значит! Может значить, а может и нет.
Потому что если научная наука снова склоняется к тому, что, как в Каббале, вся материя была некогда собрана в одну точку с немыслимой энергией, у которой случился взрыв, и с тех пор вселенная разлетается, то по той же логике как не допустить, что если взрыв был один раз, то и жизнь могла зародиться один раз?… А зародившись один раз, еще только жаждет расселения?
Если логика там права, то она и тут права. Если взрыв один раз, то и жизнь один раз.
А так как ее пока нигде, кроме Земли, не обнаружено, то Земля и есть Центр Вселенной.
А что вокруг чего вращается, есть по сравнению с этим факт незначительный.
И если мог быть первый взрыв неживой материи, то мог быть и первый взрыв живой материи.
Тихий, великий, медленный взрыв расселения.
И пока что — это случилось на Земле, и о другом ничего неизвестно.
И никакая линейная логика не запрещает думать так.
И если допускают, что взрыв был один раз, то и жизнь случилась один раз и другой не будет.
Потому что неповторимость жизни — вот она, под носом, и она есть факт, а насчет первого взрыва — одни предположения.
И тогда искать объяснения Вселенной и ее разлета надо здесь, на Земле.
И тогда это есть меднозвонные скрижали и тайна тайн, и перед этим робеет душа моя, и сердце мое страшится одиночества на пешеходной тропе.
Фантазия?
Был в XIX веке забытый ныне праведник философ Федоров, которого называли Сократом XIX века. И жил он в бедности, потому что сам хотел. И всю жизнь писал огромный труд, посвященный одной идее: он считал, что долг каждого поколения восстановить телесно своих родителей, а те бы — своих, и так вглубь, до начала. Вот как он понимал бессмертие и Воскрешение из мертвых! Куда же поселить бесчисленные миллиарды бесчисленных поколений?… Федор считал, что надо расселяться по Вселенной.
Фантастика? Как посмотреть — если учеником Федорова был Циолковский, а учеником Циолковского был Королев, а учеником Королева был Гагарин Юрий, улыбка Земли. Где гарантия, что фантазия Федорова неосуществима? На стене Золотых ворот во Владимире копьем нацарапано: «Гюргий стоял тут». Гюргий — это Юрий. И все связано.
— Образ — пункт встречи естествознания и науки о человеке.
Пункт встречи…
Без образа — никуда. Образ желаемого стихийно влияет на все и, овладев массами, становится материальной силой товарищества.
Дед, который догадался, что сознание родилось от стыка сна и яви…
Сократ-Аграрий, который догадался, что нравственность общая, не делится на норовы, а складывается из них…
Он, Зотов Петр — первый Алексеевич, который догадался, что зло — это не страх реальной смерти, а выдуманный страх быть преждевременно превращенным в отходы… — вот оно, его открытие.
Сапожников, который догадался спросить: если вся материя была собрана в одну точку, то что было вокруг?… И предположил: другой тип материи.
Панфилов, который догадался спросить: если вся материя была собрана в одну точку, то что было до этого? И предположил: другой тип цивилизации…
Дима, который догадался: человека надо записать в Красную книгу, и все уладится.
Все перепутано, потому что все связано. И потому Громобоев сказал: «По непроторенной дороге нельзя груз тащить ни строем в одну сторону, ни растаскивать по разным карманам и хапать. А надо его тянуть и тормошить в разные стороны, сообразно норовам, но имея общую цель. Вот образ гармонии, образ Товарищества».
— Мы передавали погоду на планете… — сказала дикторша потерянным голосом.
— Вот это да… — сказал праправнук. — Возле города Вашингтона вулкан заработал…
— Дед… — сказала Настя. — Что ты об этом думаешь?
— Ни фига себе… — сказал Зотов задумчиво. — Никак Витька Громобоев вернулся.
— Какая пустая квартира, — сказала Настя. — Дед… а зачем ты отдал свои книги?
— Такое собрание дома хранить нельзя. Надо отдать.
— Значит, в бывшем непрядвинском доме… будет философская библиотека.
— Да…
— И там будет вся философия?
— Вся.
— И твоя?
— И моя, — говорит.
— Значит, и моя, — сказала Настя. — Дед, а зачем нужна философия?
— А зачем нужна карта местности?… Еще вопросы будут?
— У меня просьба… Выполнишь?
— Если смогу.
— Пока я буду в роддоме, поднови шалаш на берегу.
— Бу-сделано, — сказал Зотов. — Но учти, детей будешь рожать много… Жилье и деньги мы достанем, работы непочатый край…
— Ладно, — сказала Настя.
А когда человек отдыхает от ужаса быть списанным в отходы, к нему приходит вдохновение, и он делает то, чего на самом деле хочет, а не то, чтоб от других не отстать.
«Нет такой материальной базы, чтобы сама превращала толпу в товарищество! Если люди не товарищи — любую базу растащат! Товарищество — это не надстройка над материальной базой, это желание товарищества!.. Чтобы было товарищество — мало сознавать, что так лучше, не надо хотеть, чтобы так было! Сознание, сознание! Сознание! — мысленно кричал Зотов. — Я сознаю, что курить вредно, а курю! Хочется!.. Товарищество — это род любви! Она начинается с образа, а любовь гаснет, если ее пытаются обеспечить чем угодно, кроме как ею же самой!.. И пропадает то самое, что хотят обеспечить! Таково свойство любви! Ей ничего не надо, кроме нее самой!»
— Детенки!.. — пел, пил, плакал и кричал Зотов Петр — первый Алексеевич, токарь — философ — пешеход и хронический оптимист. — Детенки, не дрейфьте!.. Будущее — будет!.. Ничего они с нами не сделают — ни божья полиция, ни барыги, ни импотенты!.. Они жирные коты, они нас на понт берут!.. У них самих штаны мокрые!.. На этот раз кнопка и до них достанет, и им жизнь дорога, и от генетических уродов никакие бункеры не спасут! А мы первые не кинем… Детенки! Не дрейфьте! Я с вами! Будущее — будет!
Дел много у Зотова, надо еще шалаш подновить на берегу, еще с милицией объясняться. Сегодня позвонили из отделения и говорят:
— Ваш праправнук в роддоме на водостоке повис… Нижний кусок трубы обвалился — и он висит… Снимайте сами вашего хулигана!
А Зотов им говорит:
— Это не хулиган. Это молодой муж. Он к Насте в окно лезет, к молодой жене. Она мне только что прапраправнука родила. Настырного. Он уже первое слово закричал: «Я! Я!»
— Все вы, я вижу, там настырные!
— Что правда, — отвечает, — то правда.
Потом доктор позвонила и сказала, что прапраправнук орет так, что его никакими силами не остановишь, и значит, через семнадцать лет его барышня Зотову кого-нибудь в подоле принесет.
Доживет ли он до ста четырех лет, ему неведомо, но готовьтесь, родители. Очередной скандал близится и не за горами. Зотовское отродье через семнадцать лет дозреет, а тут и веку конец.
ЭПИЛОГ
Дед говорил:
— Был в Греции великий город Сибарис рядом с великим городом Спартой. В Сибарисе жили праздно и в роскоши и себе ни в чем не отказывали. Из принципа. Считали, дело свободного человека — досуг.
В Спарте жили нищие. Из принципа. Считали, дело свободного человека — воинское дело. Вокруг города даже стен не ставили, гордились, что ихняя доблесть сильнее стен.
Вроде бы разные города, а сходились в одном — и в Спарте и в Сибарисе презирали работу и того, кто работает. Названия остались, а от вольного города Афины остался фундамент всей европейской культуры, чем мы сейчас живы. Потому что там работу позором не считали. Потому что догадались: свобода — это работа.
Не свобода достигается работой, но сама работа — это и есть свобода.
Вот тайна, которую знаем мы, Зотовы.
И Зотов заснул и увидел смешной сон про Витьку Громобоева.
…Зотов добрался до места и увидел берег воды.
Но до него нельзя было дойти из-за лавины машин на шоссе. Женщины почти все перебежали, а мужчины уважительно толпились на этой стороне.
Но вдоль по улице шла Нюра, и Зотов увидел ее.
— Не перейдешь, — сказал он и кивнул на поток машин. — А мне вот как нужно.
Нюра посмотрела на Зотова и сонно мигнула.
— Какой нетерпеливый… — сказала она и отвернулась.
Она стала смотреть на поток машин и все оглядывалась, пока не увидела, что ей надо.
Она увидела, как по переполненному машинами шоссе мчится шляпа, а за ней гонится человек с бутылочными глазами, и машины на него не наезжают.
Нюра долго смотрела вслед, потом поклонилась в пояс, будто ягоду на асфальте сорвала, обернулась и выпрямилась с просветленным лицом.
— Ты что? — спросил Зотов.
— Теперь дойдем, — сказала она, — дорога открылась. Я знак видала.
И вдруг на шоссе выключились моторы. Все посмотрели вверх и увидели большой диск.
— Летающая тарелка, — догадались обученные неученые.
Все смотрели на небо. Естественно, всех пришельцев ждут с неба.
Но это было спроектированное на облако изображение мокрой шляпы Громобоева.
Дунул ветер и сорвал с него шляпу. Диск на облаке мгновенно исчез. Громобоев помчался за шляпой между остекленевшими машинами, у которых выключилось зажигание, фары, подфарники и клаксоны, остановились транзисторы, праздничные магнитофоны, встроенные холодильники, электробритвы, пылесосы, полотеры, кофейные мельницы, электрические часы и утюги.
Пока машины стояли молча, с обочин хлынули люди и пошли поперек движения в сторону водохранилища, скидывая пиджаки и доставая бутерброды.
Купальщики прошли через шоссе, и на той стороне их встретили визгливые купальщицы, поймавшие свои подолы. Громобоев ухватил шляпу, ветер кончился.
Лавина машин включилась и панически рванула по шоссе сообщать о пришельцах, которых испокон веку ожидали только с неба.
И никто не обратил внимания на тот простой факт, что пришел Великий Пан, зотовский воображаемый «Пункт встречи», стоит на пешеходной тропе и смеется.
Кое-кто уже видел его воочию. Кое-кто испытывает непонятный ужас, и в панике совершает мерзости, и ищет лекарства или оружия.
Но ничего не поделаешь. Витька Громобоев смеется, и хочешь не хочешь — придется жить.
От жизни никакой бомбой не спастись.
Пан это не значит «бог», Пан это значит «все», т. е. природа.
Выхода нет. Придется жить талантливо. Живое время так хочет, и мы, люди, — его пророки. А кто не пророки — опомнятся. А кто не опомнится, того задавит зевота.
— Зотов, слышишь меня? — спросил Громобоев.
— А как же! — ответил Зотов. И проснулся.
…Фантазия… Фантазия…
От автора
Когда я был маленьким, я думал, что на земле профессий только две — рабочие и художники. Я потом много чего узнал, но на этот счет так и не повзрослел.
Часто говорят: я из народа вышел. Ну и что хорошего, что вышел? А ты не выходи. Тут так: любишь — не любишь. И все видно, как на ромашке.
Я написал про человека, которого люблю.
Надеюсь, это заметно.
Записки странствующего энтузиаста
Моему сыну Артему посвящается трилогия о творчестве — «Самшитовый лес», «Как птица Гаруда» и эти «Записки странствующего энтузиаста».
ОТ АВТОРАВ этом романе встречаются имена Сапожникова, Громобоева, Миноги, Зотова и других — из предыдущих романов трилогии о творчестве.
В руке войны не будет той неисчерпаемой упорности, как в руке мира.
Н. РерихПРОЛОГ
… Пустота в его мозгу, накрытом чашей черепа, забирала тепло из клеток мозга. Электронный газ свободно метался в его пустой башке, складываясь во что попало, и был похож на что угодно.
Электронные облака складывались в то, что было угодно всему живому, что населяло Землю и ее окрестности — всю гигантскую утробу космоса, с его раем, адом и бесчисленными сгустками копошащихся галактик, часть которых схлопнулась и уже не светилась ни фига.
И вся гигантская утроба космоса, вся плацента, где зарождалась Новая Вселенная, все огромное брюхо — неслышно и грозно тряслось от хохота, расставаясь со своим прошлым, но расставаясь медленно.
Часть I. Вер спор — звук воль
Глава первая. Переломы
1
Дорогой дядя!
Я тогда был еще молодой умник и старался понять, каким из двух способов лучше забыть свои неприятности: читать книжки, где персонажам было еще хуже, чем мне, или такие, где они испытывали неслыханные радости? — И я читал все подряд, проверяя эффект на собственной шкуре.
И я заметил одну странную вещь. Либо то, что я читал, было — гипноз, либо — наркоз. Гипноз понуждал меня действовать, будто я чья-то вещь, а под наркозом я сам собой не владел.
Гипноз заставлял меня совать нос в чужие неприятности, а наркоз — облизываться на чужие блаженства.
И я думал — а когда же мной займутся? Когда же я? Или им на меня начхать?
А реальная жизнь пихала меня локтями и коленками, наступала на любимые мозоли, била под дых и в душу, и все время хотелось есть. Каждый день. И то, что я читал, никак не удавалось применить к моим реальным обстоятельствам.
Так на диете и жил, и на фига вообще это дело — книжки?
И только эффект от некоторых книг бывал совершенно неожиданный. Они были не гипноз и не наркоз. Они не заставляли чересчур влезать в чужие беды, не наматывали мне кишки на карандаш и не тренировали мою способность к страху и состраданию.
Но они и не делали меня блаженным дурачком, который побывал в раю, а вернувшись на землю, вопиет от ужаса, и теперь его соплей перешибешь. Как того императора Наполеона при Ватерлоо.
Нет. Книги, о которых я хочу сказать, это были странные книги. Они не трактовали вопросы чести, мести, сострадания, страха, совести или там — «давайте полюбим друг друга». Но все это возникало как дополнительный эффект, как функция чего-то более важного.
Они не доказывали мне, что люди, живущие в одной местности, лучше людей, живущих в другой, или что наши не хуже ваших. Они не подмигивали мне: «Мужчина, Вы меня понимаете? Но это между нами, Ваше-Вашество, только для Вас, для своих-с. Мы же с вами интеллигентные люди-с, говорю Вам, как дворянин дворянину-с, или батрак-с батраку-с», — это все равно, и не вызывали вожделений телесных или духовных, которых нельзя удовлетворить без телесного или духовного срама.
И я перед этими книгами не держал экзамена. Так что же это были за книги?
Это были книги, авторы которых не считали меня дураком и давали мне силы выдержать жизнь.
В них не было похабной ухмылки над слабым, и они не лизали задницу у сильного.
Эти странные книги говорили мне: «Очнись, малый!» И равно спасали меня от отчаяния и эйфории.
Что же было общего у этих книг? Одна великая особенность. Они обучали меня свободе и делали сильным.
Если ты умеешь выполнять чужие предписания, то это о тебе еще почти ничего не говорит. И кто ты — неизвестно.
Критерий личности — это ее свобода. Какой ты, если дать тебе полную свободу, таков ты и есть на самом деле.
И тут никуда не скрыться — ни от себя, ни от других, и все видно. Но так как ты не один такой гаврик на свете, и таких гавриков, как ты, — в любом троллейбусе битком, то свободе надо учиться так же, как и равенству, даже если ты по натуре — ангел. Иначе троллейбус станет троллейбусом дьяволов.
Таких книг еще немного. Два-три классика и несколько справочников. Все они оттеснены на второй план либо визгом экспертов, либо таким же судорожным почтением, от которого скулы сводит зевотой. О, эти эксперты!
Сколько из них пишут двумя руками в разные стороны. Хорошо живут.
Чего они не хотят, еще можно иногда понять, — чтобы над ними смеялись. Но понять, чего они хотят…
2
Дорогой дядя!
До сих пор — сначала воевали, потом — обсуждали последствия. Теперь обсуждать было бы некому. Все это знали. Но некоторые тянули понтяру. Мне надо было узнать — стоит ли хлопотать в принципе. Мало ли.
Я прикинул, сколько лет до Апокалипсиса, если ничего не придумать, и главное — не предпринимать, и наугад залетел в не слишком далекое будущее, чтобы точно знать, был все же Апокалипсис или нет. Оказалось, нет. Ну и слава богу.
Но я вздохнул с облегчением только у самых ажурных ворот. Я видел такие у библиотеки Ушинского, но теперь их поставили на краю огромной долины, раскинувшейся внизу, к которой вела лента эскалатора.
Солнце стояло еще высоко, но уже вечерело. Сладостный покой охватил меня. Если вечереет, значит, Земля вращается, значит, она есть, и я не бесплотный путник на другой планете. И все при мне, и я не голова на паучьих ножках, и у меня не вырос третий глаз мутанта.
Я прислушался. Раздавалась дальняя музыка. Из долины, наверно.
- Эй! — окликнули меня.
У ворот, в тени колонны, со старой кушетки поднимался сонный страж. Кушетка была такая же, как у нас. Это меня обеспокоило. Поймав мой взгляд, он сказал с гордостью:
- Антиквариат.
- Безвкусица…
- О вкусах не спорят, — сказал он.
Слава богу, хоть этого они достигли. Превратили пустое пожелание в поведение. Он лежал себе в тенечке в трусиках хорошего качества и был нормального сложения, даже полноват.
- Сейчас, переоденусь, — сказал он.
И вытащил из-под кушетки тяжелый плащ и карманный фонарь.
Фонарь вспыхнул прожекторно и лазерно, как пламенный меч, и даже несколько затмил вечернее солнце. Я зажмурился.
- Зачем все это? — спросил я привратника будущего.
- У нас считают, что иначе вы не поверите, что вы здесь.
- До сих пор считают? — спросил я.
- Мы изучаем ваши воззрения. Они хаотичны.
- Да, верю я, верю!.. Он погасил фонарь.
- Жарковато… Он снял плащ.
- Ты вообще чего приперся? — спросил он.
- Да вот…
- Покажи руку.
Я протянул. Он внимательно ее осмотрел. Я пожал его руку, он ответил на рукопожатие и отпустил. Потом достал из-под кушетки хорошо изданную книгу, уселся и углубился читать.
Я пошел к воротам. Он поднял голову:
- Ты чего это?
- А?
- Топай назад.
Я остановился и осознавал. Потом обиделся.
- Почему это? Что, в будущее уж и слетать нельзя? Он посмотрел на меня исподлобья и спросил вскользь:
- А ты его заслужил? Я задохся.
- Я?! Я?! Да я всю жизнь только на него и работал!
- Значит, не то делал, — сказал он. — В Списке приглашенных ты не значишься, — и он показал книгу Абонентов.
- Но я же думал, — говорю, — что каждый… Что для всех…
- Значит, не придумал, как это сделать, чтоб для всех.
- Значит, лететь назад? — говорю. — Ты бы спросил, чего мне это стоило!
- Тогда, значит, не придумал, как лететь дешевле. Лети назад и придумывай. Я решил схитрить. Мало ли…
- Значит, лететь в мое прошлое? Но ведь известно, это прошлое не переделаешь…
Но их не проведешь.
- Не валяй дурака, — сказал он. — Никто и не говорит о твоем «прошлом». Тебя отправляют в твое «настоящее». А там думай, как быть. Сюда пускают только реальных участников. Не тех, кто хотел, а тех, кто выдумал такое, чтобы у нас сложилось то, что есть.
И тут я возопил:
- Ладно врать! Я придумал Образ вашего настоящего! Это немало. А?! И придумал, как летать!
- Образы придумывают многие, — сказал он. — Но у нас здесь всё не совсем так, как они придумывали. И значит, это не их будущее.
И тут я вспомнил — господи, я же всегда это знал! — не та причинность, другая причинность! По Образу даже нарисовать Подобие почти что нельзя, и художники ревьмя ревут — не вышло! А уж в жизни-то… Только ты вообразил, как поступить, а тебя судьба — раз и по носу. Потому что ты столкнулся с тем, что скопилось от чужих выдумок. Он был прав, тысячу раз прав.
Был порок в самом направлении творчества. Даже в картинах и то черт-те что делают, а уж в жизни-то!..
- Ну, а как насчет этого?.. — уныло спросил я.
- Насчет чего?
- Апокалипсис-то хоть отменили?
- Отменили. Его каждую тысячу лет отменяли, если кто-то придумывал, как быть, чтобы не допрыгаться.
- Но если моя идея не подхвачена массами…
- Значит, не та идея, — сказал он. Мы разговаривали в тени колонн.
А за вратами снижалось солнце и освещало эскалатор, и из долины поднимался звонкий запах цветов и благоуханная музыка. Будущее существовало.
- А ты внимательно смотрел? — спросил я его. — В списке приглашенных?.. Может быть, я там где-нибудь на полях?..
- Да вот же, — сказал он, — Буцефаловка и ее окрестности. Я подумал и говорю:
- Может, там из знакомых кто?
- Не без этого, — говорит. — Вот Сапожников, например.
- Ну, это понятно, — говорю.
- Нюра Дунаева, Зотов П. А., Анкаголик-Тпфрундукевич.
- Это его псевдоним, — с завистью сказал я. — Его зовут Дима.
- А фамилия?
- Фамилии никто не знает, — говорю.
- Поэтому и мы не знаем. И еще какая-то Минога…
- Дуська, что ли? Скажите… — осторожно спросил я, — А Громобоева там нет? Виктора?.. Он посмотрел на меня в панике:
- Ты что? Совсем рехнулся?..
- А что? — говорю.
Он наклонился и, понизив голос, сказал:
- Он эти приглашения и пишет…
Делать было нечего — надо лететь обратно, додумывать. Моя идея ввиду ее дурацкого облика могла затеряться, а может, еще не стала актуальной силой. Но шанс был.
- Дайте хоть заглянуть к вам…
- Это пожалуйста.
Он кивнул в сторону. Там была смотровая площадка. Я заглянул в телекамеру и стал елозить трансфокатором по ихнему настоящему. Крупный план, дальний план — судя по всему, было довольно здорово, но почти не так, как предсказывали. Многое мешала видеть зелень деревьев. Всё.
Я сглотнул слюну, оставил площадку и, вздохнув, сказал ему:
- Ладно… Ты прав… Пора возвращаться. И тут он, наконец, заинтересовался.
- Есть идея?
- Даже две, — говорю. — Одна временная, дурацкая, другая, похоже, постоянная. Тогда он вдруг оглянулся и, наклонившись ко мне, спросил шепотом:
- Скажи, а?.. Скажешь?
Я возмутился. И у них махинации. Я мучился, а ему подари!.. Ишь ты… Нет уж… Своим горбом…
- Дурак ты, — сказал он и отвернулся.
И опять он был прав. Он не мог мне ничего подсказать. В моей жизни его еще не было. А я в его жизни уже был. Значит, не он «мой опыт», а я его.
И я в своей жизни поступал по-всякому, так и эдак. И из поступков таких же, как я, гавриков сложилось его «настоящее» время, в котором он живет и как-то ведет себя. Но кто-то, видно, додумался. Потому что оно существовало — его время. И я его видел со смотровой площадки — чудо, что за долина, и такой покой.
И если я вернусь в свое «настоящее», и моя дурацкая идея будет иметь успех, и действительно Апокалипсис отменят из-за хохота — я буду в их списке приглашенных. А если уж моя фундаментальная идея верна (насчет творчества и его причины — восхищения), то она верна и для его времени. А уж у них — свои проблемы. Иначе не бывает. Он был прав. Я же сам так поступал. У будущего не спросишь, от него — только Образ, у каждого свой, желанный максимум или максимальный кошмар. Но ведь я сам весь, со своими потрохами, моим самомнением и надеждами, был результатом бесчисленных попыток прошлого.
- Знаешь, чего не может знать даже бог? — говорю.
- Чего? — Он быстро обернулся.
- Не может знать, чего он сам захочет в будущем. Он открыл рот… А я закрыл свой.
Надо было все пересматривать и проверять. Дело было нешуточное.
Я дружелюбно похлопал его по плечу и вернулся в свое время — отменять Апокалипсис дурацким способом.
Я надеялся, что для дурацкого дела только такой и годился.
3
… ная телеграмма! — Расслышал я голос женщины, чем-то испуганной. — Протопопов!.. Товарищ Протопопов, срочная телеграмма!
У меня душа начала скучно леденеть. Женщина боялась крупного ушастого щенка, который мотался по участку и лез ко всем с тяжелыми ласками. Но я тогда не обратил внимания на эту простую причину испуга почтальонши, которая выкликала меня из-за калитки дачи, где я жил. У меня на это тоже были причины.
Протопопов — это я, Акакий Протопопов. Имя и фамилию я себе выбрал в этом романе достаточно нелепые, чтобы не подумали, что я как-нибудь героически выпячиваюсь или «якаю». Поэтому несколько игривый тон даже тогда, когда я описываю случаи, когда мне худо, проистекает из того соображения, что для истинного художника любой финал — это не прекращение искусства, а всего лишь начало другого этапа. Пластинка кончилась, иголка хрипит, значит, пришло время другой музыки. Не надо только заранее бояться, что пластинка сломается. Все равно все помрем, чего уж там.
Я помню одного дурачка (это был я), который долго рыдал на трофейном фильме про жизнь Рембрандта и красиво возжелал себе такую судьбу, и это потом влияло на его судьбу. Рембрандта из него, естественно, не вышло, но лиха он хватил предостаточно.
Начнем с того, что на своей свадьбе, когда тесть предложил выпить за спокойную жизнь, этот дурачок в ответ предложил выпить за беспокойную жизнь. И он ее получил почти немедленно. Дело происходило после воины, и тесть, как человек реальной жизни, хотел покоя. А дурачок, который недавно посмотрел другой трофейный фильм, по Марку Твену, а именно — «Принц и нищий», опять рыдал довольно долго в темноте сеанса. Он тогда много рыдал в одиночку, но на людях — ни-ни, ему объяснили, что это не по-мужски. А все, что не по-мужски, было плохо, мужчина даже гадость делает, выпрямившись и сверкая глазами, и надо было распрямлять грудь, подтягивать живот и презрительно щуриться во всех мужских компаниях, где каждый мужчинка боялся жизни и смерти, но надеялся, что другой не боится.
А этот дурачок действительно не боялся жизни, потому что он действительно не боялся смерти. И это, видимо, окружающими как-то ощущалось и учитывалось, хотя об экстрасенсах тогда и слуху не было.
Не потому, что он был какой-нибудь необыкновенный смельчак и ничего не боялся, вовсе нет, он очень часто боялся того, что для остальных людей было — хы-тьфу, но к своей личной смерти он был действительно аб-со-лют-но равнодушен. И это передавалось. Но если вы думаете, что на фильме, взятом в качестве трофея в Главкинопрокате, он рыдал над судьбами Принца или Нищего, то вы опять заблуждаетесь. Он рыдал над судьбой нечаянного рыцаря Майлса Гендона, человека со шпагой, который всегда вовремя спрыгивал со стенки, сложенной из больших камней, и решал проблемы, перед которыми вставали в тупик мальчишки — и принцы и нищие.
Этому дурачку и самому хотелось быть таким, и чтоб в его жизни хоть разок появился Майлс Гендон, и спрыгнул со стенки с длинной шпагой, и решил все проблемы. Но нечаянный рыцарь Майлс Гендон так и не пришел.
Что же касается свадьбы, на которой были подняты тосты с пожеланиями противоположных целей, то по прошествии недолгого срока все дело благополучно развалилось именно из-за этих противоположных целей, к тому времени ставших причинами.
Каждый молодой человек, находясь в начале своей семейной карьеры, смотрит на разведенного с некоторым ужасом и пренебрежением, но после собственного второго развода это проходит. Особенно, когда он замечает, что в двадцатом веке, который вот уже заканчивается, и можно делать кое-какие выводы, так вот я говорю — особенно, когда он замечает, что брачная, а вернее, бракованная мораль идет по двойной бухгалтерии: человек, несколько раз женившийся и, стало быть, желающий сохранять верность, хотя бы физическую, одной жене, есть отсталый человек и склочник, а человек, имеющий одну жену, но совершающий любовные упражнения на работе, в отпуску и в каждой командировке, есть носитель высокой морали — этот немолодой уже человек приходит в себя и трезвеет.
Но самое интересное, что этой двойной бухгалтерии придерживаются и женщины, причем самые громкие из них, до которых, видимо, не доходит, что — сколько жен — столько и мужей, и сколько курортных жеребцов, столько и курортных кобылиц, и что по-другому просто не бывает, арифметика не велит — от перемены мест слагаемых сумма не меняется. И что, значит, дело здесь в чем-то ином, чем простое сходство между ханжеством и цинизмом, и тем более в чем-то другом, чем разница между романтической болтовней и реальными обстоятельствами.
Что же касается того краткосрочного дурачка-мужа, то он решил: дай, думаю, повешусь, но не совсем.
Говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад, но дело в том, что и дорога в рай вымощена тем же. И только дорога в чистилище — честная дорога. Пели птички. Я и сейчас не знаю, как их зовут. Важно, что они пели систематически. Приблизительно так — чи-вик, чи-вик. Или как-нибудь еще.
Каждый из нас думает: все же, какой я особенный! А? И обижается, если не верят. А прислушаешься — чивик, чивик — и все достижения.
Я шел от калитки к даче, читал телеграмму: «срочно позвоните в издательство» — и медленно погружался в холодную воду — неужели что-нибудь не так? Ну что ж… Сейчас в каждом романе летают в будущее на аппаратах разной конструкции, но все летают ненаучно, и только я один — научно. То есть я вообще обхожусь без аппаратуры. Спросите — как? Я из этого не делаю секрета. Я это будущее воображаю. Но об этом долгий разговор.
Вы заметили, сколько раз я употребил слово «я», именно не букву, а слово? И это на нескольких страницах. То ли еще будет.
Дело не изменится, если будет написано «он» и повествование пойдет в третьем лице. А оно пойдет, уверяю вас.
Ну «он», ну какая разница? «Я» — все-таки искренней. Вот к примеру:
«Он вспоминал то количество чуши, которое надо исполнить, чтоб понравиться всем, и соображал потихоньку, что если для того, чтобы понравиться всем, надо выполнять чушь, которая все равно не подтверждается, то у него есть один-единственный вариант — стать червонцем. Потому что, и это уж точно, его тогда искренно полюбят все. Но вот беда. Тогда меня захотят присвоить». А он этого не люблю.
Видно, без слова «я» не обойтись. И с этим я примирился.
Пять миллиардов кричат свое «я» на разных языках: я, я, я, я! — и стараются выжить. Американцы кричат «ай», китайцы кричат «во». А сколько других языков! По-русски «ай» звучит испуганно, а «во» — самоуверенно, а у каждого одно и то же, кричи не кричи. Каждый, кто это прочел, скажет: «Делать ему нечего. Господи, чем он занимается?» Да тем же, что и все, обсуждаю свои делишки.
4
Дорогой дядя!
Может быть, это роман идеалиста? Или сентименталиста? Или романтика? Или еще какого-нибудь брехуна, уклоняющегося от размышлений? Да вовсе нет. Вы увидите. Я вам обещаю. Немножко терпения. Просто это роман о другом. Ну, поехали.
Иду это я по тропинке к даче с болтающейся телеграммой в руке, и на душе у меня пусто-пусто, и телеграмма похожа на вываленный из пасти, сухой язык, даже слюна не капает. И думаю: ну что ж. Так, значит, так. Денег у меня осталось немного, но еще есть. Можно будет оглядеться. Что я скажу семейству — не знаю. Что я скажу Бобовой, я тоже не знаю. Кто она, Бобова? Товарищ.
Она работает в редакции журнала. Здоровье у нее оставляет желать лучшего. Окончила Литинститут. Моталась по стройкам. Видно, тоже поднимала тост за беспокойство. Несколько лет пишет роман, сыплет фамилиями, обстоятельствами, мне неизвестными, восхищается людьми, мне незнакомыми. Роман все лучшеет и лучшеет, а здоровье все плохеет и плохеет. А? Как сказано! К сожалению, мне так не сказать. Так говорит знакомая продавщица хлебобулочных изделий. Она же говорит: «На каждый вопрос будет даден полный и развернутый ответ». И я всегда к этому стремился — полный и развернутый.
У меня есть знакомый эксперт Евстафий Ромуайльдович, умнейший человек, но и он считает, что культура — это память. Будешь помнить о прошлом, будешь культурный, не будешь — так дикарем и останешься, без роду, без племени. Иваном — не помнящим родства. Жуткая картина.
Какой простой способ жить культурно. Жаль, что непригодный.
Потому что культура, которую он призывает помнить и изучать, потому и культура, что кто-то ее в свое время создавал.
Иначе и помнить было бы нечего. А уж изучать-то…
Остается предположить, что и сейчас происходит то же самое. И что если это проглядеть - сложение совершенно особенной культуры, то можно доиграться. И тогда ни помнить, ни изучать будет не только нечего, но и некому.
Никак не хотят понять, что культура создается сейчас, каждую секунду, и создается не специалистами по изучению культуры, а именно повседневными людьми, которые поступают в соответствии с теми или иными прогнозами на будущее, но поступают сейчас, сию секунду.
Родятся дети, которые — изучай они не изучай, помни не помни, — а будут вынуждены как-то поступать в той реальной обстановке, которая не похожа ни на какую ушедшую.
И это то, что есть на самом деле. Все остальное — ностальгия по добрым старым временам, которые, однако, кончились именно потому, что не для всех были добрыми.
Но это одна сторона дела.
Другая же, куда более важная, выглядит так. Внимание.
Дети родятся в условиях, которые сложились до их рождения.
Извините за выделение. Но эта истина настолько проста, что не осознается никем.
Ну, все. Поговорили.
Теперь эпизоды.
Да, кстати… Почему так скучно читать чужие мысли?
Я уж не говорю о чуши и взбесившихся тавтологиях, но даже новинки? Надо их запоминать.
Ах, за жизнь столько мыслей не подтвердилось, где гарантия, что и с любой не так? А время идет.
Вы спросите — а как же вышеподчеркнутая мысль, насчет детей, что родятся в условиях, которые сложились до их рождения?
Дело в том, что это не мысль, а наблюдение. А это иной подход к делу.
Просто насчет этого наблюдения все думают — обойдется. Достаточно преподать детям правила поведения, а уж там, уж им, уж конечно, будет хорошо. Почему им будет хорошо, если их родителям при тех же правилах не было хорошо — неизвестно, но уж как-нибудь уж. В общем — обойдется. Нельзя же без правил, в самом деле?
А почему?
Мне один Корбюзье, молоденький такой артист, который играл роль молоденького такого артиста, сказал:
- Вы наворотили в своей жизни, а нам, детям, — расхлебывать.
- Верно, — говорю. — Но и вам не миновать. Вы наворотите, а ваши дети будут расхлебывать. К кому же претензии?
Мать честная! Отцы знают, как поступать детям, а дети знают, как бы они поступили на месте отцов. Только никто не знает, как поступать на своем месте! Это уж не мать честная, а прямо-таки елки-палки.
Вы спросите, а где же роман под названием «Записки странствующего энтузиаста»? Роман уже идет. Не сомневайтесь.
Я уверен, сир, вы не знаете ни Евстафия Ромуайльдовича, который считает, что культура — это память, ни моего дорогого дядю.
Значит, налицо расчет романиста на то, что читатель, у которого нечего читать, подумает: «А вдруг про этих людей мне расскажут такую историю, что ахнешь?» Зачем романисту рассказывать историю, от которой ахнешь — ясно: не ахнешь — не ахнут, не ахнут — не купят. А жить-то ему надо? И автор изучает спрос. Но вот зачем читателю ахать — не ясно и ему самому. Что он в жизни не наахался? Но он думает: все ахают, и я хочу. Говорят — надо. Я как все. Никто к себе даже и не прислушивается.
И только уж очень наахавшиеся честно затыкают уши или отдают книжку соседу: «Хочешь поахай, а я пасс, вот у меня где все это дело!..» Он имеет в виду жизнь. Я хочу, чтобы не было недомолвок.
Я предупреждаю — будет рассказана история, которую никто не ожидает. Почему я так в этом уверен? Потому что. И больше вы от меня ничего не добьетесь.
5
Дорогой дядя!
Те двадцать пять шагов, которые я прошел по дороге к даче, я, видимо, все же прощался с жизнью. Ну что тут особенного? Рано или поздно этим придется заняться каждому. Визжи — не визжи.
Я и раньше, бывало, прощался с жизнью, однако потом оказывалось, что я просто старел. А стареют люди всю жизнь. Как родятся, так и начинают стареть. Это я недавно прочел. Какие-то там гормоны. В общем, все предусмотрено. Ну и что? Не жить после этого? Бывало, ляжешь помирать, мысли все успокаиваются, а в голове только: ну, ладно. А потом начинает что-то воображаться этакое, приятное — или как я по воздуху летаю, или листочек плавает в луже, — и почему-то остаешься жить. Ну, остальное обычно — начинаешь за кого-то заступаться и ввязываешься. Как у других, не спрашивал, у меня так.
В общем, я да-авным-давно заметил, что искусство только к сознанию не сводится, и хочешь не хочешь, а придется признать искусство одним из видов бытия. И когда с этим бытием что-нибудь проделывают, то и получаются именно для остального бытия совершенно неожиданные печали.
Это было странное время в искусстве, когда все друг друга уговаривали не обогащаться, и каждый думал — как бы эти увещевания подороже продать.
И это взаимное облапошивание называлось моралью. То есть оказалось, что из воплей о морали и призывов стать человеком тихо образуется профессия. Но так как моральная конкуренция все возрастала, и торговлишка становилась все затруднительней, то для создания художественно-моральных шедевров нужен был все более ускользающий противник. Ибо, какая же мораль без противника? А возвышаться над кем?
В результате тот, кто верил всей этой чуши, однажды оказывался перед очередным чемпионом естественно-научно-художественной морали. Но потом этого чемпиона съедал другой чемпион.
И у всех чемпионов были дети, которых надо было пристраивать в чемпионы, потому что мораль моралью, а, знаете ли…
В общем, моральным оказывался только тихушник с громким голосом.
И этот моральный громила был озабочен только одним — скрывать первоисточники своей морали.
Потому что в их среде главный страх был оказаться голеньким. Чем отличается поэт от непоэта?
Тем, что поэт восхищается чужим успехом в своей области. Многие ли могут?
Я видел, как они хвалят друг друга — скрепя сердце и скрипя зубами. И ждут случая. Одна девочка даже написала — «скрипя сердцем». Это было настолько точно, что я услышал сердечный скрип.
Любой зритель любой эстрадной программы, любой читатель любого чтива — проявляют основное свойство поэта. Хоть на секунду. Восхищаются. А скрипо-сердечники — нет, не проявляют это качество, не восхищаются.
Боже, как я люблю масс-культуру! Почти так же, как ее любят академики, народные артисты и, даже, страшно сказать, — эксперты. Только одни эксперты любят прошлую масс-культуру, а другие — дальнюю.
Эксперты делятся на левых и правых. Эту разницу различают только они. Но все дружно сплачивают ряды, если, не дай бог, не дай бог… Они все за ту «первичность», которой можно воспользоваться, а которой нельзя воспользоваться, та — «вторичность» и не новаторство. Поэтому у них своя шкала новаторства. Во-первых, новатор должен быть изящным, а во-вторых, он должен переставлять слоги. Говори не «шез-лонг», а «лонгшез», и будешь новатор.
Меня с годами все более занимает само существование масс-культуры. И я не верю теперь, что ее разливы и завалы коренятся в несовершенстве потребителя, и даже в несовершенстве изготовителя, и даже не в капиталовложениях в масс-культуру — наживаться можно и на подтяжках, и на Ван Гоге. А дело в том, что какую-то потребность не удовлетворяет вся остальная культура, которая, хотя и не масс, но тоже далеко не того. Какая же это потребность?
Дело в том, что вся остальная культура ничего не предлагает. Ага. Кроме как следовать какому-нибудь единственному образцу.
А масс-культура — ширпотреб — разрешает не следовать образцам вообще. Вы, конечно, скажете, сир, что она потрафляет инстинктам толпы?
А кто будет им потрафлять? Ханжи, которые делают то же самое, в чем обвиняют толпу, но тихо? И все это знают. Одна бабка говорила:
— Если забот чересчур много, надо послать подальше их все. Пусть заботы сами о себе позаботятся.
Масс-культурная толпа это и делает. Но искренне. В отличие от академика, для которого пользование чтивом — снисходительный отдых от забот, и в отличие от народного артиста, жаждущего получить портрет своих регалий, когда он уже достиг всего и нечего стесняться, чего уж там! Хороший вкус я доказывал всю жизнь, сколько же можно! И все видно.
А эксперт? Что ему вообще делать без масс-культуры? Как ему вообще устанавливать правила, если не будет их нарушений?
Глубокоуважаемый шкаф, неужели вы не видите, что масс-культура — это великолепно нащупанные потребности и убогие способы их удовлетворить? Значит, надо их удовлетворять лучше. Другого выхода просто нет.
6
Дорогой дядя!
Опять я сильно разболтался и отклонился от описания приключений. Но, видимо, и дальше будет так. Надо же кому-то эти приключения осмысливать. Пусть уж лучше это буду я.
И ты и я согласны, что «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется». На всякий случай, я хочу растолковать, как нужно, чтобы это слово отзывалось.
И тогда, если, несмотря ни на что, это слово в ком-нибудь отзовется не так, как мне надо, то он, по крайней мере, будет знать, как мне надо, чтоб оно отзывалось.
Наступили времена, которых я ждал всю мою жизнь.
Наступили времена не альтернативные, не либо-либо, а творческие. То есть времена-новинка.
В эпоху компьютеризации роль искусства не уменьшается, а возрастает. И это не чье-то пожелание, а объективная необходимость. Необходимость — это то, чего не обойдешь, когда подперло.
Потому что главный резерв любого производства — не машинный ресурс и даже не экономия сырья, а всенародная смекалка. Смекалка и есть «человеческий фактор». Я помню, была дискуссия — «Правда и правдоподобие». Значит, вопрос: чем правда отличается от правдоподобия? — все еще кого-то волнует.
С некоторым недоумением мне хочется спросить: неужели никто не замечает того реальнейшего и простейшего факта, что любое искусство (любое!), а значит, и художественная литература — это сочинение. Не простое перенесение на полотно или страницы рукописи жизненных фактов, а выдумка, сочинение. Неужели до сих пор это кому-то незаметно?
Музыку сочиняют, стихи сочиняют, архитектуру, кино, картины — если хотят, чтобы вышло художество.
Но если уж зашел об этом разговор, то стоит высказать несколько простых соображений, которые мне кажутся самоочевидными.
Если правда, что художество — это сочинение, то возникает вопрос: а какова цель? Почему вместо того, чтобы как можно лучше изложить факты, люди занимаются сочинением? Не говоря уж о более сложных, фундаментальных причинах, даже лежащая на поверхности склонность человека к обобщениям не позволяет ему обойтись простым сообщением факта без комментариев. Комментарии необходимы. Факт без комментариев практически не означает ничего, потому что может означать что угодно. Дорогой дядя, вот простой пример. Несколько мужчин ударили нескольких мужчин по лицу. Это факт. Плохо? Плохо. Есть общее правило — драться нельзя. Но судить их будут по-разному, если поймают, конечно, в зависимости от их доказанных мотивов. Один ударил по причине ревности; другой — из хулиганских побуждений; третий ударил не того, ошибся; четвертый — вообще случайно зацепил, отбиваясь от кого-то, а пятый — в состоянии аффекта. И каждый раз комментарий будет другой, и будут судить именно по этим комментариям. Разные обобщения — разные приговоры. А пять человек получили пять одинаковых оплеух.
Но самое интересное, что реакция пяти битых будет разная. Как это может быть? Почему? А потому, что они люди, а не роботы. Только у роботов можно достичь одинаковой реакции. Неважно, какой, важно, что одинаковой. Все зависит от программы. Могут все пять стерпеть, могут, наоборот — по типу «каждое действие вызывает равное и противоположно направленное противодействие». А реакция этих пяти несчастных непредсказуема. Могут и засмеяться, могут заплакать, могут и врезать в ответ, могут пожаловаться, могут даже пожалеть и утешить обидчика. Всяко бывает. Все зависит от того, какой у каждого характер, какое было воспитание, и в каком состоянии он был в тот момент, когда ему влепили. Но читателю, которому сообщается об этом, каждый раз надо знать, что там было на самом деле и что за этим стоит, и он для себя решает — касается это его или не касается, не его это дело. И значит, комментарии, комментарии и снова комментарии.
Но в какой-то момент по самым разным причинам и комментарии и обобщения перестают удовлетворять. То есть перестает удовлетворять даже авторское осмысление факта.
И тут, дорогой дядя, мы вступаем в область фундаментальных причин художественного сочинения. В область психологии.
Психо-логия — это область души. «Психе» — это душа.
О том, что такое душа, существуют бесчисленные мнения. Одни говорят — есть она, другие — что ее нет. Одни говорят — «в здоровом теле здоровый дух», другие понимают, что это, извините, брехня. Потому что встречали кретина с железными мышцами и людей могучего духа слабых физически. А практическая медицина даже знает, что есть нервные болезни, а есть психические, душевные, и дает разные лекарства. В чем эта разница, никто не знает, но врачи дают разные лекарства. Мнения бесчисленны. Но все сходятся в одном — душа — это то, отсутствие чего в человеке сразу видно. Этот человек называется бездушным.
Конечно, и это метафора. «Психе» у него тоже есть, поскольку он живой. Но люди, у каждого из которых тоже есть эта самая «психе», какой-то уровень поведения называют бездушием. Люди могут ошибаться насчет повадок какого-то человека, но только ошибаться. Потому что в их душе, в «психе» каждого человека есть мерило того, что хорошо и что плохо. У одного — эталон, у другого — идеал.
Эталон проще. Это всегда более иди менее сложный список правил. Но в правилах по отношению к этой самой «психе» есть всегда нечто машинное. Потому что неизвестна «логия» этой самой «психе». Идеал же — вещь гораздо более сложная или гораздо более простая, как хотите. Но именно этим и занимается искусство, то есть сочинение. Человек может даже не знать, что у него есть идеал, и не думать об этом. Он это обнаруживает иногда случайно, если в том, что он прочел, или увидел, или услышал, его что-то неожиданно тронуло. Тронуло неожиданно для него самого — это и есть идеал. Тронуло неожиданно — и внезапно выбило, к примеру, слезу. Для этого, для выбивания слезы, тоже есть проверенные правила и рецепты. Но это всё дела нервные, или, как выражаются, эмоциональные. Однако тронуло «идеалом» — это нечто другое. Тронуло «идеалом» — это значит — восхитило чем-то, иногда до слез — «над вымыслом слезами обольюсь». Восхитило — это значит — похитило и вознесло куда-то ввысь, выше той нормы, в которой он живет. И человек радуется открывшейся неожиданно для него самого и в нем самом способности восхищаться. Это и есть «затронуть душу». Поскольку главной целью искусства и ее главной ролью в обществе является именно затронуть эту самую «психе», а достичь этого можно, лишь добившись нужного впечатления, а этого можно добиться только выразительностью того, что пишешь, — то главной задачей художника, именно как художника, становятся поиски выразительности, выразительных средств, которые бесконечно меняются и правил не имеют. Поэтому, говоря об искусстве как о деятельности, можно, пожалуй, сказать так: искусство, как практическая деятельность — это притрагивание к тому, к чему никаким другим способом не притронешься. А этого можно добиться только сочинением. Ничего другого человечество не придумало.
Средства выразительности принято в искусстве называть «формой». Причем принимается это в самом примитивном смысле: дескать, «форма» — это нечто вроде бутылки, куда налито «содержание». Похоже, что такие эксперты путают «содержание» и содержимое. А для некоторых, еще того чище: форма — это трюкачество. Но почему-то никому не приходит в голову, что форма — это то, что формирует.
Можно спросить: что же формирует форма?
Может быть, она формирует содержание? Да ни в коем разе!
Примат содержания. Содержание — прежде всего. Но форма его выявляет. Не украшает, заметьте, а выявляет. Ничем другим в искусстве содержание выявить нельзя. Об этом надо сказать четко. Но что же она все-таки формирует, эта система выразительных средств, складывающихся в сочинение?
Она формирует нашу психику.
Сознание вторично. А нервы и психика — это природные явления, то есть бытие. Поэтому сознание лишь осмысляет свое взаимодействие с бытием, чтобы стать руководством к действию. Но это случается не всегда. Поэтому возможны «ляпсусы» сознания. И это естественно. Сознание вторично и иногда то отстает от бытия, то забегает вперед с торопливыми прогнозами.
Но, в конечном счете, если в произведении есть эта таинственная форма, которая пронизывает все сочинение и формирует нашу душу, то она и берет верх: она формирует нашу душу, отвращает ее от зла и нацеливает на идеал. Потому что «гений и злодейство — две вещи несовместные». Это и есть вот уже полтораста лет главный духовный ориентир русской художественной литературы. А все остальное — звон.
Дорогой дядя, та давняя дискуссия была названа «Правда и правдоподобие». Если я верно понял, эти два понятия как бы противопоставляются, будто бы речь идет о науке, где действительно правдоподобие — это в лучшем случае ошибочная гипотеза, а в худшем — вранье. В искусстве же, главным средством которого является сочинение, эти два понятия противопоставлены быть не могут.
Сочинение освобождает психику от накипи и окалины повседневных решений и открывает просторы для творческих действий в любой области — от быта до технологии. Высока роль у сочинения, потому что высока его цель — притрагиваться к душе и ее глубинам. Другого способа нет.
Но если это разные дела — психика и нервишки, а человек все же един, то, значит, и психика и нервишки как-то между собой связаны.
И значит, есть в природе какое-то природное явление, которое все это как-то связывает.
7
Дорогой дядя!
Ну, пришел я на эту дачу, пришел. Все это пока мало интересно. А у меня, между прочим, кое-что еще не высказано толковое.
Что же их связывает — психику и нервишки? Язык.
Вопли есть и у животного, рефлексы тоже, творчество — тоже, все живое творит, такая у него особенность, у шустрого, — творить, накапливать энергию и усложняться в структуре, а вся неживая термодинамика — это лишь распад, и упрощение, и, так сказать, похолодание без посторонней помощи.
Но только человек произвел язык, который сложился из бесчисленных индивидуальных выражений, то есть бесчисленных произведений. А это и есть занятие искусством, то есть за ним — бездна.
Вот я, например, заметил, что в конечном счете самое смешное — это правда, высказанная не вовремя.
Я, например, не удивлюсь, ваше степенство, если за произведением искусства лежит смех. Первичное нежелание следовать рефлексу. Первичное открытие несоответствия, несходства своего опыта с чужим. Первичное нежелание быть дураком. А уж только потом производят, то есть «выражают», свое личное желание, которое ложится в общую копилку реального опыта.
Я что-то не знаю ни одной религии, которая бы приветствовала смех.
Всякая религия претендует на абсолют, на гипноз и наркоз, но рано или поздно народ начинает смеяться и говорит — не так страшен черт, как его малюют.
В войну говорили не «фашист», не «национал-социалист» и даже не «наци», а — «фриц», и за этим словцом была не злоба, а прозвище, конец престижа. Фашизм — это нечто страховидное, дьявольское, самодействующая машина. Но машину приводят в запуск люди, только очумелые, «фрицы» в общем. И если ему дать в лоб, то он падает, хотя и вопит непонятное. А там, глядишь, и опомнится, и станет немцем, человеком со своими свойствами — рабочим, бухгалтером, пахарем, электронщиком.
В общем, смех — это смех. Внезапное избавление от престижа. Народ липы не любит, а он и есть создатель языка, который потом изучают.
И язык все равно создается каждую секунду. Неужели никому это не заметно? Ваше степенство, очнитесь, придите в себя, ваше степенство. Да, кстати, о птичках.
Вы заметили, как я оттягиваю момент рассказа о приходе на дачу? Да. Ничего не скажешь. Вы правы. Ладно, чего уж там.
Видно, пришел момент прийти, наконец, на эту дачу и посмотреть на собственную гибель.
8
Дорогой дядя, говорят — краткость сестра таланта. А куда девать остальных родственников?
И потом, ведь неизвестно — какая сестра? Может, двоюродная? А может, сестра только по матери? А куда девать возлюбленных?
Я думаю, дорогой дядя, что как только талант определяют, то есть ставят ему предел, то он сразу ищет способ вывернуться. И шанс.
Таланту нужны не определения, а шанс. Ф-фух, отпустило. Теперь можно описывать. Ну, пришел я на дачу и застал там такую картину. Жена смотрела в пол, а Бобова в потолок. Я бы даже сказал так — жена смотрела в землю, а Бобова в небеса.
Последнюю фразу я написал, чтобы никто не выискивал подтекста.
Я не знаю, что такое подтекст, ясно одно, что подтекст — это то, что выискивают. Есть текст, контекст и подтекст. Может быть, есть еще какие-нибудь, но я их не знаю. Текст — это то, что написано, контекст — это в какой связи написанное находится со всем остальным. А подтекст — черт его знает, что это такое. Говорит, например, один другому: «Ты любишь манную кашу?» А другой отвечает: «Люблю». Текст ясен — оба любят манную кашу. Контекст же — в каком месте этот диалог расположен. Если, скажем, в описании столовки — значит, просто кашу любят. Если в описании ресторана — может означать, что в меню каши нет, а есть одни пулярки под белым вином.
Что такое пулярки, я знаю не точно, кажется, курицы, а с белым вином и того хуже. У нас, на Буцефаловке, так называли водку.
С текстом и контекстом ясно. А подтекст?
Спросят: ты любишь манную кашу? Я отвечу — люблю. А эксперт ищет подтекст: не намек ли? Что, у нас другой еды нет? Эксперт — он как дите капитана Гранта, он точно знает — кто ищет, тот всегда найдет. Я с этим сталкивался и поэтому всегда разъясняю все, что можно принять за подтекст. Ну его! Поэтому фраза насчет того, что жена смотрела в землю, а Бобова в небо, означает вот что. Разъясняю. Жена, человек земной жизни, думала: чем я их кормить буду? А Бобова — поэт, человек мечтаний и образов, смотрела в небо, потому что, кроме как от солнечных протуберанцев, мне помощи было неоткуда ждать. А у меня в глазах стояли скучные пыльные круги.
- Ну, все, — говорю. — На этот раз, кажется, остальному человечеству придется выпутываться без меня.
А был конец рабочего дня, и погода была тускло-летняя. Как будто погода решала, куда ей сорваться — в мокрые вихри или горячечную сушь.
- Я хочу позвонить все же, прямо сейчас, — говорю. — Чего тянуть?
Я стал переодеваться для выхода к телефону-автомату и никак не мог застегнуть рубаху. На штанах была «молния», с ними было проще.
- Пойдешь со мной? — спросил я жену.
- Нет, — сказала она.
- Все-таки я пойду, — сказала Бобова. — Ну его к черту. Видишь, какой он? Пошли. Я впереди, она сзади. Дорогу до калитки — не запомнил.
На улице я пропустил Бобову вперед и вижу: у нее на ноге бинт.
- Что это у вас?
- С сосудами. Затягиваю иногда… Послушайте, я вот думаю, что это не то, что вы думаете. Паника зря эта…
- Такая полоса.
- Нет, я о другом… Когда с рукописью у кого-нибудь что не так, обычно с телеграммами не торопятся, да еще срочно… Мне почему-то кажется, что это что-то другое…
И это были первые трезвые слова. Конечно, знать она не могла, но что-то во мне затормозило.
Мы доходим до середины пути к автомату и останавливаемся, потому что я роюсь по немногочисленным карманам летних моих одежд — оранжевая рубаха неизвестной моды и эпохи и любимые штаны, которые в допрестижную эпоху считались джинсами, хотя лежали стопкой на прилавке рядом с резиновыми сапогами, и их хорошо брали, несмотря на то, что они стоили двадцать рэ. Теперь бы этот номер не прошел. Теперь штаны возьмут, если цена их не меньше двухсот и этикетка на заднице хоть мебельного завода, но латинскими литерами.
И нас обходят люди с собаками и без собак, которые тоже стремятся куда-нибудь позвонить.
И я стою на тропинке, и ищу бумажку с несколькими нужными телефонами, и пререкаюсь с Бобовой.
Остальные же почти все от меня разбежались под разными соусами. Соусы разные, а причина одна — никак они меня не определят. Зачем нужно меня определять, я не знаю. Я же их не определяю!
И вот стою на тропинке и жду, что со мной еще сделают. Мы дошли до автомата, еще не превращенного в таксофон, и потому очередь, которая там скопилась, могла провинциально разговаривать хоть до ночи. Но, видно, рожа у меня была такая, что мне согласились уступить даже старушки, особенно опасные в этом случае. Однако все обошлось довольно быстро, и молодой человек в будке всего за двадцать пять минут выяснил, что диско-вечер организован как надо, и передай ей привет, и ей тоже, и ей тоже, и ей тоже, ну, вхожу в будку.
Пристраиваю бумажку повыше, опускаю монету — занято, набираю другой номер, в котором тоже гудки «занято». И тут я набираю третий, последний, номер, и незнакомый женский голос говорит:
- Алё!
Я ныряю в прорубь и говорю все как есть. Называю фамилию, и что срочная телеграмма позвонить, и вот звоню, а всюду занято.
- Да, да, — говорит женский голос. — Я сейчас ее позову из соседнего кабинета. Знаю. Знаю.
И голос у нее радостный. Нет, вы представляете? Я жду несколько секунд, и тогда второй женский голос, который мне знаком, говорит:
- Акакий Елпидифорович, от издательства едет в Тольятти писательская делегация, но в ней только поэты, нужен один прозаик, и я подумала, что хорошо бы поехали вы. Ответ нужно дать срочно, потому что ехать послезавтра. Как ваше здоровье?
- Сердцем маюсь…
- Я прошу вас не отказываться. Вас там встретят. Гостиница обеспечена. Что мне передать главному редактору?
На размышление была секунда, но никаких размышлений не было.
- Значит, я могу передать главному, что вы согласны?
- Да.
И опять радостный голос по внутреннему телефону:
- Он согласен. А потом мне:
- Главный редактор очень обрадовался, когда узнал, что вы согласны.
Я начинаю не понимать, на каком я свете. Воскрешают меня почти незнакомые мне люди и даже радуются этому. Что происходит?
- А как все это организовать? — спрашиваю. — Я тысячу лет никуда не ездил.
- Подождите у телефона. Я позову Ольгу Андреевну, но она на другом этаже.
- Я из загорода. По автомату, — бормочу я. — Здесь очередь.
- Позвоните мне минут через пятнадцать. Но позвоните обязательно. Будем ждать. Выхожу из будки.
Бобова:
- Ну что!.. Я же вам говорила…
Говорила, говорила… Ах ты, Тянь-Шань! Она щурит узкие свои глаза и смеется надо мной. Она работала на стройках где-то в горной Киргизии и рассказывает о людях невероятно прекрасных, и это, по-моему, наложило на нее отпечаток. Она называет меня «москвич несчастный» и, как многие, очень многие, считает, что я не знаю жизни. А я ей говорю, что для меня все, что от Москвы дальше Наро-Фоминска, — уже Тянь-Шань. И она переживает. Нет, они ошибаются. Жизнь я знаю. Только меня когда-то оседлала мысль, что если иногда может быть хорошо, то почему это не может быть всегда, и я стараюсь разыскать причину и предложить что-нибудь такое, от чего бы все и навсегда уладилось. Сам знаю, что дурак. Но я люблю любить, и с этим ничего не поделаешь. Вот жена, которая сидит дома и не пошла со мной, потому что она верит, что я и сам найду выход, и не сюсюкает со мной, иначе я раскисну. И я думаю, что так со мной и надо. Лишь бы быть уверенным в человеке, лишь бы быть уверенным. Что, девка моя? Я сейчас вернусь и скажу, что все не так, как я думал, а ты скажешь: «Садимся ужинать».
- Але! Акакий Елпидифорович?.. Меня зовут Ольга Андреевна… Нам сказали, что вы согласились поехать… Но если вы передумаете, вот мой телефон… Не передумаете?.. А то вы меня поставите в трудное положение… будет путаница с билетами… Акакий Елпидифорович… вы точно едете?
О боже, какое нелепое имя я себе выбрал в этом романе!
Просто первый раз мелькнуло. То самое. Сказать? Нет, рано еще. Надо еще найти какие-то целомудренные слова. Нет. Это уж точно. Это еще понять надо, а не так — тяп-ляп, как сейчас принято, и все ссылаются на какую-то особенную обстановку, как будто когда-нибудь обстановка была не особенной.
Эта пресловутая обстановка возникла, кажется, первый раз в италианской земле в одна тысяча трехсотом году, когда один монах Дольчино и его подруга Мария подняли восстание, такое невероятное, что даже Данте (Данте!) и тот не понял, что коммуна это не дьявольское наваждение, а самая сердцевина мечты любого народа, его невероятный Образ, который он жаждет превратить в реальное Подобие. А обстановка? Обстановка уже тысячу лет от этого подобия увиливает. Но есть, мне кажется, я нашел нечто такое, перед чем эта проклятая обстановка не устоит. Наверно, я ошибаюсь, почти наверняка ошибаюсь. Тогда и хрен с ней, с этой догадкой, и ее забудут. Ну а вдруг нет? Вдруг в этой догадке есть, как теперь говорят, рациональное зерно? Ну а вдруг? Тогда я обязан ее высказать. Не пропадать же ей вместе с моими дурацкими мучениями насчет имени, недостаточно, я бы сказал, прекрасного.
- Как же вам откажешь, Ольга Андреевна, когда у вас такой ласковый голос… Да я не шучу, чего там… В три ноль-ноль в редакции?.. Как штык.
Домой я шел на подгибающихся ногах и ничего никому не мог объяснить, потому что язык у меня во рту лежал не плашмя, как полагается, а, по-моему, стоял ребром, будто я без передыха провел трехчасовое интервью: «Скажите, как вы добились таких результатов?» — «Сначала у меня ничего не получалось, но потом…» — и в этом роде. Дома жена сказала:
- А в чем ты поедешь? Джинсовый пиджак у тебя есть — помнишь, я тебе в позапрошлом году купила? А у всех рубах — большие воротники.
- Ну и как же быть? — тупо спрашиваю я.
- Я тут видела одну рубаху, розовая, маленький воротник. Продается в «Детском мире», для плана.
- В каком мире? — спрашиваю.
9
Дорогой дядя!
В общем, сам видишь, к тому времени, как я все это осознал, я был совсем хорош.
Конечно, для дальнейшего романа можно было бы отрезать все, что вы прочли до сих пор. Но лучше все-таки этого не делать.
Все обожают цельность. Я до сих пор не могу понять — почему.
Где кто-нибудь когда-нибудь видел эту цельность? Цельность чего? Жизни?
Все обожают «преодоление».
Все обожают один конфликт на всю компанию.
Чего же я всегда хотел от искусства? Может быть, я хотел от искусства того, чего оно дать не может?
Я хотел от искусства того, что впервые реально мелькнуло в описанном выше воскрешающем телефонном разговоре. И значит, моя догадка — не мираж, а вполне природное явление, о котором не дискутируют, потому что оно незаметно. А незаметно оно потому, что слишком распространено. Как воздух. Ну, будем описывать.
Что ж ты болтал, Акакий Протопопов, что тебе так плохо, когда на самом деле тебе так хорошо? Что ж ты болтал, Акакий Протопопов?
Вот ты едешь по Москве, по Садовому кольцу. Ночью был туман, и ты едешь в такси. Какое хорошее слово «туман».
Видимость три с половиной метра. И автомобили, съехавшие с ума. А сейчас туман стал прозрачным, легким и почти стал небом.
Давай больше никогда не скули. Никогда, ладно?
Я понимаю, что это невозможно, но почему не пообещать? При такой погоде верится, что все обещания исполнимы. Мир опять новенький, простодушный и никем не изготовленный, он — как природная кожа, а не покупные штаны с этикеткой на заднице. И я закуриваю, потом снова закуриваю, потом снова. И всю эту дрянь выдувает ветер из опущенного стекла, и погода становится еще пронзительней.
А помнишь… Нет, этого не надо.
И такси сворачивает в боковую улицу.
Однажды в университете я заспорил со студентом-биологом, есть ли коренная разница между искусством и наукой, или на каком-то уровне они сливаются. Студент, высокий и красивый, был уверен, что это так и есть, и спорил со мной, спорил. И тогда я ему сказал, в чем разница.
- Вот я выхожу на улицу, тусклый, как дым в курилке и вижу: серый асфальт, серый забор, серая ворона, серое небо… Муть… А на другой день я выхожу на улицу с предвкушением радости и вижу: серый асфальт!.. Серый забор!.. Серая ворона!.. Серое небо! — и прекрасные до слез… Что же изменилось?.. Я… Может такое быть в науке? Она же объективна!
Я поднялся в старомодном, лязгающем лифте на четвертый этаж. В прекрасном лифте с проплывающими этажами, а не в автоматической собачьей будке, где оскаленные двери норовят тебя прищемить как помеху. Я пошел по коридору и видел в открытых дверях работающих людей и погоду в окнах.
- Здравствуйте, Вера Васильевна, — сказал я. Она кивнула мне, протянула руку и улыбнулась.
- Ольга Андреевна вас ждет, — сказала она.
Я отправился искать незнакомую мне Ольгу Андреевну, и мне было жаль, что я так быстро ушел. И мне перед ней стыдно, что я придумал себе имя Акакий, я — Гошка Панфилов, который всегда всем все высказывал прямо в лоб.
Незнакомую мне Ольгу Андреевну я не нашел, но этажами ниже мне встретился человек лет семидесяти и, протянув мне руку, сказал: «Я главный редактор. Меня зовут Сергей Николаевич. Идемте со мной. Я вам хочу рассказать, как все это будет». Я старался не раскисать. Я за собой это знаю. Если меня берут под уздцы, я сначала терплю, а потом могу перевернуть телегу. Я становлюсь неуправляемым, не жалею себя, и будь что будет. Но если я вижу ласку, нет, не комплимент, к комплиментам я отношусь настороженно, если я вижу ласку, то меня можно водить как медведя за кольцо в носу. Но здесь было еще кое-что, и все подтверждалось. Не хочется, как говорится, задешево продавать мысль, которая мне кажется новинкой. Чересчур дорого она мне обошлась. Цена ее — жизнь. Да и подкрепить ее чем-то надо.
В кабинете своего заместителя Сергей Николаевич усадил меня за круглый столик, сел рядышком и стал рассказывать, как все будет происходить там, в Тольятти, согласно предварительной программе, иначе все там не уложится и запутается. Но говорил он с трудом, и я видел, что ему нездоровится. А потом вдруг сказал:
- Из поэтов старший в поездке будет Андрей Иваныч Останин. Когда он узнал, что поедет Панфилов, он очень обрадовался.
- А вы с собой какую-нибудь еду взяли? — спросила меня вошедшая Вера Васильевна.
- Да нет… — говорю. — Но там, наверно, вагон-ресторан есть?.. Пустяк это или нет?
Это, смотря с чем сравнивать.
Я дальше много буду удивляться и поражаться даже тому, что вовсе удивления не вызывает. Видно, и правда, худо мне было, если я всякими пустяками восхищаюсь. Хотя почему они пустяки, я до сих пор так понять и не смог. Глоток свежего воздуха или шум электрички вдалеке, или девочка с нотной папкой моей собаки испугалась, а потом увидела, что собака добрая, и познакомиться подошла, и вдруг так улыбнулась, будто за испуг извиняется, — сколько лет прошло, а я до сих пор эту улыбку помню. Пустяк это или нет?
Потом когда-нибудь эти проклятые запутавшиеся времена, конечно, забудут, и будет неважно, какой президент обещал превентивно и ограниченно что-нибудь кинуть такое, от чего бы земля распылилась, и он бы тем самым освободил порабощенные народы. Забудут. Это ясно. А кто вспомянет, тому глаз вон. Но теперь, когда планета, взбудораженная идиотизмом происходящего, постепенно теряла души своих детей и удивлялась, с чего бы это, и придумывала всё лучшие правила их поведения, теперь, в этой удивительной Обстановке, я, человек художества, что я лично мог сделать, чтобы эта великолепная Обстановка перестала быть Обстановкой не путем превращения ее в Апокалипсис, а превратившись в обыденную жизнь, где бы стало видно, что то, что сейчас считается пустяками, тому цены нет? Что мне лично сейчас делать? Мне, мучительно и бестолково потратившему свою жизнь на поиски слова? Найти это слово. Или, по крайней мере, думать, что я его нашел. И рядом с этой попыткой никакая задача и близко не равнялась.
Сразу объясняю — я имею в виду не некое метафорическое слово, не «логос» или что-нибудь в этом роде, а самое обыденное слово, самое обиходное, разговорное — как хотите его называйте, слово со стершимся смыслом, пусть, но обозначающим, тем не менее, некое природное явление, тысячелетия остававшееся в загоне и без внимания как пустяковое и ни на что не влияющее, но, которое, мечталось, есть ключ от двери, которая вела бы со-о-овсем в другую жизнь. Если, конечно, на то, что стоит за этим словом, на природное это явление обратить непредвзятое внимание.
Чего таиться и «подпускать подтекста», мне казалось, что это слово я уже нашел. Но это дело требовало жесточайшей проверки.
Потому что этой догадке противоречило все. Абсолютно.
Я прочел довольно много моральных уставов, где говорилось о том, чего не следует делать. К примеру — не убий, или так — не пожелай жены ближнего, ни раба его, ни вола его, ни осла его и так далее. Мало того, что «не убий» так и осталось тысячелетним липовым пожеланием, но и с остальным не лучше. И жен своих ближних желают, и жены желают чужих мужей. И потом, где я возьму соседа, чтобы пожелать его раба, вола или осла? У него и самого нет. Но, может быть, это — метафора? Но тогда какой же дурак пожелает чужого осла? А куда своих девать? Есть и позитивные пожелания — возлюби ближнего своего. Тоже, знаете, две тысячи лет не срабатывает, и морская пехота ждет Апокалипсиса. Ну и как быть?
И вот подумал я, уж не помню, сколько лет тому назад — а не проморгали мы все некое природное явление, не проскочили мимо него в суматохе вер и исследований? А в неприродные явления я, извините, не верю.
Это было давным-давно. Ну, а дальше пошла вся остальная жизнь, с ее помехами работе и размышлению.
И я стал наблюдать, что же общего у нас всех, без исключений, что же общего у нас, когда нам бывает хорошо?
Мне кажется, я обнаружил это ключевое природное явление, которое, окажись оно верно отысканным, будет прорастать, как семечко, и ломать асфальт. Ну а если все это чепуха, то про это забудут, как про очередную бредовую панацею. Ну и хрен с ней. Но я старался.
- Это вы?.. Здравствуйте. Я Ольга Андреевна. Очень рада с вами познакомиться. Вошла невысокая женщина и улыбается.
На кого же это она похожа? Сразу даже и не сообразишь. Ничего. Потом вспомню.
А знаете, я ведь действительно вспомнил. Но это я тоже расскажу потом. Потому что это должно быть рассказано в нужном месте. Иначе ничего не понять.
А пока что ж? Пока продолжали твориться маленькие чудеса доброжелательности. И интеллигентности.
Последнее надо объяснить. Об интеллигентности говорят так и эдак. Диапазон оценок огромный. От «слюнтяйства» до «подвижничества». А в промежутке технари с гуманитариями сражаются, отстаивая право на первородство. Поэтому, чтобы уж никакого подтекста, а только текст, скажу, какого мнения я придерживаюсь. А придерживаюсь я мнения, которое высказал великий украинский кинорежиссер. Он сказал, что «интеллигентность — это высшее образование сердца». А я и с начальным не так часто встречался. Но, может быть, мне не повезло.
Теперь мне начало везти невероятно. Может быть, погода такая. Прозрачный, чуть притуманенный день, и воздух у подъезда, откуда мы все вышли, будто я родниковую воду пью и уже тоскую, что все это кончится, потому что все кончается.
- Гошка, ну-ка, в мою машину, — говорит мне у подъезда Андрей Иванович, который только что прибыл и будет у нас главный.
Он старше меня лет на пятнадцать. В машине он оборачивается с переднего сиденья.
- Ну? — говорит он и улыбается немножко иронично и немножко горделиво — такая у него улыбка. А чего ему не гордиться, когда он написал огромное количество песен, которые все поют? И, по крайней мере, две из них поют во всем мире. Обе они — про детей. Сумейте-ка!
- Да так, — говорю. — Нормально. И мы поехали на вокзал.
10
Дорогой дядя!
Эту поездку можно было бы описать в двух словах: поездка прошла удачно. Простите, в трех словах. Какая разница? Маленькая неточность. Ее исправляют еще в черновике. Но жизнь идет набело. Поэтому сижу и ищу точное слово.
Всем известно, что бывают мгновения, когда… и так далее.
Я раньше думал, что такие мгновения бывают только при первой встрече с женщиной, да и то с выдуманной или приснившейся.
Но такого у меня еще не было, чтобы обычная, в общем, поездка выступать, да еще с чужими людьми, заставила меня пересмотреть жизнь и свою и общую, и я увидел, что, пожалуй, я прав.
Нет, такого со мной еще не бывало.
Обычно, когда пересматривают жизнь, приходят к грустным соображениям, к отчаянным даже, а тут, видите ли!
Ну не вовсе же я болван, даю вам честное слово!
Значит, было в этой поездке такое, что засело в меня не как гвоздь в доску, а как семечко в подходящую почву. И теперь оно прорастает.
Расти, мое семечко. Видно, душа дождалась и хорошо вспахана жизнью. Расти, мое семечко.
На Казанском вокзале только что прошел дождь. Еще когда сели в машину, по ветровому стеклу хлестнули первые капли, а сейчас вся площадь у трех вокзалов стала серебряная. Идем, шлепаем.
Мальчик-водитель несет коричневый чемодан Останина, я — свою сумку с электробритвой, с, так сказать, джинсовыми штанами и новой розовой рубахой, у которой такой замечательный короткий воротник, который всем докажет, что и я не чужд веяниям, не чужд.
- А я люблю капитально собираться в поездку, — сказал Андрей Иваныч. — Чтобы все было под рукой.
И иронически смотрит на мою синюю сумку из неизвестной мне тринитротолуолово-иприто-люизитовой материи. И я не знаю, что теперь в руках носят. Майлс Гелдон носил длиннющую шпагу, а у меня и шпаги нет, та-ак, только языком мелю, бала-бала. Казанский вокзал, Казанский вокзал… Я потом скажу, кого я там встретил и кого потерял. Рифма получилась случайная, но, видимо, где-то жила во мне и теперь выскользнула на свет божий неуправляемая.
Одни любят неуправляемые рифмы, другие — управляемые, когда душа не останавливается и продолжает свою работу. Но многие, слишком многие думают, что рифма — это когда окончание одного слова похоже на окончание другого слова. Это всегда видно, и эти стихи может делать компьютер. Некоторые даже на это надеются и даже полагают, что компьютер раз и навсегда положит конец этой затянувшейся дурости. Они имеют в виду поэзию. Они не догадываются, что поэзия «не умираема», не убиваема, не воскрешаема — неувядаема, аема, аема, аема, потому что она не продукт чьего-то запутавшегося или озверевшего сознания, а след первичного бытия. А сознание вторично. И умники потому и живы на свете, что поэзия существует, несмотря на все попытки от нее уклониться или самообъегориться.
- Гошка, по-моему, мы потерялись, — говорит Андрей Иванович. — Впереди мелькал мой коричневый чемодан, а теперь не мелькает.
- Вот он! — восклицаю я, как человек на мачте у Христофора Колумба, который, бедняга, был уверен, что открыл Индию, а открыл са-а-всем другой материк, который даже именем его не назвали, а назвали именем совершенно постороннего трепача — так дальше на материке и пошло.
И мы уперлись в грудь человека, преградившего путь нашему галопу.
Левая сторона его пиджака была как бы вышита колодками орденов, наших и зарубежных, рядов семь или больше.
- Андрей Иваныч, — сказал он, — вам туда, вдоль этого поезда. Там Ольга Андреевна все покажет.
- Это Гоша Панфилов, — сказал Андрей Иванович. И мы все друг с другом перездоровались за руки. Мы с Андреем Ивановичем почему-то тоже, с разбегу. И мы уверенно пошли вдоль длинного поезда.
- Орденов-то, а? — говорю.
- Блестяще знает испанский, — сказал Андрей Иванович. — Теперь парторг издательства. Люди шли. Теплые, обыкновенные, и они не знали, как я к ним относился. А я к ним относился хорошо.
11
Дорогой дядя!
А в газетах и журналах шла платная дискуссия о том, как сделать необыкновенно прекрасное искусство, которое бы… и так далее.
Эксперты и приблудные трепачи и даже физики высоких энергий и слабых взаимодействий полагали, что если долго обсуждать эту тему и давать друг другу советы, то это окончательно-замечательное искусство непременно как-нибудь да получится. Иногда мелькало словечко «талант», и тогда в него ныряли как в бомбоубежище, еще реже кто-нибудь вякал «гений», и тогда надо было замереть и снять шляпу, потому что гении всегда были покойники.
Меня всегда одолевало любопытство — можно ли помереть, не родившись? Получалось, что гений — это что-то вроде аборта. Но поскольку все знают, что все обстоит далеко не так, и что гений — это, как раз, наиболее активно живущий человек, то выходило, что гений — это человек, идеи которого либо дольше всего доходят, либо быстрей всего присваиваются. В первом случае его тепло поминают после смерти, во втором он уходит тщательно безымянный. И выходило, что наивеличайший гений — это народ, который как раз и обладал двумя вышезамеченными признаками.
А реально практикующие люди художества уныло откладывали изучение дискуссии, которая особенно мощно длится последние лет полтораста, где-то со времен фразы Белинского — «„Евгений Онегин“ — энциклопедия русской жизни», и старались помнить, что речь идет все-таки о поэме, а не о справочнике.
Реально практикующий поэт, художник или композитор, так и не дождавшись рекомендаций, которые бы сильно улучшили то, что он делает по старинке, на глазок и на ощупь, робко выискивали где придется отдельные советы отдельных художников, композиторов, поэтов, которые на деле доказали, что они-то и есть таланты, и даже, страшно сказать, гении.
Причем, я имею в виду не идеи, прогрессивные для своего времени или не очень, которые высказывал или которых придерживался реально практиковавший классик искусства, и которые зависели от того, на каких житейских позициях он стоял, поскольку все идеи вторичны, принадлежат сознанию и зависят от бытия. Нет. Речь идет о том, как происходило и совершалось само искусство у тех реальных талантов и гениев, которые, мало того, что с дискуссией не были знакомы в силу лени или неграмотности, но которые, к примеру, жили на белом свете, когда еще не только дискуссий на эту тему не устраивали, но даже еще и истории искусства не было.
То есть речь идет о качестве, о «знаке качества» самого художества, которое, как выяснилось, не зависит ни от каких дискуссий на этот счет, а зависит от чего-то другого. Даже самая лучшая, но бездетная акушерка должна понимать все же, что кое о чем она знает только понаслышке.
Вначале я даже увлекался дискуссиями такого рода. Уж очень хотелось узнать, как делать такие произведения, чтобы они оказались искусством.
Я тогда думал, вот придет специалист и все растолкует, а уж я тогда… и так далее. А потом вижу, и этот прав, и этот прав, и этот прав, и этот, и в одной газете оба правы, хотя сражаются друг с другом и издеваются, и льется кровь, к счастью, чаще всего клюквенная, а ведь так не может быть, чтобы все правы, не так ли? И тогда я стал думать, а что, если все не правы? Не то чтобы я такой умный и всех переплюнул, а просто по диалектике — если логика права, а результаты противоречивы, то надо рассуждения отложить и искать в природе то, мимо чего эта логика проскочила.
Так. Это я объяснил, это я предусмотрел. Да, вот еще одно, это для тех, кто любит отыскивать подтекст даже в манной каше. Так вот, никакие мнения я не отвергаю, и не мне судить, кто прав. Просто ни от одной дискуссии ни один ребенок еще не родился. Дети, как и искусство, зачинаются каким-то другим путем.
Я не настолько наивен, чтобы полагать, будто перестанут дискутировать, но мне хочется подбодрить практически действующих художников, которые стесняются, что не знают, почему у них получаются стихи и прочие дела в этом роде, в то время как столько людей знают, как это делать, но у них не получается.
— В этот вагон, в этот! — окликнула нас Ольга Андреевна и помахала билетами. Улыбка у нее, как бы это объяснить… Ольга Андреевна невысокого роста, и поэтому, когда она улыбается, она смотрит на тебя снизу вверх, как девушка на ковбоя. Но дело в том, что даже на рекламных картинах сигарет, пачка которых сфотографирована тут же в нижнем углу, эта улыбка означает: дурачок ты, ковбой, и штаны твои дурацкие, и лихость, и поза, потому что ковбоем тебя делаю я, а без меня ты обыкновенный беженец и уголовник. Это ковбой-то! А уж мы-то, бумажные фантазеры… В общем, при виде такой улыбки совершенно не хочется позировать или еще как-нибудь напрягаться. И отпускает тебя, и ты возвращаешься к самому себе. Понятно ли я говорю?
12
Дорогой дядя!
Сколько я себя помню, меня всегда понуждали по какому-нибудь поводу трепетать нутром. Я долго не понимал — зачем? Потом с годами стал думать — может быть, для обмена веществ? Потому что, когда я не трепетал нутром, мне было на обмен веществ плевать.
Но так как обмен веществ все равно происходил, плевал ли я на него или нет, то оказалось, что трепетать нутром я должен был, чтобы мой сосед не подумал, что я не такой, как он. А у меня всегда был сосед.
Почему ему было надо, чтоб я был такой, как он, я не знал. У него фамилия была другая и биография, и в зеркале мы были непохожи. Долго не знал. Но потом вдруг понял. Если я не трепетал нутром, ему было беспокойно. И он пугался — а вдруг я такой же брехун, как он, и только делаю вид, что трепещу. Он боялся, что на самом деле я равнодушный и хорошо живу. А он хотел, чтоб хорошо жил только он, а я бы напрягался. Мир состоит из отдельных объектов и субъектов. И конечно, мир бы рассыпался, если бы их ничего не связывало. Но так как их все равно что-то связывает, то мир не рассыплется, даже если этого кто-то страстно захочет.
И сосед вовсе не боялся, что мир рассыплется. На его век хватит. Но он боялся, что если я не буду хотя бы делать вид, что я такой же, как он, то станет видно, что и он не такой, как я. А это чревато выбором не в его пользу.
Потому что я работал, а он эту работу — имитировал.
И в этом между нами разница навсегда, но не я в ней виноват.
Поставили нам натурщика. Голый такой дядя с якобы веслом в руке. Конечно, не весло, а палка от метлы, но он стоит в движении, будто бы он в лодке или гондоле, и будто бы он в лунную ночь гребет себе в лагуне, и даже можно представить, что он поет, к примеру, «Санта Лючия» или какую-нибудь другую песню. Лунную ночь было вообразить легко — он стоял под лампой.
Песню было вообразить трудней всего, так как натурщика звали Федя, и мы знали, что слуха у него нет, и он не мог спеть даже частушку с несложным мотивом, а только шепотом ревел тексты неприличного содержания. Задача была несложная — правдиво изобразить то, что видишь.
Затруднение состояло лишь в том, что к тому времени, а дело было, если не изменяет память, на третьем курсе, то есть давным-давно, к тому времени я уже не понимал, что значит «изобразить правдиво».
Нет, я не имею в виду какие-нибудь столкновения общественных идей, которые якобы впрямую можно выколупать даже из натюрморта, и когда такое понятие, как «правдиво изобразить», трактовалось противоречиво и часто в противоположном смысле, хотя каждое мнение подтверждалось цитатами, часто из одних и тех же источников. Нет, я имею в виду обыкновенный житейский смысл — вот стоит дядя Федя, и я должен нарисовать то, что вижу. Чего уж проще? Но вот беда, тот же житейский опыт показывал, что если я нарисую то, что вижу, то поставят тройку и не будет стипендии целый семестр, а это, сами понимаете…
К примеру, скажут тебе — надо не копировать, а творить — и привет. Хотя нам уже ясно было, что такое «копировать», а что такое «творить» — не знает никто. То есть каждый преподаватель знал разницу, но поскольку у каждого преподавателя эта разница была своя, то в результате оставалось голое утверждение, с которым никто не смей спорить, а именно, что «копировать — это тебе не творить».
Почему я так стремлюсь описать этот кошмарный случай, когда, разглядывая натурщика без единой предварительной установки, я вдруг обнаружил что-то свое, о чем я не читал ни в одном искусствоведческом труде, ни в одной эстетической инструкции, ни в одном воспоминании мастеров? Ну, обнаружил! Ну, новинка! Ведь в натурщике обнаружил, а не в чьих-нибудь теориях, которые периодически меняются, и каждая следующая объявляет предыдущую устаревшей и в чем-то нехорошей, даже постыдной. Почему же этот случай кошмарный? Потому что в главном бастионе любого академического обучения — «изучайте натуру» — я случайно пробил брешь, которую я не мог заполнить. Повторяю, у меня не было никаких идей. Я просто сидел и тупо разглядывал натурщика и очень хотел получить пятерку. Зачем мне нужна была пятерка? За нее мне дадут стипендию. Двадцать пять рублей на нынешние деньги, а без пятерки у меня стипендию отнимут на целый семестр. А кушать хотелось каждый день. Я помню эту еду. Дело не в том, что в технических вузах платили больше. Это правильно. Технические вузы учат добывать еду, искусство — это все же блажь на сытый желудок, не так ли? А дело в том, что в технических вузах экзаменатор знает правильный ответ и, если ученик тоже его знает, ему нетрудно доказать права на пятерку. А ученику вуза искусств доказывать нечем. Он — голенький. Но я не знал, что и экзаменаторы тоже голенькие. Не знал, не верил и надеялся, что это не так.
Ведь если учат, значит, что-то знают, чего я не знаю, чего самостоятельно узнать невозможно и если я тоже это узнаю, то тоже буду знать такое, без чего художником не станешь.
И тут произошел случай, который послужил причиной всему счастью и всем несчастьям моей дальнейшей жизни.
На выставленной вперед голой банной ноге гондольера с пальцами, в которые внесли поправки долгая жизнь и плохая обувь, в промежутке между коленом и щиколоткой, я увидел тончайшие, никем до меня не замеченные линии, которых ни в одной изобразительной системе не могло быть. В системе не могло быть, а на бледной ноге они были. А когда я присмотрелся, то эти линии были обнаружены у него всюду, и он как бы из них состоял. Больше того, мне показалось, что если их тщательно перерисовать, то на бумаге образуется натурщик, да не как-нибудь хаотически нарисованный, а выстроенный по какому-то природному закону.
Сложилось к тому времени два способа рисовать голых натурщиков. От леонардодавинчевых времен идет рисование по анатомии, чтобы рисовать у дяди Феди не просто выпуклости и «впуклости», а понимать, что под кожей выпирает. Метод был хорош. Но у него был один технический недостаток. Хотя у каждого человека одна и та же номенклатура деталей, однако выглядят эти детали по-разному. Вид у этих деталей разный. Вот какая штука. А мы рисуем именно вид, и он у каждого гондольера свой, особенный — пониже гондольер, повыше, потолще, похудее, помоложе, постарше, профессии разные, а темпераменты? Ну, непохож банный дядя Федя на Аполлона Бельведерского, ну что тут поделаешь? Набор мышц такой же, а выглядят по-другому. Еще Леонардо говорил: «О, живописец анатомист! Бойся показать знание мускулов!», но мы изготовляли Аполлонов.
В чем состояла идея другого способа рисовать — его называли «обрубовка»? В том, что надо рисовать не анатомию, которая вся упрятана, а объемы, которые у всех снаружи. Если дядю Федю раздеть, то мы увидим, что он не только не Аполлон, но даже не гондольер. В крайнем случае — лодочник. Однако и это сомнительно. Потому что натурщик-профессионал умеет изо дня в день стоять на месте, а лодочник все же куда-то едет.
Объемы бывают округлые и, так сказать, граненые. И если представить себе, что голова — это шар, то, как бы обрубая его плоскостями, мы получим грани, которые, увеличиваясь в числе, но уменьшаясь в размерах, и приведут нас к натуральному дяде Феде. И преподаватель твердил: «Нос — это призма».
Мало того, что я лишь один раз в жизни видел человека, у которого нос был похож на призму, и это было так ужасно, что рисовать его не хотелось, но и «обрубовка» тоже имела технический недостаток. Сам великий Чистяков, который ее открыл, видимо, это сознавал. Потому что велел, выстроив игру плоскостей, заканчивать все же «на глазок». То есть попросту срисовывать с натуры то, что есть. Но как только начинаешь срисовывать, то вся «обрубовка», естественно, летит, и восстановлена быть не может. И значит, вся стройность и прелесть уничтожена при поправках собственной рукой. Н-да-а… как вспомнишь…
А зачем оно вообще, построение, если дело кончается обычным глазомером? А затем, что, пока вглядываешься в натурщика и пытаешься изобразить, начинаешь видеть, что тело человека не просто существует, как ему надобно по медицине и привычке жить, но что в построении есть удивительная прелесть. А что такое прелесть — не знает никто. И вот я, наткнувшись в самой натуре на таинственные линии, никем до меня не увиденные, подумал, а вдруг?.. И не будет технических недостатков двух предыдущих способов рисовать… И я не буду изготовлять анатомических Аполлонов Федоровичей… И я смогу сколько угодно стирать ластиком неудачные места, но не терять построения — как в «обрубовке». Ведь если эти линии есть в самой натуре, я их опять восстановлю! Если, конечно, они есть. Я то плелся по Москве, то недостойно ускорял шаг, и все больше сомневался, что я эти линии видел. Потому что никто не заметил, а я заметил — и это за тысячи лет рисования? Чушь, конечно. Глаза устали.
Как я хотел быть художником! А что вышло? Поскользнулся на ерунде, на банановой корке… Ляжка пожилого гондольера…
Самое интересное, что я и правда свое немыслимое наблюдение забыл. И на следующий день я в институт пришел скучный и оптимистичный, как мыло.
Поболтал, покурил, сел за свой рисунок, взглянул на голого человека и увидел линии. Я начал метаться, строить и по анатомии и по «обрубовке», а линии лезли и прыгали в глаза, как гнусная паутина.
Но что-то во мне стало напрягаться и даже ожесточилось. А в чем дело, собственно? Ну увидел в природе то, что другие проморгали! Разве так не бывает? Да сплошь! А потом, может, и не проморгали, а сочли неважным, или скрыли, или у них были другие цели? Мало ли?
И когда кончился этот день, я решил — если и завтра я эти линии увижу, значит, они в натуре на самом деле есть. И будь что будет. На следующий день я эти линии увидел.
13
Дорогой дядя! Теперь отвлечемся.
Я недавно узнал, что во всем мире сейчас «музейный бум». Толпы в музеях и все такое. Все верно. Мне только не нравится слово «бум». «Бум» прошел, и его нет. А здесь, мне кажется, происходят дела поважнее.
Мало того, что одновременно происходит и книжный бум, и песенный бум, и театральный, и прочие, в которых, как и в каждом буме, много чепухи, но все эти бумы прокатываются по всему миру. Вот ведь какая штука. Этот мир расколот вкривь и вкось по всем мыслимым параметрам, а эти «бумы» идут всемирно. Но тогда слово «бум» не годится. Это все равно, что сказать «экологический бум» или «бум борьбы за мир против всеобщей погибели». Какой же это «бум»? Это люди потихоньку приходят в себя, и начинается общая переналадка планеты. Первая в истории.
Но почему же все-таки люди толпами повернулись именно в сторону искусства? Вряд ли они сговаривались или кто-то их организовал, как это в религии или в науке. Причин, видимо, бесчисленно, и какая из них главная — не мне судить. Ясно же только одно. Искусство дает людям то, чего не может дать никакая другая деятельность и ничто другое в человечьей жизни. И похороны искусства, как это обещали многие ретивые, не состоялись. И философ Гегель, который предсказывал, что из всех детских забав разума, к которым он причислял искусства, живопись, как наиболее детская из них падет первая, и на этот раз ошибся.
И не пора ли изучать феномен искусства именно как феномен, а не подверстывать его к другим явлениям жизни и строить торопливые умозаключения, которые не подтверждаются на практике.
А еще я недавно узнал, что есть предложение совсем изменить музейное дело. В корне. Чтобы не толпы людей толкались у одной картины, мешая друг другу, а чтобы один человек сидел на стуле, и перед ним на экране проходили бы любые картины из всех музеев и всех запасников. Первая моя реакция была — чудовищно.
Действительно, сегодня репродукция так же отличается от картины, как меню от обеда. У нас учился белобрысый студент, кажется, с Поволжья. Однажды на занятия пришел профессор, сел на место этого парня и стал поправлять рисунок. А парень почтительно склонился над профессоровым плечом и дыхнул.
- Ну, брат, — сказал профессор, — чесноку же ты нажрался.
- Я чеснок люблю! — радостно ответил тот. — Он колбасой пахнет!
Сегодня даже самая замечательная репродукция — это запах колбасы. Но не сама колбаса. Сегодняшняя репродукция либо разжигает духовный голод, либо гасит его, как реклама кинофильма. Сегодняшняя репродукция либо хуже картины, либо лучше, но никогда ей не равна.
То, что она чаще всего хуже картины, знает каждый, но мало кто обращал внимание, что она бывает и лучше.
Ах, какие бывают очаровательные цветные открытки или черно-белые фотографии, а подойдешь к картине — смотреть не на что. Страшно сказать, но так бывает и с классикой. И я вдруг вспомнил одну из причин, по которым я ушел из живописи. Потом оказалось, что она главная. Вот она.
Картина делается в одном экземпляре. Поэтому хорошую картину продавать жалко, а плохую стыдно. Вот и все.
С картиной, которую ты считаешь хорошей, расставаться непереносимо. Это разлука. Никакая копия или там авторское повторение — не выход, это все ерунда. Копия — это результат, а картина — это еще накопление результата, путь к нему. И картина нужна тебе, чтобы всегда была под рукой для дальнейшего твоего развития. Как расстанешься? А художник кормится продажей подлинников. Халтурить? Стыдно как-то. Двойная бухгалтерия? Для других и для себя? Она рано или поздно скажется, и тогда… гоголевский рассказ «Портрет», выполненный при прямой консультации великого Иванова. Как же быть? Я этого не знал.
Но вот репродукция. При всех ее сегодняшних недостатках в ней есть одно достоинство — тираж. Как в литературе. Когда изобрели книгопечатание, художественная литература получила гигантский толчок. К развитию. Да, конечно, и сейчас красивая книга приятней на полке, чем некрасивая. Но и вырванная из журнала и одетая в самодельный переплет, она та же самая, что написал автор. Но, может быть, когда-нибудь репродукция станет от картины неотличима, и сработают все достоинства тиража? Может быть. Но для этого надо знать, чего нельзя в репродукции лишаться. Иначе какая там духовная пища? Так, «Бейзик инглиш», «Дон Кихот» для школьников, «Декамерон» для самых маленьких. Еще недавно кому-то казалось, что известно, из чего искусство «состоит». Достаточно изучить детали, и можно его синтезировать, как пластмассу, а потом передоверить компьютерам.
А выяснилось, что искусство — это не слабый заменитель чего-то более важного, не эрзац, а просто вторая половина жизни.
Живой жизни. Потому что мертвой жизни не бывает.
Согласитесь, что «живой труп» и «мертвые души» — это все же метафоры. Феномен искусства в том, что оно есть вторая половина жизни, хотя человек еще об этом не знает, и сомневается, и раздраженно пытается заменить искусство каким-нибудь другим человечьим занятием или их совокупностью.
А теперь уже ясно — не выходит. И выяснилось уже, что искусство незаменимо.
И выяснилось это самым простым способом — люди проголосовали ногами и толпами двинулись в музеи. То есть пошли общаться с самым молчаливым, с самым беззащитным видом искусства, которому, казалось, и постоять за себя нечем, кроме своего существования.
Литература, театр, кино хотя бы с грехом пополам сами себя объясняют, музыку — мурлыкают, не задумываясь, а живопись и этим не обеспечена. Она молчит и существует. И ждет, что кто-нибудь захочет ее смотреть.
И вот захотели. Вернее — начали хотеть. «Музейный бум». Никуда не денешься. То есть вмешался зритель, неквалифицированный, которого потянуло смотреть картины. То есть вмешался тот, для кого картины и предназначены. Квалифицированным он станет вместе с художником. Другого пути нет.
И дело не в картинах. Картины — это всего лишь край, последняя точка, момент истины, которой дальше и отступать некуда. Дальше, как говорил Бор, лишь дополнение истины, то есть ясность. Становится ясно, что искусство — это просто вторая половина жизни, и в этом его феномен.
Спрашивается, если искусство — это вторая половина жизни, то почему его так мало и даже вообще — куда оно девается, когда человек ест, пьет, работает, враждует, воюет, мыслит, наконец? А никуда не девается. Оно тогда уходит в сон. И даже когда человеку кажется, что он не видит снов, они все равно у него есть. Они только не доходят до его сознания. Слава богу, хоть это доказано. Так же как и то, что сознание — штука вторичная. Для чего нужны сны, мы не знаем. Ничего, когда-нибудь узнаем. Сейчас важно одно, что сон — это жизнь, то есть бытие, свойственное всему живому, но которое лишь иногда осознается человеком, а большею частью и не осознается.
Но когда оно осознается, оно начинает мощно влиять на жизнь во всем ее комплексе, а не только на отдельные проявления жизни или только на сознание.
И тогда появляются мастера, которые хотят удовлетворить потребность этой неисследованной стороны живого бытия, удовлетворить духовный голод, как принято говорить. Потому что потребность, или шире, желание — есть единственное отличие живого от неживого, которое мы сегодня знаем. Последнее уже известно сегодняшней генетике.
Но не эстетике. Эстетика все еще топчется на старом кругу.
Могут ли компьютеры мыслить — не вопрос. Могут ли они хотеть — вот вопрос! Едва ли. Живое хочет, а неживому все равно.
А что такое живое — пока еще одни догадки.
Мне кажется, что разгадка живого лежит в вакууме. Мне кажется, что вакуум — это не открытый еще вид материи, не состоящей из частиц. Частицы все вращаются и при столкновении образуют эффект, называемый «температурой». Уже сегодня физика знает, что вакуум — это не пустота, то есть, что вакуум — это ни ничто, а нечто. А нечто — это уже материя, то есть объективная реальность, которую мы можем ощущать. А какие у нее будут свойства? Какие откроют, такие и будут. Мне кажется, что мы уже сейчас знаем два ее свойства: гравитация, которая ни из каких взаимодействий частиц не возникает, и абсолютный температурный нуль, который потому и нуль, что вакуум состоит не из частиц, которые эту температуру и создают.
Мне кажется, чтобы образовалось живое, нужно взаимодействие этих двух видов материи, а не одной.
Довольно фантастическая гипотеза, не правда ли? Но так как это гипотеза материалистическая, то все рано или поздно объяснится. Что выяснится, то и будет.
14
Дорогой дядя!
У меня сейчас какая главная и довольно противная задача? Чтобы никого не обидеть. А то ведь как получается? Выскажешь предположение, основанное на своих и чужих наблюдениях, — обижаются. А потом начинают не обсуждать по существу, а пакостить. Этому тоже есть объяснение. Пакостник начинает воображать, что его демонтируют, и гневается. Половина бед на земле — от воображаемых опасностей, а не от реальных. Я не удивлюсь, если окажется, что реальные беды с воображаемых и начинаются. Что же произошло, когда я открыл эти линии на натурщике, который стоял нагишом? Сразу скажу, что я и сейчас не знаю, что это такое. Я назвал эти линии — «переломами». Надо же было как-то назвать.
Сначала я пытался дать этим линиям тщательное объяснение.
Не знаю, как обычному зрителю, но для художника гипсовые отливки греческих торсов на втором этаже Музея изобразительных искусств, что на Волхонке, и два-три подлинника на первом этаже — небольшие торсы, сделанные из мрамора, — это разные скульптуры. И не потому, что изображают разных особ.
И не потому разные, что на втором этаже знаменитые скульптуры, а на первом выкопаны в Тамани и сделаны неизвестно кем. Как раз наоборот, верхние, знаменитые — многократно хуже нижних незнаменитых. На первом этаже они живут и обаяют, а на втором — мертвые. А почему обаяют? Потому что мрамор. На первом этаже торсы из мрамора. А при отливке из гипса часть выпуклостей и «впуклостей» пропадает, слизывается, и нет уже той божественной игры объемов, по которым скользит глаз и радуется.
Но и это не все. Бывает и наоборот. Бывает, что фигура из гипса лучше той же самой из мрамора. Тогда гипсовая живая, а мраморная — лишь ее тень. Так случилось с барельефами в метро «Электрозаводская». Сначала установили гипсовые — такие живые и художественные были девушки-работницы, я сам видел. А потом стали их заменять на мраморные, и все начало каменеть. И последний гипсовый барельеф был как крик о помощи.
Так что не в том дело, что мрамор — хорошо, а гипс — плохо, или наоборот, а в том, что они — разные материалы. И художник знает, что из разных материалов одну и ту же скульптуру или картину сделать нельзя. А можно сделать только разные. Потому что глаз различает не только разницу «впуклостей» и выпуклостей, но и материалы, из которых они сделаны. Структуру самого материала и фактуру, то есть то, как по материалу шла рука. И потому разный материал — это разный взгляд на одни и те же вещи.
То есть я хочу сказать, что сам материал влияет на художество. То есть на впечатление, к которому художник пробивается.
Настоящий художник с материалом не борется. Он его использует. Иногда даже сразу в нем замышляет — в гипсе, или мраморе, или в дереве. Сколько я знаю картин, которые в гуаши были бы картинами, а в масле они — клеенка. Но масло престижней. Это тончайшая вещь, но, в конечном счете, она решает дело. А большинство картин, музыки, стихов, так сказать, нейтральны к первичному материалу, из которых они сделаны.
Но для истинного художника музыка на тромбоне и на скрипке — это разная музыка. Мелодия может быть одна, та же последовательность звуков, а музыка разная. Потому что предметы, которые издают звук, — тромбон, скрипка — разные. Это почти то же, что для стихов словарь. Сколько стихов написано как бы вне словаря. И ритм отчетливый, и мысли неглупые, и рифме позавидуешь, а словарь приделан, как штукатурная колонна к кирпичному фасаду. Настоящего же поэта словарь часто сам ведет, и он не смущается, что написал стих, которого и не ожидал. Сердце подсказывает — так хорошо. Но сколько художников полагает — ничего, зритель — дурак, и так пройдет. И проходит. Все проходит. А Суриков не проходит, Врубель не проходит. Сверхъестественно тончайший Леонардо не проходит, сверхъестественно грубейший Ван Гог не проходит. Искренность не проходит. Она навеки.
Конечно, к одной органичности материала художество не сводится, но влюбленность в первоматериал — это если не сама искренность художника, то ведет к ней. А художественная искренность — это, может быть, для художества основа основ. В художестве искренний дурак нередко трогателен. Он не убогий, он ребенок. А неискренний умник — это ужас что такое.
К чему я все это клоню? К тому, что Леонардо изобрел в живописи прием, который называют «сфумато».
Леонардо да Винчи как художник мне не очень нравился. Я был без ума от его личности и от его записок, которые прочел тогда в издании «Академия». Я с восторгом соглашался со всем, что он говорил, а работы его, за исключением виндзорского автопортрета и рисунков к «Битве при Ангиаре», казались мне не то чтобы сухими или холодными, а какими-то несвободными. Но я в этом боялся признаться даже себе, потому что чувствовал в них какую-то давящую силу, какую-то окончательную выясненность. В этом была некая тайна, при которой всякие эмоциональные причитания — нравится, не нравится, близок, далек — были какими-то несущественными. Я даже думал иногда, что, может быть, это даже не искусство? Или первый сигнал искусства, которое когда-нибудь только еще народится? Но не для нас. Нет. Не для нас. Нас уже не будет. И я тогда впервые засомневался, что гений — это наивысшая свобода. Наоборот. Но только он подчиняется законам, которые нам неслышны.
В нем не было очевидной мощи Микеланджело и нежности Рафаэля. Но когда я глядел на Микеланджело и Рафаэля, то, в общем, понимал, что и мощь, и нежность их персонажей — выдуманные, продукт фантазии, что в жизни такой мощи и такой нежности не бывает, хотя настолько хочешь, чтоб они были, что забываешь об этом.
Фантазия — великая вещь. В повествовании об искусстве доказывать необходимость ее и неизбежность — нелепо. Речь не о том.
Речь о том, что, когда смотришь на работы Леонардо да Винчи, веришь, что в земном, реальном, повседневном, любом человеке заключен такой неистовый заряд мощи и нежности, который многократно выше любых выдумок и определений, но только заключен в свернутом виде.
Как это может быть, я, конечно, не знал. Но я не мог отделаться сначала от ощущения, а потом и от мысли, что он знал.
И когда я прочел, что «сфумато» — это нежная дымка, которой Леонардо окутывал натуру и потому обходился без светотени, я сразу же в это не поверил.
Во-первых, чисто технически такой дымки можно добиться многими приемами — хоть растушевкой, хоть пальцем, хоть из пульверизатора. И совершенно незачем тратить столько времени на портрет «Джоконды» или на «Иоанна Крестителя». Во-вторых, эта дымка не покрывала изображение, а как бы его выполняла, лепила и строила. И в-третьих, если ее не было ни одного из его учеников — ни у Бельтрафио, ни у Мельцы, то, значит, они ее в натуре просто не видели. А Леонардо видел. Не то чтобы я страстно возжелал открыть секрет «сфумато». Наоборот, я сразу понял — зачем мне это? Повторяю, мне гораздо больше нравились работы других художников, и я бы с ба-альшим удовольствием узнал их секреты! И «сфумато» мне было ни к чему. Но когда я увидел, что реальный гондольер с метлой весь покрыт тончайшими, не то теневыми, не то световыми линиями и как бы из них состоит и построен, и с опрокидывающимся сердцем подумал: не может быть… Не может быть!.. Я потом прочел много книг про Леонардо. И тупо логичных и слезливо-почтительных. Но ни одна из них не говорила о деле. Как будто люди не видели, что Леонардо не похож ни на кого. Ни на кого! Один профессор хилыми лапками даже разбирал Леонардо на части, а когда складывал обратно, то получался не Леонардо, а кто-то из его учеников. Я не хотел быть ничьим учеником, я не хотел открыть «сфумато», я просто хотел нарисовать дядю Федю как можно лучше и получить пятерку.
Надеюсь, заметно, что я стараюсь писать как можно суше. Так сказать, стиль «сквозь зубы» — не хочется, чтобы эмоции мешали разбираться, что к чему, чтобы все шло открытым текстом, без метафорического подмигивания, чтоб все было — так? так… нет? нет… Но главное, столько моих страстей было потрачено, чтобы добраться до любой высказанной здесь мысли, что на четыре жизни хватит. Уж поверьте. Даю честное слово. То, о чем я напишу далее, каждый может проверить. Присмотреться и проверить. Конечно, если есть охота. А на нет и суда нет.
Я сидел, держа длинный карандаш двумя пальцами за середину тощенького граненого тельца. Мне повезло, стержень карандаша был жесткий, как для черчения. Художники не любят таких. Нет сочности штриха, бумагу дерет. Но у меня была другая задача.
Я начал с промежутка между коленом и щиколоткой. Прямо передо мной, можно сказать, прямо мне в нос, выступала нога гондольера. И я на рисунке провел еле видную линию от внутренней стороны колена до наружной стороны щиколотки. Вторую линию я провел от внешней стороны колена до внутренней стороны щиколотки. Линии пересеклись, и сразу пришлось поправлять рисунок — оказывается, прежде я низко взял наружный край щиколотки.
Художник знает, как трудно добиться верного силуэта ноги. От колена до щиколоток идет чуть кривая кость, которая спереди хорошо видна. Но сзади к ней приросла икроножная мышца, которая выступает по обе стороны кости плавными пузырями. Но так как пузыри несимметричные, то и приходится их гонять по рисунку вверх и вниз, на глазок, чтобы получилась не карикатура ноги, а нога. И тут оказалось, что край наружного пузыря как бы продолжается в крае внутренней щиколотки. То же самое и со второй линией — от внутреннего края колена к наружной стороне щиколотки. То есть эти пересекающиеся, как ножницы, волосные линии, которым не было оправдания ни в анатомии, ни в «обрубовке», точно и без всяких хлопот выстраивали мне ногу. И так далее и так далее. То есть, как система координат эти линии уже работали. Подошел профессор и кивнул. — Хорошо строишь, — сказал он.
Я тоже кивнул. Неужели не видит? Нет. Не видит. Линии множились и строили мне фигуру.
Я обнаглел. Я уже не проводил по одной волосной еле видной линии, я действовал сразу пучками, тоже еле видными, как туман. И вот, когда пучок пересекал пучок, то на скрещении туманов образовывались пятнышки — сдвоенные слои «туманов».
Слава богу, что не стал вытирать их ластиком. Я решил, что сделаю это потом. Главное — это построение. Но когда я потом взглянул на эти пятнышки, я обнаружил, что они начинают образовывать тени.
Я не рисовал теней. Они образовывались сами. Мимоходом. В процессе построения. Каждый рисовальщик знает, как трудно моделировать, лепить живую плоть тенями, особенно если они легкие, если они полутона. А неверно положенная тень, — это неверно изображенная форма, которая эту тень образовала. Вот и гоняют эти легкие тени выше, ниже и меняют их контуры в надежде, что зритель сам догадается, какая форма слегка или сильно от света отвернулась. А если свет ровный, рассеянный? А если при первом взгляде живая плоть — это блин? При первом. А при втором — видно, как эта плоть божественно лепится. Сколько скрытых художниковых слез пролито! А у меня моделировка получалась сама. Сама! Я о ней не заботился. Я только строил форму по каким-то неведомым линиям, а тени сами скапливались, одновременно, в уголке глаза и в уголке рта — когда я нахально перекинулся на гондольерово лицо.
А ракурсы? Если протянуть руку или ногу вперед, то даже на фотографии они выглядят коротышками. А в натуре из-за одних бугров мышц выглядывают другие бугры, и от этого силуэт усложняется еще больше. И от этих мучений я был избавлен. Ракурсы выстраивались сами собой. Я бугры не рисовал. Я рисовал линии.
Когда уже я в один сеанс заканчивал рисунок, который был рассчитан на многие часы возни и мазни, я поднял голову и увидел, что за моей спиной столпилась чуть не вся наша группа. Они были задумчивые.
- Здорово продвинулся… — сказал лучший рисовальщик нашего курса.
Он приехал в Москву из одесского училища и был учеником чуть не самого Костанди. Я видел одну великую картину Костанди. Может быть, у него были и другие великие картины, но одну я видел точно. На ней было изображено… Но об этом в другой раз, когда речь пойдет о композиции, о картине, не знаю, как и назвать то целое, для которого все остальное лишь подготовка. Я кончил рисунок.
- Врубелем увлекся?.. Зря… — сказал профессор. — Он многим головы заморочил.
И я вспомнил, где я видел нечто подобное. Только в двух работах Врубеля. Потом я нашел еще и третью, «Тамара на смертном одре» — черная акварель прекрасного лица с закрытыми глазами и «Всадник» — неистовый конь и пригнувшийся к гриве человек, тоже черная акварель. Потом, несколько лет спустя, я увидел, что лицо «Сидящего демона» написано так же. Остальное тело было написано обычно. Нужный цвет на нужном месте. По анатомии. Хотя какая у демонов анатомия — сравнивать не с кем. Но это потом, когда «Сидящего демона» наконец впервые после войны выставили в Третьяковской галерее, чтобы мы все видели. А тогда, когда я открыл эти «переломы», эту картину почему-то не показывали. Или я ошибаюсь?
15
Дорогой дядя!
Я назвал эти линии «переломами», потому что больше всего это было похоже на то, как если бы они возникали на стыке света или полутона или тени, то есть там, где форма, отворачиваясь от света, как бы переламывается.
Все так. Но я и тогда и теперь не умею объяснить, почему она переламывается, отворачивается от света одновременно где-нибудь у виска, в районе глаза, продолжается в углу губы и заканчивается на подбородке. То есть возникают ни анатомией, ни «обрубовками» не объясняемые, загадочные повторы, которые придают живой форме ритмическую законченность.
Речь идет о рисунке, то есть о черно-белом взгляде на вещи. Цветное мышление и нецветное — это отдельные дела.
Почему важно было об этом узнать? Потому что цвет с формой в картине спорит, и я наконец понял, почему, нарисовав форму даже переломами, я не могу ее выполнить цветом. Конечно, если я хочу получить живопись, а не раскрашенный рисунок. Но о цвете тоже потом. У него совсем другие законы.
Я сначала хотел было обо всем этом написать в подробностях и атмосфере тех давних времен, чтобы читатель как бы опрокинулся в собственную память или в чужую. Но я потом решил описать все это в атмосфере сегодняшних времен. А атмосфера сегодняшних времен — это, прежде всего, мысль. Но мысль в искусстве, в том числе и словесном, это не просто обработанная сознанием информация, а еще и образ. Поэтому она не «подготовительный рисунок к чему-то», а «искусство рисунка», его пафос, его стиль наконец. Поэтому я стал все описывать в стиле «искусства рисунка». Очень хочется дальнейшее выполнить живописно, краской. Однако истинный рисовальщик знает, что на каком-то уровне рисунок начинает вызывать ощущение цвета, он уже почти цвет, или, во всяком случае, его предчувствие. Это значит, что в человеке все связано.
…Я приехал в Ленинград. Первый раз в жизни. И вот — Эрмитаж. Тоже первый раз в жизни, а раньше — только репродукции.
Не хочу описывать первую встречу с подлинниками. А то расстроюсь, и будет не рисунок, а смазь. Ну, нет у меня кожи, нет. Ну, что поделаешь. Значит, я человек без кожи и должен это учитывать. Я и учитываю, как могу. Но все время, как дурак, поддаюсь на ласку. Я и сейчас думаю, что это высшее, чем человека можно одарить. А тут дело было чистое. Подлинники. Ласка в первом лице.
Да что там говорить. Я много чего пропускаю. Как стали меня хвалить за рисунок, как стали ругать за то же самое, за что хвалили. Как я рассказал нескольким ребятам, что к чему, и они стали лучшими рисовальщиками на курсе, и как стали у них портиться отношения с теми, кто теперь рисовал слабее. То есть я пропускаю все события, которые развивались по обычной мещанской модели. Упомяну лишь один незначительный случай, снова открывший форточку на свежий воздух природы и надежды. Был у нас один преподаватель, великолепный седой человек и художник что надо. Он говорил: художнику нужны три вещи. Первое — похвала, второе — похвала и третье — похвала. Но никогда не хвалил за ерунду. Он ее не замечал. Он считал, что она не заслуживает упоминания. Он разглядывал холст и говорил: вот в этом левом нижнем углу у вас прелестный кусочек. И все. Про остальное не говорил. Остальное художник делал сам. Но этот старик был с другого факультета.
Однажды он велел своим ученикам сделать по репродукции «Джоконды» рисунок ее рук. Скопировать в рисунке фрагмент картины. Это было необычное задание. Но старик знал, что делал. Ни у кого не получилось. Грубятина или жалобная растушевка. Тогда я одной его ученице рассказал про «переломы», показал их на натуре и опросил: видишь? Она сказала: «Вижу…» — и засмеялась. Я сказал: «А если попробовать?» — «А ты пробовал так копировать?» — «Никогда…»
Она попробовала. Вечером она позвонила мне по телефону. Она плакала и твердила: понимаешь, получается… понимаешь.
Я уже понимал. Кто видел руки «Джоконды», их тающую стройность, тот поверит, что никакой анатомией, никакими «обрубовками» этого не достичь. Только «сфумато». Ее рисунок вышел лучше всех, и старик смотрел на него с некоторым удивлением… Я пришел в Эрмитаж к открытию и знал, что уйду, только когда выгонят. Я знал, что и завтра поступлю так же. Денег у меня было скоплено на неделю такой жизни, и я знал, как ее провести. Поэтому я шел по залам, как подкрадывался, и пил из первоисточников, сколько хотел сегодня, без оглядки, без всякой систематизации по школам, временам и стилям. Художники, которые написали картины, меньше всего думали об этом. Я поступал так же.
В холсте Эль Греко «Апостолы Петр и Павел», в руке одного из них, в той, что кулаком опирается на стол, я спокойно увидел «переломы». Только несколько вытянутые по вертикали. Спокойно, потому что я уже знал, что механически превратить рисунок «переломами» в живопись невозможно. У колорита другие законы. Эль Греко их знал. Можно было только мечтать узнать не только их, но и как связать цвет с «переломами» в одно стилевое целое. Эль Греко это иногда удавалось, но, может быть, он не придавал этому значения? Я подозревал, что этот секрет знал Веласкес. Я подошел к Веласкесу. Нет. Ни в портрете «Филиппа», ни в «Оливаресе» я их не заметил. Ну нет, так нет. Но потом, после Ленинграда, я в репродукции с его «Мениппа», во фрагменте головы, увидел, что она написана именно так. Репин был без ума от головы «Мениппа». При полной свободе кисти полная выстроенность. Можете сами посмотреть на репродукции. Подлинника я не видел. Он в каком-то иностранном музее. Много лет спустя, на крупной фотографии с портрета брата Рембрандта, того, что в берете, поверх могучих мазков я увидел «переломы», сделанные лаковой лессировкой. Этот портрет есть в Москве, в Музее изобразительных искусств. Но в подлиннике я их тоже не мог разглядеть. Они видны только на очень крупной черно-белой фотографии. Но если положить рядом даже обычные цветные репродукции «Портрета брата» из московского музея и какую-нибудь рембрандтовскую старушку, или даже другой портрет брата, то московский откроет какую-то таинственную, чуть грубоватую стройность. А в других этого нет. Ну ладно. Хватит уклоняться. Настало время тихонько, не дыша, подойти к двум картинам Леонардо да Винчи, которые я обнаружил в Эрмитаже.
16
Дорогой дядя!
Конечно, я миллион раз видел и разглядывал репродукции этих картин — «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Лита» — тем более что к юбилею Леонардо, который справляли в 1952 году, вышли прекрасные книги. И я знал, что репродукции наверняка отличаются от картин. Но я не знал, что настолько!
«Мадонна Бенуа». Ранняя работа Леонардо. Я и на лекциях слышал, и читал о том, с какой нежностью молоденькая мать смотрит на ребенка и как замечательно правдиво это изображено. Я разглядывал репродукции и увеличенные фрагменты и силился что-то почувствовать, глядя на эту улыбку. Иногда даже что-то чувствовал, иногда нет. Клял себя за бесчувственность, потом надоело врать, и я освободился. Эмоции? Нет, не того ждешь от Леонардо. Изображать эмоции в картине? Это умели и другие. Некоторые даже лучше. Нет. От Леонардо ждешь другого. От него ждешь молчания, которое вызывает желание другой жизни. Теперь я свободно смотрел подлинник и испытывал почти то же самое, что и раньше. Конечно, все многократно лучше, но это мог и не Леонардо. Картина под стеклом была хорошо видна в рассеянном ленинградском свете. Она была на отдельном стенде, ребром к дворцовому окну. Мне все было видно.
Эмоции — такой же материал для искусства, как мысли, как вид за окном. Материалом для искусства может служить все. Само же искусство есть нечто неуловимо другое. Искусство может изображать что угодно. Важно, что оно вызывает. А эмоции лишь верхний слой. Я однажды разозлился, доказывая это, и сделал фотографию старухи, которая что-то яростно и горестно кричала. Я показывал это фото и художникам и нехудожникам, тогда их еще называли «лирики» и «физики». Все говорили: «Вот она, правда! Как это тебе удалось подглядеть? А ты еще доказываешь, что эмоции — это верхний слой!» Но потом все обиделись, когда я рассказал, в чем дело. Я сфотографировал старуху, когда она зевала.
Потом я обогнул стенд и увидел вторую картину Леонардо да Винчи. «Мадонна Лита». Освещение было уже чуть хуже. День угасал. И тут меня это настигло.
И я увидел. Боже мой, я увидал! Вот, оказывается, кто такой Леонардо да Винчи, вот, оказывается…
В репродукции эта картина меня попросту оставляла холодным. Жесткая лаконичность, безвоздушность, отчетливость. В «Мадонне Бенуа» мне нравилось хотя бы девическое лицо. Мне нравились круглые лица, как у ребенка. А эта была неумолимо взрослая и довольно носатая. Правда, так правда. Чего уж там! Я стоял перед подлинником. Я только мысленно бормотал: «Господи, мальчик мой…» — и не знал, к кому это относится — к ребенку на картине, к Леонардо или ко мне… Потому что я человек и не все могу вынести. Я слушал и слушался чванных нахалов с кистями, которые полагали, что Леонардо устарел, и ученых, которые арифметически доказывали, что шум из-за Леонардо преувеличен и что подлинная «Джоконда» не луврская, а та, которая висит в Эрмитаже и называется «Флора», огромная, ученическая, старательная, со складками, как макароны. Ну хорошо, я видел только репродукции, но они-то разглядывали подлинники! Я стоял перед «Мадонной Литой» и прощался с живописью. Потому что так мне не суметь, а по-другому не хочу.
Но я поклялся, что когда-нибудь опишу все это. Видно, сроки пришли, и теперь я это исполняю.
Я тогда не знал, что прощаюсь не с живописью, а с пошлой уверенностью, и с чепухой определений.
Но надо все же сказать, что я там увидел. Основное понятно. Я увидел «сфумато»…
Может быть, самое начало его у Леонардо?
Может быть, поэтому и можно было его разглядеть?
Да, оно было выполнено «переломами». Но этого мало, если бы только это, я бы лишь уверился в своих силах. Я увидел, что эти непонятные «переломы» принадлежат не только натуре, но и могут работать как стиль. Вот так. То есть они не предрешают индивидуальную манеру автора, не сковывают его руки. А значит, открывают простор. Но главное не то, что я увидел «переломы» и их ритм, который не изображал эмоции, а вызывал в душе молчание, которое предшествует желанию. Главное было то, что «переломы», которыми было выполнено нежное тельце малыша, обернувшегося к зрителю, были не те, которыми рисовал я. Я рисовал их темными волосными линиями, то есть тенями, а Леонардо да Винчи писал светом. Вот какая штука.
И это был не стиль, не манера. Световые «переломы» он видел в самой натуре. А значит, световые «переломы» — это иной взгляд на вещи. Это было пророчество всей дальнейшей живописи. И не только живописи. Это было мировоззрение. И не только оно. Это было превращение его в дело.
Я тогда не так отчетливо про все это думал, но я уже видел — это так. Я видел, как Леонардо да Винчи, выдумщик машин, перешагивал через них и восходил к человеку, светом вылепляя то, каким он может стать. И тут я заметил нечто, чему не поверил даже.
Случайно я обратил внимание на табличку под картиной. И после названия «Мадонна Лита» и подписи «Леонардо да Винчи» в скобочках стоял знак вопроса. Маленький такой, житейский знак вопроса, который означал, что кто-то сомневается, что Леонардо да Винчи писал эту картину. И наверно, он приводил доказательства, и, может быть, даже алгебраические — всякие там года, и даты покупок, и имена владельцев, доказывая свои права на этот вопросик и на эти скобочки. В то время как достаточно было просто смотреть на картину, и становилось ясно, что, кроме Леонардо, ее попросту некому было написать. Некому.
Забегая вперед, скажу, что я потом много и долго орал против этого вопросика и этих скобочек, потом я узнал и очень скоро, что этот вопросик в скобочках наконец-то убрали те, кто видел, а не занимался выкладками. Я долго тешился, что, может быть, их убрали потому, что я орал, что, может быть, это была последняя капля. Но потом я утешился более простым объяснением — сами дозрели. Но я горжусь, что в этом участвовал.
А сейчас я стоял, и меня малость колотило. Это потом чувства, или, как их величают, эмоции распадаются на два внешних проявления: на смех и слезы, или, если хотите, на смех сквозь слезы, как придумал Вийон, а потом многие повторяли. А покамест меня бил, я бы сказал, непроанализированный колотун. И дико хотелось курить. Как мог быстро, я помчался в курилку, скользя на натертом паркете, делая хоккейные виражи и огибая острова экскурсантов, которым сообщали век, школу художника, кто с кем боролся и в каком стиле, и кто на ком был женат. Слава богу, курилка! Дым, дым. Я курил, и меня отпускало. То, что я нашел, было неизмеримо больше того, что я потерял. Есть великое искусство! Суверенное! Ничего с ним не сделаешь!
17
И мы, взяв у Ольги Андреевны свои билеты, вошли в свой вагон.
Перрон был высокий, и мы не поднимались по ступенькам, а просто шагнули.
Чутье мне подсказывало, что на этот раз поезд идет в нужном направлении.
Глава вторая. Бессмертная обезьяна
18
Дорогой дядя!
Когда они начали входить в вагон и стали идти по коридору, отыскивая свои купе, я подумал: «Господи, я же их никого не знаю».
Останин стоял в дверях купе, а я спиной к коридорному окну. Все шли, протискивая вперед чемоданы, и Андрей Иванович со всеми здоровался, он-то всех знал. Ну, ничего. Всего трое суток, и потом я повидаю новые места. Я никогда не был в Тольятти.
- Здравствуйте… Здрассте… Очень приятно…
Кому-то кланяюсь, с кем-то обменялся взглядами, с кем-то познакомил Останин.
- Познакомьтесь… Это Панфилов.
- Очень приятно.
А я стою спиной к окну и опять чувствую идиотские страдания оттого, что люди идут, а я фактически стою у них на дороге. Я бы, конечно, перешагнул коридор и оказался в дверях купе, но тогда я уткнусь в живот Андрея Иваныча, и мы будем стоять, обнявшись, как какой-нибудь фонтан на сквере, и он будет через мое плечо приветствовать идущих, а я буду глядеть через окно купе на перрон, где идут люди, а я на перроне уже был, и мне там неинтересно.
Потому что я уже еду, еду куда-то, уже второй день еду, все думают, что я стою в коридоре стоящего поезда, а я уже еду, как отцепленный вагон на рельсах, который, если его долго толкать, то кажется, что он стоит на месте — такой он тяжелый и железнодорожный, и как может один человек столкнуть вагон, и рельсы серые от серого неба, и дождь моросит из серых облаков либо на затылок, либо на поднятое лицо, и на серой водокачке сидит серая недоуменная ворона, — и когда ты перестаешь толкать вагон, поняв нелепость своего занятия, ты вдруг, сделав шаг в сторону, видишь, что колеса его, нет, вы не поверите, какие-то особенно чугунные и монолитные колеса его медленно проворачиваются, и вагон уже едет. А ты думал, что только топтался и пыхтел возле него, а вагон уже едет, и теперь его так же трудно остановить, как было привести в движение. И ты идешь рядом с ним, а колеса вращаются все быстрей, и ты еще успеваешь влезть на подножку, и мимо тебя проплывают Прекрасные Серые Поля с Ржавой Прекрасной Травой, и в Сером Прекрасном Небе Летит Смешная Ворона, Недоуменно Всплескивая Серыми Крыльями!
А это наш поезд уже пошел. А это я сижу в купе напротив Андрея Иваныча и парторга, и Останин достает бутылку сухого и еду. А колеса вежливо постукивают. А за окном редкие строения, и высоковольтные провода разлиновали облака и небо нотными строками, и ноты песни еще не записаны, но только песня зреет. А мы уже уехали из Москвы в Тольятти. А я и не заметил. А это не ошибка, что все фразы начинаются на букву «А», и не надо фразы исправлять и разнообразить. А это у меня рот разинут, и я дышу, чтобы не задыхаться, настолько все происходящее прекрасно.
- Гошка, закрой рот, — говорит Андрей Иваныч. — Держи.
И протягивает мельхиоровый стаканчик, хлеб и холодное мясо.
- Гошка, очнись! — говорит Андрей Иваныч. А и он не знает, что я очнулся.
19
Дорогой дядя!
Что-то там было в молодости, кроме ужаса войны и ужаса вожделений.
Что-то такое, что должно быть сохранено. Что же?
Беззаботность.
Странно, правда? И это при том, как все было, и о чем все помнят.
С фактами на руках и цифрами мне докажут, что отвратительного, жестокого, страшного, несправедливого, смертельного, гибельного было столько-то и столько-то. И я возненавижу.
А потом вспомню душой и не соглашусь.
Было и еще что-то, к чему и сейчас душа стремится.
Память подсказывает — помни, помни. И я помню. А глубинное чувство поет всем доказывающим: «А пошел ты!..»
И я тогда в душе реставрирую, так сказать, не квартиру, где я жил, а ее картину. Я тогда восстанавливаю в квартире то, что меня в ней делало беззаботным. Что именно?
Возможность работать авралами.
Странные вещи я говорю по нынешним временам, уважаемый сосед, когда дай бог ритма добиться и элементарного порядка? Правда? Правда, да не вся.
Потому что речь не о вынужденных уродстве и торопливости, когда латают прорехи. Но и монотонность годится только для робота. И, слава богу, кажется, к этому идет, к робототехнике. А человек всегда в понедельник работает хуже, чем в среду, и дальше начинает ждать субботы.
А когда бывает не так? Когда законом жизни утвержден аврал: работать — так запоем, гулять — так взахлеб.
Тогда это называется энтузиазм. А что за работа без энтузиазма, что за гулянка? Даже гулянка? Ага. Иначе от нее остаются два варианта. Либо: Экстаз, судорога, «беби, сожжем мосты», «гуляй, рванина от рубля и выше», «ой больно! Атас! Патрули!» «Быстро отцу звони, у него мохнатая лапа»… Пусти руку! Руку пусти! Я заявлю протест в ООН! Куда труп дели?.. Какой труп, вы в своем уме? Да вы знаете, кто мой отец? Знаю. Такой же.
А можно и так гулять — парами. Тут посидели, там прошлись, в карты поиграли и в шашки, прокатились на колесе. Але, Мила? Приходи с мужем и подругой. Кроме нас, будет еще пара… А посидим. А потом? А хоть вечер без детей… А потом? А кто как сумеет… А между прочим, придет Рудик… Что? А тогда не приходи с подругой… А давай я к тебе заеду? И привезу? Муж дома? А ты скажешь… Что?.. А ты скажешь… Что?.. Скажи прямо — звать Рудика или нет?.. А можно, знаешь как сделать? Муж останется у нас, а я тебя домой провожу. А? Унылый кобеляж.
«Лунную» играют… Чье-то сердце за ней летит… Потом «Пер Гюнт», песня Сольвейг… Зима пройдет, и весна пролетит… Завянут все цветы… И ты ко мне вернешься… Когда-нибудь станут работать авралами.
А что особенного? Скользящий график по предприятиям. Компьютеры вычислят. Полмесяца подготовка, ремонт, подтягивать тылы, а потом красная ракета — атака, ура! Пошли, родимые! До удали, до горячего взрывного пота, до устали, до запоя, себя не помня, беззаботно… Ура, победа!.. А потом — столы в полкилометра, в складчину, с оркестрами, с диксилендами, с премиями, с проводами на пенсию, со свадьбами — кому что по сезону… На одном конце стола «Рябину» поют, на другом — «скинь туфли узкие». А тут и я с краешку с дудочкой сижу и плачу, иногда играю на дудочке… Почему так уворачиваются от коммунизма, уже тысячу лет уворачиваются — я понять не могу. Когда коммунизм — самая простая вещь на свете. Прошлого не переделаешь, повлиять можно лишь на будущее. Но в прошлом была не только жизнь, а был еще и ее Образ. Образ беззаботности, энтузиазм, святой аврал, не моторное жужжание, а ритм сердца.
20
Я очнулся, дорогой дядя. Но не только потому, что и все помню и мне есть с чем сравнивать, а и потому, что все подтверждается.
Я еду в город Тольятти, где я никогда не был, но в городе, который стоял на месте нынешнего, я был. Однако это было очень давно.
Я заметил за собой, что читать правду я иногда люблю, а писать — нет.
И так нахлебался всего — вспомнить тошно, а писать — просто с души воротит. И я думаю - как же быть? Правду читать люблю, а писать — нет. Остается врать? Тоже как-то срамно. А полуправда — это все равно, что наполовину настоящая трешка.
Что это означает? Надо судить фальшивомонетчика. Но вот что значит «вся правда», не знает никто. Жизнь неисчерпаема.
И я решил так. Если читать правду интересно, а писать не хочется, если врать не хорошо, позорно, а полуправда — это фальшивая монета, то я перейду на азбуку Морзе. «Точка, точка, тире… ночка ужасов… мы выходим на рандеву»… «А потом похоронные „дугласы“… нас привозят домой в Москву» — как в разведке. Пережил, узнал, вытер кровь, слезы и сопли и сообщил: «Так-то и так, врага видел в лицо, его тошнит от страха. Поэтому ждите жестокости и подлых вывертов. Маски меняются, позы — тоже. Мотивы остаются прежние — страх демонтажа, и кушать хочется сверх человечьей меры». В общем, без лаконизма поэзии и абсолютности Образа не обойтись. Но про своих я буду писать светом, световыми «переломами», как Леонардо да Винчи, потому что для этого гениальности не требуется, а только зоркость и любовь. Потому что «переломы» не выдумка, а принадлежат натуре и в ней отысканы. И если у меня не хватит живого времени, упрямства и таланта, что ж, по крайней мере, я буду знать, что я старался. Дверь в купе была нараспах, и вошла Ольга Андреевна и не только не стала ханжить из-за наших невинных рюмок, а улыбнулась своей знакомой до ужаса улыбкой и стала вынимать из свертков домашнюю и покупную еду.
- Мальчики, — сказала она, — у вас, наверно, еды нет.
И умчалась смотреть, как там в других подопечных купе.
Ты прекрасно знаешь, товарищ, что человек счастлив, когда ему есть кому и чему сохранять верность.
Нас немного, кто знает это определенно, но многие чувствуют, и каждый убеждается в этом на деле. Но реальная жизнь показывает человеку ежедневно, что со своей верностью он дурак.
И не только потому, что другие от этой верности совершенно очевидно отказались и живут, как им кажется, припеваючи, — это называется цинизм. И не только потому, что он сам, который верный, нет-нет, да и гульнет втихомолку, а потом трясется, как бы не пронюхали, это называется — совесть. А главным образом потому, что его верность используют ему же во вред.
И по прохождении времени он оказывается на пустом берегу и дышит, и хватает ртом воздух, и клянется себе не быть дураком.
Но так как он все равно хочет быть счастлив, то он, отдышавшись, снова ищет, чему или кому он бы мог сохранить верность.
Зачем ему эта хреновая верность, он и сам не знает, но он видит, что без нее он несчастлив.
Речь, конечно, идет о нормальном человеке, а не о жреце.
Жрец, это тот, кто жрет. Это не острота, как думают многие, а буквальный смысл. И «жертва» это «жратва». Справьтесь в этимологическом словаре. Все остальное — метафоры.
И человек видит, что жрец жрет его верность и его самого, и не хочет быть жратвой. Но и жрецом быть не может, так как ему стыдно есть незаработанный хлеб или людей. Что есть стыд?
- Может быть, совесть? — спросили одного рабочего древней закалки.
- Нет, — сказал он. — Совесть — это уже сознательное… А стыд есть рвотное движение души.
Стыд есть рвотное движение души. Есть вещи, которых нельзя делать. Речь, конечно, идет о работнике в любой области. Потому что все остальные — ублюдки. Сэр, я так и не выяснил, откуда берутся ублюдки. Они бывают всех мастей — от извергов до обсосков. Может быть, это генетические уроды, а может быть, ими становятся сознательно, а может быть, это древний род живых существ. Ведь и у растений каждый новый выведенный сорт родит новую расу паразитов. Это открытие сделал великий академик Вавилов.
Недавно показывали по телевизору вампиров. В кадре — ночь. Стоит привязанный к изгороди латиноамериканский осел, и к двум его задним ногам, сложив крылья, медленными, копошащимися толчками подбираются два небольших вампира. Молниеносный надрез-укус, и кровь течет, не сворачиваясь, и совсем — совсем не больно, и можно слизывать.
Самое страшное и отвратительное — оказалось, что у них добродушные мордашки.
А потом показали лицо саранчи крупным планом. Жвалы ее двигались, она непрестанно жрала, а передние лапки ее делали молитвенные движения.
Господи, сколько же гадов на земле.
Но дети родились в условиях, которые сложились до них.
В январе, где-то на Диком Западе, появилась молодежная мода на рубахи с надписями: «Убивай и правых и виноватых. Господь потом их рассортирует».
Этим засранцам кажется, что эта мысль пришла в голову кому-то «из своих». Увы. Они ошибаются. Эта фраза принадлежит средневековому аббату Мило, папскому легату, который вел войско против мятежного города альбигойцев. Это он изобрел чудовищный лозунг: «Не бойтесь, режьте всех. И католиков и еретиков. Господь отличит своих от чужих».
Интересно, что господь бог все же праведников выделял — и Ноя спас во всемирном потопе, и Лота, когда казнил Содом и Гоморру. А церковь и господа бога отредактировала. Интересно, какие распоряжения она отдает сейчас, когда Великая Американская Мечта потихоньку превращается в шизофренический крестовый поход, а Белый дом в Желтый.
Что это? Куда ушло наше восхищение Америкой? А мы многим восхищались. Мы восхищались джазом, даже тогда, когда какой-то тронутый пустил пулю, что «от саксофона до измены родине один шаг». Но это была другая Америка, а джазы играют теперь по Центральному телевидению. Мы восхищались Америкой, когда на вопрос анкеты: «что вам нравится в американских фильмах?» — великий режиссер мог ответить: «их доброта». Но это была другая Америка, и шли фильмы «Седьмое небо» и «Судьба солдата». Это, конечно, была та же Америка, но все же тогда обезумевший старик не имел возможности нажать превентивную кнопку.
А чем восхищаться теперь? Тем, что в их универсамах, по слухам, двести сортов колбасы? Но ведь на это как раз и ушло двести лет. И вся мечта? Мы об Америке думаем лучше. Поезд подошел к Рязани.
И мы, как выяснилось за это время, литераторы самых различных школ и направлений, с ба-а-альшой уверенностью трижды и негромко сказали — ура… ура… ура… за то, что Есенин братьев своих меньших никогда не бил по голове. Такая колбаса.
Самые последние известия: Есенин родился на Рязанщине. Хотелось сообщить эту новость лучшей девочке Америки — Саманте. Но она не выжила среди двухсот сортов колбасы и теперь уже не станет президентом. А то мы избрали бы ее. Такая колбаса, сэр.
21
Дорогой дядя!
Мы были такие разные в этом купе, куда постепенно втискивалась вся делегация. Я же их никого не знаю — ни в лицо, ни по фамилии — так я тогда был уверен. Первым стремительно появился светловолосый, с крепкими скулами, дерзко сощуренными глазами и такой же улыбкой. Сел рядом со мной и запел: «Кони сытые бьют копытами». И мы все подхватили. А чего ж нам не подхватить? У каждого из нас насчет этой песни своя горечь и свой вызов.
Я кончил Художественный институт через год после того, как Сталин умер, стало быть, более тридцати лет тому назад. И я был на площади в день его похорон. Венки, венки, прикрытые снегом. Тогда вдруг снег пошел. И я увидел неподвижные фигуры и внутреннюю жизнь людей, стоявших молча у венков в снегу. И я увидел групповой портрет эпохи. Я, конечно, взял это видение на диплом и принес эскиз. У меня его сразу же зарубили. Впервые тогда все услышали что-то о культе личности.
Тогда я взял на диплом про то, как Ломоносов с обозом идет с севера в столицу. И принес эскиз, который мне тоже зарубили по той же причине.
- Культ, говорят, личности.
Тут я впервые почувствовал неладное.
Ломоносов, его личность, меня лично устраивали во всем, даже его личный способ выражаться — что естественно. Так как он один из тех, кто создавал язык. Он сказал, когда Венера проходила мимо Солнца: «На краю Солнца появился пупырь». Я лично от этого пупыря хохотал до слез. Теперь бы нашли какой-нибудь термин из древнего или зарубежно-престижного языка, который в переводе все равно бы означал древний или престижный пупырь.
И я хохотал, представляя себе, как члены жреческого сословия поеживались от этого «пупыря» и почесывали свои латино-терминологические глютеусы. Нельзя же, в самом деле, чтобы гоф-кригс-приват-адъюнкт-профессор почесывал себе задницу! А глютеус — это звучит.
Я честно ездил в запланированные поездки и собирал этнографические этюды для одежды и обоза, у меня и сейчас валяются рисунки розвальней и кокошников. Но и этот эскиз зарезали.
- Культ, говорят, личности.
А у меня лично и был культ этой личности, и я лично не понимал, почему я на это не имею права. И я был в растерянности.
Я, видно, чего-то не понимал. Начиналась буря политических страстей и жуткая информация, которую не отбросишь и глаза на нее не закроешь, и надо было уцелеть душой, потому что «мы работники всемирной», а «паразиты — никогда», и это не отменяется, потому что если это отменить, то пропадет последняя надежда человечеству уцелеть, и дети, которые родятся в условиях, которые сложились до них, будут звереть от страха, а страх перед воображаемой опасностью — это и есть то зло, с которого начинается реальное злодейство. Но разбираться во всем этом было все трудней, так как из отрицания образовывалась профессия. И вот уже нехорош Ломоносов. Ломоносов! Тогда я подумал — может быть, они потому не хотят его, потому что он все-таки начальство и президент всех академиков, и это где-то в каких-то кругах раздражает и выглядит, ну не знаю, как сказать, не демократично, что ли! Ладно, думаю. Обращусь к такой фигуре, которую по всем вычислениям параметрологов и определителей ни к какому культу не отнесешь.
Был у меня такой человечек, от личности которого и от его судьбы душа сжималась — Икар. Но не мифический, а реальный, исторический, летописный, тот самый холоп, который прыгнул на созданных им самим крыльях и упал, и был смят временем и испугом жрецов, и крылья его были сожжены под формулу — «человек — не птица, крыльев не имать». Тут, думаю, никто ничего сказать не сможет. Сказали.
Не сразу, правда, но сказали. Видно, долго аргументы подбирали, потому что сказали уже дома, когда я институт закончил, и кому-то остро не понравилось, что вот он сейчас полетит, потому что он личность.
То есть я вдруг понял, что где-то созрела достаточная злоба не на культ, а на личность.
А я в то время уже понял, что личность — это кто нашел свое место в жизни и занимает свое место в жизни, а не чужое. И это первый признак личности, а может быть, выяснится, что он главный. И тогда он занимает свое место, как нота на своей строке. И тогда он может быть кем угодно — и вождем, и ученым, и токарем — кто к чему предназначен своей природой и условиями, которые хотя и создались до его рождения, но для которых он годится лучше всего. И если он об этом догадался, то он все равно — крылоносец. И не бескрылому об этом судить и насмехаться.
А светловолосый, поблескивая рысьими глазами, рассказывал неизвестные мне истории из жизни военных вождей отошедшей войны и рассказывал так хорошо, что я только рот разевал, и было понятно, почему они в отошедшую войну были на своем месте. И я восхищался его восхищением и думал, что моя натура для него — мягкотелый и слюнтяй. И я захохотал от такого предположения, потому что очень многие думают, что мужественный — это который лязгает. И в этом их давнишняя ошибка. И роковая.
- Андрей Иваныч, этот человек все знает, ну буквально все! Кто это? — вскричал я, мужественно сверкая глазами. — Слушай… Ты кто?.. Как твоё фамилиё?
- Вацлав Жогин, — обернулся он ко мне. — А твоё фамилиё?
- Панфилов, — говорю.
- Гошка?! — закричал он.
- Ну да, — говорю. — Вот какие дела, братишка, вот какие дела.
22
Дорогой дядя!
Если бы собрать со всех материков все храмы, часовни, алтари, молельни, церкви — от малых самых до огромных, — выстроенные из кирпича, камня, высеченные в скалах и нынешние бетонные — по всему миру за тысячи лет, с мириадами скульптур, с живописью, драгоценными украшениями, и прибавить к этому все храмы, погибшие от времени и от людей, и когда соображаешь, что все это посвящено тому, что принято называть сверхъестественным и небывалым, то хочешь, не хочешь, а приходишь к мысли, что все это неимоверное, немыслимое, невероятное, невообразимое количество труда, пота, крови и слез — все это — как бы впустую потраченное людское время, богатство и энергия должно было иметь некие реальные причины.
Не настораживайся, сосед, речь пойдет не о сверхъестественном.
И если нас не устраивает понятие «бог» ввиду его полной недоказуемости и явного невлияния на все людские дела, то остается только два объяснения всему вышесказанному.
Либо люди, по древней памяти, пытались, как умели, воспроизвести то, что было до них, то есть слухи о какой-то сверхдревней цивилизации, неведомо как и почему исчезнувшей или сверхотдаленной, либо все это посвящено одной тайне. И эта тайна называется — сон. Что такое сон, эта вторая половина человеческой жизни, — не знает никто. Не знает ни медицина, ни физика, ни философия. Все объяснения рушились одно за другим. Но как бы ни объяснять сон, важно одно — он есть, он зачем-то нужен человеку (это доказано физиологией), он влияет на обычную жизнь, и значит, он есть реальность. Он есть реальность и как реально существующий процесс, и как нечто материальное, потому что мы этот процесс видим, видим сны. То есть к нему полностью относится определение материи — объективная (то есть не зависимая от нашего сознания) реальность, данная нам в ощущении.
А вместе с тем — сна нигде нет, кроме как в нашей голове, по крайней мере, нам ничего об этом не известно.
То есть, с одной стороны, сон не зависит от нашего сознания, и он существует как бы сам по себе, как некая реальность, которую мы лишь ощущаем, с другой стороны, это такая объективная реальность, которая существует лишь в нашем мозгу и нигде больше. Во всяком случае, воспринимает сон только наш мозг или какое-то другое человеческое устройство, и никакими другими способами или приборами содержание снов не обнаружено. Наличие сна обнаружено, а содержание — нет. Что (покамест, во всяком случае) исключает поступление образов сна извне.
Исключает ли в принципе? Пока неизвестно. Поэтому строить предположения не будем, потому что нас, опять же пока что, интересует другая сторона.
А именно, что есть природное явление, есть факт под названием «сон», и он обладает всеми признаками реальности, кроме одного — с ним нельзя вступать в контакт по желанию. Он приходит сам, развивается по самостоятельным законам, и созерцание его, его фабула, так сказать, не зависит от нашей воли.
Так спросим себя: может ли такое гигантское по своему значению природное обстоятельство, такой факт не влиять на сознание? А значит, и на действия человека? Ответ ясен.
Как бы ни объяснять сон, может быть, даже как обратное влияние сознания, вроде отката орудия после выстрела — сейчас это не имеет значения. Потому что речь идет о другом. Сейчас образованный, грамотный научно человек, то есть человек сознательный, смотрит на сон как на досадную помеху.
Но сны видят и дикари, и дети. Сны видят даже собаки. И приходишь к мысли, что, во-первых, сон в каждом отдельном случае — предшествует сознательному акту, а во-вторых, и это, видимо, главное — сон его и породил, породил у человека сознание, то есть способность к совместному знанию — со-знанию.
Но если сон действительно породил сознание, то человек стал человеком, когда один человек сообщил другому, что он видит сны, а другой подтвердил, что то же самое происходит и с ним. Должно же было это когда-нибудь произойти у дикаря, не обученного теориям?
То есть получается, что даже речь человеческая стала человеческой речью, а не набором криков-сигналов не только тогда, когда человек стал обрабатывать палку или камень (это делают и животные), а еще и тогда, когда два человека сообщили друг другу, что оба они видят сны и это неспроста. То есть со-знание человека, вполне возможно, пробудилось тогда, когда он осознал, что живет двойной жизнью — наяву и во сне.
То есть прежде, чем появилась мысль, обобщение, появился сон и наблюдение над ним. Наблюдение над сном. Все остальное известно из истории культуры и культов.
Я точно помню утро, когда это произошло.
Утро было пасмурное, когда все вороны, и небо, и заборы, и асфальт кажутся серыми. Я продрал глаза и в большое окно увидел, что все так и есть, как я сейчас вижу. Тупое и бесперспективное. И как быть?
А потом чувствую, что-то во мне зудит, не подходящее к обстановке, как ненастроенная струна на гитаре, которая случайно задета и мешает петь запланированную песню, и струну перестроить некогда, потому что на тебя смотрят и желают послушать известное и вчерашнее.
А надо сказать, что я до этого несколько лет жил в парнике (примечание: это — метафора). В парнике, где цвели экзотические помеси репы с ананасом, где были уверены, что подтекст — это лирика, и кто говорит «лонгшез», а не «шезлонг», тот, само собой и ясное дело, новатор (конец метафоры).
Я и раньше знал, что лирика — это то, что другим способом не выразишь, и компьютеру тут делать нечего. Но я не верил ни в какое «ретро» под любым соусом, и я не верил, что поэзия — это изысканный междусобойничек, фарфорчики-чики, порцеланчики-чики и маркизы с розовыми попками.
Короче, я верил в ослепительное крылатое одиночество и мужество первого шага. Короче, я верил, что поэзия — это не ностальгия по прошлому, а ностальгия по будущему. И тут я слышу, как во мне звенит ненастроенная эта струна, и догадываюсь, что это какой-то смех, и печаль, и вызов. И я почему-то сажусь и пишу:
Солнце село за рекой…И я вижу, что все мои раз-пере-высокие намерения разрешаются смехотворной частушкой, которая в истории словесной культуры идет в примечаниях, хотя уже давно неясно, почему.
И тут во мне поднимается какая-то непонятная обида и защита чего-то главного, о чем иначе и не скажешь, и я пишу вторую строку:
За приемный, за покой…И я вдруг догадываюсь, что это и есть начало нового пути. И передо мной возникает видение, дневной сон, и я не сопротивляюсь.
Но чувство у меня тяжелое, как будто не я пишу, а мной пишут.
Я увидел его.
Солнце село за рекой, За приемный за покой. Приходите, санитары, Посмотрите, я какой! Горы лезут в небеса. Дым в долине поднялся. Только мне на этой сопке Жить осталось полчаса! Скоро выйдет на бугор Диверсант, бандит и вор. У него патронов много, Он убьет меня в упор! На песчаную межу Я шнурочек привяжу, Может, этою «лимонкой» Я бандита уложу! Пыль садится на висок, Шрам повис наискосок, Молодая жизнь уходит Черной струйкою в песок! Грохот рыжего огня, Топот чалого коня, Приходи скорее, доктор, Может, вылечишь меня!Я до сих пор помню, как это было.
Я ничего не воображал, я просто видел, слышал и лепил то, что видел, и записывал то, что слышал, и это пело во мне какой-то неистовой частушкой.
Потом я показал приятелю. Он прочел, потом довольно долго не говорил ничего. Потом сказал, глядя в пол:
- Вообще какая-то дикость… Все передается… Сидит на койке и загипсованную лапу качает…
Потом он ушел, а я стал думать: что-то он неточно сказал, а что — не пойму. Может быть, он не раненый, а у него душа контужена.
Балалаечку свою Я со шкапа достаю, На канатчиковой даче Тихо песенку пою.Так и написал потом. Попонятней. Два месяца начало искал. Потом придумал длинное название, фактически строфу в прозе. «Баллада о психе из больницы имени Ганнушкина, который не отдавал санитарам свою пограничную фуражку». Потом многие этот прием применяли. Потом музыку написал. Потом стал петь. Такие дела, братишка, такие дела. Неужели ты меня узнал?
23
Дорогой дядя!
Надысь, а может, даже лучше сказать, давеча, пришел ко мне незначительный эксперт из Воронежа. Он держался решительно и потребовал от меня четкого определения таких категорий, как трагедия, комедия и драма.
- А ортопедия? — спрашиваю.
- Такого понятия нет.
Он сразу стал называть меня на «ты» и, войдя, хотел снять ботинки. Но я не дался. Я не люблю амикошонства. Мне еще Прохоров Николай Васильевич, мой главный учитель живописи, в давние времена объяснил:
«Душечка, амикошонство — это такая дружба, когда тебя обнимают голой ногой за шею и шевелят у носа пальцами».
- Я жду, — сказал он.
- Трагедия, говорю, это показ того, как человека затянуло и зачавкало в машину… Комедия — как человек из нее вывернулся… Драма — о том, как человек выворачивался, но и его затянуло более или менее… А, так сказать, ортопедия — о том, как человек над машиной смеется.
Он осознавал.
- Ну и что же, по-твоему, есть искусство? — неожиданно игриво спросил он. — Я требую формулировки.
- Пожалуйста, говорю. Искусство — это то, чего не могло быть, но было, и что могло быть, но не было.
- Вот как… — задумчиво сказал он.
- А все эксперты приветствуют противоположные воззрения, — говорю. — Но теоретически приветствуют, не любя, зевая от скуки на самых высоких нотах, ибо самим читать неинтересно. Однако не сдаются и ждут, когда придет окончательный реалист и все уладит без вышеуказанных формул.
- От формалиста слышу, — сказал он.
- Формалист — это пустомеля, компьютерщик, — говорю. — А в вышеуказанных формулах бездна содержания. Если не понимаешь этого — не липни… Толстой и Шолохов реалисты?
- Могучие, — быстро ответил он.
- А почему?
- Да, почему?!
- Потому что ни Анны Карениной, ни Аксиньи не было.
- Как это не было? — ошеломленно спросил он. — А, впрочем, никто и не утверждает, что они были. Но были их прототипы.
- Вначале и прототипов не было, — говорю. — Они образовались позднее. Во время работы.
- А что же было?
- Видения, — говорю. — Видения… Сохранились признания Толстого и Шолохова — по телевизору мелькнуло в разное время. Однажды Толстой, лежа на кушетке после обеда, вдруг увидел локоток, туго обтянутый шелком, а потом и все остальное. А Аксинью до сих пор разыскивают по окрестным хуторам, хотя Шолохов прямо сказал, что Аксинью он выдумал. Но если ни Анны Карениной, ни Аксиньи не было, то над этим фактом стоит хотя бы задуматься.
Он задумался.
Потом он разнес меня в статье под названием «Клумба на опушке». Название мне понравилось. Это будет название для одного из следующих романов. Художник пишет не натуру, а образ ее, то есть свое видение о ней.
Когда художник говорит: «Я так вижу», то это не значит, что он видит нос, обведенный синей краской, а это значит, что он видит картину, в которой так будет. Это его видение, подсказанное натурой. Эксперты говорят — вúдение художника, а не понимают, что это — видéние. Одно ударение-поправочка, и смысл правды ушел, и обучают липе. Кому дано видеть виде ния, тот пишет, не дано — учит. А как научить видеть образ, дневной сон? Уже давно литература, как говорят, «обратилась к жизни», и всякое там про богов, и неумолимая фантастика — это не очень серьезно и граничит с баловством. И у кого больше похоже на жизнь, тот лучший писатель, а у кого меньше — тот, соответственно, худший. При этом, правда, не очень понятно, как быть с Гомером, Данте, Рабле, Сервантесом, Вольтером, Апулеем, Щедриным, Лесковым. Свифтом, Стерном, Гоголем, Гофманом, Гашеком, Ильфом и Петровым, Булгаковым, Шарлем де Костером? То есть как быть с авторами книг, где рассказано то, чего явно не бывает? Как быть с Шекспиром? Наконец, как быть с Пушкиным?
А мы все это слушаем, и дети наши получают двойки за неправильное изложение метода реализма по каким-то там учебникам, каких-то экспертов, которые не то что про Анну Каренину или Аксинью, собственную анкету не могут заполнить без выдумок. Потому что если взять любую анкету в отделе кадров, то каждый анкетированный в ней — герой и молодчинище. Ну, посудите сами, разве была когда-нибудь анкета, где бы на вопрос о профессии кто-нибудь решился написать: профессия — жулик, или — барыга, или — карьерист, или — профессиональный слюнтяй. Не было таких анкет и, наверное, не будет. Но бог с ними. Я это к тому, что если даже два самых могучих женских образа у двух самых великих реалистов получились оттого, что авторы списали их не со знакомых дамочек, а с тех видений, которые перед ними возникли самопроизвольно и лишь потом обросли подробностями, то над этим случаем, повторяю, надо хотя бы задуматься. Потому что это означает, что реализм в искусстве без видений невозможен. И что если человеку дано это свойство — видеть образы, взявшиеся невесть откуда, то он реалист, а если он видений не видит — он мемуарист, публицист, социолог, психолог, экономист, мыслитель, кто угодно, трепач, наконец, но он не художник и потому не реалист. Потому что реалистом может быть только художник. А художник — это тот, кто способен видеть видения.
Неужели непонятно?
Вы скажете — а как же портрет, например? Ведь живописец пишет человека с натуры? А вы спросите Рембрандта — кого он писал, Гендрикье Стоффельс или видение картины под таким названием? Ах, да… Рембрандт уже умер… Ну тогда поставьте рядышком портрет Гендрикье с фотографией самой красивой барышни… Поставили? И все прояснилось. Никак не поймут, что искусство участвует в жизни особенно. Что оно не обслуживает повседневную или теоретическую жизнь, а само есть вторая половина жизни. Никак не уравняют художника в правах с остальными людьми, у каждого из которых не только свои идеи и нужды, но и свои видения — сны, какие ему положены, и никакой эксперт не подскажет, какие сны он должен видеть.
Знаменитого художника Корнелиу Баба, реалиста, кстати сказать, один ангел спросил с торжественной подковыркой, кивая на его картину:
- А пусть товарищ Корнелиу Баба скажет нам, откуда идут эти крестьяне и куда? Старик поглядел на ангела неприязненно и рявкнул:
- Они идут из левого края картины в правый край картины! Петрову-Водкину другой идиот сказал:
- В жизни эта женщина не может так стоять, она упадет.
- Не бойтесь, — ответил Петров-Водкин. — В картине этого не случится.
Оставим искусству хоть часть души человека. И тогда искусство займется своим прямым делом — писать небылицы, в которых правды и величия больше, чем в этнографии. Для всего остального уже давно есть газеты, документальное кино, радионовости, программа «Время» и многое другое, а будет еще больше. Что изобретут, то и будет. Оставьте искусству хоть часть души человека, живущего не только для того, чтобы жрать. Потому что, если не поднимать настроение человека, то он скиснет и ему никакая задача не по плечу.
Тысячи, а может быть, десятки тысяч лет армия художников чем-то ведь занималась таким, что кому-то доставляло радость? Больше того, за это платили хлебом и золотом. Больше того, сам художник часто помирал в нищете, а его произведениями платили государственные долги.
Господи, да ведь это же ясно, что если бы собрать все деньги, которые заработали все комментаторы Гомера, все исследователи, все переводчики, все филологи, все инсценировщики, все изготовители этикеток сигарет и пива, все создатели оперетт, все пародисты и все издательства, которые миллионными тиражами выпускали все это, то цифра получится если не астрономическая, то, по крайней мере, гомерическая. А я уже слышал по телевидению, что Гомер — это первый военный журналист.
Шлиман — великий археолог, но, извините, Гомер не потому Гомер, что Шлиман отыскал в Трое царские шмотки.
Больше того, зарабатывали даже те, кто доказывал, что Гомера не было.
Так неужели художники настолько ничего не знают о своем деле, что не заслуживают быть хотя бы выслушанными?
Мои горячо любимые друзья и родственники считают, что мне платят деньги за то, что я лежу на диване. Мне всегда хочется им сказать: «Из-за чего шум? Ложитесь тоже».
24
Дорогой дядя!
Коля-паразит был любовником тетки и назывался «Друг». У тетки было весело, у нее была дочь, у дочери подруга. Коля-паразит называл их «девочки-плевочки». Я тогда не знал, что это такое, но они хихикали и не возражали. К ним приходила гордая круглолицая подружка. Она была полька, и у нее была какая-то не такая мать, и потихоньку сообщалось, что мать «гуляет». Интересное дело! А тетка?.. Я такой красавицы, как эта девочка, за всю жизнь так и не увидал. Всех остальных красавиц можно было описать — черты лица и прочее. А эту описать было нельзя — она была неописуема. Как облако. Где она? Что с ней было потом? Когда она шла под патефонную быструю музыку, которая называлась «Бимбамбула», все звенело и бухало, как будто сердце времени предвкушало решение всех проблем.
При других красавицах все остальное блекло, а при ней — расцветало. Я однажды прикоснулся случайно к ее голому локотку — было ощущение, будто в ладонь подул прохладный упругий ветер. Девочку-польку звали Яна.
Она была как бело-розовое облако. А как описать облако? Оно неописуемо. Хотя я об этом уже говорил.
Я думал, что знаю точно, как выглядит полька. Потому что я читал у Пушкина — нежна, как кошка, бела, как сметана — и все сыновья Будрыса вместо драгоценных добыч с разных сторон света привезли под бурками на конях жен из Польши. Я и сейчас завожусь, когда читаю это описание.
Но девочку Яну нельзя было описать.
Ее нельзя было описать, но в ней хотелось утонуть.
Какая-то пронзительная жалость охватывала меня, когда я ее видел.
Я вдруг понял тогда, какая могла бы быть жизнь, если бы во всем, что есть на белом свете, получилось бы такое чудо, как она, и такое ее движение по всем дворам, кварталам, квартирам и дорогам. Но для этого надо было, чтобы мир перевернулся, и люди перестали быть антиподами самим себе.
Но мир не переворачивался, а только все больше скрежетал, урчал и надвигался. И я тогда понял, что мир торопится погубить то, что хочет обеспечить. Но что было делать?
В каждую эпоху живет какой-то неочевидный человек, о котором потом узнается, что он был для этой эпохи главный.
Речь идет не о посмертной славе, а о непрекращающемся влиянии.
И я подумал — надо этого человека разыскать. Ну хоть в прошлом веке, что ли, ну хоть вчерашнего.
Я решил принять участие в постановке «Спящей царевны и семи богатырей», которую ставила учительница литературы. Сказка, конечно, но если ее написал Пушкин, то от постановки должно получиться что-нибудь хорошее. И придет девочка Яна и посмотрит. Я решил участвовать как художник и вообще.
На заднем плане было огромное окно кокошником, сделанное из ворот, которые мы притащили со свалки — откуда же еще? Я его раскрасил узорами. И за окном, тоже клеевыми красками, — пейзажи на обоях в три слоя — ненужный слой заворачивался наверх, каждый на свою палку. Фанерная русская печь и дырка внизу — якобы открытое поддувало. Все было очень натурально. Ну и реквизит кое-какой. Канцелярский стол, например, работал и за обеденный и за постель для царевны. Хрустального гроба не было, но был грот — щель, выпиленная зубцами-клыками из фанеры, расписанной под гранит, где якобы стоит этот гроб и где царевич должен был лобзать отличницу из восьмого класса, чтобы она, наконец, проснулась, и он бы ее оттуда унес для свадьбы в кругу положительных героев.
Первая накладка случилась, когда царевна, войдя на сцену, плавным движением сняла газовую косынку и не глядя положила на лежанку. Но так как вместо лежанки тоже была дыра, то косынка скользнула вниз, и ее сквозняком выдуло в другую дыру — якобы открытое поддувало. Царевна подумала, что она уронила косынку, и повторила маневр. Но — фьють — косынка выскакивает из нижней дыры. После четвертого раза в зале начали смеяться.
Потом мы сидели в классе, откуда был выход на сцену, и переживали. И тут кто-то говорит, что ученица-троечница, которая должна была играть говорящее зеркало — ты прекрасна, спору нет и так далее, — не пришла.
Была морозная пауза. Но потом раздался голос царевны-отличницы, которая догадалась ответить царице, что положено зеркалу. Она сказала весь текст и в красивом полуобмороке влетела в класс.
Мы перевели дух. Но тут кто-то опять вспомнил, что зеркало должно говорить еще раз. Все привстали, когда услышали голос. Зеркало говорило голосом лучшего математика школы и сильно картавило — ты пгекгасна, спогу нет и так далее. Тогда мы услышали овации.
Далее вспоминать страшно.
Когда, наконец, куснув отравленное яблоко, царевна умерла на столе, красиво уронив руку, то яблоко укатилось в зал, и маленький мальчик тут же схватил яблоко и стал его жрать.
Зал обрадовался и стал ждать, что из этого будет.
Пришли семь богатырей. На головах у них были парики, а на парики натянуты шлемы-шишаки из дерматина.
Увидев покойницу, они быстро сделали поясной поклон и, не выпрямляясь, стянули семь дерматиновых шлемов. Когда они выпрямились — волосы всех семи париков стояли дыбом.
В зале восторг.
- Отравленное яблоко! — фальшиво воскликнул один из богатырей. — Куда же оно закатилось?
В первом ряду зашипели:
- Отдай… отдай…
И мальчик положил на край сцены огрызок.
- Вот оно! — торжественно воскликнул один из богатырей и схватил огрызок.
И все семь богатырей, с торчащими дыбом париками, сгрудились вокруг огрызка и, видимо, обсуждали — когда же покойница могла сожрать все яблоко. Это было неописуемо.
Далее грот. Царевич Елисей и царевна зацепились вышивками за фанерные зубья грота, и Елисей никак не мог ее вынести.
Он поставил ее на ноги, и они, пихаясь локтями, стали отцепляться от фанерной пещеры и друг от друга.
В зале уже визжали.
И в довершение всего — тишина. Мы столпились в дверях класса и увидели, как вся задняя стена-окно, медленно, с воротным скрежетом, рушилась на сцену. Все штатские артисты столпились в середине и проткнулись через бумажный пейзаж, а богатыри спрыгнули в зал. Их там встретили как родных.
Первый раз я вздохнул свободно, когда узнал, что девочка Яна не пришла.
Дорогой дядя! Какова цель спектакля? Нет, я спрашиваю — какова цель спектакля? Чтобы зрителям было хорошо. Заметьте — зрителям.
Драматургу было хорошо, когда он писал, актерам — когда репетировали. И хватит с них. Спектакль — чтобы зрителю было хорошо. Его черед. Как справедливо заметил Зощенко, «задние тоже хочут».
Пушкину все равно, актеры приспособятся, но вот режиссер хочет, чтобы зрителю было хорошо только тем способом, который он для него постановил. Режиссер пьес не пишет, на сцене не играет, и чтобы без него не обошлись, он придумывает концепцию. Поэтому уже давным-давно зритель видит не пьесу, не актерские радости, а концепцию. Иногда из концепции состоит сама пьеса, иногда выходит актриса и играет не женщину, а концепцию, но чаще концепцию изобретает режиссер.
Потому что, если он не соорудит на сцене назидание в лицах, он не сможет отчитаться перед экспертом — а зачем он вообще ставил эту пьесу, а не какую-нибудь другую. И он содрогается.
Эксперты — это люди, которые знают, как именно зрителю должно быть хорошо. И бедный зритель вяло соглашается, но втайне ожидает, что лошадь в балете «Дон-Кихот» однажды нагадит, и что часы на сцене пробьют тринадцать раз. И считает. Это я прочел у Акимова.
Весь театр и эксперты по удовольствию так боятся накладок, что все уже забыли, что зритель идет в театр именно из-за них. Что он идет посмотреть чужие накладки, которые помогут ему пережить его собственные. Вся суть драматургии — это показ накладок — и тогда — «катарсис» смехом или слезами. А сейчас считается, что герой должен что-нибудь преодолевать. Борьба, знаете ли, борьбучая борьба.
Персонажи в «Ревизоре» и в «Отелло» все время садятся в лужу. Когда я читал эти пьесы, я, конечно, получал удовольствие. Но сколько раз я мечтал, чтобы финальный жандарм вдруг втащил за шиворот Хлестакова или чтобы у Отелло в момент смертоубийства упали штаны, и ему душить Дездемону стало бы неудобно по многим причинам. Но репетиции, репетиции… Фактически нынче все спектакли об одном — все предусмотрено. Но зритель знает, что в жизни это не так, и при накладке взрывается хохотом. Потому что хохот, я уже понял давно, — это внезапное освобождение от престижа. У нас в школе был великолепный спектакль, но чтобы это понять, надо было, чтобы прошла жизнь, и я догадался о бездарности всех его участников. Которые вместо того, чтобы играть комедию, которая нам сама лезла в руки, пытались силком играть драму, которая была никому не нужна.
Но мы были бездарны и боролись с собственной удачей.
Мы боролись с кошмаром провала и в пылу борьбы не заметили, что кошмар — выдуманный.
Я уверен, что единственный из участников спектакля, кто бы смеялся в те дни вместе со зрителями, был бы Пушкин.
А я на этом спектакле понял, что предугадать всю будущую систему обстоятельств невозможно. Потому что они не система. А если система, то иная. И на этом вся романтика у меня кончилась. А вернее — стала жить во мне отдельно от жизни. Я над вымыслами по-прежнему «слезами обливался», а над применением их в жизни стал смеяться. И стало у меня как бы две души, которые смеялись друг над другом и оплакивали.
Дорогой дядя, а девочка Яна, спящая царевна, так и осталась неразбуженной. И больше о ней рассказано не будет.
Женщины и потом смеха боялись. Они хотели, чтобы я благоговел. Мы живем в перевернутом мире, дорогой дядя, в котором слеза дороже смеха. А я с тех пор, когда смотрел спектакли, всегда знал, почем театральная слеза. Она стоит столько, сколько за нее платят.
Дорогой дядя, как я все замечательно предусмотрел! Я мечтал — я буду скромный участник и выйду на поклоны, и девочка Яна увидит. А девочка Яна не пришла, а спектакль провалился, и мы не заметили, что он имел успех. Ну и хрен с ними, с этими сказками.
Самое лучшее определение сказки я прочел, конечно, у самого лучшего сказочника, Ганса Христиана Андерсена. Он сказал: «Сказка — это одно, а жизнь совсем другое». Ганс Христиан знал дело.
25
Извини, сосед, если я причинил тебе информацию.
26
Видения… видения, дорогой дядя… А что же я там буду делать, в Тольятти? О чем говорить? О видениях? Смешно. Даже экспертам не докажешь. А уж читатель, тот вовсе уверен, что если книжка плохая, то это потому, что автор неточно описал то, что было. И что если бы описать точно, тогда бы уж ого-го! А что «ого-го»? Придет истинный военный корреспондент, вычеркнет даже из «Илиады» битвы богов, потому что мы теперь знаем, что их не было, переведет стихи в прозу, потому что стихами никто, конечно, не говорил, а тем более во время боя, и тогда уж точно получится не Гомер, а ого-го. Не будет прежней «Илиады»? Ну и хрен с ней. Зато будет четкое великолепное ого-го.
Наконец-то!
Эх!..
Из этого видно, дорогой дядя, что я затосковал. Нет. Не тогда затосковал, а сейчас, когда пишу.
Тогда я даже удивился, как это у меня легко все прошло и даже воспринялось с некоторым неловким тщеславием — и такое бывает. Чересчур и внезапно мне было хорошо сейчас, и все подтверждалось. И я давно со всем распрощался, и уже ничего не болело.
Чересчур мне была дорога зыбкая красота этого вечера и этой поездки.
И я зашутовал, стал дурачиться, стал рассказывать смешные байки и понимал — нет, я на самом деле распрощался с тем, чего ждал от любви. Значит, не того ждал.
А сейчас, когда пишу, я увидел сон, видение, если хотите, и все возникло с тягостным абсолютизмом сна.
Это не был сон-воспоминание, и это не был сон-мечтание о будущем, это был сон-прощание с тем, чего уже никогда не будет, с тем, с чем я так спокойно и сознательно распрощался — с молодостью.
Нет, видно, и тогда, в поезде, я почувствовал странное нежелание с ней расставаться и затосковал.
Ты спросишь, дорогой дядя, чего же тут странного? Все желают ее продлить и неумолимо омолаживаются, пытаясь реставрировать то, чего не отреставрируешь. Что же тут странного?
Странно то, что это совсем не в моем характере.
Не то, что я в любви быстро и легкомысленно охладевал или ее что-то вытесняло, хотя многие полагали, что это так. Наоборот, я долго и упорно цеплялся за всякую соломинку, и пытался удержать что-то ускользающее, и предупреждал за полтора километра до пункта расставания — так не надо, иначе это произойдет, и я ничего не смогу с собой поделать. Но женщины не понимали, и когда это происходило, они традиционно искали соперниц.
Если ты думаешь, что дело было в чьем-то или обоюдном охлаждении, то ты опять ошибаешься. Чувства вспыхивают, охлаждаются, иногда это происходит многократно, иногда всю жизнь. На то они и чувства. Это я знал всегда и знаю, никогда не требовал у судьбы невозможного, так, разве что поскуливал иногда во сне, мечтательном и утопическом. Но я повторяю снова и снова — да, сон — эти видения, Образ — это абсолют, абсолют желанного или нежеланного, блаженства или кошмара. А жизнь — это Подобие образа, выполненное из подручных средств. Именно поэтому, несмотря на мечты и кошмары, жизнь продолжается. Но отсюда — разрыв снов и действительности. Нет, не поэтому все уходило. Дело кончалось всегда по одной и той же причине — когда я сразу или через долгое время открывал, что она не товарищ. Как у других, не знаю. У меня так, дорогой дядя.
Для меня в слове «товарищ» заключено все. Не мимоходное — «товарищ, вы на этой остановке сходите?», «товарищ, вы здесь не стояли, вы за мной» и не безразличное «мы поздравляем товарища такого-то, и желаем», и так далее, а уверенность в выполнении обещанного, немногословная, часто неожиданная, помощь и то, что он никогда не потребует, чтобы я был, как он, потому что уверен, что и я этого не потребую. Короче, товарищ — это то реальное и оттого неимоверно высокое, чего один человек может ожидать от другого. И если этого нет, то все остальное обесценивается или вовсе теряет свое значение. Может ли женщина быть товарищем? Она может быть другом, любовницей, женой, возлюбленной. А товарищем? Ей трудней всех. Она такие жуткие тысячи лет добивалась совсем другого — чтобы ее хотели, — что привыкла считать это своим природным естеством. Поэтому ей так часто не хватает другого качества. У одного моего приятеля была пачка тестов, анкет, которые он раздавал гостям заполнять, и все их потом читали.
Большинство ответов на вопросы были шутливые, потому что вопросы были незначительные и добродушные. К примеру, «ваше любимое блюдо», «ваш любимый литературный герой», «что вы больше всего цените в женщине», в таком роде. А я, при моей всегдашней любви к пустякам, решил не острить, а ответить на вопросы всерьез. Особенно на вопрос «что вы больше всего цените в женщине?». Один отвечал «чистоту», другой — «ноги», кто что. Ну и с остальным так.
Я подумал — какого черта, а если всерьез? Надо же в себе разобраться. Помню, на вопрос — «ваше любимое блюдо» я долго искал ответ, перебирая шашлыки и пирожные, пока не понял, что все надоедает, и что единственное блюдо, которое я бы мог есть каждый день, — это клюквенный кисель с батоном. Так и написал. А перебирая знаменитых литературных героев и отыскивая любимого, я выбрал литературно непрестижного и порядочного пьяницу и написал «Атос», потому — что он был граф де-ля-Фер и товарищ. Ну а на вопрос «что вы больше всего цените в женщине?» я, не задумываясь, ответил — «мужество».
Это был единственный такой ответ, и все удивились.
Я и сейчас так думаю, дорогой дядя. Все остальное у нее есть в избытке.
А теперь мне приснился тягостный сон про незнакомых мне женщин, у которых я будто бы имел успех, но хотел от них невозможного — товарищества. А они в жизни достигли почти всего, чего им хотелось, и без этой зауми и нелепых ожиданий. И они надо мной сожалительно посмеивались, и я, неудачник, расставался во сне и с этой иллюзией, и проснулся в тяжелой тоске.
Вот почему я тогда, в поезде, растерялся и стал думать, о чем я буду говорить читателям в Тольятти, зашутовал, стал дурачиться, будто хотел отогнать что-то, мне тогда еще не понятное.
А повод-то был пустяковый — прощание с молодостью, с любовью и тем, чего ждал от нее. Мы ехали… ехали… Вагон вежливо постукивал, сумерки сиренево густели, я никого из них не знал, и мы ехали в незнаемое. Поэзия всегда туда едет.
В то лето сердце выстукивало джаз. Выступал джаз Коралли, и в нем пела певица, которую почти еще не знали тогда — ее звали Клавдия, фамилия — Шульженко. И все сходили с ума, когда она пела — «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали… Пой, играй, чтобы ласковые очи, не таясь, смотрели на тебя». Ночное радио, музыка из чужих окон. И генеральша, почему-то с южным прозвищем Буба, вела по двору на поводках двух доберманов. Она была генеральша еще дореволюционная, была худая, как зонтик, чулки у нее были перекручены. Чем она кормилась, было неизвестно, но два черных добермана тянули ее за собой и лоснились, как браунинги.
Она в давние времена сочиняла слова для песенок, которые Клавдия Шульженко в белой матроске с гюйсом, но без тельняшки пела в каком-то подвальчике. Мне об этом рассказал Эрик, с которым я внезапно подружился в то лето, потому что у него была большеротая насмешливая улыбка, морской кортик в кухонном столе, и однажды он, проходя мимо магазинчика, где продавали вино в розлив, сказал мне: «Выпьем по бокалу „рислинга“». Мы были такие взрослые.
Мы спустились по ступенькам в темное помещение с ослепительным запахом бочек и вина, и нам налили что-то дико кислое и некрепкое. Но когда мы вышли на солнечный тротуар, над которым свисала листва, просвечивающая, как транспарант, то во рту и в носу остался вкус и запах вина, и это было такое счастье, что я понял — этого больше не будет никогда. Эрика потом убили на войне, а я живу и пишу все это. Я знал о тайне Эрика: он считал, что человечество поехало не туда, когда изобрело шахматы. Весь остальной бедлам — только последствия. Что ему сделали шахматы, я не знаю, но вот его аргументы.
Людям без правил поведения жить нельзя. Правила, они как дорожные знаки, — чтобы каждый выжил. Это попытка элементарной гармонии.
И если бы целью шахматной партии была бы, скажем, ничья с наименьшими потерями, это была бы тренировка к нормальной жизни.
Однако цель шахмат подлая и иная. Два противника сговариваются о правилах: е-2, е-4, по которым один будет убивать даже не другого, а подставные фигуры. Тогда вообще зачем правила?
Тем более что в жизни главная задача убийцы — даже эти правила обойти. Были тридцатые годы, и из цивилизованных стран шли свежие идеи убийства души и тела. Спорили только о том, кого убивать, сколько, когда и каким способом. Незыблемым оставалось только одно — убивать надо.
Теорий было много — от «жизненного пространства» до происхождения видов путем взаимопоедания, от необходимости жертвы для потусторонних целей до предрасположенности всего живого к самоубийству — на все вкусы. И во всех теориях, заметьте, абсолютно во всех, живо и с огоньком принимал участие профессор Ферфлюхтешвайн, тренер убийцы, который надеялся, что его помилуют, когда дело дойдет до Нюрнберга.
Профессор Ферфлюхтешвайн обосновывал необходимость любого скотства, лишь бы оно шло по правилам, которые создавал он сам, шахматист, научный хват-парень, чемпионище.
Эрик не занимался моральными возмущениями, он ледяно и впрямую ненавидел чемпионов и вредил им как мог. Например, он их обыгрывал.
Во всех сеансах одновременной игры он приканчивал чемпиона и улыбался.
Но так как он играл только в одновременных сеансах и никогда в турнирах и матчах, то его обозначали числом партий, проигранных чемпионом — 1, 2, 3 — и никогда по фамилии.
- Эрик, за что ты их так? — спрашивали его.
- Они объявили шахматы подобием жизни. Теперь бы сказали моделью.
27
- А разве не так? — спрашивали и приглашали сыграть.
Тогда Эрик проигрывал.
- А как ты их лупишь? — спросил я его. — По вдохновению?
У нас, на Буцефаловке, все жили только по вдохновению, хотя слова этого стеснялись. Эрик посмотрел на меня продолжительно. Потом плюнул в небо далеко и метко — то есть в никуда.
- Я думал, ты догадливей, — сказал он. И довольно невнятно и мямлисто объяснил, для чего надо вдохновение — для искусства и для жизни, потому что вся их суть в том, чтобы любые правила переналаживать, если жмут. А чтоб победить чемпиона — в этой игрульне годится любой набор ловушек. Только большой.
- Очень большой, — сказал он задумчиво и спросил: — Знаешь, как родилось регби? Я не знал. Я тогда думал, что регби — это дерби. Я и сейчас так думаю.
- Ну и как родилось дерби?
- Регби.
- Я и говорю.
- Рассказывают… Футболист в Англии в азарте схватил мяч и, не помня себя, закинул его в ворота руками.
- А как надо? — спрашиваю.
- Слушай, хватит, — сказал Эрик.
- Ладно, — говорю, — а что сделали с парнем?
- Дисквалифицировали, конечно.
- Вот видишь, — сказал я. — Теперь его никогда в жизни… представляешь — никогда в жизни.
- Плевать, — сказал Эрик. — Зато он придумал играть в мяч руками, то есть регби.
- Это же гандбол.
- Там другие правила, — сказал Эрик.
- Только этот парень был не англичанин, — сказал я.
- А кто?
- Он был ирландец.
- С чего ты взял? — спросил Эрик.
- Они кельты, — говорю я. — С них началось вдохновение. Но потом их запутали. Ты слышал, как они играют на скрипках? Когда играют ирландцы, понятно, что все правила проклятых Ферфлюхтешвайнов, Гешефтмахеров и Гешефтфюреров, всех обсосков годятся только для музея криминалистики… Эрик… Ты согласен со мной?
- Да, — сказала мне из дальнего далека тень мальчика из довоенных годов.
- Эрик, что ты там сейчас делаешь, чем занят? — спросил я. — Эрик! Эрик!..
- Я догоняю тень этой свиньи, которая придумала шахматы… Я его и там достану…
- Эрик… Сейчас передали, что и Америку открыл не Колумб, и не исландцы, а ирландцы. Эрик, ирландцы… Эрик, я возвращаюсь в тридцатые годы, ладно?
- Ладно, — сказал Эрик.
- Ты сказал: набор ловушек, — говорю. — А где их взять?
- Собираю.
И он показал мне огромный куль с вырезками шахматных задач: мат в два хода, мат в три хода, белые начинают и выигрывают.
- Ну а дальше?
- Дальше, на каждый ход чемпиона я отвечаю ловушкой. Чемпион ее видит. Я этих чемпионов «делаю», как хочу. Они всю игру от меня бегают. У них тактика, стратегия, а я на каждый ихний ход — ловушку. Потом они устают.
Он вытряхнул вырезки на стол и стал накалывать их на кортик.
- Что ты делаешь? — ужаснулся я.
- Я помню их все, — сказал Эрик. — Я потом напишу книгу не «Как быть чемпионом», а «Как бить чемпионов», и каждый сеанс одновременной игры будет кончаться хохотом. И Эрик стал хохотать. А потом я.
Но, видно, кто-то услышал. Потому что наступила опять такая тишина, такая вечерняя тишина, что я повторил ему то, что я сказал ребятам на практике по геодезии двумя часами раньше.
Я тогда уже целый год учился в Архитектурном институте, и мы возились с теодолитами и вешками в районе ВДНХ, которая тогда называлась ВСХВ. Теперь там большие дома, а тогда были пустыри и двухэтажные бараки, такие крепкие, что, казалось, они будут стоять вечно. Была такая вечерняя розовая и сиреневая тишина, что я сказал ребятам:
- Так тихо, как будто завтра будет война.
Теперь я повторил это Эрику. И мы хохотали. Но, видно, кто-то подслушал, что Эрик хочет сделать с чемпионами.
И они решили объявить войну и убить нас с Эриком. Но убили только его, так как его боялись, а меня нет. У меня была только тоска по искусству — картинки там, песенки, книжки и прочая мелочь уговоров и увещеваний, а у него готовилось нечто конкретное. Справочник ловушек, он помнил их все, а я только о том, что он их помнил. Ну, ничего, теперь я знаю, что есть и другой ход.
На другой день в растерянном институте, где половину здания, помнится, забрали под учреждение (я уже стал забывать его название), ребята из моей тогдашней жизни обходили меня — они помнили, что именно я сказал.
Много лет спустя, когда открывали мемориальную доску в память студентов, убитых на войне, я спросил нашего довоенного старосту группы, который выжил под Москвой в ту великую зиму, потому что его выходила незнакомая бабушка и отдала в госпиталь, когда бой откатился на запад, я спросил его:
- Ленька, помнишь?.. Последний день… У ВСХВ… И я тогда сказал.
Я спросил потому, что это было первый раз, когда я знал, что будет. Я тогда еще не знал, откуда я это знаю.
- Помнишь?
Он угрюмо кивнул — седой, невысокий, мягкий и прекрасный наш староста 41-го года — и сказал:
- Помню.
И хватит об этом. Хватит об этом.
28
Дорогой дядя!
Ну почему же не нарисовать то, что вообразил или увидел? Можно нарисовать. Значит, нужно лишь насобачиться рисовать носы, уши, животы и даже, может быть, окружающую их среду.
Но начинаешь рисовать — и никак не можешь сосредоточиться. Взгляд бегает по всему лицу, а в это время рисуешь ноздри.
Хочешь рисовать ноздри — нельзя, говорят, нельзя забывать о целом, иначе нарушишь пропорции.
Ох, это целое! Ух, эти пропорции!
Пропорции чего? А что есть целое? Нос? Лицо? А как быть с шеей? А с комнатой, где эти нос и шея расположены? А как быть с пейзажем в окне? А с обратной стороной Луны? И тогда однажды я догадался, что целое — это не предметы, которые ты раз и навсегда насобачился рисовать, и даже не мир, который из них не то состоит, не то уже на них распадается, а целое — это картина.
Картина — это плоский предмет, который висит на стене и доставляет разнообразные удовольствия.
Иногда.
И это «иногда» возникает не из-за документальных носов и ушей в картине, и даже, представьте себе, не из-за видений, о которых я столько говорил.
Раньше я думал, что если вообразить уже написанную картину, то остается только ее исполнить, и дело в шляпе, потому что все ее детали будут Образные, а это и есть цель. Но оказалось, что если Образ картины предварительный, то реальное его подобие достигнуто быть не может. Вот так, дорогой дядя.
Если же к Образу восходить, то результат неизвестен, что не имеет ни малейшего значения, лишь бы радовал и он и весь процесс работы. Если восходишь, к Образу, если Образ рождается от каждого мазка, от каждого реального шага, то сам шаг и эти подручные средства будят фантазию, толкают ее на работу все время радостную, так как без радости она просто не пойдет.
Ты заметил? То, что я сейчас сказал, имеет отношение не только к искусству, но и к житейской жизни? Потому что искусство у нее есть вторая половина.
Мы ехали в незнаемое, но теперь я этому только радовался. Потому что у незнаемого была благая цель и, главное, причина, о которой пока что знал только я. И все подтверждалось.
- У меня только одна претензия к Пушкину, — говорю. — Смешно, правда, претензия к Пушкину?
Это я уже перешел в другое купе, где тоже поэты и нам хорошо.
- Какая? — спрашивает Иван Константинович Гусаров.
Худое лицо, волосы черные с сединой — соль с перцем, огромные выразительные глаза.
- А такая, что он перечислял своих предков — и арапа Петра великого, и «водились Пушкины с царями», а одного предка не назвал — литературного.
- Ну почему же, — возразил Олег Сокольский. — Вольтер, аббат Прево, плюс народные корни… — Я знаю, — говорю, — Арина Родионовна. Эксперты доказали. А все же одного главного не назвал… А с него и начался главный литературный поворот.
- Кто же? — спрашивает Гусаров.
- Барков.
- Ну почему же, — заволновался Сокольский. — Пушкин упоминает его несколько раз.
- Упоминает, — говорю. — Все упоминают. Только никто не упоминает, что…
- А что? — это спросил поэт, который хмуро ко мне присматривался.
Он почти опоздал на поезд, и нас друг с другом не познакомили. Сидим, поглядываем друг на друга.
- Что поворот в литературе начался с непечатных слов и блистательного ритма. Видно, такая ему выпала судьба, Баркову, что он послал подальше надутое бульканье и гуденье — всякие там «Богоподобная царица, киргиз-кайсацкие орды», «О ты, чья…» и так далее.
И видно, без этого нельзя было открыться и возникнуть свободному пушкинскому разговору без… и так далее.
И мы стали вспоминать Баркова, и то, что, видно, никогда не напечатают. И частушки такого же рода, и хохотали, и понимали в стихе многое такое, чего другим не понять, и радовались, что мы профессионалы и люди призвания, и это было — как одна городская барышня ужаснулась, какая в поле весной грязь, а старуха ей ответила: «Какая же это грязь? Это земля».
И тут на наш хохот заглянули в купе Людмила и поэт Ирина Павлова, которая пишет отличные стихи, от которых женщины умолкают и думают о чем-то своем, чего мужчине-поэту ни ухватить, ни выразить не удается. Потому что мужчина-поэт пишет стихи про воображаемую любовь, а женщина-поэт — про ту, какая есть на самом деле.
- Про что хохот? — спросила Ирина.
А как рассказать про стихи, из которых ни одного слова не произнесешь? Хорошо это или плохо?
Откуда мне знать, если даже Пушкин не знал.
Видно, все зависит от того, что в этих стихах слышишь — площадную брань или свирепый хохот первого шага.
Как написал поэт для поэтов Велимир Хлебников: «Вер спор — звук воль».
29
Дорогой дядя!
Как поднимались по лестнице, я не запомнил. Как в комнату пришли, тоже не обратил внимания, но я хорошо помню мастерскую, какое было впечатление. Мастерская была на самом верхнем этаже дома, а впечатление было, что подвал. Потому что стеклянная крыша, предназначенная для мастерской, вся была забита фанерой. Только в одном месте было окно, откуда падал свет на натурщицу и на мольберт, где он эту натурщицу писал. Некоторое время он писал при нас. То, что было на холсте, было не похоже на натуру. Понятно, что сидела та же самая натурщица, но картина была совершенно другая какая-то. У нее не было задачи быть похожей на натурщицу. То ли подмалевок какой-то, который потом будет похож на натурщицу, то ли он так оставит — было непонятно. Но главное не это. Главное, что все было серое, пыльное. Фанера изнутри была выкрашена в серый цвет, холсты стояли у стенок тыльными сторонами наружу, свет был пыльный и серый, луч света пыльный, натурщица пыльная, холст пыльный, роба художника была серая, полы серые, и живопись зеленовато-серая. Я у него спросил:
- Вы, наверно, вначале только напрягаете цвет? А потом делаете его обыкновенным? Реальным?
А он меня спросил:
- А что значит напрягать цвет? А я его спросил:
- У вас есть задача сделать потом картину похожей на натуру? Или нет? Он сказал:
- Нет.
Я не хотел выглядеть дураком и не стал дальше расспрашивать.
А на улице солнечный день — яркий непереносимо, зелени полно, а здесь все серое, как в паутине. Даже не серое, а серо-зеленоватое. Я подумал, что если это и есть живопись — то мне не надо. Я жить хочу.
А он принял меня за сочувствующего, потому что я пришел с его ученицей, и потому говорил обыкновенно. Он не знал, что я ее уже переубедил до того, как сюда прийти, и она заранее была на моей стороне.
Потом натурщица ушла, и мы вместе вышли в соседнюю маленькую комнатку, где он жил. Там было окно, и тоже было все серое. Но это все было серое потому, что все было голо и нищета.
Потом пришла жена, худая, с выпирающими скулами и верхними зубами — а видно, была красивая — и сказала, что сейчас даст ему поесть. А на столе лежало яблоко, которое он рисовал, и я подумал:
«Зачем рисовать яблоко?» А жена дала ему поесть. В жестяной миске, алюминиевой ложкой — как на вокзале во время войны. Он ел кукурузу, вываленную из консервной банки, — тогда еще продавалась такая кукуруза, в собственном соку, и стоила рубль — на старые деньги. Дешевле еды не было. А он ел и пережевывал. А нам дал смотреть какое-то прекрасное издание — иностранное с репродукциями, книгу. «Руо — художник», — сказал он.
- Правда, прекрасно? — он сказал.
А я смотрю — дикие грубые мазки, которые кое-как очерчивали лицо, бородатое, а лица не было — были три шлепка краски. Он сказал:
- Правда, великолепно?
А я говорю:
- Да!.. Великолепно! Здорово как! Ох, как здорово!
И думал: «Как бы поскорей удрать…», и не мог видеть, как он пережевывает кукурузу — ему было уже семьдесят лет. Огромное количество холстов стояло у стен, которые он никогда не продаст. Огромная мастерская с единственным окном. А он пережевывает кукурузу. И если это живопись и такая жизнь — то мне не надо.
Потом он еще показывал маленький деревянный манекен — схему человека на шарнирах — и он мог, манекен, принимать любую позу человеческую. А художник говорил:
- Это для того, чтобы изучать движения. И я подумал:
«Если манекен для того, чтобы изучать движения, — то мне не надо».
А потом пришел его ученик, сын композитора, и он велел ему рисовать яблоко. На голом столе. Зачем? Я понять не мог.
Мы попрощались и ушли.
Как шли по лестнице, тоже не запомнил.
А на улице — лето, жара, зелень, все цветет, все блестит под солнцем. И я всю дорогу его ученице объяснял, что если живопись — это плесень, то мне не надо. Потому что все его холсты были написаны каким-то голубиным пометом. Ужасно это все было. Ужасно. И то, что он ел кукурузу из жестяной миски, и то, что он не имел денег на обыкновенную еду, — в этом он был виноват сам, а не только те, кто не покупали его картины. И главное, я понял, что это мне не надо.
Потом мы доехали до ее дома, поднялись в лифте, и мы окончательно поняли, что мы стоим на другом пути. И в живописи, и в жизни. Иначе будет только одна пыль и нищета. Которые — до старости «никому не надо».
А потом мы вошли в огромную солнечную квартиру, где она жила с родителями. И нам было легко, как будто мы вырвались из кошмара. Я сказал:
- Давай-ка притащи твой портрет, который он писал.
А он написал ее в оранжевой кофте, тоже на таком оранжеватом фоне. Волосы у нее были черные. И теперь я понимал, почему портрет такой пыльный.
Она прошла в соседнюю комнату, сняла со стойки портрет, притащила его туда, где я стоял, прислонила к стулу — портрет был хорошо освещен солнцем. И я увидел его живопись, посмотрел на нее, видел не больше десяти-пятнадцати секунд и понял, что меня надо удавить. Вот так-то.
Потому что я все говорил правильно, но меня надо было удавить, потому что я все говорил правильно, но все это не имело никакого отношения к тому, что я видел теперь, перед собой.
Увидел перед собой и вспомнил то, что я видел в мастерской.
И понял раз и навсегда, что передо мной живопись в первом лице. И все, что я говорил до сих пор, — жалкая ребяческая блевотина, детский словесный понос.
Она попыталась сказать что-то ироническое по поводу этого портрета, но я сказал:
- Молчи.
Она удивилась. А я сказал:
- А знаешь… это ведь необыкновенная живопись… Это прекрасная живопись… Она сказала:
- Что?
Я сказал:
- Это живопись!..
- Но ты же только что говорил другое… Я ей сказал:
- Неважно, что я говорил… Я гнида и осел… И мы с тобой — ослы… А он художник. Она сказала:
- Я не могу так быстро менять мнения. А я сказал:
- А ты не меняй… А просто открой глаза и смотри. Она сказала:
- Что ты от меня хочешь? А я сказал:
- От тебя — ничего… Просто мы были слепые, а теперь мы видим… Ведь никто же не виноват, что сначала мы были слепые, а теперь увидели… Но мы виноваты в том, что мы болтали чепуху, когда не видели.
Я ей сказал:
- Давай поклянемся… не торопиться… никогда не торопиться… Потому что, а вдруг мы что-то говорим потому, что мы просто не видим?.. И можем наделать вреда… А когда мы не видим, то все не будет иметь никакого значения… но мы можем страшно повредить чему-нибудь.
Она сказала:
- Давай.
Я потом понял, дорогой дядя, в чем хитрость его живописи, и позднее расскажу об этом. А можно даже сейчас. Дело в том, что его картины можно было смотреть долго, а вернее, много раз, и каждый раз они выглядели по-другому. Наш глаз видит что-нибудь, если движется сам. Если он застыл неподвижно, то глаз не видит ничего. Спросите у медиков, они подтвердят. Так вот, его картины были гармонизованы мелкими, сплетающимися смесями мазков настолько глубоко, что если преодолеть первое пыльное впечатление от всего холста, то мы начинаем различать красоту цветовых сочетаний каждый раз другую, другую музыку цвета — в зависимости от того душевного состояния, с которым мы сегодня и только сегодня подошли к картине, и для этого душевного состояния нужна эта песенка цвета, а не другая, другая не подойдет.
Такую живопись, правда, помноженную на огромные общественные темы, я видел только у Василия Ивановича Сурикова.
Ну, значит, рассказал я эту историю, а в гостях у нас была одна женщина. Лет тридцати пяти. Я спрашиваю:
- Как это… история эта? Она спрашивает:
- А что как?
- Ну-у… производит впечатление?
А она говорит — понимаете, говорит, что вы рассказывали про мастерскую его, и какой он нищий, и насчет еды — было жалко его… А потом он, оказывается, замечательный художник…
- Ну и что? — спрашиваю.
- Ну как что?.. Ну и жалеть не за что. Я говорю:
- Здра-асте… Так ведь замечательного художника, который нищий, еще более жалко?
- Нет, — говорит. — Не жалко. Какое мне до него дело? Я не замечательный художник.
И получилось так, дорогой дядя, будто я ее обманул. Не того подсунул. Только было она сочувствовать стала — глядь, а он выше всех. И уже ей не жалко его. Странное это дело. А работала та женщина в администрации какого-то института и никакого отношения к художникам не имела. А тут, как узнала, что он замечательный художник, так у нее сразу: «Ишь ты!.. Вон что!.. Чего это я должна тебя жалеть?.. Вон ты какой!» Я понимаю, если б в ней ревность заговорила, если бы она сама была художница. Ну, там — Моцарт и Сальери, то, сё. А тут ведь никакого отношения? А потом вдруг спрашивает:
- Значит для вас — что Рембрандт, что Модильяни — это все равно? «Вот как? — думаю. — Модильяни? Она даже имена знает?»
- Нет, — говорю. — Не все равно. Рембранд — сам по себе, Модильяни сам по себе. Но оба они художники.
Она говорит:
- А как отличить — кто художник, а кто нет? У Рембрандта все люди, как люди, а у Модильяни все люди уродливые.
Я говорю:
- Ну, я там не знаю, уродливые люди или не уродливые, а картины прекрасные.
- А как так может быть? — спрашивает.
Только я было собрался ответить, как так может быть, но тут нас к столу позвали. То есть мы за столом-то сидели, а к столу позвали — это значит кормить. Ну, поели, поболтали, она опять говорит:
- А что это значит — живопись? Одни, значит, видят, а другие не видят?.. Как это понять? Значит, по-вашему, цвет — это главное?
Я говорю:
- Ну почему главное?.. У одних цвет — главное, у других рисунок — главное… Главное, чтоб картина получилась… А за счет чего — дело десятое… А то, что большинство людей цвета не видит в картинах, — это ясно.
Она говорит:
- А что же мы — дальтоники, что ли?
- Нет. Не дальтоники. А только цвета в картине не видите.
Дальше ничего про эту женщину рассказано не будет. Потому что никакого отношения она к этой истории не имеет. А имеют отношение к этой истории только ее слова насчет того, что замечательного художника — не жалко. «Ты талант? Ну и будь здоров. Мне тебя не жалко».
Модильяни! Можно подумать, что она бегает в музей Рембрандта смотреть. Стоит, замерев, и восхищается. Да она про Рембрандта вспоминает, только когда ей на репродукции Модильяни покажут. А так ей на Рембрандта тоже начхать. Вот и остается ее главная мысль — художника не жалко.
А было это тогда, когда я вдруг понял, что, наверно, искусство и на фиг никому не нужно. Вернее, не совсем так. Искусство нужно тому, кто им занимается. А кто им не занимается, они без него спо-окойно живут. И, конечно, они не могут сочувствовать тем, кто дурью мучается. «Страдаешь в искусстве? А ты не страдай. Брось его к чертовой матери, и дело уладится. Поступай на работу, как все люди, производи что-нибудь, как все люди, или хоть зарплату получай, как все люди…» А какие они все — люди?
А все люди, дорогой дядя, поработают-поработают, потом хотят отдохнуть. А когда отдыхают — хотят развлечься, отвлечься. А если не отвлекутся, не развлекутся, — им работать не хочется. А уж если работать не хочется — тут голодовка, тут дело реальное. Вот и выходит — на одном конце — голодуха, а на другом — девать себя некуда. Конечно, тут бы надо рассматривать этот вопрос на фоне экономических, исторических и прочих обстоятельств — почему так все сложилось с художеством, а не этак. И, конечно, женщину эту, администраторшу, понять можно — конечно, люди так нахлебались от «особенных» людей, что как скажут про кого-нибудь, что он «особенный», так настораживаешься — не сел бы на голову, поскольку он «особенный». Надоело людям кланяться-то. Век не тот. Сильному уж и то кланяться не хотят. А тут «особенные» какие-то. И опять ему привилегии, видишь ли. Живи по правилам, как все, — и никаких привилегии тебе не надо будет. Делай, как все, и будет и тебе хорошо, и остальным не обидно.
Но только вот беда, дорогой дядя, художество — это такая область промышленности, где быть исключением — и есть правило.
Главное правило для художника — быть исключением. Хочешь, не хочешь. Такая промышленность.
Потому что, если я два велосипеда сделаю вместо одного, то это будет — два велосипеда. А если я два раза один и тот же стих напишу, то это будет один стих, а не два. Стих или картину, любое сочинение — все равно. А сколько раз я эту картину изготовлю, сколько штук я этого сочинения изготовлю — это уже значения не имеет. Это называется тираж. Тираж, повторение, репродукция — это есть ремесло. А искусство каждый раз происходит по одному разу.
Вот в чем особенность, дорогой дядя.
И вот я спрашиваю — кому все это нужно? Что ответить? И хочу все потихоньку вспомнить и разобраться. Пришел я однажды в Третьяковскую галерею посмотреть «Боярыню Морозову». И вижу — в зале рядом с ней устанавливают холст, по размеру равный «Боярыне Морозовой». На подрамнике, честь по чести, копию будут делать — один к одному, повторение. Ладно, думаю, кому-то заказали. Заглянул я на грунтованную сторону холста и вижу — огромная фотография, бледная, во весь холст, даже перерисовывать не надо по клеточкам. Серенькая такая «Боярыня Морозова» огромного размера. Теперь только краски наложить.
Я узнал — заказали знаменитому художнику, деньги огромные — триста тысяч на старые деньги. Заказ. Сурикову такие деньги и не снились, когда он свою «Боярыню Морозову» писал. И надо было теперь этому художнику поверх этого фотографического рисунка накладывать краски — мазок к мазочку, один к одному. И я подумал: ну работенка!.. Тут сдохнешь… Но и деньги такие, перед которыми не устоишь. Триста тысяч на старые деньги — так мне служители сказали. И пошла работа.
Хорошо пошла, дорогой дядя. Художник опытный. Цвет видит как надо. Техникой владеет. Академии кончал. Размеры одинаковые с картиной-подлинником. Рисунок нанесен фотографией. Тут уж все точно. И пошла работа. Хорошо пошла. Мазок к мазочку — и стала появляться картина — вторая «Боярыня Морозова». Думаю — ну, силен! Силен!.. И чем больше стала проявляться картина «Боярыня Морозова», тем больше начала она становиться непохожа на «Боярыню Морозову»… Синюшная какая-то. Он уж из одного угла к другому шел, и в разных местах пробовал писать, и так и эдак, а все равно — куда-то вбок уходила картина, и получалось не то. Узнать, конечно, можно, что «Боярыня Морозова» — поверх фотографии писана, все персонажи на своих местах, а вот «Боярыня Морозова» не получалась. Ну какая разница, вроде бы чуть небо непохоже, чуть наряды непохожи по цвету, а видно было, как мается художник, делая копию, и как картина начала плясать вся, и цвета стали как в сумасшедшем доме, цветовая музыкальная помойка — смотреть на это было непереносимо, а еще чуть не две трети холста заполнять надо было.
Долго стояла эта копия, долго. Работа долго шла, а потом перестал холст заполняться, долго стоял незаконченный, а по правде сказать, и не начатый. А потом его увезли куда-то. Номер-то и не прошел.
Думаю — как же так? Ведь все подготовлено, оставалось краски положить? А положить-то и не удалось. Я уж потом еще раз в Третьяковку пришел, когда этот холст увезли, страшный. А к нему так привыкли, что без него даже пусто показалось. Подошел я к «Боярыне» и вижу, стоит возле нее человек с безумными глазами — до сих пор не знаю — был ли это тот самый знаменитый художник или кто-нибудь другой. Но явно не один я про эту копию думал. Стоит и на «Боярыню» смотрит неподвижно. Я говорю: — Пусто в зале стало без копии… А он не отвечает.
30
Дорогой дядя, представь себе такое…
…Красавица, пойми меня, тирьям, тирьям, тирьям пам-пам. И тромбон слюни выдувает — ф-фух-ну! — Оперная студия Чайковского.
А на потолке вдруг — грохот и тяжелый удар. Это училище Вахтангова на фехтовании делает выпад.
А профессор говорит:
- Продолжаем… Голова — это шар, нос — это призма. Три учебных заведения в одном здании.
Мертвенные школярские лица нарисованных натурщиков, и на некоторых листах в верхнем правом углу цифра 5 красным карандашом. Высоко взлетел. «Кто умеет писать — пишет, кто не умеет писать — учит». Так ведь то Чистяков говорил! А в институте заповедь — сначала пройди школу, а уж потом ого-го. А на 90 процентов ого-го и не вышло. Дрессировка вышла, а душа погасла.
А кто, бывало, плюнет на системы и на глазок, на глазок, по своей воле и душе — тому стипендию долой. А это значит — ищи халтуру или из института прочь. Разве что родители состоятельные. Естественный отбор, так сказать. А где ж он естественный, когда он именно, что противоестественный.
Ни ананас картошку не заменит, ни картошка ананас. Нужны оба. Но к каждому — свой подход, а то не будет обоих. И будет голод и авитаминоз, в данном случае — духовные. Ананас — это, к примеру, Моцарт, картошка — Бетховен. И нежная пища нужна, и грубая. Человеку все нужно. Зачем же сальериев плодить?
Это только для барышень и болонок — нежность и грубость несовместимы. А в жизни все совместимо и перепутано.
Я только раз в жизни видел у человека нос, похожий на призму. Ах да, я уже писал об этом. Но это было настолько ужасно, что я до сих пор как вспомню, так начинаю икать. Так и учились. Сейчас, говорят, лучше. Ну, это рисунок на бумаге. А живопись как? Нарисовать на холсте все, а потом раскрашивать?
До этого все же не доходило. Какие-то остатки старых привязанностей все же сохранились. Понимали, что живопись — это не раскрашенный рисунок. В раскрашенном рисунке цвет какой попало, лишь бы объем выявить — светики, тенечки — зеленоватая грязная слизь, лягушатина. Стихия цвета — это особая стихия. Сто лет открытий на одном уроке не скинешь. Значит, как совместить цвет с формой? Отношениями. Отношения — это когда красивый цвет рядом с красивым цветом вдруг выглядит безобразно. Потому что из разных картин. А если из одной — музыка. У кого этой музыки в душе нет, тот ее с натуры не спишет. Иначе, зачем живопись? Есть цветное фото. Оно с годами все лучше. Многие и сомневаются — может, живописи конец пришел? И я сомневался — зачем руками делать то, что может машина-аппарат. Теперь я знаю стихи Заболоцкого:
Любите живопись, поэты. Ведь ей единственной дано Души изменчивой приметы Переносить на полотно.Но если б я их и тогда знал, я бы их и тогда не понял, как и сейчас чтецы и читатели не понимают.
Но только сейчас я знаю, почему ей единственной дано.
А дело в том, что «души изменчивой приметы» — это не приметы изменчивой души натурщика. Это может схватить и фото, а приметы изменчивой души художника, который картину писал. Есть душа? Есть приметы. Нет души — нет и примет. А Федор Федорович опомнился и закричал:
- Главное в живописи — отношения! Это уж я точно знал. На своей шкуре.
А Федор Федорович пришел в себя и закричал:
- Пишите чище, гуще, будет луще! Ширше пишите, ширше!
Федор Федорович хотел всегда меня нигилистом обзывать, но увы, не мог. Все знали, что я от Сурикова, от Врубеля — без ума. Классики.
Но классики особенные. Полуприличные. В те времена Врубель все-таки демонов писал, а Суриков цвет набирал мелким мазком. Как импрессионист какой-то. В то время боролись с импрессионизмом. Почему боролись, я уже не помню. А вот кто боролся — помню.
Боролись те, кто хотел, чтоб учились именно у них. А чему там учиться? Отношениям? Один из них в комиссии, которая последний взгляд кидала на картины, отобранные для премий, оглядел зал и говорит:
- Неплохо, неплохо… Но разнобой, разнобой. Так и учились. Сейчас, говорят, лучше.
Были еще подсобные дисциплины, которые на искусстве не сказывались, но на отношениях и, стало быть, на стипендии сказывались. Перспектива, анатомия, технология живописи и, конечно, история искусства — русского и зарубежного.
Хотя, вообще-то говоря, было непонятно, как без истории искусств создавались шедевры Греции, Индии, Китая, Японии, Египта, как создавались иконы, когда еще истории искусств не было.
Казалось бы, образованный художник — хорошо. Но оказывалось, что и здесь, как у всякой медали, есть оборотная сторона. Потому что это было не образование художника, а медаль. Напоказ. К экзаменам. Ничем другим из истории искусств тогда пользоваться не удавалось.
Я не знаю, может ли медаль иметь десятки сторон, но у этой медали — было. Посудите сами. Из всей истории искусств ничем пользоваться было нельзя. По разным причинам.
Ни темами, ни сюжетами, ни манерой, ни стилем, ни композицией. Чему можно было учиться? Кто когда родился, и несколько истрепанных мнений? Причем это относилось и к советским картинам. Нельзя было писать, как у Василия Яковлева, у Дейнеки, у Пластова, у Петрова-Водкина, у Кончаловского, у Корина, у Гончарова — это самые известные, но и так далее. У одного слишком гладко, у другого слишком свободно, и у всех вместе — разнобой, разнобой.
Для чего же история искусств? Для трепа? Для зависти? Для птички-галочки в отчете? Это было странное время, когда главным было болтать о Школе с большой буквы. Болтать, а остальное — ни-ни. А можно было только нечто репино-образно-мазистое. Ни темы, ни сюжеты, ни композиция, ни страстность — бедный Репин — а нечто среднемазистое в переложении Федора Федоровича и иже. А главный Теодор только порыкивал:
- Сязан им нужен, понимаете ли, Сязан. Пикассосы хреновы.
Но потом Пикассо сделал голубку мира и вступил в компартию, такой конфуз. Николай Васильевич только руками разводил:
- А такой тихий был Тэдька, скажи ты. Мы, академики, сами его и выдвинули.
- А я думал, вы все за одно… — говорю.
- За что за одно?
- За классику.
- Так для каждого она своя, — сказал Прохоров.
Недавно на Кутузовском проспекте, где жил Прохоров, повесили в его честь мемориальную доску.
Отношения.
Но самое страшное была — перспектива, которая закрывала все перспективы к классике. Преподавал ее долгожитель Нехт.
Он был известен тем (известен по журналу «Крокодил» — фельетон с картинками), что, работая в ленинградском институте, который по-петербургски назывался «Академия живописи, ваяния и зодчества», у всех голых античных мужских скульптур велел прицепить или даже приделать не то фиговые листы, не то трусики. Это даже в те времена не прошло, и был скандал, и Нехта отменили. От нас он этого не требовал. Зато у всех мужчин-натурщиков вместо природных достоинств, как у микеланджеловского Давида в музее Пушкина, которого разглядывает вся Москва от мала до велика, потому что у человека все прекрасно — без исключения, у наших натурщиков мы рисовали безобразные мешочки с тесемочками, совершенно неприличные тем, что акцентировали именно то, что должны были скрыть. У женщин ничего не рисовали, считалось, что там ничего и нет. Боже мой! Обнаженная натура, за которую нам ставили от 2 до 5, на выставку не имела доступа. И прекрасная, чистая, как деревенский воздух и тихий снег, пластовская «Баня» произвела в стане Нехта взрыв типа водородного. Но самое страшное было — перспектива. Перспектива — прекрасная вещь. Нарисуй линию горизонта и к нему шоссе, которое вблизи «ширше», а у горизонта сходится в точку, и вдоль шоссе столбы телеграфные с проводами, которые тоже сходятся в одну точку, внизу трава, в небе облака, и сразу глубина и простор — кто спорит! Все в точку.
А как только делаешь картину с людьми, где одних ты хочешь показать в перспективе, а других не хочешь — сразу опять конфуз.
Композицию, расположенную по перспективе, смотреть страшно, как… ладно, обойдемся без сравнений.
Профессор Нехт приносил фотографии с картин классиков, расчерченные перспективной сеткой, и показывал такое количество нарушений, что выходило, непонятно, почему они классики. Но мы-то знали — классики — закон. А Нехт — случайность. Когда однажды на зачете я ему сказал, что Ермак у Сурикова вовсе не висит в воздухе, а возможно, стоит на каком-нибудь выступе и что вообще перспективу с одной точкой схода мы видим, когда упремся в эту точку, а если не упираться, то мы по жизни движемся, вертим головой, и значит, точек бесчисленно. И что «Сикстинская мадонна» тем и хороша, что в ней все перспективные точки перепутаны, — он бледно улыбнулся и поставил мне, нет, не двойку, двойка — это пересдача, а тройку. А это избавляло его от встречи со мной, а меня — от стипендии на полгода, и надо было писать натюрморты в салон — бра и канделябры и, желательно, фрукты. Где-то они и сейчас висят. Все дело в отношениях.
Так и учились у этого подсобника. Говорят, сейчас лучше.
Город Переславлъ-Залесский. Монастырь. Озеро. Фабрика кинопленки. Летняя практика. Храм Александра Невского, облупленный. Ботик Петра Первого — я его так и не видал. Зато видел, как в небольшом храме Растрелли приоткрылась железная дверь с засовами и табличкой «Охраняется государством» и оттуда вышел человек в ржавом фартуке — реставратор, наверное.
Я заглянул в приоткрытую дверь, услышал металлический визг, будто ножи точат, и увидел мозаичный пол, по которому волокли ящики с пивом, и гвозди и жесть скребли мозаику, и она визжала, — Вы что же это делаете? — спросил я. И эхо в полутьме: ете, ете… ете…
- Здесь склад, — ответил мужик из полутьмы. И эхо — лад… ад… ад…
Я прибежал к профессору композиции Василь Палычу, болезненному человеку с железной волей, и рассказал, что видел — во мне било ключом общественное негодование.
- Не суйся, — сказал профессор. — Твое дело — композиция.
И эхо — уйся… уйся… уйся… и ция… ция… ция… И я тогда заплакал вдруг. Как будто вернулся домой.
- Уймись… — сказал профессор.
- Мись… мись… мись… — сказал я. За это он меня остро не полюбил.
А любовь профессора — это 23 рубля на нынешние деньги. Каждый месяц. Главное — тройку не получить. Отнимут стипендию на семестр — как будешь покупать винегрет в буфете, батон и сахар с чаем? Искусство — не арифметика, доказать нечем. А еще и плата за проучение два раза в год. Некоторые прошли по конкурсу в институт, их тут же из института отчислили. Платить нечем. И остались либо остервенелые искатели побочных халтур, либо дочки достаточных родителей. Естественный отбор в действии. Потом эту плату как-то незаметно отменили. Я и не помню, когда. Халтура — дело серьезное. Прибегает парень:
- Орлы, я халтуру достал, на всех, гигантскую. Даже не верится. Храм расписывать, денег уйма, писать без натуры, ангелам анатомии не нужно, краски ихние.
Его тут же вызвали в деканат.
- А где твоя идейность?
- Так ведь халтура!..
- Выбирай, или — или.
Он выбрал и стал богатым халтурщиком, а мы наперегонки стали добиваться любви профессоров и винегрета — 5 копеек блюдце на сегодняшние деньги. Контрасты, контрасты.
«Контрасты» — было любимое открытие профессора композиции. Мир состоит из контрастов, значит, и композиция должна из них состоять. Если есть тень, то должен быть свет. Если один человек стоит, другой должен лежать. Или сидеть. Если один — лицом, то другой — спиной. Но каждое движение должно иметь наглядную причину.
- А двоим сидеть нельзя?
- Нет.
- А если я написал десять мальчиков, сидят на заборе, и все анфас, и все освещены?
- Контраста нет.
- А гармония?
Только слышно, как за окном в парке артист поет: «Бананы ел, пил кофе на Мартинике…»
- А разве контраста характеров не хватит?
- Уймись.
И эхо в пустом классе школы, где у нас летняя практика, — мись… мись… мись…
А певец в парке поет: «Когда ж домой я приходил из плаванья… я целовал гранит на пристанях…»
Потом эту песню объявили кабацкой.
А я поставил холст, где был вылизанный контрастами портретик девочки в панаме, — свет, тень, носик вертикальный, ротик горизонтальный, и стал мастихином швырять краску на фон, на лицо, на фон, на лицо, на фон, на лицо — ту краску, которую мне в эту секунду захотелось, какую показалось, что выражает сиюсекундное мое настроение, на фон, на лицо, на тень, на свет, на носик, на ротик. А приятельница мне шепотом:
- Что ты делаешь? Что ты делаешь!.. А потом:
- Ультрамарин не сюда… выше…
- Здесь?
- Правей.
- Не могу больше, — говорю. — Не могу.
И проткнул панамочку мастихином. Так и учились. Сейчас, говорят, лучше. Говорили: «Рисунку можно научить, а видение цвета — от природы». Я, пока верил в это, был не цветовик, а как перестал верить — цвет понял. Не только институтский — крем-брюле, помада и туалетное мыло, — а любой. И стали приходить, сначала со старших курсов, а потом и с младших, смотреть, что я делаю. И я был для Федора Федоровича нарушитель.
Федор Федорович букву «ч» не выговаривал и многие другие.
- Подходит ко мне сейсяс Батыров с третьего курса и говорит: «В васей мастерской один колорист… Серт возьми!..»
И Федор Федорович называл мою фамилию.
Сейсяс, простите, сейчас Батыров — академик живописи. Недавно встретились в какой-то компании, и он говорит: «А мы вашу живопись смотреть бегали». И мне было приятно.
У нас лекции читал знаменитый искусствовед, который говорил так: «Осьмнадцатый век», «Веляскец», и про портрет Пушкина работы Кипренского: «Он смотрит не на ковой-то, а кудай-то вдаль».
Я однажды стал за ним записывать:
«Перед вами портрет девочки Фермор… Она такая, как фарфоровая… Для ней характерны, как вишни глазки… Одной рукой она держится за… веер… Другой рукой она держится за… Веляскец, великий художник, который…» — и прочее в таком роде.
Так и осталось неизвестным, за что девочка Фермор держится другой рукой.
Ну так вот, это был единственный великий и глубокий искусствовед, которого я встретил.
Он, конечно, не умел говорить, но и краснобайство ему было ни к чему. Потому что он открыл, например, разницу между картиной и ее зеркальным отражением. Но это настолько великое дело, что об этом в другом месте и отдельно.
Остальные говорили без запинки и гладко, но говорили чушь.
То ли их запутали, то ли это их собственные достижения в этой области. Я имею в виду область чуши.
Один культурный и воспитанный знаток говорил на лекции перед нами, олухами, что Ван Гог и Гоген дилетанты. Почему? Они не знали анатомии.
Даже олухи хохотали. Художник был в то время бессловесный. Про него говорили, что он, как собака, — все видит, все понимает, а сказать не может. За него и от его имени говорили специалисты других специальностей. Художник говорящий и художником не считался. Его дело писать. И специалисты настолько уверились, что ему нечего сказать, что потеряли всякую осторожность, и плясали на нем, как мухи на покойнике. А он не был покойником. Он был в глухой обороне, схлопнулся, но живой. И жизнь его выражалась в хохоте.
Это надо же, Ван Гог и Гоген — дилетанты, потому что анатомии не знают. Дитю понятно, что анатомия не входила в их эстетическую систему, их картинам анатомия мешала, они пользовались другой выразительностью. А что выражали? Души изменчивой порывы. Анатомии не знали! Да эти «шкилеты» за пару месяцев… по любому атласу… Анатомии не знали! Надо же! Они ж от нее отказались, как такие же дилетанты Эль Греко и Рублев! А профессионал кто ж? Отставной от искусства прохиндей?
Был у профессора-медика, который нам лекции читал по анатомии, помощник, отставной Теодор, который за ним препараты в банках носил — печенки, глаза и прочие скоропортящиеся субпродукты. Отставной Теодор имел прозвище Умбиликус, то есть Пупок. Анатомию знал наизусть, всякие там «глютеусы» и «стерна-кляйде-мастеидеусы». Он вещал, к примеру:
- Никогда при девках не говорите «между прочим».
- Почему, Теодор?
- «Прочимус» по-латыни значит «ноги».
И хохотал, и над раскрытой пастью свисала капуста усов.
Он всегда был подшофе, под мухой, под банкой и при капусте. Но если ему перед экзаменами сдашь, то и профессору экзамен сдашь. Такой был знаток. Он рассказывал:
- Раньше в анатомии работать было можно. Препараты спиртом заливали… А теперь формалин проклятый.
Мы не верим… Препараты тут же стоят — кишки, селезенки, ребенки нерожденные.
- И пили?
- А как же!.. Называлось — «ребёновка».
Теперь давайте про эстетику. Это было уже не на первом курсе. Решили, надо преподать насчет «красоты» и «прекрасного» и какая между ними разница. Это было б и ничего — послушать чужие мнения.
А вдруг что пригодится? Но беда в том, что если эти мнения, которые друг с другом не сходились и исправлялись со скрежетом в каждой газете, не выучишь, то после экзаменов опять полгода без стипендии.
Однако еще бывали настырные идеи самих преподавателей, и эти уж совсем того. Эстетику вела дама со взглядами и самолюбием, а в остальном — хороший человек. Она настаивала, что сюжетную картину надо делать по системе Станиславского. А тогда кто не клялся Станиславским, или Павловым, или Вильямсом с травопольем, или Лысенко с ветвистой пшеницей, мог сгореть, как швед, синим огнем.
Чтобы не пересказывать ни Станиславского — каждый может прочесть, — ни ее взглядов на сюжетную, или, как тогда говорили, на тематическую картину, — кануло, слава богу, — опишу только наш с ней разговор.
Я все, что надо, выслушал, а потом говорю, наивный был:
- Можно вопрос?
- Пожалуйста.
- Критерий теории — это практика? — спрашиваю.
- Ну, так.
- Так давайте попробуем все это на практике, но мысленно.
- Каким образом?
- Допустим, я собираюсь изготовить историческую картину по системе Станиславского. Историю изучил, как академик Тарле, психологию — как другой академик, эпизод написал, как Шекспир, эскиз костюмов и декорации — как не знаю кто, на роли набрал одних народных артистов и лауреатов, отрепетировал эпизод, как сам Станиславский, снял на цветную кинопленку, как оператор Тиссе или Фигероа, и вот из всех кадров, а их в каждой секунде — 24 штуки, я выбрал один, наилучший. Где все точь-в-точь — от психологии до мизансцен по моему замыслу… И увеличил этот кадр до размеров картины… Ну и рама, конечно.
- Так в чем вопрос? — спросила она.
- Будет картина?
Она помаялась и сказала:
- Будет.
Олухи захохотали — они знали, картины не будет. А будет стряпня, химия. Потом мы с ней шли до метро, и она с нервными пятнами на щеках говорила:
- Прощаю вас только потому, что у меня прогрессивные взгляды, а у вас каша в голове.
- Так в ней все и дело, — говорю, — в каше. …Леонардо велел вглядываться в пятна плесени на стенах… В них можно увидеть все… Вот начало — хаос… Непредвзятое воображение.
- Леонардо?!
- Да… А если начать с исполнения задачи, то и выйдет исполнение задачи. А картины не будет.
- Почему же?
- Картина открывается в работе, а задачу знают заранее.
- Вы не бойтесь… Я вас на экзаменах не провалю.
- А знаете… — говорю. — И вы не бойтесь. И я вас на лекции не провалю. Другая бы не стерпела, а она была хороший человек.
На том и расстались у метро. Жаль. Я ее до сих пор помню. Так и учились. Говорят, сейчас лучше.
Но делу не поможешь. Прохоров из института уходит. Вот беда. Недолго он.
- Знаешь, — сказал Николай Васильевич Прохоров, — чем Микеланджело отличается от своих эпигонов? В том числе нынешних?
- Еще не знаю.
- Тем, что его герои корчатся от внутренней муки, и движения их тел — лишь последствия внутреннего напряжения… А эпигоны думают, что причина их движений — внешняя. Для истинного художника внешняя причина — ничтожная… Для Микеланджело причина взрывного движения «раба» — корчи духа, а для эпигонов причина — веревки, которыми он связан.
- Да уж, — говорю.
- Поэтому герои Буонаротти — искренние, а у эпигонов — позеры… Мощным движением он берет в руки лопату.
- Не лопату, — говорю. — Газету.
- Да… Газету, — сказал Прохоров. — Искусствоведы знают, как писать, а пишем почему-то мы. Ох, искусствоведы… Амикошонства не выношу.
- А что это?
- Амикошон — это такой друг, который обнимает тебя за шею голой волосатой ногой и у носа шевелит пальцами.
Я это запомнил и такой дружбы не полюбил.
- Кстати, мысль «кто умеет писать — пишет, кто не умеет писать — учит» приписывают Бернарду Шоу, а она принадлежит Чистякову. Академизм не тем плох, что мышцы изучает, перспективу, историю искусств — почему не изучить, а тем, что думает, будто, изучив некую систему взглядов и приемов, станешь художником.
- Да уж… — говорю я с лютой горечью, потому что знаю — этот разговор последний.
- Что сказал Микеланджело, когда увидел, как живописцы копируют его «Страшный суд»?
- А что он сказал?
- Он сказал: «Многих это мое искусство сделает дураками». И ушел из института.
А потом умер.
И я остался в искусстве один.
И Прохоров был в искусстве один и старался сохранить что можно. Но куда идти дальше, и он не знал.
И я стал думать: «А зачем она вообще, живопись? И наверно, она еще для чего-то нужна, кроме рецензий по пятибалльной системе».
Я теперь знаю, куда идти в живописи. Значит, придет еще кто-то и сделает это. Так и учились. Говорят, сейчас лучше.
Я собирался описать десятки эпизодов из институтской жизни, но понял, что они — иллюстрация к тому, что уже сказано, и значит, ни на что не влияют. На меня вовремя напала дикая лень, и я остановился.
Дорогой дядя, пересматривая свою прошлую жизнь, я вижу, как в ней открывались для меня перспективы, одна другой не лучше. Значит, дело было в чем-то третьем. Что же оставалось? Творчество.
Дорогой дядя, но не жди от меня воспоминаний типа «И моя жизнь в искусстве». Это воспоминания о смехе и слезах.
И часто я хочу вспомнить о слезах, но рука пишет о смехе, о смехе. Видно, я уже переключился в другую вселенную и над собой не властен.
Математики вычисляют хохот — а люди смеются над математиками, которые вычисляют хохот.
Потому что вычислить хохот, это все равно, что вычислить душу будущего. А над чем будет смеяться наше будущее?
31
Дорогой дядя!
Я умею наводить сон на людей. Я обнаружил это не сразу. Сначала я заметил, что люди засыпают, когда я высказываюсь.
Я обратил на это внимание и стал думать, а что бы это значило. Размышляя упорно, я догадался, что это скука. Что такое скука, я не знаю, но понял, что от нее удирают. А если не имеют такой возможности, то удирают даже в сон.
Тогда я стал пробовать открывшуюся способность на другом материале и увидел, что я могу вогнать в сон чем угодно — воспоминаниями, хныканьем и даже анекдотами. Это реальная способность настолько меня поразила, что я стал засыпать рядом с тем, кому я что-нибудь рассказываю. И вот что вышло однажды.
Все бывает только однажды. Дважды не бывает ничего. Люди хотят повторить, но это невозможно. Жизнь изменилась. Все уже другое.
Итак, однажды случилось открытие. Это дело было в доме отдыха швейной промышленности на светлой речке, после того как я бросил спаивать себя дрянным пойлом, каждый раз надеясь полюбить человечество еще больше, чем в предыдущий раз. Но так как я и в предыдущий раз любил его максимально, то в следующий раз добавить ничего не удавалось.
Последний раз я любил человечество на недостроенной телевизионной башне, куда меня привезли механики.
Мы начали на Неглинке в ресторане «Арарат» с несколькими динамистками, а когда мы их развезли по домам и они вежливо с нами распрощались, то механики пригласили меня посмотреть, что они строят.
Быстро поехали в Останкино и быстро прошли на стройку. Все остались внизу, а мы с одним из механиков вошли в лифт без крыши и встали рядом с работниками в брезенте и в касках под надписью: «Без касок не подниматься». Вверх уходили, подрагивая, масляные тросы, толщиной с чайную колбасу, но длиннее.
Люди в касках поглядывали на нас искоса и завидовали запаху, который шел от нас, а сверху с неимоверной высоты что-то капало. И когда я успел удивиться, почему не велят входить без каски, а не без зонтика, лифт остановился. И главный механик вытащил меня на небольшую круглую площадь, состоящую из чугунных секторов со щелями, куда я норовил провалиться, но механик каждый раз вытаскивал меня за шиворот. Он был мастер спорта по боксу и был невероятно сильный. Я пошел к краю площадки, где не было перил, а только проволока, натянутая на штырях, обозначавшая край.
Я навалился на эту проволоку животом, подо мною до самого горизонта был светящийся дым, и я не сразу понял, что это окна. Я стоял выше всех в Москве, на самом краю. Ветер был ровный, проволока качалась и вонзалась мне в живот, я любил человечество, и мне хотелось к нему. Но я понимал, что его надо любить не из бункера и не с башни, а там, где оно живет и ходит на работу.
- Брось, — сказал он. И мы пошли обратно.
И я проваливался между чугунными секторами, и он вытаскивал меня за шиворот мощной рукой.
Это было более двадцати пяти лет назад, и я был молодой, но поскольку мне было уже сорок лет, то я был тогда пожилой и не знал, что доживу до рождения сына, и буду отменять Апокалипсис.
Наутро механик пришел, когда я разглядывал ботинок, и спрашивает:
- Где это ты ботинок располосовал? И я ему ответил:
- На секторах. У них такие острые заусенцы, и я порезал ботинки.
- Тебе надо отдохнуть от всего этого, — сказал он. — Путевку тебе я достану… Наплюнь. Все образуется.
Вот что такое товарищ, а не «ля-ля, позвони в другой раз… Что?! Извини, меня зовут». Так я оказался в доме отдыха на светлой речке, в которой купались люди разной упитанности.
Меня поместили на первом этаже с окном напротив зелени и тени, а на соседней койке спал человек в берете, который он не снимал даже ночью.
И три ночи подряд я видел сны не из своей жизни. Поднимался по лестнице на второй этаж какого-то дачного строения и утром боялся опоздать на электричку. И три ночи сосед мучился кошмарами.
— Хреновина какая, — говорил он мне по утрам. — Приснится хреновина такая. Я и женат никогда не был, и песни не сочинял.
И рассказывал мне свои сны из моей жизни.
Я наблюдательный. Проницательный — это тот, кто лезет к тебе в душу, проницает и ошибается. А я просто вижу то, что есть на самом доле, и помню то, что бывает один раз. А поскольку все бывает один раз, то я помню все и забываю, только когда запишу. И я запомнил, что могу видеть чужие сны, а на других наводить свои.
И тогда я подумал, что любовь свою к человечеству можно выражать как-нибудь иначе, чем объясняясь ему в любви, будучи в нетрезвом виде, и апеллируя к динамисткам. Тем более что «Арарат» сломали, а башню достроили, и этот случай тоже неповторим. За эти последующие двадцать пять лет я написал много песен, прозы и много телевидения и имел успех у того, у кого хотел, — у Нюры и у Сапожникова. И получил от них 3732 письма, которые храню в бумажных мешках, а письма все идут и идут по старому адресу на Буцефаловку.
32
Дорогой дядя!
Световые переломы… Свирепая простота образа… Так все же что подтверждалось? В этой поездке? Нет-нет, сир, я не балуюсь с интригой, чтобы завлекать читателя и повысить спрос. В конце концов, если разгадка в конце, можно в него и заглянуть. И покончить с предварительной болтовней. Сколько раз, даже в детективе, самое неинтересное бывает узнать, кто именно жулик. А до этого подозреваешь всех и каждого, пока не доходит, что жулик — автор.
Дело и не в мифическом «преодолении», к которому якобы сводится интерес драматургии и чуть ли не искусства. Дело даже не в том, какой персонаж и что именно преодолевает. Как раз искусство давно преодолело этот детский лепет и рубеж. Потому что единственное, что искусство преодолевает, — это потемки в душе потребителя. Дело даже не в том, что догадка, к которой я пришел и потом расскажу, настолько важна для жизни, что, подтвердись она, и начнется неостановимое движение, а я пользуюсь последней возможностью проверить это в сюжете. Нет, это как раз подразумевается. Но выяснилось уже, что не столько важен поступок, сколько его результат. Эйнштейн хотел остановить нацизм и придумал бомбу. Нацизм остановили без него, а бомба осталась. Задумаешься тут. Но дело и не в этом.
А в том, что если сразу высказать эту догадку, то она настолько глупа и элементарна, что ее просто никто не поймет.
Кто не верит, может заглянуть в конец.
Ее и нельзя понять, если она не будет предварительно растолкована. И растолкована даже не на пальцах, а еще проще — прямым показом. Чтобы можно было ткнуть перстом, и было видно, что это оно и есть. Вот так-то, сир.
Я пишу, а в мире — погода. И Землю корчит. Неужели никто не замечает совпадений, что погода становится гнусной, когда мера гнусностей на Земле превышает норму? Конечно, там, циклопы, антициклоны, преждевременное таяние ледников, ливневые дожди, ну там, вулканы, землетрясения, что еще? Смерчи, самумы, тайфуны и цунами с прелестными женскими именами. Случайно ли никто никогда не слышал, что был цунами «Вася»?
Интересный вопрос — гнусная погода есть причина гнусного поведения или наоборот? Неужели это несвязанные явления? Это на Земле-то, где все связано впрямую и уже есть экология — наука пока что филантропическая?
Все уже спали во всех купе. Угомонились и шутки и горечь этого поезда. И ночь за окнами постукивала железнодорожными колесами. Уют, тихое дыхание спящих. Я проснулся, лежал в темноте, дико хотелось пить, и думал — старался понять, — что же со мной произошло?
Потом поезд тихо остановился, и я понял, что со мной произошла жизнь. Я встал и, стараясь не греметь дверью, вышел в мягкий коридор, освещенный веселым пустым светом.
И этой ночью, у станции Рузаевка, я решился.
Я решился рассказать, как со ржавой, страстной и смрадной вонью начала рушиться идея Страшного Суда, идея Апокалипсиса.
Я пил из стакана теплую воду, болтал на открытой площадке с негромкой проводницей, которая еще не знала, что этой ночью над этими местами шел ураган, но что-то, видимо, чувствовала, смотрел на ночной перрон незнакомой станции и, как всегда, хотел поселиться здесь навеки.
Но понимал, что не могу, не имею права, что я еще не сделал того, что мне положено. И чувствовал, как на меня наваливается растерянное и невероятное счастье жить. Потому что никто еще не знал, что Апокалипсиса не будет, а я уже знал, потому что я придумал, как сделать, чтоб его не было.
Так это произойдет или по-другому — не имеет значения, но издревле скоморохи начинали битву.
Часть II. Скоморохи начинают битву
Глава первая. Наука и жизнь
1
Дорогой дядя!
После отмены Апокалипсиса я мчался из Америки, куда я залетал, чтобы поглядеть, сохранился ли там родной им капитализм, и увидел, что родной им капитализм сохранился.
Ну, если им так нравится… Вернее так — одним нравится, другим нет — кому как. Но Земля отдыхала от сознательно организованного ужаса, пели птички, и дети ели поздний редис.
По городам и весям, натыкаясь на объекты, шастали озабоченные субъекты, каждый из которых считал, что его недооценили. Поэтому они старались выйти в люди. Одним это удавалось, другим нет. Кому как. Но даже тем, кому это удавалось, это удавалось с великим трудом. Потому что трудней всего — перестать быть антиподом самому себе.
Я ехал восвояси, чтобы рассказать правдиво о том, как отменили Апокалипсис. Пора уже. Дорогой дядя, ты скажешь, что его отменили дурацким способом. На это я возражу — а каким способом отменять дурацкое дело? Кому об этом знать, как не мне, когда я сам его отменил.
2
… Как начали они хохотать, как начали…
3
Дорогой дядя! Дело с отменой Апокалипсиса началось два года назад, когда мы с одним ученым субъектом сидели друг против друга, и поезд подходил к Москве. Поэтому мы дорожные байки рассказывали все короче и короче. Поезд лениво катил к перрону. Я сказал:
- Ну, последняя… Хотите?
- Давайте, — сказал Субъект.
- Очень старая. Один собеседник спросил: «Верите ли вы в привидения?»… — «Нет», — ответил второй и растаял в воздухе.
Субъект засмеялся, и тут с лязгом отворилась дверь.
- Простите, — сказал какой-то лысый с воздушным шариком и пробежал мимо. Когда Субъект оглянулся, меня, конечно, на месте не оказалось.
- Лихо… — громко сказал Субъект.
И тут же высунулся в коридор. Вдали торопливо семенил лысый с шариком, а перед ним маячила моя спина, и я медленно уходил по коридору.
- Лихо… — сказал мне вслед Субъект, но я не обернулся.
Я привык давать людям простые объяснения, но сейчас мне было лень и некогда.
4
Дорогой дядя, сообщаю тебе, что в ту же ночь мне приснился сон, будто я рассердился на своего лакея Джеймса и велел ему вытащить из шкафа все мои ботинки, чтобы посмотреть, каково у меня с обувью.
Он вытащил полиэтиленовый мешок и вытряхнул оттуда одну пару. Я закричал:
- А где другие?! Где выходные, например?! А где… — и так далее. Но Джеймс смотрел уклончиво.
Я тут же проснулся и стал писать тебе письмо. Как тебе известно, у меня никогда не было лакея по имени Джеймс, и никогда не было мешка с ботинками, которые мог бы уворовать лакей. Потому что у меня никогда не было лакея, а моя единственная пара обуви всегда находилась под стулом, на котором висела моя одежда, потому что шкафа у меня тоже не было.
Таким образом, сон мой абсолютно беспочвенный и навеян мне не иначе как завистниками с противоположной стороны земного шара, который, как выяснилось, вовсе не шар, а тело вращения, несомненно напоминающее собой сплющенную грушу.
5
Так вот, дорогой дядя, ты знаешь, я не исследователь. Я заехал в Москву проверить две идеи.
Первая — нельзя ли спасти мир хохотом?
И вторая — нельзя ли применить опыт художников не к картине, а к жизни? Я бы еще долго не решался, но события торопили.
Пока я старался понять жизненность моих идей, они стали проблемами. А у каждой проблемы есть «уголок». То есть то, без чего этой проблемы бы и не было. «Уголок» — это очень простая причина сложных последствий. Ну, к примеру: Самый давний «уголок», который я помню, это — почему Владимир Красно Солнышко принял православие. Никто этого «уголка» не знает, потому что князь никому об этом не говорил. Но без этого «уголка» все остальное непонятно.
Конечно, Русь крестили по жизненным причинам. Веру меняют по политическим причинам, позади которых экономика. Иначе вымрешь. Это ясно. Но почему из двух христианских идей — католической и православной — Владимир выбрал именно вторую, — непонятно.
Даются бесчисленные объяснения — от «веселия Руси есть пити» до выгоды торговать именно с Византией. Все правда. Сложных факторов много. Но никто не поглядел на календарь. А я не поленился и поглядел. Шел 988 год нашей эры.
Католики обещали конец света через двенадцать лет, в 1000 году, а православные — через пятьсот, в 1492 году.
Каково?!
Владимир был реальный политик. Какой народ пойдет в новую веру, если через десяток лет кранты? А за полтыщи — мало ли?
И Владимир, конечно, оказался прав. В 1492 году Апокалипсиса тоже не было, и церковь постановила — впредь не вычислять.
Ну и смеялся Владимир, наверно, одиноким княжеским смехом, ну и хохотал он, когда в 1000 году в Европе в гробы ложились, с крыш прыгали, и был год хаоса и разбоя.
А почему смеялся? Он не поверил специалистам-прогнозистам-футурологам, а занялся хозяйством. В основе всего — хозяйство. Иначе вымрешь.
С этим вступительным взносом я и пришел в Академию.
Мне, конечно, не поверили и посмеялись — кто же из-за такой ерунды, как вычисление конца света, принимает новую веру? Но это сейчас ерунда. А тогда верили специалистам по безумным идеям. Как и сейчас.
Но все же меня взяли на должность младшего антинаучного афериста — специалиста по «уголкам».
Дорогой дядя, «уголок» — это и не исследование и не творчество. Это здравый смысл. Но в эпоху поиска безумных идей здравый смысл и есть самая безумная. И вот немедленно по вступлении в должность я стал искать «уголок» Апокалипсиса, то есть то, без чего Апокалипсис был бы просто невозможен в принципе. И вот в этом укромном «уголке» я нашел профессора Ферфлюхтешвайна, без которого никто бы не смог произвести бомбу и все такое для конца света. У всех остальных гавриков — от уголовников до президентов — квалификация не та.
Почему же профессор на это пошел, почему, зная, что Апокалипсис лопнет от его, профессора, саботажа, он продолжал трудиться на благо конца света? Ответ я нашел в книжке американского философа. Когда он спросил об этом профессора, тот ответил: — Мне надо одевать Гертруду.
Гертруда была его жена. (См. Берроуз Данэм. Мыслители и казначеи. М., 1960, с. 14.) С этим открытием я не решился соваться никуда. Кто знает, у кого какие жены. Но я понял, что специалист — это тот, кто боится жены больше конца света. Почему специалист, который кормит, боится жены, которая только кушает, — есть тайна истории специализма. Но факт тот, что опасность Апокалипсиса происходит от бездарности кушающих, а не кормящих. А кто бездарнее женщины? Только другая женщина. Шерше, как велят, эту ля фам. А чего ее шерше, когда они — большая и лучшая часть населения. Господи, как я люблю женщин!
Женщины бездарны, потому что бездарно позволили себя держать в кабале и бездарно из нее высвобождаются. Бездарны они потому, что, зная жизнь лучше мужчин, они ничего не придумали, кроме мести мужчинам, то есть тщеславия.
Если мужчина видит красавца, он думает — ну и хрен с ним, зато я… и так далее… Но у любой женщины образ великолепной жизни — на рынке самцов стоить дороже всех. Когда это не так — она, так сказать, не до конца счастлива.
Мужчина, который хочет быть хотимей всех — смешон, а среди женщин это — звезда. Дорогой дядя, все, что я написал, есть чистая правда. Но самое поразительное, что если в этой тираде слово «женщина» заменить словом «мужчина», то не изменится ровно ничего.
И даже вопрос о том, кто у кого был в кабале и кто от кого высвобождается, тоже вполне неясен.
И выходит, что срок Апокалипсиса обратно пропорционален тщеславию его участников. Чем выше тщеславие, тем срок до конца света меньше. Это тоже «уголок».
Но, дорогой дядя, это очень уязвимый «уголок». Он не может устоять против хохота. Все остальные «уголки» могут, а этот — нет. И потому этот «уголок» маскируют, как могут. Но только хохотать надо всем миром.
В Академии мне сказали, что это крайний субъективизм и что если я хочу работать дальше…
А я сказал, а какая разница? Не все ли равно, какой «изм», лишь бы я его остановил, этот Апокалипсис?
Тогда мне сказали: «Ну и тщеславный ты тип, это подумать только! А в чем твоя идея? А ну еще раз…»
6
Дорогой дядя!
Может ли один человек отменить Апокалипсис? Я считал, что может, если придумает, как. Мой знакомый погиб в горном обвале, когда громко чихнул.
Если лавина скопилась — годится любой звук. Я шел пешком за город и нес железную кровать в сложенном виде. И вдруг заметил в поле девушку, которая хмуро собирала ромашки. Она была хмурая, понимаешь? Солнечный день, пыльное подмосковное небо и хмурая девушка собирает ромашки. Тут со мной произошло обычное. Я захотел ее разглядеть и, конечно, включился. Я, как бы от усталости, с грохотом уронил кровать на асфальт. Она оглянулась, сделала шаг, и я увидел, что она хромает. Платье у нее было — светлые цветы на темном фоне, легкое по жаркому дню, однако на ногах, чуть полноватых, были темные, но прозрачные чулки. Вообще у нее вид был какой-то переодетый. У нее была копна светлых волос, кое-как сколотых в тяжелый узел. И тут я рассмотрел в траве чемодан и понял — она устала его нести.
Могло быть много других версий, дядя, но я почему-то оказался прав. Я ее спросил, и она кивнула.
- Машина подана, — сказал я.
И стал раскладывать железную свою кровать, крашенную краской, которая когда-то была зеленой.
И только когда я привязал веревку и пошел по траве за чемоданом, я вспомнил, что на ножках кровати не было колесиков.
Дальше все было как во сне. Когда я хотел взять чемодан, она тоже наклонилась, я увидел полноватую руку смуглого летнего цвета, и маленькая плотная кисть коснулась моей. Я поднял чемодан, и она отпустила его. Чемодан был тяжелый. Я поставил чемодан на кроватную сетку и сказал:
- Передохните.
Она вышла из травы на асфальт.
- Ногу растянула, — сказала она.
На ней были нарядные туфли бежевого цвета.
Я думал, что она ждет попутную машину, но оказалось, что машина ее спутника сломалась, владелец остался се чинить, барышня вылезла с чемоданом, пошла пешком и растянула ногу.
Что-то не сходилось в ее рассказе, и я почувствовал, что позади ее рассказа лежит холодная ссора.
Дорогой дядя, ты, конечно, понимаешь, что я уже был целиком на ее стороне. Я сказал:
- Ладно, поехали. Сами доберемся.
Я взялся за веревку, перекинул ее через плечо и потащил кровать вместе с девушкой и чемоданом. Потом чуть не упал вперед и понял, что она слезла.
- Погодите, — сказала она. — Зачем же так?
Она стояла возле кровати, держалась одной рукой за зеленую перекладину и просвечивала.
И только когда я увидел черную царапину на пыльном асфальте длиной метров в пятьдесят, я вспомнил опять, что на кровати не было колесиков.
Дорогой дядя, ты знаешь, в обычном состоянии мне бы не сдвинуть кровать с девушкой и чемоданом по асфальту больше, чем на полметра.
- История… — сказала она. — Подождите, сейчас нас подвезут.
Я оглянулся на подъезжавшую машину. Машина коротко гуднула и остановилась.
За рулем сидел низенький крепкий человек. Черноволосый, с тонзурой на затылке, черные глазки-щелочки его улыбались. Я почему-то представлял его не таким.
Он вылез, взял чемодан с моей кровати и понес в машину. Когда он взялся за ручку чемодана, мне показалось, что он своей рукой накрыл наши руки, которые когда-то давным-давно на одно мгновенье коснулись друг друга.
Пока он укладывал чемодан в багажник, я сложил свою знаменитую на всех свалках кровать. Потом загудел стартер. Но так как я не слышал, чтобы хлопнула вторая дверца, то я оглянулся. Она стояла возле машины. Мотор загудел ровно.
- Подвези кровать, — сказала она. Он вылез и пошел ко мне.
- Ну что вы… — сказал я.
Он легко отнес кровать к машине и затолкал на заднее сиденье.
- Поехали, поехали, — сказал он.
Девушка села впереди, он — за руль, а я все стоял у открытой дверцы. И тут мотор заглох.
Дядя, ты меня знаешь, это не моя специальность, я тут совершенно ни при чем. Да я бы и не стал мелочиться. Просто что-то с чем-то в моторе не совпало, и мотор остановился. Для меня любой механизм — загадка. Человек откинулся на сиденье и закрыл глаза — это было видно в зеркальце.
Тогда я отвязал от знаменитой кровати веревку, и, когда я привязывал ее к бамперу, я видел сквозь ветровое стекло, как они оба смотрят на меня. Потом я отошел вперед метров на шесть.
Веревка была длинная, я шел по вечереющему шоссе почти без натуги, и позади тихо катилась машина.
Потом машина затормозила, и я остановился.
- Извините, мы приехали, — сказал он и кивнул на дачу вдали. — Я бы подвез вашу кровать, но сами видите… А куда вы ее тащите?
- На свалку, — сказал я. — Тут в лесу свалка.
- Я так и понял, — сказал он. — До свалки метров триста. Они оба вылезли из машины.
- Никогда бы не подумала, — сказала она. — Спасибо.
- Вы не всегда такой сильный? — спросил он. — Правда? Только иногда? Сколько вам лет?
- В точности не скажу. Чемодан тоже неподъемный, — сказал я. — Будто в нем расчлененный труп.
- Это так и есть, — сказала она.
И тут я чувствую, что меня начинает трясти.
- Нет, нет, — сказал он. — Говядина, баранина. У нас сегодня чествуют одного человека. В чемодане шашлыков человек на сорок.
- Ну и хорошо, — сказал я, взял из машины свою кровать и пошел прочь. Ноги у меня подгибались.
В общем-то, насчет свалки я сказал правду ровно наполовину. Я кровать нес не на свалку, а со свалки. Я поселился в пустой комнате. Я сказал хозяйке, что кровать принесу с прежней квартиры. Но ты же знаешь, дорогой дядя, что на прежней квартире у меня была кровать красного дерева, которая мне не принадлежала, а, кроме того, она стояла в квартире совсем в другом городе. Дорогой дядя, я отнес кровать и пошел обратно.
Я шел полями, и оранжевое солнце садилось за подмосковные перелески. От каждой травины вытягивалась фиолетовая тень.
Какие-то парочки сидели и лежали в траве, и белели женские кофточки.
Я, наконец, разыскал эту дачу, потому что оттуда раздавались крики «ура!» и смех.
Вокруг забора стояло много людей, много толпилось и у ворот. Стояли с бокалам.
Я ушел и ходил взад и вперед до темноты. Потом вернулся к даче. Люди уже расходились.
На даче зажгли свет, и я увидел, что с участка уносят столы и стулья.
У одного из уходящих я спросил:
- Простите, пожалуйста, среди гостей не было ли такой-то, — я описал ее. — Я ее разыскиваю. Он покосился на меня и сказал:
- Она там живет. И ушел.
Дорогой дядя, Москва очень большой город. Но ты представляешь? Я совершенно не волнуюсь. Скорее всего, я не пойду в какие-нибудь чемпионы. В какие-нибудь.
7
Дорогой дядя!
Когда еще мы жили на Буцефаловке, однажды выяснилось, что звезд на небе вовсе нет, а вся астрономия — липа. От Солнца свет идет до нас 8 минут, а от ближней звезды — полтора года. А уж от звезд, от которых свет идет к нам дольше семи тысяч лет, свет все еще идет, а от самой звезды, вполне возможно, дырка.
А потом еще хуже. Боцману один еврей сказал, что самый дальний свет идет до земли 84 миллиарда лет, однако другой на это сказал, что у Вселенной и возрасту-то всего 10 миллиардов лет. Тоже доказано. Вот и спроси — куда ж остальные 74 миллиарда девались? Боцман, как узнал про эти дела, взял свой костыль. И по пивному прилавку шарах, так что костыль сломался.
- Где справедливость? — багрово спросил он. — 70 миллиардов сперли! Округленно! Его, конечно, из «американки» выпихнули, и он на тротуар выкатился, как бы выплеснулся, и лежал. А так как нога его из-за высоких ступенек осталась выше головы, как у того Веверлея, который пошел купаться, оставив дома Доротею, а костыль свой боцман утратил, то он начал синеть.
Его увезли, и больше о нем рассказано не будет.
После этого «американку» стали называть «У Боцмана», а потом и пивную закрыли. И там, на горке, теперь юридическая консультация насчет разводов. Однако вопрос — куда округленно девали 70 миллиардов — остался открытым. …Однако вернемся на Буцефаловку.
Это был в наших местах самый огромный дом, и строили его фундамент дважды. Потому что вдруг выяснилось, о чем забыли, — на этом месте в давние годы была ямская станция, и потому почва была не почва, а не до конца окаменевший конский навоз. Исследовали почву недостаточно, а такую громадину на конском дерьме, безусловно, без двойного фундамента не построишь. И потому стали фундамент класть второй раз. И этот московский сувенир, помимо мартышкиной работы, еще и влетел державе в копеечку. И вот за эту конскую полупочву этот дом был прозван «Буцефаловкой», в честь любимого коня Александра Македонского по имени, как известно, Буцефал. И больше про этого полководца сказано не будет.
А ведь действительно — куда девали 70 миллиардов лет? Куда-то ведь девали? Свет идет дольше, чем Вселенная существует. Ну, люди!
Но после того как открылось, что Буцефаловку облапошили и что на 70 миллиардов нагрели, начала трещать, а потом рухнула у нас истошная вера в науку. И возникла тяга к искусству.
Не то чтобы до этой ужасающей аферы со светом все стремились в академики, а все же уж не то. Так с тех пор и осталось.
Вот, к примеру, выступает недавно по учебной программе один и говорит: — Они ингибируют натрий-калиевую атефазу.
А откуда нам это известно? Может, ингибируют, а может, и нет. Придет другой профессор и докажет, что не ингибируют. А жить как?
8
Дорогой дядя!
Дорогой дядя, у меня случилась неприятность!
В комнате, которую я снял у пожилой дачевладелицы, я установил замок, который открывается с двух сторон переносной ручкой. Этому замку полагалась и вторая ручка, но второй на свалке не оказалось. Замок этот мне был нужен как противохозяйкино препятствие. Потому что для Евангелины Кристаловны — так, или близко к этому, зовут мою хозяйку — я объект.
Она в курсе всех запредельных наук и хотя, влияя через астральное тело, она способна на многое, однако без ключа она все же дверь не открывает.
Живем мы с ней мирно, если не считать того, что она не видит над моей головой ауры и, полагая это неприличным, велит мне эту ауру испускать, чтобы она могла ее видеть. А я не испускаю.
Однако день, когда я эту ауру испущу, будет несчастнейшим днем в ее жизни, так как я стану ей ровня, а кому это надо?
Кроме того, я ей нужен для маскировки. У нее довольно много барахла, и она боится, что его умыкнут. А поскольку моя комната по коридору первая, то жулики подумают, что и у нее тоже ничего нет.
Эта стерва даже собаку не заводит, чтобы не подумали, что ей есть что охранять. А в остальном она прекрасная женщина. Правда, дорогой дядя, она б умерла со страху, если б узнала, чем я занимаюсь всю жизнь. В общем, у нас с ней как в сумасшедшем доме, где доктор показывает посетителям больных и говорит: «Видите того чокнутого? Он воображает, что он Наполеон. В то время как на самом деле Наполеон это я».
И вот вчерась, а может, лучше сказать, давеча и надысь, наше мирное бытие, которое определяет наше сознание, было нарушено неприятным происшествием.
Ты заметил, дорогой дядя, что приключения со мной, как и было запланировано, начались в день приезда еще в поезде, где я проделал обычный трюк, попутчик же подумал, что я растаял в воздухе. Сообщаю тебе, что все идет по плану.
Сейчас у них здесь, я заметил, драка лириков с физиками перешла в партер, и теперь сражаются всякого рода оккультисты со всякого рода учеными. Ученые стоят на том, что ничего сверхъестественного нет, а их противники — что есть. Бедные оккультисты не знают, что действительно ничего сверхъестественного нет, но и ученые забывают, что нельзя изучить то, что еще не изобретено.
Смешно, что я пишу об этом именно тебе, но ты настаивал на подробностях. Теперь о происшествии.
Дневной свет в мою комнату попадает через окно над дверью. Это неудобно только по воскресеньям, так как в остальные дни я ухожу и прихожу затемно. И вот именно в это воскресенье я сижу на кровати, и думаю, чем бы заняться, и почувствовал нужду, которую не отложишь. Подошел к двери и вдруг увидел, что забыл перенести ручку внутрь, а дверь захлопнулась. Я постучал — никакого ответа. Я стал барабанить в дверь и понял, что остался один.
Хозяйка ушла в промтоварный кооперативный магазин сдавать килограммы личной картошки и получать в обмен государственные метры ситца, чтобы обменять их на антикварные книги, которые она меняла на облигации трехпроцентного займа, крайне необходимого ей для потусторонней жизни.
Но мочевой пузырь аргументов не приемлет, и я стал с криками «горим!» кидаться на дверь. Но жалкая дверь не поддавалась. Меня ослабляли неприличие мотива моей попытки освободиться и образ хозяйки, которая, вернувшись, увидит, что дверь сломана. В общем, это было совсем не то, что тащить автомобиль с девушкой, похожей на шаровую молнию. Пузырь есть пузырь. Он ослабляет. Меня всегда мучили догадки — как поступали рыцари в стальных доспехах, когда им приспичивало.
Потом я услышал шаги нескольких людей и в замочную скважину увидел, что нас обворовывают.
Я начал орать еще громче, но они, поняв, что я заперт, не только не освободили меня, но стали действовать еще быстрее и нервнее.
Однако ситуация опять изменилась. Едва они успели уложить облигации в чемодан типа «дипломат», как дом наполнился голосами. Это на мои вопли и грохот сбежались посторонние лица. И не успел я с ними войти в контакт, как жулики объяснили им, что я и есть грабитель, а они, мол, меня заперли. Затем, велев им сторожить меня, жулики побежали якобы вызывать милицию.
Когда же я пытался объяснить не знакомым мне лицам «ху из ху» и почему мне надо выйти, они гнусно отвечали:
- Ничего… Ничего…
Тут вернулась Евангелина Кристаловна и, увидев посторонних лиц и увидев, что ее ограбили, стала кричать громче нас всех.
Меня отомкнули, когда пришла милиция, которую действительно вызвали жулики по телефону-автомату.
Нас всех забрали для выяснения, и я всю дорогу страстно твердил, глядя на проплывающие мимо пейзажи:
- Быстрей… быстрей…
Потому что меня не отпустили в дачный нужник, боясь подвоха.
Я вздохнул свободно только в стационарном туалете отделения милиции.
Потом нас выяснили. Причем хозяйка в невменяемом состоянии отреклась от меня, сказав, что знает меня, в сущности, неделю. Это было несправедливо, потому что ведь и я, в сущности, знал ее столько же.
Потом всех отпустили, кроме меня. Что естественно. Так как все были местными жителями, а я пришелец.
Дорогой дядя, я провел в отделении почти двое суток, поскольку лишь в понедельник можно было дозвониться в мою Академию и вызвать кого-нибудь для опознания.
В этом участке я познакомился с разными людьми и узнал много нового, полезного для нашего дела. Но об этом в следующем письме.
Вернувшись в свое жилище, я сказал хозяйке, что тоже не вижу над ее головой никакой ауры, И пообещал, что не буду видеть и дальше. Она огорчилась. Дорогой дядя, это было мелко с моей стороны, и я огорчился. И ведь действительно, ну пусть у нее будет аура, что мне, жалко?
9
Дорогой дядя!
…Когда еще мы жили на Буцефаловке, там процветали два кандидата в разные науки, один в велюровой шляпе, другой — в фетровой, которые боролись против посягательств на любую науку. И когда на науку кто-нибудь из Буцефаловки посягал, то они зеленели. А так как на науку всегда кто-нибудь посягал, то они были вечнозеленые. Оба они были идиоты. Но первый был глупее вдвое, потому что думал, будто он вдвое умнее другого.
Но так как каждый из них думал о другом то же самое, то оба они были вчетверо глупее, чем казались.
И вот вышли они однажды летним утром из двух парадных и столкнулись с невероятным явлением. Там, посреди дворцового комплекса Буцефаловки, была клумба без цветов, но со стеклянным шаром, как бы для эстетики. И этот шар был в тот день наполовину в тени, наполовину на свету. И кандидаты, случайно пощупав, обнаружили, что как раз в тени шар горячий, а на солнце — холодный! И кандидаты поняли — надо объяснить. Иначе Буцефаловка объяснит сама и на какую-нибудь науку посягнет.
Они ахнули и стали писать формулы и теории — на бумаге и на песке — и, рассорившись, ушли в свои парадные писать рефераты наперегонки.
Тогда вышел дворник Рафаил, казанский пришелец, и, пощупав шар, повернул его, как он и делал это каждое утро, чтобы шар не перегревался. И больше про этот шар рассказано не будет. Но Буцефаловка хохотала.
10
Дорогой дядя!
После того как Кристаловна узнала, что я работаю в Академии наук, она призналась, что видит надо мной нимб золотого перелива. А когда на вопрос, кем я там работаю, я ответил:
- Аферистом.
Она ничему не удивилась и только спросила:
- Научным?
- Нет, — сказал я. — Антинаучным.
Она поверила мгновенно и только робко спросила:
- В какой области… если не секрет, конечно?..
Я ей сказал, что все области секретные. Она покивала головой и сникла. Тогда я ей сказал:
- В области бессмертия.
Она и этому поверила. Они тут поверят чему угодно, если это скажет человек, который там работает.
Услыхав слово «бессмертие», она двое суток ходила вокруг меня и смотрела такими глазами, что стены стали просвечивать. Чтобы не дать ей погибнуть, я ей сказал:
- Ну, хорошо… только вам.
- Ни-ни… никому, — затрепетала она.
Из чего стало ясно, что слушателей у меня будет навалом.
Я ей сказал, что в том отделе, где я работаю в области бессмертия, достигнуты поразительные успехи — одна обезьяна уже бессмертна.
— А ей было не больно? — спросила она.
- Обычный укол, — сказал я, — в задницу.
- А как вы добились таких результатов? Это уже было интервью.
В науке существуют два типа ученых. Один, как дождевой червь, продвигается вперед ровно настолько, сколько пожрет впереди себя и выпустит сзади. Второй — громко чихает в комнате и бежит на улицу посмотреть — что от этого изменилось во Вселенной.
- А вы? — спросила она.
Чтобы она не умерла, я сказал ей:
- Я ученый третьего типа… Меня зовут, когда надо отыскать «уголок». В каждой проблеме есть какая-то простая хреновина, какой-то «уголок», без которого ни-ни. А что означает этот термин — не знает никто.
- И вы специалист по «уголкам»? — с почтением спросила она.
- Да, знаете ли, — сказал я и тут же захотел блеснуть. — Ну, к примеру, облигации вам вернут.
Она почти перестала дышать.
- Я вижу у вас в руках список номеров облигации, — сказал я. — А копия была? Через копирку?
- Осталась с облигациями…
- Ну вот видите, — сказал я.
- А-а…
- Они побоятся… И подкинут.
- Надо срочно в милицию, — вскричала она, простирая руки, как Ассоль, увидевшая корабль Грея.
- Они сами сюда идут, — небрежно сказал я.
Дорогой дядя, ты, конечно, понял, что я издалека увидел машину, в которой я так страдал от малой нужды. А когда из нее вылез милиционер со свертком, я догадался об остальном.
- Академик, — сказал старшина, — привет!
И они с трясущейся хозяйкой стали сверять номера по списку.
Потом были сумбурные попытки усадить всех за стол и дождаться пирога, который она тут же испечет, и долгое топтанье в передней с криками:
- Возьмите вашей жене!.. Сейчас такие носят!
- Гражданка! Гражданка! Я вас задержу!
И это бы никогда не кончилось, если бы машина за воротами не крякнула. Хозяйка совсем обезумела.
Когда все утихло, она открыла ящик комода и демонстративно, чтобы я видел, что от меня у нее тайн нет, сунула туда пакет и накрыла его фирменными дамскими трусиками, о которых я теперь точно знал, что такие сейчас носят.
- Да, — сказала она, глядя на меня из зеркала над комодом, — не дождаться мне бессмертия.
- Ну почему же, — уклончиво сказал я. — Вот уже обезьянка…
- Такие переживания и старят нас, — сказала она. — Вся надежда на науку. Вы волшебник… Зовите меня просто Кристаловна.
И пошла испекать пирог.
Дорогой дядя, за эту неделю я узнал поразительные вещи о моей хозяйке. Когда Кристаловна потеряла свою ауру, она как-то сразу опустилась до моего уровня и человеческим языком, наконец, объяснила мне, для чего ей собственно нужны облигации и деньги. Она сказала: «Не знаю». И тем сразу стала близка мне и понятна, как родная. Потому что, несмотря на все попытки понять феномен денег, я так и не знаю, зачем они. Я никогда не мог понять, почему нельзя обменять сосиски на кепку и почему я сначала должен продать кепочнику сосиски и получить от него деньги, а потом у него же купить на эти деньги кепку, то есть дать кепочнику его же деньги. В то время как гораздо проще сказать: махнемся.
Дорогой дядя, после одного рокового случая, который был описан в послевоенном «Огоньке» и который я пересказываю, как Алексей Толстой про «Пиноккио», то есть под своей фамилией, я понял, что никогда и ничего не пойму.
У метро две женщины торговали пирожками такой аппетитности, что им самим хотелось их пожирать. Одна продавала пирожки с рисом, другая — с повидлом. Всегда хочется. Всегда хочется того, что есть у соседа. Пирожки стоили одинаково — медный кружок с цифрой «пять». Это экспозиция. Дальше драма. Одна другой отдала пятак и получила пирожок с рисом. Вторая же пятак дала первой, и получила за него — с повидлом. Съели.
Повторили операцию много раз. В результате за один пятак пожраны две корзины пирожков.
Когда их забрали — они не поняли, почему. Я до сих пор не понимаю. Феномен денег. Или взять такой случай, как оказалось, понятный только мне, специалисту по «уголкам». Дорогой дядя, я ни от кого здесь не могу получить ответа на один простейший вопрос. Вот он.
Сегодня Европа борется против установки у себя кошмарных ракет. Все твердят: «Политика! Киноартист! Страх!» А «уголок» всей ситуации — в словечке «по-чем». Если перестать за оружие платить, то что будет?.. То-то.
Если Европа перестанет платить за свою собственную могилу, то что будет? Гонке конец. Но они так привыкли к гипнозу и наркозу сложности, что все силы у них уходят на то, чтобы выкручиваться из последствий. А кому надо — тщательно скрывают «уголок». А то еще был такой случай. Ну ладно. В другой раз.
Короче. В конце этого бурного воскресенья, поедая сыроватый пирог, я не поленился и рассказал Кристаловне про бессмертную обезьяну.
Трудно сказать — бессмертна она или нет, но факт тот, что она прожила втрое больше положенного и выглядит весело. Это одна сторона проблемы. Вторая сторона возникла, когда с этой обезьянкой решили провести эксперимент.
Есть известная научная байка, утверждение, такое же дурацкое, как насчет буриданова осла, только речь идет литературе. Дескать, если посадить за пишущую машинку бессмертную обезьяну, то она, бесконечно лупя по клавишам, среди хаоса букв напечатает всю возможную литературу — прошлую и будущую. Кое-кто понимал, что это чушь, но решили попробовать. Усадили. Обезьянка начала лупить по клавишам и лупила несколько лет. И действительно, среди полной бессмыслицы стали появляться слова, потом фразы, потом абзацы, и притом очень недурные. Компьютеры установили, будто есть куски из «Божественной комедии». Полный восторг.
И тут — крах. Начался регресс. Все покатилось назад. Опять — хаос букв и отдельные слова. Что такое?! Ожидать следующего цикла невтерпеж. Обезьяна-то бессмертная, а сотрудники нет. В чем причина? Неизвестно. Бились, бились…
- И тут, Кристаловна, — говорю, — позвали меня.
- Специалиста по «уголкам»?
- Да, — говорю, — специалиста по «уголкам».
- И что же оказалось?
- Оказалось, обезьяна смекнула: как только она напечатает всю возможную литературу, ее перестанут кормить.
Кристаловна долго молчала. Ее мысли я прочел легче, чем у обезьяны.
- Ну, это же ясно, — сказала она. — Если в жизни что-нибудь не ладится — ищи, кому это выгодно.
Это было колоссально. Закон Кристаловны.
Дорогой дядя, даже Кристаловна поняла, что это относится ко всему. Если в жизни что-нибудь не ладится — ищи, кому это выгодно.
11
…Как начали они хохотать, как начали…
12
Дорогой дядя!
…Когда мы еще жили на Буцефаловке, я тогда об «уголках» почти ничего не знал, но уже чувствовал неладное.
Видишь ли, меня всегда смущала история Каина и Авеля.
С Каином более или менее понятно. Пришил брата нехороший человек, убийца и склочник. И все Каиново отродье понесло наказание. До сих пор несет. Каиново отродье — это мы, человечество. Но вот Авель для меня всегда был фигурой сомнительной и темной! Его угробили, и он остался в тени. А жаль. Ведь, по существу, Авель — первый человек, который принес в жертву, то есть в жратву кому-то живое теплокровное существо. А Каин считал, что этому «кому-то» годится и морковка.
Вся история крайне подозрительна. И, прежде всего, тем, что неизвестно, кто сообщил братьям божье одобрение жратвы кровавой и неодобренье вегетарианской. Из того же первоисточника известно, что после первой парочки, Адама и Евы, бог общался лично только с Моисеем. Все остальные знали о нем понаслышке.
Я к тому, что даже начинающему следователю прокуратуры было бы ясно наличие в этой истории третьего лица. А именно — профессионального посредника и толкователя божьих оценок, то есть жреца.
В этом случае понятна чисто жреческая страсть к убоине и неприязнь к гарниру. Единственный вариант, когда присутствие третьего лица необязательно, если Авель жаркое сожрал сам, а свалил на потусторонние силы. Как это происходит и по сей день. То есть, это если Авель сам был жрец. А жрец — это тот, кому по таинственным причинам надо приносить жратву — желательно мясную, с кровью и без очереди. По сей день годится и человечина — как это выяснилось из недавних показаний повара одного бывшего африканского диктатора, божественного отца нации.
Ах, Авель, Авель!.. С Каином все ясно, но Авель!.. Не то он бедняга, поддавшийся на провокацию жреца, чье имя, по понятным причинам, утрачено, не то он сам жрец с тихим лицом прохиндея.
Бог — он хороший, он терпит всех — и детей, и тех, кто их убивает, и жертв, и тех, кто их жрет, и тех, кто его истолковывает, и тех, кто его отрицает. Всех терпит, терпит, а потом ка-ак даст! Кое-кто на это надеется, а остальные не плошают и жрут. Это относится ко всем без исключения жрецам, в том числе и жрецам науки и искусства. Однако сегодня к жрецам науки — особенно. Потому что, хотя наука и искусство по закону — как бы равны, но наука гораздо равнее.
13
Дорогой дядя!
Я не настолько наивен, чтобы не понимать, как ты насторожился, когда я описал коварный, двусмысленный и роковой случай с железной кроватью и девушкой. Спешу тебя заверить, что та любовь, которая могла бы мгновенно кинуть нас друг к другу, тут же увязла в бесчисленных громоотводах и была поглощена всей массой Земли. Потому что для этой планеты любая молния любви — не больше искры в волосах у молоденькой девушки, которая расчесывает гребнем свои промытые полосы. Но не в этом главное.
Все, что у других женщин выясняется постепенно, в этой я увидел сразу. То есть впечатление от нее было такое — она не обещает ничего другого, кроме того, что она есть. Но она производила впечатление шаровой молнии. Будто она в комнате медленно движется по воздуху и, хотя огибает мебель, но проходит сквозь стены. Конечно, я говорю о ее душе. Потому что тело ее гармонично.
Я разглядел ее на пляже водохранилища, где она в сплошном купальнике лежала на спине, закрыв глаза и свободно вытянув руки вдоль тела. Она была сильная и плавная. Кисти рук и ступни у нее были сильные и маленькие.
Я догадался, что она здесь, когда увидел машину ее спутника, которая стояла на траве. А внизу, на пляже, почти не видно было песка — столько было людей. Дорогой дядя! Ты знаешь, я оказался не одинок. Из машины вылез ее владелец, знакомый мне, а теперь и тебе, добавлю я. Он кивнул мне и, увидев, куда я гляжу, сказал, усмехнувшись:
- Мы прекрасно понимаем, о чем идет речь.
- Мы еще ни о чем не говорили, — отвечал я.
- Разговаривать можно и не словами, — сказал он.
Увиливать дальше было бы недостойно звания твоего племянника, дорогой дядя, и я сказал:
- Ну?
- Никто не знает, чего она хочет, — сказал он. — Теперь и вы уже начали маяться.
- Она так популярна? — спросил я.
- А вы думаете, что вы первый? Я надеялся на это. Он угадал.
- Популярностью это назвать нельзя, — сказал он. — Просто каждый, кто ее разглядел, начинает думать — что ей надо?
- И много таких? — вяло спросил я просто, чтоб поддержать разговор.
- Весь пляж, — ответил он.
И тут я вдруг осознал то, что показалось мне странным, когда я глядел вниз, с откоса. Никто из мужчин, загоравших под пыльным солнцем, не глядел на лежавшую на песке прекрасно сложенную девушку. Только женщины поглядывали на нее искоса — и то лишь, когда мимо нее проходил кто-то из купальщиков или новичков.
- Неужели вы думаете… — начал я.
- Каждый, кто ее разглядел, думает, что он сделал открытие, — сказал он. — Но никому об этом не сообщает. Можно ли назвать это популярностью? Однако, видите, как насторожены женщины? Их не обманешь.
- А это не фантастика? — спросил я.
- Что именно?
- Ну то, что весь пляж…
- Но ведь и мы с вами обдумываем то же самое, — сказал он. — Неужели вы думаете, что вы один такой умный? Москва — большой город.
Это было резонно. Дорогой дядя, Москва — очень большой город, и умников в нем не счесть.
- А кто она? — спросил я.
- Только не идите этим путем, — сказал он. — Тут все истоптано следопытами… Семейное положение, происхождение, профессия… Тут пути нет… Ни одно экспресс-обобщение или тем более анализ — не проходит… Однако из тех, кто ее разглядел, многих томит смутное беспокойство, как будто она сама готовится сделать какое-то огромное обобщение.
- А ваше предположение? — спросил я.
- Откуда мне знать, что у нее на уме!
- Я не про ум, — сказал я. — Кто она все же, по вашему мнению? Он пожал плечами.
- Женщина, — сказал он.
Он глядел глазами чистыми, как у Авеля.
Дорогой дядя, спешу сообщить тебе, что я немедленно покинул пляж. Да и гитару, которую принесли с собой пожилые архитекторы, с компанией которых я приехал, у нас сперли. Так что делать нам здесь, на пляже, было решительно нечего. Не купаться же? Дорогой дядя, мне кажется, я понял, зачем я оказался здесь. И ты понял? Правда? Я не ошибаюсь? Она — женщина.
Не одна из тех конкретных, периодически хохочущих и визжащих заполошных особ, каждая из которых, не понимая себя, уверена тем не менее, что понимает всех, а та женщина, которая однажды должна была родиться. Видно, время ее пришло.
Ты знаешь, самое поразительное и, как ни жаль, самое неинтересное — что в этой девушке никакого символа нет.
Впрочем, символы — они в голове. Для символа она была слишком телесная. Но она была признак чего-то.
Дорогой дядя, ты видишь, сколько вздорных мотивировок у простого желания заманить молодую особу на старую кровать со свалки? В этом отношении я как все. Что делать. Я сам смеюсь. Дорогой дядя, на том и держимся.
14
Дорогой дядя!
Если бы я в этот день не пошел обедать к Ралдугину в его театральную столовую, я бы не встретил Субъекта.
Помните, дорогой дядя, того самого, с которым мы подъезжали к столице и рассказывали байки.
Итак, я пошел обедать к Ралдугину и встретил Субъекта. Он был пришибленный. Он стоял у служебного подъезда театра и мучительно вглядывался то в дождливые облака, то и сырой асфальт — для видимости, а на самом деле он незаметно разглядывал прохожих, будто ждал кого-то. Меня он, конечно, не узнал.
- Вот субъект, — раздраженно сказала дама с неподъемной сумкой продуктов, протискиваясь мимо него из служебной двери, ведущей в театральный буфет.
- Это верно, — сказал он. — Я субъект. — А потом добавил: — Когда же доктор придет?.. Тут я ему говорю:
- Идемте в буфет, что вы так огорчаетесь. …Ну, придет доктор, придет. Не придет — другого позовем. А в буфете, по крайней мере, сухо.
- Вы думаете? — спрашивает.
- Чего мне думать? — подчеркиваю я. — Я твердо знаю. И вы не думайте.
- Ладно, — говорит, — я постараюсь. Но меня это дело измучило.
- Какое дело, — говорю. — Никакого дела нет и не может быть.
Я его отвел от двери, и мы стали спускаться в нижний буфет. Железная лестница гремит, будто два скелета на железной крыше играют в домино.
- Какая шумная лестница, — говорит.
- Да, — говорю, — шумная… А вы не обращайте. Дался вам этот доктор.
- Ну что вы, — говорит он, — я в него очень верю.
Тут совсем стало теплым-тепло, и запахи рванули необыкновенные — не то клей варят, не то одеколон пьют, и у меня аппетит пробудился и разыгрался.
- Подождите, — говорю, — сейчас Ралдугина спрошу, чем сегодня кормят. Он мой старый друг еще с Буцефаловки.
- Не все ли равно?
- Ну что вы! — говорю. — Это важнее важного. В здоровом теле здоровый дух.
- Дух? — спросил он. — Никакого духа давно нет.
Тут я дверь открыл, где ралдугинские бабы примеряют финские сапоги, и вижу, самого нет нигде, а в цинковой мойке над посудой пар стоит, как в бане. Давно я здесь не был. Стены цветной масляной краской покрасили, цвета беж, переходящий в бордо с пузырями.
- Ралдугин! — кричу. А он сзади подошел.
- Ну, чего тебе?
- Джеймс, — говорю. — Чем сегодня кормишь?
- Фрутазоны с шампиньонами и эклеры по-флотски.
- А свежие, — спрашиваю, — фрутазоны-то?
- Позавчера были свежие… А вы к вентилятору садитесь за мой стол, за круглый… Девочки! Первое и второе — два раза.
И ушел.
- Грубиян какой-то, — говорит мой Субъект.
- Что вы, — говорю, — Джеймс? Никогда.
Ну, вошли в зал, сели к вентилятору, у самого окна, и покушали первое и второе. Фрутазоны с шампиньонами были так себе, зато эклеры по-флотски — пальчики оближешь. Оближешь и плюнешь. Но уборщицу жаль, тетю Женю.
Сидим, перевариваем, он приободрился — в окошко смотрит, прохожие ноги разглядывает. А смотреть ни на что — одни брюки. Я ему говорю:
- Вот когда я работал художником в Министерстве торговли, на Кировской, там был лифт, называется «патер-ностер».
Кабинки без дверей и движутся вверх и вниз, по потребности медленно, люди на ходу садятся. Поэтому мужчины всегда на работу опаздывали. Соберутся и ждут, пока секретарши и машинистки вверх едут. Тогда юбки не очень длинные носили.
- «Патер-ностер», — говорит мой Субъект, — в переводе с латыни означает «отче наш».
- Неужели? — говорю. — А может, «боже мой»?
- Устройство этого лифта напоминает четки, нанизанные на шнур в виде замкнутого контура… по которым монахи отсчитывали молитвы — «Отче наш иже еси на небеси и т. д. и т. п. и пр. и др.».
- Тогда этот лифт можно назвать скорее «мама родная», — говорю, — там такие картины открывались, если вверх смотреть! А теперь штаны носят.
- Потому рождаемость падает.
- Рождаемость как раз растет… Такая теснотища, — говорю. — Семьи падают.
- А вам не кажется, что жизнь напоминает этот лифт «отче наш», или, если хотите, «мама родная»?.. Какое у вас образование?
- Два высших и несколько средних, — отвечаю уклончиво, но неукротимо. — А как по-латыни «мама родная»?
- Я не знаю, — говорит и хлебом в соль тычет.
- А может быть, «мама мия»?
Тут первое действие кончилось, в зал врываются электрики, пастижеры и некоторые артисты и артистки, шумят о сверхурочных, премиальных, киноставках и тащут на столы фрутазоны с эклерами, и перебили наш разговор. И я заорал, перекрывая шум:
- Чего вам дался этот доктор?!
- Кто-то же должен все это вылечить! — заорал он.
- Что именно?! — ору я.
- Мир! — орет он. — Людское сборище. И я понял, что обрел союзника.
Тут актеры нажрались и поскакали доигрывать второй акт. И я ему говорю:
- Обменяемся идеями. Я полагаю — дело в чем-то очень простом. Он поколебался и рассказал мне историю своей жизни. Вкратце.
- Где вы работаете? — спросил я. — Нет, нет, я не спрашиваю, чем вы занимаетесь. Сейчас все системы секретные, тем более темы.
- Ради бога! — сказал он. — Ради бога не смейтесь… Я впал в совершенное ничтожество. И виноват в этом я сам.
Он кончил физмат, и его распределили на балалаечную фабрику. Его отправили туда заниматься акустикой потому, что он закончил свой факультет лучше всех, а тогда этого не любили.
- Сам виноват, — сказал Субъект. — Надо мне было высовываться… Кончил бы себе отличником, вышел бы, как все, в доктора, а я хотел в член-корреспонденты.
Но потом времена резко переменились, его взяли в институт зоологии, и он занялся чистой математикой и стал изучать число «пи», — только чтоб его не трогали. И он занимался им много лет. И были ученики. Личные.
И именно здесь его ждало самое большое потрясение, как математика и как человека. Линдеман доказал, что число «пи», которое знакомо каждому олуху и входит в описание окружности, есть не только число приблизительное и даже иррациональное, но еще и трансцендентное, то есть как бы потустороннее.
И тут его ученик, некто А. Зотов, который по семейным обстоятельствам в институт не пошел, а после армии поступил на электронный завод, познакомил его с теорией всем известного Сапожникова о двух материях, одна из которых — «вакуум», возможно, даже живая и пульсирует, а вторая — известная всем материя частиц, которая неживая, зависит от пульсации первой и только вращается.
И Субъект с ужасом понял, что если Сапожников прав, то он, Субъект, сделал открытие. Потому что тогда есть простое объяснение числа «пи», и потому мысль о том, что окружность есть бесчисленное множество прямых отрезков, — есть мысль ошибочная. Он понял, что кривая есть признак вращающейся частицы, а прямая есть признак другой материи, которая пульсирует по радиусам шара. И, значит, кривая и прямая просто не переводятся одна в другую, потому что принадлежат разным материям. Но оказалось, что А. Зотов уже сделал и это открытие.
Это его настолько поразило, что он стал об этом болтать, что, конечно, не привело к добру. Когда же он додумался, что если вдруг вакуум — материя живая, то она, возможно, не поддается исследованиям потому, что все исследования — силовые, хамские, а она этого может просто и не хотеть. И что для исследования этой материи, может быть, подходит один способ — любовь. Но оказалось, что А. Зотов и до этого додумался, хотя при этом всегда добавлял «хе-хе», так как в любовь не верил.
Сами понимаете, что из этого вышло, когда за него взялся профессор Мамаев-Картизон. Профессор Мамаев-Картизон вызвал его в кабинет и, тщательно заперев дверь, обвинил его в поповщине.
- Вы развенчиваете науку, — сказал он.
- Нет, это не так, — сказал Субъект. — Я ее прославляю.
Тогда профессор Мамаев-Картизон опять обвинил его в поповщине. И велел ему, как тому Галилею, отказаться от своей идеи.
Субъект, скрепя сердце довольно большой зарплатой, от идеи отказался. Но, выйдя в коридор, прошептал:
- А все-таки она пульсирует.
А профессор Мамаев-Картизон запер дверь на ключ и, покосившись на запертую дверь, бегло перекрестился. А потом подписал приказ Субъекту об отмене его должности по сокращению штатов. И отменил Субъекта.
Но тогда Субъект стал решительный, и у него вперед выступила челюсть, и его стали опасаться. И он уехал на Север, где повел себя решительно и стал влиять на жизнь. Во всех учебниках написано, что воздух на Севере разреженный, как в горах, и поэтому, хотя люди там дышат быстро и часто, хы-хы, у них кислородное голодание. С этим борются за большие деньги — кислородное лечение, искусственный климат и всякое такое. А Субъект сделал пробы воздуха, и оказалось, что в нем кислороду сколько надо. А люди дышат часто, по-собачьи, просто потому, что он холодный. И у них работают лишь верхушки легких. И от этого — кислородное голодание.
И он написал докладную, что нужно не лечение кислородом, а получше протапливать помещение.
Но тут ему эту Болдинскую осень прикрыли и отправили восвояси. Потому что иначе пришлось бы исправлять учебники, а с бумагой у нас туго.
- Где вы теперь работаете? — спрашиваю.
- В Академии наук, в отделе фармакологии.
- А кем?
- Шталмейстером-маркшейдером.
- А-а, — говорю.
Но тут из недр производства пищи повалил такой запах, как будто в казарму спящего пехотного батальона внесли букет роз за полчаса до побудки.
- Теперь и у нас будет кислородное голодание, — говорю я, глядя на его побледневшее лицо, — вентилятор то отключили.
Тишина в буфете — как плоская волна у берега. Только суповая ложка позвякивает, которой горчицу выгребают на тарелку.
- Да, — говорю. — Земля горит. Одному бежать подло, вместе гореть — глупо. А главное — некуда бежать.
- Вам хорошо, художникам, — сказал он традиционно, — вы не знаете жизни.
- Судя по тому, как в мире идут дела, вам, ученым, еще лучше, — сказал я.
А потом я отставил недоеденное, потому что вспомнил Каина и Авеля и ихнего жреца.
- А знаете, Субъект, — говорю, — чтоб волки были сыты и овцы целы, надо волков кормить овцами, умершими естественной смертью.
15
Дорогой дядя!
У нас на Буцефаловке жили дед да баба, и была у них молодая домработница Филофеевна с рябым лицом, по прозванию Курочка Ряба. И положил дед на нее глаз. Рассказывали, будто он, чтобы проверить свои мужские способности, сходил к врачу, и тот написал диагноз, что у деда «МТС».
Дед гордый вернулся с диагнозом и объявил, что он еще «ого-го», что он как трактор. Бабка, понятно, не поверила и пошла к этому доктору объясняться. Но тот ее утешил и сказал, что диагноз «МТС» означает «Можно только сикать».
Буцефаловка хохотала, а у меня, мальчишки, разгорелся спор с Филофеевной, Курочкой Рябой.
Ей было уже двадцать лет, и она была толстая. Она только что приехала в Москву побеждать, и губы у нее были потрескавшиеся. У нее были очень высокие представления о любви, о которой она знала по песне, бывшей лермонтовской, про царицу Тамару, и очень невысокие представления об остальной жизни. О любви она говорила, облизывая пересыхающие губы: «За одну ночь жизнь отдают». А о жизни знала, что все воруют, и мечтала поступить в хлеборезки.
Буцефаловка еще была новостройкой, и казалось, вот-вот завтра будет построен новый человек, а мы перевоспитаемся образованием или переобразуемся воспитанием. Но прошло полвека, и обнаружилось, что образование не воспитывает, а воспитание не образовывает.
И что хотя действительно бытие определяет сознание, но из этого не вытекает, что хорошие условия создают хороших людей. Потому что эти хорошие условия создают одни люди, а живут в них другие. То есть потомки.
Бытие объективно, потому что, знаешь ты об этом или нет, а оно есть. Но бытие бывает не только мертвое, вроде скалы, которая ничего не хочет, а и блохи, которая хочет. То есть бытие и сознание связаны не впрямую, а через желания тех субъектов, которые этот вид бытия и создают. Поэтому возможны непредвиденные перемены.
- Нет! — вскричал я. — Хлеборезки не воруют.
Тогда тоже вопрос с хлебом стоял остро, но по-другому, чем теперь. Его не хватало, и никого не уговаривали его беречь.
- Почему же не воруют? — спросила Филофеевна и облизнулась.
- Потому что их проверяют! — вскричал я.
И быстро выдумал довольно сложную систему проверки — общественной, механической и даже электрической.
Я затормозил, когда заметил ее усмешку.
Филофеевна смотрела на меня как на идиота. Она знала, как обстояло дело, а я не был уверен в своих фантазиях.
Когда я много лет спустя был на Буцефаловке, то я узнал, что Филофеевна умерла богатой хлеборезкой, занимала к тому времени уже всю квартиру тех старичков, к которым она поступила домработницей, а потом взяла их под опеку. Но что меня поразило больше всего, это что квартиру теперь занимал внук Филофеевны — очень-очень богатый человек и очень-очень образованный. Он собирал книги. По специальности он был наладчик электронных весов. Ему некоторые магазины платили бешеные деньги, чтобы при наладке весов он ошибался на пять грамм в пользу магазина.
Я узнал обо всем этом от Толи-электрика из наших краев, с которым встретился в очереди у автомата, разливающего вино.
Очередь была длинная, но двигалась на удивление быстро и беззвучно. Люди подходили молча, а отходили и вовсе неслышно. Оказалось, что автомат испорчен в пользу клиентов и разливает вино даром. Я было усомнился брать, но Толя сказал:
- Ничего… Недоливы пьем… Автоматика свое возьмет…
- С кого возьмет? — наивно спросил я.
- Да с нас же и возьмет, — ответил Толя.
И рассказал мне много поучительных историй про различные машины, в том числе и про электронные весы.
И я, специалист по «уголкам», не знал тогда, какие причины у всего этого — объективные или субъективные.
И только сейчас знаю — «рибосома».
Рибосома — это такая штучка… В общем, это такая хреновина, которая не эволюционирует. Все живое развивается, а она нет. Представляете себе? Все изменяется, а эта хреновина, эта штучка не изволит. И миллионы лет назад она была такая же, как теперь. Доказано.
Мало того — она одинаковая у всего живого: и у амебы, и у киноартиста, и у жулика, и у праведника, и у кита, и у китобоя. Нет, это надо же! Ученые руками разводят перед этой машинкой.
Почему машинкой? Потому что машинка не развивается, она не живая. Нельзя сказать, что, мол, радиоприемник доигрался до телевизора. Их изобретали по отдельности. И все неживое, все дохлое не эволюционирует, а только распадается. Так велит термодинамика, термодинамика — наука о теплодвижении.
Она же утверждает, что вся материя Вселенной была некогда собрана в одну кучу и так стиснута, что взорвалась, и с тех пор Вселенная лишь разлетается — в виде звезд и галактик и так далее.
И тогда нам, троим приятелям — Сапожникову, мне и Витьке Громобоеву пришли в голову три соображения, которые вытекали одно из другого.
Вообще-то нам в голову лезли многие мысли, но эти три — главные.
Сапожников спросил: «Если вся материя была собрана в одну кучу, то что было вокруг?» Потому что доказано — пространства без материи не бывает. И предположил, что вокруг была другая материя — Вакуум. И что жизнь есть взаимодействие этих двух видов материи.
Я же спросил: «Если вся материя была собрана в одну кучу, то что же было до этого?» Потому что доказано — материи без движения тоже не бывает, и, значит, эта куча сначала из чего-то скапливалась и слипалась, что потом и рвануло. И предположил, что до этого была другая, пра-Вселенная, а значит, и другая працивилизация.
Громобоев же, этот молчун, тогда спросил: «Но если жизнь — это взаимодействие двух видов материи — вакуума и частиц, и до нашей Вселенной была другая и другая цивилизация, то она была именно другая, так как ничто не повторяется». И предположил, что рибосома — это сверхуниверсальный инструмент для любого поведения, изобретенный той цивилизацией и подаренный этой.
То есть ушедшая цивилизация дала нам шанс. Но от нас зависит, как мы им воспользуемся.
Глава вторая. Знание — сила
16
Дорогой дядя!
На твой запрос отвечаю:
Москва большой город.
В нем не то 7, не то 10 миллионов человек, а это значит, что Москва — очень большой город.
Москва состоит из квартир.
Некогда Москва состояла из дворцов и подвалов. Во дворцах жили порядочные люди, а в подвалах те, кто порядочных людей содержал. Таким образом, те, кто жили во дворцах, были содержанками.
А честолюбцы этого как бы не замечают. Они не замечают, что медленно, с поросячьим визгом немазаных колес земное население, простодушно именуемое «Человечеством», помаленьку встает с головы на ноги и перестает быть антиподом самому себе.
И вот в очень большом городе Москве, на одной из бесчисленных улиц, в одной из квартир, я когда-то родился…
И это очень важно, что я родился.
Можем ли мы назвать мое рождение случайным? Это зависит от точки зрения. Если смотреть на мое рождение, стоя на голове, то да, это Случайность. Если же на это будет глядеть человек, уже вставший на ноги, то есть переставший быть самому себе антиподом, то для него факт рождения будет выглядеть как симптом, признак, радостный вопль и улыбка гигантской, не поддающейся пока что осмыслению, грохочущей в беззвучные трубы, ликующей закономерности, которая выше всех остальных Закономерностей и называется — Жизнь. В самом деле, дорогой дядя, закономерность и случайность.
Одни говорят, что Наполеон проиграл Ватерлоо из-за насморка, и потому вся История Европы изменилась. Другие же, наоборот, говорят — нет, он потерпел крах, потому что изменилась История Европы.
Но ведь насморк-то все же был, и Бонапарт действительно командовал плохо? А все дело в том, что поскольку даже и у самой Истории есть своя огромная причина — жизнь, то, чтобы История Европы изменилась, нужна была битва при Ватерлоо, а чтобы сковырнуть Наполеона, понадобился всего лишь насморк.
То есть Ватерлоо и насморк были не последствиями друг Друга, а были последствиями общей для них причины, лежащей далеко за рамками пушечной пальбы и императорских соплей.
17
Дорогой дядя!
Я даже вспомнить ни черта не могу из того, что я чувствовал, когда сходил с ума от любви, а уж не то, чтобы испытать заново нечто подобное! Нет, правда.
Каждый раз любовь куда-то уходила.
Конечно, любовь свободна, но мир почему-то она не чарует. Вот беда. Иногда я встречал так называемых однолюбов с голодными глазами жуликов. У одного любовь была якобы в прошлом, другой якобы ее ждет. А те, у кого она якобы длится по сей день, в гостях играли спектакль, а оставшись наедине, разгримировывались. Вы видели когда-нибудь, как возвращается из гостей пара однолюбов? Если в лифте есть зеркало, поглядите на них. Лица такие, будто каждый из них другого приговорил. Ладно. Теперь о приключении со мной.
История с обезьяной стала широко известна, меня стали заманивать, а я — выкручиваться, и периодически мне предлагали попеть:
- Неужели вы больше не поете?
А я и не пел никогда. Поют певцы. А я делился чем бог послал. Они здесь совершенно не понимают разницы.
Но все же я бывал, понимаете ли, бывал… И вот однажды, возвращаясь из гостей, я увидел в лифте эту девушку, ну ту самую, о которой я уже писал тебе.
Она была в чем-то осеннем с шапочкой.
У меня бешено заколотилось сердце, дядя, веришь ли!
Она подняла на меня глаза и сказала:
- Я хочу от вас ребенка.
Я настолько обалдел, что спросил:
- Как? Прямо сейчас?
Лифт остановился. Раскрылись двери. Но она протянула руку и нажала кнопку верхнего этажа.
Когда двери захлопнулись, она размахнулась и хотела врезать мне по скуле.
Но я сделал нырок и провел прием из дальневосточной борьбы «кира-син», с захватом руки и обеих ног, и почувствовал, что они приятные. Потом нажал кнопку «стоп» и — первого этажа. Все это заняло не больше мгновенья. Двери снова раскрылись, и я пронес ее мимо лифтерши, как пастух несет телку в испанском фильме, я видел.
Лифтерша проводила нас глазами и снова стала читать журнал «Экран». В этом доме она и не таких видела гостей.
Ноша моя была изрядно тяжелая и мешала мне влезть в заказанное по вызову такси, но я терпел все. Как-никак я тащил будущую мать моего ребенка.
Таксист тоже ничему не удивился. Он тоже еще и не таких клиентов видал. Я сказал ему, куда ехать, заплатил в оба конца, и у него отпали все сомнения.
Когда мы поехали, пустые ночные улицы помчались нам навстречу, она положила голову ко мне на плечо, и я услышал спокойное дыхание.
Мы ехали молча, и я представлял, какая она будет с пузом. Эта картина мне нравилась. Когда мы вылезли из машины, ночной воздух был мокрый и липнул к лицу. Машина укатила, а мы стали уходить от запаха бензина в сторону темной дачи. У ступенек она сказала:
- Еще раз… Этот же прием.
И я снова перекинул ее к себе на шею.
Доски пола скрипели, как будто шел олимпиец, и я впервые порадовался, что моя дверь в коридоре первая и за ней нет окон.
В комнате я поставил ее на пол, перенес дверную ручку внутрь, и схлопнулся.
- Кого это вы притащили? — спросила Кристаловна из-за двери. — Пьяного?
- Нет, — честно сказал я. — Это обезьяна из Академии наук… Экспериментальная.
Когда я отошел от двери, где я на всякий случай загораживал замочную скважину, мою шею обхватили две голые руки, и холодный, как у щенка, нос уткнулся мне в щеку. Наутро Кристаловна постучала. Чтобы не разбудить спящую, я тихонько отворил дверь, приподнимая ее от пола.
- Ну что?.. — шепотом спросил я. Но она все же пролезла и уставилась на мать моего ребенка, которая все же проснулась.
- Вы и есть обезьяна? — спросила Кристаловна. Мать моего ребенка кивнула.
- Бессмертная, — сказал я.
18
Дорогой дядя!
Через месяца полтора, когда мы поохладели друг к другу настолько, чтобы можно уже было жениться, она сказала однажды:
- Что сделал Петр Первый?
- Он много чего сделал.
- Прорубил окно в Европу, — сказала она.
Ну, решили договориться с Кристаловной, что за мой счет («Почему за твой счет? За наш счет!») мы прорубим заднюю стенку моей (нашей!) комнаты и сделаем окно.
- А зачем? — спросила Кристаловна. — Вам темно?
- Нет.
Это правда. Я возвращался с работы только ночью, она тоже.
- Вам душно?
- Нет.
После случая с жуликами и дверной ручкой я над дверью сделал открывающуюся фрамугу.
- Так зачем же вам?
- Мы хотим прорубить окно в Европу! — заорал я. — Как Петр Первый!
- А что вы там ожидаете увидеть? — спросила Кристаловна.
- То же, что и Петр Первый. Белый свет.
- Не знаю, что увидел он, — сказала Кристаловна подчеркнуто. — Но вы увидите света не больше, чем через фрамугу.
- Это почему же? — спросила мать моего ребенка, бессмертная обезьяна, экспериментальная.
- Потому что там, где вы хотите сделать окно, вы увидите нужник, — сказала Кристаловна.
- И клочок неба над ним. И весь белый свет вам покажется с овчинку, которая не стоит выделки.
Она опять была права. За домом была наша уборная, мимо которой меня однажды провезли.
- А если ее перенести?
- Откроется нужник соседей. Все застроено.
- Да, — сказал я. — Вся Европа обращена к нам своими нужниками.
- А мы к ней своими, — сказала мать моего ребенка.
- Стоит ли прорубать окно? — сказал я. Она кивнула.
- Вы его и не прорубите, — сказала Кристаловна. И пошла себе куда ей надо.
- Все стало как-то символично, — сказала бессмертная, экспериментальная. И легла на кровать. Я тоже.
Фрамуга потемнела. Неужели мы так долго молчали?
- Ах, — прошептала она. — Я так мечтала поглядеть, хоть бы в щелочку.
- А что нам мешает? — спросил я. — Проковыряем.
Я дотянулся и вытащил из-под кровати дрель. Я высвободился из милых объятий, и, приставив дрель к стене, стал вращать ручку. Сверло легко прошло обои, штукатурку и почти без скрипа вошло в бревно. Потом во что-то уперлось. Это ясно, чересчур короткое сверло. Я как-то забыл про это.
- Погоди, — шепотом сказал я, — достану большой буравчик.
Дорогой дядя, я буравил и буравил, сначала там, где она мне показала, потом рядом. Результат был один.
Дорогой дядя, где бы я ни сверлил, и бурав и сверло (я догадался, что дело не в длине инструмента) упирались во что-то чересчур прочное для моих угасающих усилий. Дорогой дядя, я пишу так искренне и так простодушно, потому что у меня нет задачи, как у порядочного романиста, создавать «напряженку» из боязни, что читатель соскучится или утомится. Кому надо, дочитает, а кто не дочитает — тому не надо. Дорогой дядя, ты вправе спросить — неужели я опустился до того, чтобы писать для небольшого числа лиц? На это я отвечу, дорогой дядя, нет, нет и нет. Я рассчитываю не на тех, кто дотерпит до конца этого повествования, а на тех, кто доживет до того момента, когда продажных шкур, подобных профессору Ферфлюхтешвайну, будут развешивать на фонарях с криками «Са ира!» или еще с какими-нибудь криками. Потому что, если на минуту допустить, что этого не произойдет, то ни у этого повествования, ни у любого другого — читателей не останется.
Но так как жить хотят даже киноартисты, то я рассчитываю на многомиллиардного читателя, то есть на потомство, которое станет изучать, как мы тут буравили стенку и всюду натыкались на броневую плиту.
Да, дорогой дядя, дело было не в длине инструмента, а в том, что под штукатуркой и пасторальными бревнами была стальная броневая плита.
- Ну, что? — спросила за дверью Кристаловна, разбуженная нашей возней с инструментом.
- Ничего, — устало сказал я, опуская бурав.
- Накиньте на себя что-нибудь, — сказала Кристаловна. — Я вам все расскажу. Я не помню, у вас есть какой-нибудь стул?
- Зачем он нам? — спросил я с пренебрежением.
- Я принесу свой, — сказала она.
Мы оделись, зажгли свет и впустили Кристаловну со стулом. Глаза ее зловеще горели, как у Хозяйки Медной горы.
- Была не была, — сказала она. — Рано или поздно…
И она рассказала о своем покойном муже, крупном изобретателе.
19
Дорогой дядя!
Ее муж начинал свою карьеру тишайшим сотрудником научного института разных проблем.
Должность его состояла в том, что он обязан был дышать на печать, которой начальник скреплял свои подписи. Начальник, не глядя, через плечо протягивал печать, муж на нее дышал — хы-хы — начальник бил по подписи, и муж распрямлялся. Должность была почетная, но с невысокой зарплатой, и болела спина.
Скопив денег на черный костюм, муж Кристаловны занялся частной инициативой. Чем он только не занимался!
Он подтаскивал в продуктовых складах мешки с сахаром к закрытым дверям, ведущим на улицу, и каждый мешок за ночь становился тяжелее на пять килограммов. И, соответственно, дороже.
Он сжигал тряпки, которыми художники на фарфоровых заводах вытирают кисточки, когда золотом расписывают чашки и блюдца, и, промывая пепел, добывал золотой песок.
Он отливал себе из цистерны с коньяком тонну этого виноградного спирта, заменял его не водой, нет, а тонной обычного спирта, и при разливе в бутылке нельзя было обнаружить, что одна пятидесятая часть поллитра коньяком и не пахла. И хотя он в деле участвовал не один, это приносило ему заметный доход, так как самый дешевый коньяк тогда стоил 6,50 бутылка, а спирт того же объема стоил по государственной цене 8 копеек. Но дело было опасное из-за большого числа участников технологической цепочки, и он вовремя из него вышел.
Однако самые большие доходы он получал, когда занимался тем, что целовал покойников. Вместо родственников, которые этого делать не хотели, но стеснялись. В своем черном костюме, который он свято хранил как талисман и символ свободной инициативной жизни, он подходил в момент прощания к покойнику и звучно целовал его в лоб. А родственники в это время падали в обморок. И их уносили расплачиваться. Тогда они второй раз падали в обморок. Эту работу он любил больше всего. Потому что ее было много. Однако всему приходит конец.
Однажды, когда он в личном «додже» приехал на работу, запоздав всего на 2,5 секунды, он увидел, что какой-то всклокоченный толстячок проделывает это не хуже. Он спросил неблагодарных родственников, неужели несчастные 2,5 секунды толкнули их на это кошмарное предательство? Или, может быть, этот тип целует лучше?
- Дешевле, — мстительно сказали ему.
И он понял, что в своей профессии он уже не одинок. А ведь был первооткрывателем. Он решил разобраться.
Дефект всех его прежних частных инициатив заключался в том, что каждый раз надо было что-то делать. Отныне он решил только обещать. За это тоже платят, но мало. Мало кто дает деньги вперед. Но он придумал нечто невероятное.
Он брал 10 тысяч (на старые деньги) за то, чтобы устроить чье-нибудь любимое дитя в любой институт. Это были заниженные демпинговые цены. Он был вне конкуренции. Конкуренты взвыли — они брали гораздо больше. Они устраивали истерики ускользающей клиентуре. Но те были неумолимы. Так как мало того, что муж Кристаловны брал меньше, но он еще возвращал деньги, если дитя все же не удавалось устроить.
- Все деньги? — удивился я.
- До копеечки, — сказала Кристаловна. Никто из конкурентов не мог пойти на такой риск. Повторяю, он придумал нечто невероятное. Он брал пачку купюр, заворачивал в газету, надписывал фамилию клиента и клал в ящик. Все.
- Как все?
- На этом его работа заканчивалась.
- Я не понимаю, — жалобно сказала мать моего ребенка.
- Где уж вам, — пренебрежительно сказала Кристаловна. — Все гениальное просто. Он вообще никого не подкупал и не развивал коррупции. Если дитя сдавало экзамены, он пакет оставлял себе, если проваливалось — возвращал. Безропотно.
Мы молчали.
- То есть вы хотите сказать, что он, как это всегда бывает, зарабатывал на тех, кто был способнее?
- Вот. Вот именно, — сказала Кристаловна.
- Чем же кончилось дело? — спросила экспериментальная.
- Ну, это же ясно, — говорю. — Конкуренты пронюхали и завалили… Я читал в газетах.
- А дело вообще не кончилось, — сказала Кристаловна. — Вы забыли о броневой плите.
- Ах да, — говорю.
Далее, дорогой дядя, пойдут совершенно невероятные вещи. Хотя что может быть невероятного в век таких скоростей и мощностей, с какими они теперь научились рыть собственные могилы? Что теперь может быть невероятного? Разве что муж Кристаловны машину времени выдумал? Но и это невозможно, так как машину времени, дорогой дядя, выдумал я.
Но об этом как-нибудь в другой раз. Пока только намекну на ее особенность. Все попытки соорудить эту машину сводились к тому, чтобы временем пользоваться произвольно. Я же изобрел машину, которая время изготовляет. Но об этом потом, потом. Короче говоря, только было Кристаловна собралась продолжить рассказ, как вдруг запахло такой удушающей вонью, что… Дорогой дядя, я просто не нахожу сравнений. И вообще — почему для вони надо выдумывать сравнения? Было бы что приличное, а то вонь. Поэтому я пишу просто — запахло несравнимой вонью. Кристаловна встрепенулась.
- Опять эти проклятые велосипедисты! — возопила она и метнулась к дверям. Раздался грохот падающего ведра и невнятные крики, которые свелись в конце концов к одной фразе: «Вон! Вон! А я говорю — вон! Вон!», которая повторялась с однообразной интонацией.
- Ты заметил? — сказала мать моего ребенка, отбивая такт. — Она кричит в ритме вальса — Вон! Вон!.. А я говорю — Вон! Вон!
- Я хочу купить у нее замечательные женские фирменные трусики, — сказал я, поглаживая ее по руке. — Я их у нее видел.
- На ней?
- Пронеси господи! — искренне сказал я и добавил: — Тебе такие пойдут. Такие сейчас носят.
- Откуда ты знаешь? — насторожилась она и перестала отбивать такт. — Ты на ком-то видел?
Я еле успел торопливо сказать — напротив! Никогда! Нет, нет! Ты ошибаешься! Я это знаю со слов Кристаловны! — как отворилась дверь, и вошла хозяйка. Она дышала духами и туманами. В пылу разговора на близкие нам темы — вальса и трусиков — мы не заметили, как ночной рейд окончился, и все стихло.
- Я продолжу, — сурово сказала хозяйка.
- Кто это был? — говорю.
Но она не сочла нужным ответить.
Близился рассвет. За броневой плитой уже закричал петух-производитель, дворянин, однодворец, когда Шахразада закончила дозволенные речи. Они были поразительны.
20
Дорогой дядя, зачем я это описываю? Затем, что когда сначала говорят, что «в их жизни много чуши», а потом тут же — «и в нашей жизни много чуши», то следует говорить просто — «в жизни много чуши». Потому что кроме «нас» и «их» на свете никого нет. Дорогой дядя, пересказываю вкратце.
Бывший муж Кристаловны, когда понял, что деньги можно добывать обещаниями, то именно в этот момент его предали конкуренты, которые до этого не додумались. Отбывая и подвергаясь, он знакомился со многими интересными людьми и узнавал много нового. Но ни от кого он не слыхал, чтобы деньги добывались такими простыми обещаниями, как это делал он сам. Поэтому он гордился, что был первый. И печалился. Ибо, будучи раз опубликован, этот способ уж не имел надежды на повторение. Душа его опустела, он стал болеть, и его поместили в надлежащую больницу. И именно там он встретил человека, который, умирая, успел сообщить ему великую тайну. Его последними словами были:
- Принцип Фреди…
И его добрый, внимательный взгляд, с которым он слушал повествование мужа Кристаловны о его прежних делах, потускнел.
Муж Кристаловны, как всякий широко образованный человек, читал и чтил «Графа Монтекристо» и сразу понял, что в этих словах заключена жгучая тайна века. Долго бился муж Кристаловны, пытаясь раскрыть «Принцип Фреди», но все напрасно. Пока однажды (о это великое «однажды»!) сосед по перевоспитанию не рассказал о своем давнишнем разговоре, который у него произошел с одним зарубежным коллегой. Коллега чуть было не пострадал из-за своей неграмотности и потому был вынужден скрываться на международном курорте среди равнооголенных жителей планеты.
- Послушайте, — сказал малограмотный коллега на зарубежном языке. — Все мои несчастия — от необразованности. Я никогда ничего не мог понять на лекциях в процессе учебы. Лектор, к примеру, вопит с эстрады: «Круговращение веществ! Круговращение веществ!» А я ушами хлопаю. Я когда сплю — всегда ушами хлопаю. Очень громко. Кстати, а что такое «круговращение веществ»?
- Господи! Кто этого не знает?! — отвечал этому малограмотному на зарубежном языке сосед мужа Кристаловны. — Ну, смотри… Вот мы сейчас идем с тобой по шоссе… И вдруг ты умер.
- Лучше ты, — сказал этот гнусный тип.
- Нет, все же лучше ты, — справедливо заметил сосед мужа, и продолжил: — Итак, ты умер… Тебя схоронили. На могилке выросла травка. Пришла корова. Покушала эту травку. Прошлась по этому шоссе. Задрала хвост и уронила свою лепешку. И вот по шоссе иду я. Вижу лепешку и говорю: «Фреди, ты совершенно не изменился!»
И вот тут вдруг (о, это великое — «вдруг») мужа Кристаловны озарило. «Принцип Фреди» был разгадан.
У него перехватило дыхание, и больничные стены стали прозрачными, и он стал видеть далеко-далеко, и так далее. Ведь если все может быть превращено в коровьи лепешки и другие фекалии, то и обратное превращение возможно. Ни одна теория этого не запрещает. Значит, можно взять любую коровью, а еще проще человечью лепешку и превратить ее если не в корову или человека, то хотя бы в золото! А уж, имея золото, человеком стать легче легкого!
Это была великая гипотеза. Нужна была проверка. Но где?
Он еле дождался конца отбытия и перевоспитания и, окрыленный, вернулся к Кристаловне.
- Вот откуда броневая плита, — сказала Кристаловна. — Опыты проводились на этой даче… На мои деньги… Я содержала все это на свои деньги… Он пользовался моим нужником и его содержимым. Затем на мои же деньги были добыты броневые плиты, установлены ночью и обшиты бревнами.
- Значит, эта плита не одна? — спрашиваю.
- Вся дача из них состоит, — отвечает она.
- Чем же дело кончилось? — спрашиваю.
- Трагедией.
Э-эх!..
Когда уже «принцип Фреди» был почти реализован, и превращение дерьма в золото должно было вот-вот состояться, бедняга узнает от верных людей, что где-то на Западе одному профессору удалось добиться еще большего — он научился превращать в дерьмо все что угодно, в том числе и золото.
- Ферфлюхтешвайн! — вскричал я.
- Да, это он, — сказала Кристаловна. — Его недавно показывали по телевизору в зарубежной хронике. Он кому-то давал интервью. Когда муж узнал о достижениях этого проклятого профессора…
- Этой продажной шкуры, — быстро поправил я.
- …в душе у мужа лопнула последняя струна, — сказала Кристаловна. — И он понял, что все бесполезно. Пока он будет превращать фекалии в золото, этот Ферфлюхтешвайн с той же скоростью будет превращать золото в фекалии.
- Почему будет? — возразил я. — Он этим занимается давно… А что ваш муж?
- Он не перенес удара.
- Он умер?
- Почти, — сказала Кристаловна. — Для меня он умер. А я берегу его наследство. Целый нужник. Проклятые велосипедисты пытаются зачерпнуть, чтобы провести анализ. Прошел слух, что оно особенное.
- Что «оно»? — спросила мать моего ребенка. — Ах да… Все-таки, что значит — почти умер? Я не понимаю. «Почти умер» — это все равно что «немножко беременна».
Я с благодарностью поглядел на нее, а потом на хозяйку.
- Кристаловна, вы слышали? — с восторгом спросил я.
- Он разочаровался в золоте, — ответила хозяйка совсем не о том, что меня обрадовало. Светало, щебетало, жужжало, хлопотало, пищало, мыло рожицы и чистило зубы — и это все профессор Ферфлюхтешвайн, «маде ин», научился превращать даже не в золото, как водилось среди жуликов в добрые старые времена, а в такие удобрения, на которых никогда и ничего не вырастет, если ему не помешать.
Но ему помешают. Это уж моя забота.
Пока я только предупреждаю. Но если он еще раз, если хоть еще один раз… увидит тогда, что будет. Ишь ты, «маде ин».
21
Дорогой дядя!
Когда мы еще жили на Буцефаловке, я открыл свой первый «уголок». Потом уже я накопил много «уголков», и меня начинают считать специалистом переворачивания проблем с головы на ноги. Но тот был первый.
Считается, что с «голубого ручейка начинается река», а я понял, что это ошибка, когда этой песни еще и не было.
Голубой ручеек не сможет промыть русло в тысячу волжских километров, а уйдет в песок. Река же начинается не с голубого ручейка, а с ближайшего к морю оврага, который растет вверх, потому что его промывают ближайшие к морю ручейки и дожди. Потом в него вливаются притоки, которые тоже растут вверх по тем же причинам, а ручеек, с которого якобы начинается река, вливается последним в уже готовое русло. Термодинамика. Так-то.
Но в человеческих делах термодинамика дает сбой. И человечьи потоки действительно начинаются с ручейка, который промывает себе русло в отупевших от страха мозгах. В буфет вошла старуха в шляпке, с голодной ощеренной пастью. Потом ее спутник, который засыпал на ходу.
- Иностранцы, — сказал Ралдугин.
- Абрдири кабрдиги, фуджи ригачи, тирдиги ельдиги? — спросила старуха.
- Але франце бабира — фюкс ли бордо, — ответил Ралдугин. Иностранцы обиделись.
- Ты вообще-то не очень, — говорю. — Могут не понять.
- Аныксим тряп-тряп, зигарга бирули, — сказала старуха.
- О чем она? — спрашивает Субъект.
- А я почем знаю? — сказал Ралдугин.
- А ты о чем?
- А я почем знаю! — сказал Ралдугин. Старуха кинула сумку на столик и заорала:
- Фрутазоны! Шампиньоны! Эклеры!
- Другое дело, — сказал Ралдугин. — Эклеры по-флотски? Или с шампиньонами?
- А пошел ты… — отчетливо сказала старуха и отвернулась.
- Другое дело, — сказал Ралдугин и воскликнул: — Тамара! Первое и второе.
Спутник старухи плотоядно улыбнулся и заснул. Улыбка у него была — как у неофашиста. Ему снились фрутазоны.
- Господи, чего они такие злобные, — спросил Субъект. Я только пожал плечами. Я бы сам хотел это знать.
Тут в столовую повалили артисты разных титулов и званий и приблизительно одного таланта. Они шумно и отчетливо смеялись над зрителями, которые добровольно пришли на спектакль сострадать старикам, которых сами дома сживали со свету. Увидев иностранцев, они профессионально и хищно стали кружить вокруг. Старуха со спутником пересела к нам.
- Вы говорите по-русски? — спросила старуха.
- Еще бы! — отвечаю.
- Почему с нами никто не говорит по-русски?
- Думают, что вам будет понятней, если орать — «твоя моя сказала» и что-нибудь из электрических песенок по-английски.
- По-американски, — сказала старуха. — По-английски — поссбл, по-американски — пассбл.
- Я не знал, — говорю. И записал. — Я ничего про американцев не знаю. Знаю только, что они говорят — хелло, бой! — и ноги на стол. И еще вертят на указательных пальцах кольты. Я пробовал — не получилось. Все время ствол утыкался в большой палец. Надо специально учиться, а зачем?
- Много вы знаете! — сказала старуха.
А те американцы, которые приезжают туристами, вообще не похожи на американцев из романов. Потому что мы в романах видим только образ. Образ жизни. А сама жизнь — это Подобие Образа и причем — отдаленное. А когда пытаются Подобие подогнать под Образ, то получается Киноартист в сценарии «Гешефт-Махер-компани», которая вот-вот его снимет с роли, потому что он перестал нравиться покупателю, извините, зрителю. А это грозит разорением прокатчикам этого небезынтересного фильма. И тогда — сливай масло. Но я этого не сказал. Зачем нарушать зыбкую гармонию округлого ралдугинского столика.
- Почему вы нас ненавидите? — спросила старуха. — Я читала марксизм. Вы боитесь, что мы хотим уничтожить Советскую власть плюс электрификацию всей страны?
- Дать бы тебе по рылу, — говорю.
- По рылу — это в харю? — спросила она. Я кивнул. Она записала. А я спрашиваю:
- Скажите, почему профессор Ферфлюхтешвайн продался Гешефт-Махер-компани?
- Ему надо одевать свою Гертруду. Это его жена.
- Да, я знаю… — говорю. — Знаю.
А сам думаю, чем бы мне ее уесть?.. Думаю, расскажу что-нибудь ужасное из буцефаловских времен, чтоб она содрогнулась. А заодно проверю свою идею — может, я прав, а может, нет. Но если я прав…
- Когда еще я жил на Буцефаловке…
- Это район?
- Да.
- Фешенебельный?
- Еще бы.
- «Еще бы» — это «да»?
- Ага.
Она записала. Нам принесли еду. Ее спутник проснулся.
- У нас на Буцефаловке был случай… — говорю. — Проснулся один алкаш и думает: «Эх, пивка бы!» И тут открывается дверь, и входит красавица с бутылкой пива. Алкаш пиво выхлебал. Холодненькое. И думает: «Зря водки не попросил». Открывается дверь, и входит та же красавица. Алкаш выпил и думает: «Дурак я, надо бы переспать с ней». А она тут как тут — пожалуйста. Он ее спрашивает перед уходом: «Как хоть тебя зовут?» А она ласково так говорит: «Белая горячка, сэр». Старуха, рыча, перевела своему неофашисту.
- Оу! — сказал он и от хохота вцепился зубами во фрутазон. Старуха за ним.
Мы сделали то же самое. Джеймс постарался на этот раз. Фрутазоны были неукусимые. Попробуйте произнести имя «Эльвира» с полным ртом. А этот неофашист произнес. Зубы у нас завязли в пище, мы не могли расцепить челюсти, фрутазоны торчали у нас изо рта, как мертвечина у вурдалаков, и потому наш хохот был похож на звукозапись козлиного стада, пущенную с большой скоростью. Гармония была восстановлена. И я сказал Субъекту, когда смог:
- Вот видите?
- Я начинаю вас понимать, — сказал он.
22
Дорогой дядя!
После приключения с буравчиком, жизнь нашей дачи стала принимать фантастический уклон.
Было все же что-то нереальное в том, что подмосковный бревенчатый домишко, можно сказать, дача, сложен из броневых плит, а все остальные дровишки — камуфляж. Согласитесь, что такого не бывает. Не то сейф, не то дот. И, главное, не верилось, что такое можно соорудить незаметно. Бульдозеры, автокраны — что-то тут не так, думаю. Лежим мы однажды ночью, отдыхаем, а мать моего ребенка говорит:
- Что-то мне не верится, чтобы этот тип так разочаровался в золоте, что не оставил клад. Давай поищем?
- Это можно, — говорю. — А зачем?
- Четвертая часть наша, по закону, — говорит. — Всего накупим.
- А что именно?
И мы представили себе кооперативную максимальную квартиру, дачу с максимальным участком и максимальную машину-автомобиль, чтобы ездить между квартирой и дачей — туда-сюда, туда-сюда.
- Ну это все наружные объемы, — говорю. — А чем их заполнять изнутри?
Мы стали наперегонки заполнять эти объемы изнутри и остановились только тогда, когда сообразили, что если мы купим все, что хотим, то жить нам будет негде, и нам придется снимать комнату на этой же даче. У Кристаловны. И мы содрогнулись.
Можно было не покупать нашего или привозного промышленного барахла. Можно было, конечно, купить книги, картины, музыкальные инструменты, скульптуры и прочую культуру на дому. Но положение не менялось. Все, даже культура, имело объем. И мы не знали, как быть.
- Все-таки шубу я бы купила, — сказала мать моего ребенка. — Скоро зима.
И мы решили искать клад. Потому что, после того, как мы мысленно купили все, нашей зарплаты на нужную шубу уже не хватало. Нас мог спасти только клад. Дорогой дядя, подробности я опускаю. Рыли, выстукивали, даже пользовались миноискателем — я сам смонтировал, и — ничего. Может быть, миноискатель был неудачный.
И мы пока решили купить шубу подешевле.
Мы купили простую шубу на мурло-парловом меху, которая как зимняя упаковка мало чем отличалась от роскошных парло-мурловых шуб, которые носили среднего качества жены удачливых мужей. Но зато начинке моей шубы эти мужья остро завидовали и хотели бы такую же. В то время как начинка ихних шуб на меня не производила ни малейшего впечатления. И это их оскорбляло еще больше, потому что им вместо жен приходилось утешаться карьерой.
Дорогой дядя, чтобы раз и навсегда покончить с этой проблемой, добавлю — я человек примитивный, меня в женщине всегда интересовало не то, чем она похожа на мужчину, а то, чем она от него отличается. И хватит об этом.
Наступила зима, свадьба была скромная — в квартире моего сослуживца на втором этаже, и только один гость из Прибалтики выпал из окна. Правда, он выпадал дважды. Первый раз его выкинули из окна за то, что он в нетрезвом виде не разобрал, кто невеста, и распустил руки, а второй раз его выкинули потому, что забыли, что его уже один раз выкидывали. И хотя оба раза он падал на клумбу, слабо припорошенную снегом и твердую, как алмаз, но лишь во второй раз он упал на букет алых роз, который вылетел туда по ошибке раньше него, и сломал тазовую кость. Но самое интересное, что когда он лежал в гипсе, то гипс тоже пришлось ломать, так как началось заражение задницы, в которую, как оказалось, впился шип от розы.
Дорогой дядя, ты скажешь — откуда зимой взялись розы? На это я тебе отвечу осторожно — не знаю. Значит, это была не зима, а какое-то другое время года. Потому что, как ни странно, но, несмотря на не очень высокую зарплату всех моих сослуживцев, свадьба эта преувеличенно затянулась, и я вспоминаю все с некоторым затруднением. Интеллигенты. Все у них с перебором.
Последнее, что я смутно помню, было то, как мы с хозяином квартиры продавали его пустую книжную стенку от арабского гарнитура, из которой книги были проданы гораздо раньше мурло-парловой шубы моей жены, и как хозяина квартиры забрали в знакомое мне уже дачное отделение милиции за то, что он ходил по Подмосковью с криком, что он жаждет обновленья.
— Ну вот, — сказал уже знакомый мне милиционер. — Мы начинаем с вами встречаться все чаще и чаще. Интеллигенция. Все у вас с перебором.
И вот именно тут, дорогой дядя, именно в этот момент, я как сейчас помню, меня и озарило.
Мне пришло в голову, что клад мужа Кристаловны упакован именно в дачные броневые плиты.
Теперь, если я был прав, вопрос состоял в том — как? Каким образом этот провинциальный грабитель нужников упрятал в броневые плиты эти немыслимые тонны удивительного металла, за одну пылинку которого любой жрец отдаст душу — чужую, конечно, вместе с чужим, принадлежащим ей телом.
Была иллюзия, что образование воспитывает, а воспитание образовывает. И если теперь эта иллюзия рассеялась, то, значит, дело в чем-то ином. Если что-то неладно, ищи, кому это выгодно. Это «уголок».
Если идет бесконечный процесс превращения «Фреди» в золото, а золота во «Фреди», значит, человек кому-то крупно надоел.
А так как потусторонних сил до сих пор не обнаружено или, может быть, они пренебрежительно не хотят проявлять себя где-то вне человека, то выходит, что человек надоел самому себе.
Дорогой дядя, ты видел ихние интеллектуальные игры?
В то время как некоторые честолюбцы все еще хотят утопить друг друга по всем правилам шахмат или преферанса, уже есть другая игра, знаменитый кубик-рубик. Дорогой дядя, его крутят, чертыхаясь, образованные и воспитанные люди, и уже есть чемпионы и сумасшедшие.
Дорогой дядя, мне надоело. Я начинаю подозревать, что познание мира давно уже есть служанка, проститутка, трехрублевая баядерка, удовлетворяющая извращенные прихоти стареющей Фредиперерабатывающей промышленности.
И значит, второе тысячелетие нашей эры, потраченное на воспевание разума, зашло в тупик.
И надо искать «уголок», мимо которого сплюснутая груша бывшего земного шара все время проскакивает, вращаясь.
Но если это так, а это именно так, то дело уже не в познании, а в творчестве.
Когда кто-то хочет и не может иметь ребенка, то это не потому, что он недостаточно сознательный, а потому, что в его бытии скрыт дефект.
Дорогой дядя, я всегда предпочитал ставить цели в самом общем виде. Ну, например, — чтоб было хорошо, и другое в этом роде, и искать выход из положений, которые складывались по дороге к этой цели.
Как ни странно, дорогой дядя, это и есть творчество. Все остальное — гордыня выбора.
Им почему-то кажется, что творчество — это выбор из того, что уже есть. До них никак не дойдет, что творчество — это изготовление того, чего еще не было. Это и есть творчество. Дорогой дядя, у плохого живописца следующий мазок добавляет что-нибудь к предыдущим. А у хорошего — каждый мазок сотрясает весь колорит картины. То есть каждый мазок обманывает его же собственное ожидание. Это и есть творчество. Кстати, дорогой дядя, формула ожидания звучит так — когда ожидаешь, что что-нибудь пойдет так, выходит эдак, а когда ждешь, что пойдет эдак, то идет именно так, но вот, когда ничего не ждешь, то все равно как-нибудь пойдет.
Короче говоря, дорогой дядя, зная, где спрятан клад, я не мог его добыть, не отыскав способа удалить броневую упаковку. И я понял, что удалять ее надо тем же способом, каким ее явно наносили — электролитическим. Ведь не домну же строил муж Кристаловны! И я почуял какую-то тайну.
Я не рассказываю подробностей, но дело уперлось в самую простую вещь на свете — в тайну.
Для электролиза понадобилось бы такое количество энергии, что счета за свет возросли бы космически, и этого не замаскируешь.
- Кристаловна, — сказал я. — Вы знаете такое слово — электролиз?
- Еще бы, — ответила она. — Любимое занятие мужа. Три года я буквально погибала от кислой вони и постоянного бульканья.
- Видно, процесс шел очень бурно и отчаянно, — говорю. — Обычно электролиз — дело тихое.
- Этого я вам не могу сказать.
- Ну хорошо, — говорю. — Но электролиз требует электричества. У вас были гигантские счета.
Она посмотрела на меня презрительно.
- Это у вас были бы счета, — сказала она, — Мой муж добывал электричество бесплатно.
- Что-нибудь со счетчиком? — спрашиваю. — Или солнечные батареи?
- Господи! — сказала она изумленно. — При чем тут батареи, счетчик? Чтобы добыть энергию даром, надо отыскать человека, который согласен ее даром отдать.
- Кретина, что ли?
Она пожала плечами и сказала:
- Господи, конечно!
- А как мне его разыскать?
- Вам нужен двигатель этого кретина или сам кретин?
- А разве можно по отдельности? — спрашиваю.
- Где этот кретин, я не знаю, — сказала Кристаловна. — Но двигатель этого кретина стоит у вас под ногами, в подвале.
- Ну хоть фамилию-то вы его знаете? — спрашиваю.
- Кретина? А как же, — сказала она. — Сапожников. Павел Николаевич.
Как мне это в голову не пришло?! Экологический, практически вечный двигатель Сапожникова. По-моему, аммиак внутри вращающегося диска. И сопла. Я подумал: а чем черт не шутит?
Муж исчез, имущество ничейное. Пепел сапожниковского идиотизма стучал в мое сердце. По крайней мере, четверть клада принадлежит ему и обеспечит его по гроб жизни и до ушей. А у Сапожникова всегда можно будет запять. Я сказал давешнему милиционеру:
- Лёлик, на этот раз, кажется, от меня для государства будет толк. У меня только одно условие — когда закончится вся операция, позаботьтесь, чтобы дачу Кристаловны реставрировали. Потому что она виновата лишь в том, что содержала мужа на средства, вырученные от честной картошки.
- Какая картошка? — спросил лейтенант.
23
Дорогой дядя!
У нас на Буцефаловке считали, что богатство — это идея идиотская, так как поглотить все, что можно купить, не может никто. Значит, речь идет не о реальном поглощении, а о воображаемом.
К примеру, человек хочет быть монархом. Скука.
Построит монарх дворец в полторы тысячи комнат и сначала бегает по ним, как угорелый псих, в развевающейся горностаевой мантии, и разглядывает картины и лепные потолки, роняя тяжелую корону. Потом устроит десятка три мероприятий с танцами до упаду и кушаньями до несварения, а потом забьется в комнатку с постылой женой, купленной у соседнего монарха, и, поскуливая, заводит дневник: «Вчера был Кока. Он милый. Пора назначить его премьер-министром».
Старуха уезжает. Попрощаться хочет. Ралдугин мне позвонил. Ну, прихожу. Я ей говорю:
- Если что-то в мире неладно, ищи, кому это выгодно. Это и есть «уголок» Апокалипсиса. Без этого «уголка» все остальное — липа, болтовня о политике и генеральские амбиции. Все вранье. Никто давно нас не опасается — мы первые не кинем. Поэтому, если оружие не покупать — его не будут производить. Вот «уголок».
- Мадам, — говорю, — я никогда не мог понять, почему у вас говорят — военные расходы, военные расходы, конгресс утвердил военные расходы! Это же все брехня. Вот у тех, кого хотят убить, действительно — расходы. А у тех, кто хочет убить, — одни доходы.
Есть у вас еще любимое словцо — размещение. Тоже брехня. Ракеты не размещают, их продают. А размещают на них заказы.
И если коммивояжер — большой киноартист, то он разместит заказы и на подтяжки и на ракеты. Просто за ракету больше платят, и это кому-то выгодней. И все знают — кому. Но куда же смотрят лидеры совершенно свободной Европы, которые эти ракеты покупают? А туда же. Лучше купить ненужное, чем дать такой хорошей фирме, как «Гешефт-Махер-компани», лопнуть. Это было бы уже чревато.
Секты прячутся в горах, специалисты выражают тревогу, Ферфлюхтешвайн одевает свою Гертруду, Гешефт фюреры добросовестно скрежещут, «Гешефт-Махер-компани» гребет калым, коммивояжеры размещают заказы, а гуманисты придумывают термины. Все заняты своим делом. Так и живем с грохотом.
Но вот я прислушался, мадам, и слышу — наступает тишина. Это народы перестают хлопать ушами. А когда народы перестают хлопать ушами — ангелы содрогаются, а дьяволы ныряют в нужники.
Ангелы — это «вестники», порученцы — таков, извините, перевод, — существа с жесткой программой поведения, а черти — взбунтовавшиеся ангелы с антипрограммой, но тоже бесплодные, как и ангелы, — творить им не дано.
Но вся иерархия содрогается, если слышит глас божий — глас народа, просыпающегося творца Истории. Которая с хохотом расстается со своим прошлым. А старуха все молчит. Наверно, записывает сумочкой.
- Я ничего про Америку не знаю, — говорю. — Знаю только, что они говорят — хелло, бой! — и ноги на стол. И еще вертят на пальцах кольты. Я пробовал — не получалось. Все время ствол утыкался в большой палец. Надо специально учиться, а зачем?
- Вы это уже говорили… — сказала старуха. — Вы не знаете о нас ни фига. А я думаю, чем бы ее прожечь, непромокаемую.
- Ралдугин, — говорю, — расскажи ей про открытый тобой феномен России.
- Феномен? — спрашивает старуха. — Какой феномен?
- Он открыл, что Россия дважды, с разбегу, проскакивала через очередную формацию.
- Ну, расскажите, Ралдугин, расскажите, — закивала старуха.
- В чем феномен России? — спросил Джеймс и сам ответил: — В том, что она дважды с разбегу перескакивала через формацию. Когда всюду феодализм был уже в расцвете, в России все еще был даже не прежний ушедший рабовладельческий строй, а совсем предыдущий — родовой. И Россия, сменой веры, из родового, перескочив рабовладельческий, с разбегу влетела в феодальную формацию. То же самое случилось и в революцию. — Она перескочила через капитализм сразу в социалистическую революцию.
- А в чем феномен Америки? — спросила старуха.
- Америки он не изучал, — сказал я. — Он из историков ушел в завстоловые. Старуха захохотала. Остальные — нет. Старуха знала все слова.
- Вы тоже индивидуалисты, как все люди, — сказала старуха. — Но вы индивидуалисты шепотом, а мы индивидуалисты во весь голос… Вы индивидуалисты-накопители, а мы индивидуалисты-предприниматели.
- Мадам, — говорю, — мы накопители общего имущества, общего.
- Но это противоестественно! — сказала она.
- У вас есть аргументы?
- Да, — сказала старуха. — Я этого не хочу… А я такая, как все.
- Не все такие! — закричал Ралдугин. — Не все!
- Погоди, Ралдугин, — говорю. — Ты становишься жалким… Мадам, а что бы вы сделали, если бы вам принадлежало все имущество? Ну, буквально все… Ну, вообще все!.. Что бы вы с ним стали делать?.. Не миллионы и миллиарды, и даже не квинтиллионы, а вообще все…
- Вот тогда я об этом подумаю.
- Нет, — говорю, — придется гораздо раньше… Если на Земле останетесь не вы одна, придется делиться с остальными… Однако речь о том, что вы будете делать, если на Земле вы одна, а все остальные — работающие машины, которые вас содержат? Я вам отвечу. Вы будете метаться по Земле, заглядывая в опустевшие театральные столовые… То есть делать то же, что и сейчас… Ралдугин, закрывай, да мы пойдем… Ключи оставь ей.
- Меня арестуют… — испуганно говорит она.
- Кто? — говорю. — На Земле же никого лет.
- Вы это всерьез? — спрашивает она.
- Пошли, Ралдугин, — говорю. — Пусть предпринимает что хочет.
- Вы хотите свести меня с ума?
- Это никому не будет заметно, — говорю. — Вы на Земле одна. Тогда старуха заплакала и говорит:
- Я хочу домой…
- Не может быть! — говорю. — Я тоже.
Наутро она уехала, оставив Ралдугину фотоаппарат, который он тут же продал. Зачем? Он бы ответить не смог. А жаль. Аппарат был хороший. В нем жизнь отпечатывалась сама и сама проявлялась.
24
Дорогой дядя!
Мои золотые приключения остановились, и сюжет превратился в приключения как бы духа.
Но это не моя вина. Я бы описывал, если бы дело сдвинулось с мертвой точки. Но описывать нечего. Никто не поверил в золотые стены на даче Кристаловны, меня не то высмеяли, не то сочли за пустякового человека и вруна. И золотая дача так и стоит, никем не обследованная. Но слухи все же пошли.
И, главное, никто ничего не предпринимал. Ситуация была странная, если не сказать больше. Ну и хрен с ней.
Золото — не моя проблема, а также — входящая, исходящая, запросы, ответы, в ответ на ваше циркулярное письмо за номером, отто, нетто, брутто, тара, усушка, провес, недолив, принято живым весом, о чем сообщим вам, акт прилагаем и прочая пересортица. Мы переезжали от Кристаловны в городские условия — будущий ребеночек, согласитесь, не мог жить в комнате без окон, где белый свет он видел бы лишь на потолке.
- Все-таки вы, ученые люди, оторваны от жизни, — сказала Кристаловна. — Вы работаете в Академии наук, а не можете повлиять на климат.
- Погода — не моя специальность. — Ею занимается Виктор Громобоев.
- Он тоже антинаучный аферист?
- Ну что вы… — осторожно сказал я. — Он считает, что если человек хочет чему-нибудь научиться — пусть учится. Но он считает, что есть вещи и поважней науки. Жизнь, например.
- А вы?
- И я так считаю.
- Чем же вы от него отличаетесь? Пришлось ей сказать.
- Я художник, — говорю. — По натуре художник, и по многочисленным профессиям. А наука, если отбросить ее комплименты в наш адрес, считает художников аферистами. Мы с матерью моего ребенка уже сняли комнату — светлую, с облаками в окне, где ответственный съемщик был суровый разведенный человек с лакедемоно-цистито-хондрозом мочевого пузыря.
Кристаловна, которая дала нам его адрес, рассказала его печальную историю. Он долго жил холостяком и платил налог за бездетность. Он перестал платить, когда ему стукнуло пятьдесят и он по закону имел право быть импотентом. Но тут он женился на молодой женщине, которая пока не расписалась с ним, имела право не платить налога за бездетность. А как только вышла замуж — перестала иметь это право, так как закон ожидал от нее детей. И получился конфуз. От кого она могла иметь детей, если муж по закону имел право их не иметь? На панель ей было идти, что ли? А иначе — плати налог. Возбужденный несправедливостью, муж пытался бороться и даже достал справку об импотенции. Но из-за этой справки жена с ним развелась и снова перестала платить налог за бездетность.
Но после развода муж, борец за справедливость, напился, упал и сломал ногу, и лежал дома в гипсе, и его спасали соседи.
- А при чем тут болезнь мочевого пузыря? — спрашиваю.
- А при том, что туалет в квартире очень невелик, — отвечала Кристаловна. — И чтобы сесть на сиденье с вытянутой вперед ногой в гипсе, надо открыть дверь в коридор.
Ответственный съемщик стеснялся соседей по квартире и дожидался ночи. И вот результат — острый лакедемоно-цистито-хондроз мочевого пузыря. Весь этот рассказ доносился к нам с огорода, где Кристаловна насаждала картофель. Потом она выпрямилась, приложила прямую ладонь к бровям и стала похожа на скульптуру пограничника без собаки. — А почему наука считает вас аферистом? — спросила она меня.
- Ну, как же! — говорю. — В науке главное — метод. Так, по крайней мере, она говорит. Раньше, правда, было иначе.
- А как?
- Главное были результаты. Земное тяготение Ньютона, Коперниково — Земля вращается. Но теперь главное — метод. Что такое метод, я, по правде, знаю неточно, неуверенно как-то. Но, похоже, что метод — это то, чем наука занимается, а то, чем она не занимается, то и не метод. Но, впрочем, это меня не касается. Главное же, что нас сейчас интересует…
- Мне уже неинтересно, — сказала Кристаловна. — Мне некогда.
- Это ничего, — говорю. — Потерпите.
- А картошка?
- Картошка растет, — говорю. — Так вот. Насчет науки — не мое дело. Но в искусстве любой четкий метод, на котором настаивают, — липа.
- Неужели?
- Представьте себе, — говорю. — Как только художник пишет по методу, он теряет то, ради чего пишет.
- Что именно?
- Себя, — говорю. — А писать без метода и значит быть аферистом. Поэтому для науки мы, художники, — затянувшееся недоразумение. И она надеется создать нам такой метод, из которого мы уже не вывернемся.
Ах, как я хотел быть художником!
Любил запах краски, любил перемазанные лапы мастеров, любил. Но целый ряд открытий охладил мою пылкость. Сначала меня обучали методу. Но поскольку методов оказалось ровно столько, сколько преподавателей, я решил подождать, пока они между собой сговорятся.
Но тут, слава богу, кошмар обучения кончился. И, наконец, я сделал последнее открытие. Я обнаружил, что любую картину, даже самую великую, даже ту, которая писалась годами, зритель разглядывал максимум две минуты. И шел дальше. Некоторые потом возвращались еще разок, ну два, ну три. А большинство говорили — я уже видал. Я говорил:
- «Боярыня Морозова» — это целый мир. Это философия. После этой картины жить надо по-другому.
- Да-аа, конечно… как же… помню, — отвечали. — А правда, что у Сурикова была жена француженка?.. А как вы относитесь к Антуану де Сент-Экзюпери? А вы были на вернисаже Тютькина-Эклер-Мануйленко?
И я стал умный-умный.
И так длилось до тех пор, пока я не заметил, что как только я пишу картину, которую я заранее вообразил, то картина не получается, и я несчастлив. А как только я пишу картину, весь смысл и колорит которой сотрясается от каждого удара кисти, то у меня выходила картина, о которой я и не мечтал, и я был счастлив. И во время работы, и по окончании ее. И я понял суть слова «живопись». И я понял слова Пикассо — «я не ищу, я нахожу». И я понял, что это — как жизнь.
И только не понял — как это знание приложить к жизни.
И мы переехали в Москву.
Дорогой дядя, Москва очень большой город.
Ах да, я уже писал об этом.
25
Дорогой дядя!
Я хотел было это повествование вести от третьего лица, а потом подумал — ладно уж, чего темнить. А вот еще хорошее имя Кристобаль.
- Кристобаль, — сказала мать моего ребенка, — шел бы ты куда-нибудь, Кристобаль, а?
- Зови меня просто Гоша, — говорю. — А куда мне надо идти?
- Нету у меня сегодня обеда, — сказала она. — Для сыночка в животе есть, а для нас с тобой не успела. Сам поешь и мне прихвати.
- А что ты собираешься делать?
- Я борюсь за мир, ты же знаешь.
К этому времени, не дождавшись, когда мы получим четверть золотых стен Кристаловны, мы поднатужились, назанимали и вступили в кооператив работников Истории разных искусств. И переехали в гигантскую двухкомнатную квартиру — 32 метра полезной площади и кухня 7 метров. Что же касается потолка, то до него вообще, даже стоя на цыпочках, было рукой не достать.
Позади осталась дача Кристаловны, коммунальная квартира с борцом за импотенцию, и перед нами открывались необъятные 32 метра полезных просторов, которые мы будем чем-нибудь заполнять.
Мы бодро смотрели в будущее, где нас ожидали останавливающиеся лифты, тараканы из мусоропровода и молодецкие отключения воды по разным поводам. Сантехник Тюрин сказал:
- Хотите, чтобы унитаз работал и не засорялся? Мы хотели.
- Трубы новые, с заусенцами, ничем пока еще не обмазанные, — сказал он уверенно, — спичка прилипла или окурок, и начнет обрастать и засариваться. Вот мой добрый совет из опыта жизни… Вылейте в унитаз шесть баночек майонеза.
- Почему шесть? — спросила мать моего ребенка.
Может быть, мы бы и поступили, как он велел, но это была полоса, когда в магазинах пропал майонез, и все за ним гонялись. Наверное, Тюрин не только нам дал совет из опыта жизни.
Но, главное, что жилье есть. Молочка для моего сыночка явно будет вдоволь, а малокалорийная пища обеспечивала нам известную стройность наших фигур. У нас был двуспальный матрац на четырех кирпичах, детская кроватка, подаренная нам инженером, который обучал иностранцев вождению автомобиля, и вестибюльный фонарь екатерининских времен, купленный на Старом Арбате в антикварном магазине как раз перед тем, как его закрыли за финансовые аферы. Цепь от фонаря хранилась отдельно под матрацем, потому что с цепью фонарь доставал до полу, а без цепи об него всего лишь бились головами.
Еще был журнальный столик, на который укладывалась дверь, купленная в этом же доме за 40 рублей. Дверь была хорошо фанерованная и служила обеденным и письменным столом, где довольно часто мы обедали и где мать моего ребенка писала свою диссертацию исторического содержания под названием «Владимир Киевский и Перун», тему для которой предложил я. Окна были огромные, и в них всегда было видно небо. А когда открывали вертикальную фрамугу, то в квартире раздавался голос из мегафона: «Гражданин, соблюдайте правила перехода!» Вначале мы вздрагивали, а потом привыкли, как к родному. Если бы я не пошел за едой и не сделал крюк в Академию, ничто бы не сдвинулось с места.
Дорогой дядя!
Снова било солнце, когда я шел по коридору Академии.
Так уж сложилась моя жизнь, что в науке, описанной в книжках, я сталкивался с интересными людьми, а в научной жизни я с ними почти не сталкивался. Они мне казались какими-то замороченными, что ли. Я, правда, не сталкивался с академиками, меня дальше кандидатов не пускали. Но у меня впечатление, что и их тоже не пускали. Поэтому я пишу только о кандидатах, а Олимпа не касаюсь. Потому что благостного дождя, тем более, золотого, я не жду. Я не красавица Даная, тем более, голая, я — скромно и безвкусно одетый мужчина, и молнии с Олимпа мне ни к чему. Еще и еще подчеркиваю — речь о кандидатах. Локально.
Они теперь делали великое дело. Они, наконец, объединяли людей здравого смысла. Но, дорогой дядя, мне казалось, что одного здравого смысла против Апокалипсиса было уже мало. Против стихии нужна была стихия. Против злобы — только хохот. Хватит! Наплакались.
Но может ли человек в страхе, в ненависти хохотать? Может. Человек все может. Популярность моя к тому времени возросла, правда, не так, как мне мечталось. Я к этому времени почти закончил поэму, которая начиналась так:
«Прости меня, ученый мир, За то, что ты мне стал не мил. И я прощу ученый мир За то, что он мне стал не мил».А кончалась:
«Грузовики промчались мимо, Лениво хлопнули борта, И вновь судьба невычислима, И вновь не видно ни черта».Фактически поэма была готова, я только не знал, чем заполнить середину. Я прочел поэму кандидатам, но она не произвела впечатления.
- Бессодержательно, — сказали мне, — и так далее. Но я не согласился:
- Вы путаете содержание и содержимое. Содержимое в бутылке, а содержание — в каждом слове.
Они сказали:
- Слово — это знак. Его структура и так далее. Я говорю:
- Слово — не знак, а концентрат опыта. Каждая буква — это остаток другого слова. Буква А - это остаток от «алеф», бык, и так далее.
- Опять вы со своими выдумками.
- Я на них живу, — говорю, — как и вы.
- Мы заняты реальной жизнью… Наука в век научно-технического прогресса и так далее.
- Погодите, — говорю. — А зачем она, наука? В самом общем виде? Они разозлились и сказали:
- Люди хотят счастья! Но для этого его нужно хотя бы научно определить!
- Уже сделано, — говорю. — В словаре у Даля. Народный опыт утверждает: «Счастье — это желанная неожиданность». Понимаете? Неожиданность. Значит, заранее неопределимое, оно приходит, откуда и не ждешь. Счастье — это подарок, это сюрприз.
- Опять вы со своими выдумками. Разговор пошел по кругу, и я сказал:
- Давайте перенесем разговор. Вы не готовы.
- Вы не готовы.
- Нет, вы.
И я снова шел ловить нужных собеседников.
Мне казалось, в целом они дозрели. Апокалипсис все же! Но они не хотели, чтобы на них сваливалась неожиданность, даже желанная, если она не из той программы, которая заправлена в их компьютеры.
Нужные мне люди всегда уклонялись, и я ловил их в коридорах, в буфетах, на вечерах отдыха, за 10 минут до симпозиума и в других местах. Дело стоило того. Не до самолюбия.
И теперь я нашел их перед дверью конференц-зала. Они торопились.
- Все же как вы относитесь к хохоту? — спросил я.
- Знаете… Сейчас не до хохота…
Я опять десять минут растолковывал свою идею. Меня не прерывали.
- Что вы предлагаете? Политические карикатуры?
- А они смешные? — спрашиваю. Промолчали.
- Они злят противника, а надо, чтоб над ним смеялись не только наши сторонники, а все.
- У нас симпозиум, — мягко напомнили мне.
Я вытащил фотографию греческой вазы. На ней было, как мускулистый древний грек блюет. И надпись — «Последствия симпозия». Лингвист перевел. Остальные заржали, но опомнились.
- Неубедительно, — сказали они, — есть темы, над которыми не посмеешься.
- Например?
- Например, смерть.
Тогда я рассказал им древнюю буцефаловскую байку, как одна старуха рассказывает другой о смерти своего мужа:
- Тяжело помирал-то? — спрашивает соседка.
- Легко, Петровна… Лежал на диване тихий, светлый… Потом дро-о-о-бненько так пукнул - и умер.
На этот раз они взяли себя в руки и не дрогнули. Но байку записали. Потом один сказал:
- Смех — это обоюдоострое оружие…
- Бомба тоже, — говорю. — Однако она у нас есть.
- Но мы предлагаем отказаться от нее.
- Кому? Барыгам? — говорю. — Она чересчур доходная… Уговорами не возьмешь. Я же не зову отменять ваши методы, я предлагаю к ним добавить свои. Против Апокалипсиса все способы хороши… А хохот — это внезапное избавление от престижа.
Этого они, увы, боялись больше всего. Больше жен и больше смерти. Теоретической, конечно.
Они хмуро переглянулись.
- Конкретно, что вы предлагаете?
- Я предлагаю, — говорю, — спасти мир хохотом.
На меня смотрели скучно и пристально. Потом сказали:
- Извините… У нас симпозиум. И я ушел.
Я разозлился. Нет, это мне нравится! Им не всякое спасение годится! Какие гурманы! Номер не прошел. Моя универсальная дурацкая идея ни у кого из них не укладывалась. В перерыве заседания они меня разыскали…
- И юмор у вас грязный…
- Он не грязный, — говорю. — Он детский, поросячий. Смерть из-за золота еще грязней, тем более, всеобщая. Главное, найти «уголок» проблемы.
- А в чем вы его видите?
- Тысячелетняя машина драмы ломается. Уже пора над ней смеяться.
А сам думаю: чегой-то они такие добренькие, слушают меня… И мне рассказали: кто-то предложил заседающим работать активнее — иначе наш симпозиум превратится в древнегреческий. И рассказал про вазу с надписью. Пришлось сделать перерыв. Моя универсально-дурацкая идея начала свой путь.
26
Дорогой дядя!
Когда еще мы жили на Буцефаловке, кинофабрика утвердила и снимала фильм «Мама, зачем я это сделала?» про аборты, которые в то время были запрещены. Время шло. И фильм показали по телевизору как раз за день до выхода закона, разрешающего аборты. И нет ни фильма, ни его конфликта. Лопнуло. Буцефаловка хохотала. Ралдугин взял имя Джеймс. И я тогда понял, почему мне уже давно не нравятся проблемные фильмы — их конфликт можно отменить постановлением. Почему до сих пор интересно смотреть Гамлета? Ведь по нынешним законам все участники его конфликта — уголовники. Потому что вообще суть драмы — не в конфликте, а в его причине.
Конфликт — это то, что снаружи торчит, на виду, — борьба людей друг с другом. А причина всего одна — машина, которую они сами создали, потому что ничего другого не изобрели. Поэтому любая фабула легко может быть повернута и в трагедию и в комедию. Как фильм «Мама, зачем я это сделала?» про аборты. Потому что позади конфликта всегда не проблема, а свобода. Потому что троллейбус переполнен, и люди ищут, как быть.
Всем давно уже плевать на проблему принцев, а на Гамлета не плевать. Почему? Потому что он ищет свободу как может и, не придумав ничего нового, гибнет. А потом приходит Фортинбрас, смотрит на гору трупов и думает, как быть? И тоже ничего не придумывает.
Такая простая идея была высказана две тысячи лет назад — любите друг друга, и все уладится. Но вот почему-то не любится, и морская пехота ждет Апокалипсиса. Если дело зашло так далеко, что вопрос «Быть или не быть?» решают на уровне кнопки, у которой, как выяснилось, сидит даже не мартышка, а наркоман, то пора пересмотреть отношение к трагедии.
Мне кажется, дорогой дядя, что трагедия, как жанр пьесы, уже ничему не учит. Ну, хорошо, персонажей жалко. А как быть?
Сострадать? А как глубоко? Поплакать и разойтись? Так ведь жрецу это и надо. Но когда раздается хохот, жрецы содрогаются.
В детском театре отменили спектакль «Ромео и Джульетта», потому что, когда Джульетта, проснувшись в склепе, находит пустой флакон от яда и говорит мертвому Ромео: «Жадный какой, мне не оставил…» — в зале — хохот. Дети слышат «не оставил» и вспоминают только про алкашей.
Я раньше тоже возмущался — это Шекспир! Тупицы! А теперь понимаю — дети правы. Машина шекспировская устарела, и история, смеясь, с ней расстается. Не Шекспир устарел, а машина тех времен. Я мальчика спросил:
- Разве тебе не жалко Ромео и Джульетту?
- Сначала жалко, а потом нет.
- Почему?
- А разве они не могли удрать в другой город? Поступили бы на работу.
Как я ему объясню, что для этого они должны были бросить наследственное имущество? Черта с два они его бросят.
- Работа была позором, — говорю. Он не поверил.
27
Дорогой дядя!
Я помню, когда я давным-давно поступил в концептуальный театр консультантом по судьбе, то первое, что мне сказал режиссер театра, — актеры ему не нужны, а пьесу он может рассказать и сам, сидя на стуле перед зрителем, на авансцене. Под музыку. И чтоб я не зарывался и поддакивал. Поскольку жизнь есть жизнь, и моей судьбой теперь является он сам.
Начал служить.
И в первый же день, дорогой дядя, случилось приключение.
Я пришел на репетицию, где актеры учились любить по команде — встать, сесть, испытать пароксизм, вспомнить тенденцию, вспомнить концепцию — и раздавались возгласы заведующего физзарядкой: «В этом месте вспомните историю… вспомните происхождение… вспомните пейзаж… вспомните папу… вспомните маму… Искренней! Искренней! До конца! До последней березки! Так… хорошо… Теперь то же самое — лежа, широко распахнув глаза!..»
Актеры тихо вспоминали маму и, искренне глядя на бродившего тут же автора, обещали ему распахнутыми глазами дружбу до гроба. Они уже мысленно видели его там, в гробу, в тапочках ярко-белого цвета.
Потом пришел режиссер. Все отменил в грубой форме и показал, как играть.
И все стали играть, как он, поглядывая на часы и показывая мастерство.
А когда репетиция кончилась, и все ушли к Ралдугину обсуждать премиальные, режиссер сказал тоскливо:
- Нет актеров… С кем работать? Не умеют любить… Ни партнера, ни меня… ни автора, ни пьесу… Ни тенденцию, ни предлагаемые обстоятельства…
- А зрителя? — спрашиваю.
Но он меня прекратил, поскольку он, как и все, любил только свои предлагаемые обстоятельства, и если я не уймусь, то обещал меня даже отменить.
А помреж тут же вычеркнула меня из списков на праздничные заказы и путевку.
Но он не учел, что Джеймса я знаю еще с Буцефаловки, и пару-другую фрутазонов он мне всегда подкинет, а путевки я даю себе сам.
Все это время автор глядел в сторону и видел себя в гробу, в тапочках ярко-белого цвета, и это его умиляло до слез, поскольку он актерскую дружбу ценил.
Но жизнь есть жизнь. Я слетал в недалекое будущее и увидел, что режиссера самого скоро отменят, и дадут другого, и не надо переутомляться. И я только спросил автора:
- Вы хотите сеять разумное, доброе, вечное только в этом театре или в других тоже?
- В других тоже, — оживленно сказал автор.
- Тогда не смотритесь в актрис, как в зеркало жизни.
- Я сирота, — сказал он.
- Тогда другое дело, — говорю. — Судьба есть судьба.
Я уже знал его будущее, и мне было его жалко, потому что он не мог на будущее повлиять.
Он был глуп, а это, как известно, надолго.
- Я хочу писать мощно, как Шекспир, — доверительно сказал он.
- Как Шекспир нельзя, — говорю. — По нашим законам все его герои — уголовники.
Он не понимал, что к старым законам нельзя вернуться ни в жизни, ни в искусстве — опыт показал, что не выйдет. Что прошло, то прошло. И что из прошлого можно добыть даже не опыт, а лишь забытые в суматохе выдумки.
Потом уже, в Академии, один экономист, бывший директор, сказал:
- Я знаю, как исправить положение в экономике.
- Как?
- Мне нужен всего один безработный за воротами моего завода, тогда все остальные забегают.
- Я согласен, — говорю. — Но только если этот безработный — вы… Давайте прямо сейчас и начнем.
И он меня остро не полюбил. Он забыл, что завод не его, а наш.
А что вышло? Люди вспомнили забытый способ строить — артельный подряд, где платили за готовый храм, а не за суету на его постройке. И не понадобился ни безработный за воротами завода, ни сам этот экономист-директор. Потому что артель — это бригада искусников, а слово «арт» — это «искусство». В артели ревнивцев нет, и все на виду, и аврал им не помеха, а радость.
А тогда, в театре, я натолкнулся на режиссера, который тоже, чтоб исправить положение, мечтал о театре одного режиссера и натолкнулся на актеров, которые подгоняли себя под концепцию.
И вместо того, чтобы творить, то есть каждую секунду открывать свои истинные желания и выдумывать, как лепить картину спектакля и тем открывать режиссеру его концепцию, они, актеры, ходили на службу и дрались из-за ролей, которые им нечем было играть, а они говорили, что играть нечего.
Они играли «я» в предлагаемых обстоятельствах даже не пьесы, а концепции, которую режиссер в пьесе вычитал. Они не учитывали, что для них главное предлагаемое обстоятельство — это зритель и время, но надеялись, что сойдет. Они не имели своего мира, но надеялись насобачиться изображать чужой.
Они наглухо забыли, что актеру всегда есть что играть, даже если он весь спектакль просидит молча, спиной к зрителю. А неактера не спасет даже Шекспир. А уж Пушкин делает его голеньким и тщедушным. Но автор мне сказал:
- Ты умаляешь роль режиссера. А я ему в ответ:
- Такого — да.
- Ну тогда ты умаляешь роль автора, — сказал он. — А еще Шекспир говорил, а еще Аристотель говорил…
- Самое важное, что сказал Аристотель про автора, — перебил я его, — что «автор — поэт фабулы». Поэт. А что такое поэзия?
- Поэзия — это священное безумие, — ответил он строго по Аристотелю.
Но он путал священное безумие с глупостью и женился на актрисе, и это сильно выбило его из колеи.
Но не из судьбы. Потому что судьба — это суммарные чужие выдумки, к которым ты добавляешь свои собственные в надежде, что они повлияют на будущее, и тебе от этого будет, наконец, хорошо.
28
Дорогой дядя!
Мы с моим Субъектом прижились в этом буфете.
Пища нам поступала исправно. Мы постепенно привыкли к фрутазонам с шампиньонами и эклерам по-флотски. Была и другая, такая же хреновая еда, но были хлеб и соль. Иногда горчица в глубокой тарелке, и к ней суповая ложка. Телевизор в коридоре, телефон, туалет с писсуарами, а также сидячий, и вентилятор. И мы ждали доктора.
- Знаете, — сказал я ему однажды, — когда я первый раз ходил по Зимнему дворцу и видел спальни, трон и столовые, всякое рококо, я все думал, а как у них с унитазами, в таком огромном жилище?
- А ведь действительно, — говорит.
- Я все думал — куда цари ходили? А герцогини? А фрейлины? Может быть, во дворце были золотые выгребные ямы? И это при таких длинных платьях.
- Да, — говорит, — действительно. А почему вы столько об этом говорите?
- С типом одним судьба свела, — отвечаю. — А после званого обеда? А если надо всем сразу? Может быть, они в очередь вставали? Мне рисовались ужасные картины, как в кабинках путаются в турнюрах и шлейфах или, рыча, срывают сабли.
- Да, — говорит. — Есть дела, которые не отложишь. Где же этот доктор, черт его дери, — страстно сказал Субъект.
Дался ему этот доктор.
- Брезгуете? — наконец спросил Ралдугин, который подошел молча.
- Ну что ты, Джеймс, — говорю. — Как ты мог подумать!
- Фрутазоны им не нравятся! Зажирели… Но может, вам что-нибудь удивительное приготовить? Картошечки в мундирах?
- Кстати, почему бы и нет? — дерзко спросил Субъект.
Джеймс не нашелся, что ответить. А я подумал, а действительно, почему бы и нет?
- Будьте же художником своего дела, Ралдугин, — сказал Субъект. — Пора уже.
- Все художники — бабы, — сказал Ралдугин.
Теперь в лице Ралдугина было что-то болезненно-петербургское, почти декоративное. Он включил вентилятор и стал орать, якобы стараясь перекричать шум крыльев.
- Рибосома ваша! Рибосома исчерпана! У нас уже нет вариантов поведения! Человек не эволюционирует! Только инструменты усложняются. Нам осталась одна болтовня! …Ходят тут! Фрутазоны им надоели! Нормальные фрутазоны!.. А сам удрал из художников!.. А я был на твоем дипломе! Думаешь, я не помню, что говорил знаменитый историк искусства? Он хвалил тебя за центральный образ. А ты удрал из художников!
И Ралдугин выключил вентилятор.
- Я удрал из художников, — говорю, — потому что захотел применить к жизни опыт поведения художников на холсте. Но пока что я стал специалистом по «уголкам».
- Это немало, — сказал Субъект. Отношения его с Ралдугиным осложнились.
- Много на себя берешь, — сказал ему Ралдугин. — А ты кто такой?
- Субъект.
«Сейчас и Джеймс попадется, — думаю я. — На голый крючок. Без приманки».
- Он Субъект! — возопил Джеймс Ралдугин, не помня себя. — Он Субъект! А я кто? Объект?
- И вы субъект, — оказал он. Конец. Теперь не вывернешься.
- Ну, взбрело ему в голову! — сказал Субъект. — Понимаете, Джеймс? Взбрело. Ну что теперь делать?.. Дай, думает, попробую… А почему бы и нет? Никому не удавалось? Неважно. Ему не удастся? Неважно! Но если не попробует — будет важно. Как же он может эту мысль отогнать или загубить? А вдруг все же…
- Никаких все же.
- Скажите, Джеймс… А если бы к вам пришла такая догадка — применить к жизни поведение художника на холсте? Вы бы…
- Мне не пришла, — перебил Ралдугин.
- А если бы пришла?
- Гармонии захотели?
- Гармонии.
- А в жизни гармония — это когда и волки сыты, и овцы целы. А так не бывает.
- Вот как, — говорит Субъект. — Не так уже это несовместимо… Волкам не овцы нужны, а их мясо. Если кормить волков овцами, умершими естественной смертью, то все сойдется. Овец умирает столько же, сколько родится… Что? Ах, волкам мясо невкусное?
- Ничего, волки перебьются, — радостно сказал я и ощутил приближение нового «уголка».
- Ерунда, — сказал Ралдугин. — Все упирается не только в жратву, но и в амбиции… Свобода и равенство?.. А свобода и равенство тоже несовместимы.
- Это почему же?
- Земной шар заполнен. А в переполненном троллейбусе либо все равны, но не двигаются, либо все свободны и тогда давят друг друга, как звери… И выходит, что если все равны, то все несвободны, а если все свободны, то все неравны, по крайней мере, в переполненном троллейбусе, которым, похоже, становится вся планета. Это утверждает экология. И уж тут — кто кого.
Выходило, что Ралдугин прав. В переполненном троллейбусе свобода одного — есть еще большая давка остальных. То есть возникает неравенство. А сам думаю — такая мечта, такая мечта… Не может быть, чтобы она липа… Тогда — сливай масло. Но, братцы, как же надо себя вести, чтобы хотя бы давку уменьшить?
- Скажи мне, Ралдугин, любимец богов, как будет в троллейбусе, если все будут хохотать - свободней или тесней?
- Не знаю. Отстань.
- Свободней, — говорю. — Чтоб не упасть, все станут обниматься. Он хотел что-то сказать, но я не дал.
- Молчи, Ралдугин, — сказал я. — Вселенная начала смеяться… Я переключаю планету со слез на хохот.
И все начали хохотать циклически, а в промежутках отдыхать не от слез, а от смеха.
В окошко глядели официантки, переставшие собачиться в рабочее время из-за финских сапог. Им было завидно.
Теперь я думал, как все это проверить.
И тогда можно начинать.
Найден был «уголок».
29
Дорогой дядя!
Теперь пришла пора рассказать о Рибосоме.
Когда заканчивалась Предыдущая Вселенная, а стало быть, цивилизация, а до разлета всей неживой материи информации оставалось уже недолго, то Вселенная, прежде чем заснуть, решила: «Нельзя же, в самом деле, снова поштучно создавать каждого автономного исполнителя с жесткой программой поведения! Хлопотно, да и тупик вышел. Такое создание рано или поздно всегда взбунтуется против создателя и организует, хоть сопливенький, но зато свой собственный ад».
И она решила: «Ну ладно, мы уходим, и нам уже не больно, потому что нам опасаться нечего — тела нет, а пустота, живая плазма вакуума, не распадается, а только спит. Ну ладно, пустим следующий этап на самопроизвольное развитие, пусть оно само изобретает свою свободу. А когда я проснусь, уж лучше на этот раз я сама стану множеством. И кончится этот проклятый дуализм, где создание бунтует против своего создателя. Потому что чужая жесткая программа поведения рано или поздно надоедает даже ангелу. Однако если множеством буду я сама, то отдельные существа, каждое из которых станет частью меня, конечно, станут враждовать между собой в длительном поиске изобретательной гармонии, но это будет как художник краски смешивает, добиваясь единой картины, а не распад на дохлые части, как это бывает, если неживую материю информации предоставить самой себе. А потом — чуть тиснул ее посильнее и перегрел — она либо взрывается, либо схлопывается — и враз никакой информации нет, кроме как „взорвалась“ или „схлопнулась“ — вот и все сведения.
Нет, так дело не пойдет. Эдак я, когда проснусь, потеряю все записи о моем же собственном прежнем бытии.
И значит, чтобы я, проснувшись и став множеством со свободным поведением каждой моей части, вместе с тем осталась бы самой собой, я дам каждой своей части универсальный, но единый инструмент развития.
А там — лети куда хочешь, импровизируй, твори новую свободную гармонию — не страшно.
Однако поскольку инструмент будет хоть и универсальный, но у каждого из существ один и тот же, то все необычайно многочисленные варианты поведения будут все же моими вариантами.
И проснувшись от своих видений, я проснусь, примиренная с самой собой, и наступит жизнь, которую стоит назвать человеческой, то есть божественной». И Прежняя Вселенная, прежде чем заснуть и видеть образы будущей своей жизни, приготовила каждому автономному существу Будущей Вселенной — от амебы до человека — универсальную, одинаковую для всех машинку — Рибосому. Так ее потом и назвали. Которая, не совершенствуясь, не эволюционируя сама, давала почти неограниченное количество вариантов поведения, неограниченные возможности совершенства тому, кому она принадлежала — то есть Новой Вселенной.
И бессмертная Вселенная начала новый цикл. И стала эта машинка, Рибосома, не причиной действий всего живого, а универсальным инструментом любого поведения. А причины действий остались прежние — позади которых видения блаженства или кошмара. То есть единственным ограничением, которое Вселенная поставила самой себе, это — назад не возвращаться. Что было, то было, а что будет — поглядим. А подручный инструмент уже заложен для исполнения желаний — любых, кроме возврата в прошлое. Что было, то было. Точка. И изучать прошлое или воображать о нем можно лишь для изобретения будущего поведения.
Глава третья. Техника молодежи
30
Дорогой дядя!
Когда еще мы жили на Буцефаловке, там был отставной режиссер, которого еще до войны уволили в администраторы. Это случилось из-за профессора Прочимуса. Профессор Прочимус думал, что наука призвана изучать последствия фундаментальных истин, чтобы делать эти последствия симметричными, и что всякая новинка в реальной жизни эту симметричную картину нарушает.
И вот судьба его столкнула с упомянутым режиссером в самый острый момент жизни театра.
Режиссер тоже новинок не признавал. Он считал, что главное в театре — этнография и достоверность, достоверность и этнография. И репетиция судьбы. И потому, когда он поставил пьесу из римской жизни, то ему понадобилось римское войско, которое бы стояло по бокам огромной лестницы, по которой бы спускался Цезарь. На роль войска пригнали пожарных. На генеральную они пришли в римских туниках, из-под которых торчали казенные кальсоны.
— Вы с ума сошли! — кричал режиссер на помощников. — Правда где?! Где правда? Римляне кальсон не носили! У них были голые ноги!
И когда в спектакле на лестнице появился Цезарь, то каждый пожарный, опершись на копье, встал на своей ступеньке на одно колено уже без кальсон. И перед зрителями и профессором Прочимусом открылось такое мужское пожарное могущество, что у нервных в зале от хохота случились истерика и заикание.
Это была новинка. Зеленый Прочимус написал письмо о голом натурализме. Режиссер метал громы о том, что голый натурализм — это другое. И что его система — это другая система, и что эта система и так далее — уже не помню. Но его уволили в администраторы. Почему я об этом рассказал?
Потому что, хотя искусство и наука у нас равны, но наука, повторяю, — гораздо равнее. Наконец однажды Субъект спросил меня:
- Как вы это делаете?
- Что именно?
- Перемещаетесь во времени… Я же вас узнал. Это было в поезде. Отрицать было бессмысленно и не достойно тебя, дорогой дядя.
- Я ныряю только в прошлое, — говорю.
- Почему?
- Но ведь оно уже было?
- Было.
- Потому и ныряю туда.
- А в будущее нельзя?
- Как можно быть там, где еще ничего нет? Будущее — это то, что придумают потомки, но их тоже еще нет.
- Ну хорошо, а как вы ныряете в прошлое? Пришлось ему рассказать мое открытие.
- Эйнштейн постановил, что ежели улететь далеко-далеко со скоростью света, то ты останешься молодым, а все остальные на Земле значительно постареют, то есть ты уйдешь как бы в их прошлое.
- Это известно. Дальше.
- Но зачем шляться в такую даль, — говорю. — Можно сделать наоборот.
- То есть?..
- Ели пролететь с такой скоростью не 300 000 километров, а один километр, то отстанешь от жизни на одну трехсоттысячную долю секунды. То есть для остальных — ты ушел в прошлое на одну трехсоттысячную секунды.
- Как?.. Ах, да… — сказал он.
- И выходит, что чем меньший путь я пройду с этой скоростью, тем больше все, кроме меня, постареют. Близко и сердито.
- Чушь какая-то… Вы меня совсем запутали.
- Еще неизвестно, кто кого запутал. У Эйнштейна свой парадокс, у меня свой.
- Ну и что из него вытекает?
- А то, что если я с такой скоростью пролечу, скажем, не километр, а миллиметр, то я, не сходя с места, дико помолодею против остальных, то есть уйду в ихнее прошлое.
- Ты просто законсервируешься! — закричал он. — А не помолодеешь! А они будут жить!
- Верно, — говорю. — Но если я с такой быстротой промчусь путь, равный расстоянию между двумя электронами вещества моего же собственного тела, то я уйду в свое прошлое.
- Что? — спросил он, побледнев. — Ах, да…
- Я начал это проделывать еще в восьмом классе 425-й средней школы Сталинского района города Москвы. Теперь ее нет. Там теперь автомобильный институт. А какой был спортзал… Лучший в районе, может быть, даже в Москве.
Он долго молчал.
- А как же вы возвращаетесь?
- Вот тут я пролетаю огромное расстояние и возвращаюсь в сегодняшний день, который когда-то, в восьмом классе, был моим будущим.
Он опять долго молчал, а потом спросил традиционно:
- А когда вы находитесь в прошлом, вы меняете в нем что-нибудь и тем влияете на будущее? Брэдбери, например…
- При чем тут Брэдбери? Я ведь не сегодняшний туда попадаю! Я просто молодею и делаю те же глупости.
- Зачем же летать?
- Чтобы на этот раз исследовать глупости, и возвращаться, и влиять на будущее. Любое исследование — это исследование прошлого. Будущее не исследуешь. Его надо изобретать. Сегодня.
- Верно, — сказал он. — Иначе глупости повторяются… Но ведь в принципе можно узнать и будущее, — воскликнул он. — Пролететь огромное расстояние, немножко за это время постареть, узнать будущее. Потом вернуться в настоящее.
- Можно.
- Почему же вы этого не делаете?
- Потому что увижу будущее, которое сложится без моего участия. Я уже там бывал и все видел. Теперь я хочу придумать, как на него повлиять. Опыт черпается в прошлом, а влиять можно только на будущее, Брэдбери ошибался.
Он вздыхал, вздыхал, потом сказал печально:
- Значит, после восьмого класса вы уже знали, что будет война. Почему же вы на нее не повлияли?
- А как?
- Верно… Чем может повлиять мальчишка?
- Прошлый мальчишка не мог. А нынешний — узнает то, что я сейчас для него придумаю. Если придумаю…
- А ну рискнем… — сказал он.
Он встал, остекленел с вытаращенными глазами и бревном упал на пол. Еле откачали.
- Я хотел передвинуться на миллиметр, — сказал он.
- Вы забыли, что это надо делать со скоростью света.
- Ах, да… — сказал он. — Я забыл… А как вы это делаете? Хрен я ему окажу.
- А возвращаясь, надо одолеть огромное расстояние, — говорю. — На Земле такого нет.
- Вот! — воскликнул он. — Вы пришелец!
- Да ни в коем разе, — говорю. — Пришельцы еще не прилетали.
- Ну ладно, — сказал он разочарованно. — Не надо… Не очень-то и хотелось… Так, может, вы доктор и есть?
- Если придумаю — буду.
- А что? Намечается идея?
- Так… Кое-что… — говорю. — Надо проверить.
- Ну хоть намекните… В какой области?
- Уже намекал… Область гигантская, — говорю. — В ней гигантский опыт поведения, который совершенно не берут в расчет.
- Что же? Наука?
- Что вы, что вы! — говорю. — Как раз ее опыт только и учитывают. Нет, — говорю, — искусство. Опыт искусства не учтен. Потому что, хотя наука и искусство по закону равны, но наука гораздо равнее.
Дорогой дядя, после этого мы расстались. И больше в этот день он не появлялся. Не наделал бы чего.
Этот Субъект, конечно, понял — чтобы вернуться из прошлого, а тем более залететь в будущее, нужны такие расстояния, которых на Земле нет. Но откуда я их беру и как я это делаю, я ему, конечно, не сказал. Эдак любой подонок начнет целенаправленно влиять на будущее. В гробу я видел такое будущее.
Дорогой дядя, этот Субъект — мой союзник, но, конечно, и он не понял моего открытия. Потому что они здесь думают, будто память — это вроде магнитной записи. И ищут в мозгу магнитофон.
Они не знают, что передвигаться со скоростью света на микрорасстояния, на расстояния, равные электрону, это значит — вспомнить свое прошлое.
Он не понял, что, когда мы вспоминаем свое прошлое, мы на самом деле там бываем.
31
Дорогой дядя!
…Когда еще мы жили на Буцефаловке, там рассказывали давнюю байку, которую кто-то где-то прочел. Все хоть и не верили, что это было, но не могли от этой истории отлепиться и рассказывали, рассказывали… И она стала буцефаловской байкой.
Будто при феодализме жила королева, которую народ любил за доброту, а ее хищник-муж за это, конечно, не любил. Уж он лажал ее, лажал, зверел-зверел, а все без толку. Любил ее народ. Тогда король за это за все приказал ей проехать голой по городу — чтоб опозорить. Самолюбивый был. А она видит, что он дошел — не повесилась, а пожалела его. Содрали, значит, с нее одежонку и усадили на лошадь, а она распустила волосы и прикрылась как могла.
А когда она поехала по городу, то улицы были пустые. И все ставни закрыты. Народ ушел в свои квартиры и схлопнулся. И выразил свое презрение к королю, любовь к бедной королеве и свое непокорство — ему видней, кого любить.
И король умер от зубовного скрежета. Потому что уровень шума, производимого его зубами, превышал возможности его же черепа.
- Не лязгай, — говорила Буцефаловка. Почему я это вспомнил?
Дорогой дядя, что я знал о своей жене? Да ровно ничего. Я даже не знал, откуда она взялась. До того, как в лифте чужого дома она сообщила, что хочет от меня ребеночка, я и видел ее два раза. Первый, когда я тащил ее по шоссе на кровати, потом вместе с автомобилем, а второй — на пляже, когда этот тип объяснил, что она женщина. И еще я узнал, что она жила на даче, на которой празднуют юбилей. И все.
Я ее ни о чем не расспрашивал. Я ленив и не любопытен. И точка. Но я увлекающийся и любознательный. А эта пара понятий — оппозитна к первой. Знание я люблю, но если ради знаний надо кого-нибудь пытать, то это мне не любо, и я обхожусь. А если я увлечен, то лень куда-то улетучивается, и мне не надо заставлять себя действовать, а, наоборот, надо удерживаться.
Однажды пришел этот тип, с которым я ее увидел первый раз, разыскал нас как-то и спросил:
- Неужели у вас нет интереса к ее прошлому?
- Ни малейшего, — сказал я и продолжал жевать белковую булку, от которой не толстеют.
- А от кого она ушла? Вы знаете?
- Так ведь ушла, — говорю.
- А я кто такой? Вы знаете?
- Пусть это останется вашей тайной, — говорю.
- Но послушайте…
- Зачем?
- Но ведь нельзя же так жить, ничего о ней не зная!
- Все-таки зачем вы пришли, — говорю, — или какой сукин сын вас прислал?
- Я пришел вам сказать, что она не женщина.
- А кто же?
- Биологический робот, биоробот.
- Какая разница? — говорю. — Значит, вообще никаких проблем. Он помолчал, а потом вздохнул и сказал:
- Кроме одной, — сказал он. — Она принадлежит тому, кто ее создал. Она стоит денег.
- А сколько стоят знания, — спрашиваю, — которые этот сукин сын получал якобы бесплатно?
Он опять помолчал, обдумывая.
- А что, если этот человек всю эту историю расскажет в Академии публично? — спросил он.
- Бедняга, — говорю. — Я же его уничтожу.
- Каким образом? — надменно поинтересовался он.
- Я на его докладе публично издам непотребный звук… Вот такой… Представляете? Он представил себе — что будет. Он побледнел:
- Вы этого не сделаете…
- Потом он будет проходить по бесконечным коридорам, и вслед ему будут издавать этот звук… Пуки-пуки, знаете ли… Никто не удержится. Ни в одном законе это не запрещено. Ни один суд не примет жалобу. Да и в суде может все повториться.
- А если с вами проделают то же самое?
- Я первый приму в этом участие, — говорю. — Вы не понимаете — с художниками не ссорятся. Передайте это своему сукину сыну.
Он сказал:
- Ав-в-ва… И выбежал.
Ну, думаю, — началось. Моя жизнь состоит из приключений. Когда мать моего ребенка вернулась с прогулки, я рассказал ей о посещении и спросил:
- А ты, правда, биоробот? Она ответила:
- Как все мы.
Дорогой дядя, я попросил ее объясниться. В дальнейшем я передам тебе своими словами то, что я от нее узнал. Но это будет позднее.
- И этот сукин сын смеет утверждать, что может создавать биороботов со свободным поведением? — сказала мать моего ребенка. — Для этого ему нужно создать рибосому.
- Кишка тонка, — согласился я. — Если я верно понял, для этого нужна Предыдущая Вселенная.
- Ты верно понял. Теперь ты понимаешь, почему он сказал — ав-в-ва?
- Нет.
- Потому что этот сукин сын — он сам. Это во-первых.
- Это я понял. А во-вторых? — спрашиваю.
- А во-вторых, это муж Кристаловны.
- Вот это номер.
Богатство — идея идиотская, но понятная. Но биороботы? Зачем? Идея тоже идиотская, но еще и непонятная.
- А ведь это ты болван, а не он, — сказала мне мать моего ребенка. — Даже сказочный Люцифер жаждет, чтобы ему лизали задницу, а уж Ферфлюхтешвайн-то или муж Кристаловны… А какое же поклонение от электробритвы или пылесоса? Человек не может жить среди кнопок.
- Или среди зомби, — говорю.
- Это кто?
- Полудурки. О них тоже кое-кто мечтает.
Если этот ученый жулик, научившись делать золото, понял все же, что поклоняются за что-то другое и кто-то другой, и решил сотворить биоробота, то он начал не с того конца. Ему нельзя было сотворять женщину.
- А почему ты ему не поклонялась? — спросил я мать своего ребенка.
- Потому что, — сказала она. Помолчали.
- Знаешь, — сказала мать моего ребенка, — позвони куда-нибудь… Ведь ты имеешь право на четверть золотых плит в стенах дома Кристаловны.
- Да пошли они… — сказал я. — Почему я должен им звонить? Они мне задолжали, а не я им. Если они порядочные люди…
- А если нет? — сказала она. — У тебя будет сын.
- Золото ему не нужно, — говорю. — Где золото, там товар, товарно-денежные отношения.
- Я согласна продуктами, — сказала она.
- Ах, если б ты стала миллиардершей, — говорю, — то какой дворец ты бы заказала построить, душа моя?
- Я? — задумчиво сказала мать моего ребенка, бессмертная обезьяна. — Я бы заказала, чтоб горная бурная река проходила у меня прямо через кухню, и тогда можно форель ловить сковородкой. Это не я придумала, но мне нравится.
Я запечатлел на ее лилейных плечах легкий, как зефир, этот, как его… безенчик, кажется, а может, не безенчик, я забыл, и тогда прозрачная слеза выкатилась из ее очей, прокатилась по ланитам и упала на эти, как их, на перси.
- Жена моя, — сказал я, — пора уже. Как мы назовем нашего сына?
- Как-нибудь, — сказала она.
- В старом предисловии к Гейне я прочел мнение, что «Для нас любовь Гарри к Амелии важна только как крючок, на который влюбленный поэт вешает свои сердечные впечатления».
- Ты тоже на меня всех собак вешаешь, — сказала она. — Поверил, что я биоробот.
- Я? — сказал я. — Никогда! Приходи завтра в семь утра к Авдохину пруду.
- А это из Тургенева, — сказала она. — Он такие фразы сеял там и сям. А свое что-нибудь? От этого посещения снаружи было темным-темно, внутри — тоже не сахар. Но Рабле советовал — лучший способ стать богом — жениться на богине.
- Красота спасет мир, — сказала мать моего ребенка. — Ты знаешь, что значит по-испански «пресентале эль пасапорте»?
- Нет, — говорю.
- «Предъявите паспорт». А как звучит?!
32
Дорогой дядя!
Возлюбленная моя бойко полнела, и стало ясно, что мы вовремя продали парло-мурловую шубу, которую все равно нельзя было бы на ней застегнуть без вреда для моего будущего ребенка, который, проходя все стадии эволюции, стремительно и опрометчиво дорастал до способности к сознанию, с которым ему в материнской утробе было делать решительно нечего. Ф-фух!.. Пойдем дальше.
Мать моего ребенка много и легко ходила, отогреваясь в магазинах. В отличие от меня, которого корчило от страха при мысли о том, что и «растет ребенок там не по дням, а по часам» и что однажды… В общем, самая страшная строчка в «Царе Салтане» для меня с детства была — «выбил дно и вышел вон». Я уже тогда знал — что он увидит снаружи.
В этом месте я всегда плакал. Теперь о том, что он увидит, я знаю еще больше. Но и в утробе была теснотища.
И вот, в одну из ночей, когда я старался себе представить, каково ему там, я вдруг вспомнил, почему только у человека образовалось сознание.
Это очень смешно, но мой друг Сапожников нашел «уголок». Все остальное — лишь последствия, вытекающие из этого первичного обстоятельства. Нет, правда! Судите сами.
Ну, еще раз. «Уголок» — это некое специфическое обстоятельство, без которого «нечто» не может состояться. И когда о нем узнают, то наши взгляды на «что-нибудь» переворачиваются насовсем.
Ну, к примеру — пока Копернику не пришло в голову, что Земля вращается, думали, что Солнце всходит и заходит. А как пришло в голову, так все остальные теории — посыпались. Оказалось, что специфика дня и ночи не в Солнце, а на Земле. Понятно? Это была сногсшибательная новинка, а только новинка может претендовать на звание «уголок».
Поэтому «уголок» — это неожиданное объяснение того, о чем, казалось, знают все.
Дорогой дядя, единственное отличие расположения человечка в утробе своей матери от всех остальных детенышей во всех утробах состоит в том, что человек развивается вниз головой.
Потому что из всех млекопитающих только человечья мама ходит на двух ногах. То есть, кора головного мозга родилась из-за давления на череп всего веса младенца и всех материнских мышц. Он в последние месяцы развивается вниз головой и, только родившись, живет вверх головой.
Хотя иногда мне кажется, что это случается не с каждым.
А теперь я догадался, почему образовалось именно сознание, а не что-нибудь другое. Я лежал ночью и хохотал. Сначала молча, а потом вслух. Пока не разбудил всех, кого смог. Я кричал:
- Люди! Братцы-люди! Дело обстоит идиотски просто! Мы получили аппарат сознания, развиваясь вниз головой! Родившись, мы встаем на ноги, но мозги привыкли жить иначе! Я орал:
- Человечество! Эй! Мы не знаем о себе такой идиотски простой причины нашего превосходства и наших несчастий!
Я орал:
- Мать моего ребенка! Дите рождается, когда ему с его мозгами делать в животе абсолютно нечего! Слушайте! Слушайте! Ребенок родится от скуки! Человек все перенесет, кроме простоя мозгов, кроме работы мозгов вхолостую! Мозги — не компьютер, они живые, их не остановишь.
И сынок мой, мой князь Гвидон, меня услышал.
- Ой… — сказала жена. — Ой… …Дорогой дядя! …Дорогой дядя! …Дорогой дядя!
Я никогда в жизни так явно не сталкивался с чудом.
Когда в раскатах грома и пляске молний, в буре ливня я поехал его получать, я понял — состоялось.
В учреждении люди в масках мне выдали сверток. Я его взял и заглянул внутрь. И там, в полутьме и тишине, я увидел две маленькие розовые ноздри. Я приблизил лицо и услышал сладостное, уверенное, невероятное дыхание. Руки у меня окостенели, и меня усадили в машину.
Что-то говорили вокруг, но я слышал только одно — его жизнь на моих руках.
Мы сговорились, дорогой дядя, мы с ним сговорились — поменьше болтать о чувствах.
Сын, дорогой дядя, сын! С чувствами все в порядке.
33
Дорогой дядя!
…Когда мы еще жили на Буцефаловке, там рассказывали случай о сложности судьбы, то есть о том, как она складывается.
Некоего мужа допекла жена. Он решил повеситься, но не совсем. Он пошел в сарай, надел на шею петлю, а на подмышки — вожжи. И повис на вожжах, красиво откинув голову. Однако первой вошла в сарай не жена, как он ожидал, а соседка. Она увидела покойника, ахнула и стала из бочки быстро воровать сало. Покойник открыл глаза и сказал: «Ку-уда?..» Она завопила и упала в обморок. Вбежал милиционер. Он прислонил к стене стремянку и стал снимать покойника. Покойник, чтобы не упасть, обхватил милиционера за шею. Милиционер потерял сознание, но, падая, он ударил головой покойника, который тоже лишился чувств.
Уверяли, что было напечатано письмо в газете под названием «За что мне дали пятнадцать суток?»
Субъект делает доклад в Академии — «Предсказание судьбы математическим путем»… Видимо, его заели мои полеты в другое время. …Система уравнений о симметрии МИРА. О зеркальной симметрии мира… Даже ссылается на Пушкина. Он думает, что если положить половину «Бориса Годунова» перед зеркалом, то в зеркале получится вторая половина. И что поскольку красота — это симметрия, то симметрия спасет мир. Он не понимает, что симметрия есть только у дохлого кристалла, а у жизни не симметрия, а ритм. И, во-вторых, красоту нельзя вычислить, поскольку она гармония. А гармония есть желанное соответствие. А желания меняются. Как и обстоятельства, в которых они возникли. Развитие же идет! И, значит, гармонию надо каждый раз сотворять заново. И, значит, будущее идет по выдумкам. А как наперед эти выдумки вычислишь? И, значит, предсказывать будущее надо иным путем.
Но разве им докажешь? И теперь будет доклад Субъекта «Математическое предсказание судьбы». Смех и грех. Наука есть наука.
Но у Субъекта, наконец, после огромного перерыва — вспышка карьеры. А кто удержится? Тем более что он женился.
Жена Субъекта вчера слышала по радио «Голос истерики». Оказывается, там, в прериях, на Диком Западе, едят двести сортов колбасы.
Обычное дело. Блага в жизни Субъекта и его жены увеличились, и оба поэтому начали страдать от их нехватки.
- Господи, — говорю, — двести сортов! Да у нас в каждом буфете другой сорт, а сколько буфетов по стране? Да что в буфете! У нас каждый кусок колбасы — сюрприз.
- Вы живете в мире выдумок, — сказал Субъект. — Хватит с меня.
- Мы все живем в мире выдумок, — говорю. — Все, что на вас надето, — кто-то выдумал, а также дом, отопление, а также фрутазоны и ваша должность в Академии. Что придумаем, на то и живем… Выдумка — это все, иначе — гибель Вселенной.
- Ну уж Вселенной!.. Земли?
- А у вас есть доказательства, что мы не одиноки?
- А другие миры? — сказал Субъект.
Он огляделся все же, не идет ли кто-нибудь из кандидатов.
- Какой субъективизм — Земля центр Вселенной!.. Он строго посмотрел на меня и сказал:
- Вы протаскиваете поповщину.
- Раньше поповщиной считалось, что мир образовался в один день, теперь поповщина — если кто не верит в первичный взрыв. И это на памяти одного поколения.
- Вы развенчиваете естествознание.
- Только претензии ее деятелей — решать судьбы. Да и естествознание — еще не вся наука. Началась уже наука о человеке.
- Это одно и то же.
- Маркс считал, что нет. Но надеялся, что они сольются. На том и расстались.
Меня на дискуссию не пустили, как озорника и афериста.
Я хотя и огорчился, но пришел все же в темный коридор и уселся напротив закрытой двери, за которой железными семимильными шагами продвигался доклад, где Субъект грозился загнать, наконец, судьбу в симметричное состояние.
При свете луны из окна я кое-как разбирал свои заготовленные тезисы с опровержениями и дерзко выкрикивал их в дверную щель, когда в ней появлялась освещенная полоса, и кто-то из курящих стряхивал пепел в коридор. Иногда я гудел аргументы в замочную скважину, но ее все время загораживала чья-нибудь туго натянутая одежда, и потому голос мой искажался и звучал грубо и неприветливо.
Как раз случилась электрическая авария на подстанции, и все здание, кроме этого зала, не освещалось и было погружено в темень.
- Симметрия только у неживого! — порциями выкрикивал я. — Живое поведение от симметрии уклоняется! И так далее…
Я орал, меня не пускали, все шло нормально.
Дверь была старинная, хорошо лакированная, я уже начал привыкать к ее устойчивости, и потому был даже неприятно поражен, когда ее открыли.
Дверь открыли, ярким лучом осветив темноту коридора и меня, который при лунном свете пытался прочесть заготовленные замечательные тезисы.
Ко мне, в мою темноту выскочил младший кандидат наук и свистящим шепотом спросил:
- Это правда?
- Правда, — на всякий случай ответил я.
- Это правда, что во всем здании отключен свет, а этот зал почему-то освещен?
Я удивился. До меня только сейчас дошло, какая кругом позорная темнота и не гудят лифты.
- Авария на подстанции, — сказал он. — А у нас в зале свет горит… Нам звонили, ругаются, спрашивают — почему? Говорят, что мы жулики. Свет горит, а счетчики не работают.
- Надо Толю-электрика спросить, — говорю. — Я электричества боюсь… Электроны, позитроны, знаете ли, нейлоны, Мелоны, Дюпоны, купоны, кулоны…
- Чудес не бывает, — восторженно сказал он. — Мы к чему-то подключены! Может быть, даже сработал термоядерный синтез, идет неуправляемый процесс. Ищите Толю, у него есть фонарик… Немедленно в лабораторию… Если процесс неуправляемый, то им надо управлять.
Я похолодел.
- Я знаю, к чему мы подключены, — сказал я.
И бросился бежать по лунному коридору, расточительно роняя заготовленные тезисы.
- Неужели, — бормотал я. — Неужели…
Я разыскал Толю-электрика, который при свете карманного фонаря писал письмо на радио с просьбой исполнить песню, из которой он помнил только первую строку: «Ах, Сема, Сема, забудь про Анжелику», и сообщить, кто автор. Я сказал ему:
- Толя… Ищи, ради бога… Ищи, куда ведет провод, к которому подключен освещенный зал.
Толя отыскал, и мы пошли по этому проводу. Дорогой дядя… Ладно, дорогой дядя, потом, потом. Случился такой поворот судьбы, какого не только Субъект, но и я не мог предполагать.
34
Дорогой дядя!
Мы выбрали момент у судьбы, выскочили на ее новом повороте с Толей-электриком и пошли вдоль нужного нам провода.
И провод довел нас до двухэтажного дома, подготовленного на слом, где на первом этаже все еще жили, а на втором хранился ценный хлам — «славянский» шкаф, береты вязанные крючком, и так далее, которые реставрировали молодые весельчаки в надежде, что хлам станет антиквариатом. Среди веселящихся я узнал мужа Кристаловны и Сапожникова.
Дорогой дядя, я уже знал, откуда этот поганец, муж Кристаловны, добывал бесплатную энергию. Двигатель Сапожникова, над которым много смеялись как над «вечным». Но вот Академия освещена бесплатно. И теперь, конечно, смеются все. Кроме мужа Кристаловны.
Ему не до смеха.
Почему? Об этом позже.
Сначала об его окружении, о весельчаках.
Они престижем не озабочены, золото не пахнет, его надо иметь много. Поэтому они обхаживали мужа Кристаловны и мощно пахли французскими духами и духами фирмы «Маде ин».
Часть из них где-то числилась и имитировала деятельность, а часть даже не напрягалась. И для каждого из них безработица была не беда, а мечта.
- Спой, дружок, — сказал Сапожников. — У нас есть гитара.
- Я на шестиструнной не играю, — говорю.
Там были молодые люди разных сословий, и они братались.
- Академию, Академию освещаем! — орали они и хохотали. — Пей, Паша. И Сапожников пил, и они подливали. Я еле оттащил его в сторону.
- Гошка, а ведь я доказал теорему Ферма, — сказал он. — Помнишь, я еще в школе дурацким способом доказал ее для пифагоровых оснований.
- Каких?
- Пифагор открыл особенные числа, у которых сумма двух квадратов равна квадрату третьего особенного числа. И даже есть формула, по которой эти числа составляют, если хотят. Сказать формулу, малограмотный?
- Кто же ее не знает! — говорю я небрежно. — Числа скажи.
- Например: 3, 4 и 5. Иногда даже доказывали эту Ферму, но для отдельных чисел, а я — для пифагоровых, то есть для целого их класса. Дальше?..
- Валяй, — говорю.
- Теорема, которую Ферма записал в 1630 году на полях книги Диофанта, выглядит так: —Он взял какую-то бумажку: An + Bn? Cn при «n» > 2. Я и вцепился в эту двойку и захотел узнать, что будет при степени 3. Но ведь каждую степень больше двух можно превратить в сумму квадратов.
- То есть как?
- Степень — это умножение, а умножение — это сложение. Все уже и забыли про это.
- Это надо же! — говорю. — Подумать только! Слава богу, хоть ты вспомнил.
- Отстань… — сказал он, продолжая бормотать и писать на бумажке. По-моему, это была квитанция из прачечной. — Берем кубы пифагоровых оснований, делаем из них сумму квадратов и зачеркиваем равенства… Вот так…
32 + 32 + 32 + 42 + 42 + 42 +42 = 52 + 52 + 52 + 52 + 52
То есть остаются слева одна четверка в квадрате, а справа две пятерки в квадрате. Неравенство очевидно?
- Ясное дело! — говорю, а меня уже тошнит от цифр.
- А другие степени любых оснований неравенство еще больше увеличивают. Значит, собака зарыта где-то между степенями 2 и 3.
- Собака — друг человека, — говорю.
- Уймись, — сказал он. — То есть Пифагор открыл особенные основания, которые дают всем известное равенство… Я же доказал, что это равенство нарушается при любой другой степени, кроме 2… Ну, а Ферма открыл, что и сам квадрат есть степень особенная и исключительная. Так как остальные степени невозможно разложить на две такие же. Кстати, он записал это на полях той же Диофантовой книги. И это считают самым важным его открытием в теории чисел. Так и сказано в «Брокгаузе»: том 70, стр. 585. И я убедился, что все дело в двойке, в степени 2. Я стал думать… — он показал, как стал думать: выпучил глаза и сжал губы, — что же это за такое особенное число 2, в чем же его особенность?..
- Может, хватит? — говорю. Но разве его остановишь!
- … Во-первых, 2 — это число простое, то есть делится лишь на единицу и на самое себя, а во-вторых, оно — четное. Но мало этого, оно единственное такое — простое и одновременно четное. Все остальные либо четные, либо простые, а это — одновременно! Усёк?
- Ну и что?
- А то, что 2 есть единственное число, которое удовлетворяет всем тогдашним условиям одновременно. Других чисел тогда просто не знали.
- Ни фига себе… — говорю. — А теперь знают другие?
- А как же! Иррациональные, отрицательные… И число 0 тогда числом не считалось. Тогда знали только целые, положительные, рациональные, простые и четные.
- Вот тебе и 1630 год! — говорю. — Календарь не подведет! Это ж «уголок»! Ты открыл «уголок»!
- Что значит «уголок»?
- А это уж мое открытие, — говорю.
Пора было спасать его от весельчаков. Сапожников есть Сапожников — делится только на единицу и на самое себя. Если он за эту Ферму получит деньги — можно будет занять у него на «Запорожец».
- Понимаешь, — сказал он, — когда Ферма говорил, что нашел простое доказательство теоремы, он мог иметь в виду только это особенное свойство самого числа 2. Что и требовалось доказать. Я и доказал это своим способом.
Эх, Сапожников, Сапожников…
- Мой сын тоже доказал известную теорему своим способом, — говорю. — Я его спрашиваю: А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало. Что осталось? Обычно отвечают И, а он, знаешь, что ответил?
- Что?
- Труба, — говорит, — осталась труба.
- Оригинально, — задумчиво сказал Сапожников.
- Что делает здесь этот тип? — спросил я.
- Кто? А-а… Муж Кристаловны? От него у меня секретов нет… Он первый применил мой двигатель.
- А ты знаешь, для чего?
- Нет.
Я рассказал, на что идет бесплатная энергия его двигателя. Он отрезвел и заснул.
- Придумай что-нибудь, — произнес он, засыпая. Легко сказать.
Но мне помогло то, что Сапожников был неслыханный простофиля, и его космическая наивность.
Когда построили двигатель, то вместо того, чтобы испытать его двигатель на ближайшем нужнике — ведь стоит же рядом! — Сапожников осветил конференц-зал Академии. Неужели Сапожников думал, что это дело останется незамеченным? И когда муж Кристаловны узнал, что Сапожников так не думал, он понял, что приближается крах, о котором он сам старался не думать…
Выкрасть двигатель — не выход. Сапожников отдаст чертежи в Академию, если уже не отдал. Но как это узнать? И муж Кристаловны пришел ко мне.
- Я пошутил, — сказал он. — Ваша жена не биоробот.
- Вот как? — говорю.
- Но в ней скрыта особенность. Она донорский ребенок. Мать ее, покойница, очень хотела ребенка. Я это устроил. Но она умерла родами, и девочку воспитал я.
- А кто донор?
- Ралдугин.
- Джеймс? — вскричал я.
- Папа! — вскричала мать моего ребенка.
- Да. Он абсолютно сверхъестественно здоров в генетическом смысле. Я проверял.
- Какой же она биоробот? — говорю. — Человек родил человека. Все остальное — техника.
- Я же сказал, что пошутил.
- Шутка длилась двадцать лет, — сказала мать моего ребенка. — Он врал мне с пятилетнего возраста. Дать бы ему по морде…
- Это можно, — говорю.
- Это ничего не изменит, — быстро возразил он.
- Тоже верно, — сказала она.
- Биороботы невозможны в принципе, — говорю я рассудительно. Они ничего не хотят. Все можно сделать искусственно, кроме желания и воображения.
- Откуда вам это известно?
- От Сапожникова. От кого же еще?
- Вот за этим я и пришел.
- То есть?
- Чтоб вы узнали — отдал он уже чертежи в Академию или нет?
- Зачем?
- Я хочу уговорить его не отдавать.
- Он вас не послушает.
- Ну что ж, тогда ему несдобровать. На него нажмут.
- Кто, примерно?
- Примерно, Мамаев-Картизон.
- Этот кретин в отставке?
- Это на первый случай, — сказал муж Кристаловны. — Потом нажмут на вас.
Он остановился. Приближалась мать моего ребенка. Неплохую испекли доноры. Молодец Ралдугин. Я всегда знал, что Джеймс не подкачает. В руках у нее был поднос жостовской артели, с розами.
- Я ничего не имел в виду, — быстро сказал он.
- Запомни, — говорю. — Последний раз запомни… Ты знаком с Громобоевым? Он содрогнулся. Громобоева он не знал.
- А что он мне сделает?..
- Он тебя разорит.
Краска схлынула с его ланит. А вдруг этот Громобоев знает тайну его производства?
- Хотите денег? — все так же быстро спросил он. — Вам нужны деньги?
- Конечно.
- Сколько?
- Четверть стены.
- Чего?
- Четверть стены дачи Кристаловны.
Когда до него дошло, он стал красный. Так было несколько мгновений. Потом он исчез со скоростью света. Или чуть медленней.
- Ты же его пришиб, — сказала мать моего ребенка.
- Чем? — спрашиваю. — Ведь поднос был в руках у тебя.
- Добыча золота — монополия государства, — сказала она.
- Ах, да… — говорю.
- А тем более производить его…
- Из чего?.. — говорю. — Ты вспомни…
- Наивный ты человек, — говорит она. — Дороже нет ничего… Вся земля из него состоит.
- Ну уж… — говорю, — вся.
- Земля была глыбой льда, которую гравитация пригнала на орбиту… А когда растаяла — развилось живое… И у всего живого есть рибосома. …Вся суша — есть отходы живого… А что такое отходы? Вот то-то.
- Слушай, а правда, говорят, что в живом эволюционирует все, кроме этой рибосомы?
- Правда…
- Слушай, откуда ты все это знаешь?
- Так тебе и скажи… Ладно, я с твоим Громобоевым оказалась в одной компании. Там много спорили. Это было в тот вечер… Помнишь? Когда в лифте все вдруг решилось… И про рибосому он мне рассказал.
- Тогда понятно, — говорю.
- Что тебе понятно? Есть две теории происхождения жизни. Одни считают, что жизнь самозародилась на Земле, другие — что космос наполнен спорами… Громобоев сторонник второй теории — Панспермии… Это он почему-то советовал родить мне от тебя нашего сыночка. Ты против?
- Я?!
Ну, биоробот! Ну, мать моего ребенка!
- Знаешь, — говорю, — действительно, пора идти к Громобоеву.
- Кто он тебе? — спрашивает она.
- Старый знакомец. Потом я спохватился.
- Прости, — говорю. — Старый незнакомец. Про него много фантазировали. Знал ли я, как все обернется, дорогой дядя?
35
Дорогой дядя!
Громобоева я нашел под кустом красной смородины.
Приближался полдень, и он готовился поспать возле серого переносного телевизора. Ну, расцеловались. Ну, то, се…
Громобоев, Сапожников… Жизнь разносила нас в разные стороны, потом изредка сводила опять. С Сапожниковым я уже встретился, а как себя чувствует Громобоев? Как он? Мы не виделись лет шесть. Ну, то, се, я его спрашиваю:
- Как ты думаешь, люди достигнут бессмертия?
Он раскатал на траве одеяло, которое еще лет двадцать назад было совсем новым, и улегся в тени красной смородины. Возле муравьиной кучи. Но я видел, что муравьиная трасса проходит в стороне.
Он болтанул в воздухе часами «сейко-самовзвод», и они пошли. Стрелка показывала полдень. Так он заводил свои часы.
- Мало трясешь, — сказал я, зная эту марку. — С одного раза они останавливаются через час.
- Тогда я переведу стрелку обратно на двенадцать — и до завтра, — сказал он и сладко, предвкушающе зевнул.
- А остальное время что будут делать твои часы?
- А зачем мне остальное время?
«Вот как!» — подумал я и тут же забыл, о чем подумал.
Я сам умею наводить сон на кого хочешь, но Громобоев был вне конкуренции.
- Ну что тебе? — спросил он. — Хочешь — поспи часок. Потом смородину будем есть. Кислая…
Я тупо, почти засыпая, повторил свой вопрос.
- Достигнут люди бессмертия?
Он лег на спину и сдвинул панаму на нос.
- Уже достигли, — сказал он.
Я мгновенно очнулся. Сон — как рукой.
- А почему мы о них ничего не знаем?
- Они помалкивают, — сказал он из-под панамы. Это был ответ ответов.
И засвистел. Сейчас захрапит. Вот гад!
Чтобы не дать ему заснуть, я включил телевизор. Громобоев не любил, когда его будят. Я знал это. Но ведь по знакомству.
Он пожал плечами. По телевизору опять бушевала демонстрация. Я уже жалел, что включил. Но он упорно смотрел на телеэкран.
- Кто это? — спросил я. — О чем они?
- Это Эллада, — сказал он. — Демонстрация у Пирея.
Эллада… Эллада… Эллада… Дом сердца моего. Все правильно. Потом показали наводнение. Я как-то не придал этому значения. Вообще не принято придавать значение громобоевским словам. Но потом они прорастают.
- Ну, тогда ты можешь сказать, для чего искусство? — спросил я, перекрывая шум наводнения и рев лихого дождя в телевизоре.
- Оно рождает гениев, — сказал он.
- И все?
- Тебе мало?
Я подумал — все станут гении. Девальвация гениев. Какой ужас. Неужели и я захотел привычного дефицита? Да вроде нет. А все же как-то скучно — все гении.
- А как гениям живется? — спрашиваю. — Сладко? Горько?.. Если гений, как ты утверждаешь, это не сверхчеловек, а сверхчеловечность, то его жизнь — пытка… Или у них, у гениев, нет проблем.
Он с трудом приоткрыл слипающиеся глаза.
- У них свои проблемы, — сказал он, отводя глаза куда-то в сторону.
И я увидел, как там, вдалеке, где помещался дачный поселок, в котором я когда-то жил у Кристаловны, и недалеко от дачи ее мужа, взорвался холм. «Неужели?» — подумал я и постарался тут же забыть об этом. Он заснул, как отрубился. Я на цыпочках пошел прочь. Ах ты Громобоев!
На стоянке такси я сел в машину. Шоферы что-то громко обсуждали.
Когда я проезжал мимо бывшего холма, таксист быстро поднял стекло и изолировался от окружающей среды.
В том месте, где был холм, зияла огромная яма, и суетились люди в противогазах. Из окрестных строений разлетались личные машины.
- Коллектор рвануло, — сказал таксист. — Год не чистили… Паразиты… Вонь до неба.
- Ну что твой Громобоев? — спросила меня по возвращении мать моего ребенка.
- Когда я рассказал Громобоеву о муже Кристаловны и попросил придумать, как с ним бороться, Громобоев ответил: «Ладно».
И я стал хохотать, прямо закатываться — так я веселился.
- Что ты все хохочешь? — спросила меня мать моего ребенка.
- Я начинаю бороться за мир своими средствами, — говорю. — Что я, рыжий?
- Ты не рыжий, — сказала она, — ты уже лысый. Это же смешно…
- Вот видишь? — говорю. — Вот видишь?.. Уже смешно.
36
Дорогой дядя!
…Когда мы еще жили на Буцефаловке, студенты автомобильного института купили в складчину трофейный автомобиль лохматого года выпуска. И стали гонять по Москве. На обратном пути машина остановилась, и ее пригнали на руках.
Стали разбираться. Ничего не нашли. Тогда во двор пришли надменные профессора с автомобильных кафедр. И, намекая на зачеты, — позор! — полезли в потроха. И тоже ничего не нашли. Все притихли.
Тогда возвращавшийся с работы шофер Шохин постучал где-то сильно укороченным ногтем и сказал:
- Бензина нет.
Вот когда Буцефаловка хохотала.
То есть дело не в том, что стрелка не сработала и показывала, будто бензин есть, а в том, что люди живут под наркозом или гипнозом сложных результатов, а от простых причин — бегут, себя не помня.
Дорогой дядя, извини, что долго не писал, но произошло невероятное.
Когда моему сыночку настало семь месяцев, и он отказался пить материнское молоко, и потребовал щей из свежей капустки — отказался от титьки, как отрубил, и мать его плакала, что она ему больше не нужна, и пусть ест что хочет, то на следующее утро увидели, что он стоит в кроватке без штанов и держится за перекладину.
Тогда я сказал: «Исполняются танцы северных народов» — и стал языком подражать загадочному инструменту, который у всех земных народов называется по-разному, а звук издает один: бурдым, бурдым, бурдым. И значит, когда-то вся планета издавала в задумчивости этот звук и лишь потом услышала отдельные музыкальные голоса.
И под этот «бурдым-бурдым» сыночек заулыбался, и стал топать голыми ножками, и трясти голой попкой, и изо рта у него свисала кожура от соленого огурца, который он где-то добыл.
И жена сказала: он скоро будет ходить, надо покупать манеж, деревянный. Поставим посреди комнаты.
И далее она стала ходить по магазинам, и смотреть, и расспрашивать, но манежи попадались плохие, а она уже слыхала о хорошем.
- Чего ты все ходишь? — говорю. — Есть же телефон. Звони. Наводи какие-нибудь справки. Она стала названивать: скажите, у вас есть и так далее — и однажды ей ответили:
- Есть!
Это было в половине девятого вечера, за полчаса до закрытия магазина.
- Спроси — много? До завтра хватит?! — крикнул я. Ей сказали, что если прийти рано утром, то да, хватит.
- Давай деньги, — говорю. — Деньги давай.
- Вот это размах, — сказала она. — Я думала, тебя от дивана не оторвать.
А так оно и было. Целый год я не вставал с дивана, чтобы не прерывать работы, писал тебе, дорогой дядя. Такая пошла полоса. Мне тогда казалось, что то, что я пишу, срочно понадобится взволнованному человечеству. Неважно. Я так думал. А тут сорвался с места и помчался вниз на лифте, и выскочил на улицу, и схватил таксиста, который катился в парк:
- Старик, сын у меня, мне пятьдесят девять лет, в магазин привезли манежи, до закрытия полчаса, это мой первый сын.
- Едем, — сказал таксист.
И стал не таксист, а танкист, и не уехал в парк, а успели за 15 минут до закрытия. Танкист отстранил меня властной рукой и пошел впереди. С продавщицами он держался надменно и дырявил жестким пальцем оберточную бумагу на уложенных в стопку пакетах с манежами.
На крикливые возражения продавщиц отвечал:
- Нам надо с красным дном, а с синим нам и на фиг не надо.
Выбрали, заплатили, погрузили, доехали до дому, подняли в лифте, расплатились.
- Вот так, — сказал танкист и постепенно стал таксистом. Такие, брат, дела.
И вот тут, в середине ночи, а именно до середины ночи мы с женой монтировали этот разобранный, хорошего дерева, хреновый манеж, и произошло небольшое происшествие, пустяк, который потом стал влиять, можно сказать, на все. И я уверился. До середины ночи мы не могли собрать детский манеж, состоявший из шести доступных деталей. Представляете! Четыре светлые рамки с вертикальными палочками и две доски, обитые красным дерматином.
Как их ни вертели, обязательно у последней детали нужные шипы не влезали в нужные пазы.
Мы вертели эти легкие стенки, были потные, красные и пристыженные. И у нас не получалось.
И только отчаявшись, мы взглянули в печатную инструкцию еще раз. И увидели приписку от руки, с которой полагалось бы инструкцию начинать: «Начинать сборку надо с привинчивания металлических уголков в указанные на рисунке отверстия». А мы думали - привинтим их позже.
И я похолодел. Я впервые подумал: «Неужели уголки — настолько реальность?» Сначала жена сказала:
- Чушь. Не все ли равно, с чего начинать сборку? А я подскочил:
- Стоп! — закричал я неистовым неадекватным голосом. — Стоп! В этих проклятых уголках все дело! И с этого должна была начинаться инструкция! Не поняла?!
- Нет.
- Как только мы привинтим уголки к каждой из четырех стенок, мы сразу найдем низ любой стенки и ее внутреннюю сторону. А все остальное уладится само собой… Они ведь еще и ориентир!
- Идиоты, — подумав, сказала жена.
И я понял, что это относилось не только к нам. Это было как молния. Это относилось, страшно подумать, ко всему человечеству.
А до этого я думал, что «утолок» — это метафора, что это — «краеугольный камень» какой-нибудь проблемы, но маленький.
А теперь уж точно убедился, что в каждом наисложнейшем деле есть свой реальный «уголок», без которого дела не распутать, и все усовершенствования — есть усложнения и поправочки. Но толку от них — чуть.
37
Дорогой дядя!
Мать моего ребенка была великая актриса. Только об этом никто не знал. И слава богу. Иначе бы ей дали роль, и она бы ее репетировала. А потом пыталась бы подмять жизнь под пьесу. А так как ей роли никто не давал, то роль писала она сама, будучи уверена, что пьеса к ней уж как-нибудь сама пристроится. Еще девчонкой ей все удавалось. Ей, например, удалось выжить.
Но поэтому жизнь моя осложнилась. Захожу я среди бела дня из гостиной-мастерской в спальню-кабинет и вижу: сынок мой спит, посапывая в своей кроватке, а мать моего ребенка сидит на нашем ложе в незнакомой мне голубой, с кружевными белыми оборочками, очень короткой рубашке, из-под которой видны ровные коленки. И сидит она по-японски на пятках, и опирается о подушку плавными руками цвета охры золотистой, и мыслит. Фон — английская красная и киноварь в сильном разбеле, смятая постель взята костью жженой с белилами и чуть умбры.
Потом поднимает на меня хмурые глаза и говорит задумчиво, как при контузии:
- Я видела чудный гостино-спальный гарнитур из четырнадцати предметов, как раз тебе в мастерскую.
Когда я пришел в себя, я малость залетел в недалекое будущее и увидел квартиру, забитую мебелью, которая была забита барахлом, которое… И как мне негде притулиться, кроме как под столом или за шкафом. Но под столом лежал свернутый ковер из прошлой жизни, а за шкафом — из будущей.
- Ты вообрази, — сказала она, — и недорого.
Я довольно стойко переношу житейские неудобства, от которых все давно уже отвыкли: могу спать у Кристаловны в комнате с золотыми стенами, но без окон, могу работать, стоя в троллейбусе, и даже спать в трамвае стоймя, держась за ручку. Был такой случай. Рассказать? Ладно, в другой раз. Но очень плохо переношу помехи, которые даже считают не помехами, а удобством.
Удобство для меня — это: деньги на книжке, аккредитив в кармане, пустая квартира и возможность купить билет в западный сектор Бирюлева. Из мебели я больше всего люблю зубную щетку и электробритву, а все остальное у меня это отнимает и гасит. Но уже когда она мне сказала: «Вообрази», я озверел.
Сначала командуют: «Вообрази, как тебе будет хорошо», потом: «Не воображай, что тебе с кем-нибудь будет лучше», «Вспомни то», «Забудь это», «Проснись», «Надо спать, когда все спят», «Слушай, ну что ты живешь, как во сне?», «Людям твои сны не нужны»… Я вытерплю все, но когда покушаются на мою способность воображать что угодно, вспоминать что угодно, и наводить сон на кого угодно, даже храпом — я зверею. Я почти перестал летать в прошлое. Ладно, хрен с вами, от него одно расстройство. Людям надоело помнить страдания сосункам напоказ — это их право. Я согласился не летать в будущее, ладно, хрен с вами, от него тоже одно расстройство. Все время видишь, что оно выглядит не так, как тебе надо, потому что либо тебе мешают влиять на него сейчас, до полета, либо его отменит Апокалипсис, и будущего не будет. И многие занялись только тем, с чем сталкиваются в данную секунду — кто-то наступил на мозоль, или ближайший начальник — сука. Я все терпел, но теперь у меня отняли, можно сказать, последнее — не велели храпеть, потому что это не навевает сны, а будит. И я понял — хватит. Я начинаю жить по собственному сценарию и буду биться головой об стенку в полное свое удовольствие… Если она только скажет «проснись»… Если она только скажет… Но она сказала: «Очнись». И я очнулся. В том-то и дело, что она на чужие сценарии плевала и делала только то, что открывало ей ее истинные желания.
- Ну как, — сказала она и чуть сдвинула назад кружевную бледно-голубую комбинацию. — Сегодня купила.
- Гениально, — говорю. — А ну, еще повыше.
- Повыше нельзя, — говорит, — Через минуту и семь секунд просыпается наш сын. И добавила:
- Слушай, — сказала она, — я думаю, мебель помешает нашему сыночку ездить на велосипеде по гостино-спальному кабинету.
Понимаешь, дорогой дядя? Когда человек открывает свои истинные желания, они всегда совпадают с чьими-нибудь истинными желаниями. Это и есть творческое поведение. И я страстно захотел иметь трехколесный гэдээровский велосипед, где заднее колесо ведущее, а два передних — толкаемые и синхронно поворачиваются. А баранка… А маленькая цепь, а педали… То есть велосипед едет, как бы задом наперед по сравнению с остальными.
Гляжу — а он уже стоит в мастерской.
- И денег осталась куча, — сказала она.
- Это хорошо, — говорю. — Ты уж извини за храп… Это самозащита. Впервые я начал храпеть при женщине, которая была до тебя.
- Женщины до меня не было, — сказала она.
Она сказала правду. До нее была профессионалка. С этого дня, дорогой дядя, я перестал храпеть, и летаю, и навожу сон, какой угодно и на кого угодно, и могу приступить к картине после того, как отменю Апокалипсис.
Вот что значит женщина, которая когда-нибудь должна была родиться. Родиться, чтобы не освобождаться, а освобождать. Бессмертная обезьяна, которая когда-то встала на ноги, и ребеночек повис в чреве вниз головой и обрел разум, и тем самым она дала разум всему человечеству, которое она народила, но которое теперь залезло под машину из-за дождя и никак из-под нее не вылезет. Хотя дождь кончился, а машину некому угнать, чтобы они опомнились и приступили, наконец, к тому, ради чего машину купили. К жизни, то есть к совершению судьбы.
38
Так вот, дорогой дядя, «Борис Годунов» Александра Сергеевича Пушкина есть первая попытка трактовать судьбу в новом роде. Не как предсказуемое или непредсказуемое будущее, а как складывающееся на глазах.
Пушкин, пожалуй, первый усомнился, что судьба человека есть следствие его страстей и поступков, то есть возмездие за грехи. Хотя ныне с успехом доказывают и обратное. И даже кладут первую половину пьесы перед зеркалом в надежде, что оно отразит вторую симметричную половину.
Мы не знаем, мучила ли реального Бориса совесть или нет. Ну а если б не мучила? Его бы не скинули? Скинули бы. Дела пришли в упадок, а Самозванец обещал все поправить. А потом смотрят — враг. Привел других панов. И вовсе грабителей. И самозванца из пушки распылили.
У Пушкина — судьба человеческая и судьба народная — не одно и то же, а вещи разные. И он однажды написал не трагедию, не комедию, не драму, а сцены. И из рыцарских времен — тоже сцены. И судьба — это не логическая машинка, но и не хаос, а именно сцены, то есть дорога через хаос.
Потому что судьба человека зависит не от хаотического или компьютерного рока, а от той порции обстоятельств, с которыми он столкнулся и считает законными или незаконными. И придумывает, как быть.
И потому Буцефаловка, которая знала, что судьба — это то, что складывается (так и говорили: так сложилась его судьба), знала о жизни больше любого шахматиста или работника театра и его окрестностей, которые обещают, что театр — это зеркало жизни. Потому что судьба одного человека зависит от того, как его личные выдумки жить столкнутся с результатами выдумок остальных людей, и какую он хлебнет порцию. Но судьба народная зависит от большой экономики. Слава богу, хоть это начинают понимать. Но еще слабо понимают, что и экономика складывается из выдумок. А драматурги все еще пишут пьесы, а не сцены. А театр очень любит один конфликт на всю компанию. Это называется — выстроенная пьеса. В отличие от пушкинской. Невыстроенной.
Они ищут у Пушкина проповедь возмездия, от которой он первый же и освободился. И написал ряд сцен, где каждая из них — жемчужина.
Аристотель о трагедии говорил просто — трагедия есть подражание действию. О том, что пьеса — это зеркало жизни, стали болтать позднее.
Когда забыли, что как раз в зеркале все вывернуто, забыли, что в зеркале левое ухо — это правое. И наоборот.
Дорогой дядя, а теперь я прерываюсь, потому что я счастлив.
Я хотел многое рассказать, но все меркнет перед тем, что случилось.
Я сделал великое открытие.
Может быть, его все знают, но я не встречал никого, кто бы знал.
Но как только я его изложу, скажут, что оно известно всем. Потому что оно, как всегда, идиотски простое. Дядя, внимание!
Я открыл, в чем отличие умножения от сложения. Внимание! Вот оно!
Складывать можно что угодно, а умножать — только одинаковое. И это есть «уголок уголков».
Дорогой дядя, мир зашел в тупик, потому что проморгал это отличие. Казалось бы, одно и то же. Умножение — это упрощенное сложение, более простой способ, сокращенный, так сказать, — умножь вместо того, чтобы складывать, не складывай поштучно, а умножь.
Но дело в том, что складывать можно что угодно, а умножать только одинаковое. Эта простая истина наглухо забыта.
Нельзя умножить 2 паровоза на 4 яблока, а сложить можно.
Так вот, дорогой дядя, судьба складывается из разных разностей, а не умножается из одного и того же.
Ее пытаются вычислить, а ее надо сотворить.
Как же узнать будущее? Ведь в любой прогноз или в приказ жизнь внесет поправку. Из чего же складывается судьба?
А ведь в деле с Апокалипсисом это — вопрос вопросов.
Дорогой дядя, судьба складывается не из намерений, а из выдумок и шансов их выполнить.
Поэтому, дорогой дядя, я хочу тебя успокоить. У планов организовать общий или маленький такой, уютный Апокалипсис шансов на выполнение нет. На самоубийство никто не пойдет. Это брехня. Ядерный потолок один для всех. Исключений не будет. Поэтому пока гешефтмахеры и гешефтфюреры забавляются, спекулируя на страхе, дело идет к тому, что их возненавидят все.
Поэтому, дорогой дядя, надо заниматься хозяйством. Они сами дозреют до разоренья. Его можно, однако, избежать разными мерами, например, перевести нахапанные деньги из военной промышленности в гражданскую, чтобы опять обскакать своих родимых конкурентов, но не самоубийством. Потому что «хотя самоубийство есть выход из любого положения, но это положение, из которого нет выхода» — сказал поэт. Какие же шансы, дорогой дядя, у нормального народа выполнить свой план? После открытия закона прибавочной стоимости только один — выдумка. Надо придумать, как его выполнить, этот план. То есть — творчество.
После того как узнали, что человек инструментом производит продуктов больше, чем нужно ему одному, стало ясно, что выдумка — основа всего. Так как и инструмент, и поведение надо выдумать.
Но всякая выдумка, умноженная механически, становится глупостью, то есть упирается в невозможность ее выполнить. И тогда ее заменяют другой выдумкой, чтобы не зарываться. Потому что жадность фраера сгубила.
Они зарвались, дорогой дядя, и потому одурели. Ничего. Подопрет — опомнятся. Европа уже приходит в себя от старых выдумок и ищет контакта. Причем, не со страху, а именно от потери его. Они поняли, мы на самом деле первыми не кинем. И мир для нас — это не лозунг, а нормальная работа, энергетический оптимум, ходьба, а не ожиренье, здоровье. Если копнуть, то сталкиваются не разные интересы, а одинаковые выдумки их удовлетворить.
Сейчас передали, что в африканской пустыне американские профессора хотят защитить беженцев из Европы от черного коренного населения тем, что конструируют «этнический вирус», который бы морил черных и не трогал белых. И у профессоров не хватает воображения понять, что следующей выдумкой будет вирус, который бы морил белых и не трогал черных. Потом будут вирусы для рыжих, крашеных, лысых. Потом будут вирусы для скучных. И планета, чтобы выжить, сгоряча откажется от науки. Я выражаю тревогу. Маркс называл это дело «профессорский кретинизм».
Конечно, дело с Апокалипсисом решит не хохот, а, как всегда, экономика. Подопрет — найдут выход. Но смех этот выход готовит.
Человечество может страдать из-за чего угодно, любить что угодно, бояться чего угодно, бороться с чем угодно, но смеяться оно может только над собой. Больше ему смеяться не над кем.
Почему всемирное хозяйство надо все время вытаскивать за шиворот, как пьяного с телебашни? Потому что кому-то нужен дефицит. А тот, кому он нужен, одурел от выдуманных желаний. Пр-р-рестиж! Р-разорву! Баб! Золота! А копнуть — ему всего и надо-то — банку пива да яичко. И то крутое. А разговоров, разговоров!.. Дорогой дядя, не знаю, как тебе это объяснить и чем подкрепить эту уверенность, но мы сейчас накануне новой вспышки добра.
Дорогой дядя, я всеми потрохами, всем опытом, всем разумом чувствую, что оно началось, добро, оно началось гораздо раньше, но был долгий ужасающий перерыв, и мир устал от перерыва. Но теперь началось. Вот увидишь. Это не мечта, дорогой дядя. Началось.
Часть III. Парад бессмертных
Глава первая. Свой мир
1
Дорогой дядя!
Было солнечное и немножко белесое утро, когда поезд остановился.
До этого пять минут стояли в коридоре и глядели в окно. Насыпь была высокая, и ниже нашего поезда проплывали летние домики и садовые участки.
Эту поездку можно описать двумя словами.
Поезд остановился, и вижу, что я один в коридоре, а все спускаются на солнечный перрон, и слышны голоса. Поплелся и я.
Внизу посмеиваются, знакомятся, на меня смотрят, подняв головы, и посмеиваются. Еще бы. Мне бы надо было ловко и неустрашимо сбежать по ступенькам, помахивая сумкой, а я слезаю, держась за перила, и внизу меня даже кто-то поддерживает под руку. Дожил. А что поделаешь, я даже знакомого узнаю на расстоянии двух протянутых рук. Это не метафора, а буквально так. Дальше двух протянутых рук — только погода и пейзажи. Но меня устраивает эта дистанция — две протянутые руки. Ближе — дружеские объятия с неизвестными последствиями, дальше — незнакомые. А две руки — это дистанция товарищества. «У каждого свой вкус, как сказал щенок, облизывая ножку кровати», как сказал Сэм Уэлер, как, в свою очередь, об этом сказал Диккенс в своем «Пиквике».
Я заметил, что в воздухе совершенно не чувствуется пыли, и сообразил, что степные ветры выдувают из города пыль, и, наверное, сказывалась близость искусственного моря. Я получил крошечный значок Волжского автозавода с изображением ладьи с алыми парусами и подумал — неплохое начало, будь здоров начало! — но спохватился — на этот раз никаких мечтаний, хватит. На этот раз только впечатления. И мы прошли до автобуса, и влезли в него, и расположились, и человек, поглядывавший на нас со спокойным юмором, сказал, что его зовут Леонид Владимирович и сейчас он повезет нас в Новую гостиницу в Старом городе устраиваться, и автобус закачался, как ладья на волне, и я стал писать тебе письмо, мой дорогой дядя.
У нас сегодня по программе выезд в учебный центр ВАЗа. А потом работа конференции книголюбов и нас, профессиональных выдумщиков.
Автобус шел не то чтобы неторопливо, а как-то обыденно, мимо широко стоявших новых домов, позади которых все время ощущалась степь. Почему она ощущалась, сказать не могу. Может быть, из-за какого-то огромного неба, может быть, из-за неярких теней, может быть, из-за того, что привычный запах отработанного бензина куда-то уносило и в приоткрытое окно вваливался тугой воздух, у которого вкус и запах были совсем иные, чем в Москве, совсем иные.
Город Тольятти, Пальмиро Тольятти. На русском языке «Пальмиро» вызывает ощущение пальмовых ветвей, и мира, и какого-то древнего города Пальмиры. Какие есть имена прекрасные — Кампанелла, Дольчино — в них печаль о том, чего душа давно просит. Но всегда вмешиваются исторические барыги, которые людям, делающим бублики, автомобили и песни, угрожают шизофреническими крестовыми походами и космической паранойей.
Не биение, но и не безразличие, не дерганность, но и не дрема, а покой. Покой. Покой здорового человека, который, не суетясь, делает свое дело.
Дорогой дядя, самое сильное впечатление в конечном счете производит та картина, которая не прыгает в глаза — это как раз проходит, а та, которая обволакивает. Сначала кажется, что ничего особенного, а потом оторваться не можешь и хочешь в мире этой картины побыть подольше, а значит, в мире этого художника. Это всегда означает, что картина не нервишки потеребила, а дошла до души.
Но это бывает, когда художник говорит с тобой лично и обращается к тебе не как к одному из многих, а как из многих к одному.
После долгого, ужасающе долгого перерыва я приехал в город, который обращался ко мне лично. Не знаю, понятно ли я говорю, но мне почему-то кажется, что понятно.
2
Дорогой дядя!
Я беру слово о «механизме» творчества. Ничего, пора уже. Пусть знают. «Механизм», естественно, взят в кавычки, так как для этой штуки еще и термина не придумано. Ничего, придумают.
Дорогой дядя, речь пойдет о таком поведении, при котором получается то, чего в природе еще не было. При таком поведении вдруг появляется желаемый, но абсолютно неожиданный результат.
При таком поведении результат не является исполнением желания, а само желание возникает, когда этот результат появился.
Вот такие дела, дорогой дядя.
Ты спросишь — как это может быть?
Может. Проверено на практике.
Результат творчества — не исполнение желаний, а открытие их. Не веришь?
Самый простор пример — это появление на свет моего сыночка.
Я понятия не имел, какой он будет, и что вообще это будет он. Я если и мечтал когда-нибудь о ребенке, то почему-то о девочке. Даже имя было придумано — Настенька. Я воображал, что у нее бант пропеллером, она держит меня за палец, и мы идем на «Синюю птицу». Дальше этого мое воображение не шло, но и это было прекрасно.
Но родился он, и в ту секунду, как я узнал, что родился он, — прежнее видение растаяло, потому что оно было видением, и оказалось, что мне нужен сын и изо всех сыновей — он. То есть речь идет о том, что реальность лучше мечты, хотя считается, что наоборот.
Ясное дело, имеется в виду счастливая реальность и счастливая мечта, потому что о несчастье для себя не мечтают. Только для другого.
Считается, что творческий человек всегда недоволен результатами.
Я же утверждаю обратное.
Я утверждаю, что он недоволен, когда получилось именно то, чего он хотел. А когда сотворилось, чего и не ждал, — счастлив.
Дорогой дядя, вспомни о Ромео, который считал, что любит некую Розалинду, пока не столкнулся нос к носу с Джульеттой! Он мечтал о Розалинде и мечтал, как ему будет хорошо.
А когда он увидел, как Джульетта дышит, он догадался, что до этого момента он хотел любить, но не знал кого. А когда увидел, как Джульетта дышит, — узнал. Розалинда была точь-в-точь похожа на его мечту, и он к ней стремился. А Джульетта была ни на кого не похожа, но у него екнуло сердце, и он не пропустил этот сигнал. Сигнал реальности. Сигнал этот еле слышный, но его нельзя пропустить. Все остальное в творчестве — подробности.
Поэтому я утверждаю, что в творчестве результат — это подарок.
Если его нет, то это обычное исполнение желаний, которые тут же кончаются именно потому, что исполнились.
Обычно думают иначе.
Я люблю моего сыночка, а за реальную любовь надо платить правдой. Больше ей ничего не надо. Все остальное она сделает сама.
Вот почему Пикассо отверг болтовню о том, что творчество — это поиск. Так и говорят — творческий поиск. Уже языки намяли, и в ушах навязло, и горы книг и руин от этого поиска, а все еще твердят — творческий поиск. И он всегда требует жертв и почему-то всегда от других. А жертва — это жратва без очереди и, желательно, даром. И люди, занятые пресловутым «творческим поиском», жрут тех, ради кого этот поиск якобы совершается. Так вот, Пикассо сказал: — Я не ищу. Я нахожу.
Нашел и указал кистью, движением руки. И кисть оставила цветной след. След руки — только в этом «уголок» живописи.
На фотографии жизнь отпечаталась сама. А картина есть след руки. Но мы — люди, и след руки — это след души. А душа всегда как-нибудь относится к жизни.
Но если рука исполняет желание, то художник недоволен, так как желание кончилось именно потому, что исполнилось. А если след руки — это находка того, что внезапно открылось, то художник доволен. Потому что картина — это не исполнение обычных желаний, а открытие истинных, о которых раньше и сам не знал.
И выходит, дорогой дядя, что реальность истинная — лучше мечты. Иначе зачем она, реальность?
3
Дорогой дядя!
Неужели ты никогда не слыхал эту буцефаловскую историю про Агафью и ее удельный вес?
Агафья давно уже собиралась в Монте-Карло, но все время мешали президенты. Пойдет в сарай поросенка кормить, а небесный голос из-за забора скажет: «Таким образом, в результате подсчета голосов…» — и опять новый президент. Поросенок хрюкнет, сучок в заборе засветится хмурым солнышком, Агафья всплакнет тихонько и опять поездку отложит. Не до Монте-Карло тут.
Если бы ее звали не Агафья, она бы давно уж поехала, а с таким именем никакой подготовки не хватит, все будут спрашивать: «Агафья? Почему? Зачем это? А что она выиграть собралась? А зачем на риск идет? Может, ей ещё Лас-Вегас подавай? Или притоны Сан-Франциско, где лиловые негры подают манты?»
Притоны, затоны, понтоны, плутоны, бонтоны — ей и на дух не надо. В Лас-Вегасе одни смертоубийцы, и заразиться можно. А в Монте-Карло рулетка тихая, семейная. Руководит князь и жена-княгиня. Агафья князя не видела, врать не будет. А у княгини в польском журнале «Экран» — фигурка не хуже, чем у Агафьи. Одна нога лучше другой, а обеим цены нет. Но Агафья одинокая, а княгиня вытащила счастливый номер. Петух у соседа крикнет, Агафьина курица сообщит, что яйцо положила в лопухи, по улице мотоцикл проедет с коляской — Сгибневы матрац повезли, и опять новый президент. Было бы что путное, а то один хуже другого. Каждый — «маде ин», и каждого надо обдумывать. Раньше их было — сколько стран, столько и президентов, а стран было мало. А сейчас уже стран штук двести, и в каждой президентов навалом и бесчисленно — президенты ассоциаций, корпораций и другие президенты. Даже газетные. Эти больше уток разводят. Остальные — льют пули.
Агафья… А ведь какие имена бывают прелестные — Мерилин, Бискайя, Гонолула… Эту Гонолулу однажды Агафья видела после войны в трофейном фильме, но отрывочно. На ночном просмотре. Она тогда еще работала в городе и по ночам прибирала зал. В этом клубе говорили речи с диаграммами, а после перерыва — трофейное кино. А ночью механики просматривали удачные места, которые они для себя вырезали из ленты, а остальное обратно склеивали, якобы лента бракованная и рвется и роняет фрагменты, такая морока.
- Агафья, погляди фрагмент из «Гонолулу».
На экране темным-темно, а потом видно, что у нее на голове — медная корона с перьями, как у княгини, а потом видно, что плащ — до туфелек черного лака, а под горлом тот плащ застегнут медной пряжкой, блестящей, большого размера, но тактичной. А потом лицо двинулось вправо, и стало видно, как Гонолула бежит по лестнице вниз в черном трикотаже, в облипочку, по фигуре, и черный плащ раздувается.
Она сбежала вниз на палубу парохода, плащ скинула и стала танцевать танец чечетку — налево обеими ногами отстучит, направо, однако сама не падает, а изгибается. А палуба не то зеркальная, не то мокрая, но брызги не летят.
- Вот номер! — говорит один механик другому. — Вот фрагмент!
- А какой у ее номер? — спрашивает Агафья. — Номер какой? А другой механик в ответ:
- А?..
- Бе… — сказала Агафья.
И стала полы мыть, потому что фрагмент кончился и пошла другая музыка, на медных трубах. А потом слышит, один механик говорит другому:
- А ноги-то у этой, не хуже чем у той.
- Этого быть не может, — отвечает второй.
- Почему же не может?
- Потому что Агафья… Не тот номер.
Агафья тогда ведро унесла и там в прихожей-вестибюле люстру зажгла, платье подняла повыше, ботинки скинула, на цыпки встала и видит в зеркале — правда, ноги не хуже, чем у Гонолулы, только номер не тот. Гонолула свой номер в Монте-Карло вытащила и чечетку умеет. А Агафья неподготовленная, и имя в честь прабабки, и в результате подсчета голосов опять другой президент, и создает обстановку — бомбу назначил против Агафьи. А этого президента Агафья видела на фото. Был бы хорош собой, от красавца чего не вытерпишь, а этот, послевоенный, был похож на покойника, которого поставили вертикально стоймя. А покойников надо ложить горизонтально, плашмя, носить легше. Тут дружба с американцами и «маде ин» кончилась, и с европейцами тоже кончилась, хотя все клялись, что по гроб, когда война была. И в Монте-Карло опять стало ехать нельзя, и какой бы номер Агафье вытянуть — стало неизвестно.
Тут как раз ее прабабка померла, а брат с женой развелся и завербовался на полярный Север добывать никель для комбината, и Агафья снова поехала в свою избу, но с культурой связь не порывала.
У нее было с тех пор три мужа, но детей не было. Потому что первый муж, перед тем как спился на сахарном заводе, велел ей сделать аборт. Второй муж покинул ее потому, что хотел детей, а третий — потому что ревновал к двум первым.
Третий был особенно чудной. Он велел ей носить длинные платья, надеялся, что в совокупности с именем Агафья она станет похожа на прабабку. А вышло, что в таких платьях Агафья была похожа на народную певицу республики, и на нее еще больше оглядывались.
После третьего мужа прошло лет десять, за которые Агафья работала в совхозе на разных работах и все перевыполняла, а девушки в ихних местах стали носить мини-юбки выше колен, И когда Агафья, которая никогда с культурой не порывала, однажды решилась, то все увидели, что фигура у нее не хуже, чем у Гонолулы.
Все бы, может, и обошлось, но молодая руководительница самодеятельности затеяла показывать силуэты и пантомимы на киноэкране с освещением с обратной стороны и под музыку. Было много интересных номеров из старой жизни, где пахали без сохи, сеяли из лукошка без лукошка, и из новой жизни, где играли на пианино без пианино и изображали скульптуру перед ВДНХ без ВДНХ. И завершала программу Агафья, которая показывала женщину будущего, которая якобы шла в профиль в неизвестное вперед, и волосы и плащ ее раздувались от вентилятора для принудительной просушки сена, рев которого был не слышен, так как к нему привыкли. Как раз тут и вышел конфуз.
Наладчик самодойного коровьего комплекса типа «карусель», который не обращал ни на кого внимания, по ошибке женился на руководительнице народной пантомимы, потому что думал, будто это она показывает под вентилятором свой силуэт, а не Агафья. Когда же ошибка выяснилась, наладчик делал частые попытки пережениться заново, но Агафья этого позволить не могла. Так как была баба хотя и честная, но с придурью. Наладчик угрожал ей, что станет спиваться, и ему вошьют в бедро «дирижабль». Но Агафья не поддалась, замкнулась и ушла в личную жизнь и подготовку поехать в Монте-Карло. В Монте-Карло собственно сам выигрыш ее не колыхал. Ей шла неплохая зарплата, у нее было семьсот пятьдесят на книжке, и всех денег не заработаешь. А интересовал Агафью номер, на который выигрыш падет в этой международной рулетке. Или проигрыш. Агафье годился и проигрыш. Но чтоб уж точно. Да? Да. Нет? Нет. Но она хотела знать свой номер. А то ни то ни се. У судьбы не так уж много вариантов. Примерно столько, сколько номеров в рулетке. Все остальное — в значительной мере лишь последствия первого выигрыша или первого проигрыша. Но пускай уж они будут свои, персональные, а не от того, что президенты плодятся, как мухи на тухлятине, и все подсчеты голосов не в пользу Агафьи.
Агафья считала, что ни проигрыш, ни выигрыш человеку не указ и что каждый номер счастливый. Но только свой, а не чужой. Чужой не подойдет.
Вы, может, думаете, что когда мелькнут в описании Агафьины фрагменты, то они такие и есть, как вы вообразили? Это ошибка. Агафья была низкорослая, и ноги довольно толстые, а Гонолула или там княгиня Монте-Карло были тонкие и длинные. Но почему-то все, что было напоказ красивое у других баб, люди переносили на Агафью, кляли себя, но переносили, и никто не знал, почему.
У каждой женщины есть тайна, если присмотреться. А если не присматриваться, то и тайны нет.
К Агафье всегда присматривались. И если б она это знала, вопрос о Монте-Карло отпал бы сам собой. Но Агафья не замечала, какой выигрыш ей выпал, и все старалась подготовиться принять свой номер.
Стояла ли она в очереди за пивом или за книгой «Художник и мир личности», когда книжный ларек выбрасывал что-нибудь из культуры, всегда казалось, что она вот-вот что-нибудь скажет, то есть она всегда вызывала ожидание. Это и был ее номер. Многие ли могут похвастаться, что от них чего-то ждут? А глядя на Агафью, всем казалось, что она способна на что-нибудь эдакое, и разочаровывались, когда этого не случалось.
Шла ли она кормить порося или несла на заливку резиновые боты, всем казалось, что она это делает неспроста, и искали значения. Такой ей в жизни выпал номер. Она дожила почти до сорока лет, а все еще ждала выигрыша или проигрыша. И можете себе представить — дождалась.
Однажды, когда Агафья, как всегда, поехала в город, чтобы пополнить запас красивых слов, годных на имена, она встретила мужчину, который разглядывал полено. Агафья приблизилась и тоже стала разглядывать полено.
Она сразу подумала, что он либо туберкулезник, либо шпион, но оказалось, что он вагоновожатый, хотя и живет с мамой.
Он ее спросил: была ли она в Монте-Карло? Она ответила:
- Сколько раз…
Он оправился от потрясения и сказал, что он сам только что оттуда. Он ездил на Канарские острова с делегацией микробиологов-заочников бороться за мир, и на обратном пути они сделали вынужденную остановку в Монте-Карло чинить гребной винт, и они с руководителем помчались смотреть рулетку. Их допустили туда без пропусков. Они поставили каждый на свой номер и остались при своих. Руководитель разочаровался, что не проиграл и не выиграл, а этот мужчина стал думать — что же означает номер «тринадцать», на который он, нисколько не думая, поставил оставшиеся деньги. На обратном пути, при прохождении Стамбула, он догадался, что число «тринадцать» означает удельный вес какого-то природного материала, влияющего на его жизнь. Однако он давно забыл удельные веса, так как по химии у него всегда была тройка, потому что он всегда содрогался, когда видел в учебнике бензольных тараканчиков, которые, держась за ручки, водили хороводы и образовывали то каучук, то маргарин.
По возвращении из Монте-Карло он из справочника выписал, что число «тринадцать» — это удельный вес дерева. Он принес на бульвар полено и стал его обдумывать. Он разглядывал полено, где каждый срубленный сучок был похож на хмурое солнышко, и старался угадать, какие бы выросли цветущие ветки, и какие бы на них были листья и, может быть, даже плоды и семена, если бы…
- Если бы не президенты, — сказала Агафья и спросила: — А число «шесть» — чей удельный вес?
Мужик достал бумажку, но числа «шесть» там не оказалось, так как оно было ему ни к чему и он его на бумажку не выписал. Больше того, оказалось, что удельный вес полена не тринадцать, а совсем другой, и мужик второпях совсем не то выписал. Тогда он стал это обдумывать и догадался, что если б он не ошибся и не захватил на бульвар полено, то он бы не познакомился с Агафьей.
Это его так поразило, что он пригласил ее домой, потому что у него сегодня гости и он хочет познакомить ее с мамой, и уж Монте-Карло так Монте-Карло. Но Агафья сказала, что у нее для Монте-Карло нет платья. Но Владимир Алексеевич сказал, что платье можно купить. Но она возразила, что не хватит денег, а нужно много.
- А вы бы у меня взяли? — стесняясь, спросил он. Она кивнула.
Тогда он стал вытаскивать из карманов деньги и отдал ей все, отложив себе пятерку.
- На колбасу, — сказал он. — И на сахар. Все-таки на именины придут гости. Мама испечет шарлотку с яблоками. Будет очень вкусно.
Но Агафья отсчитала ровно сто пятьдесят рублей, а остальные вернула ему и записала его адрес. Оказалось, что он старше ее на два года и семь месяцев и потому заочник. Когда Агафья пришла, он ахнул: оказалось, она одета со вкусом и лучше всех гостей.
- Спасибо… — тихонько сказал он.
- Платье вам понравилось?
- Черт возьми! — сказал он…
Потом ее познакомили с мамой. Квартира была хотя и небольшая, но очень нескладная, и мама выглядела устало. Вокруг Агафьи стали жужжать мужчины разного возраста, и мама спросила, как ее зовут.
- Агафья.
- А где вы познакомились с моим сыном?
- В Монте-Карло, — сказал сын.
- Недавно вернулась семья графов Муравьевых, — сказала мама. — У них дочь Агаша. Это старинное имя… Вы замужем?
- Да, — сказала Агафья.
- Кто ваш муж?
- Вагоновожатый-заочник, — сказала Агафья. — Его удельный вес тринадцать, а мой — шесть. Раньше он думал, что это удельный вес полена, но он ошибся. Его сбили президенты.
- Вы тоже верите в магию чисел? — смятенно спросила мама. — А в экстрасенсов?
И пока мама соображала, кто же все-таки муж Агафьи, он отвел ее на кухню послушать Цезаря Франка на радиоле. На радиоле от усовершенствований во все стороны торчали провода, а головка снимателя была примотана лейкопластырем. Но поэтому звук был хороший, а Цезаря Франка Агафья не слыхала ни разу.
Она предложила потанцевать под симфонию а-бе-це-де-е-эф-ге-моль-минор, он взволнованно согласился. А в кухню потянулись гости смотреть на новобрачных. В зеркале старого буфета с деревянным виноградом новобрачный разглядел ее очень простое, очень дорогое платье.
- Это стоит сто пятьдесят? — тихонько спросил он.
- Нет, — сказала Агафья. — Это швейная машинка стоит сто пятьдесят. А материю я приглядела с подругой в универмаге. Очень практичная. У подруги и пошила, за три часа. Он проглотил что-то и откашлялся.
- Мама очень устала, — сказал он. — Ей до сих пор важно, что она княгиня.
- Мне тоже будет важно, — сказала Агафья.
- Почему?
- Я не знаю, — сказала Агафья. — Чтоб признали. Мама спросила:
- Вы собираетесь жить у нас?
- Нет, — сказала Агафья. — Мы уезжаем. У меня есть одноэтажный коттедж из дерева.
- Вряд ли сын решится…
- Я решила…
- Вы считаете, этого достаточно?
- Там воздух, — сказала Агафья. — И плодово-ягодные культуры.
- Володя…
Он взъерошил волосы:
- Я поеду с ней, куда она захочет, хоть на Северный полюс.
- Это ближе, — сказала Агафья.
Назавтра они уехали в поселок, а когда они расписались без очереди, Агафья стала княгиней. Случай редкостный, но можете спросить у Сгибневых или у кого угодно. Они уже шестнадцать лет вместе живут и все перевыполняют. Агафья в совхозе на разных работах, а он теперь специалист по кишечной микрофлоре и фауне среди куриц и поросят и в районе гремит.
Изредка появляются первые мужья Агафьи, смотрят на новую крышу коттеджа из дерева, где живет княгиня Гонолула. Один говорит:
- Я бы в этой халупе на курьих ногах дня бы не прожил. А другой говорит про князя Вову:
- Растленный тип.
Потом они горько пьют в вокзальном буфете и пропускают поезда — один за другим, один за другим.
Но поселок успокоился. Он всегда в Агафью верил. Неспокойны только президенты, они теперь хотят поразить Агафью из космоса.
Надеюсь, понятно, что все это не призыв князьям жениться на Агафьях и прочая сентиментальная чушь? Да ни боже мои! Из этого обычно получаются одни ужасы. А просто он потому и князь, что Агафью разглядел. Разглядел сердце живое и горделивую тягу вытащить свой номер, любой, но свой.
Никуда нельзя вырваться, ни в князья, ни в Агафьи. Можно, конечно, переменить среду. Но и среда ничего не обеспечит. Она — почва, подходящая или не очень. Ни картошка на юге ананасом не станет, ни ананас на севере в картошку не обернется. Вырваться можно лишь к себе. Но сколько людей мимо себя в лакеи проехали или в злодеи. А эти не проехали. И очертя голову — в обыденную жизнь, к себе, в люди. Дай бог этим двум людям здоровья, кабанчика каждый год и победить президентов, несмотря на любой подсчет голосов. Потому что они — народ, а народ не делится на людей, он из них складывается.
4
Дорогой дядя!
Однажды на кинофабрике зимой я проходил каким-то коридором первого этажа и остановился как вкопанный, или, если хотите, ноги приросли к полу. Нет у меня ни слов, ни лихих метафор, чтоб описать остолбенение.
Грузчики в робах, осыпанные снегом, вносили прямо из метели, сквозь тамбур с хлопающими дверями плоские большие ящики и ставили их к стенам. В таких раньше перевозили витринные стекла. Потом фомками стали отрывать доски и осторожно вытаскивать картины Дрезденской галереи.
Эти картины я в Москве видел дважды. Сначала строго по пропускам, где за каждой группой ходила тихая охрана, второй раз — на открытой выставке, куда по улицам шла очередь длиною в километр. Было жаркое лето, и очередь двигалась с такой же скоростью, с какой выходила с другого конца, как переваренная, — порциями человек по двадцать. Все картины Дрезденской галереи я знал по репродукциям, но при встрече с подлинниками я шел в каком-то дрожащем мареве. Я перебегал от группы к группе, проталкивался, потный и несчастный, и не мог поверить, что меня сейчас выпрут и все кончится. И ком стоял в горле от гордости за художника. Ни хрена, думал я, человек может. Были и разочарования. Но ни одна, ни одна репродукция даже близко не передавала впечатления от картин. Может, когда-нибудь будет, пока — нет. В репродукциях было все. Кроме пустяка. Таинственной гармонии.
Были и смешные вещи. Девушка с письмом у окна, Вермейера, оказалась серебряной, почти серой, а репродукции были веселого желтоватого цвета и, значит, пропадала вся суть картины, которая, конечно, была не в том, что давняя натурщица читает письмо. Но вернемся к зимнему коридору на кинофабрике.
Поостыв от изумления, я стоял в этом коридоре у каждой картины сколько хотел, и никто меня не гнал, и вдруг стал испытывать чувство, близкое к холодному отвращению. Либо я разлюбил живопись, занимаясь стряпней кинозаявок, надеясь, что они кому-то глянутся и мне за них дадут есть и пить, либо весь великий авторитет великих художников — липа. Передо мной молодой Рембрандт с Саскией на коленях, от которого я когда-то отходил в полуобмороке, а теперь стою и думаю: «И все? Да нет, неплохо сделано, мастеровито. Но какая-то тошнота, будто резинового ластика нажевался, и надо промыть рот». И только когда внесли самый большой ящик и, ободрав доски, открыли «Сикстинскую», до меня дошло — не могут ее внести из метели, за это убивать надо. Так что же это за монстры, которые выглядят хуже, чем честные репродукции?
И я ушел.
Я спросил режиссера. Для его фильма привезли эти картины. Он в буфете покупал пирожное и чай. Я спросил с надеждой:
- Вряд ли это «Дрезденка», а?
- Ну что вы, — сказал он, — это очень хорошие копии. Уважаемый сир, за очень хорошую копию рубля судят.
Я понимаю, сир, у рубля и у картины разные задачи, но гнусность фальшивых денег легко доказуема — она кража. А как доказать гнусность кражи таинственной гармонии в какой-нибудь копии, когда эту гармонию и в подлиннике мало кто видит? Если репродукция от картины отличается, как меню от обеда, то отличие копии от картины страшнее. По меню я воображаю обед. Я остаюсь голодный, но я воображаю обед, какой хочу, и у меня текут слюни. А копия — это страшно. Она отличается от картины как Одиллия от Одетты. Я влюбился в Одетту, а мне подсунули Одиллию, ведьму. Копия — это подмена. Адское дело.
Ох, ох, уж эти мне эстеты-гуманисты, — говорят. — О чем речь? Мало вам, что в картине все как живое, мало? Зажирели, вот что я вам скажу. Знаем вас, формалистов проклятых, модернистов недорезанных, вам подай картины, которые можно вверх ногами смотреть! А между тем, художники знают, что перевернутая вверх ногами картина, к сожалению и чаще всего, выглядит лучше — выявляет цветовую дисгармонию неперевернутой.
- Это у перевернутой цвет другой? Ну, тогда вы вообще — того, — и крутит пальцем у виска.
Ох!..
Чтобы разобраться во всех этих делах, надо запомнить только одно. Художники делятся не по школам, течениям, периодам, мастерству и даже не по таланту, это все, страшно сказать, не главное.
Художники делятся на два сорта, которые отличаются только одним признаком. Одни изображают свой мир, а другие хотят насобачиться изображать чужой. Спорят — выражает художник свое время или, может быть, нет, не выражает. Это все ерунда, сир. Всякий художник выражает свое время, даже неискренний.
Есть еще один крайне неудачный термин — «самовыражение». Термин скрежещущий, искусствоведческого происхождения, бесплодный, и в него надо вдумываться. Наплюнем. Художники отличаются только одним — одни изображают свой мир, другие пытаются — чужой. Все остальное — отсюда.
Кто изображает свой мир, может на холсте устроить непонятный вихрь красок, а может по фотографии изобразить голое небо и трубу на горизонте или избу, и будет видно — это его мир.
Все остальное — только трюки и страх, что не купят.
Я раньше думал, что Моцарт от Сальери отличался тем, что Моцарт гений, а Сальери — имитатор на математических костылях. Теперь я знаю, что это лишь сложные последствия простой и щемительной разницы. Моцарт изображал свой мир, а Сальери хотел насобачиться изображать чужой. Потому что Моцарт — бесстрашный человек, а Сальери — трус.
Каждый, кто изображает свой мир, — новатор, ломает ли он старые способы изображать или нет, сознательно ли он их ломает или по инстинкту — это все равно. Поэтому в искусстве новатор — это новатор навсегда. Все остальные изучают спрос. Я, зритель, — вахлак без знания терминов. И зачем мне свою голову подменять чужой? Я хочу прийти в мир художника и побыть в нем. Хорошо мне в нем — я останусь, нехорошо, колюче, непривычно — уйду, но есть шанс, что вернусь. А если мира нет вовсе, то висит предмет на стене, и искусствоведы обстреливают эту картину терминами, рикошетом в меня, и все мимо.
И Моцарту и Сальери платили. Но Сальери продался, а Моцарт — нет.
Художник не может изображать чужой мир. Или свой, или никакой. Но если мир есть — есть надежда и на отклик.
5
- Мы подъезжаем к нашему учебному центру, — сказал Леонид Владимирович. И женщина-парторг кивнула.
На ней было, если не ошибаюсь, платье светло-вишневого цвета. Она была молчаливая или просто не торопилась с оценками. Когда я сползал еще по ступенькам вагона, Андрей Иваныч представил меня тольяттинцам — это тот самый знаменитый Панфилов, из чего я понял, что меня тут абсолютно никто не знает. Галстук мой бодро отдувало куда-то в сторону степным ветром, а женщина в вишневом платье вежливо улыбнулась:
- Ну, товарищи!
После этого я старался на нее поглазеть. У нас, на Буцефаловке, конечно, все женщины были красавицы, но даже на их фоне она действительно была хороша.
Теперь она кивнула и куда-то пропала. А мы уже идем под какими-то сводами и вызываем некоторое любопытство. Или это я пропал? Дорогой дядя! Если бы не мать моего ребенка… Ах да, это из другого романа.
У меня давно уже все романы перепутались, и те, в которых я участвовал, и те, которые я писал, и я, конечно, от этого постоянно попадал впросак и клял себя за это, знаете — и меня кляли и даже велели опуститься на землю, пора уже. Но, знаете, почему-то не хочется. Знаете, я вам даже больше скажу, я подозреваю, что я-то как раз и живу на земле. Просто моя земля цветная, а меня постоянно призывают жить на черно-белой. Я не осуждаю, живите, кому нравится. Но беда в том, что и им не нравится, и сколько таких черно-белых графиков, кому и вспомнить нечего, кроме ненависти.
Что было, не забудется, Что будет, то и сбудется, Да и весна уж минула давно, Но как же это вышло-то, Что все шелками вышито Судьбы моей простое полотно?Ну, факт, мы входим в какую-то комнату учебного центра под эту песенку. Кто-то поставил мою старую пластинку. Одно время, дорогой дядя, ее так сильно пели, эту песенку про полустанок, что меня даже успели возненавидеть черно-белые графы, графики и графини. Но я был рад, что, по крайней мере, эту песенку здесь, в учебном центре ВАЗа, — знают.
Идет к труду привычная Девчоночка фабричная. Среди подруг скромна не по годам. А подойди-ка с ласкою Да загляни-ка в глазки ей, Увидишь клад, какого не видал.Ну что ж, дорогой дядя, я не возражаю, пусть знают, как я к ним на самом деле отношусь. Родные вы мои.
Потом нам объясняют, для чего существует учебный центр и как любой, который работает, может увеличить здесь свое образование. И книголюбы с книгой сидят, опустив глаза, и, видимо, стесняются. Еще бы! Приехали столичные штучки, и каждый может подарить книжку с автографом. И я тихо зверею, и мне хочется сказать им: «Ребятки, мы не столичные штучки, мы поэты. Столичные штучки работают „под Европочку“, а мы — специалисты по судьбе».
И я говорю кому-то, сидящему рядом:
- Чего это вы сидите, как на смотринах? А она мне отвечает:
- Чаю хотите? У вас совсем остыл.
Дорогой дядя, на конференции я почувствовал, что дико хочу курить, а курить в зале было нельзя, поэтому я договорился с Андреем Ивановичем, что он меня объявит первым, и потом я пойду покурю куда-нибудь.
Тогда я вышел на трибуну и сказал им примерно следующее:
- Нельзя понять, что сегодня происходит в мире, если не понять того, что происходит в семье, что происходит в каждом доме… Поле не делится на колосья — оно из них складывается. …Надо вспомнить, что и человечество не делится на людей — оно из них складывается. Мы живые… Что значит «бороться за мир»? Проголосовать на антивоенном митинге? Перечислить в Фонд мира часть зарплаты?
Одна простейшая мысль мало до кого доходит. Вот она: после того, как мы объявили, что первые не кинем, и призвали остальных объявить то же самое, — и нет проблемы, после этого всякие удивительные возражения выглядят грязно и увертливо. Потому что это основа основ, а все остальное — штучки. И все это видят, и потихоньку начинают ненавидеть платных штукарей, и понимать, что к чему, и дозревать. И что поэтому у нас, к счастью, нет задачи ложиться на рельсы, чтобы не проехала бомба, мы ее просто отменим при согласии остальных поступить так же, а надо быстрей становиться богатыми, потому что с богатой державой считаются даже те, кто ни с чем и ни с кем не считается.
Я помню зал амфитеатром, освещенный теплым светом, и как я стоял на кафедре, словно профессор, и старался говорить обыкновенными словами, потому что даже профессор на свидании с возлюбленной, видимо, старается не говорить терминами. Потому что термины может выучить кто угодно, а возлюбленная смотрит и думает — ну хорошо, я знаю, что у тебя хорошая память на термины, но ведь и у меня не хуже. А что ты скажешь мне лично?
Родные мои, вы думаете, что только вы меня разглядывали? Вы ошибаетесь, если так думали. Я вас тоже разглядывал — незнакомых мне мужчин и женщин, которые хотели понять, почему всемирная спекулянтская сволочь все время их пугает? И неужели эти барыги не понимают, что их прибыли, барыш, калым, бабки и башли ничего не стоят, если не будет всемирных нас, которые все и всемирно производят? И зачем Белому дому превращаться в Желтый?
6
Дорогой дядя!
Если автор погрозился, что знает нечто такое, что оно может подставить подножку концу света, то надо про это и писать, чтобы этот проклятый и малоуважаемый Апокалипсис кончился простой вонью.
От конца света ни моральные возмущения, ни проклятия не спасут, ни двести сортов колбасы, ни боевые охранения этих сортов.
Потому что бесполезно таранить тупик, если его с двух сторон таранят, а надо вспомнить, что этот тупик не абсолютный, а всего лишь исторический и сильно истерический. Но надо вспомнить, что у Истории в отличие от истерики есть одно свойство — она, смеясь, расстается со своим прошлым. А это и значит, отступить назад и, разбежавшись, эти тупики перепрыгнуть. Хоть в космос. Вечереет… Ох, как вечереет…
Потом женщина эта говорит, в вишневом платье, от которой глаз не оторвешь, но я стараюсь, чтоб это было незаметно. Я не курортник, даю вам честное слово. Я просто влюбчивый. Оказывается, она не местная, не из того городка, который был здесь до Тольятти, а теперь почти весь накрыт морем, по которому мы едем. Она с Украины и не знает, что здесь во время войны была расположена наша часть, и нас здесь держали, держали, держали, и ребята просились на фронт и изнывали от тоски, которая выше страха смерти, а ведь на фронте убивают, не так ли? И очень многие умирали от этой тоски и от этого мороза. И как меня и Толю вызвал к себе полковник, который устал от наших прошений, и спросил — почему мы ноем и отпрашиваемся, может быть, мы трусы? Так стоял вопрос. И мы заткнулись и терпели до конца. Толю потом искалечили в гоминьдановской тюрьме, но он вернулся, и у него теперь награды. Мне тоже потом дали орден Красной Звезды и медали. У всех по-разному сложилась жизнь. Полковник потом погиб.
- Я в войну был мальчишкой, а потом я стал летчиком-испытателем, и вот теперь поэт…
- А я войну помню плохо, я была еще маленькая, но я не могу забыть постоянный голод в нашей семье… Мой отец был конструктором знаменитого танка Т-34… — сказала пятая.
И села.
- Ира… — говорю. — У меня есть песня про танк Т-34, который стоит в чужом городе на высоком красивом постаменте… Ира, я даже не подозревал…
А я уже забыл, как эта песня начинается. Она написана очень давно. Я попытался несколько раз вспомнить слова, но не мог. Поэтому я сказал: «Прости…» И поцеловал ей руку. Но все-таки конец вспомнил. Там такие слова:
…И я на куклу не смог наступить И потому — убит… И занял я тихий свой престол В весеннем шелесте трав, Я застыл над городом, как Христос, Смертию смерть поправ. И я застыл, как застывший бой. Кровенеют мои бока. Теперь ты узнал меня — я ж — любовь, Застывшая на века.- Гоша, — сказала она и долго молчала, а потом говорит. — …Дай мне эти слова.
- Конечно… — говорю.
А меня уже колотун бьет. Потому что я тоже человек и не все могу вынести. И тут встает Ольга Андреевна, наша общая мать, и сестра, и товарищ, и организатор этой поездки — такая уверенная, улыбчивая и благополучная, и ласковая и начинает рассказывать, как она девочкой встречала Победу, и подходили пароходы по реке, и подъезжали эшелоны по рельсам, и возвращались оставшиеся люди с войны, и женщины кричали, и дети расхватывали отцов и, вцепившись в руки мужчин, льнули к этим рукам, и вели своих отцов по улицам, а к девочке Оле отец не приехал.
И тут все видят, что Ольга Андреевна давно уже плачет и не может говорить, и ей говорят, не надо, не надо, но она доканчивает.
И тогда она подошла к одному незнакомому, который все оглядывался по сторонам, и успела попросить его, пока к нему никто не подошел, чтобы он сказал всем, что он ее папа, и прошел с ней по улице. И тот согласился и прошел с ней по улице. Почему не исполнить такой пустяк, если ребенок просит, не правда ли?
- Не надо, не надо, — говорят ей. А я уже ничего не говорю.
Знаете, как мужики плачут — кряхтят, будто шкаф перетаскивают, но щеки мокрые. И вдруг Ольга Андреевна мне издалека говорит: «Гоша, не надо»… И я вдруг вспоминаю, на кого она похожа.
Она похожа на самое себя, потому что вытащила в страшную рулетку свой номер, только свой и ничей больше, и осталась самой собой, как та королева, которую ненавидел король за то, что народ ее любил. Потому что народу видней, кого любить. И когда такой король помирает от зубовного скрежета, потому что этот звук превышает возможности его же черепа, то Буцефаловка говорит: «А не лязгай!» Потому что для такой женщины, которая умеет быть самой собой, не имеет значения, чем заниматься в миру, — кормить ли поросенка и быть княгиней Гонолулой или крутить гайку на конвейере, — все равно она любого мужика освобождает и делает князем, и Атосом, графом де-ля-Фер. Эх, Ольга Андреевна, дайте и я скажу, и я рассказываю о том, что заканчиваю роман, где главная мысль такая: — одни считают, что лучше синицу в руки, чем журавля в небе. Другие думают, что, наоборот, лучше журавль в небе, чем синица в руках. И разные эти мнения спорят. Но дело в том, что без журавля в небе синица в руках дохнет… То есть без высокого мотива поведения все повседневные дела не только обессмысливаются, но и никнут, рассыпаются ко всем чертям. Потому что одно без другого не живет и даже может стать ужасом.
А потом мальчишка высокий из Тольятти, поэт, которого привел с собой Вацлав Жогин и ревниво следил, чтобы его не обижали приезжие, вдруг подскочил и сказал громко:
- Вот… Он прав… Вот.
И стал читать стихи, и видно было, что он поэт, который нащупывает, как выразить свой мир.
И там была одна строка…
И я встал, и перешел весь пароходный зал из конца в конец, и сел напротив. Я пересел к нему и сказал: «Парень, искусство — не жалобная книга…» — и заметил, что все стали подниматься и выходить на палубу подышать. Как мне объяснить парню, что искусство — это еще и искусство скрывать боль.
Я думал, что в шуме двигателя и радиомузыки он не расслышит, но он расслышал. И заспорил, заспорил.
Кто-то, видя, что мы спорим, захотел остановить парня, но он сказал равнодушно:
- Извините, я болен не вашей болезнью.
Нас оставалось только двое… «на безымянной высоте»…
- Посмотрите мне в глаза, — сказал мальчик. — Я хочу видеть ваш взгляд.
- Это трудно сделать…
- Почему, черт возьми?
- Левый глаз почти не видит совсем, а правый…
- Все!.. Все!..
- А правый видит на две трети.
- Все, — сказал он. — Все!
- Понимаешь, — говорю, — это не русская идея — помнить Беду. Русская идея — помнить Радость… На словах все как будто гладко: «надо помнить, чтобы не повторилось». А на деле — опускаются руки. Почему невероятны успехи России? А они невероятны… Потому что она говорит: кто старое помянет, тому глаз вон… И принимается за дело… Это не всепрощение, парень, и не равнодушие, это жажда расцвета, которому некогда оглядываться… Да, было, плохо было, страшно было, черт-те что было… но «было»… И не расчесывай мне душу, отойди… Некогда. Надо жить. И да здравствует наша победа…
- Кто может повернуть поэзию? — спросил он. И долго молчал. — Кто-то же должен это сделать… Может быть, вы?
- Откуда я знаю… — говорю. — Каждый мечтает… Но у тебя великолепная строка, запомни: «Мой город, как мальчик — высок и обидчив».
Вот какие чудеса может делать с нами женщина, которая знает, что вытащила свой номер, любой, но свой, и стала самой собой: «Дядя, можно ты будешь мой папа? И пройдем по улице…»
И тогда увеличивается число мудрецов с сердцами детей.
- Куда ж ты меня лечишь, сестричка? На смерть?
- На защиту, братец, на защиту Родины.
Ольга Андреевна, спасибо. Никогда не забуду. И Ваня Гусаров смотрел на меня с удивлением. Огромными, выразительными глазами. Ну что ж… пришла пора сказать о своей догадке…
7
Дорогой дядя!
Ох, и будет мне за это по всем мыслимым причинам, потому что опровергнуть это легче легкого. А можно даже не опровергать, а пожать плечами, как бывает, когда слышишь такое вранье, которое даже враньем не назовешь, а так, пустой звук, вроде яичная скорлупа лопнула.
Действительно, все это может быть и так, еще один мыльный пузырь. Постесняемся и забудем. О чем речь! А может быть и не так.
Но если это не так, то мы имеем дело с основой основ.
Потому что поиски утерянных культур и цивилизаций — это поиски следов утерянных ВОСХИЩЕНИИ. Так, слово сказано.
Чушь, правда? Особенно насчет этой маленькой поездки и такого длинного разговора по этому поводу… Не надо торопиться. Остыньте.
Ну вот, теперь аргументируйте, почему после всех гнусностей, которыми хвастается история человечества, и тех, которыми нас еще только пугают, дети все еще поют про зайчика — принесли его домой, оказался он живой.
Ну а если без метафор, без подтекстов, втупую, впрямую, то я догадался, что эта природная способность человека, и только человека — дологическая, довероисповедальная, долюбовная, доненавистническая, доморальная, доразумная — природная способность отдельного человека к восхищению есть основа основ всего вышеперечисленного или неупомянутого.
Что такое восхищение, я не знаю. Но больше всего оно похоже на внезапное осознание взаимодействия психики и нервов. Сложно, правда? Давайте скажем проще — внезапное осознание взаимодействия тела и души. Или еще проще — внезапное осознание связи вакуума и частиц. Или еще проще — внезапное осознание того, что ты живешь, что ты живой, а не машина, только посложней. Внезапное осознание жизни. Ну это уже совсем просто, не так ли?
Тогда, если я не ошибся, то основа основ — это Восхищение. А все остальные подробности, вроде культуры и цивилизации, — это то, что из этой природной человечьей способности вышло, из этого уголка.
В общем, мне в моей дурацкой и нелепой жизни было дано догадаться, что тот «сверхчеловек», о котором Ницше говорил, будто он находится «по ту сторону добра и зла», на самом деле находится не «по ту сторону добра и зла», а по эту.
Потому что как раз по ту сторону добра и зла люди теряют способность к восхищению, а по эту — обретают.
И тогда возникает новая культура, а прежняя исчезает.
8
Дорогой дядя!
Честь, месть — это все равно лесть тому, кто хочет тебе на шею сесть, а потом тебя же и съесть, то есть — жрецу. Жрецы ковбоев любят.
Сейчас принято Натали Гончарову из праха восстанавливать, потому что из-за нее, видите ли, погиб сам Пушкин. А разве ее оскорбляли? Ей же нравилось, что из-за нее мужики собачатся, это называется успех. Бедный Пушкин, декорацию берег.
Короче, из всех битв я признаю только защиту. Все остальное — престиж, кураж и антураж.
Ну, такое мое мнение. Извините.
И в искусстве у меня такие же воззрения. Я знаю, что они вульгарны. «Вульгарно» и «народно» — это одно и то же слово. Обычный перевод, но забытый. А сейчас мужчины-дамы скажут «вульгарно» и чувствуют себя эстетическими патрициями. В Риме был лозунг — «Хлеба и зрелищ». Считалось, что все это бескультурье — для народа, то есть вульгарно, патриции живут другим. Ну а чем жили патриции? Тем же самым. Разве что ели более дикую пищу — соловьиные языки, к примеру, или мозг живой обезьяны, иногда не брезговали человечиной. Ели даже того, кого считали богом. До сих пор едят и запивают кагором. Мой приятель даже блюдо предложил для этого меню — «Печень Прометея».
Что же оставляла в результате патрицианская культура? Тягу к космическому извращению. А вульгарная культура? Эсхила, Софокла, Еврипида, Сократа, Платона, Аристотеля. То есть тягу к космической гармонии. Вот и вся разница. Но она коренная. Коренная разница в предмете восхищения.
Сейчас и Шекспира признают, и Пушкина. Только забыли, что Шекспир писал не для патрициев в ложах, а для грузчиков из Лондонского порта в партере, а Пушкина все же убили не в подворотне, а по патрицианским правилам, среди бела дня, чисто вымытыми руками, и коготки были полированы, и такие чудные французские духи, а не «Тройной» одеколон, который алкаши не то пьют, не то на голову льют, подстригаясь. А?
Так.
Все подготовки кончились. Я приехал для личной встречи.
Действительно, когда-то же надо встретить тех, для кого ты старался. А я старался, даю вам слово.
Когда мы въехали на пасмурный, моросящий дождиком серобетонный, стеклянно-промытый, лаково-никелевый, слегка бензиновый заводской двор и, бодрясь, стали выходить и группироваться, ко мне подошел невысокий человек и спросил:
- Вы не возражаете, если мы с вами поедем в цех роботов?
- Да нисколько! — говорю.
Так. Это я сказал, это я открыл, это я растолковал, это я предусмотрел, на этом я стою твердо — что еще? Теперь посмотрим, как это все обстоит на деле.
Я сел на переднее сиденье и обернулся. На заднем сиденье расположились знакомая мне корреспондентка, полузнакомый светловолосый и незнакомая мне молодая женщина. Все они улыбались. Мне показалось, что с состраданием. Чего это вы? Похоже, что еще рановато.
- Роботы делаете? — светски спросил я.
Я видел, что никто не знает, как со мной держаться. Нормального экскурсанта они бы засыпали цифрами позаковыристей, но у меня такой вид, что все понимают — цифры от него отскакивают. Поэтому я весело стал им рассказывать, что даже биороботы не отменят работающих людей, потому что все можно сделать искусственно, кроме воображения, восхищения и желания. Я думал, им так надо, и хотел их подбодрить. Но они только ждали, когда мы, наконец, доедем, и улыбались. А я подумал: «Господи, еще неизвестно, как они поняли слова „воображение, восхищение и желание“? А вдруг как-нибудь неприлично? Все же в машине две миловидные женщины. Что я, курортник?»
Восхищение в отличие от всех остальных человечьих способностей — есть самая глубинная. И значит, прежде всего будем восхищаться самой этой способностью. Что это значит практически? Что значит восхищаться самой способностью восхищаться? Это значит восхищаться тем, что уже есть — и на белом свете, снаружи человека и внутри человека — то есть реальностью.
Не надо только вставать в позу, сир, и заранее оплакивать того, кто этому поверит. И метать что-нибудь громкое и пахнущее против «призыва удовлетворяться тем, что есть», против «остановки прогресса», против «тех жалких людишек, которые…» и так далее. Знаем, знаем, сир, сейчас все знают все слова. Не надо вставать в позу. Потому что и вы, и я, мы оба знаем, что и эта ваша поза — липа. Или, говоря научно, — туфта.
Потому что и вы, и я оба прекрасно знаем, что все равно, если человек восхищается, он восхищается тем, что уже есть. Мечтать и вздыхать он может о чем угодно, в том числе и о том, чего еще нет или уже прошло, а восхищаться — только тем, что есть. Вот так, сир. Можно ничем не восхищаться, можно это восхищение погубить, но восхищаться человек может только тем, что есть. Все. Надоело.
Нет, ну это мне нравится! Нет ни одного аргумента против, и все-таки вопят — как можно к этому призывать? Да вы соображаете? Ничего. Соображаю.
Можно восхищаться чем угодно — мыслью, цветком, авторучкой, куском мяса, картиной, корзиной, картонкой и маленькой собачонкой — любым багажом, бубликом, ангелами, гангстерами, печенью Прометея, Белокурой Бестией. То есть само восхищенье не предрешает того, что из этого выйдет. Но чтобы что-нибудь вышло, нужно, чтобы человек или человечество были чем-то восхищены. То есть как бы похищены добровольно. Многие дамы даже восхищаются, когда их похищают.
Когда ублюдок идет на немотивированное преступление или жестокость, то есть не с отчаяния, то это он восхитился своим секундным могуществом — тайным или явным. А больше ничем. Потому что, если бы он был абсолютно уверен, что с ним сделают то же самое — скажем, запустят в машину, которая выдавит ему глаз, или переломит колено, или станет отбивать ему почки в ритме «диско», то есть сделает с ним то же самое, что он сделал с кем-то, он был бы тихий, как зайчик, и призывал любить ближнего. Но он надеется, что его будут судить, если поймают, то есть причинят ему не то, что причинил он. Так что восхищенье еще ни о чем не говорит. Потому что важен сам предмет восхищенья. Но восхищенье нельзя и запрограммировать. Восхищенье — это внезапное состояние увлеченности — на секунду, или на жизнь, или на века.
Важно лишь, чтобы то, что мелькнуло перед человеком, было реальным, и чтобы оно оказалось лучше, чем то, на что он мог рассчитывать или надеялся.
Не удовлетворяться, а именно восхищаться тем, что есть. Потому что все равно так всегда происходит.
Речь не о том, что, мол, не надо сопротивляться, бороться, опровергать, искать новое, творить, наконец — это все остается, куда денешься! И всему этому человечество училось и учится с переменным успехом. Но вот что оно проглядело — если не восхищаться, то не только по-новому не заголосишь, но и по-старому будешь стесняться даже икать, и тогда — историческая хана и необыкновенно прогрессивные кранты. Значит, надо не терять саму эту способность восхищаться, потому что с нее все начинается. А если человек покушается на саму эту способность, то он должен о себе знать, что он гад, змий, враг рода человеческого, который расчищает дорогу тому окончательному кретину, который однажды захочет освободить человечество от самого человечества.
Мой мальчик, «И если сказать не умеешь „хрю-хрю“, визжи, не стесняйся, — У-и-и!». Главное — не потерять способность восхищаться.
Не стесняйся, что не умеешь свое или чужое «хрю-хрю». Увы, все равно тебе этого не избежать. И в твоей жизни будет достаточно свинства, которому ты будешь сопротивляться, как сможешь, но если не будет восхищенья, то вообще ничего не будет. Чем восхищаться — это совсем другой вопрос, и люди ищут на него ответ. Потому что восхищеньем немедленно кто-то пользуется. Но если потерять саму эту способность восхищаться, то ничего не будет — ни вопросов, ни ответов, потому что пропадет у тебя надежда на человеческую жизнь, так как ни бацилла, ни саранча, ни гад не восхищаются, но они очень хотят, чтобы и ты не восхищался.
Вот какая длинная философия у маленькой поездки на завод роботов.
И мы поднимаемся по лестнице мимо цеховых диаграмм и портретов, мимо женщин и мужчин в светлых халатах, которые поглядывают на нас нейтрально.
Я думал, будут показывать цех и роботов, но сказали, что надо выступать.
Ну что ж, потолкуем. Теперь я уже ничего не опасаюсь.
Предупредили: «Времени на встречу — полчаса. Цех роботов. Все по секундам».
9
Дорогой дядя!
Ну наконец-то! Состоялось!
Сейчас передали в программе «Время», что профессор Ферфлюхтешвайн заявил (цитирую): «У нас хватает ядерного оружия, чтобы устроить 600 000 Хиросим, или 2400 войн, равных второй мировой войне».
Я проверил. На второй мировой войне погибло 50 миллионов людей. 2400 умножим на 50 миллионов = 120 миллиардов покойников. А в Хиросиме сгорело 200 тысяч человек. 200 тысяч умножим на 600 тысяч Хиросим — тоже 120 миллиардов покойников. Все сходится. Но вот вопрос. Сейчас на земле 5 миллиардов жильцов. Откуда профессор возьмет остальные 115 для изготовления покойников?
Выхода нет. Надо быстрей плодиться. Иначе профессору Ферфлюхтешвайну — хана. Но вот беда. Даже 5 миллиардов созревших жильцов, то есть 2,5 миллиарда пар, упорным трудом могут произвести примерно лишь 20 миллиардов детей, способных быть убитыми. А где взять остальные 100 миллиардов детей для той же цели? Маркс называл такие дела «Профессорский кретинизм».
10
Дорогой дядя!
Чистая комната. Бесконечное бессолнечное небо в заводском окне. Стол накрыт зеленой тканью. Все же как-то волнуюсь.
- Покурить бы, — говорю. — Умираю.
Кто-то приносит хрустальную пепельницу. Я достаю «Беломор».
- Отдохните минут десять, — говорит женщина-организатор, — … пока соберутся.
Все время в этой поездке возникают незнакомые мне люди. Каждый что-то организует на своем этапе и участке. Ни имен не знаю, ни должностей. Но все это идет без суеты, негромко и приветливо. А при моей склонности расположиться и покалякать о том, о сем, им, наверно, приходится сдерживаться. Но я уже давно ничего больше не умею, кроме как залечь и писать, потом листы на пол, потом собирать и перепечатывать или, если зацепиться случаем за кого-то, то сесть, и курить, и калякать. Сидим. Калякаем.
- У меня только одна просьба, — говорю. — Пусть кто-нибудь о чем-нибудь спросит. Я на любой вопрос могу отвечать сутки. А докладчик я никакой.
В дверь кто-то заглядывает.
- Наши уже собрались, — говорит женщина-организатор.
- Ну, поехали… — говорю.
А сам вижу, у нее в руках моя книжка недавняя, с золотыми буквами, зелененькая. Ее делали в «Молодой гвардии» четыре замечательные женщины. Две из них — вели книжку, а меня не вели, и ноги мне не переставляли, и не учили ходить сначала левой, потом правой, и я никогда ни о чем их не умолял. Настоящие редакторы. Как говорится, «от бога». А две — терпели мою болтовню, — недавно узнал, что одна ушла на пенсию. Видимо, все же замучил, трепач несчастный. Кланяюсь им низко, в пояс, до земли. «До земли» — это, конечно, метафора, потому что я даже на школьной физзарядке до земли не дотягивался и вызывал презрение у гимнастов и даже некоторую зависть, поскольку, как ни странно, из-за этого ко мне хорошо относились гимнастки. Нина Сергеевна, Зоя Николаевна, Нина Петровна, Александра Васильевна, помните, как вы делали книжку, наполовину в стихах про Леонардо да Винчи, который брел по дороге через Хаос? Думаете, я забыл? (Дать сноски!)
В длинный зал с заводскими окнами до потолка я вошел со своей посудой — нес любимую пепельницу с королевским окурком. Так мы и вошли вчетвером: женщина-организатор, корреспондентка, я и пепельница. За столик на маленькой сцене усадили меня и корреспондентку.
Женщина-организатор с зелененькой моей книжкой в руках представила меня книголюбам и сказала: «Вот писатель Панфилов…» и так далее.
Какой был первый вопрос, дорогой дядя? Неизбежно телевизионный. Стал отвечать. Было время, когда эту телеповесть смотрели все. Она была первая такая. Инсценировки романов были. А эта — мало того, что писалась прямо для телеэкрана, она еще и писалась по-особенному. Никто: ни актеры, ни редакторы, ни группа, ни режиссер — не знали, что будет в следующей серии и о чем пойдет разговор. Как это могло произойти? Доверились. Единственный раз в жизни. Конечно, в договоре был пункт, обязывающий меня переделывать, если что не так. Но ни разу к нему не пришлось прибегнуть. Режиссер выл:
- Ну мне-то хоть скажи!
- А зачем?.. Представь себе, что ты нашел страничку на улице. Ты профессионал? Ну и репетируй.
Я все время мешал ему делать концепцию.
И еще. Как раз перед этим прошел по телевидению зарубежный серийник — экранизация знаменитого романа. Поставлено хорошо, актеры прекрасные. А я заметил — главный актер, великолепный старик, которого все успели полюбить, во второй половине серийника — не знал, что делать, и повторялся. Виноват ли он? Ни в коем разе. Он, как и все, читал роман и, конечно, весь сериал и прикинул, как он будет играть в каждой серии. Актеры это называют — «распределиться». А вещь длиннющая, и ему не хватило красок. Телеповесть — это не пьеса. Она как жизнь. Тут не распределишься. А у меня из больших актеров было только четверо. А остальные и у себя в театрах не гремели. Но даже самые малые из них не знали, что будет дальше, и вынуждены были каждую серию играть как единственную и красок не беречь. Как в жизни. Кому охота срамиться? А я видел, у кого что лучше выходит, и специально писал такие эпизоды, чтобы каждый блеснул. И вышло, что у каждого, даже самого малого актера, накопился, то есть сложился образ, а у режиссера — сложилась постановка. Помните — судьба же складывается. Мое дело было дать шанс. А остальное — кто как им воспользовался. И все в некотором одурении после постановки проснулись знаменитыми настолько, что их даже полюбили. Представляете, что потом со мной сделали все участники? Продали, конечно. Кто как сумел. Видимо, не могли простить, что не понимают, как все это вышло и почему это нельзя повторить.
Естественно, меня тут же стали обучать. Проанализировали и стали обучать. Чему? Вот уже пятнадцать лет этот случай называют «феномен Панфилова» — сам слыхал на телевидении. Наверно, я все же кое-что смыслю в своем деле. Не так ли? А этим летом… А все же, если бы не фортели, которые со мной проделали в это лето, я бы сроду не догадался поехать сюда и писать то, что я сейчас пишу о людях, с которыми я повстречался.
И то хлеб… Ну, не буду. Я ведь обещал своим о своих — световые переломы. Добавлю только, что это все — техническая сторона. Главное же было, что я с экрана ни с кем через губу не разговаривал, слюни не распускал и перстом не тыкал — люди же в комнатах сидят, у себя дома. А просто я своими персонажами восхищался, потому что они были такие же, какие теперь сидят в зале. И это, видимо, передалось. И, видимо, у нас с ними был общий мир, свой. А имитации не передаются — ни сусальные, ни слезливые. Потому что никаким другим, даже самым золотым ключиком эту дверь в этот мир не откроешь.
Вот об этом обо всем, конечно, кроме нытья и восторгов, я и доложил сидящим в зале завода роботов. И отпущенные на встречу полчаса кончились, и они потребовали еще полчаса, которые у них оставались от обеденного перерыва. Так было, я не вру.
Но это было потом, дорогой дядя. А сначала корреспондентка села на соседний стул и из своего записывающего чемодана вытянула длинный стержень с микрофоном, похожий на тощую никелированную ногу, обутую в лапоть.
И я ей сказал:
- Барышня, за ради бога… Микрофон чуть подальше. А то будто меня бреют электробритвой на глазах у всех.
Она засмеялась и отвела стержень. Но тогда на столе начали натягивать второй. В зале потеплело от смеха.
А женщина-организатор, которая меня сюда привела, говорит, поднимая мою зелененькую:
- Одна наша читательница была уверена, что эту книгу написал молодой человек… Кто-то крикнул из зала:
- Не одна!
Но тут я вспоминаю, что самое смешное — это правда, сказанная не вовремя. А смех — это вообще внезапное избавление от престижа. А престижа нам не надо. Нам нужен разговор, и чтобы были свои. Господи, главное, чтобы были свои, и чтоб я писал картину световыми переломами. Ладно, думаю, хотите правду? Вы ее получите.
- То, что я молодой, — говорю, — это иллюзия. А иллюзии надо отдувать. Как дым. Но вот моему сыну действительно два годика с месяцами. Это уж точно, не иллюзия.
Тут в зале стало совсем теплым-тепло. И даже мужики, которые сидели и стояли подальше, засмеялись.
- Вот, а вы говорите, — сказал издалека мужской голос.
- Поздравляем вас, — сказала пожилая женщина справа. — А какой он? Похож на вас? И вижу, всем интересно. Ладно, правда, так правда.
- Ну, — говорю, — это разве расскажешь? Мне все говорят — он на тебя похож. И я тогда думаю — неужели я так прекрасен?
Мужики смеются, и лица светлые.
- …А потом подойдешь к зеркалу, увидишь свою будку — и вся иллюзия пропадает… Вот и женщины смеются.
Потом я им рассказываю все, что сказано выше. И никто не смеется.
Потом меня повели увозить. Все столпились в дверях, и я зелененькую мою книжку подписываю.
Вдруг вижу в пестрой обложке давнюю книжку, но на немецком языке. Там про клоуна.
- Господи, а это откуда у вас? Там же на немецком!
- Я переводчица, — говорит женщина в темно-синем платье. — Скажите, можно вас поцеловать?
- Да это же, — говорю, — просто необходимо.
И в щеку поцеловала. Такая милая. При всех, представляете? Но я держался мужественно. Мог бы и не описывать эти дела. Но дудки. Что было, то было.
«Где же ваша хваленая, так широко разрекламированная скромность? — спросит сосед. — В серьезном романе о борьбе за мир и так далее».
- Сосед, а сосед, отлипни, а? Во-первых, этот роман не то чтобы несерьезный, а как бы противо-кислый. А во-вторых, речь в нем совсем не о том. Если до сих пор не понял, не читай дальше.
Теперь-то уж он, конечно, дочитает. Он человек тщательный. В некоторых делах.
По коридорам и лестницам шли, стараясь не толкаться. Высокий такой молодой красивый спрашивает, все еще улыбаясь:
- А можно мы вашу пьесу о Леонардо поставим в нашей самодеятельности?
- Конечно, — говорю.
Потому что я в этой пьесе и сам уверился, и физика подтвердили — позвонили из Фрязино. А юноша спрашивает:
- А почему она до сих пор не поставлена?
- Откуда я знаю? — говорю. — Наверно, все время была не к репертуару.
- Ну, знаете! — говорит. Господи, что я ему скажу?
Вниз спустились, много людей вышло наружу, туда, где дождик моросил, в светлых халатах и других одеждах, и белых косынках. А у меня рот пересох, как после кросса. Я пить попросил.
- Сейчас, — кто-то сказал.
О чем-то еще рассказывал, о чем-то расспрашивали. А лица, лица… Вы бы посмотрели — вам бы жить захотелось. Ясно, что я развыступался.
Принесли из цеха высокий бокал с холодными пузырьками. Выглотал весь, такое блаженство.
- Всю жизнь, — говорю, — мечтал попить газировки бесплатно.
Я не выступал, дорогой дядя, я разговаривал, и по дороге узнавал свои истинные желания, и лепил картину из подручных средств, и восхищался тем, что есть на самом деле, и получал неслыханные подарки. Мы целый час были художниками, черт побери! Подъехала новенькая машина.
На нашей встрече я заметил множество людей, а робота — ни одного. Ни одного.
Потом меня позвали в автомобиль, и я уехал.
Сейчас прочел и ужаснулся, дорогой дядя. Не написал главного.
Я так боялся расчувствоваться, и так тщательно скрывал, как я всех любил и восхищался, и особенно стеснялся, и сейчас стесняюсь описывать, какая теплынь шла ко мне из зала, где сидели пожилые женщины и молодые женщины, и сидели, и стояли мужчины разных возрастов, что получилось не сдержанно, а сухо. Ужас, ужас…
А было что-то невероятное. Я прежде не особенно верил в «Лурдские чудеса», когда привозят калеку и тысячи людей командуют — встань, ну, встань — и он бросает костыли. Я еще в детстве видел комедию, где это высмеивалось. А здесь и верить было не надо. Просто это было со мной. Точка. Спаси вас всех судьба.
11
Дорогой дядя!
Вспоминаю, вспоминаю… Что-то с живописью случилось. Сломалась она, что ли? Забыла святой аврал?
Сначала по ней проехала фотоаппаратура. Действительно, зачем долго делать руками то, что может быстро сделать машина?
Но потом я с этим разобрался. Каких-нибудь пятьдесят лет — и я с этим разобрался. Для истории живописи один день, а для меня — полжизни, я надеюсь.
Ветер, ветер…
Прошедшая жизнь. Смутные видения на внутреннем экране. Неужели это все было? И ведь у каждого человека так — однажды печаль прошлого зазвенит, и он оглядывается. И я решил простить женщин. Ладно, чего уж там.
Дорогой дядя, я решил опозорить мужчин. Выхода нет. Надо опозорить.
Как быстренько, помню, отказались от того, что было найдено в муках рождения свободы.
Как будто устойчивей болота нет ничего. А может, так оно и есть?
Какие стремительные кисти, какие краски, какой порыв действия и новая красота! И как все начало плесневеть под напором и предлогом традиций и культурного наследства. А из всего наследства — барские обноски и фарфоровая супница. Наследие! Сколько дутых фигур. Великий Рокотов идет в одной подборке, если не сказать упряжке, с Боровиковским. А Рокотов отличается от Боровиковского, как Ватто от всяких Буше — фарфорчики-чики, порпеланчики-чики, маркизы с розовыми попками. Никакие искусствоведы меня на Ван Гога не натаскивали, потому что я их не читаю. Я приходил в музей, и мне Ван Гог не нравился. А потом однажды случайно я обратил внимание на самую блеклую картину этого Ван Гога — какие-то картофельные поля, дорога белесая с экипажем, небо, писанное государственными горизонтальными мазками, похожими на зеленые кирпичи, и холст просвечивает, как известка между зелеными кирпичами неба, и вдруг — узнал. Узнал! Зеленого неба не бывает, а в картине — бывает. И такой серебряный пасмурный день, и такие огороды, и такая щемящая, шалая, трезвая печаль, и я захлебнулся. Вот тебе и Ван Гог. Вот оно. Оказывается, цветом можно такие впечатления вызвать, так душу взбаламутить, оледенить и согреть, как ничем другим. А после этих огородов и все другие работы Ван Гога мне открылись.
Не то чтобы там «душа вещей» и прочее, а душа художника. Он пишет картину, а это — я. Не то чтобы я там побывал в картине и увидел то, что он увидел в натуре, а просто Ван Гог изобразил меня самого. Непонятно?
Стоит барышня на выставке и смотрит на стоптанный ботинок, который написал Ван Гог. Ну разве она похожа на ботинок? На ней платьице, и она духами спрыснута, и глазки подготовила к культуре. А если вдруг откроется ей, что если ее раздеть не догола, а до души, то вспомнит она свою усталость, и боязнь постареть, и почем обошлись ей духи и физкультурная улыбка, и как ей ночью хочется удрать туда, где не скучают и всегда хвалят, и нет соперниц, а такого места нет, и вдруг увидит, что на картине не ботинок нарисован, а она сама на пенсии, как мама — только не это, только не это… В зеркальце поглядится — нет, ерунда, почудилось. Но лучше все-таки пойти поглазеть на «Незнакомку» или на другой комплимент… Проклятый ботинок!.. И почему-то не уходит от картины.
Но это, конечно, случай фантастический. Чтобы барышня? Да ни в жисть. Но я видел, как люди уходили от Ван Гога трезвые и сильные и стеснялись тщеславия. Потому что пустое это дело — тщеславие. Нельзя жить в цветочном горшке. А есть улица, и дома, и трезвое небо в дымах мечты, и работа там, где работаешь, и надо погладить ребенка по голове, и покормить собаку, и ничего не бояться, и каждый день рождаться. Дорогой дядя, у меня давняя догадка, что половина бедствий исчезнет невесть куда, если испробовать жить, как истинный художник картину пишет. Не как он живет, не как торгует картиной, а как пишет.
Так вот, дорогой дядя, чтобы жить, как художник картину пишет, надо присмотреться, как живет женщина.
Конечно, речь не идет о том, как женщина выполняет чужую программу. Как выполняет? Как мужчина. Только лучше. Речь о том, как она выполняет собственную. У нее нет такого, как у мужчины — вообразил желаемое, разбил на достижимые этапы и, надрывая пупок, эти этапы выполняет. А добрался до финиша — уже не хочется. Желание исполнилось, значит, кончилось. И действительно — сытым можно быть один раз, а два раза не будешь. И мужчина думает — неправильно вообразил, и начинает воображать правильно, и все сначала, Сальери несчастный, все улучшает методы добраться до финала. Добрался и дышит. А финал срабатывает и спрашивает ласково: «Ты этого хотел, зараза? Здравствуй, родной. Это я, Наина. Постарела? Сам виноват. Слишком долго до меня добирался».
Другое дело — женщина. У нее программа бесконечная: чтоб было хорошо. А как оно будет выглядеть, это «хорошо»? Когда случится, тогда и узнаем. Но это талантливые. А которые мужским воображением промытые и проламываются, те давно уже не женщины и, достигнув, пьют и страшатся себя в зеркале. Горький таких называл — Батый. Ей ничего не остается, кроме как невесток тиранить.
А талантливая женщина открывает свои истинные желания по мере того, как совершает действия. Умный бездарный мужчина называет это глупостью и сопротивляется. А это не глупость, это просто другой способ жить.
Судят по результатам. К чему привел мужской способ жить, мы уже видим и судорожно наслаждаемся под напевы доктрин Ферфлюхтешвайна и звон машины процветания, перерабатывающей золото в дерьмо или наоборот. А женщины разбили палатки вокруг авиабазы, едят суп, вяжут, и машина с бомбой пока не проехала. Сомнут их, наверное. Потому что мужчины в это время, сверкая очками, сидят на симпозиумах и выражают глубокую тревогу. Иногда они нанимают кого-нибудь в кого-нибудь стрелять. Бабы мои дорогие, я испытываю мучительный стыд, рвотное движение души — за весь мужской позор, который на круг называется «историей», и которая вся состоит из мужского ожидания, что вот-вот случится воображаемое событие, которое, несмотря на то, что исполнит все желания, каким-то образом их продолжит.
Совещаются и стреляют, стреляют и совещаются, больше ничего не придумали. Вообще обслуживают машину процветанья и работают, работают, работают.
Так и надо — работать. Работа — основное содержание жизни. Но надо спросить женщину, как это делается.
12
Дорогой дядя!
И повели нас на завод смотреть сборочный цех и конвейер.
Скажите честно, дорогие книжные люди, или люди военные, или люди сельские, которые выращивают природную еду, или люди, танцующие «Лебединые озера» и «Спящих царевен», или люди на дорожных работах, на лесоповалах, на буровых, в штреках, или в магазинах, или в артелях металлоремонта, или на часовых заводах, или в мастерских пошива или ремонта, или на сейнерах, которые ловят кильку или ставриду — я перечисляю часть профессий, с которыми я сталкивался, — скажите, положа руку на сердце, как вы представляете цех с конвейером, если вы его не видели? Я не буду описывать ваши представления или мои. Просто придется сказать, что на деле все это не так. Мы не оказались в мрачной или чистенькой утробе, где маленькие люди-муравьи суетятся каждый у своей гайки. Понимаете? Утробы не оказалось.
Мы идем, идем, идем, разговариваем и снова идем, идем и глазеем, глазеем, глазеем, потому что есть на что поглазеть и, главное, на кого, короче, мы идем по улице незнакомого города, люди заняты своими делами, и только где-то наверху небо перекрыто переплетом ферм и стекол, от дождя наверно, и прочей погоды.
Воздух обыкновенный, как на Садовом кольце, а я там живу, и ничего. Шум обыкновенный, как на Садовом кольце от машин, — машин столько же, только движутся медленно и видны изнутри в разной степени открытости, и из одной в другую пересаживаются девушки в комбинезонах, с электроинструментом.
Да что я вам буду описывать цех, когда цеха нет, а есть пространство, и мы идем по своеобразной улице, и стараемся не глазеть на девушек, и делаем вид, что необыкновенно увлечены сложнейшими вопросами, которых никому, кроме нас, загадочно не понять, и что все это нам привычно, подумаешь! — и стараемся не глазеть на девчонок, на их косынки, на их прически, да, прически — длинные волосы, подхваченные лентами, на их комбинезоны, и расспрашиваем о коробках передач и лошадиных силах, и стараемся не глазеть на девчонок.
Мне бы не хотелось выглядеть восторженным идиотом, но, увы, уже поздно стараться, все равно выгляжу.
Но, клянусь честью, пароль допер, или как там еще — действительно, есть на что посмотреть.
А навстречу нам, как по дачной улице, едет хмурый велосипедист.
- Откуда это он? — спрашиваю.
- С того конца цеха, — отвечают. — Цех в два километра.
Потом оказалось, что это недостаток. Полагался какой-то другой транспорт. Недостаток! О, мама мия!
Наверно, где-нибудь на свете есть автомобильный цех и получше, а если и нет, то, наверное, будет, как и у нас, — все устаревает и усовершенствуется. Но, извините, ни разу в жизни, понимаете, ни разу я не видел такой человеческой грации. Ни у парней, ни у девушек.
О парнях, конечно, потом. Потому что я сам бывший парень, хотя сейчас обо мне этого не скажешь, но девушки!
Ни в танцевальных ансамблях, ни, заметьте, в балете с такими замечательными солистками, ни в художественной гимнастике, ни в балете на льду, ни в балете на воде, где скопом ныряют и потом скопом высовывают из зеленой воды по одной ноге — кажется, правой. Знаете, почему не видел? Потому что все это было отрепетировано тяжелейшими усилиями изобразить грацию. То есть напоказ, понимаете?
А здесь репетировали когда-то только, как и что завинчивать или сверлить. А как при этом держаться грациозно — не репетировали.
Но молодое тело умней любого режиссера и любой концепции, и если ему не мешать, оно само движется так неожиданно и так прекрасно, что дух захватывает. Скажете, опять он за свое, опять телячьи восторги из-за ерунды: были бы автомобили, и побольше, и подешевле, а какие при этом у заводских людей фигуры и как они при этом передвигаются? Да хоть на руках!
И правда, на автомобили и их цену это, видимо, не влияет, но это влияет на тех, кто эти автомобили выпускает.
Понимаете? Это не были сонные или резвые телки обеспеченных родителей, годные только, чтоб перейти из родительского стойла в супружеское. Про этих девушек на сборочном конвейере жизни раньше бы с завистью говорили: «Чего уж тут… Ничего не скажешь… Порода!»
А таких парней я вообще видел только в кинофильмах из бурной жизни с препятствиями. Но в эти кинофильмы тщательно персонажей отбирают по фотографиям и на кинопробах, чтоб экран выдержал их крупные планы. Потому что в сложных кадрах их подменяют каскадеры. А потом все это тщательно склеивают и стараются, чтоб при показе не были видны швы и склейки. А эти ребята просто выполняли повседневный план. И чтоб уж сразу про одно, чуть забегу вперед к тому месту, где с конвейера сползали на пол готовые автомобили, и машинный ритм кончался, и в дело вступали люди с их прихотливым поведением, и там я увидел такое, от чего маленько закружилась голова. Я увидел, как вдоль и поперек каких-то рельсов пролетают новенькие машины, чтоб вскочить на две бетонные полоски, между которыми яма, и мгновенно затормозить. А вслед за первой уж откуда-то сбоку вылетела другая — как выстрелила и, не снижая скорости, тормознула как вкопанная перед металлическим хвостом предыдущей — на расстоянии ладони, просунутой ребром.
А на первой — распахнулась дверца, в яму сбежал водитель, что-то оглядел или поколдовал снизу, вернулся, щелчок дверного замочка — и машина унеслась куда-то. А уже над ямой стоит другая, а вслед за ней откуда-то выстреливает следующая. Поверьте, все это происходило безостановочными секундами, и каждая машина, извините, водитель вел себя непредсказуемо по-своему, так, что дух захватывало. Я подошел к стальному барьеру, поставленному возле ямы, наверно, чтобы такой вахлак, как я, туда не сверзился, дождался одного тонкого и высокого, когда он садился в машину, и спросил, глядя в молодое лицо:
- Скажите, какой у вас разряд?
- Третий.
- Парень, — говорю, — а сколько тебе лет?
- Восемнадцать. И он умчался.
Ну что я буду соревноваться с великим американским писателем Фолкнером! Кому это под силу? Это его номер. У него такой мальчик описан в рассказе «Полный поворот кругом», про торпедистов в Англии той войны. Добудьте в библиотеке и прочтите. Это со-о-овсем другая Америка. Это Америка, где покалеченный морской пехотинец придумал самую великую молитву из всех, которые я слышал: «Господи, прости нас, сукиных сынов». А теперь про роботов.
Мы с комсоргом цеха малость отстали, и он меня повел вверх по ступенькам узенького трапа на узенькую эстакаду с тонкими перильцами, и мы оказались над ними, над роботами.
Они там работали в полутьме. Света им не нужно. Свет нужен тем, кто на них смотрит. Это было что-то невообразимое.
Гигантские челюсти захватывали автомашины, с урчанием ставили их на попа, переворачивали на бок, вверх колесами, те автомобили, которые только что собирали девушки, прекрасные, как девушки, те автомобили, с которых потом будут сдувать пыль и дуть на стекла, с ними что-то нехорошее делали в полутьме отлично придуманные, дизайнерски приукрашенные отвратительные динозавры, уродины. Там, в полутьме, они казались какими-то грязными и, несмотря на это, они вызывали какое-то гнусное восхищение — как перед дьяволами простой конструкции.
Да знаю я, знаю все, что можно об этом сказать, и сам потом скажу, но не могу не сказать и это.
Может быть, они войдут в быт, и к ним привыкнут, но пока так. Они производили впечатление неумолимой мощи, и за ними была какая-то философия, нечеловеческая философия. В них было какое-то дочеловеческое неуважение ко всему, чего добился человек. Они выглядели, эти электронные ублюдки, хозяевами человеческой культуры, пожирающими даже машины, хотя всего лишь точечными прикосновениями со всех сторон сваривали сложные кузова автомашин. В полутьме вспыхивали резкие сварочные звезды, потом проваренную автомашину ставили на колеса и не то выпихивали железной ногой пинком в зад, не то выплевывали.
Конечно, я опомнился, и восхитился, и стал расспрашивать о надежности — оказалось очень надежно, и все управление ими продублировано, и автоматика срабатывает, и японская фирма дает бессрочную гарантию.
- Как это бессрочную? — ошеломленно спросил я, зная нашу электробритву «Эра», где гарантия дается на год, а бежишь чинить через пару месяцев, потому что где-то контакт прекратился и она уже не фурычит, а крышку снять нельзя, так как один винтик залеплен печатью и только с этой печатью примут в гарантийную мастерскую, иначе мастера ни за что не отвечают и не разберутся, и ходишь небритый. — Как это бессрочная гарантия? — спрашиваю. — Ведь все же рано или поздно портится!.. А как узнать, где и что испортилось?
— А японская фирма и не разбирается, где испортилось. Ей выгодней прислать взамен готовый блок.
Вот это размах! Да, размах. И эти уроды заменяют труд множества людей, которые благодаря этому могут себя посвятить человеческой работе. Но я однажды видел, как разгружали машину с манекенами для модных витрин. Их вытаскивали — великолепные подобия красавцев и красавиц — с глазами и ресницами, как у людей, — их несли, бесстыдно оголенных, вниз головами и прислоняли к стене, у которой они сидели, нелепо растопырив ноги. Это было непереносимо. Было впечатление, что разгружают душегубку. А это были всего лишь манекены с человеческим обликом для показа барахла, которое завтра выйдет из моды. Но и облики человека священны.
Но я на секунду представил, что эти динозавры переворачивают не автомашины, а людей, и у меня заложило уши, и во рту горечь, как от хинина при тропической малярии. Нет, это не надоевшие призывы к поляночкам, шалашикам, и пещерочкам, и ходьбе на четвереньках, не только потому, что от этих мечтательных забав возникает реальная голодуха, но и потому, что в этих пещерочках может поселиться Пол Пот и иже. Однако не подойдет и «философия», которая стоит за этими бессрочными фирменными динозаврами.
Чересчур долго у нас по барахлу и еде было хуже, чем у них. Поэтому мы так рвались, чтобы у нас по барахлу и еде было не хуже, чем у них, что кое-кто стал забывать, что нам подойдет только другое.
Что другое, дорогой дядя? То, что мне приоткрыл на мгновенье в этой короткой поездке его величество, как раньше говорили, рабочий класс. Что же именно? Довженко это называл — «благородная норма».
А фирмы на благородную норму чихали и не могут остановиться, но если и мы о ней забудем, то человечество никакие роботы не спасут, потому что даже жулики знают — жадность фраера сгубила.
Потому что не они, а мы — главная людская надежда — вот эти все, которые все это выпускают и изобретают облегчающие роботы, а потом идут послушать поэтов в обеденные перерывы, потому что не хлебом единым и не шмотьем жив человек. Грация — это не походочка и не проходочка. Грация идет изнутри. И спасибо, родные, за восхищение. Или, как говорят в итальянских фильмах, грация, синьоры, грация.
13
Дорогой дядя!
Я знал, дорогой дядя, что рано или поздно у нас с тобой зайдет разговор о красоте. Тем более, что есть мнение, будто она спасет мир.
А позвольте спросить, каким образом? Все станут такие лапочки, что глаз не оторвать? И ни у кого ни на кого рука не поднимется?
Во-первых, не верится. Я видел, как лапочки приезжали во Вьетнам и танцевали перед зелеными беретами. Боже, какие ноги! После просмотра ног «зеленые береты» избивали вьетнамских детей с еще большим аппетитом.
А во-вторых, чем заниматься, если лапочки наш мир все же спасут? Размножаться? Рано или поздно соскучишься.
Я не настолько глуп, чтобы давать определение красоте. Во-первых, написаны тонны определений, которые ничего не значат, а во-вторых, красота так же уворачивается от определений, как и талант.
И, по-видимому, красота — это симптом чего-то большего, что покрывает все определения. То есть за ней стоит «уголок». Дорогой дядя, и нынче, в эту пустынную ночь, мне открылся «уголок», который стоит за красотой. Ну, конечно же! Такая простая и очевидная вещь, что я даже завыл:
- Надо же! Опять это под самым носом! Такая тоска!
- Чего ты воешь? — сказала жена. — Ну чего ты воешь? Я отстранился от ее руки и сказал:
- Не надо больше спорить, что есть красота и какая интересней — телесная или духовная, хрен ее знает. Когда как. Все, конечно, приветствуют духовную. Но и ноги есть ноги.
- Я и не спорю, — быстро сказала она.
- Если до сих пор не сговорились, что есть красота, значит, пропустили некое обстоятельство.
- И ты теперь знаешь, какое?
- Мне кажется, — сказал я. — Природа — это материя и ее движение. Материю без движения не обнаружишь, но и движения без материи не бывает — они неразделимы, но все же это разное. Если законы красоты не обнаружены, то это потому, что ее пытались описать как материю.
- А надо как?
- А надо описывать как движение.
- Мудрено, — сказала мать моего ребенка. Но меня уже не собьешь.
- Господи! — говорю. — Да проще простого! Красота — это не дух и не тело, красота — это признак поведения.
И тут она поднимается и начинает мыслить. Ой, думаю, сейчас все запутается, и пойдут слова, слова, потом фразы, а потом будем пихаться руками и говорить — оставь меня в покое, и каким образом твое красивое поведение спасет мир? Только не дать ей мыслить! Боже, пошли ей какое-нибудь занятие!
- Его кормить не пора? — спрашиваю робко.
- Отстань, — говорит она и включает телевизор. Телевизор накаляется. Мы тоже. И тут в эфире раздается шум какой-то драки, потом голос диктора, и показывают тарелки с супом, и женщины, женщины, и незнакомая речь, и мы понимаем, что к чему, и к нашему донкихотствующему и чавкающему миру приходит, наконец, новая порция энергии извне - красота поведения.
- Какие бабы, — говорю. — Ах, какие бабы… А их хватают и упаковывают в полицейские автобусы.
И тут я чувствую, что на меня накатывает, и я реву, и я опять сопляк, и опять верю, и экран затуманивается.
- Успокойся, — говорит она, — с тобой стало невозможно. Перестань.
- Нет, ну ты подумай! — говорю. — Пока мы, мужская сволочь, пугаем друг друга ракетами, пишем петиции или ходим колоннами, они уселись вокруг базы и живут там, и не дают перевезти проклятую бомбу.
- Но их так мало, — сказала она.
- Их мало, но вас много! — говорю я. — Женщин!
И меня бьет исключительный колотун, и я становлюсь неуправляемым:
- Родные мои, матери наших детей, третья сила, спасите нас всех — и я за вас готов умереть миллиард раз добровольно, на последней баррикаде!..
- Да, — сказала она. — Если бабы лягут на рельсы — все поезда встанут.
- Позор, — говорю, — позор.
- Чей позор?
- Наш, — говорю, — мужской позор. Машинный.
14
Дорогой дядя!
Они журчат и булькают, журчат и булькают, а дело ни с места. Уговаривают жирного кота быть моральным, а Васька слушает и жрет.
Я уж и не знаю, как написать об ученых, чтобы те из них, кто не причастны, не приняли на свой счет. Я уж и так и эдак, прямо извертелся весь.
Да что же это такое, дорогой дядя, интеллигентные же люди, все-таки привыкли обобщать, обобщениями и живут, и все у них фундаментально, а как скажешь, что Ферфлюхтешвайн, который работает на первый удар по детям, — подонок и обсосок, так сразу: «Надо бы повежливей. Замахиваясь на ученого, вы замахиваетесь на науку». Я уж им говорю — да что вы, говорю, это вы замахиваетесь на науку. Вы, говорю, что думаете — можно только описать, как ужасны последствия, и отойти в сторонку от причин? Почему вы рассчитываете, что разбираться с этим ужасом должны люди, неграмотные в науке.
- Да нет, — говорят, — почему вы так?
- А как же? Вы научно согласны, что штрейкбрехеры — это предатели рабочего класса. Почему вы делаете вид, что их нет в вашей среде? Знания объективны? Цели науки благородны? Почему же вы приветствуете пикеты безоружных женщин, детей и калек войны и не устраиваете своих пикетов и обструкций обсоскам из вашей среды? Мараться не хотите? За чужой счет? Почему вы хотите, чтобы с Ферфлюхтешвайном сражались неграмотные в науках, когда это прямое ваше дело? Если неграмотные в науках возьмутся - они наломают дров, и будет поздно ахать. Люди же раздражены! При холере били докторов, но холера — природное явление, а бомба — нет. И все это знают. А может быть, вы боитесь, что политика как-нибудь переменится и вам будет как-то и почему-то неудобно? Ах, эти обсоски не из вашей среды! Так объявите об этом! Такой-то и такой-то профессор Ферфлюхтешвайн знает, что работает на первый удар по детям, на гибель детей, и значит, считать его обсоском. И научно объявить на весь мир, что этот человек — Иуда рода людского и военный преступник. Вы любите слово «глобальный», вы отлично знаете — наука, как и все остальное, играет в разные времена разные роли. И если раньше войны обходились без науки, и расчет был на серую скотинку с ассирийской финкой в руке, то сегодня глобальная война без науки невозможна. Ни барыги, ни архангелы из генштаба без Ферфлюхтешвайна ни бомбу, ни отраву не придумают. И, значит, это не вопрос морали ученого, совести ученого — и прочие кабинетные «гуманизьмы», а преступление. И Ферфлюхтешвайна надо судить как «исследователя» детей в Освенциме. Вы скажете — а откуда Ферфлюхтешвайну знать, может, мы тоже готовимся к войне, и он сомневается и тоже патриот? Не сомневается. До предложения не кидать первым — мог сомневаться, а теперь нет. Не может. Потому что он со своим «первым ударом» согласен, а мы его отвергли.
Дорогой дядя, как я могу объяснить им все это, когда они заняты бульканьем, журчанием и выражают тревогу и требуют мужества и трудной работы от неграмотных в науке безоружных людей, от пехоты, от разведки, от правительства, от кого угодно, а сами боятся назвать Ферфлюхтешвайна военным преступником и Каином.
Дорогой дядя, как я могу объяснить им все это, когда я сам боюсь, что они меня уволят из Академии, а мне уже не хочется на железную кровать, и я мечтаю о мурло-парловой шубе для матери моего ребенка, законно купленной за четверть стены Кристаловой хибары. Дорогой дядя, как, не обижая их, растолковать, что живут не для информации, а наоборот. Не чтобы в лабораториях булькало и журчало, а наоборот. Дорогой дядя, как им объяснить этот «уголок», что сегодня без профессора Ферфлюхтешвайна глобальная война невозможна — у всех остальных гавриков квалификация не та.
Я не знаю подлинной фамилии Ферфлюхтешвайна, этой Продажной Шкуры, но они-то знают!
Боюсь, дорогой дядя, боюсь, что уволят, и я не смогу отменить Апокалипсис хохотом. И потом «четверть стены» задерживается, а жена Субъекта уже купила мурло-парловую шубу, питается эклерами по-флотски, а я все еще сижу на фрутазонах.
Мне говорят, что Эйнштейн настаивал — надо бы мыслить по-другому, надо воображать другое, тогда другого и захочешь. Уйду я от них.
- Уходите? — спросил Субъект. — Жаль.
- Да, — говорю, — ухожу.
- Куда ж вы теперь?
- Не знаю, — говорю. — Может, опять в театр к Джеймсу. Театр я знаю неплохо. За свою жизнь бывал в нем не раз. А два раза. И оба раза удачно — показывали одно и то же.
- Театр — это кафедра, — назидательно сказал он. — Театр — это трибуна.
- Ага, — говорю. — И я так думаю. Помолчали.
- Чем же вы там будете заниматься?
- Тем же самым, — говорю. — И если вы правы насчет числа «пи», я буду исследовать вакуум любовью. Может быть, он откликнется.
- Желаю вам счастья, то есть неожиданной удачи, — сказал он. — Я теперь не занимаюсь числом «пи», я занимаюсь динозаврами.
- Вот как? — говорю.
- Мне кажется, они вымерли от гриппа, — задумчиво сказал он. Уйду я от них.
Глава вторая. Возвращение в будущее
15
Дорогой дядя!
В сутках двадцать четыре часа. Человек трудится, спит, бодрствует. Но живет все двадцать четыре часа. Остановка — смерть. Человек не машина, его не выключишь. Но от работы к работе, от сна к сну, от отдыха к отдыху человек еще и меняется. Вдох — выдох. Вдох — выдох. Но забывают о паузе перехода. Когда вдох затухает, но еще не стал выдохом, и когда выдох затухает, но еще не стал вдохом.
Поэтому на самом деле все происходит так: вдох — пауза — выдох — пауза.
И в этих паузах перехода происходит развитие, от вдоха до выдоха и от выдоха до вдоха человек уже другой — телом, разумом… А духом? Вот этой самой «психе»?
Мы знаем одно — тысячи лет знаем, — что в паузе перехода, любого — верхнего, когда кончается вдох и еще не начался выдох, или нижнего, когда выдохнул человек и, опустошенный, еще не начал вдыхать и восходить вверх до пика своего вдоха — в этих паузах перехода он должен быть «восхищен», то есть как бы «похищен непомерно» мгновенной верой в то, что выше его сиюминутных, каждодневных качелей, то есть восхищен ощущением связи со всей жизнью в целом.
Значит, должны существовать и люди, которые умеют и хотят вырабатывать «духовную пищу» так же, как другие вырабатывают телесную. Потому что одни без других жить не могут. И это не метафора, а буквально так.
Ну а жрецы жрут и тех и этих, как сказано, бесплатно и без очереди.
Поэтому они так нервничают, когда производящие два эти вида пищи начинают восхищаться друг другом.
16
Дорогой дядя!
Этот палаточный женский городок переменил все мои планы, и я махнул в Штаты. Я в Америку залетал лет десять назад. Она сильно изменилась. Первый раз я ездил смотреть секс-революцию, смотрел порно-фильмы, про гангстеров и сюрреалистических ковбоев, был в музее Гугенхейма — обычный маршрут для меланхоликов. Теперь я прилетел туда с другой целью. Поглядеть, так сказать, динамику заболевания.
С первой секунды стала видна разница — пыльно, сумрачно и грязней.
Эти письма из Америки отрывочны, я сознаю это. Но сориентироваться невозможно. Тут все так быстро происходит, как будто боятся, что обнесут тарелкой.
Остальные впечатления пропускаю. Сразу о бумажной войне. Дело начал Плотоядный любитель фрутазонов, помните? Помните? Муж смеющейся старухи.
Я нашел его в ужасном состоянии. Он грыз засохший фрутазон, подаренный еще Ралдугиным, и рычал, что он еще покажет «Kuskinu mat» — непереводимая игра слов, и говорил другие американские идиомы, из которых наиболее миролюбивым был — «К edrene fene».
Дело обстояло так: он написал книгу, где развивал открытие некоего Джеймса Ралдугина насчет особенности смены формаций — та страна, которая дольше всех задерживается в одной формации, с разбегу перескакивает через очередную — в следующую за ней. Плотоядный начал с сенсационного заявления, что Киноартист[1] — ставленник Москвы. И, далее развивая мысль, доказывал, что Америке грозит не социализм с его государственной дисциплиной, а именно коммунизм, где личная инициатива в рамках плана — станет жизненно необходимой. В Америке материальная база коммунизма уже есть — развитое производство, чего не было в России в 1917, а личная предприимчивость традиционна. И человек, который ради выпуска неходового товара — ракет, нелепых, когда все видят, что противник первым не кинет, а кто бы ни кинул, конец один — человек, который для поддержки убыточного производства грабит собственную казну, такой человек неминуемо ведет к революции. И притом, именно к коммунистической. И значит, работает в интересах Москвы.
Книга стала мгновенно бестселлером и пошла нарасхват. Издательство расширило производство.
Америка хотя и привыкла к теориям, начала смеяться, но при этом поеживалась. Потому что профессор Ферфлюхтешвайн не дремал и написал опровержение — сначала в прессе, а потом куда следует. И Плотоядного вызвали в комиссию.
Но с ним оказалось все не так просто. Его спросили напрямик:
- Вы поддерживаете главные тезисы своей книги, как-то: первый — личная инициатива в пределах общей собственности есть коммунизм, и второй — в Америке социализма не будет потому, что она сразу проскочит в коммунизм, как запоздавшая.
- Конечно, — сказал он. — Но я не коммунист. Я член Клана. На него затопали.
Когда же узнали, что Плотоядный действительно член Клана[2] и занимает должность «Заместителя Младшего Крокодила» — специалиста по смуглым душам, то смутились. А вдруг этот «Крокодил» действительно раскопал, что Киноартист — тайный коммунист? Мало ли? Береженого бог бережет. Ведь Киноартист так лихо грабит государственную казну… Почему это он такой ретивый?.. Почему… Ну, почему? С этого момента участь Киноартиста была предрешена. И «Гешефт-Махер-Компани» первая же отказалась его финансировать.
А с другой стороны, и в книге Плотоядного было много сомнительного. Откуда он так знает про формации? Зачем ездил в Москву? Почему посещал сексуального гангстера Ралдугина? Чтобы есть фрутазоны? Что, у нас своих нет? А почему эклеры именно по-флотски? Сомнительно, очень сомнительно. И с этого момента участь Плотоядного тоже была предрешена — Клану даны были деньги — и у Плотоядного была отыскана негритянская кровь.
Но поскольку все же, если один из них был прав, а другой не прав, то решили убрать обоих.
И сколько разведка ни клялась, что оба они — и Киноартист, и Плотоядный — чисты, это уже дела не меняло. Паника не разбирает.
Тем более что многие смуглые души стали еще громче петь псалмы и послали привет Плотоядному Брату. И дело перекатилось на национально-религиозную почву. И стало ясно, что без специалистов по душе народной и специалистов по высшим силам не обойтись.
Прекрасная мысль? Прекрасная. Но слишком медлили. Бюрократы! Потому что тут в самый неподходящий момент была анонимно издана злопыхательская книжонка, где описывалась сегодняшняя ситуация под видом религиозного диспута между капуцином-католиком и раввином-сионистом пред лицом прекрасной принцессы-молодки. И примечательно, что когда ее спросили, кто прав, то красавица ответила примитивными стишками, которые доказывали только бездарность автора, некоего Гейне, и его дремучее невежество в эстетике. Поскольку в этих виршах не было — ни живого описания природы, ни метафор, ни пафоса, ни священного безумия поэзии, о чем знал еще Аристотель, специалист «по уже написанным трагедиям», а была только наглая ухмылка человека без корней и желание столкнуть две духовные ориентации в кровавом навете на обе религии. Но сколько ни бушевала эстетика и критика, ничего не поделаешь — ответ красавицы вошел в моду. А с модой кто может бороться? И трезвые люди, достойные, до этого момента надежные граждане, стали повторять ответ белогрудой глупенькой принцессы: Кто тут прав, кто виноват — Пусть другие то решают. Но раввин и капуцин Одинаково воняют.[3]
Времени нельзя терять было ни секунды. Сначала обратились к специалистам по душе народной. Немедленно была заказана пародия поэту-сатирику, и он выполнил ее блестяще. Он в остроумной форме бичевал литературную слабость, пошлость этих дурнопахнущих стишков и остроумно обыгрывал словечко «воняет». С большой рекламой была издана книжка пародий, и на первой странице — эта. Однако, хотя книжка пародий разошлась неплохо, принцессин куплет из моды не вышел, и его продолжали твердить и иногда даже петь.
В довершение всего вышла рецензия, где задевали честь издательства. В частности, говорилось: книжка пародий издана небрежно, со множеством опечаток. Например, в аннотации вместо «поэт-сатирик» написано «поэт-сортирик». И так далее. Это уже было серьезно. Конкуренты не дремали.
Решили разобраться, в чем причины малого эффекта пародии и большого — куплета. А поскольку наступила эпоха экстрасенсов, телепатов и ясновидцев, постановили запросить дух автора куплета через компьютер и спиритическое блюдце. Собрали совет директоров, и у них с духом произошел интересный разговор. Вопрос:
- В чем причина успеха куплета? Ответ:
- Я писал его с душой. Вопрос:
- Что такое душа? Дух ответил:
- Что такое душа, я не знаю, но ее отсутствие видно сразу. Посовещались. Задали вопрос:
- В чем в принципе суть пародии? Ответ:
- Умение написать длинно то, что у писателя написано короче. Тогда спросили:
- Чем отличается писатель-сатирик от пародиста? Дух ответил:
- Писатель-сатирик бичует язвы жизни, а пародист бичует писателя, потому что считает его язвой.
И тогда, наконец, спросили напрямик:
- В чем идеологическая ошибка издательства, выпустившего книжку пародий? И получили ответ:
- В экономике. Примерно из восьми куплетов каждой пародии, смешной — один. Значит, выгодно было на сочинение остальных куплетов нанять еще семь проституток. Пародист подал жалобу о диффамации, доказывая, что блюдцу отвечал не дух автора, а клеветник.
Провели расследование — кто толкал блюдце? Оказалось — сам глава издательства, выпустившего книжку пародий. Он владел телекинезом, но двигал не блюдце, а стол под ним. Враги пародиста были повсюду. Дилетантские блюдечки были отброшены. Решили обратиться к специалистам по высшим силам.
Но тут, чтобы доказать нанимателям свою лояльность, глава державы объявил Крестовый поход против коммунизма и газопровода.
Настроение в стране было злое, безнадежное, искали виновников. Хотя знали, кто виноват, но старались не думать. Поэтому боялись любого смеха. Когда утверждения расходятся с делом, то над утверждениями смеются.
Любые ереси начинаются не тогда, когда атеист доказывает, что бога нет, а когда церковь становится жирная, но призывает к посту.
Когда политик говорит: «Берегитесь! Вот придет время, когда вам будет еще хуже, чем при мне», — это плохая политика. Ему отвечают: «А ты сделай, чтоб такое время не пришло».
Когда, несмотря на «научные предсказания» Апокалипсиса, Киноартист объявил Крестовый поход, то Папа объявил, что сам Апокалипсис необязателен.
Потому что Папа был умнейший человек, а Киноартист только жаждал выйти с экрана в люди.
Напоминаем, что в те времена народные массы за большие деньги и пикники с индейками избрали к власти Киноартиста.
Отношения Киноартиста с церковью были сложные. С одной стороны, он успешно играл роль верующего в высшие силы, с другой стороны, он показывал, что он и сам специалист по этим силам. А церковь не любит специалистов со стороны. И не киноартистам толковать священные тайны жизни. Поскольку киноартисты хорошо действуют по написанному сценарию, а церковь общается с силами, которые сценарии пишут. Артисты хорошо изображают «я» в предлагаемых обстоятельствах, но обстоятельства создают не они, а народ и дети, про которых церковь знала, что они — глас божий. И пока киноартисты призывают ни одной коррупции не совершать без клятвы на Библии, все идет нормально. Но вот объявлять Крестовые походы есть право церкви, а не штатских звезд экрана. А то и в самом деле до Апокалипсиса допрыгаешься. И Папа Апокалипсис отменил. Он велел по церквам и симпозиумам выступить против Крестового похода. И тем сильно рассердил киноартистов. Но тут уж были затронуты совсем высшие силы, то есть была затронута «Гешефт-Махер-Компани».
Пока фильмы о настоящих парнях из прерий, которые одним махом семерых побивахом, были рекламной мечтой, все шло гладко. И от покупателей билетов не было отбоя. Но как только киноартисты решили выйти с экрана в люди, то люди и заволновались — чей сценарий? Кто писал? Кто продюсер? И заказы на фильмы «Гешефт-Махер-Компани» стали течь тоненьким ручейком. Но доходы надо было сохранить, иначе… Даже страшно подумать, что было бы иначе.
И тут, в самый неподходящий момент, когда только-только «Гешефт-Махер-Компани», чтоб сохранить личные доходы (или, по-актерски, — «башли»), вместо изъятия денег у паршивых иностранцев, стала патриотически грабить государственную казну, вторым изданием вышла книга политолога с плотоядной улыбкой, снова ставшая сенсацией и гомерическим бестселлером.
И пошли дела. Надо было бороться со смехом. Решили все же начать с куплета. Перебрав все возможное, проникли обратно туда, откуда неосмотрительно отникли. К специалистам по высшим силам, то есть к церкви. Опыт ее разведки и интерпретации фактов исчислялись не годами, а тысячелетиями — она и сообразит.
Сначала церковь заподозрила происки устаревшей религии. Нет-нет, а бывает, знаете ли. Но от этой идеи довольно быстро отказались.
Один книжный червь разыскал в старых справочниках, что автор куплета жил и умер в XIX веке, носил фамилию Гейне, был иудей и, видимо, сионист, а пасквильный перевод сделан не с подлинника, а с русского перевода.
Но глава сионизма гневно намекнул на кровавый навет, а также сообщил, что, по архивным данным, этот Гейне — предатель и выкрест и якшался с Марксом и, видимо, со Сталиным, как и Спиноза, которого изгнали как иудейские, так и христианские общества. Версия о сионизме отпала. Больше того, подняли архивные документы, и оказалось, что пресловутый Гейне принадлежал к секте, куда входил всякий сброд разных наций. В ней замечены были опустившиеся священники Рабле и Свифт, сидевший в тюрьме за растрату солдат Сервантес, богохульник и тунеядец Вольтер, похабник Стерн, создатель жалких подписей к картинкам Диккенс и куча русских — недоросль Фонвизин, плагиатчик Крылов, свихнувшийся губернатор Салтыков, изолгавшийся Хлестаков-Гоголь, пропойца и комиссар Гашек и шнырявшие по Америке Ильф, Петров и Бендер, из которых, по крайней мере, один еврей. И так далее, и так далее. Проглядели секту. По всему миру. Интернациональную.
Консистория затребовала русский перевод Гейне. Тут выяснилось еще одно препаскудное обстоятельство. Сообразили, что судьей в теологическом споре была сделана ленивая и телесная красотка, что недвусмысленно намекало на то, что красота все рассудит и спасет мир, — опасная идея и мучительно знакомая.
Опять подняли архивы. Да, точно. Красота спасет мир — написано у Достоевского. Опять идея русская. Москва, та самая, которая слезам не верит. Тут уж не до шуток. Доложили Папе. Папа сказал:
- Знаю. Но у Достоевского не сказано, что красота спасет мир хохотом.
- Но ведь секта интернациональная!
- Смех — природное явление, — вздохнув, сказал Папа и добавил: — Как и глупость. Дайте мне русский перевод.
Папа был умнейший человек, и канцелярия многое ему прощала. Даже то, что он объявил во всех церквах, что Апокалипсис может быть отменен, хотя это подрывало коммерцию «Гешефт-Махер-Компани». Но хохот?!
Русский перевод был доставлен Папе, который хорошо знал русский язык. И когда через некоторое время подошли к двери его опочивальни, то с ужасом услышали хохот. Папа смеялся.
Это было невозможно, но было. Что он нашел смешного в бездарных виршах? Но оказалось, дело обстоит еще хуже. Подглядели в замочную скважину и совсем смутились душой. Папа читал не вирши, а предисловие к ним. Он громко повторял фразу солидного научного вступления — «Для нас любовь Гарри и Амелии является лишь крючком, на который нанизана его биография» — и почему-то хохотал.
Весь порядок в мире держится на страхе и слезах. И закралась ужасная догадка — а вдруг он объявит, что Апокалипсис может быть отменен хохотом. Это было уже не смешно. В Папу выстрелили.
И только тогда возмутились народные массы, которых, наконец, проняло. В кино стало смотреть нечего. А так как ценности, в защиту которых был объявлен Крестовый поход, показывали именно в кино, то ценностей не стало, кроме самой примитивной — жить хочется.
А поскольку с увеличением личных «башлей» «компани» государственная казна стала почему-то быстро нищать, — то жить всем хотелось почему-то тем больше, чем у меньшего числа людей был на это шанс.
И пошли демонстрации с выкриками. Это бывало не раз, и мало кого беспокоило из высших сил «компани» — можно послать ангелов и заткнуть рты. Но тут появилась еще одна непредвиденная сила. Но об этом в другой раз, дорогой дядя.
17
Дорогой дядя!
Ну, наступило, стало быть, то главное, из-за чего мы сюда приехали в Тольятти. Дорогой дядя, за мир сражаются, если что-то ему грозит. А если б не грозило? Но разве мы для этого существуем тысячи лет — поэты, беспризорники Вселенной, а? Разве мы для того, чтоб затыкать дыры в латах или в штанах, мы, умеющие кричать даже шепотом и рассказывающие о людском единстве, рассказывая о себе?
И на этой встрече книголюбов и поэтов Тольятти я не заметил ни одного робота и ни одного жреца. На этой встрече я видел сосредоточенные лица людей, не занимающихся ни изгнанием беса из тела, ни тягостными и недоуменными усилиями изгнать из души зверя, справедливо полагая, что об этом позаботилась эволюция.
И в эту встречу мы не занимались само-пере-вос-питанием под чей-то не вполне ясный эталон и не рыдали от мифического первородного греха. Потому что никакого первородного греха нет, но есть гигантская разница между эталоном и идеалом. И потому сейчас просто и сосредоточенно жили той второй половиной реальной жизни, духовной, без которой и первая половина никнет.
Загадка поэзии не в том — понятно ли с ходу, о чем в стихе рассказано, или надо догадываться. Все непонятное можно, конечно, дешифровать, и тогда брюсовские «фиолетовые руки на эмалевой стене», наделавшие столько шуму в начале века, оказываются нормальным описанием тени листьев на кафельной печке. Непонятность — это не загадка. Тогда любой рецепт в аптеку — загадка.
Загадка в том, почему одни понятные слова душу восхищают, а другие понятные слова только теребят нервишки, а чаще всего — уши.
Поэтому с переводами Пушкина такой конфуз. И Пушкин с ходу понятен, и Некрасов, а в переводах Некрасов выглядит выше Пушкина. Потому что в пушкинских переводах пропадает самая малость — Пушкин. И это вам докажет любой переводчик.
А как на чужом языке показать, что простейшие слова из одной беспризорной песни — это не протокольное изложение обстоятельств, а высочайшая поэзия, когда и свои-то стесняются это признать, поэзия нижней паузы перехода, после выдоха, но перед вдохом.
Ох умру я, умру я, Похоронят меня. И никто не узнает, Где могилка моя. И никто не узнает, И никто не придет. Только ранней весною Соловей пропоет…Как перевести на другой язык слова, которые на родном языке притрагиваются к молчанию!
- Что есть искусство? — вопрошал я себя, сколько себя помню. — Зачем оно?
Много надо было пройти дорог, прежде чем понял, что искусство — это предчувствие. Встречи, любовь, страх, смерть, работа — все это жизнь. Иногда кажется, что искусство подсобно ей. Но и искусство — жизнь.
Разве затем песня, чтобы рассказать о чем-нибудь? Нет. Рассказать можно и не в песне. Песня — чтобы петь. Потому что человек поющий — это человек иного качества, чем он сам же, но не поющий. Человек поющий делает бессмысленное дело. Нет для него смысла в сегодняшнем дне, пока говорят: пою, чтобы разогнать тоску и улучшить настроение — ничего не ясно. Если песня, чтобы улучшить настроение для цели остальной практической жизни, то почему нельзя это делать физзарядкой или таблетками? Смотрите — душевные болезни, безумие лечат медицинским путем. Неужели для такого пустякового дела, как настроение, тысячи лет сотни тысяч поэтов поют, оплакивают песню, умирают за песню. С чем сравнить коллективный подвиг поэтов? Не надо его ни с чем сравнивать. Потому что сравнить его не с чем.
Во имя чего тысячи лет гибельны судьбы поэтов? Во имя Образа Человека, предчувствием которого живет коллективная душа поэтов. Во имя Образа того Человека, который будет подобен поэту в миг зарождения в нем песни и будет подобен любому человеку в такой же миг — миг восхищения.
Поэзия — это хорошо. Плачет ли она или смеется — это хорошо. Никто не знает, почему это хорошо, но это хорошо. Может, она помогает родиться в человечьем мозгу органу, заведующему восхищением.
Тогда поэты — это первенцы, это заброшенные дети будущего. Поэты — это беспризорники, потерявшие будущих родителей. Значит, и относиться к ним нужно как к беспризорникам. Все недостатки их и достоинства — отсюда. Надо относиться к ним так, как отнеслась к беспризорникам революция.
Нельзя гнать их, иначе лучшие из них гибнут, а худшие ожесточаются. Надо любить их и помнить, что где-то в будущем у них был счастливый очаг, который они потеряли, и вот теперь греются у чужого огня. Надо сажать их за стол. Надо кормить их и гладить по нечесаным головам, и тогда они расскажут в ответ на ласку о том счастливом крае, где они стали поэтами и где люди не разговаривают даже, а поют. И научат гостеприимных языку песен. И тогда у кого-то родятся те мальчик и девочка, от которых пойдет племя счастливое.
Еще в самом начале, когда я выступал и сказал, что проза — это тоже поэзия, но с более трудно уловимым ритмом, мне из зала прислали записку, которую я не мог прочесть, потому что очки забыл под штанами в своей необыкновенной сумке. И эту записку прочел вслух главный руководитель этой встречи — высокий худощавый человек со стремительным лицом. Я тогда еще не знал, кто он. В записке было написано: «Спасибо вам за то, что вы есть». Я бы хотел от всех нас послать такую же записку: «Спасибо вам за то, что вы есть». Но только я не знаю, кому.
18
Дорогой дядя!
Считается, что нужны могучие силы, чтоб стали заметны последствия.
Дорогой дядя, у меня знакомый погиб в горах, потому что чихнул, и лавина рванулась вниз. Когда лавина скопилась, годится любой звук. А когда не скопилась, чихай, не чихай ничего, кроме насморка, не добудешь.
Вопрос о Крестовом походе встал ребром — начинать или нет. С одной стороны… с другой стороны…
В общем, результаты обеих этих сторон никому не улыбались. А улыбаться как раз хотелось, и даже не улыбаться, а хохотать над всей этой наркоманской чушью, до которой докатились.
Это надо же! Всерьез обсуждают, что будет, если ничего не будет?
И тут вдруг стало известно, что профессор Ферфлюхтешвайн исчез. Нет, вы представляете? Ферфлюхтешвайн исчез, а наука осталась. Невероятно, но факт. Оказалось, что, несмотря на его исчезновение, наука не только не пострадала, но даже как бы проветрилась. И уже пошел слух, что в Академии смеются научным смехом.
А ведь была полоса, когда казалось, что Ферфлюхтешвайн и наука — это одно и то же, а оказалось, нет, не одно и то же. Одно дело — «казалось», а другое дело — «оказалось».
Жену профессора Ферфлюхтешвайна Гертруду разыскали в самом дорогом подвале. Она была невменяема и на все вопросы только повторяла фамилию мужа. «Ферфлюхтешвайн! — говорила она. — Ферфлюхтешвайн!» И лингвисты выяснили, что это означает «проклятая свинья».
Но он исчез, предварительно сбрив усы. Никто ничего не мог понять. Однако на столе у него нашли пространную цитату из Б. Даннэма и томик Гейне в русском переводе с одиозным куплетом, обведенным губной помадой коричневатого оттенка, точно такой, какую употребляла жена бежавшего, Гертруда. И этой же помадой были подчеркнуты нужные места в цитате. Этого не могло быть, но было.
Вот эта пресловутая цитата, которой погубила профессора его собственная жена. Цитируем:
«В июле 1850 года барон Юлиус Джейкоб фон Хейнау, фельдцойгмейстер австрийской армии, по прозвищу Палач, был отозван из Венгрии из-за чрезмерного усердия, с каким он оправдывал это прозвище, расправляясь со сторонниками Кошута. В сентябре того же года он посетил пивоваренный завод „Баркли и K°“ в Лондоне „в целях“, как писала „Рейнолдс Виикли Ньюспейпер“, „инспектирования предприятия“. Он записал свое имя в книге для посетителей, и таким образом весть о его прибытии распространилась по всему заводу.
В тот момент, когда барон проходил по одному из подвальных помещений, на его голову упал мешок соломы, брошенный меткой рукой, и он впервые почувствовал настроение британских рабочих. Мешок соломы был только началом. В барона начали бросать всем, что попадалось под руку. Когда же появились сами рабочие, барон и двое его спутников попытались спастись бегством. Но и на улице им пришлось не лучше: барона потащили по земле за усы, „чрезмерная длина которых, — рассказывает газета, — давала достаточно к тому возможностей“».
Цитата из книги американского философа Берроуза Даннэма, который добавляет: «Что хорошо для рабочего класса — хорошо для всей страны» — такова квинтэссенция социальной этики нашего века. Профессор сбрил усы и исчез.
Удар, нанесенный профессору женой, был неотразим. Но в действительности никто ничего не понял. Почему? Ведь он же для нее делал все. Он всю жизнь старался так ее одевать, чтоб хотелось ее раздевать.
Но, видно, и до Гертруды дошло, что с таким мужем можно допрыгаться и до Апокалипсиса.
Далее, в юридическом журнале «О тэмпора, о морэс!» появилась статья под названием «Новое о старом», в которой журналист, скрывшийся под псевдонимом Фрутазон-второй, писал: «Характерно, что книги Гейне, подсунутые профессору Ферфлюхтешвайну, были подарены Гертруде ее старой подругой, которая побывала в Москве, увлеклась буддизмом и уехала на Дальний Восток — нелепая старуха.
Но самое интересное, что все это зловещее собрание сочинений, все пять томов в издании Солдатенкова, в свою очередь, были подарены этой свихнувшейся старухе некой Кристаловной, гражданкой Подмосковья, психически шаткой особой, брошенной своим мужем, замечательным ученым, известным в узких кругах своими новаторскими трудами в области круговорота веществ.
То есть налицо явное безумие. Три старые психопатки подстроили все это дело. Как может мир зависеть от потомков той, из-за которой возникли все несчастия нашего мира?» Конец цитаты намекает на праматерь Еву.
Выяснилось, что под псевдонимом Фрутазон-второй скрывался главный жрец-юрисконсульт «Гешефт-Махер-энд Гешефт-фюрер-компани».
Это было кошмарное обвинение, которое уводило к началу начал. И опять все запуталось неумолимо. А ведь так все было складно и хорошо — рука Москвы. Потом появилась версия, что это не то рука, не то голова Генриха Гейне, давнего выкреста. И вот теперь намеки на руку праматери Евы. Однако если причиной всему она, тогда опять неясно, почему именно рука, а не нога? Ведь, как всем известно достоверно, у нее были и другие не менее интересные фрагменты.
Америка держалась легкомысленно. Она смеялась над собой, потому что столько лет терпела эту ферфлюхте-свинско-жреческую экономику, которая при всей соблазнительности принципа спроса, для поддержки дефицита всегда и непременно приводила к войне. А это в нынешних условиях, сами понимаете!.. В разгар этих событий повар-турист круизного лайнера и передал мне письмо от Кристаловны. Она писала: «Бывшего мужа стали мучить непонятные кошмары. Ему каждую ночь снился неизвестный мужчина с бутылочными глазами, который, щелкая подтяжками, назывался Громобоевым и наводил на бывшего мужа невероятный сон: будто Сапожников собирается добывать золото из морской воды. А как все давно знают, там его неисчерпаемое количество. Но затраты на его добычу превышают цену добытого золота. Однако даровой двигатель Сапожникова этот вопрос снимал. Но, мало того, Сапожников будто бы собирается подарить эту идею государству».
Бывший муж пришел к Кристаловне в диком состоянии, умолял простить и открыл тайну золотых стен. Он промаялся несколько дней. Ему мерещилось, что правительство опубликовало этот способ, и что началась гонка качания золота, и всей экономике, основанной на валюте, грозил полный крах. Что начиналась экономика обеспечения продуктами и работой. И мульти-пульти должны были перейти на твердые авансы и премии за конечный продукт. На бездельников и коррупционеров надвигалась катастрофа. Что возникали бунты мафии. Но их уже никто не покрывал за деньги. Что тайны лопнули. Дефицит тоже. Что ничего нельзя было скопить и пустить в оборот. Что гигантские поставки велись только в кредит и обеспечивались учетом по конечному результату. И что наступал окончательный крах денег…
Эти кошмары мучили бывшего мужа Кристаловны целую неделю. Потом, однажды утром, он вышел из дверей ее дачи. Зная своего бывшего мужа, Кристаловна не спускала с него глаз. Он вошел в дачный нужник и не вышел оттуда.
Когда Кристаловна стала стучать — никто не откликнулся. Она толкнула — дверь наглухо заперта изнутри. Кристаловна пыталась взломать, но силы были уже не те. Предполагая, что он утек через вентиляционное окошко, она кинулась домой и обнаружила пропажу дарственной на дачу.
Она заявила о стенах и о пропаже дарственной и мужа. «Его ищут, но он исчез. Как быть? — писала Кристаловна. — Неужели все пропало?»
Я немедленно телеграфировал: «Ерунда. Пусть ищут там же».
А тем временем в психоаналитических кругах Америки возникла дискуссия, стремительная, как рукопашная в бане. Почему именно три безумные старухи? Молодые — было бы понятно — им жить и жить. Но какое дело бездетным старухам до Конца света? В этом даже была какая-то патология, или экзистенция, если хотите. Или так у старух сублимировалась подсознательная тяги к мировому господству? Сложности, сложности…
Запросили меня, как всемирно известного специалиста по «уголкам», оказавшегося под рукой. Я дал заключение, что «уголок» вовсе не в экзистенции. А в том, что за долгую жизнь, потраченную на аборты, можно было успеть полюбить детей. Дело с Крестовым походом, такое простое и ясное вначале, теперь стало запутываться и приобретать какую-то нереальную окраску.
А действительно, как быть? Этот вопрос задал один сенатор, кажется, из оппозиции, из ее консервативного крыла. Разослали вопросы всему свету — как быть? На заседании Главного Заседания вопрос об Апокалипсисе должен стоять ребром — Да? Да. Нет? Нет. Как ни странно, ответ пришел из Японии. Он гласил:
- Решайте вопрос, как в нашем парламенте.
Сначала не поняли. Потом вспомнили. Скинулись. Кто-то кому-то дал денег.
В японском парламенте противники бьют друг друга по рылам. Кстати, телеграмма из Японии — не фальшивка ли?
Заподозрили директора одного частного издательства, которое оконфузилось с Гейне. Но оказалось, что он застрелился, после того как доказали, что он двигал столиком, а не блюдцем, и вопрос о фальшивке остался открытым.
Решили было изгнать из страны всех бывших эмигрантов до седьмого колена. Но компьютер сообщил, что тогда останутся одни индейцы, которые давно этого хотят. Враги решительно были всюду.
Сначала их было узнать легко — они смеялись. Но когда засмеялись ангелы, стало не до шуток.
Потом выяснилось — телеграмму прислала старая американская дама, перешедшая в синтоизм и натурализовавшаяся в Японии.
Дама оказалась та самая, одна из трех. Выяснилось и ее имя — Мойра. Но так звали трех богинь судьбы. Три старухи. Задумаешься тут.
На заседании Главного Заседания представитель оппозиции дал в рыло представителю правящих. Возникла общая потасовка. Нервы у всех были на пределе. У экранов телевизоров держали пари — кто кого. Вся страна хохотала. Ставки были такие, что выигравшие рванули на Гавайи покупать виллы под пальмами.
Вот бы все войны кончались разбитыми носами заинтересованных лиц. Но прошлое не переделаешь. Однако на этом Апокалипсис и кончился.
Главный Крестопоходец сам в поход не хотел. Он хотел вдохновлять. Главного Крестопоходца вывели через задние двери. Он было собрался вскочить на лошадь и промчаться по улицам города, сея панику. Но лошади не нашлось. Ему предложили велосипед. Никто этого ковбоя никогда на велосипеде не видел, и ему не пришлось переодеваться в платье сестры милосердия, как это было однажды с лидером Временного правительства времен буржуазной революции в России.
На окраине заводы очень страшно молчали, предвещая в Америке социализм и фрутазоны Ралдугина. Но он терпеть их не мог и уже подумывал о коммунизме, где инициативным людям — лафа.
Он приехал в свою виллу и долго думал. Потом поставил стол с алфавитом и положил блюдце вверх дном.
Вот его интервью с духом. Вопросы писать не буду — они понятны из ответов. Ответ:
- Кто в Америке грабит собственную казну, приближает не социализм, а коммунизм. Через социализм перескочат с разбегу.
Ответ:
- Гражданской войны и интервенции не будет. Америка — не Россия. Никто в помощь тебе войск из Европы не пошлет.
Ответ:
- База социализма в Америке есть — мощная промышленность. Ее сделают общей.
Ответ:
- Война невозможна — ядерный потолок. Борясь с коммунизмом, ты его приближаешь. Фактически, ты — ставленник Москвы.
Он зажал уши. Но никто ведь не произнес ни слова. Блюдечко скакало само. Дух работал вовсю и выявлял письменно собственные мысли лидера. Но зато в ликующей панике он обнаружил, что способен на телекинез. Ах, это ведь огромные деньги! Можно работать в лучших мюзик-холлах. Шикарный номер без кинотрюков. Никакой липы. Интересно, а бутылки передвигаются? Полные, конечно. Он стал успокаиваться и взглядом прикатил из дальнего угла бутылку. По ковру она двигалась с трудом, но достаточно быстро.
19
Дорогой дядя!
Золотой свет лежал на белых домах города Тольятти, которые были светлее неба за их крышами. Было такое время этого дня — я не знаю, можно ли так сказать, — но вечер склонялся к вечеру. Как будто во всем мире наступила пауза перехода. Данте называл это время часом мореплавателей, когда сердце говорит «прости» милым друзьям. Только было я стал, печалясь, прикидывать, какие стихи мне надо добыть у Андрея Ивановича, Ирины Павловой и у остальных — у Вацлава, например, про младшего братишку, у Вани Гусарова…
Я всегда исходил из двух положений давнего маршала Тюренна, необычайного храбреца. Когда перед смертью он давал последнее свое интервью, то на вопрос: «И откуда же это у вас такая храбрость?», он ответил:
- Я всю жизнь боялся только одного — чтобы, когда пролетает ядро, солдаты не заметили, как у меня дрожат колени.
- А как вы достигли таких результатов? И давний маршал ответил:
- Я всегда говорил себе: «Ты дрожишь, скелет? Ты задрожишь еще больше, если узнаешь, куда я тебя сейчас поведу!»
Все дело в том — «куда?»
Дорогой дядя, я никогда не боялся ходить в темноту. И когда глаза души привыкали, то я начинал видеть просвет там, где его мало кто ожидал. И говорил — вот свет. И даже пальцем тыкал.
Вот и сейчас, когда мир скрежещет и криком кричит — это видно и слышно каждому, — я вижу мир, который после гигантского выдоха уже проходит нижнюю паузу перехода, и уже начинается великий и неодолимый гигантский вдох до верхнего пика добра и света третьего тысячелетия. Ну а у них будут свои проблемы.
И мы стали выходить из подъезда на вечерний вечер и садиться в автобус, который повезет нас (о боже!) на ужин.
В дверях меня остановил светловолосый мальчик в полосатой безрукавке и сказал:
- А мы вас ждем… Мы узнали, что вы приехали.
- А кто это «мы»?
- Клуб песни. Я говорю:
- Ребятки… да вы что? Сейчас нас куда-то повезут кормить… Вот же автобус!
- А завтра?
- А завтра мы улетаем.
- Как же так? — спросил он растерянно. — Это невозможно… Меня же прислали…
- Гошка!.. Задерживаешь! — крикнули мне из автобуса.
- Вот видишь, — говорю. — Видишь?
Мы двинулись к автобусу, и он еще успел спросить:
- До нас дошли слухи, что вы перестали писать песни… Это правда?
Слухи дошли, господи боже мой!.. Да я перестал писать песни лет пятнадцать назад… Теперь-то я как раз снова начал.
- Нет, — говорю, — это ошибка. Песни я пишу. Он покивал и первый раз улыбнулся.
А наш лихой автобус бурчал на поворотах и снова летел по прямой, и наступали сладостные сумерки этого дня в этом великом, мальчишеском городе, и стекла были опущены, и влетал тугой ветер, и мне разрешили курить, и все сидели как попало, обернувшись друг к другу, и пролетали мимо большие дома и большие поляны, и небо было высокое и сиреневое.
- Я н-никогда не был в Л-лондоне, — заикаясь от тряски, сказал Сокольский. — Н-но я читал, что в Лондоне есть районы, где застройки сменяются п-полянами с к-коровами… В-вот и здесь т-так же…
- Я т-тоже не был в Л-лондоне, — говорю. — Н-но я с в-вами с-согласен. Он зах-хохотал, и мы п-приехали.
И перед подъездом с уходящей вверх широкой лестницей меня перехватил другой мальчик, темноволосый, ростом пониже и более обидчивый.
- Как же так? — сказал он. — Вы должны к нам прийти… Вы не можете так уехать… Мы вас ждали…
Я говорю:
- Парень… клянусь… Все расписано по минутам… Вот гляди… Печатная программа.
И я, подтягивая живот, достал из кармана узких своих кобеднишных штанов полоску с голубым типографским текстом.
- Давайте, давайте, — выглянул из подъезда тот самый человек, который на вечере поэзии прочел ту записку.
Мальчик, видимо, узнав его, отдал мне программу.
- Тогда мы к вам приедем, — сказал он. — В Москву.
- Ладно, — говорю. — Только не вздумайте ввалиться без предварительного звонка. Я этого терпеть не могу… Я могу работать, спать, сынишка может спать, мало ли… В общем, сначала созвонитесь.
- А телефон?
- Пишите…
И высокий человек увел меня, и мы поднялись по лестнице.
Это оказался огромный клуб. Мы какое-то время поболтали в фойе, где я увидел многих из тех, с кем встречался в эти дни переездов, и мы здоровались и улыбались, и — многих незнакомых. Но когда мы вошли в зал, где будем ужинать, и я увидел стол, я понял, что на этот раз мне несдобровать.
Я, видимо, изменился в лице, потому что, когда рассаживались, то слева от меня села Люда, а справа — Леонид Владимирович.
- Вы еще улыбаетесь! — сказал я ему.
- Я бывший участник КВН, — ответил он. — Я никогда не робел перед вертикальной посудой, но перед тарелками я за эти два дня стал испытывать трепет почти священный.
- Ирина… — сказал я Павловой, сидевшей напротив. — А как у вас там в Лондоне едят маслины? Если я буду тыкать вилкой, они будут кататься по тарелке… и может быть, даже упадут мне на штаны или на Люду…
- Руками! — грозно сказала она.
И мы помчались. Оказывается, не один я на белом свете не мог поймать вилкой убегающую маслину. А теперь я знал, я ее поймаю и буду ее есть на протяжении всего вечера.
Ирина пресекла мои маразматические вопросы, совершенно неуместные на этой встрече с руководством завода, но она не знала, что на этом вечере из всех присутствующих я, наверно, первый изучал английский этикет.
Это было больше сорока лет тому назад и происходило в этом же городе. Вернее, в городе, который был на месте Тольятти, а теперь его захлестнула новая жизнь и новое море, и у меня была одна задача — вспоминать об этом как можно меньше. Потому что у меня есть сердце, и оно уже не выдерживает. И тут я говорю:
- Люда, я в этой поездке влюбился в одного человека.
- В кого, Гоша?
- В Ваню Гусарова, после его стихов об электричке.
- А вы знаете…
- Знаю. Он мне сам сказал, что она его бывшая жена… Она хорошая поэтесса, но когда я услышал, что она его бывшая жена, я озверел. Потому что не она его бывшая жена, а он ее бывший муж. Потому что она связана со временем, а Ваня Гусаров, по-моему, был и будет всегда, пока существует русский язык, а это и будет всегда, и я хочу ему сейчас же об этом сказать, потому что никому не написать такого стиха про электричку.
- Гоша, я думаю, вам ничего этого не надо говорить.
- Но вы-то хоть понимаете?
- Мы понимаем.
- Или у Вацлава про ушедшую любовь, как про застарелую болезнь… Или у Андрея Ивановича про кузнеца?
- Гоша, лучше послушайте…
Высокий человек с худощавым лицом, который прочитал ту записку, оказался парторг всего завода-города. Он встал и сказал нам всем, что мы понравились им всем. И сказал, что они люди железа и что когда все время железки, то особенно остро возникает вопрос — а что же для души? И он сказал, что мы не подкачали.
А седой человек, сидевший на нашей стороне стола, перегнулся ко мне и сказал, что они не всех так встречают и что когда к ним приезжала одна знаменитость и пыталась разговаривать с ними через губу, то рабочие эту знаменитость не признали и выпроводили почти вперед ногами, и сказал, что он их понимает, потому что сам прошел весь путь от станочника до заместителя главного конструктора.
А я сказал, что и я их понимаю, потому что рабочий человек обладает обостренным чувством собственного достоинства, и что когда я печатал первую в своей жизни длинную вещь про мальчишку-художника на войне, редактор меня спросила, как я представляю себе своего читателя? — то я ответил, не колеблясь, что представляю его себе в образе пожилого рабочего, потому что если своеобразие мышления и доброта есть главные признаки личности, то я их встречал чаще всего именно здесь. И тогда заместитель главного конструктора сказал, что жаль, что остальные это не слышали, и почему бы это не сказать всем.
Когда ехали сюда, то я, честно говоря, думал, что меня только потерпят среди поэтов, выступающих с законченными вещами, а я мог поделиться лишь некоторыми соображениями.
И тогда я рассказал, как у нас, на Буцефаловке, когда был в школе самый первый урок по труду, — это еще до войны было, — и мы два часа обрубали зажатый в тиски кусок металла, больше попадая молотком по пальцам, чем по зубилу, то после урока мы вымазали руки тавотом с опилками, которые мы выковыривали из тисков, и шли по улице вперевалочку, чтобы нас принимали за рабочих. Потому что в наших краях, где гудели по утрам гудки Электрозавода, Мостяжарта, Лепсе и Инструментального, в те годы самой большой честью было считаться рабочим. Потому что когда одного старого рабочего спросили, что он считает главным положительным качеством человека? — это уже после войны было, — то он ответил: «Стыд». Ему хотели подсказать: «Может быть, совесть?», но старик не согласился, и отверг, и сказал, что «совесть — это уже потом, и сознательное. А стыд есть рвотное движение души».
И парторг завода стукнул кулаком по столу и сказал: «Верно! Это когда душа чего-то не принимает! Это первый шаг к порядочности!»
А после этого все встали из-за стола, чтобы пойти посмотреть маленький фильм о том, на что способны машины «Жигули» и их невероятные водители — мало того, что они, как каскадеры, мчались на двух колесах одной стороны, но при этом их напарники еще вылезали из окон и меняли на ходу оба колеса другой стороны и многое другое, чего не опишешь, и, может быть, самое главное, что у водителей, которые переговаривались друг с другом по рациям, были не загадочно-хищные лица ковбоев и сверхчеловеков, а обычные спокойные и полноватые лица с висящими усами, которые встретишь на любой улице.
- Это наши заводские шоферы, — сказал парторг завода и спросил: — Мне сказали, вы уходите?
- Лопатку колет, — говорю. — Мне уже лет ого-го, а у меня сынишка…
Он меня поздравил с сыном и сказал, что у него дочки. А когда я тихонько попросил Леонида Владимировича отвезти меня в гостиницу, то заместитель главного конструктора удивился. Но я ему показал пальцем на левую сторону пиджака, под которой у людей с обычной анатомией помещается сердце, и он нахмурился и понимающе кивнул. И я тихонько пошел вниз к машине, пока никто не заметил, что я весь, в нарушение всех законов медицины, превратился в одно довольно неважно работающее сердце.
И все подтверждалось.
Все подтверждалось — и ночь за огромным гостиничным окном в номере, который мне лично выпал у судьбы, и поездка, которая потихоньку начинала уже становиться воспоминанием, потому что утром меня разбудит телефон, и мы поедем на аэродром, и улетим в Москву, и тогда остается выполнить только долг перед собой, а если я нащупал нечто важное и универсальное, то и долг перед жизнью, — но пока все было наполнено тем первичным, еще не расчлененным на подробности чувством восхищения, без которого, опять же, как мне казалось, вообще невозможно ничто в человечьей судьбе. И если это все не пропадет по приезде, то мне остается только записать все это, чтобы растолковать все это, чтобы все это не потонуло в дебатах и опровержениях. И будь что будет, дорогой дядя. Но я хотел как лучше.
И я опять влез под ледяной душ, и стоял под ним, пока немножко не отошел, и опять потом поставил пепельницу возле себя, и курил, и не мог уснуть. Но потом заснул. Плакал и смеялся во сне, но это теперь уже не имело значения.
20
Дорогой дядя!
Последнее, что было в Америке. Они стояли и смотрели на меня.
Дорогой дядя, я же всех разозлил — и ихних и наших — своей безвкусицей, своим неуместным хохотом, своими нелепыми претензиями кого-то и от чего-то спасти, своими идиотскими поисками ключевого понятия, слова-панацеи. В то время как на белом свете давно уже тридцать второе мартобря, а у алжирского бея под самым носом шишка. Глаза у них были сощурены. Руки они держали в карманах штанов, за одну этикетку которых молодые идиоты и идиотки у нас дома платят двести рэ. Я тоже смотрел на них.
Они так хотели быть мужественными и своевольными, что не заметили, как ими торгуют по сходной цене.
- Господи… — сказал я. — Не надо мне мстить… Я хотел как лучше. Они стояли и смотрели на меня.
Ну ладно, чего уж там.
Я шагнул к ним. Чего тянуть? Но они расступились.
Я вошел в пивнушку. У нас, на Буцефаловке, такие назывались «американками». Дверь за мной закрылась, потом снова открылась — кто-то заглянул внутрь и закрыл окончательно.
- Садись, — сказал лысый гигант с вислыми усами. Я присел напротив.
- Ты ничего о нас не знаешь, — сказал он. — А берешься судить.
- Потому и берусь, — говорю.
- Мы же здесь живем, — сказал он. — Раньше сюда бежали, а теперь здесь живут. Это Новый Свет… Ты скажешь — был Новый, а сейчас устарел?.. Не торопись. Ты не понял нашу суть. Суть Америки. Я тебе объясню.
- Только попроще, — говорю. — Я тупой.
- Я тоже ни во что сложное не верю, — сказал он. — Тут мы сходимся. В остальном — нет. Меня однажды нанял человек — назовем его Капитан…
- Покороче, — говорю. — Меня ждут. Мне не до истории.
Знаем. В Кейптаунском порту, с какао на борту «Жаннета» поднимала такелаж. И, прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж… Идут, сутулятся, сливаясь с улицей, и клеши новые ласкает бриз… Знаем, пели… Гарри, Кэт, таверна, выстрел… У нас тоже есть чувствительные уголовные романсы. Вислоусый гигант помолчал, потом сказал:
- На лодке был сильный мотор, но из гавани мы выходили на веслах. Потом я включил двигатель. При выходе обогнали пыхтящую барку.
Кэт оказала:
- Не притирайте, черт побери, дайте ему жить. Капитан сказал:
- Однако, хотя вы и пташка, а знаете, что к чему. Откуда бы?.. Мы всегда идем на полгавани впереди.
…Кэт — ну ясно, затрепанное имя. Бризы, муссоны, «смит-вессоны»… Она сказала:
- Я знаю, как вся грязь летит на того, кто отстанет… Значит, и на меня. Капитан сказал:
- Все дело — в индивидуальном продукте. Ты производишь надежду, а я — веру. И тогда пошло.
- Я, — сказал Вислоусый, — сразу подумал, что несдобровать кораблю из-за этого. Стою. Мое дело маленькое. Потом слышу — они заспорили, кто лучшего человека оставил дома. Заспорили, засмеялись, перестали спорить. Она сказала:
- А кого Пирсон оставил дома? Парень — он видный. (Пирсон — это я.) Капитан сказал:
- С его фигурой надо в каждом порту оставлять лучшую девушку в городе… Капитан сказал:
- Слушай, Пирсон, покажи ей свое фото, самое дорогое. Я видел, у тебя мелькало в пиджаке.
Что ж, пусть смотрят. Я достал свое фото. Я подумал: «Пусть смотрят. Ничего».
- Какая прелесть… Пирсон — молодец, — сказала Кэт.
Пока они разглядывали мое сокровище с царапиной на лбу, с волосами, как воронье гнездо, веснушками на носу, щекой, измазанной повидлом, а в руке — кукла без ноги, и с глазами — синими, как море в заливе неаполитанском…
- Пирсон не такой идиот, — сказала Кэт.
- Пирсон, спой, — сказал Капитан. Ну что ж, петь так петь.
Я спел песню о том, как грузили едой корабль, уходящий в дальнее плаванье, и сынишка механика спросил матроса: «Зачем столько еды?» И матрос сказал: «А если крушение? Сколько нужно будет еды, чтобы дождаться помощи?» А механик сказал: «Не болтайся под ногами». И сынишка стал помогать матросам. И когда через год нашли этот корабль со сломанным винтом и рацией, то на нем не оказалось ни одного человека, который бы пережил голод, и ни крошки еды.
А когда раздавали вещи вдовам, нашли тайник с едой. Но вещи не утешили вдов. Так-то так, но кому отдать пяток оладий с повидлом и кусок бисквита, высохший, как камень?
- Мрачная песня… — сказал Капитан. И Кэт отдала мне карточку дочки.
И тогда я спел другую песню — о самолюбии и о любви, и о том, как два человека любили и мучили друг друга, но у Него была семья. А Она была красивая и злая, но билась за тех, кому не повезло, а Он был добрый, но никому не уступал дороги и бился только за себя. И когда все гибло… Он тогда кинулся спасать Ее, хотя было ясно, что бесполезно и Он бы мог спастись.
Так погибла красавица Кат — синие глаза, и Капитан, лучший на всех морях.
- Мое дело маленькое, — сказал Пирсон. Потом он подождал, пока я отсморкаю свое положенное, и спросил:
- Ну, ты понял? Это же так просто. Я вытер сопли и кивнул.
Потом открылась дверь пивнушки, и меня позвали.
Дорогой дядя, я отошел в сторонку, куда меня отогнали. Я стоял на бровке шоссе и смотрел на склон холма с редким кустарником. Куда именно я смотрел, остальным не было видно. Закрывали кусты, посаженные вдоль шоссе.
- Уходи, чего встал? — сказали мне.
- Сюда движутся люди посерьезней, — говорю.
И тогда все увидели, как на тропинке, сбегающей с холма, остановился человек в сером пиджаке и белой рубашке с «бабочкой». Его хорошо освещало послеполуденное солнце. Через плечо у него висел чистенький автомат. Он крикнул нам не очень повышая голос:
- Всем отойти на край шоссе!
Люди начали подниматься. Оружия никто не взял, хотя оно лежало у них в ногах, в траве, потому что человек был один. Но тогда из кустов на холме появилось много хорошо одетых людей. Среди них были и женщины с детьми. У всех взрослых были гранаты. Они начали спускаться по отлогому холму, и кусты были им по пояс. Человек в пиджаке перекинул автомат на руку.
- Не делайте глупостей, — сказал я, — идет машина. Тот закинул автомат за спину.
Но вечернему шоссе мчалась машина. Марки я не запомнил. Однако заметил, что водитель был один. Она пролетела мимо. Потом показалась и пролетела вторая, третья, еще несколько. И в каждой были только хорошо одетые водители и барахло, накрытое плащами или брезентом. Видно, драп был большой.
Мы и они стояли. Мы по их детям, конечно, стрелять не могли, они наших — закидали бы гранатами. Было достаточно, если б долетело несколько.
- Всем построиться и отойти от оружия, — сказал человек с «бабочкой», — на 300 метров. Нам надо пройти к автобусам, и мы уедем.
Автобусы… Несколько пустых автобусов стояло у бензоколонки за поворотом. Я отступил и в бинокль увидел зрелище, которому не поверил.
К автобусам подлетали эти частные пустые машины, и из каждой из-под брезента, из багажников выпрыгивали «ангелы», штук по пять, и бесшумно вскакивали в пустые автобусы.
Я крикнул стоящим на холме:
- Ни с места!.. Именем закона… Ни с места!
- Какого закона? — презрительно сказала женщина в лакированных сапожках и стала решительно спускаться вниз. Но потом остановилась.
Из-за поворота вылетали автобусы.
- Все в порядке, сэр, — опуская стекло, крикнул водитель первого.
И с холма спокойно пошли вниз хорошо одетые люди, известные по фотографиям из газет, Ферфлюхтешвайна среди них не было.
Когда они спустились вниз, с шипением открылись двери автобуса, и выскочили «ангелы» с тяжелым оружием. Затем из остальных автобусов. «Ангелы» в два прыжка оказались возле спускающихся и профессионально защелкали наручниками. Закон восстановлен. Президент новый. Формация спасена ценой отказа от Апокалипсиса. Хрен с ним. Абы жить по-людски.
Это все я узнал по дороге к бензоколонке, в автобусе, куда и меня прихватили. Всех прихватили.
Из автобуса вывели мужчину с серым лицом, таким же, как его пиджак и «бабочка».
- Сэр, проигрывать надо с достоинством, — сказал старший «ангел», так сказать «архангел».
- Молчи, скотина, я тебе верил…
- Главное, был бы порядок, — сказал «ангел». — Показывайте, сэр.
- Где-то здесь.
Быстро осмотрели помещение бензоколонки. Пусто.
- Погодите, — сказал мужчина в сером, — позовем Гертруду. Женщина, похожая на постаревшую газель, спустилась с подножки. Когда она вошла, тот сказал:
- Гертруда, где сейф?
- Сейчас поищем, — угрожающе сказала она, оглядев стены, и, раздирая юбку, стала лакированным кавалерийским сапогом бить стекла в витрине с почетными фотографиями особо важных клиентов и какими-то дипломами. От юбки остался один лоскут, и тогда стало видно, какая Гертруда вся жилистая. Как римская катапульта.
Ее еле оттащили.
- За витриной, — сказала она.
Витрину отвернули от стены и увидели сейф.
- Сейчас поищем, — сказала она и стала ласкать какие-то металлические украшения. Стена сейфа стала отъезжать. Внутри зажегся свет. Сейф был пуст.
- Обманул. Ах ты, шкура продажная! Проклятая свинья! — сказала Гертруда и выругалась.
- Ферфлюхтешвайн!
- Где? — вскрикнул я.
- Вы же видите, что его здесь нет. Остолопы… — и крикнула: — Сбежал! «Ангелы» тщательно осматривали сейф. Надо было возвращаться.
- Спасибо, сэр, что предупредили, — сказал мне старший «ангел». Я кивнул.
Я шел по пустому, чистому от машин шоссе и думал, чем держала профессора эта жилистая самочка, жена среднего качества, которую надо было одевать даже ценой Апокалипсиса.
Потом вспомнил: ах, да, профессор ведь наверняка знал о предсказании Нострадамуса и о том, что Апокалипсис уже был в день усекновения главы Иоанна Предтечи — 6 августа на Курской дуге и что уже давно наступило воскрешение. Поэтому и понтировал нахально. Хватит, хватит — думал я. Все остальное — подробности. Да и стар уже. А я еще не был в Греции.
21
Дорогой дядя!
В автобусе по дороге из Тольятти в аэропорт, который назывался Кроумоч, я догадался, что пора уже рассказать о «деос экс махина».
«Деос экс махина» в переводе означает — «бог из машины».
Когда боги Эллады кончили свой сезон, а машины — начали, то стали это выражение переводить — «черт из машины».
Как правильно, я не знаю. Все зависит от взглядов на ту постороннюю силу, которая внезапно решает все проблемы, в которых запутались персонажи.
Идет на сцене трагедия, конфликт уперся в неразрешимое противоречие, и автор не знает, чем кончать пьесу. Куда ни кинь — все клин, не трагедия, не комедия, а так… ни то ни се. Чем же кончать спектакль?
И придумали — в финале выпустить потустороннюю силу, которая все уладит.
В давние времена актера с грохотом и аффектами поднимала над сценой машина, в новые времена этот «черт из машины» сам приходил.
Вдруг появлялся дядя богач и раздавал всем сестрам по серьгам, или оказывалось, что сиротка-то — граф и может жениться на искомой графине.
И все же «деос экс махина» оставлял зрителя неудовлетворенным. Конфликт на сцене улаживался, а к жизни отношения не имел. Так как не каждый зритель был неопознанный граф. Да, конечно, бывает, как неожиданный выигрыш в рулетку, но рассчитывать на это нельзя. На бога, даже из машины, надейся, а сам не плошай. Так оно и шло.
Но постепенно накапливался другой исторический опыт. И стало помаленьку ясно, что по отношению к жизни все финалы на сцене, даже без «деос экс махина», — липа.
В жизни — любой финал есть начало другого цикла жизни. И любой зритель это знает, и именно поэтому все еще жив.
И зритель начал сомневаться в сути конфликтов драмы. И несмотря на потуги рекламы, искусство конфликта все меньше влияет на жизнь, хотя и тщится доказать обратное. И теории сочиняет, и лапками скребет, да что толку? А когда-то было иначе.
Мне кажется, я догадался, в чем дикая и печальная несхожесть сцены и жизни, искусства и действительности, мечты и возможности. Мне кажется, я догадался. Я думаю, что надо изменить в корне отношение к «деос экс махине» не только на сцене, но и в жизни. Мне кажется, что именно «деос экс махина» и есть подлинный финал любого конфликта в жизни, а стало быть, и на сцене.
Но это надо понять, а поняв — применить. И тогда искусство снова станет высоким рассмотрением жизни, а не безделушкой или иллюстрацией к тому, что зрителю известно и так.
Мне кажется, я догадался, почему такое искусство почти утратило моральный авторитет для всех, кроме уж очень молодых, начинающих и наивных. Для взрослых же оно — лишь необязательное отвлечение от производства и забот дня, то есть от того, что есть на самом деле.
Все дело в том, что вместе с грязной водой выплеснули и ребенка.
«Деос экс махина» — это не вопрос вкуса, не сценический трюк. Когда-то за ним стояла философия. Теперь ее надо перевернуть с головы на ноги.
Она устарела? Ну и «деос» с ней. Но она была основана на реальном опыте, который говорил, что если всеобщая жизнь существует, несмотря на личную смерть каждого зрителя, значит, разрешение любого конфликта и в жизни и на сцене лежит за пределами схватки бойцов и фигурантов. То есть, что хотя смерть предстоит каждому, но преждевременная смерть вовсе не обязательна. То есть, что смерть из-за конфликта вовсе не есть закон, и что законом как раз является обратное положение. То есть, что конфликт в жизни в девяноста случаях из ста разрешается не смертью и даже не хитрой интригой, а как раз обстоятельствами, не имеющими к данному конфликту явного отношения. То есть, людской опыт показал, что в 90 случаях из 100 конфликт в жизни снимается потому, что наступила новая жизнь, для которой прежний конфликт просто несуществен, не имеет значения, устарел, смешон, и история расстается с ним, смеясь.
И что тот из участников конфликта, который очнулся от гипноза и наркоза, видит, что пришло спасение, и живет дальше. А кто не очнется — гибнет. Это и есть жизнь. Все остальное — драматургия, откуда второпях изгнали дешевый сценический прием, не замечая, что вместе с наивным, фантастическим объяснением выкинули и гигантское реальное обобщение.
Если у людей, у народа, у человечества отнять веру в то, что дело идет к лучшему, то не только искусство становится необязательным психозом, но и жить незачем. Если бы сын умел читать, я бы написал ему такое письмо: «Сынок, ты был зачат бессознательно, но оставлен жить — сознательно. Три месяца медицина дает на принятие решения. Сынок, неужели я бы сознательно обрек тебя на муки жизни, если бы знал, что они обязательны? Я уверен в обратном. Я люблю тебя, сынок.
И поэтому я приступаю к огромной теме — выручке со стороны, которую назову „деос экс махина“ именно потому, что этот прием на сцене и в обязательном искусствоведении давно опозорен. А это у меня вызывает смех.
А смех, как ты давно понял, есть внезапное избавление от престижа. Так вот, сынок, ты в моей жизни и есть выручка со стороны.
Неожиданная, случайная, божественная. Все остальное было всего лишь исполнением обычных желаний. Которые, конечно, кончались именно потому, что исполнились». И мы прибыли в аэропорт Кроумоч.
22
Дорогой дядя!
Потом нас повезли автобусы. Греция. Я здесь еще не был.
Афины похожи на курортный город. Типа Сухуми, только большой. Пальмы. Олеандры. Только пыльные.
Потом повезли на смотровые площадки. Было очень красиво. Греция все ж таки. Автобусов уйма. Приезжают со всего света.
Потом нас повезли на последнюю площадку. Вылезли. Тропа, старые плиты, а по бокам пыльная трава, кустики. День был не жаркий, просто теплый прекрасный день. Поднимаемся на холм. Наверху голая площадка. Каменные плиты. Все говорят, говорят. Еще шаг.
Дорогой дядя, в этом шаге все дело. Я не знаю, как рассказать.
Вдруг, как в кино, отключили звук, и я ничего не слышу. Пошли длинные секунды. Я только смотрю. Вдали, в километре — как модель храма из Музея изобразительных искусств в Москве — Парфенон. Греции нет. Эллада.
Потом услышал голоса. Стали снимать друг друга на фоне храма Афины, на фоне Эллады. Сверху было видно, как поток людей движется там, внизу, и поднимается в Акрополь, — разноцветные точки.
Потом и мы оказались внизу и пошли вверх. Парфенон.
Вокруг храма валяются мраморные перемеченные обломки, чтобы не сперли их. Белый мрамор? Нет, его не было. Мрамор цвета охры, изъеденный кислотами дрянных современных дождей.
Скульптуры с фронтонов и метоп — вывезены вшивыми чиновниками Британии. Платили взятки вшивым турецким чиновникам, потому что Греция тогда принадлежала Турции. Извините, турки и британцы. Это было давно. Теперь вы совсем-совсем другие. Я нашел только одну метопу. Ее не украли потому, что от кентавра там осталась еле видная тень. Как после Хиросимы — от мужчины на стене.
Что внутри? Ничего. Все завалено обломками. Там был вшивый склад вшивого пороха, и он взорвался.
Эрехтейон больше сохранился. Там сперли только одну кариатиду. Теперь делают попытки ее восстановить. Поэтому маленький храм в прозрачных строительных лесах. Эллада. Дом сердца моего. Место, где зародилось все, чем гордится вшивая Европа. Ну ладно, дорогой дядя, ну не вшивая. Это я так. Осерчал.
Спорят о том — надо ли восстанавливать Парфенон. Все еще спорят эстеты и другие прохиндеи, а в Польше восстановили Старо Място, а в Ленинграде — Петергоф. Какая разница, из каких камней построен Дом Сердца Моего — старых или новых. Нет новых камней. Все камни старые. Но Парфенон должен быть. Должна быть память об Элладе, где у самого захудалого философа больше оригинальных мыслей, чем у вшивого канцелярского Рима, вшивого канцелярского Средневековья, не говоря уже о нынешних вшивых временах. За исключением мыслей о коммуне, конечно, о которых все знают и все время стараются опровергнуть. Эллада. Эллада. Эллада.
У самого грандиозного драматурга Европы Шекспира вшивый Макбет, науськанный вшивыми ведьмами, грызется за вшивую власть, которая будет состоять в том, что он будет жить в каменном бункере и носить на шлеме необходимые ему перья, которые можно добыть на Птичьем рынке или в любом курятнике, а потом умрет. А гнев Ахилла вспыхнул потому, что ему не достался драгоценный щит с драгоценными барельефами, созданными драгоценным талантом.
Люди у Шекспира грызутся друг с другом, а в Элладе воюют с роком. Знают, что рок сильнее, но не хотят подчиняться. Эллада, Эллада…
Потом все вразброд тихо спускались обратно, и у каждого в кармане был билетик-сувенир с головой Перикла и со словами по-гречески — цитата его речи о том, что такое республика Афины.
Разноязычный говор, и я услышал слова молодого мужа, обращенные к молодой женщине с ребеночком, сказанные по-польски: — Юж конец.
Бытовой перевод — вот и все. А перевод сердца — вот и конец.
Нет-нет, я не плачу.
Эллада.
Они были не в курсе. Они не знали, что все еще только начинается.
23
Дорогой дядя!
На прошлое не повлияешь, что было, то было. Но на будущее — можно. Всякое посещение будущего уже влияет на него. А посещаем мы постоянно. Это называется — воображение. И иногда предпринимаем что-нибудь, а иногда — ждем.
Но никто не хочет поверить, что само воображение кое-что стоит. Так, развлеченье. Когда мы воображаем будущее, мы на самом деле в нем бываем, но видим то будущее, которое сложилось без нашего в нем участия, без наших «находок».
И если реальное будущее оказывается не таким, как мы воображали, то это потому, что и другие воображали его по-своему, а некоторые и не воображают вовсе, а пытаются вычислить. Пытаются вычислить его как неживое и неизобретательное, то есть как машинный ресурс.
Но почему же мы не знаем, что будет с нами иногда завтра, иногда через мгновение? Потому что мы не знаем, что придумывают в этот момент другие люди, от совокупных действий которых зависит наша судьба. Как и ихняя. Как же быть?
Надо вступить в контакт с их воображением.
И чем больше людей вступят в контакт на этом уровне, тем больше воображаемое будущее будет похоже на то, что будет на самом деле.
В принципе, если вообразить универсальное будущее, то есть такое, которое устроит всех, то оно такое и будет. То есть можно его предсказать. Почему бы и нет? Но для этого надо знать свои истинные желания. А их открывает только восхищение.
Дорогой дядя, сложилось мнение, что будущее в принципе неизвестно. Это неверно. Не так стоит вопрос.
Оно неизвестно потому, что все либо хотят поделить на всех одно и то же, либо хотят умножить неумножаемое, то есть разное. А надо складывать.
То есть у их желаний нет согласованности, потому что они не сложены.
Но если разные желания согласованы, то будущее становится почти предсказуемым.
Слово «почти» падает на тех, кто сами не знают, чего хотят.
Но когда мы вступаем друг с другом в контакт на уровне воображаемого будущего — мы и бываем в нем тем ближе к действительности, чем больше наши желания согласованы, не одинаковы, а согласованы.
Восхищение непроизвольно. Потому что оно — сумма истинных желаний всех клеток человека, каждая из которых хочет чего-нибудь такого и особенного. Но если люди, которые из этих клеток состоят, сживаются, то их желания начинают почти совпадать. В просторечии это называется словечком «любовь».
Говорят, любовь прозорлива. Верно. Но она видит лишь возможное будущее. Реальное же будущее зависит не от одного, а хотя бы от двух, многих, всех. От товарищества.
Я однажды любил пять миллиардов людей и увидел их будущее через тысячу лет — какое оно будет при моем участии и участии таких, как я.
Это было не совсем то, что мне хотелось. Но близко.
Прошлое уже было. Его можно только изучать. И вообще — все, что изучают, — всегда прошлое. Влиять можно только на будущее, которое все время меняется в зависимости от количества его создателей и мощи их контакта, то есть от любви.
Злоба бесплодна, слезы бессильны, хохот — это освобождение. Но только восхищение сотворяет все на свете. А если оно совместное, то можно залететь в то будущее, которое сложится при твоем участии. Пора было лететь, дорогой дядя.
Действия затухают. Они рабы термодинамики. А плоды восхищения — прорастают. Так как все время добавляется энергия чьих-то истинных желаний. Пора было лететь.
Почему у давних пророков кое-что сбывается, а остальное, по большей части, — липа? Потому что они ничего не предлагают от себя лично, кроме проклятий за грехи и уговоров улучшаться.
Мы согласны улучшаться? А как это сделать?
Все давние Апокалипсисы — это посещение будущего на уровне науки и творчества своего времени.
Все Апокалипсисы — это то будущее, которое было бы, если бы люди не изобретали, чтобы его не было.
Лечу.
24
Дорогой дядя!
По дороге времени я, конечно, не удержался и слегка притормозил, чтобы увидеть конец мужа Кристаловны. Как ни странно, он совпал с концом Ферфлюхтешвайна. Впрочем, чему же удивляться?
Еще когда прибежала Кристаловна и, захлебываясь слезами, сказала, что ее бывший муж вошел к ней проститься и умолял простить его за все, а потом ушел в нужник и не вернулся, то оцепили весь поселок, чтобы не дать ему улизнуть. Сломали дверь нужника и никого не нашли.
Но я им снова сказал — ищите здесь, так как сразу заподозрил тайник. После того, как я отменил Апокалипсис, ко мне прислушивались. Когда вычерпали все, то на дне нашли люк. Потом обнаружили коридор, ведущий невесть куда. Коридор был из чистого золота, свежевыработанного, поэтому в коридоре все еще дурно пахло.
Коридор был неимоверной длины, поэтому, чтобы не задохнуться от выхлопных газов, по нему помчались на велосипедах, переговариваясь по рации.
И где-то, вы не поверите, аж под самой Атлантикой они настигли мужа Кристаловны и, к своему изумлению, профессора Ферфлюхтешвайна. Оба сидели на полу обнявшись и стонали.
Сначала подумали об их примирении. А оказалось, они без сил.
Ферфлюхтешвайн тоже пользовался сапожниковской выдумкой. Энергия бралась от двигателя, сходного по устройству, но лучшей конструкции.
Каждый из них вел коридор навстречу друг другу, но противоположными методами. Один превращал фекалии в золото, другой тратил золото и превращал его в фекалии. Один создавал богатство, другой — дефицит.
На середине они столкнулись. Победа одного означала конец другого. И наоборот. Экологические двигатели работали, уничтожая плоды обоих.
Когда все закончилось, мне предложили ого-го какой пост! Но я отказался и стал писать давно задуманную картину — в голубом цвете и слегка коричневом.
Но, видимо, не надо было мне тормозить по дороге времени, чтобы полюбопытствовать, чем же все-таки кончилась эта история с золотом и дерьмом. Полет резко прервался, и давно задуманная картина — тоже.
25
Дорогой дядя!
Я снял пиджак, штаны и бежевую рубаху и вот лежу на песчаном пляже неаккуратного, некурортного моря. Я так понимаю, что где-то в районе города Одессы. Раннее-раннее утро. Дико после сна захотелось выкупаться. Поплескался, окунулся, освежился.
Вышел на берег, надел плавки, которые, видимо, оставил на песке — потому что они совершенно сухие. Странно, почему не заметил, что купался голый? Утреннее солнце светит со стороны берега на море.
Дальше я замечаю себя в привычном отчаянии — опять где-то все растерял по дороге. Что дома скажут? Не надо было пускаться из дому, если человек отвык. Что я скажу насчет бежевой рубашки? В конце концов, я махнул рукой. А где она может быть? Ясно же, что там, где и остальное, если сперли все. И тут я понимаю, что куда-то ехал.
И вдруг вспомнил, логически вывел, что был пиджак с документами, и даже вспомнил этот пиджак и как он висел на «плечиках» в купе поезда. И начинаю сомневаться, что его сперли на пляже, а может, я его забыл еще в поезде, когда пошел купаться. Видно, все несчастия навалились на меня сразу. Чувство отчаяния усилилось.
Я в плавках пошел с пляжа вверх, к кустам, за которыми, я знал, железная дорога, чтобы вернуться на станцию. Сквозь кусты видны крыши пассажирских вагонов. Я продрался и увидел забор из сплошных досок, над которыми только крыши вагонов и бледно-голубое утреннее небо, теперь солнечное — впереди справа.
И тут я увидел, что крыши вагонов тихонько тронулись с места. Куда уж! Высокий забор.
И тут я вдруг сообразил почему-то, что это именно мой поезд сейчас уходит. Еще одно несчастье. И чересчур забор высокий. И я вдруг решил сделать последнюю попытку.
Подпрыгнул, ухватился за край забора и неожиданно легко перелез через него. Спрыгнул на тенистый песчаный откос, мимо которого медленно двигались пассажирские вагоны. Вот почему за забором были видны только крыши — поезд шел в низине. Вагоны идут близко, в левую сторону, и все двери закрыты, и нет подножек. Но потом я увидел поручни.
Ухватился, повис на несколько секунд для пробы. И соскочил на откос. На одних руках не проедешь, а внизу черные масляные шпалы. Услышал голоса.
Двое промасленных, неопрятных, как шпалы, мужчин справа рысцой приближались по откосу. Лиц не было видно, так как справа светилось небо и над забором свешивались лапы железнодорожных сосен. Они бежали ко мне, переговариваясь, и у одного в руке сверкала бутылка.
Я отступил к забору и по разговору понял, что они намереваются подцепиться к поезду. Каким образом?
Приближались последние несколько вагонов с поручнями и подножкой. И вдруг я решился. Я вспомнил, как сиганул через забор.
Я прыгнул вбок и слегка вниз и схватился за последний поручень последнего вагона. Ноги мои внизу ощутили подножку.
Я ехал. Поезд ускорял ход. И меня сносило.
И вдруг я увидел, как слева приближается какое-то железнодорожное сооружение ржавого вида. И когда я прижимался к вагону, то повис на одной ноге, на самом краешке подножки. Сооружение проехало мимо.
Я с трудом дотянулся обратно, так как движение поезда откидывало меня назад. И еще ожидался ветер, когда поезд пойдет быстро. А спереди опять приближалось такое же ржавое, и я опять прижался, а потом еле вернулся в исходное положение. А сколько их еще впереди? Не выдержать.
Я уставился на закрытую дверь и хотел постучать. Но для этого надо было отпустить руку, а я как раз висел на подножке на одной ноге и подтягивался обратно. И все же я, вернувшись к двери, на секунду отпустил, оторвал руку от поручня, стукнул ею в дверь, и опять схватился за поручень. Потом ударил в дверь лбом. И вдруг увидел, что треугольный стержень замка поворачивается. И дверь открывается. Я увидел лицо возмущенной проводницы, я услышал, как она потребовала немедленно спрыгнуть с подножки, и успел сказать:
— Ради бога, впустите, у меня украли одежду и документы, ради бога впустите… Этот поезд в Москву?
Она смотрела на меня, соображая. Потом кивнула.
Будущее не вытекает из предыдущего, как обычные причина и следствие. Каждый этап будущего — это новая порция жизни, которая заново приспосабливается в том же объеме ко всей предыдущей жизни, и значит, должна изобретать для себя новую функцию в этой жизни.
Н-да-с. Оказывается, можно вскочить на подножку и постучать. То есть можно что-то сделать. Но не паническая активность и не апатия, а деятельная изобретательность. Как говорится — ищите да обрящете, толцыте — и отверзется.
Кивнула, дорогой дядя, проводница кивнула.
Нет, думаю, надо еще разок рвануть в серьезное будущее.
26
Дорогой дядя!
Бесшумные аппараты летели так низко, что их можно было сбить бутылкой. Сахары нет. Три урожая в год. Я попал на посевную. Они мне сказали:
- Ваши нынешние локальные войны — это не подготовка Апокалипсиса, не дрейфьте, а то, как вы будете воевать после его отмены. Сейчас просто вспышка страстей иерархов, агония самой идеи войны.
Это меня успокоило. И еще меня умилило, что они употребляют наши словечки типа «не дрейфьте».
- А музеи у вас есть? — спросил я.
- Есть.
- Покажите.
И я увидел музей оружия.
Там было все — от неандертальских боевых топоров и парадного оружия до банок с отравляющими порошками и лазеров, которыми можно лечить зуб и резать проволоку, а можно резать спутники и со спутников — Землю.
Но там было и то, что мы оружием не считаем: вилы, косы, молотки, мельничные жернова, под которые португальские командиры в Индии бросали детей, слоны, собаки, змеи. А так же кастрюли со слюной и мочой из кухонь коммунальных квартир, чьи-то зубы, отстриженные ногти, планы генеральных штабов, и золото, и банкноты. Среди орудия пыток я увидел крысу и армейский переносной телефон с ручкой, и даже домашний телефон с диском. Это было понятно. Каждое материальное тело и каждая мысль могут быть из орудия превращены в оружие. Все может быть оружием. Можно драться и шепотом и на экскаваторах. Но я не понимал смысла этого собрания. «Во дает! — сказали они. — Это ведь музей идеи вражды». Они все время употребляли наши словечки.
- Чтоб вам было понятно, — объяснили мне. Тогда я спросил их:
- Значит, пророки лгали… Которые там предсказывали Апокалипсис. А ведь ссылались на господа бога.
- А вы не обратили внимания, что нигде и никогда не обсуждался вопрос — на хрена всеведущему богу было создавать мир, если он наперед знал, что он его уничтожит.
- Значит, вы считаете…
- Ну, конечно, — сказали они, — пророки видели то, что может случиться, если не переменить способ жить. Они видели угрозу. Обычно она возникает каждую тысячу лет. Ладно, переменим тему.
Тогда я спросил печально:
- А картины… Картины?.. Ведь были же музеи картин.
- Картины у нас на складах. Каждый может получить любую навечно или менять их. Обычный тираж.
- Но ведь картина одна. Она след руки. Все остальное — репродукции.
- Господи, — сказали они, — след руки мы давно освоили. Вот как бы освоить его владельца?
Значит, и они не все знают?
- Восстановление по черепу и «шкилету»? — спросил я.
- Эта идея бессмертия зашла в тупик. Других пока нет. Но есть человек, который над этим работает.
- Кто?
- Ваш сын.
- Мой?! — вскричал я. — Откроет бессмертие?
- Что вы таращитесь? — сказали они. — У такого самонадеянного папаши, как вы… И я опомнился и стремглав влетел в свое время.
И в самый раз. Кефир чуть не свернулся.
Сынок глядел на меня дружелюбно и, приплясывая в манеже, исполнял северный танец. Реальные «уголки» поскрипывали. Надо было менять ему трусы. Тогда я опять рванул в будущее, но значительно ближе.
Я всегда ужасно боялся залететь лет на восемьдесят вперед — так как боялся не встретиться с сыном. Однако не удержался попробовал — увидел его молодого. Оказывается, он научился омолаживаться и не стареть.
По-видимому, с этого начиналось бессмертие. Но вот беда — полная каша «времен». Представляете, каждый живет в своем возрасте — какой выбрал, в том и живет.
- Отец, — сказал он… — Напрасно ты пишешь неизвестно кому… «Дорогой дядя!» Он еще не может прийти, твой «дорогой дядя», он занят.
- Да, знаю… Знаю… Но я пишу, чтоб, когда он придет, он знал, как мы жили… А придет?
- Придет, — сказал он. — А как же! И запнулся.
Видно, были причины помалкивать. Я ему говорю:
- Сынок, память о прошлом нужна, чтобы исправлять воображаемое будущее.
- Настоящее?
- Нет, именно будущее… Его не вычислишь. Как можно вычислить будущие выдумки?
- Это верно, — сказал он.
И тут я подумал — ведь если такая каша времен в моей голове, значит, и мой сынок…
- Послушай, — говорю, — получается, что когда ты был маленький…
- Ну да! — сказал он.
- Погоди… Соображу… Значит, ты родился ко мне из будущего?
- Ну да, — сказал он. — Сейчас я работаю над тем, как восстановить тебя и маму.
- Ну и как?
- Есть кое-какие идеи.
- А нельзя ли слетать в будущее и там узнать, получилось восстановление или нет?
- Без толку, — сказал он. — Они еще этого не умеют.
- Почему?
- Я же еще это не придумал.
- Чудак, — сказал я, — а ты залети не так далеко и узнаешь, что именно ты придумал.
- Я так и делаю. Уже сто раз так делал, но все узнаю порциями, черновики, варианты, и снова возвращаюсь.
- Черновиков не бойся, — говорю. — В наше время это называлось вынашивать.
- Какая разница, — сказал он с раздражением. — Меня это изводит.
- Сынок, — сказал я, — а ты посмейся.
Он начал смеяться, и мы опять очутились в сегодняшнем дне. Но я запомнил, что он мне написал на бумажке после некоторого колебания, а бумажку порвал. Он написал: «Зачем восстанавливать всего человека? Надо восстанавливать его семя». Вот, оказывается, по какому пути пойдет бессмертие.
И под мое «бурдым-бурдым», держась за перекладину манежа, он исполнял танцы северных народов.
Господи, как он вырос: уже все передние зубки.
27
Прощайте, сир, самолет приземляется в московском аэропорту, и я возвращаюсь из поездки в две полужизни, как вы заметили. И несмотря на ваши тысячелетние старания, я возвращаюсь с восхищением, сир. Все подтвердилось.
Применить к жизни опыт поведения художника на холсте — это и было бы искусством жить. Не наука жить, она здесь подспорье, а именно искусство жить. А всякое искусство начинается с восхищения. Если не восхитился — искусство еще не началось. И никуда от этого не денешься.
Нелепо говорить: «Восхищение — чувство коварное. Оно может завести куда-нибудь и так далее». Всё куда-нибудь заводит. Нет такого явления, которое бы куда-нибудь не заводило. Развитие — это движение.
Поэтому не чувство восхищения коварно, а те, кто этим восхищением коварно пользуется, безразлично кто — шлюхи или фюреры. Восхищение — природное чувство, но если им вероломно пользоваться, то чего удивляться, если вера ломается? Это не игра словами, это их забытый смысл.
И самое страшное вероломство — это когда у человечества ломают веру в то, что его смекалка, его жажда и сила жить, его способность излучать свет всё одолеют, и будущее будет.
Речь не о том, чтобы забыть прошлое, а о том — как бы не забыть будущее. А оно родится только от восхищения тем, что есть реально, сию секунду. Никто еще никого не родил по памяти или по воображению. Родят от восхищения тем, что есть. Сколько ни болтай об этих делах, импульс к зачатию всегда — восхищение тем, что есть, хоть на секунду, но тем, что есть.
Восхищение! Природное свойство человека: секундное, божественное, забытое, затюканное, внезапное, незначительное, всеозначающее…
Когда мы изучаем ушедшую культуру — мы изучаем ушедшее восхищение.
Человек живет надеждой на восхищение. Если восхищаться надежды нет — остается дожитие.
Обманут ли человек вероломно, обманулся ли он сам, верит ли он, надеется ли он, любит ли, мудрец он или только софист — это лишь меняет дело, но не отменяет его. Движение жизни, перспективы ее, святой ее аврал, развитие, расцвет, рассвет — все зависит от восхищения.
Потому что восхищение с восхищением не враждуют, враждуют их бесплодные последствия.
Простите меня, дорогие детишки, но, мне кажется, — это и есть искомое ключевое Слово, которое может уладить все, если в него вдуматься. Все — понимаете?
Восхищение.
28
Дорогой дядя!
Это не рассказ о тольяттинцах и поэтах, это то, что я хотел бы им рассказать.
29
Дорогой дядя!
Последнее, что мне дано было увидеть там, вдалеке, — это первый день Возвращения Бессмертных.
Ночь заливала площадь трех вокзалов, а я увидел сияние времен. Пошли художники. Потом притихло — вышел безбородый старик с измятым лицом. На голове — чалма-полотенце. Он смеялся беззубым ртом, и я не выдержал и пал ему в ноги. Клянусь честью, он провел ладонью у меня по плечу и что-то сказал по-староголландски. Ангел-щелкопер перевел: не дрейфь. Отстранив суетившихся ангелов-щелкоперов, старик взял первую попавшуюся кисть, сунул, не глядя, в первый попавшийся горшок с краской и начал лепить на холсте хаос, из которого вдруг стал остро сиять чей-то взгляд, запомните — не глаз, а взгляд.
Он работал, нарушая правила всех Академий, анатомий и перспектив, он работал, беря что попало из каких попало горшков, он работал любой грязью земли, и у него выходило всегда одно и то же — Его Величество Человек. Он работал МИР из подручных средств, выясняя по дороге свои желания, а хотел он всегда одного и того же — Человечности.
Грохотали одноногие шарманки и панфлейты всех необузданных органов, смеялись ирландские скрипки, банджо глохли от консервного пляса, сумасшедшая балалаечка подставляла плечо раненой трубе Армстронга.
Где-то вдали елозили и шептали кисти всех выпученных амбиций. Что-то вылизывали пидлабузники, и порхали легкие слова — турнюры, гипюры, купюры и исчезали в хорошо оплаченной пыли.
Но свистели нищие кисти Франса Гальса, Модильяни, Домье и Ван Гога, и мир освобождался от блевотины симметрии и блевотины безумия и представал ликующим ритмом.
Потому что не звезды творят ритм, а ритм творит звезды. И человек отличается от других существ, живых и выдуманных, только одним — человечностью. Все остальное у него как у вируса.
Так работал Рембрандт Ван Рейн — Освободитель.
…Пустота в моем мозгу, накрытом чашей черепа, забирала тепло из клеток мозга. Электронный газ свободно метался в моей пустой башке, складываясь во что попало, и был похож на что угодно.
Электронные облака складывались в то, что было угодно всему живому, что населяло Землю и ее окрестности — всю гигантскую утробу Космоса с его раем, адом и бесчисленными сгустками копошащихся галактик, часть которых схлопнулась и уже не светилась ни фига.
И вся гигантская утроба Космоса, вся плацента, где зарождалась Новая Вселенная, все огромное брюхо — неслышно и грозно тряслось от хохота, расставаясь со своим прошлым, но расставаясь медленно.
Я вышел на площадь трех вокзалов. Была ночь.
Я вышел на улицу пустую, как перед понедельником, и закричал, как только мог, сильно: — Ульяна, Костя, Три! Анна-Анна, Борис!
Что это такое, кроме меня и детей, не знал никто, но мы знали, что это — позывные детской радиостанции. И эфир пробила морзянка.
Сначала заработала одна детская радиостанция, потом к ней подключились другие. И я передал декларацию для распространения по всему миру:
ДЕКЛАРАЦИЯ
Если это все не кончится, я:
1) Сначала сделаю всех бесплодными.
2) Потом уведу наличных детей своей дудочкой.
3) Потом оставшиеся самцы начнут ускоренно стареть, потому что будут стареть их самки, а новых не будет.
4) Потом старые развалины останутся среди разваливающихся механизмов.
5) Потом, когда все старье передохнет, я верну на Землю детей, которые, воспользовавшись парадоксом Эйнштейна, повзрослеют только на год. Подпись: Странствующий Энтузиаст.
И декларация ушла в мир.
Прохладный воздух сильной упрямой струей бил слева наискосок между домами. Ночь воли, ночь танца, ночь рук, ног и души… Рельсы плясали, и я слышал какой-то упорный ритм, не то это бьются тельняшки на ветру, не то это бегут босые девчонки. Окна вспыхивали и гасли вдруг разом, по этажам. Ветер… Воля… По улицам пошли джазисты… Все ихние нынешние провода оборваны, и усилители брошены… золотые трубы кричат и скрипочки, которые уцелели от анализа.
Все каменное, стальное, мурло-дохлое, коксо-химическое, все непристойно-мертвое либо обрело душу, либо громоздилось в свалки. Только ветер и воля, и песня, и танец… все это было в голове и в душе, но это было… Ни капли водки, пива, виски, чачи, цинандали, кинзмараули, денатурата, «Тройного» одеколона, бордо, бурды, спирта, ни капли дыма сигарет «Мальборо» и «Беломор-канала», никакого наркотика, кроме ветра, воли и человечьего танца, и голоса.
Все танцы оставил я, кроме тупых, припадочных и истерических, кабацкие, не кабацкие — не все ли равно — вольные. Все песни оставил я — по штуке и шутке от народа… Из русских я оставил гениальные «Валенки» и голос Руслановой, из одесских «Зануда Манька», из греческих — «Сиртаки», из негритянских — голос Глории Гейнер, не знаю, как называется песня, — передавали по «Маяку» 3 июля утром — число я запомнил потому, что в этот момент услышал, как медленно, со ржавым скрипом, распространяя зловоние, рушится Апокалипсис со своей камарильей, которая вздумала пошутить над жизнью. Я не знал, откуда я это знал, но я всегда знал.
Родилось… третье тысячелетие. Тупые ангелы с воблиными глазами влипли в стены, и я безмятежно рисовал нимбы над их головами. Анархисты, леваки, экстремисты, куцые черти из «красных бригад», бандерши, хиппесные воровки и мафиози забились в щели, в помойки, в колбы, и я уронил их на дно морей в нержавеющих банках из-под пива. По улицам, бесшумно вываливаясь из трех вокзалов, шли люди, реальные и выдуманные. Земля тряслась под ногами Пантагрюэля, Панург играл на свирели Пана, а монах, любимый брат мой Жак, смеялся, неистовый работник Балда трепал черта, Санчо Панса плясал шотландскую джигу, великий Швейк спорил с Гашеком об орангутангах, а сам Гашек изображал немца-колониста, идиота от рожденья, Громобоев щелкал подтяжками, и неслась по асфальту, летела босиком Минога — песенка тростника.
- Спой, Гошка, — приказал Витька Громобоев.
- Нет…
- Спой! — крикнула Минога издалека, ветром опрокидывая мотоциклы, Девчонки с длинными каштановыми полосами заиграли на ирландских скрипках.
Из Ярославского вокзала выбежала греческая флейтистка и мраморно села на бордюрный камень тротуара.
- Балалайку, балалайку… — успел прошептать я. — И трубу Армстронга…
И отключился. И возликовал. И слезы брызнули у меня от беспамятного восторга. И я закричал, как мог сильней и ужасней:
Проиграл я на райских выгулах Все имущество и рубли! И господь меня с неба выволок И велел лететь до Земли! Микрофон повеленье прогавкал! Подтолкнули пониже спины! Томагавки вы, томагавки! Иностранные колуны! Я лечу, поминая маму, Что планетою мы зовем! Я лечу, как репей упрямый, И хочу настоять на своем! Встречный ангел меня не понял И мигнул со старой доски! Мимо ангелов мчатся кони Бесконечной моей тоски! Люди били, и годы били! Нищета — хоть в кулак свисти! Где ж вы, ангелы, жили-были, Чтоб от жизни меня спасти?! Эй, планета, к дерьму прикована! Трубки мира рассвет трубят! Божьим промыслом атакованный, Я лечу полюбить тебя! Не боись, планета порватая! В сорок третьем был Страшный Суд! И опять, рукава закатывая, Снова нищие мир спасут! Приземляюсь! Залег в бурьяне! В парашюте полет зачах! Басни кончились! Плащ мой рваный! Пыль и снег на моих плечах! Я планету от страха вылечил! Каждый выжил в своем краю! Мы — земля! Мы дети чистилища! Непристойно нам жить в раю!30
Дорогой дядя!
Я поднялся в лифте и постучал в дверь своей квартиры! Я пробовал звонить, но звонок не работал. Конечно! Достаточно уехать в Элладу, как пропадает контакт, и надо бухать в дверь ногой.
Я давно подозревал, что «дорогой дядя» и «деос акс махина» — мое спасение со стороны — это одно лицо. И наконец я с ним встретился. Лицом к лицу.
- Это ты там купил? — указывая на мои пиджак и трусы, спросила жена Субъекта, напирая на слово «там».
- Проводница подарила, — сказал я.
- А где твои одежда и чемодан?
- Сперли на пляже в Одессе. Она вздохнула:
- Только у нас может так быть.
- Там тоже воруют! — парировал я. — В чем дело? Вам мало, что я Апокалипсис отменил? На хрена вам сувениры?
- Расхвастался, — сказал Субъект. — Жена, заткнись.
- Где он? — спрашиваю. — Где мой «дорогой дядя»? Мой «деос экс махина»?
- Сейчас выйдет. Он много работал, сочинял, теперь он отдыхает. Он попросил валенки.
- Летом?
- Возраст все-таки.
На столе я нашел письмо от матери моего ребенка. Я его потом приведу полностью, а сейчас последнее отклонение. Я возвращался.
Родной дом живет. Завод работает. Что же изменилось? Конечно, я сам и люди — одни растут, другие стареют.
Человечество рождается — ребеночек планеты. Ну, посмейся над нами, посмейся, малыш. Но если ты родился, то все недаром — и наше гнусное богатство, и наша гнусная нищета, и наше гнусное расточительство, и наш способ жить, лишь поедая неразумного, а не лаская его насмешливой нежностью, и наш гнусный опыт наркоза, гипноза, мафиозо и Ломброзо, наше гнусное неумение замечать перемены, и наша гнусная боязнь ликования. Посмейся, малыш. И начинай складывать судьбу, а не умножать будущие бегучие растраты. Человек может надеть только одну пару ботинок, вторую — разве что на руки, третья будет болтаться на шее, связанная шнурками, а четвертая — в мешке за спиною, ожидая дня, когда ее выкинут. Малыш, нельзя жить, таская на горбу мешок ботинок, переодевая их на каждом шагу при встрече с другим мешочником. Малыш, скинь туфли узкие — и босиком — была такая песенка. То же самое сделает девчонка. Все равно так будет, когда вы останетесь наедине.
Ботинок — защита ноги. Его надо оставлять там, где работают. А мы даже по асфальту и по траве не ходим, не идем босиком. Пыль? Грязь? Сейчас в каждом доме ванны. Малыш, мы даже в личных машинах ездим в ботинках.
Малыш, мы визжим, когда наступаем друг другу на ноги. Визжали бы меньше, если бы наступали босиком. Но кто из нас на это пойдет? Самое прекрасное, что я видел, — это когда босая девчонка садится в машину.
Мы мечемся по планете не за впечатлениями, а чтоб не воображать. А без этого нет будущего.
Мы все время болтаем об уровне жизни, а он уже давно достигнут. Но его каждый раз приходится вытаскивать за шиворот, как пьяного с телебашни. Потому что уровень жизни пожирают наши растраты и жадность жрецов, одуревших от страха, что они живут один раз. Малыш, представь себе, я видел женщин средних лет, купающихся в море, не снимая с пальцев и ушей дорогостоящих «булыжников».
Малыш, у человека одна одежда — тело. Все остальное — амуниция, эрудиция, амбиция, инквизиция. Речь не о том, чтобы ходить по морозу голым, а о том, что норма достигнута, а все остальное — турнюры, педикюры, маникюры, куафюры и другие покупные, а главное, продажные шкуры. Старухи и старики не тогда уродливы, когда постарели, а когда видно, что они всю жизнь жрали даром без очереди и лгали.
Малыш, это обучение свободе. Свобода — это не выбор между заданностями, а торжество над выбором. А так ли уж они заданы, эти заданности, так ли уж они абсолютны? Пока что единственный живой детерминизм, живая причинность — это кто родился, тот умрет. Да и то неизвестно, навсегда ли это.
Все остальное можно изменить. То есть повлиять на процесс, а стало быть, на результаты. Поэтому свобода — это не выбор, а творчество, новинка, то есть — выход. А этому надо учиться.
Пожалуй, точно я знаю только одно: без универсального поведения в битком набитом троллейбусе все остальные выдумки — липа. «Универсальное» не значит одинаковое. Как раз наоборот. Поведение у всех должно быть разное, важно, чтоб цель была одна — не передавить друг друга в переполненном троллейбусе. А этого достигают восхищением. Земля переполнена, малыш, надо думать.
Малыш, все мы появились самостоятельно. Но я был раньше тебя. И ничего с этим не поделаешь. Поэтому несколько слов о себе.
Я избегал популярности, потому что она — западня. Становишься пленником даже тех, кому ты люб.
Мое дело было сделать свое и идти дальше. Я и пел, закрыв глаза, чтобы не заискивать и не просить одобрения. Мое дело было развернуть картину о важном.
В конце концов, каждому свое. Я все время думал о третьем тысячелетии. Есть много дел, где смеха не требуется, или он противопоказан, или уже запоздал. Но нет лучшего средства не допустить вражды или паники, чем хохот. Если хохот — значит, что-то ушло в прошлое.
Смеющееся тысячелетие. Грядет смеющееся тысячелетие!
Хватит упущенных из-под контроля несчастий, которым потом красиво сострадают. Смеющееся тысячелетие. А там посмотрим. Может быть, наступит восхищение. Малыш, я совершенно не умею воспитывать. Я могу только рождать идеи, которыми можно воспользоваться.
Все равно ты не станешь меня слушать, когда вырастешь. Поэтому я сейчас, пользуясь твоей беззащитностью, выскажу одну мысль, которой я сам пользуюсь, когда ее вспоминаю, и потому жив.
«Если тебе объективно плохо, не будь субъективно несчастным».
Ты понял? Если уж тебе худо, то на хрена еще и страдать? Это трудно выполнить, но когда удается, то ты — свободен.
Как ты думаешь, сколько лет было человеку, который к этому пришел? Восемнадцать. Мне было восемнадцать лет, когда я до этого додумался и записал. Значит, это мне было дано. И кончим на этом. Есть простой способ узнать, можешь ли ты быть художником. Не «должен», а «можешь ли?».
Леонардо да Винчи был левша. Однажды я скопировал левой рукой его «Виндзорский» автопортрет. Знаешь, что получилось? Оказалось, что от моей левой руки вышло не хуже, чем от моей же правой. Не бог весть что, но и не хуже. Мне годится. Рисунок сохранился. Любой может себя проверить. И последнее, малыш, самое главное. Внимание! Любой обсосок знает, что «от любви до ненависти один шаг», но только художник знает, что и обратно — столько же.
Потом я прочел письмо жены. Она должна была вернуться через час. Она сердцем почувствовала, что мне нужны будут новые штаны, и пошла их покупать. Вот оно:
«Гошка! Наш „дорогой дядя“, несмотря на свой возраст, решил заняться литературной работой. Этот оригинал решил создать не более не менее, как эпос. Представляешь? Он хочет сделать это в исконной форме — устно. Затея, конечно, дикая. Какой материал послужит основой, он пока не сказал, скрывает. Но судя по тому, что название эпоса и псевдоним, который наш „дорогой дядя“ себе выбрал, одинаковы, думаю, что в произведении будет много автобиографичного.
Название и псевдоним звучные и далекие от академизма. Я долго выспрашивала его, он отмалчивался, но вчера все же сказал. Оно звучит так: „Ги-ги-ляп“. Что это означает, пока, кроме него, не знает никто.
Ждите. Я вернусь через час с новыми для тебя штанами, а он скоро выйдет».
И меня наконец-то отпустило. Наконец-то! Пришествие «дорогого дяди» состоится, моего «деос экс махина».
Я сел на стул и так же, как и все остальные, смирно сложил руки на коленях и стал смотреть на дверь.
Долго бухало и гремело. Потом дверь открылась и на пороге появился «Ги-ги-ляп» полутора лет — во фланелевой рубашке, без штанов и в валенках. Он оглядел всех и обидно сказал:
— Эй!..
Май 1981 г. — март 1985 г.
Дорога через Хаос
* * *
…В феврале, 13 апреля 1977 года я перестал летать.
…Сказочки придумывают от обиды на жизнь. Я реалист.
Медсестра мне рассказала:
…Посреди площади нашего городка возник огненный столб, и голос, грому подобный, произнёс: “Идёмте все в консерваторию. Кто заколеблется – идти или нет, выбор один – идите вперёд”.
…Дальше тема о человеке, который понял, что не нужна его работа.
Якушев мне сказал:
– Нужен – это тонкая вещь… Если ты ей нужен для каких-то его планов – это отталкивает. Ты должен быть нужен ей самой.
То есть речь идёт об идеалах. По её идеалу хорошей жизни искусство почти не нужно. И она его не планирует.
А другие без него задыхаются.
…Люди перенесут всё, если знают, что нужны они лично, а не их тело, скелет и мясо и как они выглядят или их положение, деньги и даже плоды, а нужна их душа, стремящаяся быть умелой.
…В феврале, 13 апреля 1977 года я разучился летать.
Я выполз из своего дома и увидел то, чего не видел летаючи…
Медсестра мне рассказала:
– …И ещё у меня сон был: будто летят по небу две пирамиды и – хлоп! – вершинами стыкуются, и из них рядами выходят медведи…
…Я бы хотел, чтобы у меня был знаменитый отец. Но этого не было. И в жизни я был аутсайдером. Но у меня есть друг, Илларион, с редкой профессией. Он работает на автокране с балдой. Этой балдой он разбивает дома, которые назначили считать старыми и “непредставляющими”. А для кого? Интересуюсь, для кого они не представляют ценности. Интересуюсь, что значит ценность.
…Если бы у меня был знаменитый отец, мне бы старались оказать льготу, а я бы скромно отказывался и этим был бы прославлен…
…Салют, фестиваль!
Через единство к миру. Через мир – к счастью!
Потому что круглая земля.
…За Ириной Дерюгиной, что ли, начать ухаживать или за Ириной Моисеевой? А Миненкова куда же? Нет, так не годится.
Ещё хорошо бы утопить режиссёра, который сейчас показывает трио “Ромэн” по телевизору. Гитаристов показывает сплошь, а солистку-цыганочку то покажет, то истребит спецприёмом.
Потом рано утром Петя открыл калитку и вышел, я забыл куда, кажется, на большую дорогу.
Потом из лесу вышел огромный серый волк. Но Петя взмахнул пионерским галстуком, и разом исчадие сгинуло. В жизни бывает наоборот. Серые волки пионеров едят.
Конец фильма.
Дальше мультфильм “Марица” зелёного цвета с красными крышами.
…В финале будет написано, что человек не аутсайдер. Для тех, кто считает, что главное в произведении – тема и проблема и что оно этим исчерпывается…
Якушев мне сказал:
…Взрослый не умнее ребёнка. Взрослый практичней, или, как теперь говорят, прагматичней. Что выгодно, то и слава богу. Но время бежит, и взрослому всё труднее оттягивать момент, когда уже ничего не чувствуешь. Поэтому у него выходы:
либо устремиться в детство, либо драться за то, чтобы остаться взрослым как можно дольше, то есть оттянуть момент, когда уже ничего не чувствуешь, и так делает большинство – старается вырасти и жить взрослыми как можно дольше;
либо научиться летать.
Ребенок живёт ожиданием полёта. Он выдумщик.
Взрослый ходит. Он умный.
Мудрый – летает.
…Ошибочно думают, что летают мухи, птицы, аэропланы или ракеты.
Вот рыбы плавают. А мухи, птицы, аэропланы и ракеты только нечеловеческим усилием поддерживают себя в воздухе, чтобы не упасть на землю. Иногда долго планируют, парят, но не больше.
Но это не мудрые. Это чаще всего хищники. Они передвигаются в верхних слоях атмосферы и склёвывают ползающих.
А рыба плавает, даже не двигая плавниками. У неё в животе воздушный пузырь. Рыба плавает даже дохлая.
Мудрый плавает в воздухе, потому что в нём живёт нечто, что делает его легче воздуха, и ему надо прилагать нечеловеческие усилия, чтобы удержаться за землю.
А когда он перестаёт что-нибудь чувствовать, он всплывает вверх навсегда.
Но я не знал, что мудрый может разучиться летать.
…Я выполз из своего дома и увидел то, чего не увидишь в полёте.
…У призвания должно быть признание. А признания я не получил. Всё началось так.
Приходит однажды Илларион и говорит:
– Давай оторвёмся от жизни?
– Давай, – говорю. – А как?
А жена говорит:
– Опять нарежетесь?.. Имейте в виду…
А работал я тогда уже на телевизорном заводе.
– Нет, Княгиня, – говорит Илларион. – В культуру потянемся… Говорят: надо. Мне в конторе выдали билет на два лица. В музей.
– В музей? На два лица? Это в какие же музеи билеты распределяют?
– В музей Пушкина. Поляки какую-то картину привезли. Очередь – не прорвёшься.
– Занимались бы своим делом, – сказала жена.
Она у меня Княгиня. У неё такое прозвище с самого детства. Если б не это прозвище, я, может, и не заметил бы её. А так во всех компаниях – Княгиня, Княгиня. Молва – великая вещь. Так что, когда я её увидел, я уж готов был лезть на голый крючок без приманки. Завёлся с пол-оборота…
Я тогда по молодости всё к чему-то стремился. А к чему, и сам не знал.
Кончил школу, отслужил в Вооружённых Силах, поступил на завод автотракторного оборудования и на заочный.
Работать близко – от Большой Семёновской два шага. На Журавлёвской площади Театр Моссовета отменили и сделали телевизионный театр. Кинотеатр “Родина” на Семёновской площади. Гастрономы есть, парикмахерские есть, друзья есть, девок – навалом и все замуж хотят. Так что в центр – разве что в музей скатать, да лень. Я в стенной газете первый человек, и рисунки остроумные делал под названием “Без подписи”, и красками владел на уровне художника-любителя. Мог и пейзаж написать по фотографии, и голую женщину из чешского журнала. Гитара – это само собой. Магнитофон купил.
И так я жил – не тужил и имел льготы для отдыха и тринадцатую зарплату, и работал не хуже других, и даже фотографировался для доски Почёта.
Чего ещё мне было надо – сам не знаю. В компаниях нарасхват. Первый парень на деревне. Пил – не пьянел. Но всё тянуло куда-то.
А потом слышу – Княгиня, Княгиня. И до меня дошло. Любви не хватало. Говорят – есть она. Посмотреть бы – какая?
Так что к тому времени, как её встретить, я дозрел. Княгиня – прозвище-то какое!
– Ладно, – говорю. – Познакомьте.
– Нет, – говорят. – Не про тебя. Не нашего поля ягода.
– Кто такая?
– Директорская дочка, да директор-то помер.
– Ну и что?
– А она забыть не может.
– Отца?
– Нет, что не нашего поля ягода.
– А чего ж она в наших компаниях-то делает, чужая ягодка?
– Прижилась. Парень у ней был, тоже её поля фрукт, из Плехановского. Всё с нами сшивался, жизнь изучал. Потом отец её помер – стал изучать жизнь ещё где-то. А она у нас за Княгиню идёт. Привыкла.
– Значит, не любила, – постановил я.
Ладно, думаю, где-нибудь встретимся.
И встретились. Да так, как мне тогда нужно было по моему ожиданию.
Все толпились у входа в зал, на лестнице и в вестибюле. Только мне нужно было совсем не туда, и я опаздывал как будто. Я оглянулся на часы под потолком и увидел, что Княгиня сидит на тумбе, от которой начиналась лестница вверх, в зал. Народу было невпроворот, и кто-то посадил её на тумбу, чтоб не затолкали. И часы под потолком приходились как раз у неё над головой.
Я её сразу узнал – и по описаниям и так…
Волосы у неё были светлые и длинные. Только мне тогда надо было не к ней и не в зал на лекцию. Сговорился я тогда с двумя из обмоточного, что сделаю им по фотографиям масляные портреты. Я уже насобачился, но пока всё честно, бесплатно. А там как выйдет.
Я должен был протолкаться в кружок фотолюбителя, где на стене девиз: “Прекрасное – рядом с тобою”.
…Я оглянулся и увидел Княгиню… И часы у неё над головой. Я нацелился на часы пальцем и сказал: “Пиф-паф”. Потому что часы стояли, а свои я разбил на чужой свадьбе.
…И непонятно было – рано мне идти в фотокружок или уже поздно…
И вышло так…
И вышло так, что я нацелился ей в голову.
– Часы-то стоят, – говорю я.
А потом беру её за руку, и гляжу на её ручные часики, и ощущаю, какое тонкое у неё запястье.
– Можно ещё успеть, – говорю я.
– Лекция сейчас начнётся, – говорит толстая такая коротышка, стоявшая внизу.
– Мне не на лекцию, – говорю. – Мне в фотостудию к моим моделькам.
Вроде бы я фотолюбитель.
– А-а, – говорит коротышка.
Тут открыли дверь в зал, и все начали подниматься и входить, и справа – сцена. Под ярким светом.
Когда я снова оглянулся, Княгиня уже спрыгнула со своей тумбы и двигалась вместе с толпой вверх по лестнице.
Тёмная лестница помаленьку пустела, а за синими огромными окнами был город и крыши в снегу. И над моей головой висели остановившиеся часы.
Не знаю, зачем я это сделал: я тоже вошёл в зал.
Он был почти полный. Места были только в последнем ряду у прохода, который шёл от двери, где я стоял, до другой двери напротив.
И тут я увидел, что из первых рядов поднялась Княгиня. Подойдя с обратной стороны к этому полупустому ряду, она стала пробираться в мою сторону – туда, где сидела эта толстенькая.
…И я полез пробираться ей навстречу. Она замешкалась, а толстая девушка поглядела на меня обиженно и поднялась так, что уступила ей место рядом со мной.
Я так подробно всё рассказываю, потому что я так подробно всё помню.
…Княгиня пробиралась, глядя под ноги, а больше ни на кого не глядя. А потом она подняла голову, увидела меня и хотела уступить подруге прежнее место. Но та уже села, и тогда она опустилась рядом со мной.
Она посмотрела на меня в замешательстве и улыбнулась.
– Ну как там насчёт международного положения? – спрашиваю.
– Ещё не знаю, – отвечает она.
А толстая девушка строго смотрит вперёд.
И тут меня заносит.
– Хотите чаю? – спрашиваю.
– Нет.
– Нет, хотите чаю? – спрашиваю.
А сам думаю: “Где я достану чаю? Буфет, наверное, уже закрыт”.
– Хотите чаю?.. Я вам принесу прямо сюда.
На нас смотрели с любопытством. Княгиня чуть нахмурилась и смотрела в пол. А потом вдруг кивнула.
Я с замиранием ждал этого кивка. Всё точно, всё правильно.
– Да, хочу, – говорит она.
– Сейчас, – говорю я, – ждите.
– Хорошо. Я буду ждать.
Я встал и начал пробираться назад. На меня шипели.
Всё вышло гораздо лучше, чем я ожидал.
…Когда я уговорил буфетчицу открыть мне дверь в её полуподвал, вошёл и стал закрывать за собой, я услышал, как кто-то дёргает дверь с той стороны. Я отпустил руку, открылась дверь, и вошла она…
Я ничего не сказал. Она тоже.
Я запер дверь на палку. Буфетчица принесла два стакана чаю и песочные пирожные с запахом столовой.
Мы сели за стол друг против друга, я, придвинул к ней пирожные. И когда она брала своё песочное, я взял её за руку и посмотрел на часы – было ровно семь ноль-ноль, и к моделькам идти было уже поздно.
Я перевернул её руку, отнял пирожное и, наклонившись, поцеловал её в ладонь.
После этого мы поженились и стали жить плохо.
И прожили плохо пять лет. Такая печаль.
А потом пришёл Илларион и сказал:
– Давай оторвёмся от жизни.
– Давай. А зачем?
– Опять нарежетесь? – спросила Княгиня.
Но мы пошли в музей.
Медсестра мне рассказывала:
– …Мы тогда уезжали из бараков в новую квартиру, всю мебель оставили в нашей комнате. Диван с валиками, мама их обшивала полотном, шкаф, стол круглый, кровать железную, ещё комод стоял – и всё помещалось в комнате одиннадцать метров. Я спала в кровати сестрёнки младшей, в детской кровати до двенадцати лет спала. А сестрёнка когда со мной, а когда мама её к себе брала. А отец на диване. И ещё кот Тарасик. Умный. А когда переезжали, отец не велел Тарасика брать. Отец тогда болел и был жестокий. Сейчас он другой совсем, не узнаешь. Не пойму, почему его мама тогда не лечила. Очень трудно ей было. Я помню, она сестрёнке дала три копейки на квас, а я её уговорила купить тридцать граммов леденцов. Очень сладкого хотелось. Выбила чек, а продавщица не разобрала и взвесила нам не тридцать, а триста граммов. Мы так и ушли, ничего не поняли. Целый пакет. А поняли, когда съели. Очень сладкого хотелось. Совестно? А? Или нет? Двадцать семь копеек ей недодали. Или кассирше? А потом соседка рассказала, что у кассирши и продавщицы замечательные дачи по Ярославской дороге. А кот Тарасик меня в школу провожал. Я дойду до школы, скажу: “Тарасик… домой…” Он хвост трубой и обратно домой идёт. Мама сидит после работы с соседками, разговаривает у крыльца, скажет не глядя: “Тарас! Домой!” И Тарасик из кустов – прыг и домой идёт. Мы его оставили и в грузовик не взяли. Но он такой хороший был, тигровый, пушистый… его кто-нибудь подобрал, может быть… Я не плачу, вы не обращайте внимания, Николай Демьянович. Это у меня настроение минорное, Николай Демьянович, мне старшая сестра сказала: вас через два дня из больницы выписывают. Николай Демьянович, если у вас боли в коленке будут повторяться… Не болит?.. Ну ладно… Я старшей сестре скажу, что не болит…
…Каждый человек должен знать что-нибудь обо всём и всё о чём-нибудь, – сказал кто-то, кажется, Лагранж.
…Крепкое здоровье, интересное дело в жизни, много друзей – всё очень просто. Почему же это так трудно достижимо?
Я всю жизнь мечтал, чтобы у меня была куча детей. Только неясно было, кто их должен был рожать. Летающий муж, который легче воздуха, его окружающего, которому, чтобы удержаться за землю, нужно было проявлять нечеловеческое усилие, надо было носить свинцовые башмаки, как водолазы у Жюля Верна, и чтобы их можно было скинуть по желанию.
Но я так и не встретил летающую женщину. Ко времени мудрости они из детей становились взрослыми и проявляли нечеловеческие усилия, чтобы махать крыльями и подняться выше других. И никогда не пытались научиться летать. Но для этого надо стать мудрой. А им казалось, что мудрость – это детство, только под другим соусом. И они боялись.
…Поженились мы с Княгиней и стали жить плохо.
Мать у неё была чокнутая на воспитанности, на благородстве и тактичности. А сама злобная, как скорпион. И дочь сделала тихушницей, весь лоск только снаружи. Дочь – та потемпераментней была, но мать – образец. “Мама сказала, мама так считает”.
– Зачем же ты за меня замуж вышла?
– Я думала, ты энергичный и пробивной.
– Я энергичный, но не пробивной.
– Почему ты не пробивной? Надо пробиваться.
– Мне скучно.
– В таком случае мама считает, что нам надо поду мать о наших отношениях.
– Мама считает. А ты?
– Я не знаю.
– А куда пробиваться? В директора?
– Папу не трогай. Это святое. Знаешь, какой он был?
– Не знаю.
– Лучше всех в преферанс играл. А анекдоты как рассказывал – все лежали!
– Что же ты из отца дурачка делаешь?
– Его все любили.
– Меня раньше тоже все любили, да я их на тебя променял.
– Кроме Иллариона.
– Иллариона не трогай. Это – святое, – говорю я.
– У меня до тебя знаешь какие варианты были, а у тебя одни модельки… И мою маму в кино снимали.
– Не видел. Когда?
– В эпоху немого кино. У неё лицо значительное. Она даже ходить меня научила. Женщина должна ходить носки чуть-чуть в стороны. Это воспитание. Тебе не понять.
– Скажи, а почему твоя мама домработнице “ты” говорит. Они ведь одного возраста?
Так и жили.
В постели она была ничего. Вот и вся любовь.
Тоска.
Пять лет отношения выясняли. А вся любовь была, когда она дверь в столовую пыталась открыть. Я ей потом ладонь поцеловал и говорю:
– Я хочу умереть.
– Зачем?
– Я боюсь, что лучше ничего не будет.
У её матери была конфетная коробка и связи.
Ну связи – это понятно. Секретарь-машинистка, ясное дело. А на конфетной коробке была картинка – девушка розу нюхает. Коробка древняя, ещё из эпохи немого кино. Мать рассказала – эта коробка у неё с девичества, от её матери, от бабки моей жены то есть. А когда тёща сама беременная была, бабка эта велела ей на картинку глядеть и мечтать, чтоб такая дочка родилась. Такая и родилась.
А потом стали по телевизору “Клуб джентльменов” показывать – мелькнула на один момент такая передача. Человек пять в отглаженных костюмах, все как на подбор воспитанные и один смешной – для порядка. А двести миллионов невоспитанных в своих квартирах смотрели, как их презирают.
– Вот это люди, – сказала мама дочке. – А вам надо подумать о своих взаимоотношениях.
И я подумал.
Доехать до Таганки, что ли? Там театр, а рядом ресторан “Кама”. И за столиком я разговорился с одним Геной. После этого мне полегчало.
Гена рассказал:
– Мне жена говорит: “Я интеллигентная женщина, а ты Квазимодо, давай разводиться, пианино я оставляю себе”. Я её безумно любил. Три года в армии был, любил, три года после армии ухаживал, год как поженились. Квартиру сменил королевскую – тридцать метров, на улице Степана Халтурина.
Я говорю – давай разводиться. Я её безумно в смысле любил. Она учёная. Кандидатом наук будет. Думаю, в смысле надо ей окончить институт – она из интеллигентной семьи. А я до армии техникум кончил. Вернулся из армии, год работал главным инженером. На кроватной фабрике. Полтора куска в месяц имел; а она рыбками занималась, макроподусами. Вношу рацпредложение – разводить рыбок на продажу. Зоомагазин берёт как из пушки. В смысле мальков. Жена молодая, из интеллигентной семьи, кончит институт, кандидатом наук будет – кормить надо каждый день.
Бросаю заочный с первого курса. Ставлю аквариум на весь подоконник – полтора на шестьдесят. Гоню мальков в зоомагазин. Рацпредложения гоню – премию имею каждый месяц. Одеваю как королеву. Покупаю пианино. Делаю таблицы срезов мышц ей в институт. Раскрашиваю амёб, в смысле – к каждому зачёту. Учёный мир её хвалит. Профессор говорит – может кандидатом наук стать.
Кончает институт, получает диплом, ромб на кофточку, оставляют в аспирантуре. Идём на Невский, делаем завивку, несём профессору макроподусов, идём в театр на Райкина, идём в ресторан в гостинице “Московская”, идём домой, дома она говорит: “Я интеллигентная женщина, а ты Квазимодо, мне с тобой стыдно, давай разводиться, пианино я оставляю себе”.
Ладно, говорю. Кладу четыре десятки – подаю на развод, уезжаю в Куйбышев с начальником цеха на конференцию по фрезерованию. Аквариум разбил, макроподусов – мальчишкам, водоросли на помойку. В Лисках пересадка – билетов нет, плебеи в очереди стоят. Говорю начальнику цеха – надувайте щёки. Говорю кассиру – я ассистент профессора Филиппова, еду в Куйбышев на конференцию по атомной энергии. Показываю пригласительный билет для фрезеровщиков, не смотрит, даёт два билета в мягкий. Говорю начальнику цеха – хватит надувать щёки.
Приезжаю в Куйбышев, слушаю шестьдесят четыре доклада по резанию металла. Десять процентов учёных, сорок процентов нашего брата практиков, в смысле народных умельцев, пятьдесят процентов специалистов по контактам между учёными и практиками – и все кандидаты наук. Один впаял наконечник для резца на Т-образном замке – кандидат наук, другой исследует каплю эмульсии, капля лежачая – кандидат наук. Посылаю записку – какая разница между наукой и сухоедением. Кричат – хулиганство!
Пишу три рецензии на своё изобретение, несу их на подпись к трём светилам, как из пушки подписывают – моё изобретение уже на трёх ихних заводах внедрено, план секут как из пушки, каждый месяц премию. Говорят мне – сейчас не время изобретателей-одиночек, организуем авторский коллектив. Организуем. Сейчас не такое время, чтобы авторы-одиночки пользовались плодами своего изобретения. Получаем патент на всех. Люди интеллигентные. Надо оставить им пианино и разойтись по-доброму. Всё-таки кандидаты наук.
Конференция кончается. В сердце трагедия. Получаю письмо от Лили: “Безумно люблю молодого ракетчика. Уже целуемся”. Хотя обещала до суда – без физиологии. Но я понимаю – инстинкты, подкорка. Начальник цеха говорит: “Тебе надо размагнититься. Ищи бабу”. Ищу бабу. Знакомлюсь. Студентка педагогического института, Куйбышев – город студентов. Мой вкус в смысле на худеньких, а эта пышная, зовут Неля. Блондинка. Иду на танцы второй раз. Танцует только со мной. Насчёт Квазимодо ни слова. Ах так, думаю. Приглашаю в ресторан. Приводит подругу. Кладу на стол полкуска. Провожаю домой. Прощаюсь. На следующий день говорит: “Не пойдём на танцы. Ты уедешь, я скучать буду”, – говорит она. Насчёт Квазимодо ни слова. Ах так, думаю. “Нелечка, – говорю. – Люди расстаются как корабли – это трагедия”. Смотрю – плачет. Насчёт Квазимодо ни слова. Ах так, думаю. “Нелечка, вы были замужем?” – “Нет, но я не девушка”. Я ей говорю: “Нелечка, ты пойми, счастье твоё в твоих руках. Люди встречаются как корабли, ты в смысле уже не девушка, для любимой женщины я усеку любую проблему”. Она говорит: “Ко мне нельзя, у меня бабушка”. – “Ну, это другой разговор. Такси!” – “Вас куда везти?” – “За городскую черту”.
Вылезаем за городской чертой. Ночь. “Нелечка, посиди”. Сажаю её на скамейку. Ловлю бабусю. “Бабуся, мы поженились, спаси, ночевать негде. Вот пять рублей, помоги провести медовый месяц”. – “Месяц не могу, – говорит бабуся. – Что вы? Сын завтра из армии приезжает”. – “Ну, тогда на одну ночь в смысле медовый месяц. Бабуся, целую”. Постелила она нам в избе. Даже чистые простыни дала.
Ты знаешь у меня вкус, я худеньких люблю, а она пышная такая. Всё наоборот. Мы с ней восьмой год живём. Четыре года как расписались. Трёх рахитов народили, в смысле детей – Людмилу, Сашку и Виктора. Дети здоровые как из пушки, каждый день жрать просят. Работаю как зверь. Рацпредложения. Каждый месяц верный кусок. Высшего образования у меня нет. Директор, свой мужик, говорит: “Гена, был бы у тебя ромб на пиджаке, был бы ты кандидатом наук”.
– Папаша, ещё полкило коньяку. Три звёздочки. И килечек. Пряного посола.
Ну, после “Камы” мне полегчало. Пришёл домой и веселюсь.
Княгиня говорит:
– Как ты мог? Как ты мог? В какое ты положение меня поставил! Мама спрашивала, куда ты пропал, а я даже ответить не могла.
– Я не пропал, – говорю. – Я нашёлся…
А сам думаю – что делать? “Кама” не выход. Пропаду. Говорю:
– Ты бы работать пошла.
– Настоящий мужчина так бы не сказал. Когда папа был жив, мама не работала.
– Тогда давай с тобой не просто так, давай детей делать. Я их любить буду.
– Какие дети? Ты институт бросил.
А утром приходит Илларион и говорит:
– Давай от жизни отрываться.
– Опять нарежетесь? – спрашивает Княгиня.
И мы пошли в музей.
Сели в метро – и до “Кропоткинской”.
– Что за картина, Илларион?
– Не знаю. Люди смотрят, и мы поглядим.
– Ты в музее бывал, где картины?
– А ты?
– В Третьяковской галерее был до армии. Ивана Грозного смотрел.
– У меня открытка есть, – сказал Илларион.
– Ну как, Илларион, продвигается работа?
– Ещё пол-улицы сломал.
– Граждане, не сходите – не загораживайте прохода.
– Илларион, а что будет на месте старой улицы? Новые дома?
– Нет.
– Понятно. Сквер будет. Деревья и скамейки.
– Нет.
– Извини, не сообразил. Улица шире будет, проезжая часть, трасса.
– Нет.
– А что же тогда будет?
– Вид будет.
– Да отойдите вы с прохода, господи!
– Илларион, а ведь раньше тоже был вид?
– Старый.
– А теперь?
– Новый будет.
– Молодой человек, уступите женщине место… Садись, Вовик. Мама постоит.
– Илларион, значит, ты считаешь, что, если сломать старый вид, получится новый вид?
– Нет.
– А как?
– Сначала надо построить новые дома.
– Понятно. Тогда старые дома покажутся убогими.
– Да, жалкими.
– И их надо сломать?
– Я ломаю.
Ну, вышли на “Кропоткинской”.
…Если откинуть громкие слова, то многие думают, что мудрый – это усталый. Трепыхался, трепыхался, а жизнь-то крылышки и пообломала. А разве крылья для воздухоплавания? Крылья для трепыхания. Для воздухоплавания нужен пузырь как у рыбы, воздушный шар, монгольфьер, нужно, чтобы сама вода или воздух от дна отрывали и вверх выталкивали, сама среда вверх выталкивала. Нужно в верхних слоях атмосферы передвигаться как по земле ходишь – в любую сторону и не боишься свалиться. Мудрый – это который летает потому, что у него душа как у ребёнка. Только ребёнок летает во сне, а мудрый наяву.
Сначала на улице стояли в очереди, а в железные ворота партиями пускали, как в ГУМ за индийскими занавесками. Кого пустят, те бегом по дорожке к каменным ступеням – а там колонны как в храме и вход.
– Разве в храм бегают? – спросил Илларион.
Хотите верьте, хотите нет, но я этого здания ни разу в жизни не видел, хотя родился в Москве. Ни к чему было. В Третьяковке был. До армии. Это я уже говорил. А после был в Василии Блаженном, в Историческом, на Новодевичье кладбище ездил памятники смотреть знаменитых покойников, в Кремле был – шапку Мономаха видел и тарантасы золотые. А этого дома не помню с колоннами, хотя на улице этой был. В кино ходил, в клуб напротив. Темно было.
– Илларион, я опять стих написал. Хочешь, прочту?
– В стенгазету?
– Нет, из жизни.
– Валяй.
Ко сну супругу клонит.
Мамаша варит суп.
А я сижу как слоник
И водочку сосу.
А я сижу как ослик,
Ушами шевеля.
И всё, что будет после,
Известно до нуля.
– Продвигайтесь, продвигайтесь. Сейчас пускать будут…
– Неужели сам написал?
– Да ладно вам толкаться-то. Все пройдём.
Пропустили в ворота нашу группу, и все помчались по дорожке к ступеням.
– Не бежи, – сказал Илларион. – Что мы, жлобы? Культура всё-таки. А ещё есть стихи из жизни?
– Есть.
– Пропустим жлобов. Мадама, зонтик-то убери. Закрой зонтик-то.
Мадама оборачивается и говорит:
– Чёрт-те кого пускают на выставку!..
А другая:
– Демократия…
Илларион говорит:
– Вали, вали, мочалки… Занавески разберут. – И мне: – Давай, Коля, пошли. Бабы есть бабы. А тут духовные ценности. Нельзя! Ты против духовных ценностей?
– Не знаю, – сказал я.
И мы вошли в дверь. Здоровенную. Этажа на полтора.
…Война кончилась, когда мне было два года.
Жил я без потрясения на пятом этаже. Так, разве что занудство одно. Да ну их, потрясения. Насмотришься в кино, как люди жили, и хватит. Сейчас по-другому живут. Всё я к тому времени перепробовал; и модельки были, и барахло приличное, не хуже, чем у людей, и на Княгиню глаза пялят, мне завидуют, и даже любовь встретил. Только она короткая оказалась, эта любовь, – до загса.
Наутро после ресторана и первой нашей с ней постели Княгиня сказала:
– Больше я ни о чём не мечтаю. А то, что ты рабочий, это ничего. Не век же ты будешь рабочим, правда? Поцелуй меня сюда.
И показала на грудь.
На этом наша любовь кончилась.
– Ладно, слезай с тумбы. На лекцию опоздаем, – сказал я.
– С какой тумбы?
– Это поговорка такая.
– Ты какой-то странный.
– Это потому, что мне тоже больше мечтать не о чем.
– Я тебя разочаровала?
– Нет, что ты.
– Это потому, что я ещё ничего не умею. Ты подожди, я научусь.
– Чему?
– Всему. А детей нам не нужно пока, – а вдруг ты институт не кончишь?
– Чтобы детей делать, высшее образование не требуется. Годится моё среднее. Может быть, после этой ночи забеременеешь.
– Не бойся. Я таблетки приняла. Маме жена начальника отдела привезла из ФРГ.
– Мама твоя любит юмор, – говорю.
– Нет, мама юмор не любит. Она считает, что юмор – это вульгарно.
– Скажи, почему тебя Княгиней прозвали?
– Я в школе в драмкружке играла княгиню Волконскую. Мы ставили поэму Некрасова “Русские женщины”. Читал?.. Я на неё лицом похожа.
Я говорю:
– Читал… Только там про русских женщин, а не про лицо. Хотя это давно было.
– Верно? – Она поднялась с постели. – Сейчас главное – лицо. Такое время. У кого лицо, тот пробивается.
А я думал, что она молчаливая.
– Ты знаешь, за эту ночь я стала совсем другая. Ты знаешь, мне про тебя говорили ещё до того, как ты меня увидел. Все говорили “художник, художник”. Я тебя сразу по описаниям узнала, когда ты мне там, в буфете, руку поцеловал. Я подумала: “Ну, точно. Совсем такой. Молва – великая вещь”. Не притворяйся – у тебя же слёзы на глазах. Это от счастья?
– От счастья, – говорю я.
Толпа в музее – не протолкнёшься. Куда идти – не поймёшь.
– Вы на выставку?
– Нам польскую картину.
– Не понимаю вас. У нас много картин… Проходите, пожалуйста.
Илларион говорит:
– Давай сначала коней посмотрим?
– Каких коней?
– Выставка наверху, а справа кони. Я разглядел.
– Коней потом, –говорю. – Кони не привозные.
Стали пробиваться на выставку. Сначала пошли в залы, где меньше людей, потом – где побольше. Картин много, и все разные.
Странно, но я тогда впервые заметил этот разнобой.
Я думал, что картина от натуры зависит. Какая натура – такая картина. А тут заметил – два портрета рядом висят, а друг на дружку непохожи. Не лицами непохожи, а картины непохожи. А как выбрать, которая лучше и какую смотреть?
– Илларион, – говорю. – Так дале не пойдёт. Давай искать ту знаменитую. Иначе очумеем.
Илларион спрашивает у женщины во фраке – как стюардесса, только старая:
– Мамаша, какая самая лучшая польская картина?
– Польская? Здесь все из польских музеев.
Мы пошли.
– Мальчики, стойте! Вам, наверно, “Девушку с горностаем”?
– С каким горностаем?
– Картина Леонардо да Винчи “Девушка с горностаем”. Во-он в том зале, в центре, видите? Только там очередь большая.
– Опять очередь? – спрашиваю. – Не пойдём.
– Нельзя, – говорит Илларион. – Не обижай. Меня в конторе спросят.
Сейчас вспоминаю то время – таких двух идиотов на всей планете только двое было.
Боже мой! Даже страшно подумать, что было бы, если бы я её не встретил. Так бы слепым и жил.
Она всех ошарашивала, кто к ней постепенно подходил. Я по лицам видел. Но и я, видимо, дозрел к тому году.
Поверите ли, как только стюардесса сказала – Леонардо да Винчи, у меня в сердце – щёлк! – тот самый? А я думал, что он где-то в незапамятных временах, а он под боком. А как сказала – “Девушка с горностаем”, я прямо завыл молча – только бы судьба не подвела.
Не подвела.
– Молодой человек, нельзя задерживаться. Люди посмотреть хотят.
Илларион меня за рукав тянет.
– Дурачок, можно снова в очередь стать.
Разве расскажешь?
Разве расскажешь? Надо увидеть. На то она и “Девушка с горностаем” Леонардо да Винчи.
Я только теперь знаю, если картину можно рассказать – она не нужна. Но про девушку эту – можно.
Сидит. Умница. Всё.
Если бы я такую встретил, я бы за ней на четвереньках пополз бы через пол-Москвы, да она бы не позволила.
Эта не подведёт. Она нарисованная.
На земле таких не бывает. Только в космосе. В космосе Леонардо да Винчи, и ни в чём другом. А никто другой так далеко не залетал. Это я теперь знаю.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Сцена перед занавесом. Вечер. Ворота Флоренции. Выходит высокий человек.
Леонардо
(негромко)
Уходит день. На башнях облаков
Певучий след оставил тихий вечер.
Уходит день… Как горестно, как жалко.
Ещё один поклон календаря.
Семнадцать лет из жизни укатилось
И унесло пылающий Милан.
Минуты завиваются в часы,
Часы в года, и стрелки кажут вечер.
Садится солнце, холодеет небо,
А там гляди, уж золото волос
Луна засеребрила сединою.
Старик… Старик… Морщинистое имя…
Ограбленная молодость моя!..
Пауза.
Как пахнут эти розы!.. Этот запах
Так ярок, что почти звенит как песня,
Как будто юность и как будто я
Не флорентийский мастер Леонардо,
А снова жизнерадостный юнец,
Которому рассказывал учитель
Историю занятную о том,
Как некий человек всю жизнь старался
Систему мирозданья угадать…
Всё зыбко, мир дал трещину, синьоры,
В которую, свернувшись как папирус
Со стёртыми, забытыми значками,
Летит вся современная культура…
Деянья наши – просто письмена,
Начертанные слабою рукою
Кусочком мела на слепой стене,
Рад человек, себя увековечив,
И вся стоит исписана стена…
Но вот из бездны возникает вечер
И рукавом стирает письмена…
Пауза.
Как страшно возвращаться стариком
Туда, откуда уходил щенком…
Никто не ждёт… Не нужен никому…
Вернулся я к началу своему…
Привет тебе, Флоренция!..
(Входит в городские ворота.)
Занавес открывается.
* * *
…Раньше говорили – найти своё место в жизни, и это означало буквально место в пространстве, территорию, место работы. Так и говорили: у него есть место, он получил хорошее место. Или поместье, или город, который по-польски тоже “място” – город, огороженное пространство вроде огорода. А теперь?
Теперь известно, что жизнь – в движении и место в жизни – это место в процессе. И человек понял, что он часть процесса. И затосковал.
Потому что ему объяснили – он не сам едет куда хочет, а его везут как запчасти процесса.
…Небо бесконечно.
…Всё казалось, что можно что-то сделать.
…Якушев мне сказал:
– Что такое ремесло? Это “не хуже, чем у людей”.
Уровни могут быть разные, но изготовленная вещь имеет предварительный эталон, иногда – шаблон, штамп. И есть с чем сравнивать.
А искусство – это новинка.
…У искусства тоже есть эталон, но внутренний и движущийся. И он отыскивается в самом процессе работы, и называется – идеал.
У ремесла – эталон, у искусства – идеал.
Все неприличия в искусстве возникают от путаницы – эталон и идеал.
…Это не разница в определениях, это разница в сути.
Эталон – это то, с чем можно сравнить изготовленную вещь. А идеал сравнивать не с чем, разве что с другим идеалом. Запомним это.
К эталону мы можем предварительно стремиться, а идеал должен быть отыскан в самой работе.
Эталон стоит на месте, и мы к нему движемся, а идеал уходит от нас как горизонт.
Ремесло останавливается, когда эталон достигнут. Искусство останавливается, когда продолжение ухудшает вещь.
Отсюда совершенно разная оценка законченности.
Ремесленная вещь закончена, когда достигнут эталон. Произведение искусства должно быть закончено в любой момент изготовления.
…Если найдут руки от Венеры Милосской – будет хорошо. Но это будет другое художественное произведение. Потому что если бы не нашли саму Венеру Милосскую, а нашли бы только руки, то было бы произведение – руки богини.
Ремесленное же произведение существует только в целом виде.
И потому огромна разница между обломком и фрагментом.
…Потому что ремесленное произведение – это правило, состоящее из правил, а произведение искусства – это правило, состоящее из исключений.
…Искусство такая вещь – как только в него прорвёшься – конец. Назад дороги нет.
Если только не собьют, конечно, умники, которым нравится не искусство, а болтовня о нём. Они знают точно, как делать детей, но сами не делают почему-то – инструктируют тех, у кого это и так выходит.
А как прорвёшься в искусство – так конец. Назад пути нет.
Не в том смысле, что сам в профессионалы пойдёшь, а в том, что без него уже нельзя.
Другая жизнь начинается.
…У меня так получилось, что я сначала разум увидел в полёте, а потом сердце. Но это неважно, с чего началось. Важно, чтобы не житейское в тебе ходуном заходило, а полёт.
Я, когда девушку эту увидел с горностаем, – очумел. Потому что подумал – нет. Ну это же ясно, кто такой этот человек, который её нарисовал, – вот к чему душа тянулась. Стою и трясусь.
Илларион говорит:
– Ты только не чокнись.
– Подожди, – говорю, – Илларион, милый ты мой, подожди.
– Ну вот.
– Всё, Илларион, теперь всё.
– Что всё?
– Теперь всё, совсем всё. Назад пути нет.
– Идём на воздух. На нас стюардесса смотрит.
– Пусть смотрит.
– Идём, Коля. Идём, Коля.
– Как же я уйду?
Ушли.
Погоду не помню. Столько лет прошло. Вроде снег должен быть или, наоборот, жара, а у меня в памяти одно серебро. Должно быть, дождь моросил, а небо и асфальт – серебряные. Хотя зонтиков не помню.
Пришли домой ко мне – Илларион проводил. А я разговариваю всю дорогу, даже язык стал сухой.
Дома Княгиня говорит:
– Ну? Насмотрелись на голых женщин?
Я молчу. Илларион спрашивает Княгиню:
– У вас нет чего-нибудь? Ему поправиться надо.
– Хватит с него. Вчера поправлялся.
– Зря ты это. Кольке поправиться надо. Дай рюмку. Не видишь, что ли?
А я смеюсь.
– Жаль… – говорю я, – …что сейчас не гражданская война.
– Совсем обалдел, – говорит Княгиня. – Больше в музей не пойдёшь.
– Жаль, – говорю, – что сейчас не гражданская война… Я б тебя в Чёрное море сбросил. Таких надо в Чёрное море сбрасывать. Ты свет застишь.
– Я сейчас маме позвоню!
Тут я крикнул:
– Усохни!
Первый раз на неё крикнул.
Она стала тихая. Илларион меня за руки держал.
…Я ещё раз пытался пробиться в музей, десятки совал, без билета не пустили.
А потом картину увезли.
Нет. Так дело не пойдёт. Надо про Леонардо где-нибудь узнать.
В заводской библиотеке про Леонардо брошюра “Леонардо – великий художник Возрождения, один из плеяды тех, кто…”.
Отставить.
Пошёл к парторгу.
– Анатолий Борисович, у меня персональная просьба.
– Персональное дело?
– Анатолий Борисович, просьба… Просьба, Анатолий Борисович.
Объяснил ему, что мне надо в Ленинскую библиотеку, а институт я бросил.
– Заниматься хочешь? Дело. Письмо от парткома я организую. Но и у меня к тебе просьба. Из ГАИ просили усилить пропаганду. Нарисуешь мне плакаты насчёт соблюдения правил уличного движения… Ты что такой зелёный?
– Нет, Анатолий Борисович, не могу рисовать. Сейчас не могу. Потом.
Обиделся. Очки снял.
– Стыдно, – говорит.
– Нет… Сейчас не стыдно… Не могу… Тошнит.
Он стал на меня смотреть.
– Объясни.
– Ну ладно, – говорю. – Можете не писать письмо. Я понимаю.
– Что с тобой творится?.. Говори быстрей… Мне некогда. У меня летучка.
– Я в музее был.
– Ну и что?
– Леонардо видел… Леонардо да Винчи. “Девушку с горностаем”.
– “Дама с горностаем”… Знаю.
– Разве она дама?
– Ну-ка зайди ко мне… Копылова, некогда, некогда. Подойди через двадцать минут.
Думаю – чем чёрт не шутит? Рискну. Расскажу как есть.
Просидели мы не двадцать минут, а полтора часа. На телефоны он не отвечал. Трезвонили – сил нет.
– Ладно, один раз потерпят, – сказал он. – Продолжай. Запустили мы это дело. Письмо я тебе, конечно, организую. От плакатов тебя освобождаю. Дима нарисует, культорг.
– Я от жизни отрываюсь… Я понимаю, Анатолий Борисович… Но не могу…
– Нет, – говорит. – Не отрываешься… Запустили мы это дело. Подготовься, а месяца через два сделаешь нам сообщение.
– Ну месяца за два я управлюсь.
Так я думал тогда.
– …А знаешь, почему ты перестал летать?
– Почему, Илларион?
– Потому что тебе понадобилось, чтобы летали все.
– Так я ведь не скрывал этого, Илларион.
– А кто будет по земле ходить?
– Ходить по земле должны все, и летать тоже все.
– Опоздал ты с этим делом, – сказал Илларион. – Все и так летают. Я этим летом летал в Сочи.
– Это не вы летали. Это аэроплан летал, а вы в нём спали.
– Ну самолёт летал, какая разница?
– И аэроплан не летал, а изо всех сил старался не упасть. Разве это полёт? Полёт – это когда ты легче воздуха, как рыба легче воды.
– Рыба не легче воды.
– Но у неё пузырь, который легче воды.
– А что у человека легче воздуха? – спросил Илларион.
– Желания.
– Любые?
– Нет… Направленные вверх… В небо…
Якушев мне сказал:
…У Тициана есть картина – “Любовь земная и любовь небесная”. По обе стороны какой-то чаши сидят две женщины – одна в парчовом платье, а другая голая. Какая из них любовь земная, а какая небесная – сам чёрт не разберёт.
…Княгиня поначалу обрадовалась, что я в Ленинку стал ходить.
– Правильно. Пора готовиться к новой жизни. Ты по каким предметам готовишься?
А потом забастовала. Меня целыми днями дома нет. После работы я туда – и до закрытия.
Парторг говорит:
– Мне твоя тёща звонила. Жаловалась, дома не бываешь. Как идёт подготовка?
– Пошлите её подальше.
– Подготовку?
– Тёщу.
– Нет, так тоже нельзя.
– Анатолий Борисович, мне поговорить не с кем. В читальном зале не поговоришь, а в курилке только про баб и про “Жигули”.
– Я тебя с одним мужиком познакомлю. В школе с ним учился. Якушев Костя. Он про Леонардо всё знает.
– Познакомьте, Анатолий Борисович. Я вам сто плакатов нарисую.
– У него и прозвище было Да Винчи.
– А он кто?
– Художник.
– Дело!
– И у тебя быстрей пойдёт.
…У меня после этого так дело быстро пошло, что не успел я оглянуться – жена говорит:
– Я интеллигентная женщина…
А я говорю:
– Знаю… Ты интеллигентная женщина, а я Квазимодо. Пианино ты оставляешь себе.
– Какое пианино?
– Шутка.
– Юмор – это вульгарно.
– Мама говорит. Всё знаю. Это мама твоя вульгарная.
– Маму не тронь.
– Это святое. Я знаю.
– Я твоего Якушева ненавижу. Между прочим, он мне всё время на грудь смотрит.
– Так, может, больше смотреть не на что?
– Коля… Что ты делаешь?.. Где наша любовь?
– У мамы спроси.
– Она мне всю жизнь отдала.
– Отняла, – говорю. – Пойдём в музей.
– Голых женщин смотреть? Да?
– Одетых. В Третьяковку пойдём. Якушев велел к Сурикову приглядеться.
– То Леонардо, то Суриков, то Илларион. Я твоего Иллариона ненавижу.
– Пойдем в музей.
– Нет.
– Пойдём в музей!
– Не пойду.
– Пойдём в музей…
– Пойдём.
Я в то время занимался как бешеный. То времени девать некуда, а то сутки мигают как светофор…
Два месяца промигало, я сообщение в клубе сделал. По энциклопедии. А то, что я про Леонардо в Ленинке вычитал – этого не расскажешь. Слов таких у меня тогда не было. Закружило меня. Сплю и вижу ту эпоху итальянского Возрождения. Пока Якушев не сказал:
– Затормози. А то специалистом станешь.
– Дядя Костя, а разве плохо?
– Художник в тебе пропадёт. Засохнет.
– Почему?
– Материал задушит. Полюбишь болтать про Леонардо, а его разлюбишь.
– А что делать?
– Тебе надо цветом захлебнуться. Пора тебе Сурикова поглядеть. Иди. Придёшь – расскажешь. Только не ври. Не понравится, так и говори – не понравилось. Иди. Да жену возьми.
– Зачем?
– Возьми. Знаю, что говорю.
А это у нас не первый разговор с ним про Сурикова.
Ну, потопали мы. Я такси взял. Согласилась всё же ехать моя Княгиня.
Не спугнуть бы. Только бы глядеть не мешала.
Подъезжаем к Третьяковской галерее – опять очередь. В полпереулка.
– Всюду у нас очереди, – говорит Княгиня.
– Не срамись, – говорю. – Не за гарнитурами очередь.
– Давай займём, – говорит. – А пока погуляем.
Заняли мы очередь за одним из Челябинска, а позади нас из Бурятской автономной пять человек. Говорят – ничего не поймёшь.
Стали неподалёку ходить. Выпили кофе с бутербродами – напротив Третьяковской галереи палатка. Рядом школа художественная. По двору шмокадявки с этюдниками бродят, и лапы перемазанные. Автобусы стоят. “Интурист” машины гоняет.
– Смотри, какая решётка богатая, – говорит Княгиня. – Войдём, поглядим.
– Библиотека, – говорю.
– Вот люди жили… – говорит Княгиня.
– Которые решётку делали?
– Это меня не касается.
– Зря я тебя позвал.
– Я могу уехать.
И всё такое в этом роде.
– Ну скоро там?.. А то я устала ждать.
– Пускают… Бежим.
Пошли мы по Третьяковке. Картин бесчисленно. Княгиня:
– Смотри, какая картина красивая. Вот бы нам такую над тахтой. Дорогая, наверно. А раньше, наверно, дешёвая была. Сейчас все предметы роскоши дорожают. Коля, а это кто? У него лицо незначительное. Я бы за него не пошла. Коля, а это, смотри, Пушкин. Как живой. Кипренского. Я знаю.
Экскурсоводы орут. Княгиня ахает.
А тут звук выключили. Вижу только, Княгиня рот разевает, как рыба, а слов не слышно. Это значит я картину увидал и опять про Леонардо вспомнил. Александр Иванов. “Явление Христа народу”. Тихая картина. А вокруг тихие люди. А по стенам тихие этюды к этой картине. И тут я почему-то снова вспомнил Леонардо.
Нет, подумал я, мало я ещё про Леонардо знаю. Продолжим. Не нахлебался я ещё этого варева. Надо разобраться. Я докопаюсь. Самому мне художником не быть, это я понял. Но я докопаюсь до сути. А до какой сути – сам не знаю.
Смотрю на картину – Александр Иванов, русский человек, а картину написал из чужой жизни. Значит, надо ему это было для чего-то, значит, можно проникнуть. Во всё.
Иоанн Креститель – лицо мощное. А вдалеке тихая фигура. Слева – ветки, а справа мой предок сидит, улыбается сквозь слёзы – раб несчастный. Понять старается, что к чему.
– Коля, идём. Не надо… Это религиозная картина? – шёпотом спрашивает Княгиня.
– При чём тут религия?! – шёпотом ору я. – При чём? Человека не понимают, вот про что. Это про гражданскую войну картина. Александр Иванов до семнадцатого года не дожил и до Отечественной не дожил. Но это всё одна и та же революция. Она ещё при Леонардо да Винчи начиналась. И ещё раньше, при Спартаке. Рабы подымались, к ней с разных концов подходили, кто как мог в те годы. Она же вырасти должна была.
– Коля, я не знала, что ты идейный, – говорит Княгиня.
– Я сам не знал.
Но тут заорал экскурсовод, и нас оттёли.
– Давай, – говорю, – больше нигде не останавливаться. Забежим, только Сурикова поглядим. А то перед Якушевым неудобно.
И двинулись мы через все залы.
– Быстрей, быстрей, – говорю. – Некогда. А то Якушеву рассказать будет нечего. А он спросит.
А сам расплескать боюсь. Есть Леонардо, есть. Живёт зёрнышко.
Один только раз остановились.
– Красивая какая, –говорит Княгиня. – Незнакомка. Я знаю. Она моего типа или нет? А какого я типа? А глаза я тоже так могу делать. Гляди – так?
– Ещё лучше, –говорю. – Идём.
Ну прошли мы “передвижников”, прошли “Трёх богатырей”. Входим к Верещагину – черепа, антивоенные картины, узорная дверь в Средней Азии. И в зал Сурикова. Картины тоже огромные – “Боярыня Морозова” как раз напротив двери.
Страшная какая-то. Нищий на снегу сидит. Ноги грубые. Поп хохочет. Чёрная женщина руку подняла, а в руке кандалы. Лицо красивое, только голодное.
На репродукциях всё понятно было. Раскол, старая вера, новая вера. Слева противники, справа – союзники. Это я уже знал. Экскурсовод рассказывал ещё до армии. А на картине всё стало по-другому. Краски, краски. И страшная какая-то. В общем, понимаю – большая вещь. Но в общем не понравилось. Так Якушеву и доложу. Ничего не поделаешь. Каждому своё. О вкусах не спорят. В следующем зале “Иван Грозный”. Это я уже видел. А дальше вниз по лестнице ещё тыща залов.
– Пойдём, – говорю, – обратно. А вперёд идти – запутаемся.
Пошли обратно через верещагинский. Смотрю, а его картины какие-то рыжие стали. Как будто через жёлтый светофильтр. Смотрю – Княгиня моя отстала и назад глядит.
– Идём…
– Подожди… – говорит.
Оглянулся и я – куда это она смотрит? И вдруг сквозь просвет двери опять Морозову увидел. Не всю. Дверь мешала. И вдруг вижу – серебро.
На картине – зима, но серебряная и что-то напоминает. А что? Не могу вспомнить. И вдруг вспомнил – погоду напоминает, которая была, когда я от “Девушки с горностаем” уходил.
– Коля, я ещё хочу посмотреть…
Я так удивился, что говорю:
– Ну давай.
Двинулись обратно.
– Коля, помедленней…
Пошли помедленней, а навстречу нам надвигалась великая картина. Чем ближе, тем более великая. Фигуры те же, а картина всё лучше, всё больше. Великая. Пока я не понял – цветом захлёбываюсь. Как это можно – не знаю, только чувствую – печаль и стойкость, и как будто я мимо картины смотрю, а как-то всё печаль и стойкость.
Подошли. Смотрели. То проходило, то снова подхватывало. Другие картины Сурикова смотрели, “Меншикова”, “Стрельцов”, портреты, и снова – на неё.
– Я посидеть хочу, – говорит Княгиня.
– Посиди.
И сам присел рядом. Экскурсия подошла и загородила.
– Коля… что же это мы со своей любовью сделали? – говорит Княгиня.
– Маму спроси.
– Перестань…
А на меня такая духота напала, такая лень.
– Наверно, надо долго мучиться, чтобы искусство понять, – говорит Княгиня.
– Наверно, – говорю я.
– Хочешь, “Ивана Грозного” посмотрим?
– Давай.
Заглянули.
– Нет, – говорю. – Не могу. Может, он и великий ху дожник, а сейчас не могу.
– Идём, ещё посидим.
Сели. Экскурсии то закрывали картину, то открывали.
– Коля, – говорит Княгиня. – Оказывается, я русская женщина…
– Значит, и у нас Возрождение… А между прочим, у Сурикова жена была француженка.
– Ну да?
– А у Пушкина дед был из Эфиопии, а Александр Иванов в Италии картину писал, а ученик Леонардо Московский Кремль строил…
– Поехали к Якушеву… Я ему спасибо скажу.
– А я тебе.
– За что?
– За Сурикова.
– А я при чём?
– Если бы ты не оглянулась, я бы ушёл.
– Посмотри… У девушки руки замёрзли… красиво как. Нет… не то… Коля, ты меня любишь?
– Похоже, что так.
– Коля, мне кажется, что я летаю. Дай руку, прислони. Слышишь? Как сердце стучит?
– Не надо. Смотрят.
– Коля, наплевать.
– Наплевать.
Сидели, пока не стемнело. Нас никто не гнал. А когда стемнело – картина даже вблизи стала серебряная.
Потом свет зажгли, и мы ушли.
– Дядя Костя, откуда вы узнали, что она цвет лучше меня видит?
– Не цвет. Колорит. Цвет в жизни, колорит в картине. Колорит – это музыка цвета. Её сочинять надо. До женщины музыка быстрей доходит. Зато мы крепче усваиваем.
Это он как в воду смотрел.
…В небе всё просто.
С другой стороны, если не знать, что ты часть процесса, то тоже озвереешь. А знание даёт, нет, не даёт, а придаёт мужества.
Якушев мне сказал:
…Если описать повара или доктора не в героическом виде, а в каком-нибудь ином, то все повара и врачи обидятся.
Из-за путаницы. Из-за путаницы с понятием “типичное”, которая восходит к путанице между искусством и жизнью.
У жизни в целом нет задачи воздействовать на нас, а у искусства есть. Потому типичное в жизни и в искусстве– это разные вещи. Как цвет и колорит.
Типичное в жизни тяготеет к абстракции, а в искусстве к конкретности.
Казалось бы, дело очевидное – в жизни и в искусстве типичное – это обобщение на разных уровнях. Казалось бы. Но и это не так.
В жизни мы типизируем для удобства, для экономии мозгов, для понятности, для познания – “дерево”, и точка, а какое? Пока неважно, важно, что не “камень”. А в искусстве мы типизируем для впечатления.
Если изучать быт помещиков по “Евгению Онегину”, то поэма умирает, потому что пропадает впечатление, что её сочинил Пушкин.
Типизация в искусстве – это сочинение. А что такое сочинение, не знает никто. Сочинение для того, чтобы произвести впечатление, а впечатление не даёт крови прокиснуть и апеллирует к душе.
Вот почему мудрец говорит, что очень легко представить себе, в каких обстоятельствах зародился какой-нибудь образ, но почти невозможно объяснить, почему он воздействует, когда эти обстоятельства пропали.
А что уходит вместе с обстоятельствами, то и не искусство.
А бывает, кажется, это уходит, ан нет, вдруг снова возвратилось.
СЦЕНА 1
Флоренция. Сад около дома. Вечер. Половодье цветов и листьев. Две женщины – молодая и старая. Старая вяжет. Молодая поёт, подыгрывая на лютне.
Мона Лиза
Уезжал или нет ты,
Об этом не знаю,
Но когда я ложусь
И когда я встаю,
Ты со мною всегда.
И когда я мечтаю,
Входишь ты в мою душу
И в песню мою.
В сновиденьях моих
Мы друг к другу прильнули.
Мы с тобою вдвоём,
Мы с тобою вдвоём.
Если серьги мои,
Звеня, шевельнулись,
Значит, ты шевельнулся
В сердце моём.
Как вечер этот ласков! Он такой
Сиреневый и тихий, этот вечер,
Как будто он из вечеров последний,
Как будто завтра грянет ураган.
Анита
Ох, не люблю я эту песню, Лиза.
Который год ты замужем, синьора,
А всё ещё как девочка поёшь.
Мона Лиза
Когда ещё я девочкой была…
Ты помнишь ли, Анита? Помнишь, помнишь?!
Ещё до разорения отца?
Я столько пела…
Анита
Как не помнить, Лиза!
Мона Лиза
Однажды, помню, вот в такой же вечер
Отец велел мне петь перед гостями.
Я раскапризничалась и не стала петь,
Хоть гости все о том меня просили.
Вдруг незнакомец подошёл ко мне.
Его я прежде в доме не видала.
“Ведь мы с тобою вместе будем петь”, –
Сказал он мне, потом обнял за плечи
И посмотрел в глаза мне так глубоко,
Как будто заглянул на дно души.
И он весь вечер пел, играл на лютне,
И я весь вечер вторила ему.
Его я долго помнила, Анита.
И всё отца просила, чтоб позвали.
Но он сказал, что мастер Леонардо
Уехал далеко и не приедет.
Как много пролетело лет, как много…
И мой отец давно уже в могиле,
А он опять приехал и сейчас
Сидит в гостях у мужа моего.
Как странно всё, Анита!
Анита
Что ж такого? Приехал и опять уедет.
Мона Лиза
Не знаю… Может быть, и нет…
Постой, Анита, кажется, идут…
Анита
И впрямь выходят. Надо их встречать.
Куда ж ты, глупая? То повидать хотела,
А то бежишь?
Мона Лиза
Я не хочу, Анита.
Анита
Ну вот, опять всё детские затеи.
Порядка ты не знаешь, Мона Лиза.
Ведь муж твой, как всегда, перед прощаньем
Захочет показать тебя гостям.
Мона Лиза
Захочет – позовёт…
На лестницу выходят Леонардо и Аталанте, Зороастро, Мельци. Джокондо их провожает.
Джокондо
Итак, синьор маэстро, все дела
Успешно привели мы к окончанью.
Имущество немногое, синьор,
В порядке всё. И пени и доходы
Положены сполна на ваше имя.
Леонардо
Благодарю, Джокондо, от души,
За хлопоты твои о нашем деле,
Которое вы сделали своим.
Я напишу для вас мадонну с сыном.
Как только встречу нужную натуру.
Джокондо
Увы, твою картину, о маэстро,
Приобрести сумеет только князь.
Аталанте сбегает по лестнице, срывает цветок. Замечает Мону Лизу и молча кланяется ей.
Хочу я вам представить, Леонардо,
Супругу драгоценную мою.
Идите-ка сюда, моя синьора.
Мона Лиза
Я видела вас в доме у отца.
Давным-давно… Я девочкой была.
Пауза. Аталанте, прислонившись к стене, мурлыкает песенку, позванивая на лютие. Леонардо и Мона Лиза смотрят друг на друга.
Аталанте
(поёт)
Вот утро встало –
Голубые горы.
Вот утро встало –
Голубые воды.
А почему
Грустишь ты, Аталанте,
И трусишь ты,
Бродяга-пилигрим?
Вот ты летел
Тропою соколиной.
Вот ты пришёл
В Тосканскую долину.
Увы, Мадонна,
Бедный Аталанте
Не сам пришёл,
Он жаждою гоним…
Леонардо
Вы девочкой остались, Мона Лиза.
Я помню вас… Вы Лиза Джерардини,
Дочь неаполитанского купца.
Ну вот вам и натура, Джокондо.
Я напишу для вас эту картину.
Джокондо
Но нужен ведь младенец для Христа,
А я, синьор, увы, пока бездетен.
Мона Лиза
О, можно написать меня одну…
Джокондо
Но так никто не делает, синьора.
Мона Лиза
А разве не приятно будет вам
Иметь изображение супруги?
Джокондо
Ведь я своей живой жены владелец,
Зачем мне покупать изображенье?
Леонардо
Я напишу портрет её, Джокондо.
Вам это ничего не будет стоить.
Джокондо
Ну, это положение меняет.
Хоть я польщён, маэстро Леонардо.
Однако это странно для меня.
Я понимаю, написать картину,
В которой, скажем, что-то происходит,
Христа с апостолами… А, синьора?
А то отдельно женщину…
Леонардо
Джокондо,
Изображение Мадонны выше
Любых апостолов.
Аталанте
Аминь.
Леонардо
Прощайте, Мона Лиза дель Джокондо.
Хочу уйти и вспомнить всё, что было,
Что удалось и что не совершилось.
(Уходят.)
Мона Лиза
Как хорошо… Ты слышишь, о Анита?
Он не уедет!.. Нет, он не уедет…
Анита
С ума сошла?..
Мона Лиза
Оставь меня, Анита.
Анита
(после паузы)
Ах, вот что вы задумали, синьора!
Молчание.
О господи, а мне и невдомёк!
Ну нет, змея, меня не проведёшь!..
Тебя ещё ребёнком я узнала!
Не допущу, чтоб ты себя сгубила.
Мона Лиза
Ты ничего не можешь изменить.
Анита
Что ты сказала, дрянь? Да я сейчас
Пойду и кликну твоего супруга!
Мона Лиза
Нет, не пойдёшь…
Анита
Иду сию минуту!
Мона Лиза
Пойдёшь – я отравлю тебя, Анита!
Анита
Ты это мне сказала, Мона Лиза?..
Иль мне послышалось?..
Мона Лиза
Или себя… Мне всё равно… Как хочешь…
Анита
Ох, девочка моя! Цветочек ясный!
Да кто же он такой, он дьявол?!
Да ведь ему уже за пятьдесят!
Твой муж его на десять лет моложе!
Мона Лиза
Оставь меня, Анита… Голова горит…
Прости меня, Мадонна! Это он!..
…После той картины Василия Ивановича Сурикова и того долгого возле неё сидения на стульях мы сблизились с Княгиней.
Мы накинулись друг на друга как голодные. А тут смотрю – изменилась моя Княгиня, другая женщина стала. Какое там воспитание! Всё полетело куда-то.
Сначала я обрадовался, а потом смотрю – дело не в ту сторону полетело. Полёт, видно, тоже разный бывает. Душа у неё от той музыки цвета раскрылась, но душа неумелая, и чем занять себя – не знала, всё в тёмные ночки ушло. Была она спящая, а теперь проснулась.
– Что это мы делаем? – иногда спрашивала она меня.
А мама её, дура, говорит:
– Наконец-то ты женщиной стала, наконец-то… У меня билеты есть на фестивальный просмотр. Прелестный современный фильм.
А в прелестном современном фильме – бордель.
– Ты знаешь, Коля, во всём мире сексуальная революция. Наверно, так надо.
– А как же любовь?
– А я только сейчас поняла, какая бывает любовь. Не знаю, что ты чувствуешь, а я чувствую что-то неописуемое.
И я начал чувствовать что-то неописуемое.
Юбки пошли короткие, ноги стали открытые до самого “ура!”, до “боже мой”. Одна фирменная девчонка лозунг бросила: “У кого ноги мини – те носят макси, а у кого ноги макси – те носят мини”. В газетах писали – шофёры в столбы врезались, когда мини проходили по тротуару. Потом примелькалось. Теперь в моде макси и сапоги солдатские, и стало жаль тех вытаращенных коленок. Как на человека угодить?
А я тогда вспомнил “Девушку с горностаем”, умницу, и думаю – где же я? Куда я девался?
А я уже тогда влез в эту эпоху Возрождения и книги читал пудами. И чем больше читаю и по музеям хожу, тем больше, мне кажется, Леонардо понимаю. Хаос у них там был в эпоху Возрождения, а Леонардо пытался жизнь человека осмыслить и найти главную линию, линию красоты. Но житья ему не было. Все точно взбесились.
Особенно из книжек про Леонардо мне запомнилось – Габриэль Сеайль, “Флорентийские чтения”. Волынский не понравился – одни стоны. Всего Леонардо прочёл от корки до корки, издание “Академия”. На Гуковском – плевался. Гуковский Леонардо дилетантом считал, а сам доказывал, что эрмитажную “Флору” не Мельци написал, ученик Леонардо, а сам Леонардо, и что это и есть “Джоконда”, а не та, что в Лувре висит, – так у него получалось по его вычислениям. Я в Ленинград смотался, смотрел. Слабо. Складки на рукавах как бельё на верёвке – макаронами, а у Леонардо в складках ритм… А “Мадонна Лита” эрмитажная – под вопросом. Наверно, вопрос профессор Гуковский поставил. А уже мне было ясно, что, кроме Леонардо, её просто написать было некому. Я уж тогда все картины Возрождения мог на репродукциях вниз головой узнавать. Зрительная память у меня развилась как у фотоаппарата – щёлк, и намертво. А тут я ещё достал книги – “Быт и нравы Италии эпохи Возрождения”, кажется, Бургхарта какого-то, и совсем ополоумел. Кондотьеры грызутся как пауки в банке, резня идёт, отравляют друг друга, колдовство, ведьмы, Содом и Гоморра, Макиавелли советует, как в князья пробираться, Цезарь Борджа родственников приканчивает, художники крепости строят, Савонарола картины жжёт, призывает очиститься от скверны роскоши.
Днём работа – это дело чёткое. Вечер и полночи – постель, где Княгиня помаленьку ведьмой становится. Под утро – выписки сортирую – зачем? – ещё сам не знаю. Тут её мать в отпуск с собой увезла в санаторий. Я один в пустой квартире как с цепи сорвался – почти спать перестал. Два часа перед работой спал, а после работы – домой. Всё хотел жизнь того человека себе представить и как он столько мог успеть.
Но тут всё кончилось, как и надо было ожидать.
Съел я всухомятку кусок сыра плавленого и кильку, и у меня рвота и понос.
А годом раньше холера была. Все тряслись.
Наутро встать не могу. Вызвал доктора. Тот расспросил меня брезгливо. Приехала машина, и меня – в поносную больницу.
Холеры не оказалось. Говорят – дизентерия, будем ждать анализов.
Поносники в домино режутся, а я им про Леонардо рассказываю дохлым голесом.
Спрашивают:
– Ты интеллигент?
– Нет, – говорю, – работяга.
– Так какого тебе хрена до этого Леонардо? Садись, козла забьём. Или ослабел?
– Ослабел.
А потом на электроректоскопии не выдержал и заплакал. Я такого унижения ни разу в жизни не испытывал. А докторша, молодая, красивая, говорит:
– Ну что вы так волнуетесь? Это же обычное дело.
– Не могу, – говорю. – Или отпускайте, или удавлюсь к чёртовой матери.
– Не могу. Ждите анализов.
А ночью пришли строчки. И я даже не сразу понял, что это стихи, но без рифмы.
До утра просыпался раз десять и проверял, не забыл ли.
Утром записал.
И тем же утром анализ пришёл – нет дизентерии, острый нервный колит. Доконал себя.
– Отпустите, – говорю. – Буду долечиваться дома. Я погибну здесь.
– Очень вы чувствительный.
Однако отпустили.
Приехал домой. Лежу, в потолок смотрю. Рискнуть, думаю, или нет?
Я стихи писал, пьес никогда не писал, да ещё в стихах. Я же не Шекспир, я просто девушку с горностаем полюбил; и Леонардо, и Александра Иванова, и Василия Ивановича Сурикова. Мне ж пьесу не осилить, а не осилю – брошу. А если осилю, что с ней делать, с этой пьесой, а? А у самого трепет, и, чувствую, лечу, влечёт меня куда-то угрюмая чужая сила, и уходит день… на башнях облаков… певучий след… оставил тихий вечер… – неужели началось, думаю, – уходит день… как горестно… как жалко… ещё один поклон календаря…
Ну а дальше – начал эту пьесу писать.
Якушев мне сказал:
…Искусство, конечно, произрастает на почве. Но забывают, что злак хотя и произрастает на почве, однако не порождается ею.
Это раньше думали, что мухи родятся от гнилого мяса. Теперь знают, что мухи родятся от мух.
Поэтому хотя художник и родится в среде, он родится не от среды, а от художества, в нём заключённого, как настоящий учёный родится не от образования, а от ума.
Образование и среда могут только либо помочь, либо помешать развернуться тому, что положено.
Поэтому так часто искусство контрастно к среде, в которой оно возникло, но которой не порождено. Пришла пора ему родиться, и оно родится, когда благодаря, а когда и несмотря на почву. Хотя находятся умники, которые думают, что это не так.
По их логике выходит, что Пушкин-поэт родился потому, что его прогрессивные идеи оттачивались на николаевском булыжнике. А ведь дети понимают, что его поэзия – это цветок, который ломает даже асфальт. Дети-то знают.
А занимательная эстетика, эта странная наука, единственная, которая не требует проверки на практике, вместо того чтобы изучать условия наилучшие для произрастания штучного цветка, даёт рекомендации всем цветам скопом, как им ломать асфальты.
А цветок смотрит – его в пустыне угораздило родиться или в цветочном магазине, ломать ничего не надо, и главное – не сгинуть от голода или перекорма.
Занимательная эстетика хочет быть наукой, а наука ищет правила. А у искусства одно правило: каждое произведение– это исключение. Как любовь.
И тут кончается сходство произведения искусства даже с цветком.
У цветов есть сорта. Но розы одного сорта прекрасны даже одинаковые, а один стих, написанный дважды, – это всего один стих, а не два.
В природе и ремесле стандарт может быть прекрасен, в искусстве – нет.
И выходит, что искусство даже и не природа?
Природа. Только другая. Невидимая и неуловимая.
Так какого же чёрта? Как может эстетика изучать неуловимое, если она хочет быть наукой?
Между поэзией и искусством такая же разница, как между поэзией и стихами. Стихи – форма, поэзия – суть. Стихи могут быть и без поэзии, их может насобачиться делать машина. Но уловить неуловимое, чтобы передать его потом в виде стиха, может только поэт. Стих имеет традицию – ритм, рифму и прочее – в каждом языке свою. Поэзия каждый раз родится заново.
Наука занимается отделением кажущегося от действительности. И наука, изучающая науку, хочет понять, как впечатления сменяются знанием.
Искусство же занимается созданием впечатлений, которые влияют на человека, то есть на его желания.
На человеческие желания влияют и знания. Но вовсе не так крупно, как принято считать. Я знаю, что курить вредно, но курю. Я должен или испугаться, или почувствовать отвращение, тогда брошу. А если я применю волю, то это тоже желание, желание победить себя.
Искусство же может вызвать само желание бросить курить.
Оно только этим не очень хочет заниматься, хотя занимательная эстетика часто призывает его заниматься именно этим и считает это его главной задачей.
Искусство своими впечатлениями пробуждает поэта, художника или композитора в другом человеке. То есть делает этого человека на короткий момент творцом.
Творцом чего?
Многие думают, творцом стиха – если он предчувствует рифму, или композитором, если он предчувствует гармонию. Это ошибка.
Искусство делает его на короткий миг творцом самого себя.
Он догадывается о своих возможностях летать.
А иногда, если впечатление сильное и вовремя, он начинает думать, как с ними поступить, с этими возможностями.
Для учёного чужая душа – потёмки и туман, и он пытается, не понимая своей души, понять чужую. А для художника – натянута струна и тихо звенит в тумане, и он умеет сделать так, что она вдруг зазвенит отчётливо и в лад с мирозданием.
Я не знаю, может ли эстетика стать наукой или искусством – чем-то она должна стать, если она хочет существовать. Иначе от неё рано или поздно отплюются, как от схоластики. Если она хочет стать наукой об искусстве, она должна изучать впечатления.
Если она хочет стать искусством – она должна их порождать.
Третьего не дано.
Третье – это новый способ мышления, которым человечество ещё не владеет и о котором отдельные люди только догадываются.
– …Илларион, а что ты будешь делать, когда сломаешь все старые дома?
– Их ещё много в нашем городе.
– А потом?
– Есть другие города.
– А когда и их прикончишь?
– Начну ломать новые дома.
– То есть как? Зачем новые?
– Они тогда станут старыми.
– …Илларион, говорят, ты что-то изобретаешь?
– Да. Машину для разрушения железобетонных домов.
– Надо готовиться к будущему?
– Да.
– А зачем машина? Взрывай – и всё.
– Взрывы опасны, а балдой железобетон не возьмёшь.
– А что за машина?
– Вроде огромных челюстей. Будут отламывать целые блоки.
– Послушай, Илларион, ведь это страшно дорогая машина.
– Ну и что? А сколько домов ломать придётся? Окупится.
– И страшно сложная машина, и громоздкая, и как ты будешь её громоздить на двадцатый этаж?
– Окупится. Зато автоматика – престиж.
– Слушай, а зачем челюсти и автоматика? Можно просто забросить крюк на последний этаж и лебёдкой за трос тянуть – будет отламывать целые этажи.
– Нельзя.
– Почему?
– Чересчур просто.
– Ну и что плохого?
– Никто мне это не утвердит как изобретение и платить не будет. А у меня всё на лазерах.
СЦЕНА 2
Остерия близ Флоренции. Пасмурный вечер. За каменной стеной ветер сгибает кроны деревьев. Поваленные скамьи и столы.
Фанфоя
Проклятые настали времена…
Батиста, эй, Батиста! Испугался?
Не бойся, дурачок. Ушли они.
Батиста
Ушли?
(Вылезает из подпола.)
Фанфоя
Да вылезай же, надо всё прибрать.
На то мы и хозяева трактира,
Чтоб наблюдать все драки по округе.
Ты вылез? Молодец, Батиста.
Ну а теперь обратно полезай.
Опять идут солдаты.
Батиста
Ох!
(Скрывается.)
Фанфоя
Э, погоди… Солдаты – это мелочь.
Здесь едут поважнее господа.
Постой, постой… Да кто ж это такой?
О господи! Ведь это Леонардо…
С солдатами… Батиста, чёрт проклятый!
Ты вылезешь из ямы наконец?!
Батиста
Иду, иду…
Фанфоя
Да не иди – лети!
Беги в деревню мужиков скликать,
Ведут сюда солдаты Леонардо.
Батиста
Маэстро Леонардо в плен попал?!
Проклятые! Хозяин, задержи их!
Сейчас мы все придём, мы им покажем…
А бочку ту вина, что ты мне должен,
Ты выкати солдатам – пусть напьются,
Не упусти!
Фанфоя
Да знаю я.
Батиста
Бегу…
С шумом входит группа людей, окружая Леонардо. Он очень возбуждён. С ним ученики, солдаты, незнакомец.
Леонардо
Зачем меня в пути остановили,
Я шёл один… Оставьте одного…
Незнакомец
Спокойнее, маэстро Леонардо.
Леонардо
Пока я был спокойным, злые ветры
Деянья уничтожили мои.
Спокойнее?! Да кто ты, человек?
И почему вокруг меня солдаты?
Незнакомец
Мои солдаты охраняют вас,
Чтоб попугать немного мародёров.
Леонардо
О! Попугать! Перепугать до колик!
Одни боятся тех, другие этих,
Все вместе же всевышнего боятся.
Уменье человека испугать –
Воистину великая заслуга.
Незнакомец
Но преимущество великое!
Леонардо
Да, да!
Спасаться от набега мародёров
Удобнее за спинами бандитов.
Незнакомец
Спокойнее, маэстро. Так не надо.
Вина, хозяин! Живо! Получай…
Фанфоя
Приветствую вас, мастер Леонардо!
Давненько не заглядывали к нам.
А мужики добром вас поминают,
И вас самих, и ваши чудеса.
(Усиленно кланяется.)
Леонардо
А… Фанфоя… Столько лет прошло, а ты всё кланяешься… Не ходи на четвереньках – ты же человек, Фанфоя. Стой прямо даже перед самим Папой.
Фанфоя
Что вы, синьор Леонардо, перед самим Папой!.. Чуть увижу кого в хорошей одежде, спина сама гнётся, как у выдры.
Леонардо
А ты всё тот же, что и был, Фанфоя,
Неграмотен, как францисканец-минорит,
Но весел.
Фанфоя
Потому и весел,
Что я неграмотен.
Леонардо
Не притворяйся, друг,
Что ты глупей, чем есть на самом деле.
Фанфоя
Вы сильно постарели, мой синьор,
Зато успели много, слышал я.
Леонардо
Деньгами нищ. Разлуками богат.
Фанфоя
Я не о том, синьор. Я о картине вашей,
О памятнике конном говорю.
Леонардо
Картина бесконечная моя,
Что “Тайною вечерей” называлась,
Тихонько гибнет в трапезной миланской.
Картина осыпается… Через неё
Монахи прорубили дверь на кухню…
Чтоб ближе путь был с кухни до желудка…
Они сломали фреску в месте том,
Где ноги нарисованы Христа…
Они в который раз его казнили.
А конная громада князя Сфорца…
Гасконские весёлые стрелки
Её из арбалетов расстреляли,
Такие же весёлые, как ты…
Такие же неграмотные…
…Милан пылает…
Незнакомец
Все вон отсюда! Леонардо плачет,
Я, Цезарь Борджа, это говорю!
Все в страхе уходят.
Вот видите, маэстро, сеять страх
Необходимо иногда. Не так ли?
Леонардо
А-а… Это вы тот самый Цезарь Борджа,
Вокруг которого в большом числе
Внезапно умирают люди… Даже братья…
Цезарь Борджа
Последнего б не надо говорить.
Да, я тот самый Цезарь Борджа,
Которому вы будете служить.
Леонардо
Я вам… служить?! О, пресвятая дева!
Весёлый человек вы, Цезарь Борджа!
Служить вам?! Чем? Ведь я художник, сударь,
А вам необходимы мясники.
Цезарь
(вежливо)
Вы первый человек на этом свете,
Который оскорбил меня два раза
И всё ещё живой.
Леонардо
(равнодушно)
Возможно.
Цезарь
Вы будете служить мне, Леонардо.
Леонардо
Служить? За что? За страх или за совесть?
За страх? Так я единственно боюсь,
Что в вашей свалке потеряю совесть.
Служить за совесть? Так с какой же стати
Служить своекорыстию князей?
Прекрасный князь, гляди, по всей планете
Идёт объединение земель.
Кастилия сомкнулась с Арагоном.
Во Франции Людовик, старый коршун,
Давно закончил сбор коронных ленов,
В Британии ещё Эдвард Четвёртый
Остановил войну кровавых роз.
А на востоке исполин Москва
С весёлым хрустом расправляет плечи.
И только нам, Италии одной,
Невмоготу сложиться в государство!
Глупее мы? Бездарнее? Несчастней?
Цезарь
…Постой…
Воин
(вбегая)
Засада, Цезарь!
Вбегает Зороастро и хватает воина. Вбегает Батиста. Толпа крестьян.
Батиста
(с кистенем)
Назад от Леонардо! Берегись!
Пауза.
Крестьянин
Да нет… Здесь вроде всё в порядке.
Леонардо
В чём дело, молодец?
Батиста
Да нет… я что ж…
Крестьянин
Уж больно долгий разговор у вас.
Как бы чего не вышло, мы того…
Цезарь
Солдаты где? Ко мне!..
Крестьянин
Так мужики
Их повязали, вишь, на всякий случай,
Как бы чего не вышло, говорю…
Цезарь
Так, значит, западня…
Леонардо
Нет… тут ошибка.
Фанфоя
Вы нас простите, мастер Леонардо,
Народ обеспокоился. Был слух,
Что вас солдаты захватили силой.
Ну, поднялись. Кричат, мол, отобьём.
Я говорил им, что синьор красивый
Первейший друг маэстро Леонардо.
Неграмотные. Серая скотина.
Вино его пропало…
Леонардо
Чьё вино?
Фанфоя
Да он вина бочонок небольшой,
Что заработал в нынешнее лето,
Пораздавал солдатам.
Леонардо
Так, значит, ты вина лишился, парень?
Ну, это поправимо. На, держи.
Батиста
Не надо денег, мастер Леонардо.
Ведь я из тех мальчишек, вы забыли,
С которых вы писали херувимов.
(Падает на колени.)
Возьмите меня, мастер Леонардо.
Вы не смотрите, что худой. Я сильный.
Леонардо
Куда, чудак? Куда? Ведь я и сам,
Увы, не знаю своего пути.
Фанфоя
Мальчишка бредит вами день и ночь.
Сам он ничей. Подкидыш.
Леонардо
А… подкидыш.
Но я и сам подкидыш в этом мире.
Идём, подкидыш. Ты меня пронзил.
Милан горит. Я думал, уезжая,
Что позади всё созданное мной,
Что я ограблен и что впереди
Ждёт темнота лохматая меня.
Я неожиданно разбогател. Вперёд!
Цезарь
(властно)
Все вон отсюда!.. Разговор не кончен.
Все уходят, кроме Леонардо, который стоит, заложив руки за пояс.
Так слушай же, художник, речь мою.
Пусть тайна свяжет нас сильнее клятвы.
Судьба даёт единственнейший случай
Тебе для совершения мечты.
Отец мой, Папа Александр шестой,
Не будет мне помехою…. Поедем!
Поедем вместе… Слышишь, Леонардо?
Послужишь ты Италии единой.
Молчание.
Леонардо
Ты произнёс единственное слово,
Которое меня заставить может
Игру затеять даже с чёртом.
Ты это знаешь, Цезарь?
Цезарь
Знаю.
Леонардо
Нет… Не поеду… Я словам не верю.
Останусь во Флоренции. Прощай…
Цезарь
(страстно)
Но это будет! Будет! Я клянусь,
Что встанет вся страна под мою руку!
Пускай испанец родом, но страну
Один лишь я объединить сумею!
Ведь я и есть тот самый государь,
Которого ты ищешь столько лет,
Скитаясь по стране, как бледный призрак!
Тот государь, что сам осуществит
Безумные фантазии твои,
Что сеют только смуту среди черни!
Пойду на всё, лишь ты бы мне служил!
Леонардо
Не знаю… я подумаю… не верю…
Цезарь
О, Леонардо!
Леонардо
Нет! Когда увижу я,
Что ты всерьёз за это дело взялся,
Приду к тебе тогда служить на совесть.
Построю тебе дамбы и каналы,
Украшу города твои, как в сказке.
Разбогатеют люди и в довольстве
Не станут убивать себе подобных.
И расцветут науки, и тогда
Останется подняться лишь на воздух
На крыльях тех, что я построю людям.
Пока прощай!
Цезарь
(зачарованно)
Прощай… И жди гонцов.
Леонардо уходит. Остаётся Цезарь. Тихий, одинокий, жёсткий восторг.
Да, крепкий был орешек. Никогда
Не уставал я так от разговора.
Победа! А? Но какова победа?!
Нежданное свалилось мне богатство…
Медичи, толстопятые купцы,
Такого великана проглядели!
И Сфорца не сумели разгадать,
Не дали развернуться Леонардо!
О, господи, спасибо за удачу!
Благодарю за то, что надоумил
Ты песню об Италии пропеть.
Ну, я тебя не выпущу, маэстро.
Ты мне дороже княжества иного.
Сначала ты послужишь мне за совесть.
Потом служить начнёшь мне из-за страха,
Что я тебе не дам служить за совесть.
Ну а потом послужишь и за деньги.
Меня недаром Цезарем зовут.
Так и маэстро говорит – вперёд!
(Уходит.)
* * *
…Жизнь раздвоилась. И стал я жить двумя жизнями.
Не мог я больше думать, о чём прежде думал. Стало мне жалко людей, и восхищаться я стал людьми. И чем больше я жалел людей и восхищался ими, тем больше катилась моя жизнь в непонятную сторону.
– Запретить бы это искусство к чёртовой матери, – сказал Илларион.
– Нельзя. Что останется? Водку жрать?
– Ты посмотри,что с собою сделал!
Умный я стал до противности, а всё дурак дураком. И не могу понять, отрываюсь я от жизни или приближаюсь к ней. А в чём она, жизнь?
Якушев говорит:
– В том и жизнь.
– Так ведь у меня несчастья начались, дядя Костя. Княгиня моя от меня уходит куда-то вниз под гору. А я её только теперь любить начал.
– Изменяет?
– Нет ещё.
– А раньше ты счастлив был?
– Спокойный был.
– До конца?
– Нет. Всё тянуло куда-то.
– Куда тянуло, туда и пришёл, – говорит Якушев. – Значит, ты такой, а не какой-нибудь другой. И ничего с этим не поделаешь.
– А кому это нужно, то, что я делаю?
– Кроме тебя?
– Да. Кроме меня.
– Это будет видно только в конце работы. Вначале – неизвестно. Тебе людей жаль?
– Жаль.
– Значит, есть надежда, что твоя вещь будет им нужна. Живи с надеждой.
Княгиня говорит:
– Что ты делаешь, Коля? Что делаешь?
А что я делаю? Я и сам хочу понять. А пьеса движется.
Мать ей говорит:
– Бросай его. Немедленно.
– Не могу.
– Ты несчастлива. Годы идут. Ты же красавица. Хочешь, я тебя устрою в кино сниматься? У меня связи. Бросай его.
– Мама, я им гордиться начала, мама…
– Кем гордиться? Этим… этим… Вам надо срочно выяснить отношения.
А для нас это уже пройденный этап. Навыяснялись.
– Я боюсь за тебя…
– А я за тебя…
– Тебе надо срочно менять жизнь…
– И тебе…
Дальше этого не шло. Укатались.
И тут я стал замечать, что мне перестали нравиться пьесы, артисты, стихи, фильмы, картины, книжки. Не все, конечно, а большинство. Не потому, что я стал замечательно писать, нет, куда там, а потому, что они незамечательно написаны. Стали нравиться несколько человек из каждой художественной профессии. Я даже списки себе составил из наших и иностранцев.
Из наших – Пушкин и Герцен, художники – Александр Иванов и Суриков и ещё почему-то – Рокотов, из драматургов – опять же Пушкин, а если до конца честно, то сцены из рыцарских времён. Из непонятных произведений – “Слово о полку Игореве”. Из “Божественной комедии” – “Ад”. Из иностранных пьес, если до конца, то “Король Лир” – твёрдая какая-то пьеса и горькая до сухоты. Вебстер понравился – это я для себя открыл, а его почти никто не знает. Ещё открыл для себя “Лорензаччо” Мюссе. Из кино – “Чапаев” и “Аэроград”, “Ночи Кабирии”, “Новые времена”. Из Рембрандта – больше всего – последний автопортрет с полотенцем на голове, из Веласкеза – последний портрет короля Филиппа – будто одним росчерком вылеплен опойный человек, разученный художником наизусть. Из “Фауста” мне вторая часть нравится больше первой, потому что в ней есть тайна, а в первой всё понятно.
И выше всех художников для меня Леонардо да Винчи, и сам он – как он смотрит, старый, с последнего автопортрета – орлиные пронзительные очи… глядят на нас с Виндзорского портрета… и стянут рот неутолимой жаждой… у Леонардо… старческие кудри… спадают вниз… скрывая под собою… размах надменный плеч богатыря…
Прости, Княгиня. Видно, ничего поделать нельзя.
Якушев мне сказал:
…Откуда взялась эстетика? Очень хочется научиться писать хорошо. Но как научиться делать то, чего до тебя никто не делал?
…Великое не ошеломляет. Ошеломляет громкое и виртуозное.
В музее Пушкина висит портрет брата Рембрандта и небольшая картинка – Ассур, Эсфирь и ещё кто-то, кажется, Аман. Ну, брат это брат, родственник. А кто такие Ассур, Аман и Эсфирь – не помню. Что-то из Библии. Знал, но забыл. Но всегда помнил, что Рембрандт – великий художник. А почему великий, было неясно, хотя экскурсоводы так настаивали. Лучше других человека изображал? Чемпион по изображению человеков?
…Если пройти все залы до Рембрандта, то когда выйдешь на Рембрандта, то будто из тёмного леса вышел на свежий простор.
Одна женщина всё спрашивала – почему люди не летают? Это кто как. Кто летает, а кто и нет.
Рембрандт летал.
Потому что освободился. Больше всех освободился из окружавших его людей и художников. Больше всех освободился. От единого для всех гладкого приёма, от богатой жены и богатства, которое приносили ему его первые виртуозные картины, от себя прежнего освободился. И стал он не чемпионом по изображению человеков, а чемпионом писания картин, в которых видно, что не надо цепляться и пыжиться, а надо освободиться.
И тогда кисть его стала летающей, как сердце в храме вселенной, и неслыханно просты стали его картины.
Он освободился.
Как Пушкин, как Моцарт, как Рабле, как Шекспир, как Веласкез, как Гойя, как Григорий Сковорода, как беспризорный гений, который написал выше всех, потому что залетел выше всех, куда залетать нельзя:
Позабыт, позаброшен, с молодых юных лет
Я остался сиротою. Счастья-доли мне нет.
Ох, умру я, умру, похоронят меня,
И никто не узнает, где могилка моя.
И никто не узнает, и никто не придёт,
Только раннею весною соловей пропоёт.
Потому что искусство – это свобода, а что не свобода, то не искусство. А что свобода, то полёт. Сам ли ты взлетел или ещё взял с собою того, кто не летает, – это от силы твоей.
И самый могучий здесь Леонардо, незаконный сын своей эпохи и нотариуса из города Винчи.
Потому что он взлетел, подняв за собой Землю, и там, в высоте, жил, и умер, и похоронен в будущем.
СЦЕНА 3
Сад в доме Джокондо. Анита расставляет кресла. Открывает калитку – видны горы. Входит Мона Лиза. Нервничает.
Анита
Глаза бы не глядели на тебя.
Ты вся горишь.
Мона Лиза
Иди, иди, Анита.
Я счастлива, Анита… Вот и он.
Входит Леонардо. Поклон. Мона Лиза садится в кресло. Леонардо устанавливает мольберт с портретом.
Леонардо
(печально)
Начнём сначала. Мона Лиза… шаль…
Мона Лиза
Что? Ах, простите…
(Накидывает шаль.)
Леонардо
Мона Лиза, я…
Не вижу помощи от вас в работе,
Так дальше бесполезно… Что?
Минуточку… Так… Хорошо…
Джокондо
(входя)
Маэстро!
Вас спрашивают некие синьоры. Они…
Леонардо
Пусть подождут! Потом… мы продолжаем.
Нет, нет, совсем не то! О, Мона Лиза!
У вас в лице тревога. Так нельзя!
По дорожке пятится Джокондо. Не обращая на него внимания, движутся трое.
Джокондо
Синьоры, я прошу вас обождать.
Маэстро обождать велел, синьоры.
Его оттесняют.
Леонардо
(раздражённо)
В чём дело?
Джокондо
Я прошу вас!
Леонардо
Стоп, ягнятки!
Такконе
(надменно)
Мы люди Борджа…
Леонардо
Это видно сразу.
Такконе
Мы здесь закончили свои дела,
Теперь обратно к Цезарю мы едем.
Леонардо
Да мне какое дело? Дальше! Дальше!
Такконе
Он нам велел забрать тебя с собой.
Леонардо
Ты Уголино. Я тебя узнал.
Такконе
Цезарь сказал нам всем троим:
“Пойдите, привезите Леонардо”.
Что он сказал, мы то и совершим.
Леонардо
Бездарный как художник, стал
Бандитом ты. Причём бездарным также.
Однако же бездарнее всего
Ты в роли дипломата, Уголино.
Такконе
Ну… осторожнее…
Леонардо
Достолюбезный Уго,
Давай-ка отношенья уточним:
Из двух одно. Я еду либо нет.
Когда не еду – мне плевать на вас,
А если еду – наплевать вдвойне.
Ведь сразу после моего приезда
Ты попадаешь под мою команду.
Микелотто
Ты прав, художник. Уходи, Такконе.
Бамбуччо, выводи коней. Ступай!
Двое уходят.
Меня зовут дон Микеле Кордова,
Прозванье Микелотто. Слушай, мастер.
Борджа торопит. Я его помощник.
Леонардо
Его условия?
Микелотто
Вот это разговор!
Условья те же. Делать всё, что хочешь,
Награду же, какую сам назначишь.
Леонардо
(пишет)
Ступай, подумаю.
Микелотто
Цезарь торопит, мастер.
Леонардо
Сказал, подумаю.
Микелотто
…Ох, Леонардо,
Мне можно посмотреть на то, что пишешь?
Леонардо
Зачем?
Микелотто
Хочу уразуметь, из-за чего
Ты отказался от таких условий…
О господи! Портрет совсем готов!
Он больше чем живой!
Леонардо
Живой! Живой!
Одно твердят, как будто сговорились!
Вы что, слепые все?! Не понимаю.
Смотри, глаза похожи, рот и нос.
А где душа, что смотрит в окна глаз?
Где уголки трепещущего рта,
Души примета, пламенной и страстной,
Которая себя не понимает?
Джокондо
Что? Ха-ха-ха-ха… Вы извините меня, маэстро. Мне вдруг смешно стало… Мона Лиза – страстная натура?.. Да я не знаю холоднее женщины, чем она!..
Леонардо
Возможно… вполне возможно…
Мона Лиза прерывисто вздыхает.
Джокондо
Я понимаю… Воображение художника… И тому подобное.
Леонардо
Вы правы, Джокондо… и тому подобное… и тому подобное…
Джокондо
Ха-ха-ха-ха… Виноват, виноват… Ухожу…
Пауза. Леонардо поворачивается спиной к Микелотто и начинает писать.
Микелотто
Что передать мне Борджа?
Леонардо
Передай,
Что Леонардо ищет выраженья.
Микелотто уходит.
Ушёл? Нет сил. Такая тишина.
Живу и сплю, и снятся мне кошмары.
Мне видятся расколотые скалы,
На них растут кусты корнями вверх…
И будто я повис на валунах…
Я мчусь, и я стою на месте.
Не понимаю, что со мной творится?
Вы очень терпеливы, Мона Лиза,
Вы терпеливо сносите всё это:
Причуды пожилого человека,
Которому давно пора уехать,
Но он всё ищет повода остаться.
Вот и сейчас подобной отговоркой
Я вызвал смех у вашего супруга.
Противны стариковские капризы!..
Мона Лиза
Но у него нетрудно вызвать смех!
Пауза.
Зачем произнесли вы слово “старость”
В тот миг, когда вы мальчиком казались?
Казалось мне, я вдвое старше вас…
Леонардо
(неожиданно)
Вы б не могли припомнить, Мона Лиза,
Что чувствовали вы в тот вечер,
Когда впервые вас я увидал… в саду…
Мона Лиза
Зачем вам это… Я не помню… Нет…
Леонардо
Ах, если б вам припомнить удалось,
Что вызвало в вас это выраженье,
Которое ищу я. Ну, оставим.
Начнём сначала.
Мона Лиза
…Я припоминаю,
Пел песню Аталанте в этот вечер…
Вот, может быть, она?..
Леонардо
О! Аталанте!
Аталанте
Я здесь, мой Леонардо! Вот он я.
Леонардо
Послушай, мальчик, постарайся вспомнить,
Какую песню пел тогда в саду
Ты в первый вечер нашего приезда.
Ну, Аталанте! Вспомни, я прошу!
Аталанте
(смеясь)
Да что вы, мастер! Ну конечно, помню!
Ведь это же любимая моя!
(Поет.)
Вот утро встало –
Голубые горы.
Вот утро встало –
Голубые воды.
А почему
Грустишь ты, Аталанте,
И трусишь ты,
Бродяга-пилигрим?
Вот ты летел
Тропою соколиной.
Вот ты пришёл
В Тосканскую долину.
Увы, Мадонна,
Бедный Аталанте
Не сам пришёл,
Он жаждою гоним.
(К Леонардо.)
Ну что? Она?
Леонардо смотрит на Мону Лизу почти гневно.
Леонардо
Она… Нашёл… Работать…
О, дай, природа, силы исполина,
Чтоб удержать дрожащий кончик кисти.
Я вижу, расцветает на холсте
Невиданною прелестью улыбка…
(Пишет.)
Аталанте
Вы знаете, маэстро Леонардо,
Что я вам пел, увы, в последний раз!
Леонардо
(не сразу)
О чём ты, Аталанте? Не пойму.
Аталанте
Я ухожу от вас… Надолго, может быть…
Леонардо
(гневно)
Ты разве друг?.. Ты враг мне, Аталанте!
Приходишь и уходишь, словно тень,
И душу мне тревожишь понапрасну.
Что ты задумал? Говори сейчас!
Зороастро
(входя)
Скажи ему… Скажи, так будет лучше…
Аталанте
Я ухожу недалеко, маэстро…
Там бедняки решили восставать…
Смешной народ… Не терпят тирании…
Ну, в общем и так далее…
Леонардо
Нелепость.
Мона Лиза
Но вам зачем?! Вы музыкант!
Аталанте
Синьора,
Я сочинил им песню. И теперь
Они зовут послушать исполненье.
Леонардо
Резню нельзя резнёю уничтожить,
Необходимы знанья.
Аталанте
Что ж, вы правы.
Но не могу им в песне отказать.
Ведь от моей пропетой к месту песни
У вас нежданно двинулась работа.
Что ж… Может быть, начнётся и у них.
Прощайте и простите, Мона Лиза.
Леонардо
Ну вот и всё… Остановить нельзя.
Прощай, певун.
Аталанте
Прощай, мой Леонардо.
Аталанте всматривается в лицо Леонардо.
Остановить нельзя… Вы знаете.
Леонардо
Иди.
Жизнь – это смерть. Живёшь – теряешь.
Нашёл улыбку – друга потерял.
Я провожу тебя. Прощайте, Мона Лиза.
Уходят.
Анита
Да что с тобой?
Мона Лиза
Устала я, Анита.
Анита
Сидела в кресле и устала?
Мона Лиза
Устала я, Анита.
Ты помоги добраться до постели.
Анита
Какая же постель в такую рань?
Мона Лиза
Мне надо выспаться. Ведь завтра снова он.
Анита
Ох, будь он проклят, тот портрет!
Мона Лиза
Анита!
Анита
Иду, иду!
Уходят. Занавес. Перед занавесом – Леонардо, Аталанте и Зороастро.
Леонардо
Когда со мной прощался Тосканелли,
Он говорил, что нет порядка в мире,
Что этой жизнью управляет хаос,
И наши все великие деянья –
Царапины на черепе земли.
Ты прав был, Тосканелли, а не я,
Когда в щенячьем молодом зазнайстве
Считал тебя я слабым, а не мудрым.
Страдает горемыка человек,
Плотины прорываются морями,
Ломают ядра крепостные стены,
И хрупки стены дома твоего,
И бьётся сердца жалобный комочек,
И нет того, кто бы достиг покоя,
Страдает горемыка человек.
Надежды нет!
Аталанте
Спасение в познанье.
Леонардо
На дне познанья горечь пораженья.
Когда ты молод, непременно ждёшь,
Что за углом разгадка всех загадок.
Когда ж зайдёшь за вожделенный угол,
То видишь не дорогу через хаос,
А спину любопытного юнца,
Что там стоит, откуда вышел ты.
Вот так мы ходим, как слепые мулы,
И вертим чью-то мельницу по кругу.
А кто-то сверху смотрит и смеётся.
Аталанте
Ты сдался, Леонардо?
Леонардо
Замолчи.
Взгляни наверх – ты видишь очи неба.
Я веровал, что стройный этот мир
Играет вековечные мотивы,
Скрывает ослепительные тайны.
И станет жизнь как песня и как розы.
Что бедствия от глупости людей.
Но мысль о той гармонии – лишь сказка
Вся эта жизнь – взбесившийся скакун.
Аталанте
Ты сдался, Леонардо?
Зороастро
Нет… он струсил…
Но это поправимо.
Леонардо
Да… Уйди…
Зороастро и Аталанте уходят.
Леонардо
(один)
Тогда она звалася Моной Лизой.
Зачем ты мне принилась, жизнь моя?..
* * *
…Вы заметили – я не рассказываю о своей жизни с момента рождения, о родителях, о пейзажах городов и селений, о своей трудовой деятельности.
Потому что для этой вещи всё это не имеет значения. Почему так – не знаю. Но это так.
Я пишу только то, что имеет значение, и боюсь отвлечься.
Пьесу “Дорога через хаос” про Леонардо да Винчи я писал в отпуске. Потом взял отпуск за свой счёт. Потом уволился с завода. Это был уже другой завод, не АТЭ-1, а маленький и слегка халтурный.
Потом мы проели всё, что у нас было, и жрать стало нечего. Потом Княгиня ушла к администратору театра. Я видел его. Быстрый и ласковый, ласковый и быстрый. Настоящий пробивной мужчина. Княгиня поступила на работу и стала курить. По вечерам они играют в домино и лото. Княгиня забеременела. Я бросил пьесу и вернулся на завод. Жизнь наладилась. Я перестал летать.
– …Слетаем? – сказал Илларион.
– Куда? – испугался я.
– За бутылкой.
– Я разучился.
– Пить?
– Летать.
– Нет, всё-таки нельзя, – говорит Илларион. – Ползи домой.
– А ты?
– Я тебе из компании позвоню.
Я приполз домой. Солнце закатывалось над Адриатическим морем.
Почему над Адриатическим? Не знаю. Вспомнил – Якушев мне рассказал.
Якушев мне рассказал:
…Общество живописи “Ослиный хвост” возникло так. Может быть, не все знают. Привязали ослу к хвосту кисть. Подставили палитру. Осёл помахал хвостом по палитре, потом по холсту. Получилась пёстрая мазня. Картину назвали “И солнце закатилось над Адриатическим морем”. Выставили. Картина имела успех. Потом долго смеялись. Но это уже ничего не могло изменить.
Оказалось, что, подчёркиваю, любое случайное сочетание красок на человека с воображением может произвести впечатление. Оказалось, что любой элемент живописи – линия, пятно, цвет и прочее могут производить впечатление независимо от предметов, которые они должны воспроизводить.
Я не знаю, как вам, но мне почему-то кажется, что Леонардо, который советовал отыскивать сюжеты картин, вглядываясь в пятна плесени на старых стенах, и Эйзенштейн, который после своих теорий монтажа понял, что монтируется всё, – мне кажется, что они не глупей тех эстетиков, которые велят так не думать.
…Если картину можно рассказать, значит, она не до конца картина. Потому что колорит не расскажешь. Колорит – это музыка приёмов. А как расскажешь музыку? Можно только подогреть интерес к встрече с ней.
…Иван Грозный убил сына. Репин написал об этом картину. Умирающий сын одет в розовый кафтан и зелёные сапоги. Если бы он был одет в зелёный кафтан и розовые сапоги – ничего бы не изменилось. Просто в этот день он был бы одет по-другому. А какая разница?
А если боярыню Морозову переодеть в оранжевое платье, то будет другая картина. Потому что у картины будет другая музыка. Потому что Репин не до конца музыкант, а Суриков – до конца.
…Музыкой приёмов мы изображаем видимый мир, но видимый мир можно изобразить и без музыки приёмов. Это может сделать фото. Но такое фото не искусство. Потому что у него один приём – выбор факта. Но сам факт изображён не музыкой приёмов.
А для чего она нужна, музыка приёмов?
Чтобы научиться летать.
Сами приёмы – ничто. Они просто следы полёта или имитация его.
Если художник летал, то это передаётся рано или поздно. Если имитировал полёт, то и это передаётся.
А как же осёл, который намахал картину хвостом? Ведь в ней были одни лишь приёмы, сваленные в кучу. Ведь это противоречит тому, что приёмы – это следы полёта.
Не противоречит.
Осёл намахал не картину, а плесень на стене. У плесени на стене тоже нет задачи взлететь, но она может породить полёт, если в тебе есть нечто от Леонардо.
Плесень – это хаос приёмов. Но хаос в музыке тоже приём, если он помогает полёту.
– …Теперь тебе пора прикоснуться к Рембрандту, – сказал Якушев. – И не спорь с эстетиками. Гений всегда что-нибудь добывает, а эстетика потом учит добывать то же самое.
– Значит, эстетика не нужна? – спрашиваю я.
А я к тому времени прочёл эстетику – шесть томов отрывков избранных эстетиков. Мне Илларион подписку устроил. Как раз начался книжный бум. Книжный бум – это когда книги не покупают, а вкладывают в них деньги в надежде на то, что бумаги всегда будет мало и их не переиздадут. И ещё покупают престиж. Но не престиж культурного человека, а тоже престиж богатого. Старые картины не укупишь, да и как узнаешь, кто из нынешних художников станет классиком, а издательство знает, кого издавать. В барахле, коврах и хрустале наступило разочарование. О мебели и автомобиле и говорить нечего – каждый год новый образец. А книги чем старше, тем дороже. Даже захудалые.
– Илларион, как же тебе удалось подписку достать на эстетику?
– Шофёр у меня есть знакомый, в театре работает. Сестра его жены в Будапеште живёт, за венгра вышла, а его дядя здесь в торгпредстве работает, и у него в книжном магазине завотделом знакомая.
Ну, получил я эстетику. Читаю.
Якушев сказал:
– Если эстетика хочет быть наукой, она должна не картины изучать или книги, а создавать теорию творчества и теорию впечатлений. То есть изучать художника и зрителя. А картина – это посредник. Как можно деньги изучать, если не знаешь, как их зарабатывают и как тратят? И к художнику уже начали подступаться, даже наука появилась “эвристика”, от слова “эврика”–“нашёл”.
– Это Архимед в ванной крикнул, – говорю я.
– Да, в ванной, – говорит Якушев. – А зритель – это ещё терра инкогнита.
– Неизвестная земля, – говорю я.
– Затормози, – говорит Якушев. – Хватит книжки читать. Приглядись к Рембрандту, а потом иди на улицу.
– А чего я там потерял?
– Себя, – сказал Якушев. – Себя.
…Потому что как слёзы вызывают слёзы, а смех – смех, следы полёта одного человека помогают взлететь другому.
Потому что только для этого и нужно искусство. Всё остальное можно получить в других местах.
СЦЕНА 4
Пасмурный вечер. Сад в доме Джокондо. Мона Лиза одна.
Мона Лиза
(у картины)
Идёт по свету слух о Джиоконде,
О чуде, что творит здесь Леонардо.
Друг друга перекрывшие эмали
Здесь сохранят мгновенья на века.
Плохие чудеса… Здесь злою кистью
В картину перелита жизнь моя.
Что смотришь на меня, проклятый образ,
Ведь ты – не я… Смотри, ведь я живая,
Я тёплая… Смотри на эти руки…
А ты всё та ж холодная доска.
О боже!
(Тяжко плачет.)
Ну будет… Ну довольно… Ф-фу… что плакать.
(Берёт лютню, поёт.)
Встала и задула свою лампу,
А луна высокая светла.
Знаю, знаю, что не нужно плакать.
Вот опять слезинка потекла.
(Выходит из калитки на пустую площадь.)
Ох, ты в беду попала, Джиоконда,
Цена твоей картины – жизнь твоя.
(Поёт.)
Почему тоскливее всего мне
Эта мысль о том, что вдалеке
Обо мне ты никогда не вспомнишь,
Не узнаешь о моей тоске.
(Перестаёт петь.)
Наверно, Джиоконде неприлично
Петь песни на пустынных площадях,
Да и знобит… И в сердце словно ветер.
Нет, не дожить мне до конца картины!
Как тихо… Город словно вымер.
Пой или плачь – никто не отзовётся.
Как радостно считаться Джиокондой.
Входит Анита.
Как тягостна мне жизнь моя, Анита.
Анита
Конечно, девочка моя! Конечно!
Портрет проклятый всех нас поедает!
Мона Лиза
Съедает и любовь мою… О боже!
Нет, больше не могу…
Джокондо
(входя)
Что с ней, Анита?
Анита
А то, что нету жалости у вас.
Синьора ваша извелась совсем:
Да, у неё сил больше не хватает
Сидеть для бесконечного портрета!
Джокондо
Ну, ну, капризы, Мона Лиза,
Бесплатно пишут, музыка бесплатно,
Живая остроумная беседа…
Мона Лиза
Он говорит с портретом… не со мной.
Джокондо
Ну перестань. Какие пустяки!
Мона Лиза
Жена страдает – это пустяки?
Пускай страдает. Только бы бесплатно!
Джокондо
Вы вспомнили, что я ваш муж, синьора?
(Уходит.)
Входят Леонардо, Зороастро и Франческо Мельци. Мона Лиза садится. Леонардо пишет. Мельци поёт.
Мельци
(поет)
Вот утро встало.
Голубые горы.
Вот утро встало.
Голубые воды.
А почему грустишь ты, Аталанте…
Леонардо
Что ты пропел мне?
Мельци
Песню Аталанте…
Леонардо
Ох, Аталанте! Где-то он теперь?
Увы, Мадонна,
Бедный Аталанте
Не сам пришёл,
Он жаждою гоним.
Франческо, нет известий?
Франческо убегает.
Что такое?
Томазо, говори скорей… Ну, живо!
Зороастро
Восстание разгромлено в Ареццо…
Леонардо
Ну не тяни… Убит?.. Убит, я знаю…
Быть может, нет? (Кричит.) Да не тяни!
Зороастро
Убит.
Леонардо
Убит… Убит. Я это раньше знал…
Как он недолго пробыл у меня!
Но как я мог пустить его уехать?
Проклятая рассудочность моя…
Пустить мальчишку в чёртову затею!
Тогда зачем нужны мы, старики?
Кто разгромил восстание в Ареццо?
Зороастро
Флоренция…
Леонардо
Воюет со своею слободой…
Довольно. Хватит… Я преступно медлил.
Скоты! Убийцы! О, мой Аталанте!
Скорей! Скорей! На помощь тем живым,
Кого ещё зарезать не успели!
Остановилось время… Я пишу портрет!
Презренный!.. Зороастро!
Зороастро
Да, синьор.
Леонардо
Где люди Борджа?
Зороастро
На подворье ждут.
Леонардо
Пусть ждут. Сегодня едем.
Мона Лиза
Нет… не уезжайте…
Нет, этого не может быть… Так вдруг?..
А как же мой портрет?.. А как же…
Нет, нет, я не хочу!.. Я не пущу вас!
У вас искусство!.. Нет, я не хочу!
Леонардо
Искусство в том, чтоб счастье приносить,
А я свернул со своего пути…
Скорей! Скорей! Коней влечёт дорога!
Мона Лиза
Не уезжай, любимый…
Молчание. Все останавливаются.
Леонардо
Вы сказали…
Мона Лиза
Любимый мой… Как сладко говорить.
Леонардо
(задыхаясь)
Не верю я тому, что слышат уши.
Мона Лиза
Ну вот теперь ты знаешь… Всё равно.
Пускай… Я столько времени молчала…
Да, я люблю тебя!.. Люблю тебя. Ты мой.
Ты никуда отсюда не уедешь.
Анита
Что делает она! Что говорит!
Опомнись! Ты ведь замужем!..
Мона Лиза
(с презреньем)
“Мой муж”!
Когда отец мой умер в разоренье,
Меня ему отдали за долги,
Но душу за долги не получают.
Ты отказаться не посмеешь!
Леонардо
Я?
Мне отказаться от такого дара?!
Когда я сам люблю тебя всю жизнь!
Зачем тогда я мучился напрасно?
Что мне мешало попросить любви?!
О, боже, неужели этот мул,
Тебя купивший, как мешок овса?!
Всю жизнь я ждал, что встречу я тебя.
Не угадал лишь, как это случится.
Мона Лиза
Ты не уедешь?!
Леонардо
Сердце моё, рвись!
Мона Лиза
Ты не уедешь!
Леонардо
Люди, что мне делать?!
О Мона Лиза, неужели нам,
Как тем собакам, ухватившим кость,
Вползать обратно в конуру свою.
То, что в груди трепещет и поёт,
Мне не позволит, чтоб, закрыв глаза,
Любил тебя, спокойно ел и пил,
Когда девчонок продают, как мясо,
И нищие детишки просят хлеба.
Их тонкие немытые ручонки
За сердце меня держат, Мона Лиза.
Молчание.
Италия разбита на куски.
А этот Цезарь хочет их связать…
Мона Лиза
Из-за своей корысти…
Леонардо
Да, я знаю. Но он зовёт меня, я буду строить.
Молчание.
Мона Лиза
Да… Ты уедешь… Я не угадала.
Уносит вдаль тебя чужая сила,
В чужую даль уносит от меня…
Я знаю, ты ошибся, Леонардо,
И знаю, что остановить нельзя.
Ты разобьёшься, если не погибнешь,
Но ты найдёшь дорогу через хаос.
Леонардо
Молчи! Молчи!.. Не говори ни слова!
Когда не можешь яркость глаз умерить
И изменить свои черты лица,
То притворись ничтожною бабёнкой,
Болтающей о модах и соседях.
Скажи: “Кто не герой, тот не мужчина”,
Или: “Любовь есть женская стихия”,
Или ещё какую-нибудь пошлость!..
Мона Лиза
Боже!
Леонардо
Молчи! Меня ты обессилишь!
И не гляди так на меня. Я тоже
Глядеть не стану больше на тебя.
Давай с тобой посмотрим на портрет.
(Кладёт руки на спинку кресла, стоящего перед портретом.)
Прощай… Прощай… Здесь всё, что я умел.
Здесь ты и я в портрете этом слиты.
Смотри в глаза, ведь это я смотрю.
Глянь на уста – твоя улыбка, видишь?
Я сделал удивительную вещь. Я знаю.
Здесь всё живёт и всё поёт, как песня.
Здесь руки разговаривать умеют,
Одна рука зовёт – “Не уходи”,
“Прощай, прощай!..” – другая отвечает.
А голоса их в складках рукавов
Печальным отдаются эхом…
(Опускает голову на руки.)
Мона Лиза
(тяжело сглотнув, ровно)
Возьми с собой портрет мой, Леонардо.
Я так хочу… И эту шаль…
(Накидывает кружевную шаль на портрет.)
Прощай…
Франческо Мельци по знаку Зороастро снимает накрытый чёрной шалью портрет и выносит. Анита подходит к Леонардо, поднимает голову и крестит его. Потом ведёт к дверям. Зороастро его выводит. Мона Лиза, зажав руками рот и широко раскрыв глаза, молча рыдает. Входит Джокондо.
Джокондо
В чём дело, Мона Лиза? Что случилось?
Анита
(в замешательстве)
Расстроилась синьора потому…
Что прекратят писать её портрет…
(Выводит Мону Лизу.)
Джокондо
Н-да… Странные особы эти бабы.
Всё невпопад… и плачут и хохочут,
То не хотела продолжать портрет,
А то рыдает оттого, что хочет.
(Хлопает в ладоши.)
Входит мальчик.
Ты подмети да окна закрывай.
Свежо на улице…
* * *
Якушев мне сказал:
…Ужасающая бедность представлений об искусстве и полное неумение отличить ремесло от искусства у этой занимательной эстетики.
Чаще всего она спотыкается на двух порогах. Первый – законченность, второй – обучение.
Ремесло в жизни – великая вещь, ремесло в искусстве – это ремеслуха.
Ремеслуха любит, чтобы всё было надраено – и сюжет и характеры. Ремеслуха – новенький кубок, желательно – сервиз на двенадцать одинаковых персон, а искусство любит кубок с отбитым краем и чтоб каждая штучная персона получила кубок по себе.
Ремеслуха любит букет из тридцати георгинов с гарниром из травы, а искусство любит икебану – один цветок, веточка сосны, кусочек мха и старый горшок.
Ремеслуха любит в рассказе завязки, развязки и прочие кульминации. Найдёт, как она выражается, элементы композиции – и счастлива. Все ружья стреляют, линии завершены, загадки раскрыты, и симметрия полная, как в детской игрушке “калейдоскоп” – пяток случайных стёклышек зеркалами отражается в узор.
А искусство любит фрагмент, размытые края, считает, что в конце работы надо зачёркивать экспозицию и финал и что рассказ – это всё, что рассказано.
Ремеслуха любит классицизм, искусство – классику,
Ремеслуха любит предварительный план, а искусство – эскиз.
Ремеслуха любит Казанский собор не потому, что он искусство, а потому, что у него план понятный, искусство любит Василия Блаженного.
Искусство любит свой стиль, ремеслуха – ворованный.
Искусство любит позднего Рембрандта, ремеслуха раннего.
Искусство любит “Новые времена” Чаплина, ремеслуха – “Огни большого города” того же Чаплина.
Ремеслуха любит интригу, анекдот и стакан воды, искусство – композицию впечатлений и сцены – можно из рыцарских времён.
Ремеслуха любит, чтобы первая сцена была причиной второй сцены, а искусство любит, чтобы причиной сцен было время, их породившее.
Ремеслуха любит школу, искусство – художника.
Искусство любит Чайковского, Сурикова, Горького, Станиславского, а ремеслуха – училища их имени, куда бы они сами не прошли по конкурсу.
Искусство любит песню, которая словом жива, а ремеслуха – подтекстовку под голосистые рулады, которая называется “рыбой” и её можно научиться ловить.
Когда эпоха Возрождения начиналась, мальчик, желавший стать художником, выбирал себе мастера по душе и просился к нему в ученики. Растирал краски, бегал за водкой, постигал тайны мастерства чужого полёта и готовился к своему. А когда эпоха Возрождения кончалась и полёт эпохи иссякал, пришли рационализаторы, братья Каррачи – Анибале, Агостино и третий, забыл, как зовут, – и решили упростить проблему. Из чего состоит живопись? Из формы и цвета. Кто чемпион по форме? Микеланджело. Кто чемпион по цвету? Тициан.
Надо взять форму у Микеланджело, а цвет у Тициана, и всем станет очень хорошо. И появилась первая академия живописи, а из неё “Болонская школа” – великий Гверчино, великий Дольчино, великий Джордано и другие великие отличники производственного обучения, которых в музеях друг от друга не отличишь и которые всем хороши – только не летают.
А дело в том, что живопись состоит не из формы и цвета, а из рисунка и колорита. И их надо сочинять, а сочинять можно только летаючи. Потому что форма и цвет принадлежат предметам в жизни, а рисунок и колорит – картине, которая есть след полёта художника и есть не причина полёта, а средство для его выражения. И потому каждому художнику нужно своё. А чужое его полёт прекращает.
А если насобачиться брать рисунок у Микеланджело, а колорит у Тициана, то получится муляж. Колбаса на витрине из папье-маше, которая и по цвету и по форме точь-в-точь колбаса, только несъедобная.
…Ремесло – великая вещь, и ему надо учиться. И половина наших невзгод оттого, что пироги печёт сапожник, а сапоги тачает пирожник. А вторая половина бед оттого, что путаем искусство и ремесло.
Человеку нужны будни и нужны праздники. Чтобы будни стали праздниками, нужна песня души, нужно искусство.
Нужно сеять хлеб, и нужно летать. Но нельзя сеять хлеб в воздухе и приплясывать за плугом: не будет ни хлеба, ни полёта.
…Но, может быть, самое интересное и потрясающее, что полёт и само искусство – это не одно и то же. Не только в том смысле, что полёт – дело души, а искусство – это материальные следы. Это мы уже поняли. Но полёт души может совсем не выражаться в искусстве и может выражаться не только в искусстве.
Самое потрясающее в искусстве, может быть, то, что оно всегда полёт не для себя одного, а всегда приглашение к полёту других и многих.
Но как обучить полёту, не умея летать?
Занимательная эстетика приглашает к полёту, ползая по произведениям с восклицаниями. Художник же – как ветер…
…Первую европейскую эстетику написал Аристотель, и из неё выучили три единства и четыре формулы трагедии. И забыли, что главным для поэта Аристотель считал его натуру, способную на “священное безумие”, и забыли, что она была написана эллинской осенью, когда отцвели уже Эсхил, Софокл и Еврипид. И потому она никого из выучивших правила не подняла в полёт, а поднялись в полёт другие – Марло, Шекспир и Вебстер, пренебрегшие всеми правилами, кроме одного, – быть драматическими поэтами.
Но как часто голос песни заглушают комментарии к ней и книги почтенной памяти профессора Гуковского, который считал Леонардо дилетантом, а сам всю жизнь кормился исследованием его полёта, хотя и не мог отличить ученическую “Флору” от мощной “Джоконды”, у которой даже рукава платья выдают гения.
…Повествование о Леонардо, незаконном сыне нотариуса Пьетро да Винчи, зародилось у меня в дизентерийной палате среди грохота домино, звереющих от скуки поносников и вони анализов.
Зародилась не идея написать о Леонардо или о дороге через хаос. Это пришло позднее.
Просто возникли стихи о Возрождении, и я даже помню какие:
Надменные крутые подбородки…
Лбы низкие прикрыты волосами…
Все отпрыски фамилий знаменитых…
Медичи, Сфорца, Борджа, Малатеста!..
Проламывают головы друг другу,
За два дуката отравить готовы,
И каждый норовит в государи…
…А потом из компании мне позвонил Илларион.
Якушев мне сказал:
…Имитаторы думают, что приёмы – это средства полёта, а это всего лишь его следы.
Полетишь – будут следы, а используешь следы – не полетишь.
А сальери пытаются обучать моцартов приёмам и удивляются, почему те после этого не летают.
…А потом мне позвонил весёлый Илларион и сказал:
– Ну чего ты? Приезжай. Мы тут сидим.
– Что-то расхотелось.
– Бери такси.
– Денег нет.
– Мы тебя тут “выкупим”.
– А куда ехать?
– Близко.
– Близко шофёр не повезёт.
– Скажи ему – Петровка, 38 – поедет.
– А вы уже там?
– Нет. Дом рядом. Мы тебя встретим и проводим.
Я выполз из дому. Помахал. Поехал.
Приехал. Ждут. Трое на тротуаре. По росту – огромный – друг хозяйки дома, пониже – её сын. Ещё пониже – Илларион.
Я открыл дверцу. Меня вытащили и отдали сыну. Илларион и друг нырнули в машину. Она укатила.
Якушев мне сказал:
…Актёры любят играть Я в предлагаемых обстоятельствах. Приходит этот Я, и ему велят играть Корделию. А он не Корделия, и в её обстоятельствах повёл бы себя иначе. И он начинает изучать психологию Корделии и не может её понять. Потому что он не Корделия и лепечет что-то о своей жизни чужими словами, и стихи Шекспира ему мешают, и нам стыдно.
И выходит, что Я в предлагаемых обстоятельствах Корделии может получиться, если это Я равно Корделии, и тогда обстоятельства Корделии могут выявить его собственное Я. И тогда видно, кто ты – ананас или картошка, посаженная в тропиках и имитирующая ананас.
Про картошку тоже написаны стихи: “Тот не знает наслажденья-денья-денья-денья… кто картошку не едал-дал-дал”. Но наслажденье-денье от картошки, согласитесь, другое, чем от ананаса. Картошка для повседневной жизни, ананас – для праздника. Забывают, что театр – это ананас.
Что это за артист, если он не поднимает меня в полёт потому, что сам ползает по настилу в одёжке не по росту?
…Повествование о Леонардо, незаконном сыне нотариуса, родилось у меня в дизентерийном бараке, среди грохота домино, скучающих поносников и вони анализов. Значит, там ему было суждено зародиться, а не в райских кущах занимательной эстетики.
Якушев мне сказал:
…Если вещь закончена, значит, какая-то суть выражена, и художнику даже кажется, что он её исчерпал. А на самом деле это он исчерпался и налетался всласть, и на сегодня его полёт закончен. И вот эту кажущуюся исчерпанность сути занимательная эстетика объявляет законом этой вещи. И изучает приёмы этой законченности.
Микеланджело, глядя, как художники копируют его “Страшный суд”, и пытаются изучить закон, по которому он построен, и принимают следы полёта за правила, по которым они сами полетят, сказал:
– Многих это моё искусство сделает дураками.
…Мы все наследники эпохи Возрождения, а эпоха Возрождения – противоречивая эпоха, как, впрочем, и всякая другая.
С одной стороны – попытка вычислить полёт и создать ему канон, с другой стороны – вспышки полёта, этот канон сокрушающие.
Потом снова эпоха оккупации церковью полёта.
Потом снова эпоха Просвещения и попытка полёт вычислить и сотворить классицизм.
Потом снова эпоха романтизма и попытка слетать в духовное средневековье.
Потом снова науки на новом уровне хотят взлететь на вычислениях.
И снова гороскопы, буддийские календари и прочие зодиаки.
Идёт смена трезвых и нетрезвых эпох, и почему-то никто не сделал простого наблюдения, что полёт не зависит от мнений на его счёт. Летают во все эпохи, и эпоха только среда, в которой родится летающий. Среда может направить полёт или заглушить его, но не породить. И, значит, природа полёта – в человеке, а не в квартире, где он живёт, и не в соседях. Томмазо Кампанелла летал в каземате, когда сочинял “Город Солнца”, а те, кто туда его запрятал, ползали по чисту полю, хотя и глазели на небо.
…Вернулся Илларион с огромным другом хозяйки.
Сын хозяйки дома стал играть на Илларионовой гитаре незнакомые песни, огромный друг то спорил с Илларионом насчёт генетики, то рассказывал, как он освобождал Будапешт, то порывался сбегать на другой конец Москвы за магнитофоном, а мы с хозяйкой дома, милой женщиной, ели рыбу в томате и пили далеко не лимонад.
Потом мы с Илларионом выползли из дома и пошли по Страстному бульвару, где на каждой скамейке сидели парочки в разнообразных ночных объятиях, и у каждой скамьи Илларион гитарой брал на караул по-ефрейторски – рука с гитарой и подбородок резко в сторону, а я говорил слова “приветствую вас”. На последней скамейке парочка приняла нас за патруль и испуганно сказала: “Мы завтра расписываемся” – и мы вышли к кинотеатру “Россия”, и стали махать руками таксисту с зелёным огоньком, зазывая его отвезти нас куда нам надо.
В такси обнаружился ещё один седок, которому оказалось ехать в нашу сторону. Мы с Илларионом начали вспоминать стихи классических и популярных поэтов, а ездок сказал:
– Ребята, а вы не боитесь, что я бандит?
Я ему сказал:
– Раз ты бандит, ты обязан грабить. Вот тебе куртка и вот тебе гитара.
Он испугался и стал отказываться, а я сказал:
– Раз ты бандит, ты обязан грабить. Вот тебе куртка и вот тебе гитара.
А он испугался, и мы приехали к новому Илларионову дому.
– Жалко с вами расставаться, – сказал ездок.
– Пошли с нами, – сказал Илларион ездоку.
И он испугался совсем.
– Милый, главное – не нервничай, – сказал я.
Мы вползли в лифт и взлетели на двенадцатый этаж. Илларион стал читать стихи, а потом запел песню про ландыши, а ездок сказал:
– Какой сарказм.
И мы поняли, что нам попался инопланетянин.
– Ты вообще-то кто такой?
– Я артист театра ЦТСА на незначительные роли, – сказал пришелец. – И мне надо идти, потому что утром я еду в город Тулу читать басни Крылова.
Это был уже полный бред.
Илларион на этикетке от “Выборовой” написал ему рекомендательное письмо в Тульскую филармонию, и мы его отпустили.
Уже светало, и солнце поднималось над Адриатическим морем.
Якушев мне сказал:
…Можно знать о необходимости завязки, кульминации и развязки и не взлететь.
Надо взлететь, и тогда появятся и завязка, и кульминация, и развязка. Именно этого полёта. Но они будут не те и окажутся не там, где их ожидали перед полётом.
…Другой профессор, не моргнув, обучал, что Ван Гог и Гоген – дилетанты, потому что не знали анатомии.
Хотя ещё Леонардо, создатель анатомии, говорил:
– О живописец-анатомист, бойся показать знание мускулов.
…Когда инопланетянин на незначительные роли уехал в Тулу читать басни Крылова, Илларион сказал:
– Почему ты перестал писать?
– Потому что я перестал летать, – ответил я.
– А ведь ты говорил, что Аристотель велел поэту впадать в священное безумие?
– Священное, Илларион, священное…
– А что тебе мешает?
– Я теперь знаю все штучки, которые вызывают растроганную слезу или пугают, но не хочу их применять.
– А разве Аристотель не велел вызывать страх и сострадание?
– Он велел летать над страхом и состраданием. А ремеслуха велит ими торговать. Она велит написать, как дети играют на тикающей бомбе замедленного действия, и велит написать, как один герой подарил другому триста рублей. Автору это не будет стоить ни копейки, а зритель будет содрогаться и плакать. Ремеслуха велит брать конфликт, проблему, её преодоление, интригу, характеры, идею, сюжет, композицию – варить до готовности; любовь, соль, перец и красоты слога – по вкусу.
– А искусство что велит?
– Искусство велит искать свои темы в глубинах потрясённой души нации.
– А как их искать?
– Жить.
– Живи. Чего же тебе не хватает?
– Священного трепета.
– Безумия?
– Трепета, Илларион, священного трепета. Аристотель трагедий не писал. Он их изучал. И трепет казался ему безумием.
– Я этот трепет каждый день испытываю, – сказал Илларион.
– Когда?
– Когда своей балдой старые дома ломаю.
– Как странно, – сказал я. – Странно… Раньше я и сам так думал… Только сейчас понял, что ты не прав. Это другой трепет.
– А какой нужен?
– Который бывает, когда предчувствуешь весну.
– …А как же Пушкин? – спросил Илларион.
– Что Пушкин?
– А Болдинская осень?
– Он сам был весна.
– У меня всегда по сочинению было “пять”, – сказал Илларион.
– …Все от трапа! – орал Илларион. – Отдать концы! Как провожают пароходы?! Совсем не так, как поезда!
Ну нас, конечно, на речной трамвай не пустили.
Оставалось одно – взяться за ум, то есть с юмором – ни-ни.
Поэтому мы пошли в театр.
И ещё потому, что пора было снова прививать друг другу любовь к искусству.
…И в театре мы с Илларионом несколько часов смотрели, как артисты общаются друг с другом и обсуждают какие-то свои дела.
Иногда они вспоминали про нас и по-соседски обращались в зал.
Но мы с Илларионом ленивы и нелюбопытны и в чужие склоки не лезем.
Мы всё ждали, когда выйдет Мочалов. Но Мочалов не вышел.
Артисты все были дрессированы постановкой и старались не взлететь. А Мочалов взлетает – когда вслед за авторами, а когда и самостоятельно – и тогда постановка про то, как вслед за ним взлетаем и мы.
– …Мать честная, – сказал Илларион, – почему мы должны на них смотреть?
– Чтоб не смотреть друг на друга.
– Я знаю, чему они нас учат, – сказал Илларион.
– Чему?
– Жить напоказ.
Якушев мне сказал:
…Все так привыкли жить в театре без Мочалова, что уже не понимают, что он даст, если придёт.
Поэтому его и не ждут.
Остались смутные легенды да воспоминания людей, которых он брал в полёт.
И в легендах и памяти остались не овации и сколько ему венков подносили, или как студенты его на колеснице везли (как про других знаменитых артистов), а осталось, что по десять раз на одну постановку ходили, чтобы услышать, как он в третьем акте одну фразу говорил.
Остались слухи не о постановке, или режиссуре, или ансамбле, а о том, как люди плакали на этой фразе. Ну, не на одной, конечно.
И не потому, что фраза трогательная или страшная – её автор написал, а потому и оттого, как её Мочалов говорил.
Фразы остались, Мочалова нет.
Сейчас плачут, когда пьеса делает жалобный поворот, а у Мочалова – от восторга полёта и понимания высоты – не так живём, братцы-люди.
Ну, потом зрителям головы задурили, и Мочаловы ушли в чтецы, в Яхонтовы, но и там их настигли профессионалы и любители ансамблей и спортивных команд. Это всё дела прекрасные, но уж один человек зал в полёт не поднимет. Нечем. Не жжёт глаголом сердца людей.
Голоса есть, рояли настроены и выкрашены, от электроусилителей в рядах качает, титул у артиста длинней императорского, а номер, с которым он выступает, – коротышка, крылья надраены, аппарат налажен, бензин есть, а не летает – муляж, реквизит. В искусство на аппарате не полетишь. На аппарате можно скатать в Сочи, и то на гастроли.
Сейчас либо дилетанты, либо профессионалы. Дилетанты – это которые иногда боятся выступать, а иногда нет. У профессионалов каждый раз одно и то же – не боятся.
А чего им бояться? Защищены пьесой, профсоюзом, режиссурой, аппаратурой, анализом за столом и занимательной эстетикой. Попробуй не стать после этого культурным и даже где-то воспитанным, артистом. А что он впечатления не оставляет – это вина зрителя. Не дорос. А Шекспир писал для грузчиков из лондонского порта, и для них играл Мочалов, виноват–Бербедж, и ничего – понимали летаючи. Потому что эта парочка – автор и актёр – сами летали так, что прихватывали с собой и глобус.
– А что такое полёт? Толком можешь объяснить? – спросил Илларион.
– Отрыв от действительности, – сказал я.
– Вот это номер! А зачем отрываться? Нельзя. Ничего, кроме действительности, нет.
– Есть, – сказал я.
– Что?
– Перспективы.
– Значит, из-за ремеслухи искусство становится без полёта?
– Ага, – сказал я. – Она сама без перспективы… Она сама без перспективы и перед зрителем её закрывает… Гоголь не потому силён, что описал с натуры чиновника и как у него шинель спёрли, а потому, что выходило – людей жалеть надо, и нет маленьких людей, а есть затюканные. А до Гоголя в основном жалели графьёв, а над затюканными смеялись. Полёт для того, чтобы затюканный перестал чувствовать себя маленьким. Из этого потом получаются революции.
– Отрываться от действительности нельзя, – сказал Илларион. – Хрен с ними, с перспективами. Родился, отработал положенное, помер – вот и вся перспектива.
– Да ты только тем и занимаешься, что отрываешься от действительности!
– Я?
– “Выборову” пили?
– Пили.
– А зачем?
– Летали, скажешь?
– Нет. Ныряли. Отрываться можно и вверх и вниз, и вперёд и назад, и в прошлое и в будущее. Не всякий отрыв – полёт, а только вверх, вперёд и в будущее.
– А чего ж летать перестал?
– Ушибся… Встретил Княгиню. Принял прошлое за будущее.
– Не ушибся. Это тебя твоя баба пристукнула.
– При чём тут баба?
– Рожа как у мадонны, а сама – вывеска.
– Не надо, Илларион.
– С ней только в преферанс играть. Это же все видели, кроме тебя. Показуха.
– Нет. Не она меня пристукнула.
– А кто?
– То, что за ней открылось: хитрость и тупость.
– Глупая она была?
– Нет. Глупая понять не может, а тупость – это когда на полёт посягают: я не летаю – и ты не летай.
Якушев мне сказал:
…Ремеслу надо учиться.
Ремесло полёту не помеха. Наоборот. Когда ремесло и полёт совпадают, тогда появляется мастерство.
Мастерство – это индивидуальное ремесло, твоё ремесло, собственное и ничьё другое. Мастерство – это твоё умение не только полёту не мешать, а замечать тот момент, когда он начинается, и даже иногда вызывать его, и даже делать путевые заметки.
Хотя путевые заметки – неточное слово, их можно делать и по памяти, и понаслышке. А следы полёта – это каждый удар твоей кисти в тот самый момент, когда происходит полёт. Потому что полёт происходит толчками, он – пульсация, и у него есть ритм, и следы его скорее похожи на энцефалограмму или кардиограмму. А как их делать по памяти?
…Занимательная эстетика путает ремесло и полет, и возникает не мастерство, а ремеслуха, то есть попытка научиться имитировать чужие кардиограммы.
…Ремесло – великая вещь – это освоение найденного. Даже в жизни надо не только придумать телегу, надо научиться её делать и пользоваться.
В искусстве ещё сложнее. Надо уметь снимать с себя самого кардиограмму полёта в самый момент его возникновения.
Конечно, первичное умение нужно. Музыканту – виртуозные пальцы, литератору – свободная речь, художнику – поющая кисть. Но всё это чтобы не стеснять свободу полёта.
Беглость пальцев, свободная речь и гибкость кисти – это ремесло. Ему надо учиться. Но если забудешь, что это не мастерство, а ремесло, то есть чужой опыт, то в момент полёта он тебя свяжет.
Ремесло – общее для всех умение, а мастерство – твоё собственное. Ремесло нужно, чтобы освоить найденное, а мастерство – чтобы не упустить мелькнувшее.
…Искусство – оно как любовь – каждый раз исключение.
Откуда человек может знать, как он будет любить, если он ещё не знает, кого он будет любить? Встретишь – узнаешь. А до этого живи и не гаси сердца.
И потому мастерство – это не продолжение ремесла, а отрыв от него.
…Мы чересчур долго были неграмотны. Нас тысячелетиями хитрые и тупые держали в чёрном теле и потому называли чернью, и способ выжить у нас был один – ремесло, выучка, копилка драгоценного опыта. И всегда выше нас была хитрая и тупая элита, отборное стадо производителей себе подобных. А неподобных себе они убивали, даже если они из своей среды – Пушкина, Лермонтова – “а не летай, не летай, не соблазняй чернь мечтою о полёте, не показывай, что человеку дано летать, а не только кормить элиту, чтобы у неё шкурка была гладкая и блестящая. Потому что полёт всегда для других как любовь. Мы летать неспособны, потому что мы – шкуры. Так кто же полетит? Чернь?”
Но вот в семнадцатом году народ передумал быть чернью и стал учиться грамоте. А в грамоте чёрным по белому написано очевидное невероятное:
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух!
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
А парадокс – это новинка, это отрыв от опыта, сына ошибок трудных.
А занимательная эстетика обучает всего лишь опыту и слабонервным закрывает перспективу.
– …Шкура она была, – сказал Илларион. – А ты чего скис?
– Потому что не пойму, откуда она взялась.
…Если хотите знать, то самое странное ощущение, которое я испытал, когда сочинял пьесу про Леонардо, было ощущение, что это не я пишу, а мной пишут, используя меня как авторучку, а моё дело – не мешать и подчиняться. Какая-то угрюмая сила подсказывала мне, какие слова писать, и самое трудное было избегать рифм, которые услужливо подсказывало мне собственное воображение. Хотите верьте, хотите нет, но лучшие места в этой пьесе получились именно так.
…Если вам будет не лень – вы дочитаете этот странный роман.
Странный он потому, что в нём нарушена традиция рассказывать про одно и то же. Я не знаю, почему так получилось, может быть, это я сам такой переменчивый и привык; может быть, мы все такие; а может быть, двадцатый век торопится получить назидание, но мне всегда было противно читать, когда у персонажа заканчивался один цикл его жизни и не начинался другой. Значит, не писать вовсе?
Наверное, всё-таки писать. Во-первых, потому, что наступает момент, когда не удержишься; а во-вторых, я лично, как и вы, дорогой читатель, мы оба не выносим жмотов, которые не поделятся куском хлеба, это относится и к хлебу духовному; а в-третьих – у каждого человека, каким бы маленьким он себя ни чувствовал, наступает момент, когда он становится незаменимым в том деле, которое он затеял.
Якушев мне сказал:
…Почему я так ополчился на бедную ремеслуху, которая умеет создавать напряжёнку и выбивать слезу? Разве это не главная задача искусства? Ведь говорят же, что наука – это ум, а искусство – эмоции? Говорят-то говорят, но говорят те, кто не понимает ни науки, ни искусства.
Наука пробуждается не умом, а талантом, искусство тоже пробуждается не эмоциями, а талантом. И ум и эмоции наукой и искусством только используются, но и наука и искусство возникают от таланта.
Про учёного в другой раз, а талант художника в том, чтобы вызывать эстетическое чувство, то есть чувство полёта, а вовсе не обычные напряжёнку и слезу, какие бывают в жизни. Их можно добыть и не летаючи, а всего лишь изображая подходящие происшествия. Но вот зато полёт можно вызвать и без напряжёнки и слезы.
Надо ли приводить примеры? Почитайте “Степь” Чехова или поглядите на “Портрет Жаннет Самари”.
Эстетическому чувству принято делать реверансы и давать утешительные премии. Но в глубине души многие люди и занимательная эстетика подозревают, что и без него можно прожить. И видимо, не понимают, что эстетическое чувство не гарнир для художества, а самая его суть. Специфика.
Хотите кощунственный эксперимент?
“Дядя мой, самых честных правил, когда занемог не в шутку, он заставил себя уважать и лучше не мог выдумать…”
Пропало искусство, пропал Пушкин, пропал полёт – а всего-то отказались лишь от рифмы и ритма.
А есть ещё и словарь.
Какой-то деятель прочёл немецкий стих и не сообразил, что это перевод отрывка из пушкинской “Полтавы”, вот этого:
Богат и славен Кочубей.
Его поля необозримы.
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
И много у него добра:
Мехов, атласа, серебра.
Деятель перевёл с немецкого на русский этот отрывок и сохранил рифмы и ритм, только словарь пушкинский потерял, и вышло:
Был Кочубей богат и горд.
Его поля обширны были.
И очень много конских морд,
Мехов, сатина первый сорт
Его потребностям служили.
Случай невероятный, взят из книги Чуковского и скорее всего придуман для наглядности самим Чуковским в его “Искусстве перевода”.
Давайте скорее восстановим подлинник.
Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример – другим наука.
Информация та же, только прибавился хмель, и жемчуг, и полёт пушкинской раскованной души. И хотя его пример – другим наука, она почему-то впрок нейдёт занимательной эстетике, которая считает, что в “Онегине” суть – это быт помещиков, изложенные автором мысли и то, что Онегин Ленского застрелил, а Татьяну отверг, то есть психология и эмоции. А если б не застрелил и не отверг? Была бы поэма с другими происшествиями, но всё равно пушкинская.
Занимательная эстетика путает не содержание и форму, которые в искусстве неразделимы, а содержание и материал. Она считает, что если взять материал с напряжёнкой и слезой, то он будет вызывать колотун у зрителя и читателя, и, стало быть, возникнет факт искусства. Потому что – эмоции.
Искусство может изображать страшные вещи, а может и не изображать. Искусство может изображать страдания, а может и не изображать. Искусство может изображать красоту, а может и не изображать.
Материалом искусства может быть всё.
Важно, чтобы оно поднимало в полёт. А какие при этом возникнут эмоции – дело десятое. Какие нужно, такие и возникнут.
Содержание искусства есть не то, что оно изображает, а то, что оно вызывает. И потому эмоции для искусства всего лишь материал.
Искусство не для себя, а для других. Содержание искусства не эмоции, не ум, а их полёт. Есть полёт – есть содержание, нет полёта – нет содержания, а есть всего лишь материал.
Но для того чтобы поднять в полёт, нужно взлететь самому.
То, что я сейчас пишу, – не искусство, хотя эмоций у меня полно, клянусь вам, чересчур дорого мне досталось понимание, они могут даже появиться у читающего – не удивлюсь. И наверное, я даже сейчас для себя и – чем чёрт не шутит – для других умный.
Но ничто не заменит полёта.
…Потому что в феврале, 13 апреля 1977 года я перестал летать.
…И когда я написал эту первую фразу, почувствовал – дрогнуло. Начался разбег для этого внезапного романа. А высоко ли взлечу или только чуть над самой землёй и шлёпнусь обратно, и кого с собой подниму – дело покажет. И время.
…Предчувствие весны.
Якушев мне сказал:
…В напряжёнке персонаж борется с чёткими обстоятельствами и ясным противником, а мы следим – вывернется или нет. Он их преодолевает. И мы следим за преодолением. Преодолеет – ура, не преодолеет – смерть. Слёзы в обоих случаях. Смерть можно брать с самого начала. Тогда поведение персонажа называется мужество и пример.
Мужество в ремеслухе – это восторг подчинения обстоятельствам. Мужественный у ремеслухи – это жертва. Для автора ремеслухи персонаж – пешка, и он сразу решает ею пожертвовать в блицтурнире с занимательной эстетикой.
Зритель добрый, и ему жалко персонажа, и некогда задумываться – а так ли уж безвыходны обстоятельства, которые надо преодолеть? А может, герой дурак, и сам их выдумал, и поступать надо как раз наоборот.
…Предчувствие весны.
Якушев мне сказал:
…Разве Ромео борется с Капулетти, и Отелло с Яго, и Гамлет с Клавдием, и Лир с дочерьми, и Макбет с баронами, и Башмачников с бандитами, которые у него шинель сперли?
Они с судьбой борются, которая сделала их и их противников такими, а не другими, и не замечают в пылу борьбы, что – или не борись, или начинай с другого конца.
С какого? Неизвестно.
И потому нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. А все остальные ужасные повести хотя и трагедии, но не самые печальные.
…Предчувствие весны.
Якушев мне сказал:
…Напряжёнка – это бой с известными герою обстоятельствами, а трагедия – с неизвестными.
Но автор о них догадывается.
Трагедия у Сурикова в картине про стрельцов и Петра не в том, что каждый из них имеет чёткого противника, а в том, что обоим противникам и зрителю Суриков говорит: опомнитесь, утро-то какое наступает, а вы друг друга казните. И во всех его картинах главное не схватка, а вопль о погибающей красоте полёта. И потому лучшую его картину, где песня про Степана Разина, который на утреннем челне не знает, куда плыть, но где нет чёткого противника, занимательная эстетика объявила худшей. Вот как бывает. И Суриков умер.
…Предчувствие весны. Плывём.
Куда ж нам плыть…
– Илларион, бросим пить. Не могу больше.
– Давай бросим.
– Не может хорошая жизнь состоять из драчки за кусок пирожного и пиво.
– Не может.
– Тогда лучше не родиться.
– Нас об этом не спрашивают. Ладно, давай отрываться от жизни, – сказал Илларион.
– Давай, –сказал я.
– …Значит, для полёта нужны рифмы, и ритм, и словарь? – спросил Илларион.
– Нет. Пушкин.
– А остальным что делать?
– Летать. На разных высотах. А словарь, рифмы, и ритм, и прочее – это способы записать кардиограмму.
…В феврале, 13 апреля 1977 года я разучился летать.
Эта фраза родилась от случайной описки, но дрогнуло что-то во мне, и я подумал: такая ли уж случайная эта описка и разве могу я с уверенностью сказать, когда это началось?
Я начал прикидывать так и эдак, и выходило, что я, как себя помню, только и делал, что разучивался летать.
Я ещё маленьким был, когда услышал песню: “Позабыт-позаброшен… с молодых юных лет… Я остался сиротою… Счастья-доли мне нет… Ох умру я, умру… Похоронят меня… И никто не узнает… Где могилка моя… И никто не узнает… И никто не придёт… Только раннею весною… Соловей пропоёт…”
Я встречал многих людей, которые, как и я, считают до сих пор, что это лучшие строки, которые написаны на русском языке. Это та неслыханная простота, в которую, как в ересь, мечтал впасть под конец жизни один поэт.
У меня были отец, мать и своя семья, и я не был сиротою с молодых юных лет, и я не понимал, почему я позабыт-позаброшен и почему счастья-доли мне нет, но что это так и есть, я знал всегда.
Какой же доли я себе хотел и какого счастья?
Я хотел вырасти и вырваться из дома, и это случилось без моей воли, когда пришла большая война и разрушила мой дом, и милей его нет на свете.
И наступила мирная жизнь, и была разруха – день первый, и я захотел домой. Но того дома, куда я летел, я не нашёл. Потому что, когда кончилась разруха и дом был построен, в него пришла жадность.
И я увидел, что богатство так же бесцельно, как и нищета, потому что цели у них конечные, и я по-прежнему тосковал о цели, которая бы удалялась от меня, открывая горизонты.
И я понял, что хочу того, чего нет на земле.
Сначала я думал, что тянусь в космос, и летал в космос вместе со всеми спутниками и кораблями, достигшими к тому времени Луны, и Марса, и Венеры.
И я понял, что тоске моей нет предела, потому что она по бесконечной любви.
И я понял, что растить эту любовь надо здесь, на Земле, из семян, затоптанных войнами, нищетой и жадностью, а не ждать из космоса.
И я понял, что опытом её вырастить невозможно, потому что тогда она будет конечна, а для бесконечной нужен полёт, и без него уже никуда.
Но полёт в любви труднее всего, хотя считается, что это не так. Считается, что сама любовь – это полёт. Но как часто это полёт в клетке.
…Предчувствие весны.
Медсестра рассказывает:
…Когда мы из барака переехали в новую квартиру, я поступила в школу. И была отличницей до восьмого класса. А девятый и десятый кончила так себе. Надоело.
До восьмого класса старалась, училась играть на аккордеоне, выиграла районную олимпиаду по математике, по художественной гимнастике и по бегу занимала хорошие места, в баскетбол меня в любую команду брали, я с любого места площадки в сетку попадала. По сочинению всегда “пять”. Учительница любила. Задали нам сочинение по Чернышевскому – люди будущего. Все написали по учебнику, а я про то, как не могу понять этих людей будущего, и как за сосисками и апельсинами в очереди ругаются, и от пьяных проходу нет в наших местах. И в конце приписала: “Кончаю. Страшно перечесть. Стыдом и страхом замираю. Но мне порукой ваша честь. И смело ей себя вверяю”. Мне Анна Михайловна поставила “пять с плюсом” и полюбила меня. А потом говорит:
– Ты этих людей, которые в магазинах ругаются, на работе не видела. Там они другие. А после работы не знают, куда себя деть. Нужна культура. А культура – дело медленное.
У всех моих подруг мальчики, а мне скучно. За десятый класс только один раз целовалась. На крыше. Залезли мы с одним парнем на школьную крышу. Он мне говорит:
– Ты не как все. Давай целоваться научу?
– Научи.
Он меня поцеловал. Мне не понравилось. Одни слюни.
– Ты какая-то холодная. Приходи вечером. У Аллы собираемся – и из медицинского, и из клуба весёлых и находчивых.
Вечером собрались. Все пьют. Я попробовала.
Не понравилось. Начали песни петь – сначала туристские, а потом матерные частушки. Мне не понравилось.
Алла мне говорит:
– Что ты из себя строишь? Ребята обижаются.
Я говорю:
– Я домой пойду.
И стала я после этого учиться кое-как. Анна Михайловна мне говорит:
– Ты даже сочинения стала плохо писать.
– Анна Михайловна, я ведь на работу пойду, и замуж. Зачем мне сочинения? Никому это не нужно.
– Жалко мне тебя. Ты талантливая девочка.
– А в чём мой талант, Анна Михайловна?
– Этого я ещё не знаю.
Но тут школа кончилась. Сняла я белое платье, и повесила в шкаф, и говорю маме:
– Мама, я работать пойду.
– Дело твоё. Жаль. Ты отличницей была. Могла бы студенткой стать.
– Студентов я уже видела. Мне не понравилось. Я на авиационный завод пойду.
Подали мы с Аллой заявления. В кадрах сказали:
– Приходите через месяц.
Мама говорит:
– Месяц болтаться по городу я тебе не дам. Устраивайся временно.
И начали мы с Аллой по работам скакать.
Пошли в хлебопекарню. Выдали спецодежду: куртка и белые штаны до колен.
Запах вкусный – это первый день. А к концу недели – вытерпеть нельзя. И ещё – на третий день подходит женщина и говорит:
– Держи сумку и неси через проходную. Я на улице подожду.
– А что здесь?
– Яйца и масло сливочное. Пронесёшь – половина тебе.
Я испугалась и говорю:
– Не надо… Не возьму.
– Ну смотри…
Я Алле говорю:
– Давай уйдём?
– Давай.
В конце недели ушли.
Поступили в типографию. Поставили нас со станка принимать пачки листов и складывать под пресс и завязывать. Показали, как это делать. Надо так. На голую руку до локтя набрать стопку листов и выравнивать. Рукав опускать нельзя, мешает. Листы не выравниваются. К концу дня вся рука красная. На третий день рука вся бумагой изрезана. Болит. Вздулась. Обещают, что привыкнем. Алла плачет:
– Я не могу. Уйдём.
Ушли.
Может, сейчас что-нибудь в типографии придумали? Было так.
Ещё куда-то поступили. А последняя работа была такая. Идём по улице, видим вывеску – “Деревообделочная фабрика. Комбинат бытового назначения”. И объявление– требуются. Мы приходим. Деревом пахнет. Дядька вежливый говорит:
– Вы нашу продукцию знаете?
– Знаем. Только мы на временную работу.
– Вам понравится. У нас сдельная. Люди до трёхсот рублей зарабатывают. Сейчас проведу вас в цех, а завтра приступите. Наша фабрика план всегда выполняет, так что премия всегда.
Пришли в цех, а там молодые люди в очках оборочки прибивают. Дядька говорит:
– Идёмте, я готовую продукцию покажу.
Пошли к складу. Он дверь открыл, а мы с Аллой чуть в обморок не опрокинулись. Весь склад, до потолка – гробы. Закрытые. Как с покойниками.
Мы как чесанули оттуда, только через две улицы шагом пошли.
Алка ревёт:
– Зря мы в ПТУ не пошли. Зря мы эту школу кончили: образ Ольги, образ Татьяны…
Месяц кончается. Пойдём на авиационный. Не реви.
– Нет уж, – говорит Алла. – Опять в цеху будем стружки выносить. Не пойду.
– А что делать?
– Выхода нет, – говорит Алла. – Или замуж, или в институт.
Пришли мы на авиационный завод. В кадрах говорят:
– Вас приняли. Завтра на работу.
Мы говорим:
– Мы передумали. Просим расчёт.
Нас уволили. В трудовую книжку – приём на работу и увольнение – всё в один день.
* * *
Дело не в этом.
А в том, что куда идти – неизвестно.
С Аллой мы расстались.
Она потом в театр костюмером пошла.
А у меня жизнь перевернулась в другую сторону.
Встретила я человека.
Это когда я уже в больнице работала медсестрой и готовилась в медицинский. Правда, я его чуть раньше встретила.
В больницу я тоже случайно попала.
Иду по улице днём, вижу, дядечка к стене привалился. Думала, пьяный. А он говорит:
– Деушка, деушка… давайте с вами дружить?
– Гуляй, гуляй, – отвечаю.
– Ну тогда мои дела плохи, – говорит. – Мне надо до больницы доползти. У меня колено отваливается. Сорок минут такси ловлю. Больница недалеко, может, отведёшь меня?
– Ага… – говорю. – Может, вам ещё шнурки погладить?
– Нет… – говорит. – Ты меня не бросишь… По глазам вижу. Меня Николаем зовут, а вас?
Ну, вижу, делать нечего. Потащила я его. Тяжёлый. Люди оглядываются, как мы в обнимку идём.
– А ты представь, что ты меня с поля боя тащишь.
– Сейчас не война… Да замолчите вы, и так тяжело.
Ну, дотащила его. Дальше он всё сам говорил насчёт коленного сустава, а меня он попросил на его работу позвонить, сообщить, что он в больнице. Пока я звонила, его оформили. А потом старуха кричит:
– Сестра! Где же вы?!
А в коридоре, кроме меня, нет никого.
– Это вы мне? – спрашиваю.
– Ну что вы сидите? Отведите больного до лифта.
– Да… – говорит Николай. – Отведите больного до лифта.
Ну, опять я его потащила куда-то.
– Да вы не наша? – разглядела меня старушка. – Я вас с нашей Ксенией перепутала. У неё сегодня отгул. Вижу, без халата, думала, Ксения.
– Я не Ксения, – говорю я.
– А вы довольно ловко справляетесь.
– Я в школе на медсестру сдавала.
– Вы работаете где-нибудь?
– Нет ещё. Только школу кончила.
–У нас Ксения замуж выходит. Два дня отгула. Вы бы не хотели вместо неё два дня подежурить?
– Хотели бы, хотели бы, – говорит Николай.
– Больной, ведите себя спокойно.
Так и решилась моя судьба. Да только не совсем. Осталась я в больнице. Николаю ногу починили и выписали, а он потом приходит и говорит:
– Ты после дежурства не уходи. Со мной поедешь. Я тебя с друзьями познакомлю.
– Ну вот ещё!
– Сестрёнка, не буянь! – говорит он. – Не буянь. Дело говорю. Ты мне добро сделала, и я тебе добро сделаю. Не дрейфь. Люди там все приличные, а тебе этого недостаёт. Я же вижу.
– Чего недостает? Я не дрейфлю.
Так я познакомилась с их компанией. Странная была компания. Илларион на автокране работал, двое с трансформаторного, холостые, двое с авиационного, с жёнами. Дина из клуба, совсем старая старуха Христофоровна с внуком, доктор наук один, Аносов с женой и художник Якушев. Женатый, но жена его в этой компании никогда не бывала. И ещё Николай. Он мне совершенно тогда не нравился. Говорили, работает на каком-то заводе, пишет стихи и пьесу про Леонардо да Винчи. На меня там все обратили внимание. Я складненькая. Но мне это было ни к чему. Только два человека на меня внимания не обратили: этот Якушев и Николай. У Николая девушка была, красивая, но ему не пара. Почему не пара – сказать не могу, но не пара. Ладно, его дело.
А тут мне Якушев говорит:
– Я ваш портрет хочу написать. На пленэре.
– Где?
– На открытом воздухе.
А девушка Николая говорит:
– Вы же хотели меня написать?
– Я передумал.
Так и сказал. Я заметила – он всем всё говорил. Прямо в лоб скажет, и возражать ему не возражали.
Но девушка обиделась, конечно.
Поехали вскоре за город. Там были садовые участки у Христофоровых, у Валерии Гавриловны. Народу собралось много. И с других садовых участков подошли. Как ни странно, пили мало. Спорили, песни пели, и ни одной матерной.
А тут я возьми да и спроси Якушева:
– Дядя Костя, а зачем оно нужно, искусство?
Они все – искусство, искусство – слушать надоело. А он отвечает:
– Никакого искусства не нужно. Полёт нужен. Был бы полёт, а искусство само объявится.
Все стали к нам оборачиваться.
– Опять дядя Костя за парадоксы взялся…
– Дядя Костя, а что такое парадоксы? – спрашиваю я.
– Это когда от привычного отрываются.
– От земли?
– Если к земле привыкла – от земли, если в облаках витаешь – от облаков. Каждому времени свои песни.
– А теперь какие нужны?
– Этого не запланируешь.
– Ну почему же?.. – говорит один с соседнего участка, маленький такой, вёрткий.
– С вами спорить не стану, – говорит Якушев. – Одолейте сначала моего меньшого брата. Ну, сестрёнка, пошли твой портрет писать.
Маленький и вёрткий был умный и понял, что его бесом нечистым обозвали, а остальные про работника Балду читали давно и уже позабыли.
– Николай, Якушев велел мне с тобой сразиться.
– Некогда, – отвечает Николай. – Я больше по бабам.
А его девушка берёт под руку.
– Идём, Николай, идём.
– А куда? – спрашивает Николай. – Куда идти? Я уже дошёл.
– Жить надо, – говорит этот вёрткий с соседнего участка. – Ничего, кроме этого, нам не дано.
– Слушай, друг, – говорит Илларион. – Откуда ты взялся?
– С соседнего участка.
И тут я поняла, что не всё гладко в этой компании.
– Как бы хорошо можно было жить, если бы не было таких, как ваш брат, – сказал вёрткому Илларион.
– Наш брат то же самое думает о вашем брате, – говорит с соседнего участка.
– Ну нет, – говорит Илларион. – Вам без нас не прожить. Вы и есть только потому, что есть мы. Это из-за вас Николай не знает, куда с девушкой идти, а он с ней в загс собирался.
– Лечиться надо, – говорит этот вёрткий с соседнего участка, – если не знаете, куда идти.
Все засмеялись.
А этот, с другого участка, пошёл прочь и с ним ещё несколько человек.
А я посмотрела на Николая и вдруг почувствовала, что хочу кого-то убить.
…Когда этот подонок сострил, все засмеялись, а я вдруг потерял чувство юмора. Никто не понял, что это обидно, а я вдруг потерял чувство юмора.
Вдруг какая-то иголка вошла прямо в горло и обломилась. Это всё очень быстро произошло. Может быть, потому, что женщина, которую я тогда считал невестой, стояла рядом.
Все наши пошли к Христофоровым копать ихний огород, а она стояла рядом. Я покосился на неё и увидел её как-то смутно. Она ничего не заметила. Занималась своим основным делом. Причёсывалась. У неё были хорошие волосы. И никто не заметил этой иголки, воткнувшейся мне в горло.
Просто я вдруг обнаружил, что ко мне не так хорошо относятся, как мне представлялось. Может быть, они тоже этого не осознавали, но засмеялись дружно и облегчённо и пошли копать огород.
И тут я сорвался с места и помчался догонять тех, с соседнего участка, и этого маленького и быстрого.
Я мчался что есть духу, сердце у меня колотилось, в ушах стоял гул, и мне казалось, что я не один мчусь что есть духу, что ещё некто летит со мной что есть духу. Это летело моё собственное эхо.
Я догнал их, когда они переходили через вскопанные борозды под цветущими яблонями, и был вечер.
Я догнал этого, с чужого участка, и рванул его за рукав. Тот сразу остановился и улыбнулся добродушно. Он очень хорошо выглядел.
– Отойдём, – сказал я.
– Ну чего ты, чего ты, – добродушно сказал он.
Остальные остановились вдалеке. Вероятно, они видели, как я его тронул за рукав.
– Ты что сказал? – спросил я.
– А что? –тот заулыбался.
У него была толстая шея.
– Что ты сказал о лечении?
– О каком лечении?
Он уже забыл.
– Признаёшься, что неудачно сострил?
– А-а… Конечно, – сказал он.
И продолжал улыбаться:
И всё.
Но почему такая лютая тоскливая ярость охватила меня? Лучше бы уж не признавался.
Я довольно часто спорил насчёт того, как зарождается искусство в душе того, кто хочет отправиться в полёт, и, не скрывая, рассказывал, как у меня в дизентерийном бараке возникли строчки, из-за которых вся моя жизнь пошла наперекосяк. И сам смеялся, и все смеялись насчёт того, в каких обстоятельствах иногда может возникнуть стишок, и вспоминали подобные обстоятельства, когда лучшие идеи приходили во время туалетного чтения и прочее, в таком же роде. И никто не обижал меня, и я не обижался. А тут ещё начал выступать Сапожников со своей третьей сигнальной системой, и по телевизору стали высказываться учёные о способах запустить в ход механизмы творчества, и все сходились на том, что начальный его момент может быть совершенно контрастен к тем обстоятельствам, в которых он возник, и все признавали, что этот момент освобождения и взлёта может быть чрезвычайно болезненным. Но никто не предлагал от него лечиться.
А этот мне предложил лечиться и пошёл на свой участок. Остальные не поняли и засмеялись. А почему они должны были понять – что для меня его шутка? Они ведь не знали, что я уже на пределе! Могли бы и знать.
Мне вдруг показалось, что и их жмёт, что я ниоткуда и потому как бы не имею морального права писать об эпохе Возрождения. Писал бы о них – они бы не смущались. Нет, нет, только не это. Только не поддаваться этой мысли.
Я схватил его за горло, и пальцы сами стиснули его кадык. Он не сопротивлялся, и стало противно сжимать его мягкую сильную шею. Ведь не задушить же я его собирался? То есть, может быть, именно собирался, но как-то не до смерти, хотя и такое мелькнуло. Я бы, может быть, и задушил его, если бы для этого не нужно было стискивать его шею, а иначе он бы не помер от удушья. Он потому и не сопротивлялся и улыбался, потому что понимал, что я его, конечно, не задушу. Хочешь пожать мою шею? Ну пожми.
Я отпустил его.
– Сволочь, – жалко сказал я.
И это была слабость. Доводов не было. Он ведь думал всерьёз, что задел меня по постельной части. Он ведь знал, что я согласен в монахи пойти, если бы от этого у меня получилось то искусство, о котором я мечтал. Это все знали и считали меня чокнутым. Но верили, что у меня всё же кое-что получится в этом деле. Но уже теряли надежду. Он своей остротой объявлял меня аутсайдером и отталкивал от меня тех нескольких, которые ещё верили.
– Извини, пожалуйста, – сказал он.
– Твою остроту слышали все, а извинение только я один, – сказал я.
И повернулся уходить.
И тут я, как в тумане, увидел мою медсестрёнку.
Солнце отсвечивало в её коротко остриженных прямых волосах.
– Хочешь, извинюсь перед всеми? – услышал я за спиной его испуганный голос.
Не оборачиваясь, я сказал, идя к ней:
– Нет… Хочу, чтобы ты остался в долгу передо мной… Люблю должников…
Я подошёл к ней.
– Ты как сюда попала?
Она смотрела на меня спокойно.
Так вот почему мне казалось, что кто-то мчится за мной что есть духу!
Я пошёл обратно.
Она пошла рядом со мной.
Она прибежала сюда, а невеста, моя бывшая будущая жена, – нет, не прибежала.
– Нас же увидят вместе, – сказал я. – И опять кто-нибудь скажет гадость.
– Пускай, – сказала она. – Пускай скажет гадость.
Мы дошли до садика и пошли вдоль ограды.
Она шла рядом и чуть впереди, и я всё смотрел на короткие остриженные прямые волосы, на чуть широкую скулу и курносый нос. Ей-богу, ничего особенно красивого. Элементарная современная девушка, каких тысячи. Никакой тонкости, породы и прочего, никакой особой одухотворённости. Короткие светлые прямые волосы – даже не блондинка, а просто светлые волосы. Синяя, чуть линялой ткани мужская какая-то рубашка с открытым воротом и короткими рукавами, синяя юбка, плоские белые босоножки. Элементарно до предела.
Христофоровы, возившиеся в саду слева от дороги, подняли головы и смотрели на нас добродушно.
Я, как бы помогая ей свернуть направо, положил руку на её плечо, и мой большой палец коснулся её шеи. Отношения простые, как гвозди.
Да, но она бежала за мной что есть духу.
И тут я понял, на кого она была похожа. Она была похожа на пионерку со старых фотографий. Вот на кого она была похожа. “Не может быть! – подумал я. – Не может быть…”
Она повернула ко мне лицо и чуть-чуть улыбнулась, а глаза были строгие и озабоченные.
– Ерунда, – сказала она. – Наплюньте…
И тут я понял, что щека у меня мокрая.
– Я наплюнул, – сказал я. – Теперь наплюнул.
Мы шли вдоль изгороди, и играющие в домино оглядывались на нас, и я не снимал руку с её плеча.
– Смотрят на нас… – сказал я.
– Ну и что? Доминошники… Подумаешь…
И так мы шли.
– Знаешь что? – сказал я. – Я когда смотрю на твои короткие волосы, не боюсь ничего.
– А бессмыслицы?
– Тоже.
Она хорошо усвоила наши споры на этот счёт. А на нас смотрели. На нас смотрели играющие в ту игру, которая, слава богу, ещё не входит ни в какие списки соревнований, ни в какие спортивные меню, ни в какие чемпионаты.
– Ты всегда стригись коротко… Ладно?
– Ладно, – согласилась она. – Я сейчас переоденусь, и мы уйдём. И вы мне прочитаете свою пьесу.
– Чушь… Какая там пьеса. Ты чересчур самоотверженная.
На нас смотрели, а она шла рядом и чуть впереди, и я держал руку у неё на плече, и палец касался её шеи.
Самоотверженность в ней была. Самая элементарная самоотверженность, и ещё она была товарищ. Товарищ!
Боже мой, выше этого слова нет ничего на земле.
– …Чтобы кто-то летал, нужен кто-то, кто хотел бы жить на земле, – сказал Илларион. – Не вынужден был бы, а хотел. Понимаешь разницу?
– Понимаю, Илларион. Ясно.
– Я теперь умный… Нет, без дураков. Я кое-что понял рядом с тобой. Земля остаётся землёй. Я хочу жить на земле, и много нас таких, которые хотят жить на свете, мы называемся народ. Но я хочу, чтобы земля была сад, а не полигон, и для этого нужны летающие, которые подсказывают нам не оскотиниваться. И мы признаём, что они есть, и это нам не обидно, если мы не с чужого участка. Потому что без летающих нас развратят жадные и наглые выскочки с чужого участка, которые выскочили от нас, но так и не взлетели, и потому им обидно, что кто-то летает, а они всего лишь Вавилонская башня, которая всегда разрушает самое себя, потому что разделяет народы, чтобы властвовать, и люди перестают понимать друг друга, теряя общий язык. И потому мы с тобой долгими вечерами не отрывались от жизни, а приближались к ней, и протягивали друг другу руки, и летали вместе…
– Ты всё же догадался, Илларион, а я нет, – сказал я.
– Ты мне рассказывал про Рембрандта и Сурикова, которые летали, потому что любили Землю и нас, землян, и всякую тварь на земле, и не хотели взгромоздиться на нас, чтобы возвышаться над нами, оскорбляя нас своей жадностью… И я не буду менять свою профессию на какую-нибудь другую. Я буду своей балдой разбивать целые улицы, если они памятники жадности, а не памятники полёта. И я буду ненавидеть тех, кто считает нас быдлом, и что с нас хватит ремеслухи. Не плачь, дурачок, ты мне товарищ на земле, и я тебе товарищ в полёте. Начни-ка снова писать свою пьесу и не бойся того, что твоя медсестричка не поймёт и осудит. Потому что она понимает тебя, и это ей зачтётся.
Она кивнула.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
СЦЕНА 1
Пустая комната во дворце. Входит Леонардо. Зороастро и Мельци несут за ним свитки и альбомы.
Леонардо
Никого.
Зороастро
Дворец пустой. Брат Цезаря – не в счёт.
Мельци
Пьян, как всегда, гандийский герцог.
Леонардо
Я буду здесь работать… Уходите.
Зороастро
Макиавелли говорит, что Цезарь в гневе.
Мельци
Он ждёт твоих рассказов о поездке.
Леонардо
Я ездил по разрушенной стране.
В селениях бесчинствуют солдаты.
Голодный вой стоит по всей земле,
Я думал строить дамбы и плотины,
На горных реках мельницы поставить,
А он из многочисленных проектов
Мне утвердил лишь планы крепостей.
Привёл в страну французскую орду
И бражничать сзывает кондотьеров.
Когда-нибудь зачтут за преступленье
Помеху, причинённую работе…
Зороастро и Мельци уходят. В дверях рывком показывается странная фигура и застывает, согнувшись, как перед прыжком. Выпрямляется и толчками движется вдоль стены. Человек бледен и смертельно пьян. Неожиданные паузы в разговоре. Хаос интонации.
Герцог Гандии
А вот и я, мой Леонардо… Видишь,
Сам герцог Гандии к тебе пришёл.
Леонардо
Я это глубоко ценю, синьор.
Герцог
А я ценю твою оценку, мастер.
Во столько же, во сколько ценишь ты
Моё желанье навестить тебя.
Однако одному тебе я верю,
А впрочем, можешь ты не верить,
Что верю я тебе…
А ты всё смотришь на пустую стену
И увидать стремишься на стене
Того, что в жизни увидать не можешь,
Всё ищешь способа красивее солгать
И всё не можешь… Бедный Леонардо!
Что за рисунок у тебя?
Леонардо
Портрет монаха.
Герцог
А выражение лица – твоё.
Леонардо
По памяти рисуя, дарим часто
Чужим чертам мы наше выраженье.
Герцог
Скажи, ну а зачем тебе всё это?!
Ах да, конечно, я же понимаю,
Ты хочешь написать картину…
Зачем тебе она?.. И это ясно.
Её ты делаешь за деньги…
Так? Но много ли тебе заплатят
В самом деле?
За эти деньги…
Ты не вернёшь ту жизнь, что ты истратил
На то, чтоб эти деньги получить.
А значит, ты работаешь бесплатно…
Так стоит ли работать вообще?
Бери пример с меня…
Я не работаю, но пью.
Леонардо
И это радует вас, государь?
Герцог
Бесстыдник ты. Скажи, ну разве можно
Так спрашивать? Кого? Государя!
Конечно, можно…
Итак, вопрос поставлен в форме “ли”…
Не радует ли? Тс-с, скажу тебе я по секрету,
Да… радует меня… Пока я пьян,
Не видно мне, как радуется Цезарь
Тому, что пьян я каждый божий день…
Какая логика! Ты не находишь?
Мне, видимо, науки впрок пошли.
И кроме этого, пока я пьян,
Я не пытаюсь сделаться героем.
Люблю тебя за то я, Леонардо,
Что вовсе не похож ты на героя…
Их столько расплодилось, что теперь
В Италии повымирали люди.
Шныряют всюду лишь одни герои…
Героям стало тесно на земле.
Один другого рубит пополам
И этим делает двоих… уродов.
И так они друг друга умножают.
Герои тщатся истребить себе подобных,
Но только размножаются деленьем.
(Печально и тихо.)
А человек к другим стремится людям,
Но так и погибает одиноким.
И вот в Италии осталось всего два человека. Один из них безумец по специальности – это ты. Другой, специалист по безумию – это я. Один из них делает неподвижных красавцев – это ты. Другой плодит подвижных уродов – это я. Но мои-то хоть подвижны, а твои нет.
Леонардо
Но заставляют двигаться твоих.
Герцог
Что? Да, ты прав. Но стоит ли тебе
Стараться двигать их тупое стадо?
Их даже силой с подлости не стронешь.
Тогда не лучше ль прыгать самому?
Да, Леонардо, мы с тобой похожи,
Мы лишь стоим на разных полюсах,
Ты хочешь управлять судьбы весами,
А я, увы, болтаюсь на весах.
Ты – это я… Но только наизнанку.
А впрочем, нет… Скорей наоборот.
Что это за рисунок у тебя?
Леонардо
Это портрет безвестного монаха.
Герцог
Но у него ведь выражение твоё.
Леонардо
Я говорил, мой герцог. Ты забыл.
Когда по памяти лицо рисуешь,
Невольно придаёшь ему своё.
…Сюда идёт твой брат…
Герцог
Да, да, я понял,
Ты, как и я, мечтаешь, Леонардо,
Из двух субъектов сделать одного.
Пиши тогда правителя портрет.
Возьми черты у брата, а затем
Придай им выражение моё.
Входят Цезарь и толстый монах.
Цезарь
Привет тебе, о мой венчанный братец!
Герцог
Привет мой, разведённый с троном, братец.
Цезарь
Ты, братец, разговорчив стал не в меру.
Ты слишком много пьёшь. Напрасно.
Герцог
Я развиваюсь. Я теперь решил
Убить вторую половину жизни
На изученье первой половины.
Меня отягощает груз науки,
Которую в меня вливали силой,
Я пью, чтоб логикой меня рвало
И чистило мне мозг. Он бесполезен.
Цезарь
Но при таком аллюре может не случиться
Тебе прожить вторую половину…
Послушай, Леонардо, я сердит:
Вернулся из поездки, глаз не кажешь!
Увлёкся бесполезною работой!
Ко мне дошли чудовищные вести,
Что будто бы ты головы рисуешь
Для фрески, погибающей в Милане,
Для “Тайной вечери”…
Леонардо
Да… Это так.
Герцог
Нет! Это правда?
Леонардо
Я хочу закончить.
Герцог
Картину, что разрушили французы?!
Леонардо
Во мне картина. Я хочу закончить.
Цезарь
Разрушенную?!
Герцог
Я схожу с ума!
Среди кровавой и зловонной грязи…
В спокойствии сидит великий мастер…
Упорно пишет голову Иисуса…
Для фрески, что разрушили французы…
Которых ввёл в страну сам Цезарь Борджа.
Чей пьяный брат смеётся над рисунком…
Ты шут? Урод?! А может быть, ты бог?
Леонардо
Священна бескорыстная работа!
Цезарь
Презренна бесполезная работа!
Толстый монах
Маэстро любит средь вонючей черни
В трактирах у воров и нечестивцев
Выспрашивать о мельничьих запрудах
И для сего выкраивает время.
Пауза.
Леонардо
Я бы давно уж кончить мог картину,
Задерживает голова Иуды.
Никак его представить не могу…
Ищу его я вот уж сколько дней
По самым отвратительным притонам
И не могу мошенника найти
Такого, чтобы догадался всякий,
Что это лик предавшего Христа.
Но вот сейчас я с радостью увидел,
Что я нашёл то, что давно искал.
Лицо твоё мне будет в самый раз.
Цезарь
Что?!.. Ха-ха-ха… Как ты сказал?!
Его лицо?!.. Ха-а-ха-ха-ха…
Толстый монах
О, господи!
Герцог
Но всё равно не выйдет!
Ха-ха-ха-ха… Не выйдет, Леонардо,
Вот если бы нарисовал сам Борджа
По памяти монашескую рожу
И дал ей выражение своё,
Тогда бы получилось…
Цезарь
Я б сумел!
Ха-ха-ха-ха… Как ты сказал?
Герцог
Ха-ха-ха-ха-ха-ха…
Держась за стену, брат Цезаря уходит прочь. Хохот разносится гулом в пустых коридорах замка.
Цезарь
(спокойно)
Работай, Леонардо. Мы уйдём.
Я нынче угощаю кондотьеров.
Мой бедный брат от пьянства обезумел…
Те тоже пьют, а это не к добру.
Их надобно от пьянства излечить.
(Уходит.)
Хохот затихает, переходя в песню. Поворот круга.
СЦЕНА 2
Пустынный коридор в замке. Узкие окна. Дверь. Коридор сворачивает за угол. Тихонько поёт Микелотто, прислонившись к двери, с маленькой чёрной гитарой в руках.
Микелотто
(поёт)
О, дон Санчо! О, дон Санчо!
Как в Кастилье правил он!
Он прошёл по всей Кастилье –
От Бургоса на Леон!
Он прошёл по всей Астурии
И Наварру поборол!
А всего людей имел он
Триста всадников числом!
Взял с собой своих идальго
Этот Сид Компеадор.
Входит Макиавелли.
Макиавелли
Я ждать тебя заставил.
Микелотто
Пустяки,
Вставай за угол да следи. А я
Останусь здесь.
Макиавелли
Неплохо, Микелотто.
Посол Флоренции Макиавелли
Стоит у вас на стреме, точно вор.
Микелотто
Примерно так. Есть новости, Никколо.
Макиавелли
Вернулся Леонардо из поездки?
Опять не дали денег на каналы?
Приехал в гневе? Я и это знаю.
Но эта весть не стоит и боба,
Весть не твоя. За это не плачу.
Микелотто молчит.
Ну что? Ещё есть новости?
Микелотто
Похуже…
Ты видишь эту дверь?
Макиавелли
(тихо)
Что там, за этой дверью?
Микелотто
Там с кондотьерами пирует Борджа.
Сейчас там с ним Вителли Вителонцо,
Оливерото Ферма, брат, Орсини двое…
Макиавелли
Ну знаю…
Микелотто
Вот сейчас их душат…
Пауза.
Макиавелли
Что значит душат?..
Микелотто
Душат – значит, давят…
Макиавелли
Так-так… Ну, я пошёл…
Микелотто
Не смей ходить!
Макиавелли
Как тихо там…
Микелотто
У Цезаря всё тихо…
Как и всегда.
Макиавелли
(с тоской)
А может, ждать не нужно?
И правы те, кто поднялись в Ареццо?
Пока мы рассуждаем так и этак,
Они пытались выковать свободу.
А там, глядишь, средь грязевого моря
Вдруг заиграл бы островок счастливый.
Пылало как…
Микелотто
Восстание в Ареццо
Есть тоже дело Цезаря… его рука!
Макиавелли
(гневно)
Ты лжёшь!
Микелотто
Он сам поднял доверчивое стадо,
Потом он их же выдал флорентийцам.
Макиавелли
(после паузы)
Не тронь меня… Дай дух переведу.
(Сглатывает слезы.)
Микелотто
А ты не крепкий… Я не ожидал.
Макиавелли
Я был не крепкий. Стал я твёрже стали.
Пауза.
Ещё одна иллюзия разбита,
Опять корыстью завоняло там,
Где мне почудилося вдохновенье…
Пауза.
А вот идёт барашек Леонардо,
Который ничего не замечает.
Ты любишь праведников, Микелотто?
Пауза.
Микелотто
Я не выношу… но яростно завидую.
Макиавелли
Идёт!
Микелотто
Невозмутимость с ликом Серафима.
Макиавелли
А толку что? Вот мечется по замку
Беспомощная чёрная комета,
И с жуликами спорит в коридорах,
И ищет Цезаря… А Цезарь занят…
Он душит непокорных кондотьеров…
Ну скоро их прикончат?
Микелотто
Не спеши. Ты задержи, а я проверю двери.
Макиавелли
Но, Микелотто…
Микелотто
Тише. Я пошёл…
(Уходит.)
О, дон Санчо! О, дон Санчо!
Как в Кастилье правил он…
Входит Леонардо.
Макиавелли
Художники, вы ходите спесиво!
Зачем нужны живые зеркала?
Когда-нибудь придумают машину,
Которая сумеет закрепить
Изображенье в зеркале. Тогда
Не будете нужны вы!
Леонардо
Дурачок!
Художник тот, кто видит связи мира,
Художник тот, кто в капле видит море…
Художник тот, кто в миге видит вечность,
Кто в человеке видит человечность.
Художник тот, кто может в вас, Никколо,
Увидеть детство без любви и ласки,
Увидеть юность без любви и денег,
Увидеть зрелость без стыда и чести.
Да что там факт! Всего по тени факта
Художника воображенье видит сущность.
Смотри на стену. Видишь эту тень?
Так для тебя. А для меня примета
Она укрывшегося за углом Такконе.
Такконе, вылезай!
Такконе гордо проходит мимо.
А мысль твоя о некоей машине,
Что закрепит изображенье в зеркале,
Хорошая. О ней подумаю я на досуге.
Теперь пусти.
Макиавелли
Постой, не уходи…
Что есть гармония, эй, мастер?
Леонардо
Она есть то, благодаря чему я зачат.
Тебя же зачинали в отвращенье.
Макиавелли
Врёшь! Ненависть есть двигатель событий.
Твои же гармонические вздохи
Есть лишь одышка бешенства природы!
Леонардо идёт прочь.
Ага!!.. Бежишь?!.. Гармония, куда ты?!
И над тобой смеюсь!
Леонардо хватает его за грудь.
Пусти… Я плачу… плачу.
Леонардо отпускает его.
Я так же обездолен, как и ты…
Твой Цезарь нанимает восстающих,
Чтобы они боролись за свободу!
Пауза.
Леонардо
(глухо)
Ты это про Ареццо говоришь?
Макиавелли
Не говорил я ничего…
Леонардо
Я понял.
Что ж… догадывался я и прежде…
Недаром столько времени мутили
Флоренцию от Цезаря послы.
Макиавелли
Так вот тебе народное восстанье…
Корысть… одна корысть…
Леонардо
Молчи, презренный!
Там люди шли бороться за свободу!
Там кровь невинных пролилась в чистых!
Мой Аталанте… предал я тебя…
Любовь моя… зачем тебя покинул?..
Так, значит, этот хитроумный герцог
Играл в освободителя народа?
Под крылышком святейшего отца
Ползущий к власти изверг человечий?!
Где проползает этот лютый гад,
Повсюду трупы, кровь и нечистоты!
Ну что ж!.. Поищем герцога…
Уходит. Макиавелли ошеломлённо смотрит вслед. Из-за угла появляется Уголино Такконе.
Такконе
(ликующе)
Такие вещи говорить о князе!
Макиавелли
Я вас прошу, Такконе!..
Такконе
Нет! О нет!
Я столько лет ждал этого момента.
Ему конец…
Макиавелли
Я умоляю вас…
Такконе
Нет, нет! Я совершил бы грех
Пред собственной природой! Я бы сдох
От огорченья и от раскаянья,
Когда бы упустил подобный случай!
Что?! Ненависть моя границ не знает!
Проклятие! Я счастлив! Я лечу!
Макиавелли
Так… Адская похлёбка закипает…
Микелотто
Ну что? Сбежал? Ступай перехвати.
А я уж здесь его покараулю.
Макиавелли уходит. Вбегает Такконе.
Микелотто
Назад! Куда? Назад, я говорю!
Такконе
Вы это говорите мне, любезный?
Микелотто
По-вашему, я был любезен, Уго?
Такконе
С дороги, Микелотто!
Микелотто
(выхватывая нож)
Прочь, Такконе!
Такконе
Ну так бы сразу и сказал…
Микелотто
(равнодушно)
Я сразу.
Такконе
Но, Микелотто, дорогой, послушай,
Мне нужен Цезарь!
Микелотто
Он тебе? Иль ты ему?
Такконе
Последнее вернее.
Микелотто
Он разве приказал тебе прийти?
Такконе
Да нет, но, Микелотто…
Микелотто
Подождёшь.
Такконе
Я должен князя видеть до того,
Как он здесь повстречает Леонардо.
Микелотто
Вот и скажи ему.
Такконе
Кому же?
Микелотто
Леонардо.
Идёт сюда… И возбуждён…
Такконе
О, дьявол!
Тяжело входит Леонардо.
Леонардо
Какого чёрта в этой преисподней
Все двери вдруг позакрывали?
И эта дверь закрыта. Цезарь там?
Микелотто
Вот и Такконе тоже ищет князя.
Леонардо
Ага, ты здесь, козявка, паучок?
Такконе
Не подходите близко, Леонардо!
Леонардо
И ты с ножом? Я вижу, здесь резвятся.
Микелотто
Он и меня старался напугать.
От страха чуть дышу.
Леонардо
Ты не ответил… Что, Цезарь там?
Микелотто
И там он и не там.
Леонардо
И есть, и нет. Как всё на этом свете.
Решение приносит только опыт.
Ну, я иду.
Микелотто
Нельзя туда, маэстро.
Леонардо
Кому нельзя? Тебе? Вот ты и стой.
Мне можно, я иду туда.
Микелотто
Маэстро, слышите? Я говорю – нельзя!
Леонардо
Ты говоришь одно, а я другое.
Так где же правда?
Микелотто
Я вас не пущу!
Добром себе ступайте, Леонардо,
Ведь я солдат и грубый человек.
Леонардо
Так ты меня не пустишь, паучок?
А если я пройду? Тогда что скажешь?
Микелотто
Пройдёшь, художник, только через труп мой,
Что совершить, однако, нелегко.
Леонардо
Какая гадость… Раньше делать труп,
Потом ещё шагать через него.
Гораздо проще отшвырнуть с дороги
Вот так…
Отшвыривает Микелотто и направляется к двери. Микелотто, подскочив с земли, молча бросается на Леонардо. Леонардо перехватывает руку с ножом. Микелотто стонет и становится на одно колено. Леонардо отнимает нож.
Микелотто
(вставая)
Иди, иди туда, колдун проклятый!
Только идёшь ты за своею смертью!
Леонардо
Мы все идём за смертью, Микелотто.
Открывается дверь. Сонно улыбаясь, как сытый кот, выходит Цезарь Борджа. Утомлённо и ласково обращается к Леонардо.
Цезарь
Подумайте, в такой хороший вечер
Я слышу громкий разговор о смерти.
Леонардо подходит к нему.
Леонардо
В такой хороший вечер Цезарь Борджа
Отдал приказ убить себе подобных.
Цезарь
(переставая улыбаться)
Ага, ты разузнал?.. Ну, Микелотто?
Я видел, вы здесь обнимались…
Микелотто
Я?!
Пусть будет проклято моё зачатье,
Когда я произнёс хоть слово!
Такконе подтвердит!
Он дьявол!.. Он знает всё!
Леонардо
Не в добрый час мы встретились с тобой…
Не в добрый час пришёл с тобой проститься…
Земля под нами напоилась кровью,
Трава переменила цвет на красный,
Дороги больше не лежат в ложбинах,
Протоптанных ногами пешеходов,
А вспухли от крови, как вены…
Вот видишь, просочилась и под двери!..
Цезарь
Где? Где ты видишь?! Что за чепуха?!
Открываются двери, и показываются люди, несущие трупы кондотьеров.
Леонардо
Что это?! Я схожу с ума…
Цезарь
(яростно)
Я приказал через другие двери!..
Так, значит, он не знал!.. Проклятье!
Всех перевешаю! Скоты! Убрать!
Входит Зороастро.
Зороастро
Живей, живей. Коней влечёт дорога.
Леонардо
(вне себя)
Какие морды… Нет, ты посмотри…
Надменные, крутые подбородки,
Лбы низкие прикрыты волосами,
Все отпрыски фамилий знаменитых!
Медичи, Сфорца, Борджа, Малатеста!
Италия моя! Красавцы! А?
Проламывают головы друг другу,
За два дуката отравить готовы,
И каждый норовит в государи!
Микелотто
С кем говоришь, несчастный?! Остановись!
Цезарь
Ты видишь, Микелотто, не в себе он?!
Я не сержусь, маэстро, ты устал.
Но о какой ты крови говорил,
Когда ещё не знал о совершённом?
Леонардо
Не знал о совершённом? Ну а кровь,
Что пролилась из-за тебя в Ареццо?
Цезарь
Так… Всё понятно, мастер… Тут тебе
При всём твоём уме не разобраться.
Это политика… Это моя наука.
Страна моя – это моя рука.
Сожму в кулак – готова для удара,
Расправил – пятерня послушных пальцев,
Пять щупальцев. Вот видишь… Леонардо,
Погладить могут… Могут задушить.
Но всей страною, как рукой послушной,
От века управляет голова.
А голова страны есть князь.
Леонардо
(неистово)
Князь – голова?!
Князь – это вошь на голове страны!
Князь – это клещ, вцепившийся в затылок,
Что кровь сосёт и иссушает мозг!
Мой мозг!.. (Хрипит.) Воды!..
Зороастро подхватывает его и быстро уводит. Цезарь, сузив глаза, вежливо улыбается. Молчание.
Такконе
(приблизившись)
Пора пришла убрать его, мой герцог…
Цезарь
Запомни-ка, любезный. В тот момент,
Когда решишь покончить счёты с жизнью
И знать не будешь, как себя убить,
Ты руку подними на Леонардо,
Чтоб тотчас же погибнуть от моей…
А у меня рука длинна… Ты знаешь…
Ты у него отнимешь только жизнь,
А у меня отнимешь Леонардо.
Такконе
(в ужасе)
Так говорила Беатричче Сфорца!
Цезарь
Покойница, забыл добавить ты.
Такконе
(в ужасе)
Она… наедине мне говорила!..
Цезарь
Не будь догадлив… Эй, не будь догадлив.
Ступай.
Такконе
Простите…
Цезарь
Я сказал, ступай.
Такконе, сгорбившись, уходит. Цезарь и его люди молча смотрят вслед.
Цезарь
Пусть уезжает мастер… Он вернётся…
Мы встретимся друг с другом под лучами
Моей великой славы и его.
Темнота. Круг поворачивается.
СЦЕНА 3
Фиолетовый лес на горах. Копья сосен. Идут два монаха.
Фанфоя
(переодетый)
Ну, вот и Аржантьерский перевал.
Вот крест поваленный. А вот ручей.
От головы креста спускайся вниз,
И ты во Франции.
Доминиканец
Ступай, я отдохну.
Ты заморил меня.
Фанфоя
Что ж заморил?
Зато раз в двадцать сократили путь,
Который мы проехали б на мулах.
А этою дорогой, святый отче,
Всего три дня езды до Монте-Негро.
Счастливый путь!.. Ай!..
Доминиканец
Что с тобой?
Фанфоя
Мираж…
Доминиканец
Перекрестись.
Фанфоя
Нет, не поможет, отче.
Фанфоя спиною движется назад. На него надвигается арбалетчик. Доминиканец выхватывает нож. Сзади появляется второй арбалетчик.
Арбалетчик
Святой отец, брось ножик…
Фанфоя
Французы!..
Офицер
(обернувшись)
Вперёд… Вперёд…
Из-за камней появляются воины.
Фанфоя
Ох, Михаил святой. Да сколько вас…
Все, кроме двух арбалетчиков, уходят. Офицер свистит и тоже уходит.
Фанфоя
Куда же это они? А? Как ты полагаешь,
Святой отец?
Арбалетчик
Молчи.
Фанфоя
А это что? Обвал?.. Нет, топот.
Что же это?
Появляются воины. Начинает двигаться армия французов.
Как же это так?.. А? Как же так?
Фанфоя бежит. Доминиканец вырывает у француза арбалет и стреляет в спину Фанфое. Фанфоя с криком летит в пропасть.
Арбалетчик
Чёртов монах… Ловко стреляет…
Как ветром сдуло.
Доминиканец
Веди к начальнику.
Арбалетчик
Да, как же, поведу…
Доминиканец
Болван!.. Да вот они…
Арбалетчик
Назад! Стреляю!
Входит король Франциск со свитой.
Франциск
(подняв забрало)
Что за монах?
Доминиканец
Посол святого римского престола
С посланьем королю французов.
Франциск
Давай сюда посланье… Поживей.
Доминиканец
Но это несущественно, однако…
Франциск
Вот как? А что существенно, посол?
Доминиканец
Я человек Гастона де Фуа.
Франциск
Гастон… Твой человек?
Гастон де Фуа
Так точно.
Его зовут Сульпиций. Кардинал.
Франциск
Доверия заслуживает?
Гастон де Фуа
Как обычно.
Франциск
Не верю я ему… Ну, отвечай! Да скоро!
Что нового есть нынче в Ватикане?
Доминиканец
(быстро)
После избрания Льва Десятого на папский престол удалось захватить князя Цезаря Борджа и заточить в башню Ангела. А через неделю должен быть схвачен по доносу приехавший в Рим художник Леонардо да Винчи, еретик.
Франциск
Что ты сказал, собака, повтори!
Доминиканец
Художник Леонардо…
Франциск
Прочь!.. Гастон!
Де Фуа
Я здесь, ваше величество.
Франциск
Гастон!
Гастон… спеши… достань мне Леонардо.
Возьмёшь с собою пятьдесят дворян,
По пять коней на каждого из них.
Помчишься в Рим со скоростью стрелы
И Папе Льву ты передашь письмо.
Но ты примчать обязан до того,
Как будет схвачен Леонардо! Понял?
Де Фуа
Когда они не схватят его раньше…
Франциск
А если схватят – ты им объяснишь,
Как только с армией достигну Рима,
Я срою башню Ангела к чертям!
Де Фуа
Карт-бланш. Я понял. Эй, по коням!
Французы проходят. Вылезает Фанфоя. В спине у него стрела.
Фанфоя
Как жив остался, сам не понимаю.
Ах ты предатель! Чувствовал, ей-ей,
Стрела вонзилась… Сшибла в пропасть…
Едва успел схватиться за кусты.
Ох вы, доминиканцы! Псы господни!
Со страху даже голод одолел.
Скорее надо силы подкрепить…
Ох, матерь божья, как всего трясёт!
Достаёт из капюшона окорок. В него воткнута стрела.
Так, так… понятно всё… Вот и стрела,
На волосок от смерти удержался,
Пробила мясо и попала в кость.
Недаром я всегда предполагал,
Что окорок есть лучшая защита
От бедствий всех…
(Жадно ест.)
Стоп… Ах, я идиот!
Пока я ем, ведь армия идёт!
(Подскакивает.)
Ну нет, голубчики! Меня не обогнать.
Вы на конях, а я пешком… пешком,
Вы по дороге, я же по верёвке.
Ещё посмотрим, кто из нас быстрей.
(Торопливо кусает окорок. Запихивает его в капюшон. Туго подпоясывается, торопясь. Вдруг резко останавливается.)
Куда спешить? Нет, погоди, Фанфоя…
Они ж тогда придушат Леонардо.
(Ошеломлённо молчит.)
Ещё б немного, и пошёл. Ну нет…
Тьфу… даже пот прошиб меня от страха.
(Садится.)
Представил, как они его схватили…
Нет, погоди… Но армия идёт?
Так, значит… Чтоб я отдал Леонардо?
Нет, не дождётесь, подлецы такие…
А, провались всё пропадом совсем!
Я не пойду, и всё… Но армия идёт…
Огни пожаров вижу на закате…
Не ветра вой, а плач детей и женщин.
Бежать, бежать… скорей предупредить…
…Чтобы они скорей его схватили?!
Христос!.. Скажи… За что такая мука?!
Зачем велишь, чтобы убил я друга?!
А?! Ты молчишь?! За что!.. За что?! За что?!
(Рыдая, бьёт себя кулаками в грудь и в голову.)
Куда идти?.. Уж лучше вниз со скал…
Конец – и всё… Но армия идёт…
Прости меня, маэстро Леонардо…
Что я, подлец, готовлю смерть твою.
Любимый друг мой… Светоч мой любимый…
Один лишь ты мне светоч в этой мгле!
(С отвращением.)
Иду!
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
СЦЕНА 1
Ночь. Осень. Монастырская стена. Голые сучья деревьев. Могила Моны Лизы. Ветер срывает листья. Топот коней. Входят Леонардо и Зороастро.
Леонардо
Ты оботри коней. Нам дальняя дорога.
Зороастро
Да я уж знаю, мастер мой, я знаю…
Вы там недолго… Ночь нехороша.
Леонардо
Смешной старик. По-прежнему слуга,
И мастером, как прежде, называет,
И говорит, что ночь нехороша.
Что ночь?! Всё ночь. Ночь, ночь кругом…
Да есть ли день на этом белом свете?
Быть может, день всего ублюдок ночи?
А свет лишь искаженье темноты?
Когда ж не так, то почему я ночью,
Как вор, скитаюсь под стенами Рима,
Сношу пощёчины осенних листьев,
И сам, как лист осенний, сорван бурей
И вот прибит к могиле Моны Лизы?!
О, Мона Лиза!..
(Падает на могилу.)
Зороастро
Мастер мой, скорее…
Леонардо
(рыдая)
“Скорее, мастер!.. Леонардо, живо!..”
О, Мона Лиза! Некуда скорее!..
Мне некуда спешить… Ты слышишь?.. Нет…
Теперь ты больше ничего не слышишь…
Нет для тебя ни рая и ни ада,
И это значит, нет их для меня.
Но неужели труп – та девочка, которой
Принадлежало имя Моны Лизы,
Единственная собственность её,
Которую не отняла могила?!
А может быть, и имя только труп
Любви моей, что отняли у нас…
(Рыдает.)
Входит Джокондо.
Джокондо
(входя)
Ага! Ты плачешь, еретик проклятый!
Слуга предателя! Исчадье сатаны!
Леонардо
Кто ты?
Джокондо
Не узнаёшь?
Леонардо
Узнал… Джокондо.
Джокондо
Что… Не помог тебе твой Цезарь Борджа?
Он мнил себя властителем страны,
Но сдунут ветром, словно лист осенний.
Ведь стоило скончаться Александру,
И рухнула его земная власть,
И Рим избрал себе другого Папу,
И Цезарь Борджа заточен в тюрьму…
Леонардо
Молчи… Ступай… Всё кончено теперь.
Неважно всё пред этою могилой. Стой…
Расскажи, как всё произошло?
Джокондо
А хватит сил в твоём огромном теле,
Чтоб выслушать историю мою?
Я всё тебе сейчас же расскажу,
Чтоб лопнуло твоё гнилое сердце,
От ужаса полезла борода!
Леонардо
Рассказывай.
Джокондо
Когда случилось это несчастное восстанье, много было убито народу, и собаки стали жирные. И тогда она послала Аниту искать тебя, потому что был слух, что ты тоже в Ареццо. И когда старуха шла по дороге в Ареццо, она встретила воинов Флоренции, которые бесчинствовали в домах. Она стала их корить… И тогда один воин ударом меча отсёк груди старой Аниты, и она вся в крови пошла умирать в Ареццо.
Леонардо
Она была хорошая женщина…
Джокондо
Она тебя ненавидела…
Леонардо
Она боялась за Мону Лизу… Откуда
Ты всё узнал?
Джокондо
Приходил Фанфоя, переодетый монахом…
Он бежал, и его ищут…
Леонардо
Фанфоя всегда был трусом… Говори
Дальше.
Джокондо
Дальше?.. Ты просишь дальше?!..
Дальше моя жена задумала бежать к тебе.
Леонардо
Дальше…
Джокондо
И я со слугами её поймал,
Она недалеко уйти успела…
Я предложил вернуться ей домой,
Она домой вернуться отказалась…
Тогда церковный суд постановил,
Чтоб я согласье дал…
Леонардо
На что согласье?!..
Джокондо
Чтоб заточить её в монастыре…
Леонардо
(кричит)
Ты согласился?!..
Джокондо
(тоже кричит)
Да! Я согласился!
Из всех не согласилась лишь она!
Яд выпила… И умерла… И, как собака,
Схоронена за стенами кладбища…
Из-за тебя, проклятый живописец…
Из-за тебя, отродье сатаны!..
Леонардо
(тихо)
Молчи, торговец, если хочешь жить,
Моя любовь погибла, как цветок,
Захватанный вонючими руками…
Ведь ты жену свою купил, как вещь,
Взял за долги, как ношеное платье.
Ведь если бы не деньги, ты б ослеп,
Едва взглянувши на её лицо!
Но ты богат, и ты её купил!!
Джокондо
(яростно)
А ты как думал, еретик проклятый?!
А что ж мне делать, если бог не дал
Ни сил, ни красоты и ни таланта?!
Я, значит, не имею прав на счастье!
И быть счастливым можешь только ты?
Леонардо
Я счастлив, Джокондо… Ты несчастен.
Она меня любила… не тебя…
Джокондо
Как плакала она и как просила
Не заточать её в монастыре!
Ты думаешь, душа не содрогнулась?!
Я устоял – ведь я её любил!
Она ведь знала про мою любовь!
И крик её в ушах стоит немолчно!
“Ведь ты меня любил! Я знаю! Знаю!
По-своему, но всё-таки любил!
Я не хочу! Смотри, ведь я живая!
Ведь звери никого не заточают,
А ты не зверь!” Я отвечал:
“Молчи!
Молчи, жена, в тебе бушует плоть…”
Погонщика ослов! Бродягу! Вора!
Кого угодно я бы ей простил,
Но не тебя, бастард, проклятый мастер!
Леонардо
Убью тебя…
Джокондо
Убей… Ведь ты сильнее,
Тебя ведь силой бог не обделил.
Леонардо
Свирепы когти хаоса…
Джокондо
(испуганно)
Идут…
Вбегают латники и окружают их.
Воин
Вы кто такие?
Зороастро
(подбегая)
А вы?
Джокондо
(льстиво)
Что вы, друзья?.. Что вы?.. Да вы знаете, на кого вы руку подняли?.. Ведь это же знаменитый маэстро Леонардо, живописец его святейшества Папы Льва Десятого.
Воин
Верно… Это наш художник… Я видал его…
Здесь никто не проходил?
Джокондо
Нет, никто не проходил… Кого вы ищете?
Воин
Пошли.
Джокондо
Кого вы ищете, друзья?
Воин
(обернувшись)
Цезарь Борджа бежал из тюрьмы…
Воины уходят.
Джокондо
(в страхе)
Простите меня, мастер Леонардо,
Я сам не помню, что я говорил…
Леонардо
Не бойся… Борджа не вернётся.
Входит Цезарь Борджа.
Джокондо
Ах!..
Цезарь
Ушли они?
Пауза.
Леонардо
(хмуро)
Ушли.
Цезарь
Какие встречи…
Какие встречи в эту ночь… Какие встречи…
Я угадать не мог.
Леонардо
Всего не угадаешь,
Цезарь
Я угадал всё на своей дороге.
Леонардо
Ты только смерть отца не угадал.
Цезарь
Ты думаешь, что кончена игра?
Что козырей в колоде больше нету?
Леонардо
Но ты бежишь?!
Цезарь
Бегу! Бегу! Бегу!
Но я вернусь! Клянусь тебе крестом!
Ещё запляшут языки пожаров.
Ещё примчится войско Вельзевула,
Держась за стремена моих коней!
Эй, Зороастро, кони где?
Зороастро
(уклончиво)
Что кони…
Ну-ну, я здесь, хорошие мои…
Цезарь
Старик, скажи… Вернусь ли я назад
Тем же путём, что нынче уезжаю?
Зороастро
Нет, больше не вернёшься…
Цезарь
Ах ты, враг!
Я был для вас плохим государём?
Я плох вам показался? Говори.
Ну что же, поживите при другом.
Тогда вы и припомните меня.
Обратно позовёте – я приду.
Но я тогда в страну прибуду с войском.
Зороастро
Так вот что ты задумал, Цезарь Борджа?
В страну вернуться хочешь, но не прежде,
Чем преступленья нового злодея
Достигнут перевеса над твоими?!
Но слишком долго ждать того придётся.
Борджа бьёт его ножом в грудь.
Простите меня, люди,
Борджа бежит. Топот коня.
За то, что я предателю служил.
Леонардо
Томмазо…
(Кричит.)
Зороастро! Зороастро!
Зороастро
Умираю, мастер…
Мне не хватило выдержки… Не дожил…
До той поры, когда построишь крылья…
Не удержался, как мальчишка… Извини.
Джокондо
Так наказует бог еретика!
Леонардо
Не понимаю… Нет… Не понимаю!
Скажи, зачем живёт такая жаба,
Когда здесь умирает Зороастро?
(Со стоном.)
Не по-ни-маю!!..
Джокондо
Что ж, я пойду… Пора и отдохнуть.
(Уходит.)
Зороастро
Прости меня, что я тебя подвёл…
Но ты не бросишь своего пути.
Леонардо
Я встретился с тобою, с подмастерьем,
А расстаюсь я с другом и отцом…
Прости меня и ты, любимый друг!..
Я опирался на тебя всю жизнь…
Ты загораживал меня в боях,
Ты подставлял усталое плечо,
Когда я падал. Если же хотел
С пути я уклониться – не давал мне.
Ты нёс меня в ладонях, как птенца,
Чем заслужил подобную любовь?!
Зороастро
Как странно мне… А я всегда считал,
Что всё это со мною делал ты…
И я всегда хотел тебя спросить,
Чем заслужил подобную любовь…
Мы никогда о том не говорили.
Ты шёл вперёд, как чёрная комета,
Мы за тобой спешили, задыхаясь.
Всё меньше оставалось за тобой.
Я дольше всех тебя не покидал…
На всех дорогах мы искали счастья,
Но ты учил, что счастье – это взлёт.
Дорога пройдена… Путей здесь нет…
Государей хороших не бывает…
Прыжок ты сделаешь… Вы сможете, маэстро…
Взмахните крыльями… Вперёд… Вперёд…
Прощай, любимый мастер… Я лечу…
Занавес.
СЦЕНА 2
Ватикан. Покои во дворце. Папа Лев Десятый. Перед ним кардинал и толстый монах.
Лев X
Чем он ещё у Борджа занимался?
Кардинал
Он рисовал с натуры оборванцев
И с них писал он образы Христа.
Толстый монах
Из всякой швали делал он святых,
А из меня, послушника, Иуду.
В моём лице затронута была
Бессмертная святая сила церкви,
К коей мы все принадлежали. А значит,
Оскорблена святейшая особа
Наместника Иисуса на земле.
Лев X
Ну-ну, преувеличивать не надо.
Изобразить тебя есть далеко не то же,
Что оскорбить меня…
Толстый монах
Но я хотел…
Лев X
О, ты хотел уйти. Пошёл отсюда вон!
Ослица вифлеемская…
Толстый монах уходит.
Он слишком многим нужен, Леонардо…
Но мне он стал не нужен. Вот в чём суть.
А тот, кто бесполезен нашей церкви,
Тот враг святого римского престола.
Распорядись, чтоб вызвали людей.
Я заведу с ним долгий разговор.
Когда произнесу: “Пора кончать!”,
То это означает: “Приготовьтесь”,
Когда кивну – схватить еретика.
Ну что ещё там?
Кардинал
Пьяница какой-то.
Монах поддельный арестован был,
Когда хотел, проникнув на приём,
Добиться личного свиданья с вами.
Он утверждает, что имеет весть,
Которую он сообщит лишь вам.
Неделю целую мы бьёмся с ним.
Боюсь я, как бы он не сдох.
Лев X
Он где, недалеко?
Кардинал
Да, ваша милость.
Мы привели его на всякий случай.
Лев X
Ведите дурака. Да, открывай приём.
И тотчас же с приходом Леонардо
Ты стражу увеличишь у дверей.
Кардинал уходит. Открывается дверь, входят стражники, придворные, чины церкви. Вводят истерзанного Фанфою.
Лев X
(Фанфое)
Кто ты?
Фанфоя
(бормочет)
Привёз я вести страшные…
Но мне ничто не страшно…
Поэтому осмеливаюсь вам сказать…
Что я скажу вам при условии…
Лев X
Что мелет этот пьяница безродный?
Осмелился потребовать условий?
Гоните его в шею, и плетей!
Мне вести не нужны.
Фанфоя
(в страхе)
Как не нужны?
Ах, пропади всё пропадом!
Я без условий!
Лев X
Вон! – я сказал! Ну, живо!
Фанфою тащат к дверям.
Фанфоя
Французы Альпы перешли!
Слуги останавливаются.
Войска французов движутся на Рим!
Общий ужас.
Лев X
Пустите его…Ты откуда знаешь?
Фанфою отпускают.
Фанфоя
Я провожал того доминиканца,
Которого отправил ты послом.
Мы натолкнулись на дозоры их…
Лев X
Проклятье! Они его убили?
Фанфоя
Убьёшь гадюку эту! Он предатель!
Он выстрелил в меня из арбалета,
Отнятого к тому же у француза,
Когда я попытался убежать,
Меня швырнуло в пропасть. Я успел
За куст схватиться. Уцелел случайно.
(Поднимает голову и смотрит на Льва X.)
Я слышал разговор его с французом.
Он человек Гастона де Фуа.
Лев X
Предатель!.. Что же делать?.. М-м-м…
Предатель.
Бежать! Бежать!.. Где генерал Ровера?
Я ставлю вас командовать войсками!
Ступайте живо!
Ровера
Слушаю, синьор!
Лев X
Постойте… Эй…
Ровера
Я слушаю, синьор.
Лев X
Вся гвардия пойдёт в мою охрану.
Ровера уходит.
Кем окружил себя я! О, Иуды!
Вы все предатели… Я вижу по глазам…
(Фанфое)
Один лишь ты мне верным оставался…
Проси награды! Ну, чего ты хочешь?
Поместья? Денег? Может, бенефиций?
Проси что хочешь… Говори скорей.
Фанфоя
Не троньте вы маэстро Леонардо.
Пауза.
Лев X
Ну, это, знаешь, дело не твоё.
Ты позаботься о себе.
Фанфоя
Не троньте
Маэстро Леонардо.
Лев X
Ты забылся!
Фанфоя
Нет… Я не ту Италию спасал…
Один лишь раз и был я человеком,
И в этот раз я друга погубил…
Кого я спас?!. Кого я погубил?!.
Входит Леонардо. Общее замешательство.
Маэстро Леонардо, берегитесь!
Ему зажимают рот и выволакивают.
Лев X
Живее в башню Ангела! Мерзавец!
Идите же, идите, Леонардо,
Что с вами? Испугались?
Леонардо
Не могу
Припомнить я, где слышал этот голос!..
Лев X
Мой бедный мастер, я тебя позвал…
Утешить в горе от потери друга.
Его убил бежавший ночью Борджа.
Я знаю всё… Но вот беда пришла.
Она мне все перемешала карты.
Теперь я сам нуждаюсь в утешенье…
Теперь тебе я говорю другое:
Возьми людей и власть возьми над ними.
Используй тайные свои познанья.
Приказывай везде. И там и тут,
Все твои мысли слуг себе найдут.
Леонардо
Власть над людьми принять я не могу.
Я не умею справиться с собою.
Но что-нибудь случилось, мой синьор?
Лев X
Король французский Альпы перешёл.
Войска французов движутся на Рим.
Пауза.
Леонардо
(с отвращением)
Война… Война… Проклятая война…
Она съедала все мои усилья,
Все лучшие деяния мои…
Опять помчалась конница по низам,
Опять артиллерийский серый дым
Смешала с пылью хриплая пехота…
Я вижу… воздух полон стрел…
И жеребцы грызутся… и щиты
Кровавой грязью залиты и пеной,
А под ногами конницы, в пыли
Зубовный скрежет, лязг и визг ножей,
Вскрывающий, как устрицы, доспехи…
Одни тела другими роют землю…
Нет ровных мест… Зияют ямки,
Следы копыт, наполненные кровью.
Лев X
(бледнея)
Боже!
Леонардо
Опять забилась мать среди дороги,
Оплакивая мёртвое дитя,
Раздавленное рыцарской подковой…
Лев X
(кричит)
О, перестань!.. Ты!.. Ты!.. Колдун
Проклятый!
Нет, ты не патриот! Ты трус!
Леонардо
Я трус?
Лев X
Что толку в том, что ты силён, как бык,
Что ростом чуть не выше Голиафа?
Вдвойне позор, когда в могучем теле
Скрывается дрожащий бабий дух.
Мужчина – воин! Так велел господь,
Создавший нас по своему подобью.
Мужчина от рожденья до надгробья
Войною дух свой пестует и плоть!
Леонардо
Войной за что?.. Ведь если создан я
По образу и божьему подобью,
То не затем, чтоб умножать надгробья,
Ведь это может делать и змея.
Нет, я боец!.. Но кистью и резцом
Я не калечу божии творенья,
Я создаю Вселенной повторенье,
Недаром бога мы зовём творцом.
Лев X
Ты богохульник!
Леонардо
Нет, синьор, художник!
Лев X
Мой капитан, вы здесь?
Микелотто
Так точно.
Лев X
Вы помните приказ?
Микелотто
Так точно, помню.
Леонардо
О, Микелотто? Капитан? Ах, старый друг!..
Я вижу, здесь собрались патриоты…
Микелотто
Точь-в-точь как вы, маэстро.
Леонардо
О, как я!
Вот человек без предрассудков.
Микелотто
Как и вы…
Леонардо
Без родины…
Микелотто
Я человек Вселенной.
Леонардо
Ты человек той части во вселенной,
В которой больше платят!
Микелотто
Как и вы!
Леонардо
Врёшь, Микелотто… Разница большая:
Мне платят, чтобы я работал.
Тебе же – чтоб не изменял.
Я продаю князьям свою работу,
Ты, Микелотто, верность продаёшь.
Есть разница? А?
Лев X
Убирайся, Микелотто!
Микелотто
Работа может быть изменой, мастер.
Леонардо
Да, да, ты прав…
Лев X
Пошёл, пошёл.
Постой за дверью. Ты нас раздражаешь!
Микелотто в бешенстве уходит.
Лев X
(вкрадчиво)
Ты не за деньги трудишься, я знаю.
Ты, как и я, против междоусобиц,
Ты любишь всю Италию, я – тоже,
Но вот теперь ты можешь, Леонардо,
Свою любовь на деле доказать.
Ведь приближается чужое войско,
Чужой правитель и чужой язык,
Но прячешь ты военные секреты,
Что помогли бы выиграть войну.
Леонардо
Но ведь воюют люди, а не тайны.
Кому же мне вручить секреты эти?
Быть может, патриоту Микелотто,
Чтоб он их тотчас передал французам?
Да, выиграть войну… А дальше что?
Работа тоже может быть изменой.
Секреты! Пресловутые секреты!
Да их и нет, секретов, у меня…
Прости меня, народ… Я бесполезен…
Лев X
(яростно)
Ты бесполезен стал, едва родился!
Ученики твои бездарны, мастер!
Картин твоих, увы, ничтожно мало,
А те, что есть, ветшают на глазах.
Машин твоих почти никто не видел,
А те, что есть, не нужны никому!
Секреты?! Но ведь их не оказалось?!
Ты даром прожил жизнь, мой Леонардо!
Великий Леонардо! Горный пик!
Велик, да толку что?! Так… Украшение пейзажа!
Тупой, тяжелокаменный болван,
Ломающий колёса у повозок!
Он, как и ты, велик и бесполезен!
Пауза.
Леонардо
(тихо, почти жалобно)
Пара коней влечёт телегу жизни.
И каждый тянет в сторону свою…
Телега делает зигзаги в поле
И продвигается вперёд едва…
Слепые кони бьются на постромках,
Возничий пьян и вожжи опустил.
Я всё хотел ускорить бег коней,
Направить бег их с поля на дорогу,
Но стрелка равнодействующей силы
Прошла случайно через грудь мою.
Пауза.
Я с юности отправился искать
Весёлые секреты мирозданья,
Чтоб человек, природе подчиняясь,
Построил храм по принципам её.
Чтобы земля, как сад благословенный,
Произвела людей, а не скотов,
Чтоб шар земной помчался по Вселенной,
Пугая звёзды запахом цветов…
Открытье сделано, но время не настало…
Приложены две силы к чаше счастья,
Проходит третья через грудь мою…
Лев X хлопает в ладоши, входит стража.
Лев X
(нежно)
Да, мастер Леонардо, ты упал,
Раздавленный бессмысленной мечтою.
Ты сам разочарован, Леонардо,
Признайся, ведь разочарован?
Леонардо
(с силой)
В чём?..
В движенье? Но ведь это всё равно,
Что разочароваться в лунном свете
Иль в плодовитости болванов, государь!
Движенье – факт, не выдумка моя,
А разочароваться можно только в снах!
Я опрокинут навзничь. Это так.
Но, падая, я двери распахнул!
В мир выскользнуло знание законов,
А это значит, что бессмертен я!
Живой вовеки, я иду вперёд!
Эй, трупы, нечисть, розовые жабы!
(Задыхаясь.)
Дорогу для маэстро Леонардо!..
Мажордом
(машинально)
Дорогу для маэстро Леонардо!
Слуга
(как эхо)
…Дорогу для маэстро Леонардо!
Второй слуга
(торопливо)
…Дорогу для маэстро Леонардо!
Лев X
(опомнившись)
Мерзавцы! Прекратить! Эй, стража!!!
Вы, псы смердящие! Схватить еретика!!!
Де Фуа
(входя)
Дорогу для маэстро Леонардо!
Дорогу живописцу короля,
Его величества Франциска Первого!
Посол французов герцог де Фуа
Имеет честь вам кланяться.
(Кланяется.)
Лев X
(в страхе)
Французы!..
Занавес.
СЦЕНА 3
Франция. Замок Клу. Площадка башни. Звёздная ночь. На фоне звёздного неба силуэт Леонардо в мантии, сидящего в кресле.
Леонардо
(один)
Спустилась ночь, и Франция заснула,
Спят короли, заснули поселяне,
Ученики заснули и прислуга,
Храпят во сне любовники и воры,
Планета спит, уставшая за сутки,
Сон всё сковал, и присмирела жизнь.
Не спит солдат на башне в Амбуазе,
Да я не сплю, усталый звездочёт.
В долине поднимается туман,
А здесь, на башне, ветер… только ветер.
Я Леонардо… Эй, ты слышишь, ветер?
Это ведь я, твой друг и недруг старый.
Иди ещё… ещё омой мне ноздри
Пронзительною свежестью ночной.
Дышать, ещё дышать… Ты слышишь?
Напрасно ты смеёшься надо мной,
Что покорить тебя не довелось мне,
Что от меня останется потомкам
Лишь куча праха да листки бумаги.
Пусть так, но в грудах тех листков
Заключено твоё порабощенье.
Ты вихрями свергаешь наземь храмы,
И пыль встаёт… И ты уносишь пыль…
И ты развеешь прах моих деяний…
Но ты же разнесёшь их семена.
Мечи блеснули… Слышишь, ветер, слышишь,
Враг приближается, и трус вопит от страха…
А воин стягивает ремни шлема…
Предатель точит нож… Бьёт в спину воина…
Въезжает с победителями в город,
Но гибнет от народных мятежей…
Мятеж народный разрушает храмы,
Которые могли бы пригодиться,
Но омерзением тревожат память…
Но надо жить… Душа покоя просит…
И снова начинают строить храмы…
И вечно кружит тот проклятый круг…
Но сердце возмущается подобным,
И разум изыскать стремится выход…
Вот все они проходят предо мной:
Медичи, Сфорца, Борджа, Малатеста,
Проходят омерзительные тени,
Проходы пищи, умножители дерьма,
Что, кроме переполненных сортиров,
Не оставляют в мире ничего…
Прочь, эти тени… Прочь! Я не хочу вас!
А это кто? Кто ты, печальный призрак?
Ах это ты, Паоло Тосканелли…
Пришёл ты повидать ученика?
Пришёл продолжить наш великий спор?
Изволь. Наш старый спор ещё не кончен.
Ты скажешь мне, что я в чужой стране,
Не наживя ни денег, ни семьи,
Без родины, без сил и без подмоги,
Найти не смог дороги через хаос
И, как и ты, повергнут перед бездной.
Нет, ты ошибся. Спор ещё не кончен.
Ты помнишь? Я отправился искать
Весёлые секреты мирозданья,
Искать те струны, на которых ветер
Играет песни матери-природы,
Чтоб человек, следя её законы,
Построил храм по принципам её.
Всё позади, и вот теперь, я вижу,
Нам надо повалить гнилую кучу,
Что ложно принимается за храм,
Чтобы упало всё гнилое зданье
И заодно бы раздавило нечисть,
Веками оседавшую в щелях.
Крик петуха.
Крик петуха, и ты бежишь, Паоло,
Как полагается порядочному духу.
Привет тебе, привет, крикун французский,
Певец горластый, словно Аталанте.
Ты прав, а не мой старый Тосканелли.
Ты, как и я, приветствуешь зарю.
Вот и она… Привет тебе, Аврора…
(Хлопает в ладоши три раза.)
Ученики, вставайте! Петухи поют!
Заря уже зарозовила небо!
Проснулись?
Франческо
Мы не спим, учитель.
В замке во всём никто не спит.
Леонардо
А разве что-нибудь случилось, мальчик?
Батиста
Да нет. Франческо разбирал бумаги,
Что вы давно ему велели сделать,
Да так и просидел всю ночь.
Леонардо
А вы? А Матюрена?
Батиста
Мне не спалось… Служанка по хозяйству.
Вы не замёрзли ночью, мой учитель?
Леонардо
Ах, мальчики, всему вас обучил,
Не обучил вас только лгать, а надо б.
Вам это пригодится без меня.
Крик петуха.
Кричит петух! И кликнули в душе
Все петухи, что мне кричали в жизни…
Какое утро! Подойди, Франческо.
Ты спой сейчас мне утреннюю песню,
Которую певал мне Аталанте…
Франческо
(торопливо)
Сейчас, учитель… Я сейчас спою…
(Достаёт лютню. Поёт.)
Вот утро встало –
Голубые горы.
Вот утро встало –
Голубые воды.
А почему
Грустишь ты, Аталанте,
И трусишь ты,
Бродяга-пилигрим?
Вот ты летел
Тропою соколиной.
Вот ты пришёл
В заветную долину.
Увы, Мадонна,
Бедный Аталанте
Не сам пришёл,
Он жаждою гоним.
Леонардо
(говорит)
Увы, Мадонна,
Бедный Аталанте
Не сам пришёл,
Он жаждою гоним…
Вот эта жажда, бедный Аталанте,
Есть главная из сил на этом свете,
Она недаром творчеством зовётся.
Рассыплются короны и гербы,
Не пропадёт машина или песня.
Пускай струна звенит…
Пускай на ней играет ветер…
Вы слушайте тот ветер, трубадуры…
Вы, мастера, художники, творцы…
Узнают люди лет через пятьсот,
Как в тысячах листах картину мира
Хотел изобразить один художник.
Из Винчи родом он. Об этом вспомнят.
Органы кликнут, забряцают лютни
И сотни инструментов неизвестных,
И двинется поток толпы в цветах,
И выйдут все на берег океана,
И перед нами в солнечном сиянье,
В весёлом и тревожном блеске радуг,
Омытая счастливыми дождями,
Откроется последняя картина!
Над горизонтом встаёт шар солнца.
Как хорошо… Я вижу толпы…
Людей свободных, мирных и счастливых.
Они сплетаются, располагаясь в группы
Невиданных аккордов и созвучий…
Вот на скрещении двух мимолётных тем
Они застыли, образуя числа…
Божественных пропорций. О, музыка!
Я вижу композицию… я слышу…
А вон и я иду в толпе… нас много…
Франческо
Ты умираешь, мой учитель?
Леонардо
Нет, Франческо,
Я только начинаю жить.
Теперь читай. Я буду слушать…
Я знать хочу всё, что я совершил.
Мельци начинает читать нескончаемый список изобретений Леонардо. Батиста Виллани тихо выходит, задёргивая за собой прозрачный занавес, отделяющий площадку от лестницы. Занавес освещён солнечным ореолом.
Матюрена
(входит в слезах)
Ну что? Отходная? Как я велела?
Батиста
Да, Матюрена, всё как ты велела.
И дай бог каждому из нас
Такое отпеванье, Матюрена.
Матюрена крестится. За прозрачным занавесом Мельци читает. Тихо собираются люди и смотрят на силуэт Леонардо. Шум на лестнице. Входит король. Все в смущении расступаются.
Франциск
Где мой отец, мой Леонардо милый?!
Ведь я проспал беседу с ним ночную
О звёздах и о прочем… Но за это
Могу теперь порадовать его!
Достал я денег на его каналы!
(Оглядывается на людей.)
Батиста
Ваше величество…
Франциск
Что?! Что?!
Батиста
Маэстро Леонардо…
Франциск
Нет!.. Молчи!..
Выходит Франческо Мельци и не кланяется королю.
Франческо
Окончилась великая дорога…
Свидетели судьбы его суровой,
Поклонимся могучему титану.
Он показал навеки человеку,
Чего достичь способен человек.
Пока не распадется моё тело,
Тебя я буду помнить, мой отец.
Границ такому горю быть не может.
Мальчишки плакать будут по ночам
От имени его, и от его судьбы,
И оттого, что не из-под его крыла
Они в полёт отправились впервые.
Закрылись навсегда глаза орла.
Он долго чересчур глядел на солнце.
Он видел то, чего мы не видали,
О чём только мечталось в тишине.
Он разглядел для нас такие дали,
Которые мы видели во сне.
Потеря подобного человека оплачется всеми.
(Король Франциск плачет.)
Занавес.
Страстной бульвар
Московская повесть
Жигулин очень любил, когда какой-нибудь человек старше его. Он тогда для себя придумывал, что вот старший, значит, видел, чего он, Жигулин, не видел, и, стало быть, хлебнул такого, чего Жигулин не хлебнул, значит, душевный опыт, значит, учитель, значит, надо ему за водкой сбегать и смотреть в глаза и ждать поручений, а если и вовсе старик, то лучше всего пусть он говорит нескладно, как Лев Толстой, потому что к старости книжки забываются и остаётся только суть и пережитое, а старики гладкости боятся и относятся к ней с некоторым небрежением.
Ещё Жигулин любил, когда человек одного с ним возраста. Тогда он представлял себе, что вот, мол, из нашего полка и, значит, товарищи, значит, локоть об локоть, в беде не выдаст, не может выдать — можно положиться, и ничего объяснять не надо, поймёт с полуслова, потому что одинаково видели и черпали из одного котла, только разными ложками.
А ещё Жигулин любил, когда человек моложе его и все книжки читал, и говорит много и гладко. Тогда Жигулин воображал про него, что его сейчас к доске вызовут и спросят бином Ньютона или ещё какую-нибудь гадость, и экзаменатор поднимет ручку-самописку и нацелится в журнал, как кобра, чтобы испортить ему будущность липовой отметкой — хорошей или плохой — это всё равно, потому что все отметки липовые, и до конца жизни человека их ещё рано ставить, и, значит, надо руку экзаменатора остановить и не велеть ему горячиться.
Всё так складно получалось у Жигулина в воображении, и потому печальные поправки, которые вносила жизнь в эту стройную схему, его не разубеждали и казались ему недоразумениями. А было это всё потому, что Жигулин никак не мог понять, какого он сам возраста.
А было это потому, что когда-то, теперь уже давным-давно — по календарю и позавчера — по личному счёту времени Жигулин воевал, а если оглянуться и постараться вспомнить правдиво, то окажется, что на войне не взрослеют, как принято считать, а на войне стареют, и все разговоры о том, что оставшиеся в живых мальчики возвращаются с войны взрослыми, — это мнение тех же мальчиков — и ошибка.
Потому что взрослый — это тот, кто узнал самого себя и на что он способен. И хотя на войне можно узнать про себя, какой ты во время общей беды и какой ты, когда перед тобой враг, но на войне трудно узнать, какой ты в простой жизни. Потому что война — это авария, а жизнь не состоит из аварий, жизнь состоит из жизни. И тут после шока от войны трудно повзрослеть, потому что после того, как мальчишка участвовал в событии, вся другая жизнь кажется ему без событий, и он труднее понимает, что главное событие в жизни — это сама жизнь. И поэтому чересчур долго он остаётся человеком без возраста — старше молодых и моложе старших, и всё время поступает не по сезону. И ему трудно.
Вы спросите, почему такое подробное объяснение перед описанием того, что случилось с Жигулиным, когда он приехал в Москву после многих работ в других городах? А потому, что без этого непонятно будет, как могло это случиться именно так, а не иначе. И тот, кто соберётся прочитать эту историю до конца, пусть не поленится прочесть начало.
Вы, конечно, хорошо помните, как Валя Сорокина ранним утром, ещё до физзарядки по радио, сидела на Страстном бульваре, когда в Москву приехал Жигулин.
Помните, как она сидела на скамье во второе воскресенье мая и раннее, из-за домов, солнце просвечивало зелёный пух на деревьях? Складная, рослая женщина лет тридцати шести-семи, с высокой грудью, мягким голосом и в очках почти без оправы — так, разве что золотистый блеск вокруг стёкол. Пенсионеров-шахматистов ещё не было, только иногда проходили длинноногие молодые люди, и все моложе её. Все «мини» оглядывались и на ходу старались понять, почему у этой красивой женщины улыбаются очки, а потом она сняла очки и оказалась испуганной. Она вынула из сумочки пудреницу и в зеркало изучила себя сегодняшнюю. И только именно сегодня поняла, что она уже не та, что была девятнадцать лет назад, только сегодня — надо же! Она спрятала зеркальце, посидела, подумала о своём и именно тогда решила, что всё уже позади и она выздоровела. Она ошибалась, доктор Валя Сорокина, но ошибалась благородно. Она не знала, что от темперамента не лечатся, он сам проходит, если душа прокисла. Потом поднялась и пошла восвояси.
А пока она ехала в свои «свояси», в дом, расположенный напротив того дома, где она жила, вошёл Жигулин, никому из новых жильцов не известный человек. В подъезде, освещённом ослепительным прямоугольником двери, где под транзисторную музыку танцевали какие-то длинноногие девочки и одна из них явно балетная, Жигулин позвонил в квартиру первого этажа.
— Дяденька, вы сильнее звоните. У них не слышно, — длинноногая показывала балет.
Жигулин позвонил сильнее, и ему открыл дверь старый человек. Они поглядели молча друг на друга, и старый человек сказал:
— Интересные дела…
— Здравствуй, Мызин, — сказал Жигулин.
— Ну, входи, Сан Саныч, — сказал Мызин, — входи…
И пропустил его в дверь. А потом Мызин снова выглянул.
— Татьяна, — сказал он, — мать где?
— В центр поехала, — ответила Татьяна, которая балетная. — Сегодня второе воскресенье мая.
— Много знаешь, — ответил Мызин.
Закрыл дверь, прошёл в комнату и выключил физзарядку.
А тем временем Валя Сорокина, мать балетной Татьяны, вошла в дом напротив и стала подниматься на третий этаж своего пятиэтажного. И все, кто попадался ей навстречу или обгонял её с утренней почтой, утилитарно и своекорыстно разговаривали с ней насчёт своего здоровья или своих домашних и даже домашних животных, и всем она давала профессиональные советы. И всё это не кончилось даже тогда, когда она вошла в свою утреннюю квартиру, потому что её тут же достал телефон, и не один раз, и тоже люди, звонившие ей, бегло справлялись о состоянии её здоровья и тут же переходили к своему, из чего нам всем становится ясно, что как врач она пользовалась популярностью. А в остальном день у неё сегодня был пустой и свободный, потому что во второе воскресенье мая она всегда устраивала так, чтобы день был пустой и свободный.
А потом пришёл Мызин.
— Опять ходила? — спросил он.
— Опять.
— Ну, молодец, — сказал он.
Она стала готовить еду и отвечать на телефонные звонки, а Мызин смотрел в окно на солнечное небо, и на тоненькие саженцы между их домами, и на зелёный пух этой весны, а её всё время беспокоило что-то, и она не сразу догадалась, что именно. Первый раз за все эти годы Мызин её не ругал, услышав, что она ходила на Страстной бульвар.
— Что это ты какой сегодня? — спросила она Мызина. — Как самочувствие?
— Хорошее, — ответил он.
— Садись к столу.
— Валентина… — сказал он. — Санька Жигулин приехал.
— Ну и что? — спросила она. — Садись… Кто приехал?!
Мызин ничего не ответил.
— Кто приехал? — спросила она и прислонилась к стенке.
— Ладно, не психуй, — сказал Мызин.
— Кто приехал, я тебя спрашиваю?
— Ладно, я лучше пойду, — ответил Мызин.
— Кто приехал, старый чёрт, отвечай?! — громко и невежливо спросила она.
И тут вошла Татьяна, которая балетная.
— Мама!
— Ну что? Что? — спросила Валя.
— Мама, я туфли надену.
— Валентина, не психуй, — сказал Мызин.
— Мама…
— Татьяна, топай отсюда, — сказал Мызин. — Топай, не до тебя.
Татьяна вышла из комнаты, оглядываясь на них расширенными глазами. Они подождали, пока щёлкнула входная дверь.
— Про меня спрашивал? — окликнула она.
— Нет, — ответил Мызин.
— Про меня ни слова… Иван Фёдорович, что же теперь делать? — спросила она.
Но у Мызина на каждый вопрос ответ.
— Я всё узнал, где у них семинар. Они взрывники… Вот «Проблемы теории и практики направленного взрыва…». Иди, Валентина, велю… Вход свободный…
Куйбышев… Гидрострой… Огромная организация… Делали земляные работы… Котловина… Гидрострой… Отпалка… Ствол… Загазованность выше нормы…
— Мне очень важно…
— Надо будет чемодан занести. А цветы я куплю…
— Союзвзрывпром… Субподрядная организация при ГЭСстрое.
Совсем другой язык, совсем другие люди. Рядом сидит старик без зубов, его все зовут Толя.
— Ты имеешь дело со взрывчаткой, — говорит Толя.
И по его лицу понятно, что это так и есть, имел человек дело со взрывчаткой…
— Пятьсот метров взрыв… Траншея… Приподнялась вся земля… Потом увидели пламя…
Все обмениваются какими-то обрывками даже не воспоминаний, а сведений о себе. И вот что обнаружила вдруг Валя Сорокина, отличный доктор и упрямый человек.
Тут вот какая вещь получается. Когда эти слова в анкете написаны, они вызывают скуку такую, что челюсти сводит, серые слова, которые не хочется помнить, потому какое моё дело до ваших дел, когда у самого своих дел не переделано, а когда эти же слова произносят деловые люди и ты на них смотришь живьём и видишь, что это их личное дело и хвастовство, тогда становится завидно, что не ты строил набросные плотины и откосы, отводные тоннели на Вахше и не у тебя биография состоит из географии.
— Нурек…
— Токтогул…
— Вилюй…
…А поезд колёсами стук-стук, а колёсный стук проваливается в весенние поля и равнины, и телеграфные столбы то отбегают от эшелона, который идёт в Москву, в Москву, в Москву, то снова прибегают к железной дороге и бегут рядом, и снова сорок седьмой год, в Москву, в Москву, в Москву, не надо про это, не надо про это, не надо про это… О чём говорит беззубый взрывник Толя?
— Работали без отпусков, поэтому есть время по Москве поболтаться. Много знакомых из Главгидростроя, из управления Гидромеханизации, из Взрывпрома…
Ага, вот и Жигулин. Явился наконец. Кто? Это Жигулин? Да, он… Господи, как постарел, на улице бы, конечно, не узнала, значит, и меня не узнать. Лица нам переменили, пластическая операция. Время — вот наша пластическая операция, все впуклости и выпуклости в лице местами поменялись.
— Граждане, план такой, — говорит Жигулин. — Семинар четыре дня по отраслям… Жильё — в Пушкине, в пансионате, дают автобусы. Экскурсия на телебашню и в цирк.
…Цирк, чистый цирк… Господи, девятнадцать лет прошло… Ведь этот дурак даже не знает, что я здесь сижу… Видно, по соседству столовая — пахнет гречневой кашей… Человек с кнопками во рту возится с плакатами… Во главе стола руководитель семинара… Чёрный занавес… Впереди выносная трибуна…
…Эшелон замедлил ход, замедлил, замедлил, остановился. Станция маленькая. Двери все распахнулись, и солдаты посыпались из вагонов на зелёную траву с жёлтыми одуванчиками.
— Валька! Валька, коза проклятая! Где ты делась, холера тебя задави?!
Валя подхватывает корзину с семечками, под которыми бутыль самогона, и идёт босиком по мазутной дорожке возле насыпи. Анкетные данные: Валя Сорокина, 18 лет, сирота, москвичка. Папа убит в сорок третьем году. Мама умерла здесь, в эвакуации, год назад. Место работы: станционный буфет. Место жительства — квартира у заведующей этим буфетом Клары Емельяновны… Надо удирать отсюда в Москву, в Москву, в Москву… Там Москва, там всё своё… Здесь болото, здесь всё чужое… Клара уже начала смотрины устраивать, приезжал гладкий человек из Оренбурга, обедал с привозной водкой, и, когда Валя выходила с посудой, она слышала слово «ягодка».
— Водка нужна? — глядя в сторону, спросила она у младшего лейтенанта.
— Нужна, — сказал он и стал разглядывать её внимательно.
А потом солдаты плясали на дощатом перроне, а она стояла рядом с ним и смотрела.
А потом Клара влезла на выступ станционного здания, чтобы смотреть через головы на пляску и на аккордеониста, и не удержалась, и, чтобы не упасть, ухватилась за Валину голову да так и стояла, а пухлая ладонь с обручальным кольцом всё скользила по голове Вали, и пальцы норовили вцепиться в нос. Тогда Жигулин сказал:
— Мадам, а не пошла бы ты… — И нехорошо выругался. И за подмышки снял Клару с выступа на землю.
— Ой-ой-ой, — сказала Клара, отступая, — такой красивый офицер, а ругается…
— Так ведь самогон был плохой, — сказал Жигулин, придерживая Валю. — В голову ударило…
— Не знаю никакого самогона, — сказала Клара. — Валька, домой!
— А ну брысь, — сказал Жигулин, — я за ней ухаживаю… Жигулин Александр Александрович. Валя, а как вас по отчеству?
— Валя, а по отчеству Михайловна. Я тоже из Москвы.
Солдаты оттеснили Клару, и она издали таращила глаза. Может и избить. Уже два раза проделывала этот номер. Вот стоит Валя, восемнадцати лет, без роду без племени, школу почти кончила, на белом свете нет никого, и каждый при ней выругаться может, потому что она самогонкой торгует, и Клара может её избить, а эшелоны идут и идут, мир потому что уже два года, и надо что-то делать, а если не случилось ещё чего, то, слава богу, Клара — заступница: «Отойди, не по тебе товар. На неё из Оренбурга заглядываются».
Ударил колокол. Команда: «По вагонам!»
— Ну, прощай, курносая! — сказал младший лейтенант Жигулин. — Приедешь в Москву — заходи. Жигулин А., угловой дом у Страстного бульвара. Спросишь Саньку Жигулина — всякий скажет… Слушай, да ты красавица… Только сейчас разглядел.
А поезд тук-тук… Колёса тук-тук… А корзина тяжёлая, а щебёнка босые ноги режет…
— Проща-ай! — кричит паровоз.
Как она бросила корзину, как побежала за последней подножкой, как навстречу стрелка летела, как уцепилась двумя руками и одна сорвалась, как втащили её на подножку, а стрелка промахнула мимо, и белые глаза, и тяжёлое дыхание…
— А ну, чешите все отсюда! — сказал старшина.
И они остались на площадке с Жигулиным, мальчиком совсем, младшим лейтенантом.
— А паспорт у тебя есть? — басом спросил он.
— Есть, — сказала она и полезла за пазуху.
— Не надо, — сказал он и отвернулся.
В общем так. Он последние два года служил на Дальнем Востоке сапёром, кончил минное училище. В общем так. Москвич коренной, в третьем колене. Мама жива, отец погиб под Новороссийском, квартира коммунальная, сосед Мызин — с отцом воевал в десанте, сейчас повар. В общем так. Сейчас его, Жигулина, переводят на новое место назначения, проездом через Москву. Разминировать Европу, ясно? В общем так. Правильно, что от этой бабы удрала, раз москвичка — должна жить и Москве, родня в Москве есть?
— Полно, — сказала Валя. — Одних тёток три штуки. Брат двоюродный, родной скоро демобилизуется.
И стала реветь. А знаете, когда молодые ревут, это очень трогательно, а тебе ещё всего двадцать два, ты на войне жив остался и едешь Европу разминировать, а тут тебе красивая сирота на шею бросается, тут и у совсем умного голова кругом пойдёт, а не только у такого дурака и гуся, каким тогда был Жигулин Санька, лёгкий человек, отличник боевой и политической подготовки, а до этого — в школе отличник, да не зубрила-мученик, а просто всё легко давалось: и дружба, и учёба; а до этого — отличник детского сада: хороший мальчик, и маму слушает, ну просто напоказ ребёнок, и ест всё, что дают, и посуду за собой убирает; а до этого — какая красивая молодая пара в наш дом въехала, он — преподаватель бронетанкового училища, а она — там же, в медпункте, работает, сейчас в положении, наверное, ребёнок будет красивый…
Ребёнок родился красивый…
…Жигулин очнулся и посмотрел на часы. Что-то затянул Толя своё выступление. Такой трус, зубы боится вставить! Шамкает, шамкает, прошамкается, что придётся всю челюсть вставлять. Стыдно, молодой парень, сорок четыре года, сколько же было Жигулину, когда он в Москву приехал после войны? Двадцать два — вдвое меньше… Ну что эта дама меня разглядывает? Лысину, наверное, заметила… Гляди — ты б на меня тогда посмотрела, когда я перед Москвой брился и в зеркале золотой погон видел со звёздочкой, ха, ничего мальчик был, мальчик был как надо, женщины в эшелон кидались, умоляли взять их с собой. Москвички.
Жигулин поднял голову и глядел вслед этой женщине, которая пробиралась к выходу, интересная женщина, между прочим, конечно, не выдержала шамканья Толи, ах, нет, это уже профессор Гудков выступает, просто душно ей стало или, наоборот, холодно. Холодно и душно… Вот так. Слава богу, что ещё курить не запретили.
Жигулину стало холодно и душно, но он её не узнал. Нет. И стал думать о тех древних временах, не понимая, что неспроста он об этом думает, а что она рядом прошла, та чудачка, и смотрела на него сбоку, тоже стараясь его вспомнить и всё больше забывая, так как перед ней был не тот Жигулин, а этот. А может, и прежний казался ярким только на полустанке. Как узнать, когда полжизни прошло, а спросить некого.
А дальше что было? А дальше было вот что…
…Они прибыли в Москву ранним утром и на вокзале распрощались. Вообще-то не на вокзале, а на Страстном бульваре. Когда они на вокзале прощались, Санька спросил её, а где она-то в Москве будет жить? И выяснилось, что у брата своего, который живёт недалеко от Страстного бульвара. Опять совпадение — прямо чудеса. Ну, они распрощались на вокзале в третий раз, а потом Санька говорит:
— Господи, глупости какие, давай я тебя подвезу хотя бы до Страстного бульвара?
А она говорит:
— Хорошо, подвезите меня до Страстного бульвара.
— Ты, наверное, и забыла, как туда ехать?
— Ага. Я забыла, как туда ехать.
Ну, взял, конечно, такси, подвёз, и глупо как-то расставаться, всё-таки сутки вместе в поезде ехали, в тамбуре стояли, а ребята им еду носили, а потом она спала на третьей полке, откуда барахло скинули, и опять они в тамбуре стояли. Все думали, что всё, закрутились!.. А у них ничего не было, только такой страх был у него за неё, даже неизвестно, почему он так за неё испугался. Что вы! Даже не поцеловались ни разу. Просто пейзажи смотрели в опущенное окно: жёлтые одуванчики и пёстрые коровы. Проводнику денег дали, чтобы не вякал, ну а в Москве родня должна заступиться, что без вызова приехала — тогда сложно было с вызовом эвакуированных, но ведь она дочь фронтовика, не так ли?
Высадил её у Страстного бульвара — где теперь кинотеатр «Россия» построен давно уже, а тогда его и в помине не было, и Пушкин на другой стороне стоял — на Тверском бульваре.
— Ну, до свидания.
— До свидания. Спасибо за всё.
— А за что?
— Ну так, за всё.
— А хочешь, я тебя с матерью познакомлю?
— Нет, зачем же.
— А что такого?
— Она нехорошо подумает.
— Дура ты.
— Сами вы…
— Ну извини… Ну до свидания. Адрес-то дашь свой?
— Я не помню, я глазами помню, как пройти…
— Тебя проводить?
— Нет, спасибо. За всё.
— Ну до свидания.
— До свидания.
— Младший лейтенант, поехали, некогда! — крикнул шофёр.
В машине Санька всё оглядывался и смотрел, как она усаживается на скамью. Плотно усаживается, с ногами.
— Ну-ка останови машину! — сказал Жигулин. — Вылезу.
Конечно, он правильно догадался. Никого у неё в Москве не было, всё она наврала. А кто был — все умерли: мама, отец. Ему стало душно и холодно, когда представил себе, что было бы, если бы не догадался, а она одна здесь сидит и ждёт, что будет дальше.
— Совести у тебя нет, — сказал он.
— Есть, — сказала она.
Она хлюпала носом и отставала от него на полшага.
— Мать у меня отличная женщина! — сказал он. — Будешь у неё пока жить.
— Домработницей?
— А я почём знаю, как сговоритесь, так и будете. А потом на работу поступишь, и всё утрясётся, я думаю, университет будут строить новый, вообще много будут строить, работа найдётся… Нос вытри. Сейчас придём.
— А что вы матери скажете?
— Правду.
…Вот так всё было. А дальше и вспоминать не стоит. Ах, Валя-Валентина, зачем я только на это совещание ездила, кого я там хотела увидеть? Толю беззубого? Господи, помереть со смеху: взрывник, а бормашины боится. А Жигулин? Где он, Жигулин? Сидит облезлый дядечка и тупо смотрит на оратора. Один раз я его взгляд перехватила, он обернулся да и то поглядел не в глаза, а на коленки. Всё Мызин, старый чёрт; иди, иди, поглядишь на него там и решишь, может, заново познакомишься.
Она и не заметила, как подошла к своему подъезду. Она теперь вообще жила немножко как бы во сне. Только чудной это был сон.
В подъезде её перехватила женщина со второго этажа и старуха из другого дома.
— Валентина Михайловна, что делать? С дочкой хуже… Депрессия, Валентина Михайловна…
Ну ясно, вот и дом родной.
— Лечить надо.
— Все лекарства перепробовали… У мужа друг едет в Японию, в командировку, может, там что есть? Вы скажите, за любые деньги достанем…
— Деньги ни при чём.
— Как ни при чём? Гибнет девчонка, мы уж думали, поправилась, и на вот — депрессия…
— Есть одно лекарство, — сказала Валентина Михайловна, — да вы не согласитесь.
— Господи, что угодно!
— Ну смотрите!
— Валентина Михайловна! — воскликнула женщина и осеклась. — А что, очень опасное лекарство?
— Совершенно безвредное. Сейчас принесу.
Она стала подниматься к себе.
Господи, погода какая! Прямо июнь, а не май. И зеленью пахнет до одурения. Вот поэтому и пошла на семинар, что зелень до одурения. А так никакой бы Мызин не убедил.
— Ты слушай её, слушай! — сказала старуха. — Если она дочь не подымет, никто не подымет.
— Это почему? — спросила женщина.
В ней снова проснулось недоверие. Но это естественно. Пока доктор стоит рядом, кажется, что он один такой на свете, а как отошёл, думаешь: а вдруг есть совсем хороший доктор? Дочка-то одна, а докторов вон сколько. Как узнать, который спаситель?
…Валя и Санька шли по утреннему, весеннему московскому послевоенному Страстному бульвару. Тишина. Одуряющий запах листвы, одуряющий запах весны, крик воробьёв, и только их шаги — он в сапогах начищенных топает, она в туфлях с перемычкой и в жакете — на станции у тётки купили, перед самой Москвой, больше Валя не взяла — хотели ещё чемодан и плащ.
А листва, листва! Так бы навеки, правда?
— Надоест, — сказал он.
— А? — спросила она.
— Нет, это я так, сам с собой, — ответил он. — Стоп… Подъезд.
Тёмный подъезд. Московский.
— Вы очень волнуетесь? — спросила она.
— Ещё бы! — заорал он и побежал вверх по лестнице.
Ни черта он не волновался так, как ему надо было бы волноваться.
— Иди скорей, — шепотом прокричал он с площадки второго этажа.
Она поднялась.
— Слушай… Зарядка…
За дверью заливалось радио… Рояль, «вдох», «выдох» и прочее.
— Валя, вот теперь волнуюсь… Честно… — сказал Жигулин и спрятал ключ. — Лучше позвоним, а то ещё напугаются. Физзарядка, с ума сойти! Мызин делает, сосед наш. Лежит в постели и мысленно делает физзарядку. Последний раз я дома был два года назад, когда с запада на восток ехал.
И повернул старый звонок, неэлектрический ещё, с надписью: «Прошу повернуть»…
— …Тише, — сказала женщина.
Открылась дверь, и Валентина Михайловна внесла щенка.
— Вот… — сказала она, слегка запыхавшись.
Она поставила щенка на пол, ноги у него расползались.
Женщина и старуха обалдело смотрели на щенка.
— Ну иди… Иди… — сказала Валентина Михайловна и стала его подталкивать в комнату больной и прикрывать за ним дверь.
— Что это? — спросила женщина.
— Его зовут Тяпа… — сказала Валентина Михайловна. — Минуточку… — Она прислушалась.
— Ой… — тихо раздалось из-за двери.
Мать кинулась к двери. Валентина Михайловна загородила ей дорогу.
— Спокойно, — сказала она.
— Ой! Что это? — раздалось из-за двери.
— Его зовут Тяпа, — сказала Валентина Михайловна.
— Валентина Михайловна… — растерянно сказала женщина.
— Вы согласились на любое лекарство…
— Какая порода? — деловито спросила старуха.
— Чистокровная дворняга, — сказала Валентина Михайловна. — Блох нет, глистов нет. Проверено. Будет лить на пол — подстилайте газеты… Тс‑с‑с…
А из-за двери:
— Тя-а-па… Тя-апонька…
Мать приникла к щели, смотрит, оглядывается:
— Молоком его поит… Из своего стакана…
Валентина Михайловна снова прикрыла дверь.
— Дайте им побыть вдвоём, — сказала она. — Книжку по уходу за псом я вам достану. Пусть дочка читает… Тяпа её вылечит…
Женщина заплакала.
— Спокойно, спокойно, — сказала Валентина Михайловна. — Как вы не понимаете, не её надо кормить, а ей надо кормить кого-нибудь… Теперь выздоровеет.
И вышла.
— Эх, серая ты… — сказала старуха. — Лекарство, лекарство…
И помчалась вслед:
— Валентина Михайловна! Вот ты скажи, у меня в спину вступает. Это что?!. А?.. А?!
Но Вале не до этого было уже.
У неё дома Мызин сидел, и балетная Татьяна вышагивала по комнатам в материнских туфлях, и Мызин её ругал.
— Татьяна… — угрожающе говорил Мызин.
— Да? — ледяным тоном спрашивала Татьяна.
— Татьяна… — угрожающе говорил Мызин.
— Что? — ледяным тоном спрашивала Татьяна.
Они могли долго так, но вошла Валя.
— Сегодня вечеринка у меня, гости, — сказал Мызин.
— У меня тоже, — сказала она.
— Всё равно у меня гости… Зайдёшь, — сказал Мызин. — Не дури, Валентина… Всё можно выправить в жизни, кроме недоразумения.
— Какое уж тут недоразумение, — сказала она.
…Ну, позвонили они с Санькой в дверь, ждут, а за дверью:
— Выпрямите спину… вдох, выдох…
Дверь открыла низенькая толстушка.
— Здрасьте, Алевтина Иванна! — сказал Жигулин.
— Ой…
— Тс-с-с-с… Валя, входи… Это Валя… Маму не разбудите…
— Ой, Сашенька…
И пошёл Санька на цыпочках через прихожую. Приоткрыл дверь в солнечную комнату, улыбался, смотрел в щель. Потом перестал улыбаться, вошёл.
— Мама… — сказал он.
— …Ты помнишь, Мызин, какая у нас светлая комната была? — спросил Жигулин. — Первое солнце из-за домов прямо в окно лупит, сразу лупит.
— Как же не помню?
Гостей набралось порядочно. Жигулин своих привёл с семинара, приезжих. Уговорились — про дела ни слова, а всё равно взрывные работы, Гидрострой, траншеи.
— Откуда вы мне знакомы? — спросил Жигулин Валентину Михайловну.
— Не знаю… — улыбается она.
…Когда Жигулин испуганно сказал «мама!» и вошёл в пустую комнату, зарядка стала ещё громче. Потом туда вошли Алевтина Ивановна, потом огромный мужчина в майке, Мызин, который ухватил Жигулина за плечи, и прижал ктабуретке, и не давал ему вырваться, а в репродукторе что-то сломалось, и раздался вой, как будто бомба падала, потом тихий треск, и опять всё починилось, и снова — «вдох, выдох… вдох, выдох»…
Мама его умерла полмесяца назад, как раз когда он из части ехал с Дальнего Востока в Москву…
— Вы в Нуреке не бывали? — спросил её Жигулин.
— Нет, — улыбается она.
…Валя тихонько вышла из подъезда и вернулась на Страстной бульвар. Было тепло, сидеть можно было сколько угодно, а есть почти не хотелось. Валя заплакала. Она свою маму вспомнила, и как та перед смертью просила родниковой воды, а ведь была горожанка и родниковой воды никогда не видела, но, может быть, поэтому и просила перед смертью. А как это перед смертью? А как это вообще может быть — перед смертью? Солнце ушло за дома, наступил майский холод, и есть хочется. Это значит, и Жигулин умрёт, Саня? И я? Но ведь война уже кончилась! Она встала со скамьи и увидела, что Жигулин сидит рядом, а у ног его — чемодан. Потом подошёл Мызин и взял чемодан.
— Сутки отдохнёшь, — сказал он. — Идите есть. Потом к матери на кладбище съездим, попрощаешься.
И унёс чемодан.
— …А в Вилюе не бывали? Там завотделом кадров на вас похожа.
— Нет… Я врач.
— Врач? — обрадовался Жигулин. — Может быть, я вас в госпитале видел?
— Где?
— В Польше… Вы были в Польше?
— Нет… А вы там в госпитале лежали? — спросила она. Ей показалось, что он как-то даже засуетился.
— Немножко… — сказал он и увёл разговор в сторону.
И опять трёп. Расхорохорился совсем, развеселился. Выступает и выступает. И последний раз за вечер:
— Может быть, я вас в Гидрострое видел?
— А что это такое? — спросила она.
Ей всё было про него интересно.
— Это такая организация… Ну, не знаю, ужасно знакомое лицо… А почему вы так рано уходите?
— У меня у самой гости. Я вот Мызину помогла, а у меня у самой гости.
И ушла. Застолье стало громче и скучней.
…Они сидели рядом у пустого обеденного стола, и она боялась дышать. И он курил папиросы «Северная Пальмира», которые купил, ещё подъезжая к Москве. «Мама не знает, что я курю, шиковать так шиковать».
— Пойдём в загс, — сказал он. — Жениться.
Он ей объяснил. Завтра он уезжает. Ей жить негде — будет жить в его комнате. Иначе комната пропадёт. В Москву он вернётся неизвестно когда, а может, и никогда. Да и вообще теперь…
— Нет, — сказала она. — Ничего не нужно.
— А ничего и не нужно… Будет у тебя прописка. Это же фиктивный брак… Называется — фиктивный. Год пройдёт — от меня ни слуха ни духа — можешь разводиться… Слушай, выручи меня, живи… А то страшно как-то, что… в нашей комнате… чужие… где мама…
— Не стесняйтесь вы плакать… Не стесняйтесь… хуже так, — сказала она.
А он, хоть и стеснялся, теперь всё же заплакал. Ну, знаете, как мужики плачут? Кряхтят и скрипят, как будто шкаф перетаскивают…
— …Чего ты припёрся? — спросил Жигулин у Мызина, сидящего на краю дивана.
— Ты во сне рыдал как дитё, — сказал Мызин. — Вот я и проснулся.
— Это спьяну.
— Да ты и не пил ничего, я заметил.
— А кто эта женщина, которая тебе помогала?
— Доктор. Напротив живёт.
— Знаешь, на кого похожа?
— На кого?
— Помнишь, в сорок седьмом, когда мама умерла, я приехал с девчонкой?
— Ты обалдел? Я ж на твоей свадьбе гулял, забыл?
Молчание.
— Пять лет тебя ждала, идиота…
Жигулин поднялся и сказал:
— Врёшь… Почему же ты мне не написал?
— А куда?! — закричал Мызин. — Ты разве адрес прислал? С собаками тебя искать надо было?
— А потом? — спросил Жигулин.
— Потом наш дом сломали, она переехала.
— Куда?
— Не знаю! — закричал Мызин. — У неё своя жизнь, у тебя — своя… Жена, дети… Семья у тебя есть?
— Кто? — спросил Жигулин. — Ага… Когда взрывные работы заканчиваем, то все вместе фотографируемся… Я в центре при галстуке… У меня этих фотографий штук двадцать.
— Ты холостой, что ли?
— Ну.
— Тогда совсем дурак.
— Другой бы спорил… Я думаю, на кого она похожа, эта женщина, Валентина Михайловна. На ту девчонку она похожа, на жену мою однодневную.
— Опять ты дурак, — сказал Мызин.
— Почему?
— Это она и есть.
Жигулин засмеялся.
— Ладно, Мызин… Я уж как-нибудь себе сам жену найду… Не старайся…
— Смотри, а ведь не поверил.
— Не поверил.
— Ну ладно, — сказал Мызин. — Ты во всём прав.
И тоже засмеялся. Вот и поговорили.
Потом Жигулин услышал музыку из дома напротив и включил приёмник. Ему показалось, что это музыка из её окон. Он поискал волну и нашёл, и два приёмника заиграли в унисон. Потом там переменили волну, и Жигулин понял, что его испытывают. Он нашёл и эту волну. Сердце его бухало, как ему не полагается бухать. Там снова переменили волну, и теперь Утёсов пел старую песню о сердце, которому не хочется покоя. Жигулин заметался по шкале, потом догадался и кинулся из комнаты. Дверь в её квартире открыл мужчина в очках, с пластинкой в руках, с той самой…
— Валентина Михайловна скоро будет. Вы её гость?
— Я её гость.
— Входите.
— Я ошибся, — сказал Жигулин.
Он вернулся домой и запустил пластинку в угол. Потом собрал осколки и сунул под тахту.
Как он жил? Он не помнит, как жил. Как он работал? Он помнит, как он работал. Раньше работать и называлось — жить. Что-то перестал понимать Жигулин, сапёр-минёр, Жигулин Сан Саныч. И в таких тонких делах, как душевные, он оказался совершенно беспомощным. Если тебе оторвало ногу и вместо неё у тебя протез, имеешь ли ты право приехать к девушке, которую ты приобрёл на полустанке и на которой фиктивно женился, чтобы было ей где жить в Москве, потому что она москвичка? А почему ты не живёшь там же? Профессия такая, периферийная. А надо жить там, где для профессии лучше. А не из-за ноги ты не ехал? Из-за ноги. Из-за того, что хотел доказать себе и другим, что для такого орла, как Сан Саныч Жигулин, это ничего не меняет, не хотел приползать к женщине, перед которой появился спасителем-принцем немыслимым.
— …Кто принц-то, господи? Мальчика увидела, у которого в дом бомба попала, — сказала Валентина Михайловна. — Ладно, не хочет узнавать, не надо. Пусть едет с богом. В конце концов, мы и знакомы-то были сутки… Случай у нас редкий, а всё же случай. Сейчас мы раздумываем, а тогда лихие были очень. Отличный он, видимо, парень, всю страну объездил. Люблю, когда человек энтузиаст.
— Все не могут быть, — сказал женатый гость-сослуживец. — Кому-то надо и дома жить.
— А по-вашему, энтузиасты — это которые из дома удирают? — спросила Татьяна. — Тогда энтузиаст — это я. Правда, мама?
— Он же испугался, вот в чём правда-то. Взрывать не боится, а бормашины боится, вот и ходит беззубый. Что я, не знаю?
— Почему беззубый? — обалдело спросил женатый гость-сослуживец. — Он беззубый?
А ведь опять она права была, Валя Сорокина. А что особенного? За девятнадцать лет было время стать мудрой.
…А потом пошли в загс. Жигулин всех там уговорил. Ему уезжать завтра, мать умерла, жена в положении.
— Вы в положении? — спросила регистраторша Валю.
— Пятый месяц пошёл, — соврал Жигулин.
— Надо расписывать, — сказал зав.
— Молоденькие… — сказала регистраторша.
Потом Мызин ахал, и Алевтина его ахала и плакала, когда вечером свадьба состоялась — тихая, не то свадьба, не то поминки — вчетвером справили. Тортик маленький, коммерческий, водка пайковая и еда, которую Мызин из ресторана принёс.
— Я теперь ворую, — сказал Мызин. — Я теперь шеф-повар.
— А не воровать нельзя? — спросил Жигулин.
— Не пробовал, — сказал Мызин. — После работы мне заворачивают что осталось.
— А от чего осталось? — спросил Жигулин.
— Не знаю.
— Врёшь. Знаешь, — сказал Жигулин.
— Знаю.
— Больше не будешь воровать?
— Не буду!
— Никогда?
— Никогда!
— Не плачь.
— Я не плачу… А ты никогда не будешь воровать?
— Никогда!
— А пить?
— И пить!
— И курить?
— И курить!
— И будешь верным до гроба своей Алевтине?
— Навеки, до гробовой доски… А ты своей Вале… Спой песню отцову!
— Я забыл.
— Отцову песню забыл?!
— Нет!
— Тогда пой… Валентина, слушай, как твой муж песню отцову будет петь… Я его учил, а муж твой, Сан Саныч Жигулин, её не знал, не слыхал её от отца, муж твой, Сан Саныч Жигулин, потому что дружок мой, Санькин отец, на руках у меня помер в госпитале под Шяуляем. Вон куда нас занесло из-под Новороссийска.
— Не надо больше пить, — сказала Валя первые слова.
— Понимаю, — сказал Мызин. — Намёк ясен. Санька споёт, и мы уйдём. Весенние ночки короткие.
Валя опустила голову и стала думать о своём, и стала бояться предстоящего. Она не знала, что ничего из того, о чём она думала, ей не предстоит. А предстоит ей разлука со своим мужем, которая длится вот уже девятнадцать лет, а теперь он приехал не то больной, не то признаться не хочет, и надо ему про Татьяну рассказать, что она приёмыш из детского дома, и что был у Вали муж, но не сразу после отъезда Жигулина, а ровно через пять лет, и нерасписанный был, чтоб в комнату не прописывать, пять лет был, потом Валя сказала ему:
— А теперь уходи. Больше без любви не могу.
Это десять лет. А ещё девять лет лечила, лечила, лечила и Татьяну воспитывала. Ещё несколько мужчин было, но это так, это не помнится, это — когда уж очень невмоготу. А потом — всё, стоп. Опять почему-то стала думать о Саньке Жигулине, своём законном фиктивном муже, и стала ждать его почему-то, и почему-то во сне видеть, и томиться по нему душой и плотью. Тридцать семь лет бабе. Самая пора любви. Всё, что до этого, — детский лепет. А теперь он приехал — как вызванный. Облезлый и совсем не тот.
…И наступила она, их брачная ночь. Мызины ушли, Алевтина всплакнула на плече у молодой жены, заглянула ей в глаза восторженным взглядом и вышла торжественно. А они сидели на стульях на противоположных концах обеденного стола н ждали, когда у Мызиных замок щёлкнет. Потом они услышали мерное буханье и испуганно подняли глаза, и мысленно поговорили друг с другом.
— У вас здесь поезда близко проходят? — спросила она. — Стук-стук, стук-стук…
— Нет, а что… Нет, это не поезд… Это похоже на часовой механизм, как на мине… Ну да, факт… Мы идиоты, это…
— Я знаю… — сказала она.
Это кровь у них стучала в висках.
— Если я к тебе сейчас пристану, меня никто к ответственности не привлечёт. Я муж, — сказал он.
— Я знаю, — ответила она.
— Может быть, пристать?
— Как хочешь.
— А ты?
— Не знаю… Наверное, да…
Они бы ещё долго так молчали, но тут она скрипнула стулом, и он очнулся.
— Спать хочешь? — спросил он.
— Нет, — испуганно сказала она.
— Я тоже, — быстро сказал он. — Ну, что делать будем?
— Не знаю.
— Я утром уеду, — сказал Жигулин. — А ты здесь живи.
— Ладно.
— А ты строй университет, ладно?
— Ладно. Я в медсёстры пойду.
— За Мызиных держись. Они хорошие. Они с нами дружили… С Жигулиными… Теперь я один из всех Жигулиных остался.
— Нет, — сказала она. — Не один.
— Этот брак фиктивный.
— Нет, — сказала она. — Не фиктивный.
И тут с ними что-то случилось. Они вдруг кинулись друг к другу и стали целоваться как сумасшедшие.
— Ты меня любишь? — спросила она.
— Не пойму, — ответил он.
— Ты правдивый, — сказала она. — Это ужасно.
— Что же мне, врать?
— Это ещё хуже.
— Я тебе напишу, — сказал он.
— Конечно… Ты чего-то боишься?
— Сядь, — сказал он.
Они сели на свои стулья. Между ними стол. Как ринг.
— Раунд третий, — сказал он.
— Что? — спросила она.
— Ты хочешь, чтобы был дом?
— Да.
— Мама от этого умерла.
— Не понимаю, — сказала она.
— Мама меня ждала, — сказал он. — Сердце не выдержало.
— В войну все ждали.
— Война два года как кончилась.
— Я понимаю…
— Ну вот… А я всю жизнь буду взрывать. Это моя профессия. Я другого не могу и не буду. Всю жизнь, понимаешь?
— Нет.
— Сапёр ошибается один раз — слышала?
— Слышала.
— А мать и жена — тысячу раз. Как письмо задерживается — так им чудится взрыв. Понимаешь?
— Понимаю.
— Это нельзя вынести, нельзя выдержать.
— Можно.
— Ты дурашка, — сказал он. — Я тебе писать не буду. Я приеду, ладно?
— Ладно.
— И ещё — отец и мать купили две пластинки патефонные, одинаковые. Утёсов поёт. Представляешь, они умудрились их сохранить. Отцову пластинку Мызин из госпиталя привёз, представляешь? Города дыбом, а две пластинки сохранились… «Как много девушек хороших, как много ласковых имён, но лишь одна из них…» Давай возьмём по пластинке?
— Давай, — сказала она.
Господи, какая она была дура! Господи! Она ж ничего не понимала тогда! Он же мальчик был, он семьи боялся, он любви боялся, он её боялся, он себя боялся — он боялся, что всё навалится на него — домашнее, тёплое, скучное, а он живой остался, и перед ним мир огромный, где его встречают как короля и спасителя, сапёра-минера. Он, когда на проклятое своё поле идёт, должен про дом забыть, иначе страх, а страх — это смерть. А если он про дом забудет — дома смерть. Ведь это и в любой работе так, где работает энтузиаст, человек, который заполнен делом не для себя, а тут то же самое, только очень сильно выражено, чересчур сильно выражено — будь оно проклято, это чересчур! Всё плохо, что чересчур, бабушка говорила: «Чур меня, чур», — заклятье от беды, а чересчур — это и есть беда.
— Терпел, терпел, но всё же скажу: разочарован я, понял, — сказал Мызин. — Молчи… Всё я, конечно, понимаю. Жизнь для взрослых — мечтания для малолеток. А всё же на донышке было, а вдруг выгорит у них? А вдруг я тогда недаром на твоей свадьбе стаканы бил?.. Ведь чудо какое — двое встретились на земле.
— Не встретились, — сказал Жигулин.
— Врёшь! Встретились! Вот мы с твоим отцом больше не встретимся. Я с Алевтиной не встречусь… Отец твой с мамой тоже не встретились… А вы тогда встретились, да мимо проскочили с разгону… Я думал, может, у вас выгорит — возвернётся и моя молодость… «А молодость, — запел Мызин, — не вернётся, не вернётся вона…» Пришиб ты меня, Жигулин… Ладно, давай пой… которую я тебя учил.
— Я забыл, — сказал Жигулин.
— Забыл?! Отцову песню забыл?! Пой!
Жигулин запел. Остановился и сказал:
— Жизнь только начинается. — И закрыл глаза. А потом открыл глаза, заговорил, заплясал, запел — выступать начал. А потом замолчал на полуслове.
— Сапожники! — крикнула Татьяна. — Звук пропал.
Ну, запел Жигулин песню и спел её до конца. А когда кончил петь, сомлел, а потом и вовсе отключаться начал.
Жигулин любил, когда человек старше его. Он тогда… Ах, да мы про это уже писали…
— Ах, не надо было пить…
— Петь не надо было… — сказал Мызин.
Гости у Валентины Михайловны. Чистенько всё так и негромко. Музыку слушают вполслуха, обыкновенную, без воспоминаний и ассоциаций, складно так, и никакого надрыва.
— Картошки ещё подложить?.. Ешьте, пока горячая.
— Рассыпчатая. И селёдочки, пожалуйста. Что это вы весь вечер будто волнуетесь? Или это у меня такое впечатление?
— Нет, я действительно волнуюсь неизвестно почему, — отвечает Валентина Михайловна.
— Примите полтаблеточки седуксена, у вас есть?
— А грибочки вам не понравились?
— Чудные грибочки… Ну, ваше здоровье.
— Мама, у Мызиных свет погасили.
— Татьяна, иголка шипит на проигрывателе, не слышишь?
— Ну, по последней, да будем двигаться.
— Приходите ещё.
— Разрешите, Валентина Михайловна, я вас завтра навещу?
— Идём, идём, навещу… Пить надо меньше. Валя, вытри щеку, я тебя краской вымазала.
— Мама, а к ним «неотложка» подъехала.
— Ну почему непременно к ним? Подъехала к их подъезду, и всё. Всего доброго… Счастливо… Татьяна, сними трубку. Телефон звонит, не слышишь?
— Мама, тебя… Скорей…
— Алло, кто? Мызин, что с ним? Не петь, пить не надо было. Сейчас иду.
И трубку тихонько кладёт.
— Ну вот… наконец и понятно, почему я весь вечер сама не своя… Таня, спать. У меня вызов.
— Мам, я с тобой…
— Спать!
— Мам, а кто этот дядька?
— Если бы я сама это знала… — говорит Валентина Михайловна.
И бегом, вниз по лестнице, по гулкой, потом через пустой ночной плац между двумя корпусами, а они — как два парохода на реке, потом в подъезд — и квартира первого этажа, где Мызин беснуется неподвижно, и доктор укол делает, и Жигулин без сознания.
— Допрыгался Сан Саныч… — говорит Мызин.
— Он кто вам? — спрашивает её доктор. — Муж?
— Что вы… Он приезжий… Что вы прописали? У меня всё есть, я врач…
Вот эта песня:
Ты послушай, братишка, Легенду одну. Про Великий десант, Про Большую войну. Было двести друзей У отца твоего. А из них не осталось Почти никого.(Это медленно, мажорно-запевно, похоже на старые казацкие песни. А дальше ритм и темп песни меняются и становятся быстрыми и грозными.)
Были — ночь штормовая И двести ребят. Были — рёв дальнобойных И разрывы гранат. Были лютые ветры И крики во мгле, Двадцать два километра По Малой земле. Двадцать два километра В тылу у врага, Только волны кровавые Бьют в берега. Только смерть и металл, Только кровь и песок, Только потом просоленный Хлеба кусок. Сотня вымпелов с ходу Врывается в порт. Парни в чёрную воду Шагают за борт. Только залпов раскаты, Да крики «ура!», Да хрипят на закате Мои катера. Это пламени вой И осколочный визг. Это новой России Новороссийск. Это в скалы Мысхако Пришла тишина. И запела морзянка, Как в песне струна. Восемь месяцев смертью Хлестала война. На кровавых тельняшках Цветут ордена. Подхватила их Воинской славы река — Рядового матроса И члена ЦК. Запевают ребята Про крейсер «Варяг». Бой уходит на запад. Заплакал моряк. Станет дочка невестой, Мальчишка — бойцом, Вспомнят песню они, Что пропета отцом. Шли дорогой рассвета, Всё старое — прочь: На кровавой планете Кончается ночь. Шли, не зная покоя, От земли к небесам. Вот сынок, что такое Великий десант.Тут Жигулин кончил неслышно петь песню, и открыл глаза, и увидел вдруг два женских лица на фоне матовой лампы.
— Татьяна, кто тебя пустил сюда?
— Там двери были открыты… Ну, мам, я же не маленькая…
Жигулину так хорошо стало, что он притворился, что спит, пусть ещё поговорят и побудут. А потом Мызин вошёл.
— На Татьяну не шуми, — сказал он. — Она лекарства притащила.
— Вот он подтвердит, — сказала Татьяна про Мызина.
— Спит. Пусть спит, — сказала Валя Сорокина и стала всех выталкивать, и оглядываться, и сама ушла.
Опять было утро. Потом вечер. Вечер отъезда. Зашли Толя и Чугунов из группы Жигулина, которые ехали с ним куда-то в очередные тартарары не то насыпать что-то, не то прокладывать. А какая нам с вами разница — что именно, не так ли?
— Всё-таки зашёл бы к ней, — сказал Мызин.
— Зачем? — спросил Жигулин.
— Ладно, замнём… — сказал Мызин и разговор поддержал. — Что строить будете?
— Мы не строим, — сказал Толя. — Строят после нас. Мы взрываем… Чугунов, книги на дно клади, на дно… Чугунов, ты книги от консервов можешь отличить?
— Могу, — сказал Чугунов.
— А сегодня обязательно уезжать? — спросил Мызин. — Санька ещё не оправился.
— В дороге оправлюсь.
— А то, может, на экскурсию сходим по Москве.
— Сань, а?
— Не пойду на экскурсию… Нога болит.
Жигулин вышел.
— А что у него с ногой? — спросил Мызин.
— Да так, — сказал Толя. — Боязливый он очень.
— Санька?
— Ну да. Такой трус, что своей собаки боится.
— Шутник ты, — сказал Мызин. — Я думал, ты всерьёз… А всё же, что с ногой у него?
— Да ничего особенного… Увидел по телевизору, как ансамбль пляшет, — прыгнул, хотел, как они, об стол ударился, ногу сломал.
— Скажи ты… А не хромает, — сказал Мызин.
— Протез хороший, вот и не хромает, — поднял голову Чугунов.
— Вот, стало быть, почему в баню не идёт, — сказал Мызин. — А я звал. Давно у него ноги нет?
— Не знали? Давно. В Польше, ещё году в сорок восьмом…
Был вечер.
Мызин позвонил Сорокиным:
— Татьяна, где мать? Звонил в поликлинику, говорят, ушла… Татьяна, давай к нам быстро, к Жигулину… Занимай его разговором как можешь долго… А я к вам бегу, мать дожидаться… Нужно, нужно. Быстрей иди, не задерживайся.
Пришла балетная Татьяна.
— Вы сегодня уезжаете? — спросила она Жигулина.
— Да.
— А зачем?
Как на это ответить! Жигулин прибирал комнату, собирался помаленьку.
…Любопытство, весёлая птица…
А без этого люди… жить не могут на свете…
— …Вы слушаете программу радиостанции «Юность». Отвечаем на письма школьников, которые спрашивают у нас совета, куда пойти учиться…
Это балетная Татьяна пришла к Жигулину и включила радио.
— …Мы сидели за обедом, и вдруг вошёл Пушкин с большой толстой папкой в руках… — по радио передавали воспоминания Керн.
— Вот так… — сказала Татьяна. — Я бы хотела сидеть за столом и чтобы вдруг вошёл Пушкин… Ничего себе?
— А что бы ты делала?
— Да уж не то, что эта Анна Керн!
— А всё же?
— Я бы всех вокруг него раскидала. А эта Керн даже не понимала, что в дверь вошёл Пушкин. Пушкин же?
— А ты бы поняла?
— Конечно!
— Враз?
— Ага.
— А как?
— Так ведь это же Пушкин! Мы по нему сочинения пишем!
— Ну-у, красотка, — сказал Жигулин. — Это тебе в школе растолковали, кто такой есть Пушкин. А кого ты сама открыла? Никого.
— Так ведь Пушкина нет.
Тоже правильно.
— А вдруг я Пушкин?
— Нет, — сказала Татьяна. — Вы не Пушкин. Пушкин не стал бы раздумывать, вернуться или нет, если бы любил.
Опять же правильно.
— Маме привет передавай.
— От кого?
— От мужа.
— Я так и знала… А почему вы уезжаете?
— Фирн… Знаешь такое слово? Это такой снег со льдом, — сказал Жигулин. — Я когда слышу это слово, сразу воображаю — вездеходы хрипят на поворотах… И снова работа как драка… Понимаешь? У меня такая профессия… Мне дома делать нечего.
— Понимаю.
— Ничего не понимаешь!.. Подрастёшь — приезжай с мамой в гости.
— А куда?
— А я напишу… Слушай, я тут пластинку раскокал, случайно. Выбрось куда-нибудь. А то Мызин рассердится… Ну, прощай.
— Надо присесть на дорогу.
— Некогда. Где-нибудь в скверике посижу.
Валя огляделась. Куда это она зашла? Это явно был переулок, где ещё не ступала нога человека. Никем ещё неоткрытый сегодняшний переулок.
Она остановилась посреди переулка. Полная женщина. Со спины её освещал луч солнца. Тень, улёгшаяся у её ног, говорила — закат.
— Нет!
Закат бил ей в спину, и переулок как щель и как труба, и на асфальте лежал учебник арифметики. Как после бомбёжки.
— Нет!
И она обернулась в сторону заката.
Теперь солнце било ей в глаза. Жакет она сняла и держала его, и белая кофточка её, розовая от заката, бившего ей в лицо, казалась совсем молодой, совсем юной кофточкой, кофточкой-подростком.
Когда она вернулась домой, Мызин, дождавшийся её, рассказал ей всё о Жигулине.
— Слушай… Я всё же узнал, что с Санькой.
— Не имеет значения.
— Имеет… Ногу ему оторвало… Ещё в сорок восьмом… В Польше…
Совсем в сумерки она разыскала его на Страстном.
— Видишь ли, какая штука… — сказал он нерешительно.
— Какая штука?.. Господи, достался мне слюнтяй… Бродит где-то, бродит, а я его разыскивай…
— Валя…
— Голову тебе оторвало, а не ногу… Пошли домой, у тебя есть дом… Хватит, набегался. Всю жизнь мою сломал… Идём, дочка ревёт дома. Имей в виду — ещё раз удерёшь, подам в суд на алименты, а на суде скажу, что ты меня лупил деревянной ногой… Сашенька, не могу больше… идём. Дочка нам не простит, если мы придём не вместе. Она должна верить, что хорошие концы всё-таки иногда бывают… Сашенька, идём.
Она взяла его чемодан, но он отнял.
— Ты с ума сошла, — сказал он. — Я сам.
Они встретились, граждане, они встретились. История в общем-то горькая, и мы могли бы остановиться именно здесь. Но мы имеем право заглянуть чуть дальше, туда, где, как сказано, история, смеясь, расстаётся со своим прошлым. Может быть, это и есть настоящий финал всего, что нас мучит.
Темно уже, но свет не зажигали.
В подъезде стоит Татьяна и некое долговязое существо, видимо, всё-таки мужского пола. Оно смотрит куда-то в сторону.
— Я никогда не выйду замуж, — говорит Татьяна, прерывая его размышления.
— Тихо, — сказал он.
— Я буду как мама…
— Целуются… — сказал он.
Таня оглянулась и увидела мать, которую целовал приезжий фиктивный муж, Жигулин Александр Александрович, явно выздоровевший от всех болезней.
Татьяна ойкнула и отступила за дверь.
Валя и Сан Саныч стали подниматься по лестнице.
— Вот здесь ты будешь жить, — сказала Валя. — Там, куда ты едешь, трамваи есть?
— Не знаю, а зачем тебе?
— Я, когда буду беременная, к тебе приеду и буду с передней площадки входить.
— Молчи… я с ума сойду…
…А то вот люди говорят: любовь, любовь, а сами женятся, как будто хотят от неё отделаться поживей. А дальше — чтоб в ногах не путалась и не отвлекала от деловых дел. А у этих двоих она была только впереди и освещала дорогу, хотя и казалось, что они её пропустили. Странные дела, верно? Подумайте сами: они успели в жизни почти всё, что было положено, потому что поменяли местами начало повести и финал, и там, где у одних только хоккей по телевизору и вопли: «Гол! Гол!», у них всё только начинается. История любви, нелепая по нынешним временам, но отлично сказано кем-то: «Они счастливы, а не мы». А теперь, кому не лень, может перечитать начало. Там не о Жигулине, там об энтузиастах, они не только надрываются, работаючи, они людей любят. Вот про что эта история, если по правде говорить. Конечно, читатель теперь сознательный и сам догадается, что к чему, но лучше уж сказать на всякий случай, верно? Благодарю за внимание.
Козу продам
Какое прекрасное желтое слово — степь! Откуда я знаю, что чувствуют степняки, когда лежат, идут, бегут или скачут по степи на лошади. Откуда я знаю?! Откуда я знаю, что чувствуют москвичи, которых занесло в эшелоне, постукивающем колесами на высокой насыпи, но я могу сказать, что чувствовал, когда видел эту степь, и что чувствую теперь, через полсотни лет, через полвека с тех пор, как я ее видел…
Шестьдесят лет — срок жизни для одного человека немалый. И я, не упорствуя, без нажима, совершенно свободно, выхватывая из памяти что попало и при каких угодно обстоятельствах, когда я вспоминаю эту степь и даже не саму степь, а слово «степь» — желтое просторное слово, я тогда испытываю то, что я не испытываю при воспоминании о всяких там горах, лесах, полянах, садах, городах…
Степь… Степь… Откуда ты во мне? Когда я всю жизнь прожил среди искусственного камня домов, тротуаров и асфальтов?
Мне было тогда восемнадцать лет. Потому что это был 41-й год… И я первый и последний раз за всю последующую жизнь увидел степь.
Я не буду больше писать про степь. Я про нее ничего не знаю, но буду думать о ней все время.
Мы лежали с ней официально голые, потому что только что расписались. А надо вам сказать, что расписывались тогда мало, шла война. Была осень 41-го года. И все же я сходил к начальнику части, полковнику, и отдал ему рапорт о том, что хочу жениться. Он молча прочел, отдал комиссару, тоже полковнику, полковому комиссару, и они стали смотреть на меня. Они смотрели на меня, на молодого идиота, и, видимо, старались подобрать слова. Слов я не помню. И слава богу! Потому что если бы я запомнил то, что они мне сказали, я бы не решился это записать. Не отговорив меня, они выдали мне разрешение на брак с гражданкой такой-то…
И вот, проделав все формальности, которые мне теперь вовсе не кажутся трогательными, мы официально разделись догола в пустой квартире, которая вся ушла в бомбоубежище, потому что тревогу уже объявили. Мы вместе легли в постель и должны были бы испытать необыкновенно приятное ощущение, которое тут же кончилось, не начавшись, когда она сказала: «Война только еще начинается, и тебя могут убить. Как же я тогда выйду замуж, если я не буду невинной? Поэтому давай ничего делать не будем». Вы мне, конечно, не поверите, но тогда мне ее слова показались справедливыми. И я, вместо того, чтобы погнать ее к чертовой матери, сразу же, не раздумывая, согласился и всю войну хранил ей физическую верность.
…Что-то взорвалось, кого-то убили… пейзаж, что ли, подпустить…
Поэтому, когда через несколько лет меня все же не убили, и я вернулся со второй войны, мне сказали, что я огрубел. Огорченный этим обстоятельством, я с другой женщиной решил довести это дело до конца. И довел его с другой женщиной с большим успехом.
Степь… Степь… По-моему, трогательно, вам не кажется?
Певцы раскрывали дипломированные пасти, и в них хотелось закинуть шайбу. В огромных залах зверствовала культура. Остальное доделывала аэробика.
Колумб дрыгнул ножкой и встал с койки. Мужчина в бочке прокричал: «Земля!!!» Бочка висела на фок-мачте, очень высоко. И к тому крик был похож на кошачий. Так Колумб открыл Америку, хотя был уверен в том, что открыл Индию. Это было в 1492 году.
«Вздор», «чепуха», «дрянь» — позади всех этих слов обрезки от плотницкой работы. «Вздор» — это по-старому «стружка», «чепуха», это щепа, «дрянь» — это дранка. Так что когда говорят «щепуха», «дрань», это не ошибка, а старое произношение. Но что же у них общего: у вздора, чепухи и дряни? Все они — отходы.
Раньше можно было пренебрегать отходами.
Потом от них стало некуда деваться, и их стали жечь — и стружку, и щепки, и дрань…
Потом стало ясно, что отходы — это доходы. Диккенс даже роман написал про состояние, нажитое на мусорных кучах.
А теперь вообще стало ясно, что мусор — это вторсырье. Сырье, правда, но все-таки «втор». Кстати, а почему «втор»?
«Втор» от обычного сырья отличается только одним — ко «втору» надо приложить смекалку, а сырье — это грабеж того, что природа скопила. А больше ничем не отличается.
Неживое сырье, худо-бедно накопила природа живая, и человек его грабит, а над «втором» надо еще головой повертеть…
Вернадский говорил — ничто живое не может жить в среде своих отходов. Своих! Но чужие отходы — это и есть плодородная земля, почва, которая родит плоды.
То есть вся наша родимая, а вернее, родящая земля — это и есть «вторсырье». И потому уже пора говорить не «сырье», не отходы, и не вторсырье, а просто вещества. Неживые вещества, которые в своих целях используют живые существа — когда-то безмозглые амебы, а теперь используем их мы, умники, которые свое неумение жить вместе называют духовной жизнью.
И сегодня патриотизм, защита родной земли — это защита, всей земли в целом, планеты, — такая наступила наша энерговооруженность.
…Когда я демобилизовался, то первое, что сделал, это освободился от нижнего белья. Белье бывает разное. То же самое было написано в брошюре о вшивости, которую нам раздавали. Было написано: «Воши бывают разные».
Я не знаю, бывают ли они разные, но их было много.
Когда я написал в своей первой повести «Золотой дождь» об этом, то редактор вшей мне выкинула.
— Почему? — спросил я.
Она сказала:
— Вши были только в империалистическую войну, а в эту войну — только у немцев. — И посмотрела на меня умными глазами.
Я, конечно, знал, что это не так. Когда зимой эшелон останавливался в снежном поле, то солдаты выскакивали наружу, расстилали нижние рубашки на рельсах и прокатывали бутылками. Стоял треск. Да и на каждой тыловой станции были вошебойки, куда мы сдавали обмундирование, и там его жарили раскаленным паром и возвращали форму обратно со скрюченными брезентовыми ремнями.
Но я понял, что не важно, какая была война в жизни — в литературе война должна быть элегантной. Повесть была дороже.
Так что когда я демобилизовался, то первым делом высвободился от казенного солдатского белья. У меня с ним были связаны плохие воспоминания. Я не знаю, какое оно сейчас. Повторяю — оно бывает разное. Но тогда оно было такое: белая полотняная рубаха с завязочками у горла и кальсоны с завязочками на щиколотках. Прекрасное белье. Ни одной пуговицы.
Правила языка придумывают безграмотные люди. А докторские диссертации за оформление этих правил получают отдельные посторонние ловкачи.
Горький в статье о Есенине приводит две его строфы, но не такие, какие может петь с эстрады дама средних лет в кокошнике, а такие, которые никто, кроме Есенина, написать не смог бы. Вот они:
Первая:
«Хорошо бы, на стог улыбаясь, Мордой месяца сено жевать».И вторая:
«Изба-старуха челюстью порога Жует пахучий мякиш тишины».Я берусь на каждую из этих строк написать по диссертации, которые будут ничем не хуже остальных. Но беда в том, что они будут и ничем не лучше. А тайна воздействия этих, строк так и остается тайной. Ну и оставим ее там же, где ей и быть надлежит.
А правда, наверное, хорошо бы, на стог улыбаясь, мордой месяца сено жевать. Но — увы — это невозможно.
Степь… Степь…
А почему это невозможно? А потому, что Америку не только открыли, но и истребили индейцев, у которых развитие шло совсем другим путем. То есть вместе с индейцами истребили и другой путь развития. И произошла страшная подмена. А теперь мы ждем, на сколько еще лет — 20 или 30 — осталось воды и воздуха в биосфере, когда мы без всяких атомных войн можем однажды не проснуться.
Я об этом говорю, потому что нахожусь под впечатлением от одной экологической лекции, которую слушал на одном Докучаевском семинаре. Выступал ученый человек и рассказывал все, как есть и что будет.
Я в медицине не понимаю ничего, остолоп. А уж в народной медицине «хета», как говорят японцы, бездарь.
Когда мы на «виллисе» наехали на мину, никого не убило, но нас подняло и рвануло об землю, об битое стекло. Так… порезы кое-какие… Но после этого я четыре дня не говорил. Потом стал говорить, но голова болела дико, хотя, по-моему, я головой не приложился. А потом замечаю: голова разламывается от любого шума. Танк по улице проедет, а меня скручивает. Какие тогда были лекарства? Ну, анальгин, ну, пирамидон, я и сейчас не знаю, какие. Не проходит, мать его!
Тогда мне наш переводчик сказал: «Сходи к китайскому доктору, он по-другому лечит».
Привел меня переводчик в китайскую аптеку. Темно и, по-моему, грязно. На потолке сушеные стебли висят и какая-то здоровенная сушеная ящерица или крокодил, что вряд ли. Ну сказал, голова болит все время, переводчик кое-как перевел, а доктор меня за руки держал, за запястья, и все смотрел на меня сквозь здоровенные очки. Потом покивал и дал мне картонную коробку величиной с коробку из-под торта. Сказал, что надо вскипятить два литра воды в кастрюле, а содержимое коробки туда бросить. И сказал, сколько времени в кипятке держать. Потом остудить и пить по рюмке три раза в день. Рюмка — грамм 50. Он сказал: «Будет горько, но пройдет». 15 лет он гарантирует, дальше — не знает.
Так все и вышло. Вскипятил воду в кастрюле и стал смотреть, что же я туда сыпать буду. Солдаты хохотали. Картонная коробка была поделена полосками картона на квадратики, и в каждом квадратике что-то лежало, завернутое в папиросную бумагу. А когда я стал разворачивать, то оказалось: либо травка, либо какие-то крылышки жуков, какая-то сушеная саранча или кузнечики, по-моему, был даже хвостик от ящерицы. Солдаты хохочут… Думаю: «Была не была…» Высыпал все в кастрюлю, прокипятил как велели. Даже не помню, процеживал ли?
— Хороший супчик! — говорили солдаты.
Я отмалчивался. И, зажмурив глаза, выпил рюмку. Противно… но слишком голова болела. В день три раза, два литра. Грамм по 150 в сутки. Думаю: «Не умру — можно вытерпеть. Заем чем-нибудь». Недели две пил. Боль в голове прошла начисто. Первый раз заболела голова только через 20 лет, и то, когда пьяный упал в ванной в Москве. Жители квартиры опять хохотали…
И вот тогда я впервые понял, что доктор — для того, чтобы лечить.
После того как у Колумба сперли Америку, прогресс стал еще прогрессивнее.
Вообще-то Америку сперли не только у Христофора Колумба, который Америку открыл, и не только у индейцев, которых вскоре стали резать железными ножами, поскольку у индейцев железа не было, но сперли и у Паоло Тосканелли — был такой доктор во Флоренции. О нем настолько прочно забыли, что я и имени его не нашел в энциклопедии Брокгауз и Ефрон, — может, в других где есть. Так вот, этот доктор догадался и вычислил, что, кроме нашего материка за океаном, на западе, должен быть еще один материк, который там и оказался. И его открыл Христофор Колумб, когда прочел письмо Тосканелли об этом. Паоло Тосканелли выпестовал еще двух учеников. Одного звали Леонардо да Винчи, а другого звали Америго Веспуччи.
А имени Тосканелли в энциклопедии не оказалось. Но, может быть, я плохо искал, в других энциклопедиях есть.
Но все-таки, как же бедный Колумб? Как ухитрились спереть материк у человека, который его открыл? Нет, конечно, имя его кое-где сохранилось: государство Колумбия, например, или округ в США, и даже Колумбийский университет.
А проделали это так… после того, как на новый материк стали наведываться корабли из Европы, на одном из них туда смотался Америго Веспуччи, куда-то в район Бразилии, и хорошо описал путешествие в письме к кому-то. А так как в Европе уже была пресса, то письмо издали. Оно всем понравилось. И стали этот материк — новенький, с иголочки — называть не Колумбией, а Америкой. И прогрессивная пресса сделала еще один шаг в область массовой дезинформации.
Ну, дальше все просто. В Америку хлынула европейская уголовщина, которая стала оттуда вывозить золото, а индейцев резать железом. Поскольку, повторяю, у индейцев железа не было. У них вообще почти ничего не было. Поскольку не было железа — не было железных мечей, а только из вулканического стекла обсидиана, а это, сами понимаете… Не было у них лат, шлемов, щитов, аркебуз, не было даже пушек, они даже пороха не выдумали. Мало того, у них не было даже колеса. Колесо им не нужно было потому, что у них не было даже лошадей, тягловой силы Европы. И, стало быть, у них не было диска.
Что же у них было? Если у них ничего не было. У них, по крайней мере, было три непрогрессивных государства: ацтеков, майя и инков, где, несмотря на то, что в ихних непрогрессивных церквах сохранились человеческие жертвы, храмы были не хуже, чем в Европе, и к городам вели дороги не хуже римских, которые и теперь вызывают зависть у всемирных автомобилистов. И почти две тысячи лет не требуют ремонта.
Самое главное, что в отличие от прогрессивной, нищенской Европы, там все были непрогрессивно сыты. Хотя всем известно, что без науки и техники сытым не будешь. Чем же они питались, эти несчастные, что им всего хватало? Мясом они питались почти таким же, как в Европе, поскольку у них был скот, но сельскохозяйственная продукция у них была только такая, которая не требует ни науки, ни техники и технологии, ни тягловой силы, ни колеса, ни плуга. Если теперь в Европе землю пашут чуть ли не бульдозером, то из всех орудий производства у них была только заостренная палка, которой можно проткнуть землю, почву, и посадить туда зернышко. То есть прогресс у индейцев отсутствовал, но зато у них был маис, помидоры и картошка, которые как раз будьдозеров и не требуют. А требуют именно заостренной палки, поскольку все эти культуры фактически огородные. Поскольку маис, а иначе — кукуруза вырастает выше всадника на лошади, а початок дает зерно во много раз больше, чем колос самой прогрессивной пшеницы.
Да, повторяем, пороха в технологии они не выдумали. Но все технологии, если приглядеться, сводятся к тому, что они жгут воздух.
Индейцы порох не выдумали, потому что он им и на фиг был не нужен.
Мне всегда хотелось написать роман, который бы мне потом хотелось бы прочесть самому до конца. Но всегда мешала мысль: «А как его прочтут другие?» И я это подсознательно учитывал. И вот первый раз я пишу такой роман. Роман, состоящий из кусков. Потому что во всех журналах, в том числе и в журнале «Наука и жизнь», мне больше всего нравится раздел «смесь». Да оно и понятно: наука последовательна, по крайней мере, ей это так кажется, логична, но тороплива. А жизнь состоит из медленных случайностей. И жизнь, живая жизнь вносит поправочки в любые общие рассуждения. Потому она все еще жива.
Самая законченная формула глупости, которую мне приходилось слышать, звучит так. Внимание: «Назло врагам козу продам, чтоб дети молока не пили». Это самое прямое и, что самое главное, самое точное описание цивилизации нынешнего типа. Не отмахивайтесь. Вдумайтесь. Чем больше вы будете вглядываться в эту формулу, тем больше будете видеть, что она права. А стало быть, и я прав.
Потому что с того момента, как была открыта биосфера, то есть оказалось, что Земля не сама по себе, а ее окружает жизненная сфера, стало ясно, что жечь воздух можно не больше, чем его изготовляют деревья.
Но теперь взялись и за леса.
Когда-то был зубодробильный философский богословский спор о том, что было раньше — курица или яйцо? Теперь одесситы отвечают:
— Раньше было все!
Это — юмор. То есть — смеются. То есть — что-то ушло. А ушло — незнание. О том, что такое яйцо, которое несет курица.
Но иногда кажется, что мозг высыхает, как рыбья икра на суше, потому что если средства, облегчающие существование, становятся важнее самого существования, то надо отказываться не от существования, а от средства, от орудий и начинать цивилизацию заново. Но не жизнь.
Я спросил одного мальчика:
— Что лучше — хорошая жизнь или богатство?
Знаете, что он ответил?! Он ответил:
— Это одно и то же.
Так… Значит, и сюда это докатилось. Значит, надо начинать цивилизацию заново. И начинать надо именно с того момента, когда еще понятия «хорошая жизнь» и «богатство» — были разные вещи, а не одна. И когда еще понимали, что богатство — это средство для хорошей жизни, одно из средств, но — не сама жизнь.
Тоня была билетершей в то время, а муж ее был какой-то интеллектуальной профессии. Очевидно, рассчитывал, что непыльная работа его жены позволит ей вести домашнее хозяйство. Она его звала Котя. Она приходила домой и говорила: «Котя, Коть, давай я тебе яишенку толкану». И хозяйство было такое же. Не то чтобы она ленилась или не хотела приготовить настоящую пищу. Она не умела.
— Коть, а Коть, а давай, я тебе яишенку толкану.
Яишенка — это концентрат природы. Курица снесла яйцо, и его можно есть. Сырое — невкусно, а если его вылить на сковородку и поджарить — вкусно. А если не одно яйцо, а несколько — еще вкуснее. Давайте питаться яйцами! Нельзя. У человека на сосудах появляется холестерин. Холестерин — это вредно. Чтобы он не появлялся, надо есть растительную еду, а растительную еду надо готовить. А готовить некогда. А готовят ее машины, которые кормят людей, которые изготовляют эти машины. То есть люди делают машины, которые их кормят. Невкусно — то есть люди едят дрянную пищу, чтобы успеть изготовить машины, которые их же будут кормить дрянной едой. Рано или поздно это сказывается.
Чтобы еда была вкусной, она должна быть тщательной. А люди, в том числе и женщины, заняты тщательным приготовлением машин, которые облегчают халтуру приготовления еды. Вот и все. И люди соревнуются в изготовлении этих машин, вместо того, чтобы соревноваться в изготовлении еды, одежды и жилья. Соревнуются в изготовлении людей, изготавливающих эти машины для изготовления дрянной еды. Наши машины будут не хуже ваших. «Назло врагам козу продам, чтоб дети молока не пили».
На одной вечеринке я ел мидии. Из консервной банки с мидиями был вылит сок и заменен лимонным соком. Это было невыразимо вкусно. Мидии разводятся быстро. Но потом кто-то содрогнулся от того, что мидии будут доступны всем, и стал выпускать консервы, состоящие из рисовой каши с вкраплением мидий. Была испорчена и каша, и мидии. А потом это сняли с производства. Может, где-то все же разводят мидий? Но я их так больше и не встречал…
Чтобы варить и жарить картошку, с нее снимают шкурку вместе с частью картошки. То есть счищают самую полезную часть. Сколько мешков было перечищено во время нарядов вне очереди. Сколько халтуры! Сколько картошки пущено под откос вместе со шкурками. В то время как самое полезное — это варить картошку в мундирах, как говорят, вместе со шкуркой. Во-первых, счищать с вареной картошки только шкурку, потому что она счищается даже концом вилки или обратной стороной ножа, а жарить можно даже со шкуркой. Ну ладно, ну без шкурки. А потом вареную жарят, разжаривают, как говорят. То есть чищеную картошку — разжаривают.
Но однажды я ел картошку удивительного вкуса. Не нарезанную, а прямо небольшая картошка, целиком поджаренная. А потом Инга, жена моего товарища, призналась: «Пришли гости — а у меня ничего нет, кроме картошки, варенной в мундирах. Я шкурку почистила вилкой, потом поджарила прямо целиком, не нарезая, на сковородке. Оказалось, здорово. И ты все нахваливал. Теперь это стала моя фирменная еда».
Но так это и не пошло дальше этой квартиры. А все остальные картошку чистят, чертыхаясь, потом варят, а потом иногда жарят. А еще проще — сразу покупают жареную картошку, называется чипсы, в пакетах. Эту наголо стриженную картошку, нарезанную до толщины бумаги, жарят. И все это делает машина, которую изготовляют мужчины и женщины, а потом покупают, чтобы есть дрянную еду. «Назло врагам козу продам, чтоб дети молока не пили».
Я помню точно тот момент, когда обнаружил в себе некое объективно положительное качество, хотя до этого было худо. До этого все, что я читал, оборачивалось против меня. Как? Самым элементарным способом. Всякий отрицательный персонаж любого художественного произведения был похож на меня. Положительный? Нет, не был похож. Отрицательный? Сплошь…
Никто этого не знал, кроме меня, но я боялся — вот как узнают… Тогда начнется… А жить-то хотелось. Даже сейчас хочется. И я пытался искоренять в себе рекомендуемые к исправлению недостатки, чтоб хоть как-то приблизиться к герою, который описывался положительными красками. Но ничего не помогало. То ли отрицательных черт было больше, и я никак не мог от них избавиться. То ли из всех людей я один был отрицательный. И художественная литература безнаказанно резвилась на мой счет.
Иногда я решал на это плюнуть — уж какой есть, но это длилось недолго. До первой художественной книжки. А потом опять — как сукин сын, так я, а как ангел — так опять нет, не я. Что делать? Ну что делать? Обложили!
Но однажды и во мне нашли положительное качество. И я этот случай запомнил. Как было не запомнить? Только начнешь что-нибудь делать и тебя за это начинают хвалить, а художественная литература тут как тут. И конечно, тут отрицательный герой, у которого главное отрицательное качество как раз то, за которое тебя хвалили. Просто скрыться некуда!
Я в это время был связан с театром. У меня там шла пьеса — инсценировка моего романа, который очень хвалили. Поэтому я избегал читать художественную литературу, хоть временно. Потому что опять боялся нарваться. В театр я приходил как свой человек, через «служебный вход». И вот довольно долго я в театре не был, не заходил через «служебный вход». Потом однажды зашел. И там, в служебной раздевалке, нянечка меня спросила:
— Чтой-то вас давно не видно?
Я ответил с законной гордостью, вернее, с гордостью, которая мне тогда казалась законной:
— Дел до черта… Работаю дни и ночи…
Знаете, что ответила мне нянечка? Она ответила:
— Ух и жадный вы…
А я думал, что она меня похвалит.
Я был настолько ошеломлен, что ушел хохотать одиноко. Не переубеждать же ее было. Потому что я понял, что получил величайший в своей жизни комплимент.
Вот почему она сказала: «Ух и жадный вы». Потому что я сказал: «Работаю дни и ночи». А для нее это было: работаю для заработка дни и ночи, заработать хотел. Не могла же она знать, что для меня «работать дни и ночи» означало вовсе не то, что она думает. А просто я не мог устоять перед блаженством самой работы. Потому что этого я и теперь никому объяснить не могу. В крайнем случае, сойду за графомана. А этого мне почему-то не хочется.
А нянечка исходила из вековой народной мудрости, которая установила и выяснила для себя и, стало быть, для всех, что:
— Всех денег не заработаешь.
И я понял, что получил величайший комплимент и что нашел в себе положительное качество.
И я понял, что когда критикуют не за то, то это значит — хвалят!
Нет, ну правда, о чем вообще может быть разговор, если воздуха природа изготовляет меньше, чем мы пережигаем его — о чем вообще разговор?!
Без воздуха ни промышленности, ни науки, ни самой жизни быть не может. О чем разговор! Значит, из воздуха и надо исходить. И если жизнь и ее цивилизация заехала не туда, то надо вернуться к тому пункту, с которого и началось ощутимое движение «не туда». И ехать «туда». Все остальное — болботание.
Была знаменитая фраза Александра Герасимова, президента Академии художеств, который сказал:
— Вот все говорят: «Искусство зашло в тупик». А из тупика один выход — назад.
Поэтому однажды Тоня почувствовала, что ей нечем, ну буквально нечем дышать.
И тогда Тоня вспомнила, что работа должна доставлять радость. И чтобы получить радость от работы, она и устроилась билетершей в кино, поскольку после продажи билетов она тихонько проходила в ложу и садилась в темноте на очередной сеанс. Денег на выпивку, правда, стало не хватать, но выпивку заменили духовные ценности, которых теперь у Тони было сколько хочешь. Каждый день. И эти духовные ценности Тоню воспитывали, поскольку Тоня любила детективы, в которых добро побеждало зло, и мало того, что побеждало зло, еще и молоденький милиционер всегда находил, кого из спасенных полюбить.
Тоня, конечно, знала, что так не бывает, что это — мечта, то есть хорошо бы так было, но зато досуг ей ни черта не стоил. А досуг всегда стоит о-го-го! Дороже досуга нет ничего.
Для своей духовной жизни Тоня облюбовала ложу с правой стороны или с левой, я уже не помню, потому что там всегда имелся свободный стул возле самой пепельницы. Потому что ложа была для привилегированных посетителей, где можно было в темноте курнуть. Привилегированный посетитель возле пепельницы сидеть не хотел — там пахло, и место пустовало.
И именно этот приставной стул возле пепельницы сыграл решающую роль в дальнейшей Тониной судьбе. Потому что именно там она познакомилась со своим основным будущим мужем, о профессии которого она говорила: «Человек интеллектуального труда».
Тоня не знала, что такое человек интеллектуального труда, но поскольку и я этого не знаю, то профессия мужа в этом повествовании так и останется тайной.
Поэтому, когда она заметила, что интеллектуальный труженик чаще, чем следует, дотягивается стряхивать пепел с сигареты в пепельницу через ее ноги, то она поняла, что этот киносеанс можно и пропустить, тем более, что она кино это уже видала. Поэтому, когда, уже в третий раз стряхивая пепел, он наклонился через голые ноги Тони, поскольку юбка за это время решительно укоротилась, а ноги были голые из-за летней погоды, и сводка обещала жару и на следующий день, то когда они поженились, Тоня решительно переменила свою жизнь и стала говорить знакомым, что фильмы она видит на закрытых просмотрах. Это было неправдой. Но об этом знала только она одна. Но и об этом она знала неточно, поскольку не понимала, что именно можно просматривать, если просмотры закрытые.
У Достоевского есть мысль, которая раньше была не так широко известна по разным причинам, а теперь стала известна широко по разным причинам, стала почти банальностью, общим местом. Эта мысль такая: «Красота спасет мир». Я и сейчас не знаю аргументов Достоевского, и тогда не знал, до войны, мальчишкой. Но эта мысль ошарашивала, потрясала.
Красота спасет мир. А как? Может быть, это пророчество без аргументов? И оно исполнится без доказательств? Может быть. А все же, если это пророчество реальное, то хотелось бы понять — что такое красота? Или хотя бы ее детали. Уже сейчас хотелось бы знать все же. И теперь, и тогда. А все же?
Из того, что мы наблюдаем вокруг, самое красивое для мужчины — что? Женщина. Ну, конечно, там пейзажи, природа, закаты, восходы. Ну а все же без женщины и они не кажутся красивыми. А нам почему-то кажется, что для женщины самое красивое — это мужчины. Почему это мы так уверены? Ну ладно.
Ну вот, красивая женщина. И вокруг этой красивой женщины возникает такая кобелиная охота, что уже совершенно неясно, как эта красавица может спасти мир? Если вокруг нее всегда Троянская война?
Значит, красивая баба спасет мир? Но, во-первых, мысль теряет свое пророческое значение, потому что тогда бы Достоевский сказал бы: «Красивая баба спасет мир», а не «красота».
Тогда, чтобы избавиться от Троянских войн из-за бабы, нужно либо каждому по Елене, что уже, пожалуй, можно вывести сегодня путем научной селекции, либо Елена станет доступной каждому. Но это же проституция. Тогда бы Достоевский сказал, что «шлюхи спасут мир». Что вряд ли.
Но, может быть, речь идет о рукотворной красоте? О дизайне, так сказать? Но мы-то знаем, что дизайн кончается мануфактурой и магазинами, от которых сейчас и надо спасать мир, то есть биосферу. Тогда бы Достоевский сказал, что не «красота спасет мир», а украшения.
Возникала мысль и о красоте поведения. Но красивое поведение не давало никаких гарантий и было страшно неживуче. И праведное поведение приводило к гибели его носителя еще быстрее, чем неправедное.
И только один раз, один раз мелькнуло! Но совсем не там, где его провозглашали. Мелькнуло это «ОНО».
Абсолют? Бог? Тогда это область религии и ее богословия.
Религия утверждает, что первородный грех — теперь, по крайней мере, утверждают, сам слыхал, — что первородный грех Адама состоял в том, что он поддался соблазну дьявола и стал жрать. Поскольку, мол, без еды действительно не проживешь. И пошел Ветхий Завет, но потом наступил Новый Завет, где Иисус Христос взял первородный грех на себя и объявил, что «не хлебом единым жив человек». А человек жив, питаясь, и богом. Но мало того, что еще ни разу не было подтверждения, ни единого этой мысли и пророчества, но и утверждения обоих Заветов толкают на сомнения, вызванные не посторонними причинами науки или истории, а самими этими заветами.
И это не спор толкований (это все дела житейские), а спор самих текстов, их переводов, где Канон считается созданием самого бога.
Интересно, что делает охотник, когда у него кончились патроны? Ну, или там стрелы? Что? Он идет домой. Запасаться.
А что делает охотник, когда дичь кончилась? Он ждет, пока она снова расплодится. А зачем охотник вообще бьет дичь? Он ее потом съест. А зачем он ее ест? Ну, там калории всякие, витамины… То, се… А не может он сделать чего-нибудь такое, чтоб не надо было каждый раз на охоту ходить? Может. Набить дичи столько, чтоб в один раз не сожрать. А хранить как? Ведь дохлая дичь начинает разлагаться, если ее сразу не съешь. А хочется свежатинки! И он начинает хранить ее во льду.
Но этого можно достигнуть только в Арктике.
А на юге?
А на юге он рано или поздно изобретает холодильник. Пускает его в продажу. Теперь холодильник в каждом доме. А что? Мы не хуже других. Холодильник работает от электричества.
Человек строит гидростанцию и все такое… И даже атомную станцию.
И вся эта промышленность, и все это добро, которое он нажил, требует новой промышленности и нового добра. Иначе все развалится. И мясо, даже в холодильнике, протухнет. И вся эта промышленность, и вся эта армада добра и организации, и армада власти и вооружения, армии, войны — все это только для того, чтобы мясо не протухло. А мясо добывают из живого. Белки там… Калории… То, се…
Так неужели нынешняя цивилизация не придумает ничего такого, чтобы добывать мясо не из сложившегося организма, а из того, из чего он только складывается, коли уж на то пошло. Полноте, уж сегодня-то, когда умеют делать, чтоб мясо росло как гриб, не превращаясь в организм, в организацию, в живое существо.
Некоторые предлагают перейти только на растительную пищу. Это, знаете ли… Призывы эти чаще всего исходят от асеевской лисицы, которая в своих целях заявила: «Этой весною я не ем мясное!»
А почти что всякая промышленность и ее эквивалент — деньги, полученные от этой же промышленности, вся громада усилий и гибельных бедствий только для того, чтобы мясо не протухло. Это называется культура. Цивилизация. И все такое… которое прогрессивно едет туда, где ни воды нет, ни воздуха. И где никого не останется, чтобы всю эту культуру обсудить.
— Что делает охотник, когда у него кончились патроны?
— Идет домой запасаться.
— А когда кончилась дичь?
— Ждет, пока она расплодится заново.
— А когда кончится охотник?
Остается термодинамика. И упоительные моральные ценности, которые никому не пригодятся.
До войны во Франции появилась историческая песня под названием «Маркиза». Песня разошлась по всему миру, но ни на что не повлияла. Потому что война все равно была, и ее причины потом изучались, потому что методы изучения причин были высмеяны в смешной песенке про маркизу, у которой умерла кобыла.
Там было сказано: «Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упали свечи на ковер, который вспыхнул, как костер. Погода ветрена была. И замок выгорел дотла. Конюшня заперта была, а в ней кобыла умерла. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!»
Сейчас ликует та наука, которая делает открытия, что кобыла умерла потому, что дверь в конюшне была заперта, что если бы дверь была открыта, то никакой пожар не страшен. А та наука, которая понимает, что кобыла умерла все же потому, что маркиз разорился и застрелился, звучит малость поглуше, более глуховато. Эта наука называется экология, которая открыла биосферу, открыла, что дверь в конюшню заперта, и открыть ее некуда.
Что жизнь на Земле существует со своей промышленностью и наукой, пока есть вода и воздух. А если промышленность и наука эту воду и воздух истребят, то маркиз разорится и кобыла подохнет так же, как зарвавшийся маркиз. Так как дверь в конюшню биосферы, которая развивалась миллиарды лет, отворить некуда.
И пока не доказано обратное, исходить надо именно из этого.
Иначе, несмотря на все ухищрения, человечество вместе с остальной живностью может однажды не проснуться, даже если войны никакой не будет, и будут уничтожены все бомбы.
И страшно даже подумать, что погибнет даже Тоня, у которой «все будет».
А вернее, даже не так… Тоня погибнет именно. потому, что у нее «все будет». Вот теперь так.
Вот у меня сын — большой знаток Древней Греции. И он меня спрашивает:
— А в Древней Греции дети были?
Я говорю:
— Были.
— А кошки и собаки были?
— Конечно.
— А кого было больше? Кошек или собак?
Я говорю:
— А кто это знает.
— Нет, а правда, кого было больше — кошек или собак?
Я говорю:
— Не знаю. А как ты думаешь, кого было больше — кошек или собак?..
Неужели никто не замечает, что у науки остается все меньше невинных вопросов. Наука заявляет: «Не наше дело. Наше дело — открыть. А как применить — тут уж разбирайтесь сами». А кто — «сами»?
В передаче «Очевидное — невероятное» идет беседа о том, можно ли шимпанзе превратить в человека? Оказывается, путем научной селекции, современной, можно. И довольно быстро. Любопытно? Правда? Не очень. Потому что неизвестно, куда этих полудурков потом девать. На какие роли? Науке следовало бы поинтересоваться, как путем селекции превратить человека в человека? Вот сегодня вопрос вопросов!
Какие нужны условия жизни, чтобы в ней все всем понравилось?
Для этого нужно одно, один пустяк. Нужна другая цивилизация, где бы не наживали добро… вернее, не так: где бы добром считалось не средство к существованию, любое средство — от барахла до денег, а где добром считалось бы само существование.
Но это не может сделать кто-то один. Этого должны захотеть все. И поверить, что это возможно. То есть, нужно переменить цивилизацию. Возможно ли это? Если считать, что человеку несколько тысяч лет, то невозможно. А если понимать, что человеку многие миллионы лет и было время, когда цивилизации просто не было, и что цивилизация — это всего лишь этап всей миллиарднолетней эволюции живого, то да, возможно. То есть пришла пора окинуть взглядом все и понять, что если все есть, то все частные поправки либо ухудшают дело, либо улучшают его. Ухудшают дело, если растаскивают его, и улучшают, если стремятся к нему. По-разному, но стремятся.
И это есть главное желание.
Потому что если этого хотят все, то и будет все. А если все хотят всего лишь разного, то ничего и не будет.
Давно уж сложилось великое уголовное наблюдение, которое звучит так: «Жадность фрайера сгубила».
Нужна и не нищета, и не богатство, а оптимум. А сейчас складывается впечатление, что мир стремится стать миром «фрайеров», миром человеческой дешевки, и вся промышленность работает только на это, на создание дешевки, на подмену. А если это случится, то, выражаясь научно, всему — кранты. Потому что если экология установила, что жизнь на Земле возможна, только пока существует экран, который эту жизнь загораживает от смерти, то, если не будет экрана, не будет и промышленности, которая этот экран разрушает. Ежу понятно.
Ежу-то понятно. Сколько можно жрать? По-моему, жрут уже даже ушами. И это даже не те только, которые дохнут от голода в нищете, но и те, которые добились.
И вот уже одна дура в юношеской передаче «Мир и молодежь» говорит, что у нас свои проблемы, у молодежи то есть. Я встал в стойку и ухи топориком. Оказалось, что у этой дуры проблемы те же, что и у Жаклин Кеннеди. Платье в ателье Зайцева — 200 рублей, а ее зарплата 70. А драгоценностей и вовсе не укупишь. Но даже ребята, ее сверстники, поняли, что это клиника.
Не проблема, а клиника. И что если на это пойти, то «жадность фрайера сгубит». Но, как ни странно, это и есть загнанная куда-то в помойную яму женщина, носительница красоты, ее уродливый облик той красоты, которая должна спасти мир. Той красоты, которая забыла, что мануфактура красоту только выявляет. Но для этого нужно иметь что выявлять.
У Тони, несмотря на жизненные перетрубаций было, что выявлять. Она и решила выявлять это в области кино. Где ж еще? В области киномассовки. Где ж еще?!
И там ее наконец приглядел Ефим Палихмахтер. Где же еще?
Водится на свете такая плащеносная ящерица. Когда ее пугают, она не кидается сражаться и не удирает на четвереньках, а встает на задние ноги и бежит на двух ногах. Прямо чешет! Быстро и смешно, переваливаясь по-женски. Чешет… Удирает от того, что ее испугало, прямо как Тоня от старости.
Люди хотят заработать. Это естественно. Но вот в чем странность. Уже давным-давно люди хотят заработать не за то, что кому-то на самом деле нужно, а заработать вообще. Чтобы заработок поступал исправно даже за то, что не нужно никому. И это даже предпочтительней. Потому что если заработок идет за то, что кому-то нужно, то сегодня нужно одно, а завтра, глядишь, оно и не нужно. Ну а вот если заработок идет за то, что никому не нужно, оно вчера никому не нужно, сегодня никому не нужно и завтра никому не нужно. Заработок ведь идет.
Главное — обеспечить заработок. Главное, чтобы никто на заработок не покушался. А за что он, этот заработок? Не имеет ни малейшего значения. Нет, конечно, имеет, в конечном счете. Потому что если вообще не будет никого, кто получает за что-то, то те, кто получает ни за что, все-таки рано или поздно своего заработка лишатся. И чтобы этого не случилось, проводят тысячи мероприятий, чтобы тем, кто получает заработок за что-то, не пришло в голову, что они содержат гигантское количество людей, которые получают заработок ни за что. То есть, чтобы этим указанным людям не пришла в голову идея о коммунизме, где каждый может заниматься чем угодно при одном единственном условии, чтобы его занятие было хоть чем-то полезно людям. И вот если с этой точки зрений подойти к человечьим занятиям, то и окажется, что 60 процентов занятых ничем полезным для всех людей не озабочены. Это я тоже услышал на лекции ученого эколога, биосферщика. Да, как ни печально это признать. 60 процентов людских занятий не только не полезны для всех людей, и даже для тех, кто этими шестьюдесятью процентами заняты, но даже и вредны, так как дело кончается тем, что пережигают воздух — единственный витамин жизни, который на самом деле нужен человеку, всему живому при любом занятии и заработке.
Я был на одном концерте, где поэты читали свои стихи. Остальные я не запомнил… А вот две строчки ленинградских стихов поэтессы Борисовой я запомнил. Стихи посвящались памятнику Петра Первого, но посвящались не Первому Петру, а его коню. И заканчивались про коня:
«Ведь он его на подвиги возил и привозил обратно».…После того, как Тоня поснималась в массовках и ей это понравилось, она сказала мужу, что хочет посвятить себя кино, то есть играть в кино какие-нибудь роли. Но роли ей давать не будут, потому что нет у нее кинодиплома. И чтобы муж постарался… И муж стал думать, как стараться.
Опытные массовщики знали, что на камеру лучше не вылезать, потому что если попадешь в камеру, то в следующую массовку с другими костюмами тебя не возьмут, так как зритель может запомнить. А массовка в кино нужна. Она, как конь Петра Первого, который «его на подвиги возил и привозил обратно».
А в ролях нужно понравиться кинокритике, именно чтобы она заметила. Тогда есть надежда, что будут давать другие роли, потому что ты уже артист с дипломом, который удостоверяет, что ты сдал экзамены по системе Станиславского. И, значит, насобачился изображать кого угодно. Но тут есть один нюанс, деталечка, так сказать. А в дета-лечке, так сказать, как известно, прячется дьявол. С одной стороны, вся кинокритика и, стало быть, режиссеры, которые делают картины, требовали от артиста правды, п-р-р-равды жизни, а с другой стороны, как-то забылось, что п-р-р-равда жизни может быть сфотографирована только в документальном кино, где роли не играют, а эту правду подсматривают. Потому что если кино хочет быть художеством, то правда жизни должна быть правдой Образа. А Образ сыграть в кино нельзя. Артист в кино не может превратиться в Образ, а только в другого человека. Но и это сделать нельзя, увы, физически. И никакая система тут не в помощь.
Театр — другое дело. Там с самого начала зритель знает, с вешалки еще, что герои на сцене не настоящие. Потому что если б они были настоящие, то они бы не позволили себя разглядывать из зрительного зала. И поэтому зрительный зал со сценой уславливается о правилах игры. И тогда при удаче возникает Образ. Потому что в жизни Образа не бывает. А бывают только члены профсоюза, которые зарабатывают на жизнь такой профессией, а не другой.
А в кино артист притворяется, что он и есть на самом деле такой, как в сценарии, и не получается ни кино, ни театра. И только в одном виде кино получается Образ — это, извините, мультипликация. Где художник может Образ нарисовать. Но мультипликация до сих пор идет по ведомству «Утенка Дональда» и «Кота Леопольда». И только редко-редко — «Мифы Древней Греции», где Персей спасает девушку, каких на свете не бывает, но бывают в Образе, в воображении.
Но на это никто, конечно, не идет, потому что кино давно уже стало средством для жизни, стало заработком тех, кто его снимает и кто в нем снимается. А нарисованные девушки зарплаты не получают.
Такой вой поднимется, что заработок останется только у тех, кто по этому поводу будет спорить, то есть у кинокритиков, которые думают, что Образ получится, если играть в кино правдиво, до конца правдиво, «до самой березки», как они говорят. А фактически в кино снимают «киномясо» — есть такое выражение. То есть берут среднего артиста и лупят его до тех пор, пока он либо не заплачет, либо не начнет хохотать правдиво, как живой человек в этой ситуации, ситуации сценария, который весь выдуман. И спорят… спорят… те, кому за это платят, за споры умные — и мысли. Но если бы спорами можно было делать искусство, то оно бы к этому и свелось.
Но все знают, что когда-то оно все-таки возникает, и возникает из впечатлений от искусства, которые действуют на душу. А что такое душа, не знает никто. Но на нее действует Образ, а не показ человека, который действует только на нервы. А чтобы это можно было смотреть и нервишки трепетали бы, пишут сценарии о том, как некий персонаж во что-то вляпался. Он во что-то вляпался, и «киномясо» кричит, доведенное до осатанения.
Есть с десяток приемов, которые повторяются из фильма в фильм, и уже нервы тупеют и не содрогаются. И тихая бомба замедленного действия, на которой играют невинные дети, уже перестает срабатывать.
А Образ действует. Даже если не происходит ничего такого особенного, стрессового. Потому что Образ сам по себе стресс.
Ну, интеллектуальный муж Тони, конечно, позвонил туда, сюда… И устроил в киноинститут свою плащеносную ящерицу, которая вместо того, чтобы побежать в женщины, на что у нее всегда есть последний шанс, побежала в «киномясо», несмотря на то, что хотя у нас с ними, с бабами, права равные, однако обязанности разные.
И это есть шанс для начала новой цивилизации, без которой, выражаясь научно, всему «кранты».
Да, хочешь не хочешь, а цивилизацию все равно придется менять, но только вот как это сделать, и кто на это пойдет? Художники, поэты, музыканты — те, конечно, пойдут, не все, конечно, но пойдут. Женщины — с трудом. А наука? Рациональное мышление? Наука тоже не вся одинакова. Пойдет именно та самая фундаментальная наука, которая дальше всего прошла. Экология, наука о мозге, о мышлении — именно та, которая дорылась до тупика. Тупик брезжит, и она его видит. Вот академик Раушенбах, который занимался ракетами, выступает и говорит, что, кроме рационального мышления, на котором зиждется наука, есть иррациональное, и что без этого второго мышления всей жизни человеческой «финита ля комедия!». Потому что любовь к Родине, к Земле, Совесть — не вычислишь. А без них — никуда.
И что если на иконах есть люди, хотя и святые и всякие ангелы, и люди верили в их взаимное сосуществование, вернее, одновременное, то похоже, что тут пахнет четырехмерным миром, как на листе бумаги, на одной стороне которого нарисовано то, что вокруг нас, а на другой стороне — совсем другое.
А если в одной картине совместить, то и получится Рублев или еще кто-нибудь из гениев. В мозгу две половинки. Левая занята рациональным мышлением, логикой, а правая иррациональная, а мы сейчас стали чересчур левополовинчатыми. А левополовинчатая цивилизация и привела к промышленности на 60 процентов ненужной, и к магазину.
Потому что средства для существования стали важнее самого существования. И потому что жить-поживать и добра наживать — это рубить сук, на котором сам же и сидишь.
А тут передали по телевизору, что в Уругвае землетрясение — такое, какого не было за всю историю Уругвая.
А я думаю:
— Ну, может, не было, так есть. Землетрясение — дело природное.
А когда сообщили, что разрушены как раз места, откуда нефть качали, то и до меня, дурака, дошло: нефтяную линзу выкачали — чего ж удивляться, что обвалилось. Вот это и есть антропогенное землетрясение.
А выкачали, чтоб продать. А продали, чтобы получить деньги, и все такое… А там промышленность, разные бульдозеры, которыми землю пашут. И леса на корню бьют. Те самые леса, где и зародилась индейская цивилизация с кукурузой, картошкой и помидорами.
М-да-с… Но надежда все же есть. Потому что опыт показал. Если два человека хотят истребить друг друга, но это почему-то невозможно, то хочешь не хочешь, а додумываются, как жить по-другому.
Умник гения не любит. Умник существо рациональное, а академик Раушенбах говорит, что иррациональное поважнее, чем рациональное, если положить на стол тыщу рублей, то рациональный умник их не возьмет. Потому что побоится последствий. А если он будет уверен, что никто никогда не узнает, что он эту тыщу рублей взял? А как сделать так, чтоб рука не поднялась? Раз чужое — значит, чужое. И рука не поднимается. А это и есть сначала совесть, а еще глубже — стыд, рвотное движение души. Все со всем связано. Но вовсе не только умом. Уж осмысляет то, что есть. Рационально осмысляет.
Но ум может осмыслить и иррациональное. И если есть чувство стыда, рвотного движения души, то и будьте любезны… осмысляйте, а не делайте вид, что этого нет.
Сыну моему уже пять с полтиной. И он начинает читать. Но первая книжка ему попалась, когда он еще букву «р» не произносил. И он прочел:
— «Мифы Дьевней Гьеции».
Такое было название. Дальше, конечно, дело не пошло. Дальше пошли только картинки. Фотографии со скульптур и ваз. И сыну больше всего понравился, конечно, кто? Геракл. И пришлось рассказывать:
— Ну, что, — говорю, — самый сильный человек в мире.
— Самый-самый? Сильнее своего отца?
— Нет, — говорю, — отец все-таки сильнее.
Он мне поверил. Ведь я же его на руках таскаю, а не он меня.
— А кто его отец? — он спросил.
Что было делать? Я говорю:
— Зевс.
— Который с молниями?
— Который с молниями…
— А говоришь — самый сильный человек Геракл.
Ты сказал, я сказал…
— А Зевс с молниями сильнее. Он же бог, а не человек.
— А что такое бог?
— Этого никто не знает, — говорю.
— Не знают, а говорят.
— А когда не знают — всегда говорят.
— А в телевизоре сказали…
— Что сказали?
— Кто самый великий писатель? Чемпион?
Я говорю:
— Чемпион? Наверное, Гомер.
— Правильно. А в телевизоре сказали, что он был сыном бога, древние греки говорили. Значит, был сыном Зевса?
Я говорю:
— Ну, у Зевса было много детей…
— И все, наверное, самые великие?
— Ну да, — говорю, — конечно. Они называются гении.
— А кто такие гении?
— Гении — это те, которые видят сны других людей.
— А остальные?
— Тоже, наверно, но забывают, вернее, не придают значения.
— Тогда и я вижу.
— Кто тебя знает… — говорю. — Может, и видишь.
— Тогда я не буду забывать…
— Не забывай, — говорю. — Ну а ты-то кто, ты-то кто, как ты считаешь?
Тогда он встал в позу, сжал кулачок и сказал:
— Я такой молоденький, лихой, голенький.
Тогда моя жена, которая его переодевала для прогулки, стала хохотать, и я стал хохотать.
— Какой, какой? — говорю, потому что сам уже забыл.
И он забыл. А слово было сказано.
Когда Тоня наконец стала актрисой, то есть научилась быть похожей на кого угодно — это называлось перевоплощаться, — то она заметила, что, когда она показывает из-под платья что-нибудь, успех ее и сходство с какой-нибудь другой женщиной был больший, чем если бы она ничего не показывала. А это еще больше нравилось, если она это окутывала какой-нибудь мануфактурой.
И она стала сомневаться, что больше нравится: мануфактура или то, что она показывает из нее? С промышленностью она соревноваться не могла. Мануфактуру надо было покупать. А зарплата ей этого не позволяла. Зарплата была вся в общем-то у мужиков, особенно у тех, кто занимался производительным трудом или занимал высокие посты, или успел наворовать. Но с последними лучше было не связываться, так как их периодически сажали и периодически отнимали часть наворованного, ту, которую они не успели спрятать. А остальные мужики соглашались быть покровителями Тони. Только если она соглашалась спать с кем-нибудь из них.
А как только появлялся кто-нибудь другой, первый отпадал по разным причинам, и у Тони пропадала мануфактура, то есть добро, которое ей никак не удавалось нажить. И Тоне никак не удавалось совместить эти две вещи, чтобы она получала роли, в которых бы она нравилась всем, но чтобы мануфактуру ей давал один человек. Потому что она живет в мире, в котором средства для поддержания женской жизни стали дороже самой женской жизни и постепенно становились дороже жизни вообще.
А поменять цивилизацию она не умела. Да и кому это под силу? Она только могла менять мануфактуру.
Это удавалось только великим актрисам, которые умудрялись быть прекрасными в любой мануфактуре и в любой роли. Потому что великие актрисы умеют быть похожими на сны других людей. А остальным актрисам, и тем более остальным женщинам, остается только магазин. Но и магазин не выход. Потому что, как мы видим, он привел к пережиганию воздуха. А когда какой-то процент воздуха будет сожжен, то жизнь на Земле однажды может не проснуться. Без всяких войн.
А выход был под боком, но на него никто не шел, так как не верилось, что дела обстоят так плохо.
На дворе стояла плохая погода.
Сын повесил веревку между ручками дверей, а на нее бумажку с надписью, и ходить мне мешал. Ему-то хорошо — ручки двери как раз над его головой, а мне надо сгибаться в три погибели.
— А что у тебя на бумажке написано? — спрашиваю.
А он отвечает:
— Это магазин. Видишь, на полу набросано.
— А что у тебя на бумажке? — спрашиваю.
— Магазин закрыт на варавство.
— Та-ак, — говорю. — А после чего они будут делать?
И сын ответил:
— Они станут жить-поживать…
Ну, думаю, дальше я знаю:
— И добро наживать.
Но сын ответил по-другому:
— Они станут жить-поживать и бога ждать.
Извините меня, но я не решился поправить.
Мало ли…
И вот тут у меня впервые мелькнула мысль, даже не мысль, а, я бы сказал, идея. Идея всегда шире мысли. До мысли еще надо добраться.
Ведь если действительно магазин закрыт на воровство, то это значит, что они все там собрались, все те, кто привел цивилизацию к магазину, и обдумывают, как дальше быть?… То есть, как уворовать? Все то положительное, что будет вновь придумано. А уворовать можно было все. Практически. То есть как сделать так, чтобы выдумать такое, чтобы выдумкой нельзя было воспользоваться? А ведь всеми выдумками пользуются. И это и есть цивилизация. То есть, как было выдумать такое, чтобы это не выглядело выдумкой? Потому что даже отменой цивилизации можно было воспользоваться и как-то уворовать плоды этого дела. Передо мной стояла грандиозная задача, которая должна была перекрывать все мыслимое и даже немыслимое. И причем, задача реальная, которая не укладывалась ни в какие концепции. То есть выдумка должна быть такая, которая не могла бы прийти в голову всему сонму дьяволов, которые там заперлись и вывесили табличку: «Магазин закрыт на воровство».
У меня кружилась голова от предстоящей задачи. Надо было опереться на что-то реальное. Реальное стояло передо мной. Жена смеялась.
— Слушай, а все же, кто же ты такой? — спросил я грандиозного сына.
И тот пожалел меня и ответил в той же интонации, выставив вперед туго сжатый кулачок:
— Я такой молоденький, лихой, голенький…
То есть он сказал то, чего я не мог сказать о себе, хотя, если разобраться, то я не мог сказать о себе только первое, то, что я такой молоденький. Нет, я далеко не молоденький. А вот лихой ли я? Как сказать… Если я затеваю поиски того, чем эти дьяволы не могли бы воспользоваться, то в случае удачи… Как знать… Может быть, и лихой. А что касается того — голенький ли я? А пожалуй, так оно и есть. Голенький. Сама задача делала меня голеньким. То есть все, что я придумаю, я должен был тут же откидывать. Потому что то, что я мог придумать — мог придумать и другой. А значит, это уже тенденция. И значит, тенденцией можно воспользоваться. Магазин-то ведь закрыт со вполне определенными целями, и они там готовятся. Ко всему тому, что я мог придумать. И я взвыл: «Я? Ну почему опять я?» И в ответ на эту простую мысль возникал простой ответ: «А почему не ты? Взялся за гуж — не говори, что не дюж»… Но я знай свое вопил: «Я ни за какой гуж не брался!» Я даже не очень хорошо помню, что обозначает слово «гуж». Какой гуж? Почему гуж? Я смутно помнил, что есть какой-то гужевой транспорт, лошадиный, что ли… Значит, «гуж» — это что-то на лошади? Гуж! Откликнись! Кто ты?!!
Но Гуж не откликался…
Однако вернемся к Тоне. Мы ее оставили в тот трагический момент, когда она думала, как совместить необходимость мануфактуры, которую она получала от одного человека и при которой она нравилась всем остальным, с необходимостью спать со всеми, кому она нравилась. А тут еще эти Образы… Надо было изображать не человека живьем, а какой-то Образ. Хрен его знает, что это такое… Все об этом по-разному говорят. Но если в результате ты не создал Образ, то ты опять меньше нравишься, и тебя не берут сниматься на следующий фильм. И твои шансы на мануфактуру опять понижаются.
Образ… Образ… Заладили… Люди в общем-то хотят видеть правду, а Образ — это то, что в голове. Но беда в том, что голова-то живая. И принадлежит живому человеку? А стало быть, и Образ — жизнь. Какую правду хотят видеть люди? Которая снаружи или внутри их?… А и ту, и другую, только как это совместить? И есть куча специалистов, которые знают, как это совместить, но сами почему-то не совмещают. Зато объясняют это тем, кто это умеет совмещать и так.
Конкуренция… Конкуренция… Всюду конкуренция. Это просто ужас какой-то! Куда ни кинь — всюду конкуренция! То есть всюду клин!
Мне всегда было больше всего любопытно — можно ли из хороших кусков получить хорошее целое? То есть можно ли доработаться до Образа? То есть что Образ может прийти в голову сразу, неизвестно откуда — это сомнений не вызывало. А что с ним делать дальше? Разбивать на подробности? На пуговицы? Зачем? Ведь он же действует именно в таком виде, в таком ключе, в таком тоне… как он и появился. Все остальное будет его только ослаблять. То есть вопрос стоял так: разменивать ли рубль на копейки, или из копеек складывать рубль? Накапливать Образ? Или делить его на подробности? В Образе было что-то похожее на жизнь. Можно ли в начале жизни запланировать целое? Или целое само сложится? Из подробностей жизни.
Но был еще и третий путь. Написать все вчерне, а потом — бесконечная обработка: доделочки, подправочки с точки зрения уже увиденного целого. Но это бы было похоже на то, как если бы сначала построить город, а потом переделывать его дома. То есть — бесконечный ремонт города, в котором люди уже живут.
Однажды мне в голову пришла мысль, не похожая на воровство. «Позвольте… — завопил я от неожиданности. — Но ведь вся проза — это описание того, что уже было». Значит, каждая проза — это историческая вещь. Пока она будет написана, а уж тем более напечатана, все описанное в прозе уже ушло. Может быть, и осталось кое-что, а основное ушло. То, что грело и задевало. Я могу, конечно, в воображении заниматься прогнозами, но едва ли они исполнятся, потому что жизнь, живая жизнь вносит поправку в любые прогнозы. Даже в области техники. А уж остальное-то, самое интересное, оно и вовсе непредсказуемо. Да и вообще, какое кому дело, как я изготовляю это блюдо?
Человек приходит и хочет получить впечатление. Одна вещь вызывает впечатление, другая его не вызывает. Вот и вся разница.
Все остальное — мифы.
Какое до всего этого дело Тоне, которая теперь занимается духовной жизнью, непыльной и неплохо оплачиваемой?! Лишь бы дали роль, при которой из мануфактуры можно было выставить себя. И она была уже почти уверена, что это и есть духовная жизнь. Духовная жизнь, о которой она знала, тоже из мифов, хотя и не Древней Греции. Гос-споди, мифы Древней Греции — такое старье!
Тоня! Тоня! А как все-таки быть насчет землетрясения в Уругвае? Да. Как быть с этим землетрясением?
Или ты занимаешься только болтовней о духовной жизни? Антропогенное землетрясение в Уругвае ведь было на самом деле. И выходит, что ты тому есть причина. Землетрясение-то антропогенное! То есть созданное человеком, имеющее причину в человеческой деятельности. Нефтяную линзу выкачали — вот все и обвалилось. И ведь как быть? А ведь тебе еще предстоит красотой спасти мир.
Действительно, а как быть? Даже если ты додумаешься до этого. Ведь всякой выдумкой можно и воспользоваться, и рано или поздно появится табличка на дверях: «Магазин закрыт на воровство». Как в этих обстоятельствах поступать Тоне, у которой есть считанное количество лет, чтобы убежать от старости, как той плащеносной ящерице. Да, как же ей поступать? Не цивилизацию же, в самом деле, ей изменять? Да и как это сделать? Ясно только одно, что старый способ: жить-поживать и добра наживать — не проходит. Тут — тупик. И тупик именно потому, что «жадность фрайера сгубила». И что какие-то самодеятельные средства для жизни грозят самой жизни, и, значит, стало быть, надо эти средства отменить. Иначе жизнь сама отменится. А что тогда будет с Тоней — вершиной цивилизации и биосферы?
Вернемся к тем временам, когда Тоня еще не была вершиной биосферы и еще только начинала свои труды в области культуры, снимаясь в киномассовках. Это есть чрезвычайно важный момент, потому что именно там ее приглядел Ефим Палихмахтер.
А надо сказать, что это было в те времена, когда наступила эпоха перестройки и гласности. И что если до этого жили так, то теперь надо жить эдак… И Ефим Палихмахтер понял, что его время пришло. Позволяют развернуться. Почему бы и нет? Или сейчас, или никогда! — понял Ефим Палихмахтер.
Главное было теперь проявить инициативу. Инициатива! Инициатива — это все! И он, как умный человек, угадал в Тоне скрытую инициативу, Ого! Скрытую! Знал бы он ее плодоовощное прошлое! И все бы получилось один к одному, все он предусмотрел. А вот — неудача. Или, как бы выразилась Тоня, — вот недостача!
Случай, живая случайность или попросту — жизнь свела его со мной. Ну, все рассчитал человек, буквально все. А тут не сообразил. У меня была старая, давным-давно написанная вещь — пьеса о Франсуа Вийоне. Был такой поэт во Франции. Сколько-то времени считался отверженным и непрестижным, а теперь вся французская поэзия считает от него всю литературную генеалогию новых времен. А нам какие причины были ставить эту пьесу? Ее и не ставили. Не ставили потому, что до эпохи гласности официально считалось, что у нас такого нет. Зато теперь, в эпоху гласности, выяснилось, что у нас такого сколько хочешь.
И Ефим Палихмахтер понял — вот оно! Судьба дает в руки единственный случай. Он все учел: и возможность прославиться и выйти в люди, и роль для Тони есть. И он только не учел, что пьеса имеет свое содержание. Если пьеса для того, чтобы влиять на окружающих, то первыми окружающими будут артисты, как бы они ни выглядели и какими бы творческими концепциями ни содрогались. Все учел Ефим Палихмахтер. Он только не учел, что Тоня будет играть «Образ». А Образ сфотографировать нельзя. Нарисовать можно, а сфотографировать — нет! И, стало быть, игровому кино он неподвластен, а театру — пожалуйста.
Но Ефим Палихмахтер хотел кино. Не будем рассказывать, как он это устроил, но он это устроил. И начальcтво, перепуганное эпохой перестройки, решило ему не мешать. А вдруг он действительно то самое новое слово в режиссуре и, главное, в кинематографии, которое ждут и за которое получают премии, так необходимые для критики. То есть, заработала вся кормушка, которая тщательно скрывает, что она — кормушка.
— Учиться тебе надо, Тоня, — недовольно сказал Ефим Палихмахтер, ученый человек.
— А зачем? — спросила Тоня. — Правду жизни я знаю.
— Учиться надо, — твердо сказал Ефим Палихмахтер. — Вот, ты прочла второе действие, а ни черта в нем не поняла.
— Кто? Я? — спросила Тоня.
— Не поняла социальный заряд.
— Ты же не объяснил, а обещал, — сказала Тоня.
— А подтекст? — не поддался Ефим Палихмахтер. — А подтекст?
— А это что? — спросила Тоня.
— О!!! — обрадовался Ефим Палихмахтер. — Подтекст в нашем деле — самая важная вещь.
— Вот ты читаешь сценарий, один другого спрашивает: «Который час?» — это текст. А подтекст может означать что угодно. К примеру: «Жизнь прошла мимо»… Или: «И моя жизнь в искусстве — тоже». Подтекст — великая вещь.
— Это когда врут, что ли? — спросила Тоня.
— Верно, — сказал я, — в моей пьесе никакого подтекста нет, а есть текст. Что сказано, то и есть.
— Ну, как же? — возразил Ефим Палихмахтер. — Подтекст. Подсознательное. Может быть, вы скажете, что и подсознательного нет?
— Подсознательное — это другое, — сказал я. — Тоня, опустите юбку. Вот так. Вот вы припомните, Тоня, — продолжал я настырно. — Разве у вас не было, что вы говорите что-нибудь неожиданное? Чего сами не ожидали? Хотели сказать одно, а сказалось совсем другое. Значит, в вас скопилось что-то, что до сознания еще не дошло. А неожиданно спроси — оно и вылезает, и вы ляпнули.
— Сколько хочешь, — сказала Тоня.
И Ефим Палихмахтер был рад, что обстановка разрядилась. И что хоть насчет подсознательного Тоня не станет спорить. И не будет рубить сук, на котором они вдвоем с ним, Ефимом Палихмахтером, оказались. Благодаря перестройке. В общем, лучше было не шутить. Тоня задумалась, а потом рассказала случай о подсознательном…
«Иду я ночью однажды, — говорит Тоня, — и вдруг из-за кустов какой-то мужик появился и начал тащить меня в кусты. И я со страху забыла кричать: „Помогите!!!“ И кричу: „Ур-ра!!!“ Он испугался, меня бросил, и в другую сторону побежал!»
— Это подсознательное? — спросила она меня.
— А как же… — ответил я. — Это оно и есть.
Так как же все-таки быть с другой цивилизацией? Какая она должна быть? А? Я вас спрашиваю? А? И ответа я не получил. Спрашивать-то было некого. Как это я мог забыть? Кого спрашивать, если они заперлись там, в магазине «на воровство». И все, что может быть придумано, может быть использовано. И все-таки я по своей настырной привычке решил попытаться.
Ведь те, кто привел цивилизацию к магазину, и обдумывают, как дальше быть. То есть, как уворовать? Все то положительное, что будет вновь придумано. А уворовать можно было все. Практически. То есть, как сделать так, чтобы выдумать такое, чтобы выдумкой нельзя было воспользоваться? А ведь всеми выдумками пользуются. И это и есть цивилизация. То есть, как было выдумать такое, чтобы это не выглядело выдумкой. Потому что даже отменой цивилизации можно было воспользоваться. И как-то уворовать плоды этого дела.
Но делать было что-то надо. Это не отменялось. Потому что, если цивилизация дошла до магазина и теперь дрожит от страха: не кончится ли сама цивилизация от одного взрывчика, то вопрос теперь стоит так: «Как отменить такую цивилизацию, при которой основным чувством и стоп-сигналом стало чувство страха перед тем, что могут наступить всеобщие „кранты“, научно выражаясь, и надо было что-то менять». Это ясно, и менять так, чтоб этим нельзя было воспользоваться. Значит, надо было опереться на что-то, что уже открылось. То есть, нечто реальное, которым я мог бы воспользоваться, а вся эта банда, засевшая в магазине, нет, не могла бы.
Ну и как быть? Я ведь не один. У меня семья, сын — их кормить надо. Да, как быть?
Что такое цивилизация? Цивилизация — это когда накопились ценности. Это когда жили-поживали и добра наживали. Но если то, что считалось добром, привело к магазину и все ждут и трясутся, что сама эта цивилизация сама себя отменит при помощи кнопки, неживой кнопки, то надо было эти ценности пересматривать, хочешь не хочешь. То есть, нужна была переоценка ценностей. Все ли ценно в этих ценностях? А может, не все? А может быть, в этих ценностях есть кое-что выдуманное? А что особенного? Ценности пересматривают все время. Вот я сам слышал по радио. Передавали какую-то беседу с ансамблем «Кукуруза». Я и на беседу-то обратил внимание случайно, то есть по-живому, из-за названия ансамбля. Я в то время собирал мнения о кукурузе. Потому что кукуруза была плодом индийской цивилизации, то есть цивилизации, которая доработалась до сытости, не придумав колеса, которым гордилась Европа, но которое привело европейскую цивилизацию к магазину, подсунув Европе колесо, чье-то изобретение. И все обрадовались — какой простой выход! А выход-то привел к магазину, который заперт на воровство. Нет, тут нужно что-то другое…
И вот какой-то представитель ансамбля «Кукуруза» рассказывает случай, который впервые реально показал, как происходит переоценка. И вот под смех слушателей кто-то из ансамбля рассказывал, как они заехали от Москвы, от центра цивилизации, в город Благовещенск. И кто-то из них зашел в магазин уцененных товаров и видит, продается контрабас, да не фанерный, как сейчас модно, а настоящий долбленый. Он посмотрел на цену и глазам не поверил. Контрабас стоил два рубля. Он переспросил у продавщицы. Она подтвердила: «Да, два…» И тот из «Кукурузы» сказал, что если все так, то он купит сейчас этот контрабас, уйдет и больше его продавщица не увидит. Парень был честный и боялся — не ошибка ли это? Не игра ли воображения? Продавщица сказала: «сейчас посмотрю». Порылась в бумажках и говорит: «Да, два рубля. Если вам не нравится, зайдите за прилавок» (за кулисы, так сказать, этого театра). Там у нее еще два контрабаса стоят. Парень все же не поверил. Вернулся в ансамбль, разыскал кого-то из скрипачей и говорит: «Идемте кто-нибудь со мной. Может, контрабас бракованный». И те пошли с ним в самый лютый холод. Лязгнули зубами, но пошли. Пришли, смотрят, крутят, все правильно — контрабас отличный. «А еще есть?» — «Есть», — говорит продавщица и показывает еще два контрабаса. Ну, один, правда, похуже, фанерный, а другой традиционный, долбленый. «Берем два контрабаса», — сказали музыканты. Она им недрогнувшей рукой выписала, а когда те уже держали в руках, один все-таки поинтересовался: «Почему все-таки четыре рубля пара?» Она им сказала:
— Привезли контрабасы. Стоили 380 рублей. Десять лет их никто не брал. В Благовещенске они не нужны никому оказались. Стали снижать цены, снижать, снижать… Переоценка ценностей. И вот последняя цена — два рубля.
Они заплатили четыре рубля и ушли. Вот тебе и кукуруза!
Контрабас не изменился. Как был, так и есть, а вот цена на него упала до двух рублей. А какая истинная цена контрабаса? 380 рублей или 4 рубля пара? Оказалось, цена-то относительна. Относительность цены! Цена-то возникает от потребности, то есть от желания, то есть опять срабатывал «закон случайности», основной закон жизни.
Повычисляли, сколько стоит работа, налоги, прибыль. Назначили цену — 380 рублей. В Благовещенске никто не брал. И в Благовещенске в тот момент контрабасы стоили четыре рубля пара. Ансамбль «Кукуруза» и сейчас на них играет. Потому что ансамблю «Кукуруза» эти контрабасы были позарез. Вот и все. Над этим стоило подумать.
Я и начал было думать по-прежнему, логически, но, к счастью, мне помешала живая случайность, которая вошла ко мне в дом вместе с Тоней, которая к тому времени уже поступила в киноинститут, где дают дипломы. Диплома у нее еще не было, но роли она уже имела право получать. Считалось, что она уже прикоснулась к изучению искусства, как будто искусство родилось от изучения, а не наоборот. Как-то все уже и забыли, что сначала было искусство, а потом началось его изучение. Потому что изучают то, что есть, чего нет — не изучишь. Значит, то, что есть, появляется раньше, чем то, что изучают.
И вот однажды появилась Тоня, а с ней внесли арфу.
— Не сердитесь на нее, — сказал просочившийся вслед за ней Ефим Палихмахтер. — Это ее вы думка, а не моя. Простите ей.
— Ну-ка, ну-ка, — сказал я, обрадованный тем, что Тоня, оказывается, вообще в состоянии выдумывать.
И Тоня, зардевшаяся от волнения, начала петь какую-то известную песню, вернее, то, что считалось песней в те времена, ну там обычное… что ты мне звонишь… я тебе звоню… что ты мне не позвонила… или я тебе не позвонил… В общем — ты ушла, и я ушел, и оба мы ушли… В этом роде. То есть то, что сейчас на эстраде считается музыкальным авангардом, который больше всего похож на тираж и ширпотреб. Я сначала так и воспринял. А в чем же новинка? Новинка-то в чем? Выдумка? Чужое выдумывать нельзя. Выдумать можно только свое. А потом заметил, что выдумка-то не в песне, а в аккомпанементе. Она играла на арфе не так, как положено, вернее, не так, как общепринято, не перебирала струны пальцами, а играла на арфе, как на гитаре, и то сегодня — «чесом». Играть на арфе «чесом» — этого я еще не слышал. Я тут же подумал: «А почему бы нет?» Ведь это и на гитаре не так давно было новинкой. Но я тут же подумал — а перспективна ли эта новинка? Для новой цивилизации, по крайней мере. Или этой новинкой тоже можно будет воспользоваться? А как проверишь? Будущего-то мы не знаем. По крайней мере, в области психологии или, как раньше говорили, в области душевной жизни. Как проверишь?
— Тоня, — сказал я, — один мальчик притащил домой черепаху, маленькую. А когда его спросили: «Зачем он это сделал?» — Мальчик ответил: «Говорят, черепахи живут 200 лет. Я хочу проверить».
Тоня засмеялась. Как человек, честное слово.
И тут я впервые подумал, что похоже, что в этом пункте магазинных дьяволов, в этом пункте прокол. В чем прокол — я тогда еще не знал, но почувствовал.
Это ни хрена себе! Я поставил перед собой задачку — переменить цивилизацию! Да еще при помощи искусства! Ни хрена себе!
А вы заметили, какая в этом году неестественная, нереальная зима? А-а? Вот то-то! Все время кажется, что она вот-вот кончится, а она не кончается. Уже пасха прошла — май скоро, а все холодные ветры с Арктики. Это надо же — словами уговорить переменить цивилизацию! Опомнитесь! Иначе худо будет! На кого это действует? Уговоры… уговоры…
От чего беречься-то? Доходы доходами, а помирать каждому не хочется. И придется частью доходов пожертвовать. То есть пойти на расходы.
Закон рынка… Закон рынка… Может, у рынка и есть закон, но сам рынок необязательная выдумка. Что такое рынок? Это место, 1де добывают деньги. Не те добывают, кто что-то произвел, а те, кто с этим произведенным химичит. Сейчас этим местом пытаются сделать шарик земной. Но уже не всему шарику годится такая выдумка.
Конечно, деньги сразу не отменишь. Но ведь было время, когда и деньги выдумывали, а дальше пошло развитие этой великолепной идеи.
Деньги можно скопить. Пустить в рост и прочие радости… А сейчас кажется, что только так и можно жить, хотя каждый день видно, что это чушь. Но стараются не обобщать. Контрабасы в Благовещенске остались теми же самыми, какие и были. Только стоили раньше 380 рублей, а когда их никто не брал — 2 рубля штука. Четыре рубля пара — те же самые контрабасы. Вот тебе и деньги! Чему они соответствуют? Контрабасы соответствуют, на них играют, а цена на них ничему не соответствует.
Ценообразования… Ценообразования… Мать их… Вот смешной мужик, к примеру, который был в Одессе 1 апреля, когда там производилась все одесская юморина, рассказывает, как в Одессе зарождается юмор, и делится передовым опытом.
Он на рынке спросил у тетки:
— Почему все на рынке продают семечки по 20 копеек — стакан, а вы по 30 копеек за стакан?
Она ему ответила:
— Потому что 30 — больше.
Это — юмор, то есть правда, высказанная не вовремя./ Она ведь правду ему сказала, истинную, но высказала неожиданно, не вовремя — потому и смешно. А ведь действительно никаких других причин для тридцати копеек не было. Все остальное — хорошо оплаченные профессорские соображения. А эта тетка бесплатно сказала. 30 копеек за стакан потому, что 30 больше, чем 20. И все. Простите, но я не знаю ни одной страны, ну не знаю, и точка, кто знает — пусть меня поправит, но я не знаю ни одной страны, кроме России, где бы над деньгами уже начали посмеиваться. Еще робко, правда, потому что не знают, чем эту тысячелетнюю выдумку заменить, но уже начали. А как дойдут до хохота — тут деньгам и конец! Конец дьявольской выдумке, подсунутой человеку!
Ну ладно, пойдем дальше. Я, конечно, не выдумал, чем заменить деньги, но я был обрадован чрезвычайно тому способу, каким Тоня придумала играть на арфе. Так ведь действительно никто не играл. Нет, конечно, я сразу понял, что и этой их выдумкой можно будет воспользоваться. Появятся ансамбли, которые будут играть на арфе «чесом» и 0удут за это получать большие «башли» от слушателей, которым это будет любопытно какое-то время… Потом мода на это утихнет. «Башли» уменьшатся, и снова начнут платить за старый способ. Но это, я думаю, ничего. Главное было не в этом. А главное было то, что обнаружилось, что даже Тоня, на которую у меня сразу же не было никаких надежд, оказалось, что даже Тоня способна выдумывать. А если уж Тоня способна выдумывать, значит, я на верном пути! Какой это путь — я еще не знал, но я уже понял, что путь верный. Потому что каждый способен выдумывать, каждый, если, конечно, захочет, а Тоня захотела. Вот какая штука. И я продолжил поиски универсальной выдумки.
Сначала я рассмотрел такую выдумку своего друга, как найти способ договориться. Я детально рассмотрел этот способ и понял, что это уже преувеличение и неуниверсально.
…Судите сами. А вдруг договориться и в принципе невозможно?
Вдруг у людей не только разные языки, но и разные способы на них реагировать.
Вот возьмите кошек и собак: они же враждуют всю дорогу. И выяснилось, что «уголок» этой вражды — первичные обстоятельства, некая мелкая хреновина, лежащая в основании всего.
Так вот, «уголок» исконной вражды кошки с собакой как будто состоит в том, что когда собака машет хвостом — она проявляет дружелюбие, а когда кошка машет хвостом — это для нее приготовление к нападению.
Один и тот же хвост у собак и кошек означает разное. Вот и как тут поверишь? Вот и сражаются.
Вот говорят, кризис доверия, кризис доверия… Будет доверие — сговорятся! А как это доверие установишь? Если у кошек и собак — хвосты разные. Хвостиные жесты. Что на собачьем языке означает дружелюбие, то на кошачьем означает — готовься! Сейчас нападу. А как другому доверять до конца? Мало ли что у него на уме? Мало ли? Ну, вот я, например, заявляю, что я люблю людей. А как проверишь? Ведь это только я знаю. А придет злодей, скажет, что он любит людей, значит, в том числе и меня. А потом меня же и съест.
Нет, тут что-то неуниверсальное. А годилось не просто нечто хорошее, а такое, которым воспользоваться было бы нельзя в корыстных целях и меня же и облапошить.
Вот я знаю одно великолепное стихотворение Аветика Исаакяна. Там рассказывается о том, как голубь, раненный в грудь, упал на берегу ручья. Ручей голубю сказал: «Хочешь, я тебя излечу? А ты мне за это отдашь то, что всего дороже». Голубь, естественно, согласился. Ручей излечил его и говорит: «А теперь отдай мне крылья». А голубь ему говорит: «Фиг тебе!» Ну, может быть, не «фиг тебе», а как-нибудь по-другому, но смысл, по-моему, тот же самый. И как вы думаете, что сказал ему ручей? Самое трогательное еще только начинается. Ручей не только не обиделся. Ручей ему сказал: «Лети… Лети… И рабскому миру скажи, что свобода дороже, чем жизнь!» А?! Каково?! Лихо? — Лихо! Все бы ничего! И чья жизнь? — Не сказано. А раз не сказано — магазинные дьяволы этим и пользуются.
Если б было сказано — своя свобода важнее, чем своя жизнь, это одно. Каждый имеет право так считать, а ведь если своя свобода важнее, чем чужая жизнь, то это уже дела другие, и этим уже можно воспользоваться. Так что и этот случай не универсальный.
И я продолжил поиски универсального выхода из имеющейся цивилизации. Выхода такого, каким нельзя было бы воспользоваться в корыстных целях, во вред человеку.
Я бы еще долго занимался бы поисками иной цивилизации, и вообще — неизвестно, на что я надеялся. Цивилизация существует тысячи лет, а тут приходит один и хочет ее отменить. Эко!
На что же я надеялся? Я надеялся на то, что мне легче, чем остальному человечеству. Остальное человечество еще не знало про «закон случайности», а я уже знал. Я ждал случайности, основного закона живой жизни, потому что неживой жизни не бывает. Неживая только аппаратура и вытекающий из нее магазин. И представьте себе — дождался.
Я еще раньше, давным-давно, смутно чувствовал, что если я хочу узнать нечто важное, я должен приглядываться к женщинам и детям. К женщинам потому, что они детей родят, а к детям — потому что они у женщин родятся. Но попадались, правда, еще и мужчины. Но мужчиной был я сам, так мне, по крайней мере, казалось. И кроме того, мужчины, даже самые шустрые, все тоже вырастают из детей, то есть из тех людей, которые все осваивают по первому разу. Все сплошь гении, и их еще не перевоспитали во взрослые. Сына я знал. Я знал, что он «такой молоденький, лихой и голенький», и знал, что он приносит идеи, достойные удивления, но я не ожидал этого от Тони. Я не ожидал, что она еще способна выдумывать. Она открыла способ играть на арфе «чесом». Это сбивало меня с толку, хотя, казалось бы, я ничему не привык удивляться, вернее, привык ничему не удивляться.
Мне казалось, что в эстраде уже ничего нельзя придумать. Она вся покупная и продажная, давно уже не действует на душу, а только на уши, и каждое произведение эстрадное отличается от другого эстрадного произведения только своими децибелами. Одни децибелы медицински вредные, другие — все еще медицински терпимые. Вредные ведут к глухоте (после 90 децибел допустимых), а невредные — оставляют надежду что-то услышать.
Песни эстрадные отличаются друг от друга не словами, которых все равно нельзя услышать из-за шума, и слава богу, потому что, когда удается услышать слова, то не то чтобы непременно хотелось умереть, но возникало сожаление — зачем я родился? Но так думать было несправедливо, и я гнал эти мысли. Потому что допрыгаться до смерти, в этом было по крайней мере хоть что-то самодеятельное, зависящее от меня, но уж в своем рождении я был начисто неповинен.
Когда меня зачинали и я рождался, тут уж меня, как и всех других, ни о чем не спрашивали. И в том, что я родился, моей вины нет, как нет и заслуги. Хотя есть верование и, стало быть, теории на этот счет, что и тут я ошибаюсь, и что факт моего рождения есть последствия предыдущих моих смертей, хотя и в других обличиях. Так что на все есть свои теории.
Но меня останавливала мысль, которую однажды высказал мой сын моей супруге, когда она однажды разбушевалась, хотя для этого не было видимых и невидимых причин. Сын мой тогда ей сказал:
— Мама, ты, главное, не вникивайся.
И я решил «не вникиваться»!
Что же мне оставалось? Да почти ничего! Только ожидание. Но я сам себя стреножил.
И я все-таки дождался! И притом в той даже области, какой тоже не придавал значения, и не придавал значения именно в силу ее распространенности. Напрасно думают, что труднее всего разглядеть редкое и неожиданное. А все как раз наоборот. Когда его много, о нем не думают, оно как воздух. Его замечают, когда дышать нечем. Таежному жителю труднее заметить воздух, чем горожанину с асфальта. Это же ясно. Примелькалось.
Чего было больше всего в эфире? Конечно, эстрады. Многие так и считали, что хорошая жизнь — это когда много разной мануфактуры и много эстрады. Хотя от мануфактуры и эстрады хорошей жизни не прибавлялось, а прибавлялась только судорожная. Но это на чей вкус!
Как я мальчишкой любил джаз! Даже описать невозможно. Я честно в школе изучал утверждение, что джаз — это музыка для сытых. Пока однажды не сообразил — ну и что плохого? Что плохого, что люди сыты? Разве мы сами не к этому стремимся? Накормить всех, а не только богатых. А если сытые захотят слушать другую музыку — что в этом плохого? Формула «музыка для сытых» не то призывала нас всю дорогу быть голодными, не то обещала, что сытые и богатые — это одно и то же. Но в любом случае, какое отношение это имело к музыке и джазу?
Никакого! Как мог Горький не заметить, что это была музыка улицы? Это же слышно каждому. Она была ресторанная музыка, ну и что? Где ее было играть? Играют там, где платят. Раньше и за старинную музыку платили, за классику платили. А кто платил? Те же сытые. Но классика уже забыла, что она зародилась на улице. А джаз ей это напомнил.
Неужели было незаметно, что в музыку вошла улица? Голодная, негритянская улица! Которая пела и играла свою музыку. И напоминала каждому, откуда он произошел. И доходила именно до души.
А старинная европейская музыка, которую слушали в аккуратных залах, уже давно ни на что не влияла, кроме как на такие же аккуратные вздохи и чванные эстетские улыбки. Нет, джаз было другое. Джаз нес надежду на то, что улица не задавлена. А пока она не задавлена, все еще может образоваться. Потому что жив человек Адам со своими грехами. Тут даже этнография потихонечку приходила к выводу, что Адам был негр, черненький, абориген, из которого потом произошли все разноцветненькие и чванные.
Вот что такое был джаз, в котором не услышали протеста! Но потом и его купили. И стали джаз выпускать, как ширпотреб, как музыкальную мануфактуру. Но я не мог понять, что в сегодняшней эстраде видят те, которым она нравится? Потому что уж чего-чего, а новинки в нынешней эстраде не было начисто.
Сегодняшние металлисты (хеви-металл), эстрадные, которые разграбили все сегодняшние свалки вторсырья, а издавали музыку, которая была похожа на песни заик, и как раз, когда я так решил, я услышал… Естественно, случайно включил и услышал и увидел передачу о том, как лечат заик. Вот только тут до меня дошло.
Прекрасная милая женщина, доктор, нашла способ лечить заик и показывала это наглядно, при всех. Она брала любого заику, а их там был целый зал, просила его выйти на эстраду и спрашивала, как его зовут. И несчастный человек что-то лепетал, заикаясь. И тогда доктор просила его поверить только в одно, только в одно, что человек может все. Любой. В том числе и заика. И что он может на глазах у всех начать говорить, не заикаясь. А заика к тому времени уже всякую надежду потерял. Она возвращала ему надежду. Потому что ведь и он когда-то был не заикой.
Начиналось у всех по одной и той же причине. Что, как бы человек ни говорил — его одергивали и все время поправляли. Всегда находился кто-нибудь, кто его поправлял. Кто криком, кто теорией. И человек пугался, начинал пристраиваться к кому-то бездушному. Начинал заикаться, начинал не уметь произнести даже свое имя и фамилию. Потому что чересчур много правил для отдельного, человека. И душа его костенела. И вот эта прекрасная женщина-доктор говорила ему:
— Миленький, стисни низ живота, а верхнюю часть (ну там, где сердце) освободи. Как тебя зовут?
И ошеломленный заика четко произносил свое имя и фамилию. А потом то же самое делал с другим заикой. Обучал тут же, на глазах.
Женщина говорила:
— Человек может все!
И это подтверждалось наглядно. Это было как чудо. Чудо любви и освобождения. От идиотских правил, душегубных правил, скопившихся в цивилизации. А то ведь заиками становились все умные и честные, которые хотели выполнить все правила. Но это было сделать невозможно. Тогда они наглядно, на глазах друг у друга, посылали правила… посылали их все. Как можно подальше. И начинали говорить.
Потому что человек может все!
И я это видел сам. И потому все понял. Потому что был уже к этому готов. И понял, что потому вся эта сегодняшняя эстрада, против которой я так негодовал, — это самостоятельная попытка излечиться от заикания. Потому что, как ни сыграй — все как-нибудь, да не по правилам, все что-нибудь не так. И среди своры нападающих был и мой лай, увы, мой лай, лай моих претензий. Потому что они ни на кого не походили, ни на одно из правил, даже на мои. И им, чтобы перестать заикаться, нужно было прежде всего послать их… Они это и делали.
Прислушиваться к себе и совершать новинки и музыкальные открытия они будут потом. Сначала надо было перестать заикаться.
Вспомнил, как зовут прекрасную женщину-доктора. Случайно вспомнил. По-живому. Ее зовут Юлия Борисовна Некрасова.
Люди начинают заикаться, потому что начинают говорить не то, что думают, и привыкают к этому, потому 41*0, что бы они ни говорили, всегда идет одергивание и попрек: «Не так, не так, не так… не то, не то…» Чего же удивляться после этого? Заиканию? Сначала надо наладить нормальную речь.
Окрыленный успехом, я начал искать более целенаправленно. Женщины и дети, женщины и дети… Если первая находка пришла от лица Тони, то вторую я мог ожидать от своего грандиозного собственного сына. А от кого же еще? И я удвоил внимание.
Он по рождению мальчик, значит, в перспективе будущий мужчина, и отличается он от будущих мужчин, в том числе от меня, только одним — ему пять лет, с половиной. Значит, все идеи мужские у него первичные, а не переученные взрослыми поправками, хотя он иногда уже и заикается. Значит, влиять начало и на него. Надо было торопиться.
Сейчас в своем лучшем виде он такой «лихой, молоденький и голенький». И уже маме велел «не вникиваться». Поскольку он будущий мужчина, он круглые сутки сражается. Как просыпается, так и начинает сражаться. И я ему не мешаю и даже покупаю пластмассовых воинов. У него их целая армия. Есть и пираты.
— А зачем тебе пираты? — я спрашиваю. — Они же людей резали. Ты тоже хочешь людей резать?
— Нет, — говорит он, — я же понарошку.
И вижу, что он тоже «не вникивается». Понарошку — это значит спорт, самое распространенное мужское занятие. И тоже незаметное, как воздух. Так его много. Но меня это уже не смущало.
И вот однажды… О, это великое «однажды»! Неужели никто не замечает, что все живое бывает только однажды, дважды не бывает ничего. Дважды, трижды бывает только в машине. А в жизни — только однажды.
И вот однажды сын приходит и говорит:
— Папулечка! Папулечка!
— Ну, чего? — спрашиваю.
— Я игру придумал.
— Какую же? — поинтересовался я.
— Футбол! — говорит он.
— Ну, футбол не ты придумал… — говорю, потому что знал твердо, что футбол придумал не он.
Но сын сказал:
— Я другой футбол придумал.
— Какой? — спрашиваю.
— Надо каждой команде дать по мячу…
— Чего?… — говорю. — Чего?
— И каждая команда будет забивать мяч в свои ворота.
— Ну и где ж соревнование? — спрашиваю.
Но судьба меня помиловала, и я не успел пропустить открытие.
Нет, вы представляете?! Выходят две команды на футбольное поле, у каждой свой мяч, и они начинают забивать мяч в свои ворота. Мы — в свои, они — в свои. И сколько я потом ни проверял эту идею, я видел почти ее универсальность, и не мог придумать, как этой идеей воспользоваться в корыстных целях.
А что? А что? Тут что-то было! Во всяком случае, запахло проколом, запахло проколом всей дьявольской системе. А как пахнет прокол? Так и пахнет! Злым духом. То есть магазин стал очевидно пованивать.
И тут я впервые неизвестно чему обрадовался. И больше всего меня обрадовало, что я обрадовался неизвестно чему. А тут еще случайно приходит сын и говорит:
— Папа, а что больше: небоскреб или египетская пирамида?
Я смутно помнил, что, кажется, небоскреб. И говорю:
— Небоскреб не больше, а выше. Но уж что наверняка выше, и я знаю это точно, так это Останкинская телебашня. Она — 550 метров.
— Ого! — говорит сын.
— Ну да, она больше чем полкилометра.
А сам думаю: «Она ведь не только этим больше. Уже небоскреб отличается от пирамиды тем, что в небоскребе живет куча народу, живого, а пирамида хранит одного сушеного покойника. А уж с телебашни идут передачи для миллионов живых людей».
Передачи эти, правда, так себе. Но это уж не вина тех, кто слушает, а вина тех, кто эти передачи изготовляет. И миллионы живых людей вынуждены слушать разнообразную музыку, которая отличается друг от друга только подробностями заикания. Вынуждены слушать «Соло для кильки в томате» и вникать в стиль «Сервелат». Или вникать в лекции, в которых людское неумение жить друг с другом цивилизованно объявляют духовной жизнью.
Но радость не проходила. И я вдруг понял, почему.
Заканчивалась «Утренняя почта», в которой было много шелупони и вторсырья, но была прекрасная лекция искусствоведа, над которым смеялись. Лекция фактически не отличалась ничем от любой искусствоведческой лекции, но была глупа настолько, что это было уже видно.
И вдруг последним номером пошла настоящая песня. Было видно, что она настоящая. Было слышно, что она настоящая. Хотя ни одного слова понять было нельзя, потому что ее пели на голландском, кажется, языке. Но песня была лихая, минорная, окраинная. И было понятно, что песня живет. И ни хрена с ней не сделаешь. Женщины за певицей делали какие-то движения распахивающимися платьями и показывали свои невероятно длинные ноги, но это не имело ни малейшего значения. Потому что все перекрывала песня. В ней была энергия, ритм, минор отчетливый. И лихость, равная лихости купринского «Гамбринуса». И душа разговаривала с многомиллионной душой.
— Посмотри, какие ноги… — сказала жена, желая сделать мне приятное, зная, что я этим делом увлекаюсь.
— Какие ноги! — закричал я. — Какие, к чертовой матери, ноги! Ты слышишь песню?!
— Только не плачь, — сказал сын, который заметил, что я реву только от радости, а на остальное плюю.
Но все равно, это его беспокоило.
— Сынок, я не вникиваюсь, не бойся, не вни-киваюсь, я просто радуюсь.
И тут у меня впервые зародилось сомнение в отношении самой лекции о конце света лет через сорок. Лекции, в атмосфере которой я жил все это время. И сомнение зародилось именно потому, что лекция была научной. Нет, я не сомневался, или почти не сомневался, в наблюдениях, на которых лекция основывала свои выводы, в эмпирических фактах, диструкции биосферы и человека. Я засомневался в ее выводах, и сомнения для этого давала сама лекция. И в этой переоценке меня мощно поддерживал «Закон Случайности», живой случайности, которую вычислить было нельзя, поскольку она живая.
Вот вам два примера.
Один из прежней жизни, другой — из сегодняшней. Я слышал много версий о гибели Эрнста Тельмана. Какая из них правильная, я не знаю. Я не историк. Но одну версию о том, почему не удалось спасти Эрнста Тельмана, я сам читал в послевоенном «Огоньке».
Была целая организация, которая готовила его побег из тюрьмы. Кажется, из Моабита. Все было продумано. Все было рассчитано. Все буквально. А бегство сорвалось. Знаете, почему? Потому что кто-то, чтобы не заскрипел замок от ключа и дверь камеры открылась бы тихо, пипеткой залил в замок подсолнечное масло. И капля подсолнечного масла вытекла из скважины, и проходящий мимо охранник, заметив эту каплю, ничего не сказал, а прошел к сигналу тревоги. Поднял тревогу. Побег сорвался. Вот так!
Можно было эту каплю предусмотреть, а тем более предусмотреть, что капля вытечет из скважины? Нет, этого вычислить было нельзя. Но это случилось.
И второй случай. Передали, что запущен на орбиту модуль, который должен был состыковаться с космической станцией. Все было высчитано, сами понимаете… Компьютерный век! И баллистика, и всякое такое… А через день передали, что стыковка отменяется, и модуль снова запущен на стыковку. Чего же не рассчитали? И вот модуль состыковался, но неплотно. Образовалась щель, и космонавтам пришлось выйти наружу, глазами посмотреть — что же там произошло? Что же оказалось? Оказалось, что между модулем и станцией застрял кусок какой-то материи.
Можно ли было рассчитать появление этой тряпки? Нет. Потому что появление этой тряпки было живой случайностью, и кто-то был виноват. А когда тряпку выдернули в космосе, то модуль благополучно притянулся, и щель пропала…
Я смутно почувствовал, что в этой лекции, в атмосфере которой я жил все это время, есть какая-то щель, и, значит, надо было искать тряпку или каплю масла в самой лекции.
А время шло, и киногруппа обрастала нужными ей кинопомощниками, и к одному я особенно присматривался, потому что он был похож на Апостола. Свела нас — ну конечно же — песня. Пел ее покойный Бернес. Песня про то, как солдат вернулся с фронта и пришел на могилу жены своей Прасковьи. И солдат на могиле своей жены справлял поминки. Солдат, который «пришел к тебе, Прасковья, и три державы покорил. И там солдат пил из кружки вино и горе — пополам»…
И мы с ним сошлись на этой песне и понимали, что хлюпаем носами не от горя, а от радости, что сказаны такие вот слова. И мы с ним часто встречались и пили. Из кружки. Вино и горе пополам. И звучала на всю квартиру «Прасковья». И жена моя негодовала. Совершенно справедливо.
И вот сегодня шла передача последних известий, в которых сообщалось, что на аукционе продана картина Ван Гога «Подсолнухи» кому-то в частные руки за 36 миллионов долларов. Ну, в общем пьяный бред. Особенно было интересно это слушать, когда у меня наступила переоценка ценностей — денежных, во всяком случае, толчок к которой дал ансамбль «Кукуруза», и история с контрабасами — 4 рубля пара.
И тут ко мне пришла в голову мысль.
Вот она. Если вся наша планета вместе с биосферой и многими другими сферами и с человеком, живущим в ней, явилась результатом милли-онолетнего творчества всей остальной Вселенной, то я подумал: «Если человек почти допрыгался до разрушения этой биосферы, после которой вся живность на Земле может однажды не проснуться, даже без всяких атомных бомб, то я понял, что уж если миллионы лет творчества всей Вселенной привели к созданию меня, удивительного и необыкновенного человека, который уже протрезвел и выучился ходить на задних ногах, то паника насчет антропогенного разрушения Вселенной — предусмотрительность, потому что творчество — это творчество. Его не вычислишь. И неизвестно, что придумают люди, которые к этому способны и для этого приспособлены законом живой случайности…»
Вообще надо сказать, что к вычислениям я отношусь сдержанно. Нет, конечно, все неживое, аппаратурное вычислению, конечно, поддается. Но вот как дело доходит до вычисления времени, начинаются разночтения. Потому что никто еще не доказал, что время неживое. А вдруг одна сторона времени именно в том и состоит, что она живая реальность. И вот уже Эйнштейн доказал, что время относительно. Относительно чего? Относительно какой-то другой реальности?
У нас дома два будильника — у меня и у жены. Вот сын приходит и говорит, что мамин будильник лучше. Я говорю: «Чем?» А сын говорит: «Он быстрее ходит».
Для нормального вычислителя «быстрей» — это просто мамин будильник торопится, спешит и, значит, неправильный. А почему неправильный? Почему, собственно? Вот сын считает, что так лучше, когда часы спешат. И я не могу утверждать что прав я, а не он. Сомневаюсь, что и кто-нибудь другой может.
Просто мы с сыном измеряем разные стороны времени. Я измеряю его неживые признаки: ну, скажем, когда придет следующая электричка, потому что я знаю расписание. А она неживая, электричка. А сын измеряет живую сторону времени, всю заполненную непредсказуемыми живыми толчками случайности. По тем же часам сын изучает человеческий фактор, а я работаю с аппаратурой. Вот и получается смешно.
Мне уже стало хорошо жить. Надежда, надежда, реальная надежда.
Потому что если лекция права, то мы появились на свет как последствия миллионо- или миллиарднолетнего творческого акта всей Вселенной, и у нее хватило на это пороха. Да, это обнадеживало. Но так как ко Вселенной принадлежал и я сам, живая пылинка Вселенной, то я и стал выбирать и думать, что же я могу предложить для того, чтобы это избавление случилось реально?
Из кого состояла Вселенная? Моя. По крайней мере, Вселенная этого романа? Из Тони, грандиозного сына, ну и еще нескольких человек. Я не помнил, сколько миллиардов людей населяют Землю. Неужели я хотел придумать способ их изменить, если миллиарднолетняя Вселенная сделала их такими, а не другими. Конечно, нет. Кто я такой, чтобы менять людей, если я слишком люблю тех, которые уже есть. Но я мог повлиять на их повадки. И пустить их энергию в мирных целях.
Пришел сын и сказал:
— Ты мне отдаешь последнюю конфету «Птичье молоко»? Чтобы попить с ней чай? Я с ней никогда не пил чай.
Я говорю:
— Конечно.
— Тогда я у тебя здесь полежу…
Спрашиваю:
— А почему ты на диване не можешь полежать?
Он заявил:
— Здесь уютней.
Я ему говорю:
— Ты знаешь кто?
— Кто? — спросил он.
— Ты молодой нахал.
— Почему? — справедливо спросил он.
— Потому что ты пользуешься своим преимуществом. Ты знаешь, какое у тебя преимущество?
— Какое?
— То, что я люблю тебя. И ты мне не даешь работать.
— А ты скажи волшебное слово, — сказал он.
— А-а-а, пожалуйста. Топай отсюда.
А он мне шепотом сказал:
— Посиди здесь подольше…
И я вспомнил, что он меня предупреждал еще раньше:
— Если ты хочешь, чтобы я тебе не мешал работать, попроси мешать тебе работать. А я сделаю наоборот…
Как же я мог забыть?
Очевидно, все люди делятся на тех, которых просят, а они делают наоборот, и на тех, которые делают, если их о чем-то попросишь. Сын был мужчина. И было похоже, что он сделает наоборот, если его о чем-нибудь попросишь. Я так и сказал. Сын встал и, деланно сгорбясь, ушел, чтобы не мешать мне работать. И я продолжал пересматривать ценности, одновременно вспоминая, а что я смогу предложить сам? Позитивного?
…И тут я вышел на балкон и увидел, что снег грязный, он был покрыт накопившейся копотью и явно таял.
А лично я мог предложить изготовление мясной пищи не из живых существ, умерших естественной смертью, и не из живых существ, специально разводимых и забиваемых на бойнях, а изготавливать мясную пищу из саморазвивающихся клеток, прямо в бочках, как грибы. Не все ли равно, из чего делать «каклеты»?
Еще я мог предложить фактический вечный двигатель, на который в реальной жизни никто не обратил внимание, но его чертеж и идею опубликовали в журнале «Студенческий меридиан». И начали поступать письма. Оказалось, что идея теплового насоса, как его называли, не моя и не нова — и хрен с ней, чья она, лишь был бы он осуществлен. И ссылались на патенты и профессора, который этим занимается.
Еще остались следы индейской цивилизации: кукуруза, картошка и помидоры, — фактически все огородные плоды, и, значит, вставал вопрос о способе приготовления земли, которую теперь пахали чуть ли не танками, потому что основной злак были пшеница и рожь, а огородные культуры индейцами возделывались при помощи заостренной палки. И я уже придумал барабан с длинными шипами, который надо было катить по полю. И полые шипы, заменяя палку, втыкали бы в нетронутую землю зерна огородных культур. Это было кое-что. А остальное должны были сделать другие.
И тут пришла Тоня, окрыленная своим успехом в эстрадной музыке.
— Слушай, — говорит она, — приятель моего мужа, ученый человек, сказал мне, что все персонажи в твоих книжках — выдуманные, и что это ты сам и есть. Это правда?
— Наоборот, — возразил я. — Литература — это правда, высказанная под видом брехни.
— Зачем так? Так сложно? — спросила она.
— А как? Как по-другому с жульем разговаривать? Которое заперлось в магазине на воровство?
— Ваще-то так… — сказала она. — Я вот читала твой роман про Сапожникова. Убедительно.
— Вот это главное, — сказал я.
— Там сказано, что рак можно лечить резонансом…
— Чего-чего? — спросил я.
— Или я неправильно говорю?
— Правильно, — сказал я. — Откуда ты знаешь слова?
— Сегодня все знают все слова.
— Тоже правильно. А на хрена тебе читать книжки?
— Для самообразования, — сказала она. — Я подковываюсь.
— Тоня, — говорю, — а ты способна позволить, чтоб тебя обворовали?
— Если соображу, то неспособна.
— А если оттого, что тебя обворуют, будет спасена куча людей? И дети?
Она посмотрела на моего сына, подумала и сказала:
— Ващё-то это дело другое…
— Вот и я-так думаю, — говорю. — Вообще-то это нестрашно, — говорю. — Даже Америку, и ту украли.
— Как это?
— Ее открыл Колумб, а назвали Америкой по имени Америго Веспуччи.
— Я не знала, — сказала Тоня.
— Ну мало ли… — сказал я.
— А куда ты клонишь?
— Сейчас скажу… — И я приосанился. Так я лучше выглядел. Прическа, правда, была не то «нас бомбили — я спасался», не то «без слез не взглянешь», но так утверждала моя жена, а я ей не верил в этом вопросе.
— Тоня, — я говорю, — знаешь, почему теперь нет такой болезни, как оспа?
— Знаю, — отвечает, — так ведь прививки…
— Ну правильно, а кто их изобрел?
— А мне почем знать?
А я говорю:
— Считается, что их изобрел английский врач Дженнер.
— Ну и что?
— А то, что он не изобрел, а взял наблюдение одной бабки, которая заметила, что коровы, которые переболели оспой и остались живы, заражают других коров, и те после этого не болеют вовсе.
— У какой бабки? Как фамилия?
— Фамилии история не сохранила.
— Ну и что? — сказала Тоня.
— История не сохранила, а люди перестали болеть. Так что люди перестали болеть не от профессора Дженнера, а от безымянной бабки. Как ты считаешь, кто кого облапошил?
— Понятно, — сказала Тоня. — Не пойму, куда ты клонишь.
— Вот куда, — говорю. — Когда я додумался, что рак, раковые клетки можно бить резонансом…
— Так ведь не ты додумался, а Сапожников?…
— А не все одно… Я разговаривал с онкологом. Когда я растолковал ему что к чему, я увидел, что он понял. Ну что, будете этим заниматься? — спросил я. А он мне знаешь что ответил?
— Нет…
— Все правильно… Но наука пошла другим путем. И я ему говорю. — Какой путь… какой путь? — А вы что сами-то, застрахованы? А мать ваша застрахована? От рака? — Он ничего не ответил и перевел разговор, — и дальше говорю. — Тоня, ты хотела бы спасти мир?
— От эпидемии?
— Не только от эпидемии. Достоевский утверждал, что мир спасет красота.
— А что? — сказала Тоня. — Шикарно было бы.
— Я почему-то верю, что теперь у тебя все получится. А если твою фамилию никто не узнает?
— А на хрена мне?
— Тогда подкинь эту идею своему профессору.
— Если он поверит — поверят и другие.
— Почему?
— Потому что он открытие припишет себе. Вот поверят ли только… Сомневаюсь…
— А не сомневайся! — сказала Тоня. — Сделаю разрез повыше — поверят.
— Тоня, тебе цены нет, — сказал я.
— А я знаю, — сказала она.
Все сходилось. За исключением нескольких деталей все сходилось. Но окончательно все сошлось однажды на улице. Я встретил Апостола из киногруппы, который, как и я, любил песню о Прасковье.
Была весна. Снег в городе почти стаял. Зима кончалась, и на балконах и карнизах хлопотали необразованные воробьи, такие пушистые маленькие динозавры, которых тоже пытались истребить — хотя и не у нас — на основании научных методов своего времени, но вот они живы и подтверждают одно наблюдение, сделанное юмористом, что «редких животных записывают в Красную книгу, а часто встречающихся животных — в книгу о вкусной и здоровой пище».
Я увидел, что киноапостол идет хмурый. Я поинтересовался — в чем дело? Он сказал, что Тоня меня «несет».
— За что? — в свою очередь, спросил я.
— Ей передали, что ты против того, чтоб она играла роль в твоем сценарии.
— Кто передал?
— Да режиссер… Как его?…
— Ефим Палихмахтер?
— Ах ты Палихмахтер! — сказал Апостол.
— Такой фамилии нет. Я ее выдумал. Я всегда выдумываю, когда вспоминаю слово «степь».
— Степь? — удивился он.
— А-а-а! — говорю. И рассказал ему то, что вы прочли. В самом начале. И я первый раз сказал другому человеку то, что никому не рассказывал про степь. Не рассказывал потому, что первый раз, фактически только сейчас, додумался до того, что же там было на самом деле, в этой степи. А там был степняк на лошади, который смотрел на эшелон. Потом приложил руку с висящей на ней нагайкой к виску и умчался, как лодка по воде.
Сколько лет прошло, а я все думал, что бы это означало? И вот сейчас я сделал открытие.
— Какое? — спросил Апостол.
Он хотел покрутить у виска пальцем, глядя на чокнутый эшелон, но ему мешала висевшая на руке нагайка.
— Не может быть, — сказал Апостол.
— Фома неверующий, — сказал я. — Впрочем, это случалось и с апостолами.
— Кстати, — поинтересовался он. — Как там было у апостолов?
— Апостола Фому прозвали неверующим за то, что он не поверил своим глазам и вложил персты свои в раны сошедшего с креста Иисуса.
— А что? — сказал Апостол. — Сейчас проверим.
По улице шла Тоня, «модная девчонка», в зимней лохматой куртке и юбке, которая была макси, но имела сзади разрез до самого до «ура». В разрезе все время мелькали ее ноги. А рядом — муж Тони с возбужденными глазами. Когда Тоню спрашивали, кто ее муж, она отвечала: «Работник интеллектуального труда», потому что не знала, что это такое. Но поскольку и я не знаю, что это такое, то оставим все, как есть.
— А знаете… — сказал работник интеллектуального труда. — А ведь я совершил великое открытие.
— Какое? — живо поинтересовался я.
— Я открыл, как лечить рак, — сказал он.
И я увидел его торжествующее лицо. Было понятно, кто рассказал ему об этом. Я было хотел сказать «работнику», что… Но меня волновала судьба открытия.
И у меня отлегло.
Все сходилось.
Стройность
Повесть
А все оказалось прозаическим до ужаса.
Дело происходило на кухне, на старой квартире еще, помнится, вечером — потому что горел свет.
Почему-то теперь мне кажется, что свет у нас на кухне был тусклый. Хотя все было как раз наоборот. Свет на кухне был самый яркий, потому что там не было абажура, или там плафона, на лампочке. Но квартиру и кухню я потом опишу, если успею. Сначала главное…
Эта тетка, как я понял, очень жаловалась на какого-то человека, который не то самодеятельность вел, не то что-то научное. Причем жаловалась не на его действия, до которых ей не было никакого дела, но тем не менее это ей мешало.
А я слушал ее и довольно равнодушно поддакивал: «Да… да… конечно…» А самому было практически все равно. И только возникали в ее рассказе какие-то подробности чьей-то жизни, и именно они были любопытны, а все остальное не любопытно. Но не в этом дело.
Дело в том, что из ее бурчания и негодования возникал облик какого-то довольно странного человека, а я от странностей в то время уже устал. Вот они где у меня были, эти странности! И мое поддакивание, довольно равнодушное, впрочем, держалось именно на этом обстоятельстве. Но потом она сказала:
— Или вот, к примеру, такое… Он, например, говорит, что не сказка украшает жизнь, а жизнь украшает сказку… Не понимаете?
— Нет, — говорю. — Не понимаю.
— Он утверждает, что в основе всего лежит сказка. А жизнь либо украшает эту сказку, либо загаживает… Представляете?.. Это же чистейший идеализм.
— Почему? — тупо спросил я.
Мне в то время было совершенно наплевать — идеализм сказка или, может быть, даже материализм. Важно было, что сказка это сказка… А потом подрастаешь и видишь, что все не так; и тогда трезвеешь. Как все.
Но что-то во мне начало неудержимо зудеть. И я говорю:
— А знаете… я с ним согласен…
— То есть как?..
— Знаете, — говорю, — это самая оригинальная мысль, которую я слышал в своей жизни.
Она разинула рот, как будто хотела сказать букву «А», и смотрела на меня.
— Подчеркиваю, — говорю. — Это самая оригинальная мысль, которую я слышал в своей жизни.
Я угадал. Она действительно хотела сказать «А». Она сказала:
— А я вас считала за…
— Неважно за кого вы меня считали… Еще раз подчеркиваю — это самая оригинальная мысль, которую я слышал в своей жизни… И мне только жаль…
И молчу.
Потому что вдруг понял, что во мне зудело и зудело неудержимо.
— Чего жаль? — спрашивает она.
— Мне только жаль, — говорю, — что эта мысль пришла в голову не мне.
Но говорю это спокойно, потому что зудение прекратилось, и я понял, что освободился, и что после длинной рыночной цепочки дури и приключений эта мысль была высказана мне устами тупицы, отрезвевшей, как и все остальные люди, от своего детства… от своего детства… от своего детства, когда еще знают, что жизнь эту сказку либо украшает, либо эту же сказку портит, но нет еще сомнения, что сказка в основе всего.
Понимаете?.. Что с нее все и начинается. Это — не метафора. И это не имеет никакого отношения к идеализму и к его отличию от материализма, потому что сказки рассказывают тем, и чаще всего рассказывают те, которые об этом и слыхом не слыхали — об этой разнице. Потому что сказки это то, что рассказывают, рассказывают, рассказывают, рассказывают и обкатывают чей-то личный опыт, пока не получается то, что мы называем «сказка». Сказка — чей-то личный опыт.
Что-то в этом смысле я пытался втолковать этой тетке, но она смотрела на меня расширенными глазами. И, видимо, думала что я «того». А я не «того». Просто так, свирепо-обыденно я услыхал эту невероятно простую мысль. Самую оригинальную из тех, с какими мне пришлось столкнуться в жизни…
Но тут я проснулся и почувствовал себя счастливым до одурения. Как вы полагаете, почему? Да потому что соображаю: если это все мне приснилось, то эта самая оригинальная мысль принадлежит мне, и больше никому.
Я, конечно, как и все, слышал и видел, как жизнь сказку портит, но я еще ни от кого не слышал, чтобы жизнь сказку украшала.
Вот в чем оригинальность этой мысли: «Сказка в основе всего» — это не фантастика в основе, не мечта в основе всего, а чей-то личный опыт, только редкий, но запомнившийся и обкатавшийся в сказку, в которую никто из взрослых уже не верит и считает либо сознательным враньем, либо желанной мечтой.
А сказка не вранье и не мечта: она первая ласточка, которая, конечно, погоды не делает, но она — признак будущей погоды.
А уж когда погода приходит — она действительно может эту сказку изгадить, а может и украсить.
Опять получился какой-то переносный смысл, какая-то метафора, мать ее! Какого черта! Я имею в виду прямое сообщение, голую информацию. Вот она:
— В основе самых мощных последствий лежит сказка о чьем-то забытом личном уникальном опыте, который вдруг вспоминают, когда и у всех подперло.
Во дворе-колодце подъезды были как раз друг против друга. А в центре асфальтированного квадрата была песочница для детей. Все симметрично. Но песочница она летом, а сейчас падал первый снег. А общим выходом из двора служила бетонная арка этажа эдак на три. И как раз, когда из правого подъезда вышла на белый снег и зажмурилась красивая женщина в котиковой шубе и белых сапогах на меху, из подъезда напротив стали выходить и останавливаться люди, поджидая кого-то. Потом медленно вышли двое мужчин и вынесли крышку гроба. Потом пошли еще какие-то люди и, наконец, из подъезда показался сам гроб: белый, с белыми кружевами и белым нутром, где лежала белая подушка.
У противоположного подъезда женщина в котиковой шубке, которая увидала, что выносят крышку от гроба, расставила ноги пошире, распахнула котиковую шубку и уперлась руками в бока. Глаза ее стали щелочками.
Потом к ней из подъезда вышел Ефим Палихмахтер, посмотрел на противоположный подъезд, где выносили части гроба, посмотрел на свою спутницу. Под распахнувшейся шубкой виднелась только кружевная комбинация. И как раз, когда он ей только хотел сказать: «Прикройся», из противоположного подъезда вынесли пустой гроб, а она так и стояла руки в боки.
Потом из противоположного подъезда вышел мужчина, видимо, покойник, посмотрел через двор на женщину, стоявшую в тиковой шубке, распахнутой так, чтобы видна была комбинация, послал ей воздушный поцелуй, помахал рукой, потрепал гроб на плечах, как лошадь. И вся процессия двинулась в сторону арки.
У арки покойник взгромоздился в гроб, улегся поудобней, скрестил руки на груди и закрыл глаза. И вся процессия двинулась со двора.
— Скотина… — сказала женщина и опустила руки.
Шубка прикрыла ее комбинацию. Снег падал, ложился на подоконники…
Процессия с покойником гулко шла к арке, нестройно семеня ногами, пока не услышала звуки оркестра. Люди подтянулись и пошли в ногу. Оркестр играл известную мелодию «Ай лав пери он де санди» и т. д.
Зябко кутаясь в котиковую шубку, женщина со спутником пошли со двора, выждав, когда утихли звуки оркестра.
Какое прекрасное желтое слово — степь! Откуда я знаю, что чувствуют степняки, когда лежат, идут, бегут или скачут по степи на лошади. Откуда я знаю? Откуда я знаю, что чувствуют москвичи, которых занесло в эшелоне, постукивающем колесами на высокой насыпи? Но я могу сказать, что чувствовал я, когда я видел эту степь, и что я чувствую теперь, через полсотни лет, через полвека, с тех пор как я ее видел…
Пятьдесят лет — срок жизни для одного человека немалый. И я, не упорствуя, без нажима, совершенно свободно, выхватывая из памяти что попало и при каких угодно обстоятельствах, когда я вспоминаю эту степь, и даже не саму степь, а слово «степь» — желтое просторное слово, я тогда испытываю то, чего я не испытываю при воспоминании о всяких там горах, лесах, полянах, садах, городах…
Степь… Степь… Откуда ты во мне? Когда я всю жизнь прожил среди искусственного камня домов, тротуаров и асфальтов?
Мне было тогда восемнадцать лет. Потому что это был 41-й год… И я в первый и последний раз за всю последующую жизнь увидел степь.
Я не буду больше писать про степь. Я про нее ничего не знаю, но я буду думать о ней все время.
Мне очень жалко Рейгана, того самого, американского президента. Подумайте сами: по профессии он киноактер, именно актер, а не артист. Актер — это который действует, Рейган и действовал: скакал на конях, прыгал, кого-то бил, и все это — фотографии роли, а потом показали в кино, но он понял, что тут он пороха не выдумает, что он такой, как все, и занялся политикой. Политикой он занимался долго и с переменным успехом, но потом стал губернатором, а потом даже президентом… И почему же мне его жалко? А потому что это — единственный президент, которого я знаю на круглом земном шаре, публично перед всеми трясущийся от страха. И люди, которые читают газеты, слушают радио, смотрят телевизор, заняты только одним — не показывать вида, что они это замечают.
Когда он еще только собирался в президенты, его спросили, управится ли он? А он сказал, что привык играть разные роли. Сыграет и эту. Но дело в том, что роль президента, да еще главнокомандующего, сыграть нельзя. То есть, конечно, в кино можно — там сценарий заранее известен. А в жизни это фикция, нуль.
Чтобы в жизни он об этом не забывал и ненароком не вообразил себя приспособленным к президентству, те, которые решили, что для президента годится и киноактер, ему об этом напомнили: кто-то кому-то приказал, кто-то кому-то дал денег, а может и еще что придумали, но только в Рейгана выстрелили. А чтобы он не подумал, что в него выстрелил кто-нибудь из голодных или вообще какой-нибудь неимущий, обуреваемый какой-нибудь идеей усовершенствовать мир, выбрали для этого дела миллионерского сынка. Ну, может быть, он был какой-нибудь нервный и плохо стрелял, но Рейган в одном госпитале выжил, а в другом госпитале стали лечить этого стрелявшего.
И никто ни в чем не виноват. Но Рейган-то понял. Он же человек. И семьянин. И понял он, что его согласны держать в президен-тах, если он не станет зарываться.
Изображай вашингтонского ковбоя сколько хочешь, как в вестерне, но при попытке к бегству, как в хорошем эсэсовском фильме, запомни: шаг влево, шаг вправо — стреляю без предупреждения.
Какое-то время спустя у него в заднем проходе нашли раковую опухоль, и Рейган понял, что он у них окончательно в руках: либо свободно развивающийся рак в заднице, либо возьмут и вырежут что-нибудь не то. И он подписал программу звездных войн, которая расшвыривает по Соединенным Штатам и даже такие упоительные заказы.
С Рейганом ясно. Оставим его. Спустимся вниз, по мраморной лестнице, пропустим все приспособления, которые позволяют американским людям увернуться от смерти. Они достаточно описаны в художественной литературе и прочей литературе, в кинофильмах и диафильмах, и американцы о них сами знают. И посмотрим: кто же и где находится на противоположном от президента конце этой мраморной лестницы процветания.
Нет-нет, вы опять ошиблись: это не человек нищий на вентиляционной решетке, это человек в камере. И из всех людей, умудрившихся сознательно или бессознательно нарушить какие-то там законы и сидящих по камерам, это один человек. Его зовут Пелтиер. То есть на другом конце мраморной лестницы — от президента вниз, вниз, вниз, в никуда, в никуда, в никуда — расположился индеец. Вот об этом и подумаем, если еще осталось время на это занятие.
Все это время я постоянно буду вспоминать и думать про степь. Это отдельно от всех. Потому что от этого слова у меня лично начинается то, что стоит называть работой. А вы в это время, и я с вами, думайте о том, что звезды требуют и ждут гениев, звезды ждут людей. И что это с точки зрения космоса одно и то же.
Мы лежали с ней официально голые, потому что только что расписались. А надо вам сказать, что расписывались тогда мало, потому что шла война. Была осень 41-го года. Я сходил к начальнику своей части, полковнику, и отдал ему рапорт о том, что хочу жениться. Он молча прочел, отдал комиссару, тоже полковнику, полковому комиссару, и они стали смотреть на меня. Они смотрели на меня, на молодого идиота, и, видимо, старались подобрать слова. Слов я не помню. И слава богу! Потому что, если бы я запомнил то, что они мне сказали, я бы не решился это записать. Не отговорив меня, они выдали мне разрешение на брак с гражданкой такой-то…
Гражданка только что кончила ту же школу, что и я. И с этого момента мы могли с ней официально расписаться, спать вместе официально и размножаться… зачем-то.
И вот, проделав все формальности, которые мне теперь вовсе не кажутся трогательными, мы официально разделись догола в пустой квартире, которая вся ушла в бомбоубежище, потому что тревогу уже объявили. Мы вместе легли в постель и должны были бы испытать необыкновенно приятное ощущение, которое тут же кончилось, не начавшись, когда она сказала: «Война только еще начинается, и тебя могут убить. И как же я тогда выйду замуж? Если я не буду невинной! Поэтому давай ничего делать не будем». Вы мне, конечно, не поверите, но тогда мне ее слова показались справедливыми. И я, вместо того, чтобы погнать ее к чертовой матери, сразу же, не раздумывая, всю войну после этого хранил ей физическую верность.
…Что-то взорвалось, кого-то убили… Пейзаж, что ли, подпустить…
Поэтому, когда через несколько лет меня все же не убили, и я вернулся со второй войны, мне сказали, что я огрубел. Огорченный этим обстоятельством, я с другой женщиной решил довести это дело до конца. И довел его с другой женщиной с большим успехом.
— Знаешь, почему я не боялась и действовала так смело? — спросила она меня. — Потому что я беременна, и мне пару месяцев ничего не страшно.
С тех пор, когда я читаю стихи, посвященные женщине, и, извините, стихи, написанные женщинами, я, извините, не верю ни одному слову. Не верится как-то…
Но вот несколько лет назад в журнале «Наука и жизнь» я прочел следующее сообщение, коротенькое и выразительное: в какой-то стране, кажется, в Индии, девочка укусила кобру. Кобра сдохла. Вот это девочка! В это я поверил сразу. Степь… Степь… По-моему, трогательно, вам не кажется?
Певцы раскрывали дипломированные пасти, и в них хотелось закинуть шайбу. В огромных залах зверствовала культура. Остальное доделывала аэробика.
Колумб дрыгнул ножкой и встал с койки. Мужчина в бочке прокричал: «Земля!!!» Бочка висела на фок-мачте, очень высоко. И потому крик был похож на кошачий. Так Колумб открыл Америку, хотя был уверен в том, что открыл Индию. Это было в 1492 году. Как сейчас помню. Про Колумба ходили неясные слухи, что он еврей.
Тоню в больницу привезли поддатую.
— Закусить нету? — спрашивает.
Приехала. Парик нахлобучила, зеленая косынка, юбка незнамо откуда, и в тапочках. Она продавщица в продуктовом отделе, любовник — в овощном, муж — грузчик. Все пьющие. Она пошла к любовнику требовать долг.
— Раньше, — рассказывает, — терпеливый был: я ему коробки на голову надевала. А тут — драться. — Подрались. Он ей дал. Она упала в кусты, сломала ногу. Теперь вот лежит в больнице. Муж навещает. Приходит, упрекает: «У тебя любовник татарин».
Она извиняется.
А раз пришел пьяный и говорит:
— Ничего, я себе тоже нашел. Нужна ты мне.
— Ах, нашел? А ну вали отсюда!
Он вышел в коридор. Раньше бы она за ним: «Геночка, Геночка…», а тут не зовет. Что ты скажешь? А он ей две селедки привез. Вошел обратно. Селедки головами слиплись. За головы взял, разделил и говорит:
— Одну тебе, другую — мне, одну тебе, другую — мне. Селедку брать будешь?
Раздел имущества.
У нее работа такая: три дня работает, три дня гуляет. Поехали в Ленинград. Билеты туда и обратно. Яиц наварили, вина взяли — все путем. А в купе — два парня, лет по тридцать восемь. Муж Тоню спрашивает:
— Где спать будешь?
— На нижней, — говорит.
Ну, выпили все. Ну а ночью он потом слез и по морде ей.
— Ты что? — она понять не может.
А ему почудилось, что он дома, а она с ними блудйт. Она из купе выскочила, он ее в коридоре бить. Ну, парни вступились.
— А-а! Вы заступаться!.. — и еще…
А он маленький, верткий, еле уняли. В Бологом должны высадить… Напугались. Залезли вдвоем на верхнюю полку.
Притворились, что спят. В Бологом пришла милиция: «Где они?» — «Спят…» — «Ладно, в Ленинграде заберем». Но не забрали. Они в туалете отсиделись.
В Ленинграде себя в зеркале не узнала. Все лицо — где синяк, где фингал… Ну, пошли в музей. Народу — тьма. Она у дежурной бабки спрашивает: «Где Петр Первый?» Ходила, ходила, не нашла.
— Я хочу Петра Первого повидать!
Та объяснила. Снова пошла. А там народу… Она растолкала всех. Ее лицо видели — дорогу уступали. Поглядела на Петра Первого. Сидит.
И поехали в Москву.
В Москве таксисты не сажают. От Ленинградского вокзала до Дмитровского шоссе десятку требуют. Она в министерство звонит: «На такси не берут. Большие деньги требуют». Не поверите, через пять минут машина «линейный контроль» подъехала. «Кто? Кого таксисты не берут?» — «Нас…»
Ну, контролеры на ее лицо поглядели — ясно, почему не берут. Однако усадили. Домой приехали, ее родная мать не узнает. Говорит:
— Тоня? Это ты?..
Отвечает:
— Я…
— А откуда ты?..
— Из Ленинграда… Из музея…
Что музей? Ах, музей?.. Что ж, вообразим себе музей, не гордые.
Ряды вельмож, ожидающих послов и выхода Моро и герцога Джан Галеацо.
Вельможи разговаривают негромко:
Послушайте, синьор Пиколомини, Я человек здесь новый. Расскажите, В чем странность этой свадьбы. Не пойму: Супруга не стара, ведь ей шестнадцать, Что хороша, мы это видим сами, А что умна — об этом говорят… И Лодовико — кавалер отменный. Так в чем причина странных отношений? И почему же оба новобрачных Так холодно относятся друг к другу, Как будто бы супруга — перестарок, А Лодовико Моро — не боец… Причина в том, что Лодовико Моро Любовнице, Чечили Галерани Недавно подарил поместье, В котором упомянутая Галерани В день свадьбы Лодовико с Беатриче Сумела разродиться сыном, О чем немедля всех оповестила. А сына своего от Лодовико Назвала Цезарем. Не больше и не меньше. Все видят в этом яростный намек На некую судьбу сего младенца…Это было примерно в том же году, когда Колумб открыл Америку.
Когда я сравниваю эти два случая: нынешний, про Тоню, и музейный — про Галерани, то разница между ними только в одном: в мануфактуре, которая на них надета, а сами два случая — грязь, отходы, шелупонь, чешуя.
«Вздор», «чепуха», «дрянь» — позади всех этих слов обрезки от плотницкой работы. «Вздор» — это по-старому «стружка», «чепуха» это щепа, «дрянь» это дранка. Так что когда говорят — «щепуха», «дрань», это не ошибка, а старое произношение. Но что же у них общего: у вздора, чепухи и дряни? Все они — отходы.
Раньше можно было пренебрегать отходами.
Потом от них стало некуда деваться, и их стали жечь: и стружку, и щепки, и дрань…
Потом стало ясно, что отходы это доходы. Диккенс даже роман написал про состояние, нажитое на мусорных кучах.
А теперь вообще стало ясно, что мусор это вторсырье. Сырье, правда, но все-таки «втор». Кстати, а почему «втор»?
Этот «втор» от обычного сырья отличается только одним — ко «втору» надо приложить смекалку; а сырье это грабеж того, что природа скопила. А больше ничем не отличается.
Неживое сырье худо-бедно накопила природа живая, и человек его грабит, а над «втором» надо еще головой повертеть…
Вернадский говорил — ничто живое не может жить в среде своих отходов. Своих! Но чужие отходы это и есть плодородная земля, почва, которая родит плоды.
То есть вся наша родимая, а вернее, родящая земля — это и есть «вторсырье». И потому уже пора говорить не «сырье», не отходы, и не вторсырье, а просто вещества. Неживые вещества, которые в своих целях используют живые существа — когда-то безмозглые амебы, а теперь используем их мы, умники, которые свое неумение жить вместе называют духовной жизнью.
И сегодня патриотизм, защита родной земли — это защита всей Земли в целом, планеты. Такая наступила наша энерговооруженность.
Неужели никто не замечает, что началась коммунистическая революция?!
Это когда хорошо всем, но по-разному. По-разному, но всем, поскольку все — разные, которые свое неумение жить вместе называют духовной жизнью.
…Когда я демобилизовался, то первое, что я сделал, это освободился от нижнего белья. Белье бывает разное. То же самое было написано в брошюре о вшивости, которую нам раздавали. Было написано: «Воши бывают разные».
Я не знаю, бывают ли они разные, но их было много.
Когда я написал в своей первой повести «Золотой дождь» об этом, то редактор «вшей» мне выкинула.
— Почему? — спросил я.
Она сказала:
— Вши были только в империалистическую войну, а в эту войну — только у немцев, — и посмотрела на меня умными глазами.
Я конечно знал, что это не так. Когда зимой эшелон останавливался в снежном поле, то солдаты выскакивали наружу, расстилали нижние рубашки на рельсах и прокатывали бутылками. Стоял треск. Да и на каждой тыловой станции были вошебойки, куда мы сдавали обмундирование, и там его жарили раскаленным паром и возвращали форму обратно со скрюченными брезентовыми ремнями. Но я понял, что не важно, какая была война в жизни — в литературе война должна быть элегантной. Повесть была дороже. Еще редактор мне сказала, что она насчитала в повести тринадцать раз слово «задница». Я спросил:
— Как же быть?
Она сказала:
— Не знаю.
— Ну, а как написать, что он съехал с лестницы на заднице? — глупо спросил я. — Написать, что он съехал на ягодицах? Или, может быть, даже на попке?
— Не знаю… — сказала редактор.
Тогда я два дня думал. А придумав, пришел с решением. Я сказал:
— Давайте слово «задница» заменим словом «шея». Но она поступила проще. Она выкинула все эпизоды, где я вынужден был употреблять это слово…
Поэтому, когда я демобилизовался, я первым делом высвободился от казенного солдатского белья. У меня с ним были связаны плохие воспоминания. Я не знаю, какое оно сейчас. Повторяю, — оно бывает разное. Но тогда оно было такое: белая полотняная рубаха с завязочками у горла и кальсоны с завязочками на щиколотках. Прекрасное белье. Ни одной пуговицы. Когда моя последняя и, как я надеюсь, окончательная жена лежала в больнице, то ей одна женщина, преподаватель в университете, рассказала, что наиболее модные девчонки покупают в Военторге кальсоны с тесемочками, на место ширинки пришивают молнию, красят кальсоны в нужный им цвет и носят. Получаются роскошные женские штаны системы «бананы». Самые модные в этом сезоне.
Женщины — великие люди. Они начинают бороться за мир.
Правила языка придумывают безграмотные люди. А докторские диссертации за оформление этих правил получают отдельные посторонние ловкачи.
Горький в статье о Есенине приводит две его строфы, но не такие, какие может петь с эстрады дама средних лет в кокошнике, а такие, которые никто, кроме Есенина, написать не смог бы. Вот они.
Первая:
«Хорошо бы, на стог улыбаясь, Мордой месяца сено жевать».И вторая:
«Изба — старуха челюстью порога Жует пахучий мякиш тишины».Я берусь на каждую из этих строк написать по диссертации, которые будут ничем не хуже остальных. Но беда в том, что она будет и ничем не лучше. А тайна воздействия этих строк так и останется тайной. Ну и оставим ее там же, где ей и быть надлежит.
А правда, наверное, хорошо бы, на стог улыбаясь, мордой месяца сено жевать. Но — увы — это невозможно.
Степь… Степь…
А почему это невозможно? А потому, что Америку не только открыли, но и истребили индейцев, у которых развитие шло совсем другим путем. То есть вместе с индейцами истребили и другой путь развития. И произошла страшная подмена. И теперь мы ждем, на сколько еще лет — на 20 или 30 — осталось воды и воздуха в биосфере, когда мы без всяких атомных войн можем однажды не проснуться.
Я об этом говорю, потому что нахожусь под впечатлением от одной экологической лекции, которую я слушал на одном Докучаевском семинаре. Выступал ученый человек и рассказал всё: как есть и что будет.
Я в медицине не понимаю ничего, остолоп. А уж в народной медицине «хета», как говорят японцы, бездарь.
Когда мы на «виллисе» наехали на мину, никого не убило, но нас подняло и рвануло об землю, об битое стекло. Так… порезы, кое-какие… Но после этого я четыре дня не говорил. Потом стал говорить, но голова болела дико, хотя, по-моему, я головой не приложился. А потом замечаю: голова разламывается от любого шума. Танк по улице проедет, а меня скручивает. Какие тогда были лекарства? Ну анальгин, ну пирамидон… Я и сейчас не знаю какие. Не проходит, мать его!
Тогда мне наш переводчик сказал: «Сходи к китайскому доктору: они по-другому лечат». Город уже функционировал. На базарах, в харчевнях ели своих уток, крашенных оранжевой краской, варили вермишель. Как делают тесто — я не знаю, но эту вермишель делали тут же, на глазах. Вермишель у нас делают, по-моему, машиной — продавливают через дырочки, а лапшу делают при помощи ножа. Раскатывают лист из теста, нарезают с края. А там не так. Лихо! На столе у него насыпана мука, он возьмет кусок теста и начинает растягивать, середина провисает, и он начинает ее вращать, а сам разводит руки в разные стороны. И получается колбаса из теста толщиной с руку. Тогда он ее по муке прокатит, вдвое сложит, за два конца возьмется и снова начинает разводить руки и вращать серединой, как веревкой. Середина провисает. Но уже две колбасины потоньше растягиваются. Потом опять прокатит по муке, чтоб не склеивались, и сложит опять вдвое и вращает. И уже четыре сосисины растягиваются. А потом то же самое, и тоже вращает в воздухе. Но уже 8, 16, 32, 64 и не помню сколько раз он их складывает, прокатывает в муке и снова растягивает и вращает. Только муку подсыпает. Но в результате он вращает пучок вермишели. Вермишелинка к вермишелинке, и каждая самостоятельно в свое время прокатанная по муке. Потом кладет на стол, обрубает с двух сторон концы теста, за которые держался. Вермишель готова. И — в котел.
Я ел. Вкусно.
Ну, привел меня переводчик в китайскую аптеку. Темно и, по-моему, грязно. На потолке сушеные стебли висят и какая-то здоро-венная сушеная ящерица или крокодил, что вряд ли. Ну сказал, голова болит все время, переводчик кое-как перевел, а доктор меня за руки держал, за запястья, и все смотрел на меня сквозь здоровенные очки. Потом покивал и дал мне картонную коробку величиной с коробку из-под торта. Сказал, что надо вскипятить два литра воды в кастрюле, а содержимое коробки туда бросить. И сказал, сколько времени в кипятке держать. Потом остудить и пить по рюмке три раза в день. Рюмка — грамм 50. Он сказал: «Будет горько, но пройдет». 15 лет он гарантирует, дальше — не знает.
Так все и вышло. Вскипятил воду в кастрюле и стал смотреть, что же я туда сыпать буду. Солдаты хохотали. Картонная коробка была поделена полосками картона на квадратики, и в каждом квадратике что-то лежало, завернутое в папиросную бумагу. А когда я стал разворачивать, то оказалось: либо травка, либо какие-то крылышки жуков, какая-то сушеная саранча или кузне-чики, по-моему, был даже хвостик от ящерицы. Солдаты хохочут… Думаю: «Была — не была…» Высыпал все в кастрюлю, прокипятил как велели. Даже не помню, процеживал ли?
— Хороший супчик! — говорили солдаты.
Я отмалчивался. И зажмурив глаза, выпил рюмку, грамм 50. Противно… но слишком голова болела. В день три раза, два литра. Грамм по 150 в сутки. Думаю: «Не умру — можно вытерпеть. Заем чем-нибудь». Недели две пил. Боль в голове прошла начисто. Первый раз заболела голова только через 20 лет, и то, когда пьяный упал в ванной в Москве. Жители квартиры опять хохотали.
И вот тогда я впервые понял, что доктор — для того, чтобы лечить.
После того, как у Колумба сперли Америку, прогресс стал еще прогрессивнее.
Вообще-то Америку сперли не только у Христофора Колумба, который Америку открыл, и не только у индейцев, которых вскоре стали резать железными ножами, поскольку у индейцев железа не было, но сперли и у Паоло Тосканелли. Был такой доктор во Флоренции. О нем настолько прочно забыли, что я и имени его не нашел в энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Может, в других где есть. Так вот, этот доктор догадался и вычислил, что, кроме нашего материка, за океаном, на западе, должен быть еще один материк (который там и оказался). И его открыл Христофор Колумб, когда прочел письмо Тосканелли об этом. Паоло Тосканелли выпестовал еще двух учеников. Одного звали Леонардо да Винчи, а другого звали Америго Веспуччи.
А имени Тосканелли в энциклопедии не оказалось. Но, может быть, я плохо искал, и в других энциклопедиях есть.
Но все-таки как же бедный Колумб? Как ухитрились спереть материк у человека, который его открыл? Нет, конечно, имя его кое-где сохранилось: государство Колумбия, например, или округ в США, и даже Колумбийский университет.
А проделали это так… После того, как на новый материк стали наведываться корабли из Европы, на одном из них туда смотался Америго Веспуччи (куда-то в район Бразилии) и хорошо описал путешествие в письме к кому-то. А так как в Европе уже была пресса, то письмо издали. Оно всем понравилось. И стали этот материк — новенький, с иголочки — называть не Колумбией, а Америкой. И прогрессивная пресса сделала еще один шаг в области массовой дезинформации.
Ну, дальше все просто. В Америку хлынула европейская уголовщина, которая стала оттуда вывозить золото, а индейцев резать железом. Поскольку, повторяю, у индейцев железа не было. У них вообще почти ничего не было. Поскольку не было железа — не было железных мечей, а только из вулканического стекла обсидиана, а это, сами понимаете… Не было у них лат, шлемов, щитов, аркебуз, не было даже пушек; они даже пороха не выдумали. Мало того — у них не было даже колеса. Колесо им не нужно было потому, что у них не было даже лошадей, тягловой силы Европы. И, стало быть, у них не было диска.
Что же у них было? Если у них ничего не было. У них, по крайней мере, было три непрогрессивных государства: ацтеков, майя и инков, где несмотря на то, что в ихних непрогрессивных церквях сохранились человеческие жертвы, храмы у них были не хуже, чем в Европе, и к городам вели дороги не хуже римских, которые и теперь вызывают зависть у «всемирных» автомобилистов. И почти две тысячи лет не требуют ремонта.
Самое главное, что в отличие от прогрессивной, нищенской Европы, там все были непрогрессивно сыты. Хотя всем известно, что без науки и техники сытым не будешь. Чем же они питались, эти несчастные, что им всего хватало? Мясом они питались почти таким же, как в Европе, поскольку у них был скот, но сельскохозяйственная продукция у них была только такая, которая не требует ни науки, ни техники и технологии, ни тягловой силы, ни колеса, ни плуга. Если теперь в Европе землю пашут чуть ли не бульдозером, то из всех орудий производства у них была только заостренная палка, которой можно проткнуть землю, почву и посадить туда зернышко. То есть прогресс у индейцев отсутствовал, но зато у них был маис, помидоры и картошка, которые как раз бульдозеров и не требуют. А требуют именно заостренной палки, поскольку все эти культуры фактически огородные. Поскольку маис, а иначе — кукуруза, вырастает выше всадника на лошади, а початок дает зерна во много раз больше, чем колос самой прогрессивной пшеницы.
Да, повторяем, пороха в технологии они не выдумали. Но вся технология, если приглядеться, сводится к тому, что они жгут воздух.
Индейцы порох не выдумали, потому что он им и на фиг был не нужен.
Первую книжку о Котовском я прочел, когда был мальчиком. Там рассказывали о его подвигах. А погиб он уже после революции от вылазки кулацкого недобитка. Все остальные этот вопрос обходили или писали так же.
Когда я учился на третьем или четвертом курсе института, у нас был натурщик, который рассказывал совсем другое. Натурщик в науке лицо несолидное, но он был свидетелем тех событий, которыми в то время занималась только история. Он, например, брал Зимний дворец. И рассказывал, как он увидел, как солдат с солдатом размножается на полу. Он хотел ему дать прикладом по затылку, а потом смотрит: нижний солдат — это баба в солдатской форме. Но это было до эпохи гласности, и поэтому в истории эти факты обходились. Вернее, история без них обходилась. Он был участником восстания в Киевском арсенале, и показывал орден в виде многолучевой звезды (а вернее, двух звезд, наложенных одна на другую), который был сделан до появления всесоюзного ордена Красного Знамени. Он нам показывал не орден, а газетную вырезку с изображением ордена. Мы, конечно, думали, что он все врет, но он показывал газетную вырезку, где он был сфотографирован с Максимом Горьким. Так вот, он же рассказывал нам о смерти Котовского совершенно другое и небывалое. То есть в жизни, конечно, бывалое, но в мифологии — небывалое.
У Григория Ивановича Котовского был в то время адъютант по фамилии Майорчик, который женился на актрисочке какого-то театра. А Григорий Иванович на нее глаз положил. И отослал адъютанта Майорчика куда-то вдаль по особо важным делам. А когда адъютант вернулся, ему сказали, что его актрисочка пошла с Григорием Ивановичем на Днепр, в камыши. Майорчик их отыскал и увидал затылок Григория Ивановича, а под его головой голову его обожаемой актрисочки. Майорчик их обоих из нагана и застрелил. Потом Майорчику дали сколько-то лет, а в книжках написали, что Григорий Иванович был убит кулацким выходцем. Но не написали — за что.
Потом Майорчик вышел из тюрьмы и поехал в поезде. И его кто-то увидал из котовцев. Они его вытащили на станции и повесили в туалете.
Интересно, считать это историей, или нет?
…Мне всегда хотелось написать роман, который мне потом хотелось бы прочесть самому до конца. Но всегда мешала мысль: «А как его прочтут другие?» И я это подсознательно учитывал. И вот первый раз я пишу такой роман. Роман, состоящий из кусков. Потому что во всех журналах, в том числе и в журнале «Наука и жизнь», мне больше всего нравится раздел «Смесь». Да оно и понятно: наука последовательна (по крайней мере, ей это так кажется), логична, но тороплива. А жизнь состоит из медленных случайностей. И жизнь, живая жизнь вносит поправочки в любые общие рассуждения. Потому она все еще жива.
Самая законченная формула глупости, которую мне приходилось слышать, звучит так. Внимание: «Назло врагам козу продам, чтоб дети молока не пили». Это самое прямое и, что самое главное, самое точное описание цивилизации нынешнего типа. Не отмахивайтесь. Вдумайтесь. Чем больше вы будете вглядываться в эту формулу, тем больше будете видеть, что она права. А стало быть, и я прав.
Меня занесло однажды в элитную компанию. Там были люди разной упитанности, но каждый из них хотел перещеголять остальных по части внешней эстетики. Я даже помню их имена. Там были: Алик Держиморда, Этель Комбикорм. Там были: Вася Кольт и Зинаида Каклето. Там был Ефим Палихмахтер и Принцесса Трехдюймовочка. И ряд других товарищей.
Все они курили сигареты «Мальборо», которые становились все дороже и дороже (и их все труднее было достать, но — лестно), или банальный «Честерфилд» и «Кэмел» или, в крайнем случае, «Кент». Но в одном они оказались одинаковы. После принятия пищи и питья они откинулись на стульях, вытащили из своих пачек сигареты, вытащили из своих карманов и сумочек зажигалки «Ронсон» и щелкнули. Зажигалки зажглись с первого щелчка, и над каждой появился довольно высокий огонек. Наступил «кайф». И никому в голову из них не пришло, что каждый из них и все вместе и есть участники глобального преступления. Они жгли воздух. Тот самый малоизвестный науке витамин, газ жизни, из-за которого может существовать любая компания — от человека до человечества.
Потому что с того момента, как была открыта биосфера, то есть оказалось, что Земля не сама по себе, а ее окружает жизненная сфера, стало ясно, что жечь воздух можно не больше, чем его изготовляют деревья.
Но теперь взялись и за леса.
Когда-то был зубодробительный философский богословский спор о том, что было раньше — курица или яйцо? Теперь одесситы отвечают:
— Раньше было все!
Это — юмор. То есть — смеются. То есть — что-то ушло. А ушло — незнание. О том, что такое яйцо, которое несет курица. Яйцо — это окостеневший потомок икринки той рыбы, которая помаленьку стала ящерицей, а потом превратилась в курицу, которая выжила потому, что у одной из них окостенела икринка и не давала испаряться жидкости, заключенной в ней. А икринке это было не нужно. То есть, беспочвенный спор разрешился, когда ушло незнание.
Но теперь уже у живородящих, в том числе и у человека, роль яйца выполняет череп, в котором расположился мозг. Но иногда кажется, что мозг высыхает, как рыбья икра на суше, потому что если средства, облегчающие существование, становятся важнее самого существования, то надо отказываться не от существования, а от средств, от орудий и начинать цивилизацию заново. Но не жизнь.
Я спросил одного мальчика:
— Что лучше — хорошая жизнь или богатство?
Знаете, что он ответил?! Он ответил:
— Это одно и то же.
Так… Значит, и сюда это докатилось. Значит, надо начинать цивилизацию заново. И начинать надо именно с того момента, когда еще понятие хорошая жизнь и богатство — были разные вещи, а не одна. И когда еще понимали, что богатство — это средство для хорошей жизни, одно из средств, но — не сама жизнь.
Тоня уже была билетершей в то время, а муж ее был какой-то интеллектуальной профессии. Очевидно рассчитывал, что непыльная работа его жены позволит ей вести домашнее хозяйство. Она его звала Котя. Она приходила домой и говорила: «Котя, Коть, давай я тебе яишенку толкану». И хозяйство было такое же. Не то чтобы она ленилась или не хотела приготовить настоящую пищу. Она не умела.
— Коть, а Коть, а давай, я тебе яишенку толкану!
Яишенка — это концентрат природы. Курица снесла яйцо, и его можно есть. Сырое — невкусно, а если его вылить на сковородку и поджарить — вкусно. А если не одно яйцо, а несколько — еще вкуснее. Давайте питаться яйцами! Нельзя. У человека на сосудах появляется холестерин. Холестерин — это вредно. Чтобы он не появлялся, надо есть растительную еду, а растительную еду надо готовить. А готовить некогда. А готовят ее машины, которые кормят людей, которые изготовляют эти машины. То есть люди делают машины, которые их кормят. Невкусно. То есть люди едят дрянную пищу, чтобы успеть изготовить машины, которые их же будут кормить дрянной едой. Рано или поздно это сказывается.
Чтобы еда была вкусной, она должна быть тщательной. А люди, в том числе и женщины, заняты тщательным приготовлением машин, которые облегчают халтуру приготовления еды. Вот и все. И люди соревнуются в изготовлении этих машин, вместо того, чтобы соревноваться в изготовлении еды, одежды и жилья. Соревнуются в изготовлении людей, изготавливающих эти машины для изготовления дрянной еды. Наши машины будут не хуже ваших. «Назло врагам козу продам, чтоб дети молока не пили».
На одной вечеринке я ел мидии. Из консервной банки с мидиями был вылит сок и заменен лимонным соком. Это было невыразимо вкусно. Мидии разводятся быстро. Но потом кто-то содрогнулся от того, что мидии будут доступны всем, и стал выпускать консервы, состоящие из рисовой каши с вкраплением мидий. Была испорчена и каша, и мидии. А потом это сняли с производства. Может, где-то все же разводят мидий! Но я их так больше и не встречал…
Чтобы варить и жарить картошку, с нее снимают шкурку вместе с частью картошки. То есть счищают самую полезную часть. Сколько мешков было перечищено во время нарядов вне очереди! Сколько халтуры! Сколько картошки пущено под откос вместе со шкурками! В то время как самое полезное — это варить картошку в мундирах, как говорят, вместе со шкуркой. Во-первых, счищать с вареной картошки только шкурку, потому что она счищается даже концом вилки или обратной стороной ножа, а жарить можно даже со шкуркой. Ну ладно, ну без шкурки. А потом вареную жарят, разжаривают, как говорят. То есть чищеную картошку — разжаривают.
Но однажды я ел картошку удивительного вкуса. Не нарезанную, а прямо небольшая картошка, целиком поджаренная. А потом Инга, жена моего товарища, призналась: «Пришли гости — а у меня ничего нет, кроме картошки, сваренной в мундирах. Я шкурку почистила вилкой, потом поджарила прям целиком, не нарезая, на сковородке. Оказалось, здорово. И ты все нахваливал. Теперь это стала моя фирменная еда».
Но так это и не пошло дальше этой квартиры. А все остальные картошку чистят, чертыхаясь, потом варят, а потом иногда жарят. А еще проще — сразу покупают жареную картошку, называется чипсы, в пакетах. Эту наголо стриженную картошку, нарезанную до толщины бумаги, жарят. И все это делает машина, которую изготовляют мужчины и женщины, а потом покупают, чтобы есть дрянную еду. «Назло врагам козу продам, чтоб дети молока не пили».
Когда я был один, ко мне приходили актрисы, каждая из которых начинала с того, что предлагала изготовить украинский борщ. Чего им дался украинский борщ — не знаю. Наверное, это был пик кулинарии. Ну ладно. И все борщи были невкусные, и все борщи я хвалил, иначе бы они обиделись. Я пытался сам изготовить борщ по книге «Кулинария» для общепита, где и того-то столько-то, и того-то столько. Борщ получился невкусный. Очевидно, нетщательный. Нетщательный был рецепт. Но однажды я нарвался на тщательный рецепт. Я в него поверил, потому что он был напечатан в книге «Всемирная кулинария». Я сказал жене:
— Ни-ичего не меняй, ни-ичего, ни-исколечко. Сделай точь-в-точь по рецепту, если будет невкусно — тогда мы изменим. Но сначала попробуем рецепт.
Она сделала. Со страху, точно. То есть тщательно. И оказалось, что это королевская еда. Этот рецепт был не сложнее, чем в книге «Кулинария» и в книге «Домоводство», но почему-то там были другие рецепты. «Козу продам…», «Коть, Коть, а хочешь, я тебе яишенку толкану… или козу продам», чтоб назло врагам, чтоб дети молока не пили.
А потом муж интеллектуального труда влез в ванну и кричит ей:
— Тонь!.. А мыло-то наше где?
Она ему отвечает:
— Ой, Котенька, завтра куплю.
Что может женщина? Все! Ну и что хорошего? А что может женщина такого, чего не может мужчина? Рожать, конечно. А чего может мужчина такого, чего не может женщина? Рожать, конечно. Вот то-то! Вернее, участвовать в рождении. Неужели это не сказывается в дальнейшем?
Права-то у них одинаковые, вот обязанности разные.
А функция заката такова: Печаля нас, возвысить наши души, Спокойствия природы не нарушив, Переиначить мысли и слова. И выяснить при тлеющей звезде, Зажатой между солнцем и луною, Что жизнь могла быть в общем-то иною, Да только вот не очень ясно где… Да только вот не очень ясно где. Из треснувшей чернильницы небес Прольется ночь и скроет мир во мраке. И как сказал философ Ю. Корякин: «Не разберешь — где трасса, где объезд». Все для того, чтоб время потекло, Безбрежность неминуемой разлуки, Чтоб на прощанье ласковые руки Дарили нам дежурное тепло… Дарили нам дежурное тепло. Но в том беда, что, стоит сделать шаг По первой из непройденных дорожек, И во сто крат покажется дороже Любой застрявший в памяти пустяк. Чтоб ощутить в полночный этот час, Как некие неведомые нити, Сходящиеся в сумрачном зените, Натянутся, удерживая нас… Натянутся, удерживая нас. Не будем же загадывать пока Свои приобретенья и утраты. А подождем явление заката — Оно произойдет наверняка. Чтоб всякие умолкли голоса И скрежеты, и топоты дневные, И наступили хлопоты иные, И утренняя выпала роса… И утренняя выпала роса.Так поется в песне Юрия Визбора, доделанной кем-то еще, таким же талантливым.
Я помню точно тот момент, когда я обнаружил в себе некое объективно-положительное качество, хотя до этого было худо. До этого все, что я читал, оборачивалось против меня. Как? Самым элементарным способом. Всякий отрицательный персонаж любого художественного произведения был похож на меня. Положительный? Нет, не был похож. Отрицательный? Сплошь…
Никто этого не знал, кроме меня, но я боялся — вот как узнают… Тогда начнется… А жить-то хотелось. Даже сейчас хочется. И я пытался искоренять в себе рекомендуемые к исправлению недостатки, чтоб хоть как-то приблизиться к герою, который описывался положительными красками. Но ничего не помогало. То ли отрицательных черт было больше и я никак не мог от них избавиться. То ли из всех людей я один был отрицательный. И художественная литература безнаказанно резвилась на мой счет.
Иногда я решал на это плюнуть — уж какой есть, но это длилось недолго. До первой художественной книжки. А потом опять: как сукин сын — так я, а как ангел — так опять нет, не я. Что делать? Ну что делать! Обложили!
Но однажды и во мне нашли положительное качество. И я этот случай запомнил. Как было не запомнить? Только начнешь что-нибудь делать и тебя за это начинают хвалить, а художественная литература тут как тут. И конечно, тут отрицательный герой, у которого главное отрицательное качество как раз то, за которое тебя хвалили. Просто скрыться некуда!
Я в это время был связан с театром. У меня там шла пьеса — инсценировка моего романа, который очень хвалили. Поэтому я избегал читать художественную литературу, хоть временно. Потому что опять боялся нарваться. В театр я приходил как свой человек, через служебный вход. И вот довольно долго я в театре не был, не заходил через служебный вход. Потом однажды зашел. И там, в служебной раздевалке, нянечка меня спросила:
— Чтой-то вас давно не видно?
Я ответил с законной гордостью, вернее, с гордостью, которая мне тогда казалась законной:
— Дел до черта… Работаю дни и ночи…
Знаете, что ответила мне нянечка?
Она ответила:
— Ух и жадный вы…
А я думал, что она меня похвалит.
Я был настолько ошеломлен, что ушел хохотать одиноко. Не переубеждать же ее было. Потому что я понял, что получил величайший в своей жизни комплимент.
Ведь почему она сказала: «Ух и жадный вы». Потому что я сказал: «Работаю дни и ночи». А для нее это было: работаю для заработка дни и ночи, заработать хочу. Не могла же она знать, что для меня «работать дни и ночи» означало вовсе не то, что она думает. А просто я не мог устоять перед блаженством самой работы. Потому что этого я и теперь никому объяснить не могу. В крайнем случае, сойду за графомана. А этого мне почему-то не хочется.
А нянечка исходила из вековой народной мудрости, которая установила и выяснила для себя и, стало быть, для всех, что:
— Всех денег не заработаешь.
И я понял, что получил величайший комплимент и что нашел в себе положительное качество.
И я понял, что когда критикуют не за то, то это значит — хвалят!
Нет, ну правда, о чем вообще может быть разговор, если воздуха природа изготовляет меньше, чем мы пережигаем его — о чем вообще разговор?!
Без воздуха ни промышленности, ни науки, ни самой жизни быть не может. О чем разговор! Значит, из воздуха и надо исходить. И если жизнь и ее цивилизация заехали не туда, то надо вернуться к тому пункту, с которого и началось ощутимое движение «не туда». И ехать «туда». Все остальное — болботание.
Была знаменитая фраза Александра Герасимова, президента Академии художеств, который сказал:
— Вот все говорят: «Искусство зашло в тупик». А из тупика один выход — назад.
Поэтому однажды Тоня почувствовала, что ей нечем, ну буквально нечем дышать.
Это случилось после того, как ее любовника-татарина забрали в психушку за то, что тот неосновательно утверждал, что он трижды герой мира и командир взвода тяжелых пулеметов, хотя доказать ему было нечем, поскольку он родился уже после войны. А муж Тони затерялся где-то на торговых путях.
И тогда Тоня вспомнила, что работа должна доставлять радость. И чтобы получить радость от работы, она и устроилась билетершей в кино, поскольку после продажи билетов она тихонько проходила в ложу и садилась в темноте на очередной сеанс. Денег на выпивку, правда, стало не хватать, но выпивку заменили духовные ценности, которых теперь у Тони было сколько хочешь. Каждый день. И эти духовные ценности Тоню воспитывали, поскольку Тоня любила детективы, в которых добро побеждало зло, и мало того, что побеждало зло, еще и молоденький милиционер всегда находил, кого из спасенных полюбить.
Тоня конечно знала, что так не бывает, что это — мечта, то есть хорошо бы так было. Но зато досуг ей ни черта не стоил. А досуг всегда стоит ого-го! Дороже досуга нет ничего.
Для своей духовной жизни Тоня облюбовала ложу с правой стороны (или с левой, я уже не помню), потому что там всегда имелся свободный стул возле самой пепельницы. Потому что ложа была для привилегированных посетителей, где можно было в темноте курнуть. Привилегированный посетитель возле пепельницы сидеть не хотел — там пахло, и место пустовало.
И именно этот приставной стул возле пепельницы сыграл решающую роль в дальнейшей Тониной судьбе. Потому что именно там она познакомилась со своим основным будущим мужем, о профессии которого она говорила: «Человек интеллектуального труда».
Тоня не знала, что такое человек интеллектуального труда, но поскольку и я этого не знаю, то профессия мужа в этом повествовании так и останется тайной.
Поэтому, когда она заметила, что интеллектуальный труженик чаще, чем следует, старается стряхнуть пепел с сигареты в пепельницу через ее ноги, то она поняла, что этот киносеанс можно и пропустить, тем более, что она кино это уже видала. По-этому, когда уже в третий раз, стряхивая пепел, он наклонился через голые ноги Тони, поскольку юбка за это время решительно укоротилась, а ноги были голые из-за летней погоды, и сводка обещала жару и на следующий день… то когда они поженились. Тоня решительно переменила свою жизнь и стала говорить знакомым, что фильмы она видит на закрытых просмотрах. Это было неправдой. Но об этом знала только она одна. Но и об этом она знала неточно, поскольку не понимала, что именно можно просматривать, если просмотры закрытые.
У Достоевского есть мысль, которая раньше была не так широко известна по разным причинам, а теперь стала известна широко по разным причинам, стала почти банальностью, общим местом. Это мысль такая: «Красота спасет мир». Я и сейчас не знаю аргументов Достоевского; и тогда не знал, до войны, мальчишкой. Но эта мысль ошарашивала, потрясала. Красота спасет мир. А как? Может быть, это пророчество без аргументов? И оно исполнится без доказательств? Может быть. А все же, если это пророчество реальное, то хотелось бы понять — что такое красота? Или хотя бы ее детали. Уже сейчас хотелось бы знать — все же. И теперь, и тогда. А все же?
Из того, что мы наблюдаем вокруг, самое красивое для мужчины — что? Женщина. Ну, конечно, там пейзажи, природа, закаты, восходы. Ну а все же без женщины и они не кажутся красивыми. А нам почему-то кажется, что для женщины самое красивое — это мужчины. Почему это мы так уверены? Ну ладно.
Ну вот, красивая женщина. И вокруг этой красивой женщины возникает такая кобелиная охота, что уже совершенно неясно, как эта красавица может спасти мир? Если вокруг нее всегда Троянская война?
Значит, красивая баба спасет мир? Но, во-первых, мысль теряет свое пророческое значение, потому что тогда бы Достоевский сказал бы: «Красивая баба спасет мир», а не «красота».
Тогда, чтобы избавиться от Троянских войн из-за бабы, нужно либо каждому по Елене, что уже, пожалуй, можно вывести сегодня путем научной селекции, либо Елена станет доступной каждому. Но это же проституция. Тогда бы Достоевский сказал, что «шлюхи спасут мир». Что вряд ли.
Но, может быть, речь идет о рукотворной красоте? О дизайне, так сказать? Но мы-то знаем, что дизайн кончается мануфактурой и магазинами, от которых сейчас и надо спасать мир, то есть биосферу. Поэтому Достоевскому следовало бы сказать, что не «красота спасет мир», а украшения.
Возникала мысль и о красоте поведения. Но красивое поведение не давало никаких гарантий и было страшно неживуче. А праведное поведение приводило к гибели его носителя еще быстрее, чем неправедное.
И только один раз, один раз мелькнуло! Но совсем не там, где его провозглашали. Мелькнуло это «ОНО».
Абсолют? Бог? Тогда это область религии и ее богословия.
Религия утверждает, что первородный грех (теперь, по крайней мере, утверждают, сам слыхал), что первородный грех Адама состоял в том, что он поддался соблазну дьявола и стал жрать. Поскольку, мол, без еды действительно не проживешь. И пошел Ветхий завет, но потом наступил Новый завет, где Иисус Христос взял первородный грех на себя и объявил, что «не хлебом единым жив человек». А человек жив, питаясь и богом. Но мало того, что еще ни разу не было ни единого подтверждения этой мысли и пророчества, но и утверждения обоих заветов толкают на сомнения, вызванные не посторонними причинами науки, или истории, а самими этими заветами.
И это не спор толкований (это все дела житейские), а спор самих текстов, их переводов, где Канон считается созданием самого бога.
Вот у меня на руках были два Евангелия. Одно Евангелие, изданное где-то на Западе и выданное мне почитать, а второе, изданное у нас, в России, которое я купил у кого-то с рук. И в обоих изданиях я натолкнулся на разночтения, да еще какие! Не опечатка там какая-нибудь, а коренная противоположность.
В Евангелии, изданном на Западе, было написано в истории царя Давида, что однажды царя Давида соблазнил дьявол, и он объявил в своей стране перепись населения и имущества. А в Библии, изданной в нашей Патриархии, в этом же месте я прочел, что дьявол соблазнил народ, который потребовал от Давида, чтобы он провел перепись населения и имущества. Но мало того, что это смешно — нереально, чтобы народ сам попросил, чтобы его переписывали и его имущество, которое будет облагаться потом налогами.
Интересно бы знать, кого соблазнил дьявол? Но это коренное разночтение. Так что сами понимаете… Какому изданию верить, если они оба и есть первоисточники.
Нет. Мелькнуло это «ОНО» не в этом месте, а в совершенно другом.
Однажды у матери моей школьной барышни я нашел книжку Александра Грина. Я и слыхом не слыхал такой фамилии. Мало того, и в предисловии, которое я прочел после книжки, узнал, что Грин, умирая в Старом Крыму, просил привезти к нему хоть одного читателя, который его знает. И такого читателя не нашлось. Да, это так. Так было.
Ну так вот, я начал читать из любопытства, меня захватило чуть ли не с первых строк, что захватило — я и сейчас не знаю. Но я читал эту книжку всю ночь. И когда прочел «Алые паруса», я отложил книжку с решением, с клятвой, если хотите, пропагандировать эту книжку всю свою жизнь, чем я и занимаюсь.
Я ревел белугой. И когда читал эту книжку, и потом, когда вспоминал, как я это читал.
Я, конечно, сразу не поверил, что эта книжка — мечта, ну, в смысле: «эх, хорошо бы так было!», а просто впервые и единственный раз мелькнуло реальное начало нового пути. Похоже, что это и была красота.
Интересно, что делает охотник, когда у него кончились патроны? Ну или там стрелы? Что? Он идея домой. Запасаться.
А что делает охотник, когда дичь кончилась? Он ждет, пока она снова расплодится. А зачем охотник вообще бьет дичь? Он ее потом съест. А зачем он ее ест? Ну там калории всякие, витамины… То, се… А не может он сделать чего-нибудь такого, чтоб не надо было каждый раз на охоту ходить? Может. Набить дичи столько, чтоб в один раз не сожрать. А хранить как? Ведь дохлая дичь начинает разлагаться, если ее сразу не съешь. А хочется свежатинки! И он начинает хранить ее во льду. Но этого можно достигнуть только в Арктике.
А на юге?
А на юге он рано или поздно изобретает холодильник. Пускает его в продажу. Теперь холодильник в каждом доме. А что? Мы не хуже других. Холодильник работает от электричества.
Человек строит гидростанцию и все такое… И даже атомную станцию.
И вся эта промышленность, и все это добро, которое он нажил, требует новой промышленности и нового добра. Иначе все развалится. И мясо, даже в холодильнике, протухнет. И вся эта промышленность, и вся эта армада добра и организации, и армада власти и вооружения, армии, воины — все это только для того, чтобы мясо не протухло. А мясо добывают из живого. Белки там… Калории… То, се…
Так неужели нынешняя цивилизация не придумала ничего такого, чтобы добывать мясо не из сложившегося организма, а из того, из чего он только складывается, коли уж на то пошло? Уж сегодня-то, когда умеют делать, чтоб мясо росло как гриб, не превращаясь в организм, в организацию, в живое существо!..
Некоторые предлагают перейти только на растительную пищу. Это, знаете ли… Призывы эти чаще всего исходят от асеевской лисицы, которая в своих целях заявила: «Этой весною я не ем мясное!»
А почти что всякая промышленность и ее эквивалент (деньги, полученные от этой же промышленности), вся громада усилий и гибельных бедствий — только для того, чтобы мясо не протухло. Это называется культура. Цивилизация. И все такое… которое прогрессивно едет туда, где ни воды нет, ни воздуха. И где никого не останется, чтобы всю эту культуру обсудить.
Что делает охотник, когда у него кончились патроны?
Идет домой запасаться.
А когда кончилась дичь? Ждет, пока она расплодится заново.
А когда кончится охотник?
Останется термодинамика. И упоительные моральные ценности, которые никому не пригодятся.
До войны во Франции появилась «историческая» песня под названием «Маркиза». Песня разошлась по всему миру, но ни на что не повлияла. Потому что война все равно была, и ее причины потом изучались, потому что методы изучения причин были высмеяны в смешной песенке про маркизу, у которой умерла кобыла.
Там было сказано: «Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упали свечи на ковер, который вспыхнул, как костер. Погода ветрена была. И замок выгорел дотла. Конюшня заперта была, а в ней кобыла умерла, А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!»
Сейчас ликует та наука, которая делает открытия, что кобыла умерла потому, что дверь в конюшню была заперта: что если бы дверь была открыта, то никакой пожар не страшен. А та наука, которая понимает, что кобыла умерла все же потому, что маркиз разорился и застрелился, звучит малость поглуше, более глуховато. Эта паука называется экология, которая открыла биосферу, открыла, что дверь в конюшню заперта и открыть ее некуда. Что жизнь на Земле существует со своей промышленностью и наукой, пока есть вода и воздух. А если промышленность и наука эту воду и воздух истребят, то маркиз разорится и кобыла подохнет так же, как зарвавшийся маркиз. Так как дверь в конюшню биосферы, которая развивалась миллиарды лет, отворить некуда.
И пока не доказано обратное, исходить надо именно из этого.
Иначе, несмотря на все ухищрения, человечество вместе с остальной живностью может однажды не проснуться, даже если войны никакой не будет и будут уничтожены все бомбы.
И страшно даже подумать, ч к) погибнет даже Тоня, у которой «все будет».
А вернее, даже не так… Тоня погибнет именно потому, что у нее «все будет». Вот теперь так.
Вот у меня сын — большой знаток Древней Греции. И он меня спрашивает:
— А в Древней Греции дети были?
Я говорю:
— Были.
— А кошки и собаки были?
— Конечно.
— А кого было больше? Кошек или собак?
Я говорю:
— А кто это знает.
— Нет, а правда, кого было больше — кошек или собак?
Я говорю:
— Не знаю. А как ты думаешь, кого было больше — кошек или собак?..
Неужели никто не замечает, что у науки остается все меньше невинных вопросов. Наука завиляет: «Не наше дело. Наше дело — открыть. А как применить — тут уж разбирайтесь сами». А кто — «сами»?
В передаче «Очевидное — невероятное» идет беседа о том, можно ли шимпанзе превратить в человека? Оказывается, путем научной селекции, современной, можно. И довольно быстро. Любопытно? Правда, не очень. Потому что неизвестно, куда этих полудурков потом девать. На какие роли? Науке следовало бы поинтересоваться, как путем селекции превратить человека в человека? Вот сегодня вопрос вопросов!
Римский папа забил тревогу против противоестественного изготовления детей. Берется женщина, искусственно осеменяется. Женщина рожает за крупную сумму. А ребеночка потом фирма вручает заказчице, которая сама этого не может или не хочет. Заказчица платит деньги — фирма вручает ребеночка.
Рациональное развитие. Научное. Двух отраслей: проституции и, так сказать, любви к детям. Римский папа бьет тревогу.
Какие нужны условия жизни, чтобы в ней все всем понравилось?
Для этого нужно одно, один пустяк. Нужна другая цивилизация, где бы не наживали добро… Вернее, не так: где бы добром считалось не средство к существованию (любое средство — от барахла до денег), а где добром считалось бы само существование.
Но это не может сделать кто-то один. Этого должны захотеть все. И поверить, что это возможно. То есть нужно переменить цивилизацию. Возможно ли это? Если считать, что человеку несколько тысяч лет, то невозможно. А если понимать, что человеку многие миллионы лет, и было время, когда цивилизации просто не было, и что цивилизация — это всего лишь этан всей миллиарднолетней эволюции живого, то да, возможно. То есть пришла пора окинуть взглядом все, и понять, что если все есть, то все частные поправки либо ухудшают дело, либо улучшают его. Ухудшают дело, если растаскивают его, и улучшают, если стремятся к нему. По-разному, но стремятся.
И это есть главное желание.
Потому что если этого хотят все, то и будет всё. А если все хотят всего лишь разного, то ничего и не будет.
Давно уж сложилось великое уголовное наблюдение, которое звучит так: «Жадность фраера сгубила».
Нужны и не нищета, и не богатство, а оптимум. А сейчас складывается впечатление, что мир стремится стать миром «фраеров». миром человеческой дешевки, и вся промышленность работает только на это — на создание дешевки, на подмену.
А если это случится, то, выражаясь научно, «всему — кранты». Потому что если экология установила, что жизнь на Земле возможна, пока только существует экран, который эту жизнь загораживает от смерти, то, если не будет экрана, не будет и промышленности, которая этот экран разрушает. Ежу понятно.
Ежу-то понятно. Сколько можно жрать? По-моему, жрут уже даже ушами. И это даже не те только, которые дохнут от голода в нищете, но и те, которые добились.
Что сделала Жаклин Кеннеди? Вышла замуж за Онассиса, владельца острова, который наторговал оружия настолько, что мог позволить себе купить остров. Мульти-мульти… Ну и что ж она сделала, получив такие возможности? Практически неограниченные! Она накупила миллион платьев. То есть дело свелось к той же мануфактуре. А миллион платьев нельзя надеть, даже если каждое платье носить минуту. Жизни не хватит переодеться во все. А моды все меняются, меняются…
И вот уже одна дура в юношеской передаче «Мир и молодежь» говорит, что у них свои проблемы, у молодежи то есть. Я встал в стойку и ухи топориком. Оказалось, что у этой дуры проблемы те же, что и у Жаклин Кеннеди. Платье в ателье Зайцева — 200 рублей, а ее зарплата 70. А драгоценностей и вовсе не укупишь. Но даже ребята, ее сверстники, поняли, что это клиника.
Не проблема, а клиника. И что если на это пойти, то «жадность фраера сгубит». Но, как ни странно, это и есть загнанная куда-то в помойную яму женщина, носительница красоты, ее уродливый облик той красоты, которая должна спасти мир. Той красоты, которая забыла, что мануфактура красоту только выявляет. Но для этого нужно иметь что выявлять.
У Тони, несмотря на жизненные перетрубации, было что выявлять. Она и решила выявлять это в области кино. Где ж еще? В области киномассовки. Где ж еще?!.
И там ее, наконец, приглядел Ефим Палихмахтер. Где же еще?
Водится на свете такая плащеносная ящерица. Японцы сняли про нее кино. Это очень интересная ящерица. Когда ее пугают, она не кидается сражаться и не удирает на четвереньках, а встает на задние ноги и бежит на двух ногах. Прямо чешет! Быстро и смешно, переваливаясь по-женски. Чешет… Удирает от того, что ее испугало. Прямо как Тоня от старости.
Люди хотят заработать. Это естественно. Но вот в чем странность. Уже давным-давно люди хотят заработать не за то, что кому-то на самом деле нужно, а заработать вообще. Чтобы заработок поступал исправно, даже за то, что не нужно никому. И это даже предпочтительней. Потому что если заработок идет за то, что кому-то нужно, то сегодня нужно одно, а завтра, глядишь, оно и не нужно. Ну, а вот если заработок идет за то, что никому не нужно, оно вчера никому не нужно, сегодня никому не нужно и завтра никому не нужно. Заработок ведь идет.
Главное — обеспечить заработок. Главное, чтобы никто на заработок не покушался. А за что, он, этот заработок, не имеет ни малейшего значения… Нет, имеет, в конечном счете. Потому что если вообще не будет никого, кто получает за что-то, то те, кто получает ни за что, все-таки рано или поздно своего заработка лишатся. И чтобы этого не случилось, проводят тысячи мероприятий, чтобы тем, кто получает заработок за что-то, не пришло в голову, что они содержат гигантское количество людей, которые получают заработок ни за что. То есть, чтобы этим указанным людям не пришла в голову идея о коммунизме, где каждый может заниматься чем угодно при одном единственном условии, чтобы его занятие было хоть чем-то полезно людям.
И вот если с этой точки зрения подойти к человечьим занятиям, то и окажется, что 60 процентов, занятых ничем полезным для всех людей, не озабочены. Это я тоже услышал на лекции ученого эколога, биосферщика. Да, как ни печально это признать, 60 процентов людских занятий не только не полезны для всех людей (и даже для тех, кто этими шестьюдесятью процентами заняты), но даже и вредны, так как дело кончается тем, что пережигают воздух — единственный витамин жизни, который на самом деле нужен человеку, всему живому при любом занятии и заработке.
Я был на одном концерте, где поэты читали свои стихи. Остальные я не запомнил, а вот две строчки ленинградских стихов поэтессы Борисовой я запомнил. Стихи посвящались памятнику Петра Первого, но посвящались не Первому Петру, а его коню. И заканчивались про коня:
«Ведь он его на подвиги возил и привозил обратно».…После того, как Тоня поснималась в массовках, и ей это понравилось, она сказала мужу, что хочет посвятить себя кино, то есть играть в кино какие-нибудь роли. Но роли ей давать не будут, потому что нет у нее кинодиплома. И чтобы муж постарался… И муж стал думать, как стараться.
Опытные массовщики знали, что на камеру лучше не вылезать, потому что если попадешь в камеру, то в следующую массовку с другими костюмами тебя не возьмут, так как зритель может запомнить. А массовка в кино нужна. Она, как конь Петра Первого, который «его на подвиги возил и привозил обратно».
А в ролях нужно понравиться кинокритике, именно… чтобы она заметила. Тогда есть надежда, что будут давать другие роли, потому что ты уже артистка с дипломом, который удостоверяет, что ты сдал экзамены по системе Станиславского. И, значит, насобачился изображать кого угодно. Но тут есть один нюанс, деталечка, так сказать. А в деталечке, так сказать, как известно, прячется дьявол. С одной стороны, вся кинокритика и, стало быть, режиссеры, которые делают картины, требовали от артиста правды, п-р-р-равды жизни, а с другой стороны, как-то забылось, что п-р-р-равда жизни может быть сфотографирована только в документальном кино, где роли не играют, а эту правду подсматривают. Потому что если кино хочет быть художеством, то правда жизни должна быть правдой Образа. А Образ сыграть в кино нельзя. Артист в кино не может превратиться в Образ, а только в другого человека. Но и это сделать нельзя, увы, физически. И никакая система тут не в помощь.
Театр — другое дело. Там с самого начала зритель знает, с вешалки еще, что герои на сцене ненастоящие. Потому что если б они были настоящие, то они бы не позволили себя разглядывать из зрительного зала. И поэтому зрительный зал со сценой уславливается о правилах игры. И тогда при удаче возникает Образ. Потому что в жизни Образа не бывает. А бывают только члены профсоюза, которые зарабатывают на жизнь такой профессией, а не другой.
А в кино артист притворяется, что он и есть на самом деле такой, как в сценарии. И не получается ни кино, ни театра. И только в одном виде кино получается Образ — это, извините, мультипликация. Где художник может Образ нарисовать. Но мультипликация до сих нор идет по ведомству «Утенка Дональда» и «Кота Леопольда». И только редко-редко — «Мифы Древней Греции», где Персей спасает девушку, каких на свете не бывает, но бывают в Образе, в воображении.
Но на это никто, конечно, не идет, потому что кино давно уже стало средством для жизни, стало заработком тех, кто его снимает и кто в нем снимается. А нарисованные девушки зарплаты не получают.
Такой вой поднимется, что заработок останется только у тех кто 110 этому поводу будет спорить, то есть у кинокритиков, которые думают, что Образ получится, если играть в кино правдиво, до конца правдиво, «до самой березки», как они говорят. А фактически в кино снимают «киномясо» (есть такое выражение). То есть берут среднего артиста и лупят его до тех пор, пока он либо не заплачет, либо не начнет хохотать правдиво, как живой человек в этой ситуации, ситуации сценария, который весь выдуман. И спорят… спорят… те, кому за это платят, за споры умные и мысли. Но если бы спорами можно было делать искусство, то оно бы к этому и свелось.
Но все знают, что когда-то оно все-таки возникает, и возникает из впечатлений от искусства, которые действуют на душу. А что такое душа — не знает никто. Но на нее действует Образ, а не показ человека, который действует только на нервы. А чтобы это можно было смотреть и нервишки трепали бы, пишут сценарии о том, как некий персонаж во что-то вляпался. Он во что-то вляпался, и «киномясо» кричит, доведенное до осатанения.
Есть с десяток приемов, которые повторяются из фильма в фильм, и уже нервы тупеют и не содрогаются. И тихая бомба замедленного действия, на которой играют невинные дети, уже перестает срабатывать.
А Образ действует. Даже если не происходит ничего такого особенного, стрессового. Потому что Образ сам по себе стресс. И душа замирает от ужаса или радости. Но разговоры… разговоры… Трескотня, которой тоже было бы поменьше, если бы за трескотню не платили. А это скажешь — такой вой поднимется…
Ну, интеллектуальный муж Тони, конечно, позвонил туда, сюда… И устроил в киноинститут свою плащеносную ящерицу, которая вместо того, чтобы побежать в женщины, на что у нее всегда есть последний шанс, побежала в «киномясо», несмотря на то, что хотя у нас с ними, с бабами, нрава равные, однако обязанности разные.
И это есть шанс для начала новой цивилизации, без которой, выражаясь научно, «всему — кранты».
Да, хочешь — не хочешь, а цивилизацию все равно придется менять. Но только вот как это сделать, и кто на это пойдет?
Художники, поэты, музыканты — те, конечно, пойдут: не все, конечно, но пойдут. Женщины — с трудом. А наука? Рациональное мышление? Наука тоже не вся одинакова. Пойдет именно та самая, фундаментальная наука, которая дальше всего прошла. Экология, наука о мозге, о мышлении — именно та, которая дорылась до тупика. Тупик брезжит, и она его видит. Вот академик Раушенбах, который занимался ракетами, выступает и говорит, что кроме рационального мышления, на котором зиждется наука, есть иррациональное, и что без этого второго мышления всей жизни человеческой «Финита ля комедия!». Потому что Любовь к Родине, к Земле, Совесть — не вычислишь. А без них — никуда.
И что если на иконах есть люди, хотя и святые, и всякие ангелы, и люди верили в их взаимное сосуществование, вернее, одновременное, то похоже, что тут пахнет четырехмерным миром, как на листе бумаги, на одной стороне которого нарисовано то, что вокруг нас, а на другой стороне — совсем другое.
А если в одной картине совместить, то и получится Рублев или еще кто-нибудь из гениев. В мозгу две половинки. Левая занята рациональным мышлением, логикой, а правая иррациональная, а мы сейчас стали чересчур левополовинчатыми. А левополовинчатая цивилизация и привела к промышленности на 60 процентов ненужной, и к магазину.
Потому что средства для существования стали важнее самого существования. И потому что жить, поживать и добра наживать — это рубить сук, на котором сам же и сидишь.
А тут передали по телевизору, что в Уругвае землетрясение — такое, какого не было за всю историю Уругвая.
А я думаю:
— Ну, может не было, так есть. Землетрясение — дело природное.
А когда сообщили, что разрушены как раз места, откуда нефть качали, то и до меня, дурака, дошло: нефтяную линзу выкачали — чего ж удивляться, что обвалилось. Вот это и есть антропогенное землетрясение.
А выкачали, чтоб продать, А продали, чтобы получить деньги, и все такое… А там промышленность, разные бульдозеры, которыми землю пашут. И леса на корню бьют. Те самые леса, где и зародилась индейская цивилизация с кукурузой, картошкой и помидорами.
М-да-с… Но надежда все же есть. Потому что опыт показал: если два человека хотят истребить друг друга, но это почему-то невозможно, то хочешь-не хочешь, а додумываются, как жить по-другому.
Умник гения не любит. Умник существо рациональное, а академик Раушенбах говорит, что иррациональное поважнее, чем рациональное. Если положить на стол тыщу рублей, то рациональный умник их не возьмет. Потому что побоится последствий. А если он будет уверен, что никто никогда не узнает, что он эту тыщу рублей взял?.. А как сделать так, чтоб рука не поднялась? Раз чужое — значит, чужое. И рука не поднимается. И это и есть сначала совесть, а еще глубже — стыд, рвотное движение души. Все со всем связано. Но вовсе не только умом. Ум осмысляет то, что есть. Рационально осмысляет.
Но ум может осмыслить и иррациональное. И если есть чувство стыда, рвотного движения души, то и будьте любезны… осмысляйте, а не делайте вид, что этого нет.
Сыну моему уже пять с полтиной. И он начинает читать. Но первая книжка ему попалась, когда он еще букву «р» не произносил. И он прочел:
— «Мифы дьевней Гьеции».
Такое было название. Дальше, конечно, дело не пошло. Дальше пошли только картинки. Фотографии со скульптур и ваз. И сыну больше всего понравился, конечно, кто? Геракл. И пришлось рассказывать:
— Ну, что, — говорю, — самый сильный человек в мире.
— Самый-самый?
— Самый-самый.
— Сильнее своего отца?
— Нет, — говорю. — Отец все-таки сильнее.
Он мне поверил. Ведь я же его на руках таскаю, а не он — меня.
— А кто его отец? — он спросил.
Что было делать? Я говорю:
— Зевс.
— Который с молниями?
— Который с молниями…
— А говоришь — самый сильный человек Геракл.
— Ты сказал, я сказал… А Зевс с молниями сильнее. Он же бог, а не человек.
— А что такое бог?
— Этого никто не знает, — говорю.
— Не знают, а говорят.
— А когда не знают — всегда говорят.
— А в телевизоре сказали… — Что сказали?
— Кто самый великий писатель? Чемпион?
Я говорю:
— Чемпион? Наверно, Гомер.
— Правильно. А в телевизоре сказали, что он был сыном бога, древние греки говорили. Значит, был сыном Зевса?
Я говорю:
— Ну, у Зевса было много детей…
— И все, наверное, самые великие?
— Ну да, — говорю, — конечно. Они называются гении.
— А кто такие гении?
— Гении — это те, которые видят сны других людей.
— А остальные?
— Тоже, наверно, но забывают, вернее, не придают значения.
— Тогда и я вижу.
— Кто тебя знает… — говорю. — Может, и видишь.
— Тогда я не буду забывать…
— Не забывай, — говорю. — Ну а ты-то кто, ты-то кто, как ты считаешь?
Тогда он встал в позу, сжал кулачок и сказал:
— Я такой молоденький, лихой, голенький.
Тогда моя жена, которая его переодевала для прогулки, стала хохотать, и я стал хохотать.
— Какой, какой? — говорю, потому что сам уже забыл.
И он забыл. А слово было сказано.
Когда Тоня, наконец, стала актрисой, то есть научилась быть похожей на кого угодно (это называлось перевоплощаться), то она заметила, что, когда она высовывает из платья что-нибудь, успех ее и сходство с какой-нибудь другой женщиной были большими, чем если бы она не высовывала что-нибудь. А еще больше нравилось, если она это что-нибудь окутывала какой-нибудь мануфактурой.
И она стала сомневаться, что больше нравится: мануфактура или то, что она высовывает из нее? С промышленностью она соревноваться не могла. Мануфактуру надо было покупать. А зарплата ей этого не позволяла. Зарплата была вся в общем-то у мужиков, особенно у тех, кто занимался производительным трудом или занимал высокие посты, или успел наворовать. Но с последними лучше было не связываться, так как их периодически сажали и периодически отнимали часть наворованного, ту, которую они не успевали спрятать. А остальные мужики соглашались быть покровителями Тони. Только если она соглашалась спать с кем-нибудь из них.
А как только появлялся кто-нибудь другой, первый отпадал по разным причинам, и у Тони пропадала мануфактура, то есть добро, которое ей никак не удавалось нажить. И Тоне никак не удавалось совместить эти две вещи, чтобы она получала роли, в которых бы она нравилась всем, но чтобы мануфактуру ей давал один человек. Потому что она живет в мире, в котором средства для поддержания женской жизни стали дороже самой женской жизни и постепенно становились дороже жизни вообще.
А поменять цивилизацию она не умела. Да и кому это под силу? Она могла менять мануфактуру, чтобы из нее высовывать что-нибудь.
Это удавалось только великой актрисе Удовиченко, которая умудрялась быть прекрасной в любой мануфактуре и в любой роли. И даже любую роль стоило смотреть, если ее играла Лариса Удовиченко. По именно ее снимали мало, так как у нее не было покровителя, которому было бы все равно, что она нравится другим, а не только ему. Потому что великая актриса Удовиченко умела быть похожей на сны других людей. А остальным актрисам, и тем более остальным женщинам, оставался только магазин. Но и магазин был не выход. Потому что, как мы видим, он привел к пережиганию воздуха. А когда какой-то процент воздуха будет сожжен, то жизнь на Земле однажды может не проснуться. Без всяких войн. А выход был под боком, но на него никто не шел, гак как не верилось, что дела обстоят так плохо.
На дворе стояла плохая погода.
Сын повесил веревку между ручками дверей, а на нее бумажку с надписью, и ходить мне мешал. Ему-то хороню — ручки двери как раз над его головой, а мне надо сгибаться в три погибели.
— А что у тебя на бумажке написано? — спрашиваю.
А он отвечает:
— Это магазин. Видишь, на полу набросано.
— А что у тебя на бумажке? — спрашиваю.
— Магазин закрыт на варавство.
— Та-ак, — говорю, — А после чего они будут делать?
И сын ответил:
— Они станут жить-поживать…
Ну, думаю, дальше я знаю:
— И добро наживать.
Но сын ответил по-другому:
— Они станут жить-поживать и бога ждать.
Извините меня, но я не решился поправить. Мало ли…
И вот тут у меня впервые мелькнула мысль, даже не мысль, а, я бы сказал, идея. Идея всегда шире мысли. До мысли еще надо добраться.
Ведь если действительно магазин закрыт на воровство, то это значит, что они все там собрались, все те, кто привел цивилизацию к магазину, и обдумывают, как дальше быть?.. То есть, как уворовать? Все то положительное, что будет вновь придумано. А уворовать можно было все. Практически. То есть как сделать так, чтобы выдумать такое, чтобы выдумкой нельзя было воспользоваться? А ведь всеми выдумками пользуются. И это и есть цивилизация. То есть как было выдумать такое, чтобы это не выглядело выдумкой? Потому что даже отменой цивилизации можно было воспользоваться и как-то уворовать плоды этого дела.
Передо мной стояла грандиозная задача, которая должна была перекрывать все мыслимое и даже немыслимое. И причем задача реальная, которая не укладывалась ни в какие концепции. То есть выдумка должна быть такая, которая не могла бы прийти в голову всему сонму дьяволов, которые там заперлись и вывесили табличку: «Магазин закрыт на воровство».
У меня кружилась голова от предстоящей задачи. Надо было опереться на что-то реальное. Реальное стояло передо мной. Жена смеялась.
— Слушай, а все же, кто же ты такой? — спросил я грандиозного сына.
И тот пожалел меня и ответил в той же интонации, выставив вперед туго сжатый кулачок:
— Я такой молоденький, лихой, голенький…
То есть он сказал то, чего я не мог сказать о себе, хотя если разобраться, то я не мог сказать о себе только первое — то, что я такой молоденький. Нет, я далеко не молоденький. А вот лихой ли я? Как сказать… Если я затеваю поиски того, чем эти дьяволы не могли бы воспользоваться, то в случае удачи… Как знать… Может быть, и лихой. А что касается того — голенький ли я? А пожалуй, так оно и есть. Голенький. Сама задача делала меня голеньким. То есть все, что я придумываю, я должен был тут же откидывать. Потому что то, что я мог придумать, мог придумать и другой. А значит, это уже тенденция. И значит, тенденцией можно воспользоваться. Магазин-то ведь закрыт с вполне определенными целями, и они там готовятся. Ко всему тому, что я мог придумать. И я взвыл: «Я? Ну почему опять я?» И в ответ на эту простую мысль возникал простой ответ: «А почему не ты? Взялся за гуж — не говори, что не дюж»… Но я знай свое вопил: «Я ни за какой гуж не брался!» Я даже не очень хорошо помню, что означает слово «гуж». Какой гуж?. Почему гуж? Я смутно помнил, что есть какой-то гужевой транспорт, лошадиный, что ли… Значит, «гуж» — это что-то на лошади? Гуж! Откликнись! Кто ты?!!
Но Гуж не откликался…
Однако вернемся к Тоне. Мы ее оставили в тот трагический момент, когда она думала, как совместить необходимость мануфактуры, которую она получала от одного человека и при которой она нравилась всем остальным, если что-нибудь из мануфактуры высовывала свое, с необходимостью спать со всеми, кому она нравилась. А тут еще эти Образы… Надо было изображать не человека живьем, а какой-то Образ. Хрен его знает, что это такое… Все об этом по-разному говорят. Но если в результате ты не создал Образ, то ты опять меньше нравишься, и тебя не берут сниматься на следующий фильм. И твои шансы на мануфактуру опять понижаются.
Образ… Образ… Заладили… Люди, в общем-то, хотят видеть правду, а Образ это то, что в голове. Но беда в том, что голова-то живая. И принадлежит живому человеку. А, стало быть, и Образ — жизнь. Какую правду хотят видеть люди? Которая снаружи или которая внутри их?.. А… И ту, и другую. Только как это совместить? И есть куча специалистов, которые знают, как это совместить, но сами почему-то не совмещают. Зато объясняют это тем, кто это умеет совмещать и так.
Конкуренция… Конкуренция… Всюду конкуренция. Это просто ужас какой-то! Куда ни кинь — всюду конкуренция! То есть всюду клин!
А как бы хорошо найти в жизни такое место, где никакой конкуренции. И ты делаешь свое маленькое дело, свой маленький бизнес, и повышаешься, повышаешься… И становишься не таким маленьким, и у тебя все больше становится наличной мануфактуры.
Смешно, Тоня, неужели ты думаешь, что можно придумать что-то такое, чем кто-то не сможет воспользоваться? Магазин-то ведь закрыт на воровство. И они там сидят и предусматривают все, что можно придумать. С тем, чтобы потом все это под каким-то соусом уворовать.
Так вот, например, жена заметила: как только получим пачку индийского чая во фронтовом заказе (хорошая пачка — дефицитная, запечатанная), обязательно, как откроешь бумажную обертку с одной стороны, с какой-нибудь, так видно, что ее уже открывали перед тем, как продать эту пачку, — скомканная фольга. А с другой стороны — запечатанная на автомате. А зачем открывали? Чтоб взять оттуда щепотку. Ну сколько можно взять? Чтоб было незаметно? Грамм пять. Грамм пять стоит копейки три. Не разбогатеешь. А сколько в ящике пачек индийского чая? Пачек 400? Значит, ящик дает дарового заработка — рублей двенадцать. Вряд ли стоит из-за такого мараться. А вот если наладить дело так, чтобы открывать все пачки во всех ящиках, тогда на каком-то уровне это реальные денежки. Значит, или надо искать какого-то одного человека, который имеет доступ ко всем ящикам, либо целую фирму. А кто станет мараться из-за одной пачки, хоть и дефицитной…
Так и живем. Курочка по зернышку клюет, а сыта бывает.
А тут по телевизору в московской программе показывают возмущение журналиста, который описывает возмущение директора одной мануфактурной фабрики. Спросом пользуются какие-то одеяния из черного полотна, а черное полотно поступает с другой мануфактурной фабрики. Журналист — туда. А там говорят: «Выслали. Все, что полагается. Столько-то тонн». И документы показывает. А в первой фабрике тоже документы показывают: они не получали эти тонны. Но дело опасное. ОБХСС докапывается. Тогда вторая фабрика начинает присылать черное полотно, но к нему нет черных ниток. Не освоили еще. Аппаратура не позволяет. А аппаратура — дело темное. Тут ОБХСС не сделает, не сделает ничего. А дело-то проще простого. Надо было искать того, кому все это было так или иначе выгодно. Закон Кристалловны! Ничего не попишешь. (Смотри роман «Записки странствующего энтузиаста», часть вторая.) Ну что можно сделать? Закон Кристалловны гласит: «Если в мире что-то неладно — ищи того, кому это выгодно!» А значит, второй фабрике выгодно, чтобы так было. А как сделать так, чтобы второй фабрике было невыгодно? Только одним способом — сделать так, чтобы второй фабрике было выгодно заваливать первую фабрику черным полотном и черными нитками. А это можно сделать, если только она, вторая фабрика, зарплату будет получать не от государства, а от первой фабрики. Вторая фабрика не поставила черное полотно и черные нитки, значит, зарплату не получила от первой фабрики. И если вторая фабрика будет получать зарплату от первой фабрики, а не от государства, то первая фабрика будет завалена черным полотном и черными же, так необходимыми ей, нитками.
Я, правда, не очень убежден, что черное полотно, сшитое черными нитками, и есть та мануфактура, которая потребуется Тоне всегда и во всех случаях жизни, но сейчас — требуется. Потому что сейчас она у Тони в моде. Потому что, видимо, если из черного что-то высунешь свое, то это заметней, чем если из цветного. И Тоня опять может получить роль в кино, где она будет делать не то правду жизни, не то Образ этой правды. Кормиться сама и кормить кучу необходимых себе самим специалистов. Но это уже ее проблема. А в двух фабриках так: выгодно, чтоб не было неполадок — не будет неполадок, невыгодно, чтоб не было неполадок — неполадки будут. Конечно, и этой выдумкой — получать зарплату от заказчика, а не от государства в целом — тоже со временем воспользуются и как-нибудь обойдут ее, закрывшись в очередной раз на воровство. Но не сейчас, а потом. И, значит, будет передышка.
Мне всегда было больше всего любопытно — можно ли из хороших кусков получить хорошее целое? То есть можно ли доработаться до Образа? То есть что Образ может прийти в голову сразу, неизвестно откуда, — это сомнений не вызывало. А что с ним делать дальше? Разбивать на подробности? На пуговицы? Зачем? Ведь он же действует именно в таком виде, в таком ключе, в таком тоне… как он и появился. Все остальное будет его только ослаблять. То есть вопрос стоял так: разменивать ли рубль на копейки или с копеек складывать рубль? Накапливать Образ? Или делить его на подробности? В Образе было что-то похожее на жизнь. Можно ли в начале жизни запланировать целое? Или целое само сложится? Из подробностей жизни?
Но был еще и третий путь. Написать все вчерне, а потом — бесконечная обработка: доделочки, подправочки с точки зрения уже увиденного целого. Но это бы было похоже на то, как если бы сначала построить город, а потом переделывать его дома. То есть — бесконечный ремонт города, в котором люди уже живут.
Однажды мне в голову пришла мысль, не похожая на воровство. «Позвольте… — завопил я от неожиданности. — Но ведь вся проза это описание того, что уже было». Значит, каждая проза это историческая вещь. Пока она будет написана, а уж тем более напечатана, все описанное в прозе уже ушло. Может быть, и осталось кое-что, а основное ушло. То, что грело и задевало. Я могу, конечно, в воображении заниматься прогнозами, но едва ли они исполнятся, потому что жизнь, живая жизнь вносит поправку в любые прогнозы. Даже в области техники. А уж остальное-то, самое интересное, оно и вовсе непредсказуемо. Да и вообще, какое кому дело, как я изготовляю это блюдо?
Человек приходит и хочет получить впечатление. Одна вещь вызывает впечатление, другая его не вызывает. Вот и вся разница.
Все остальное — мифы. Мифы были и до Гомера. Но пропел про них — он. Он, «сын бога», как говорили о нем древние греки. А мой сын слышал это по телевизору. А у бога было много детей. О чем мы тоже знаем из мифов, которые пропел Гомер.
Какое до всего этого дело Тоне, которая теперь занимается духовной жизнью, непыльной и неплохо оплачиваемой?! Лишь бы дали роль, при которой из мануфактуры можно было высунуть что-нибудь свое. И она была уже почти уверена, что это и есть духовная жизнь. Духовная жизнь, о которой она знала, тоже из мифов, хотя и не Древней Греции. Госсподи, мифы Древней Греции — такое старье!
Тоня! Тоня! А как все-таки быть насчет землетрясения в Уругвае? Да. Как быть с этим землетрясением?
Занимаешься ли ты пьянкой в татарском плодоовощном музее, от которого остаются лишь воспоминания о восковом Петре Первом и реальные фингалы? Или ты занимаешься болтовней о духовной жизни? Антропогенное землетрясение в Уругвае ведь было на самом деле. И выходит, что ты тому есть причина. Землетрясение-то антропогенное! То есть созданное человеком, имеющее причину в человеческой деятельности. Нефтяную линзу выкачали — вот все и обвалилось, И ведь как быть? А ведь тебе еще предстоит красотой спасти мир.
Действительно, а как быть? Даже если ты додумаешься до этого. Ведь всякой выдумкой можно и воспользоваться, и рано или поздно появится табличка на дверях: «Магазин закрыт на воровство». Как в этих обстоятельствах поступать Тоне, у которой сеть считанное количество лет, чтобы убежать от старости, как той плащеносной ящерице. Да, как же ей поступать? Не цивилизацию же в самом деле ей изменять? Да и как это сделать? Ясно только одно, что старый способ «жить-поживать и добра наживать» не проходит. Тут туник. И тупик именно потому, что «жадность фрайера сгубила». И что какие-то самодеятельные средства для жизни грозят самой жизни и, стало быть, надо эти средства отменить. Иначе жизнь сама отменится. А что тогда будет с Тоней — вершиной цивилизации и биосферы?
…Вернемся к тем временам, когда Тоня еще не была вершиной биосферы и еще только начинала свои труды в области культуры, снимаясь в киномассовках. Это есть чрезвычайно важный момент, потому что именно там ее приглядел Ефим Палихмахтер.
А надо сказать, что это было в те времена, когда наступила эпоха перестройки и гласности. И что если до этого жили так, то теперь надо жить эдак… И Ефим Палихмахтер понял, что его время пришло. Позволяют развернуться. Почему бы и нет? Или сейчас, или никогда! — понял Ефим Палихмахтер.
Главное было теперь проявить инициативу. Инициатива! Инициатива — это все! И он, как умный человек, угадал в Тоне скрытую инициативу. Ого! Скрытую! Знал бы он ее продовощное прошлое! И все бы получилось один к одному, все он предусмотрел. А вот — неудача. Или, как бы выразилась Тоня, «вот недостача!»
Случай, живая случайность или попросту — жизнь свела его со мной. Ну все рассчитал человек, буквально все. А тут не сообразил. У меня была старая, давным-давно написанная вещь — пьеса о Франсуа Вийоне. Был такой поэт во Франции. Сколько-то времени считался отверженным и непрестижным, а теперь вся французская поэзия считает от него всю литературную генеалогию новых времен. А нам какие причины были ставить эту пьесу? Ее и не ставили. Не ставили пегому, что до эпохи гласности официально считалось, что у нас такого нет. Зато теперь, в эпоху гласности, выяснилось, что у нас такого сколько хочешь.
И Ефим Палихмахтер понял — вот оно! Судьба дает в руки единственный случай. Он все учел: и возможность прославиться и выйти в люди, и роль для Тони есть. И он только не учел, что пьеса имеет свое содержание. Если пьеса для того, чтобы влиять на окружающих, то первыми окружающими будут артисты, как бы они ни выглядели и какими бы творческими концепциями не содрогались. Все учел Ефим Палихмахтер. Он только не учел, что Тоня будет играть «Образ», А Образ сфотографировать нельзя. Нарисовать можно, а сфотографировать — нет! И стало быть, игровому кино он неподвластен, а театру — пожалуйста. Театру — сколько хочешь.
Но Ефим Палихмахтер хотел кино. Не будем рассказывать, как он это устроил, но он это устроил. И начальство, перепуганное эпохой перестройки, решило ему не мешать. А вдруг он действительно то самое новое слово в режиссуре и, главное, в кинематографии, которого ждут и за которое получают премии, так необходимые для критики. То есть, заработала вся кормушка, которая тщательно скрывает, что она — кормушка.
АКТ ПЕРВЫЙ
Явление 1
Длинная низкая стена, почти белая от старости. Из-за стены виднеются черно-зеленые вершины деревьев. Бледный день. Через стену летит сверток бумаги… другой… третий… Над стеной появляется голова. Худой человек садится на стену: тощее и хмурое лицо, небольшой рот… Это Франсуа.
ФРАНСУА (спрыгивает со стены, видит сверток). Ну вот. Стоило начинать новую жизнь, если опять эти вонючие записи лекций торчат перед глазами. Пожалуйте обратно. (Кидает сверток обратно через стену.) Бернард Клервосский, Тертулиан. Самый рваный, конечно, Фома. Профессору по голове — лети! Все тихо. Значит, опять не повезло. (Садится.) Тошно. Вытерпел двенадцатичасовой экзамен. Вытерпел речи ослов-экзаменаторов. Но не смог вытерпеть мысли, что придется говорить благодарственную речь. Уважаемая альмаматер и вы, дорогие преподаватели, позвольте… и так далее… Тьфу! Я всегда срываюсь перед самым концом. Франсуа, у вас нет терпенья. Но что же дальше? Вы неправильно себя ведете, Франсуа. Если уж лизать руки, то нельзя показывать отвращенья. Но это самое трудное! Меня быстро разоблачают. Так, как я хочу жить, я не могу, а как могу — не хочу. И прежде всего, что делать с сердцем, которое так чувствительно к пинкам и царапинам?.. Устал… (Опускает голову ни руки. Вытирает руками лицо. Видит лужу.) Вот и лужа. И Франсуа Вийон около нее… (Смотрится в лужу.) Такой прекрасный малый, такой отличный жених — и такая грусть в глазах и в душе! Почему? Почему, когда все люди смеются, у вас, метр Франсуа, в душе печаль и воздыхания, а когда люди плачут, у вас пупок развязывается от смеха. Почему? Молчит лужа.
Входит Буассон.
БУАССОН. Франсуа! Почему…
ФРАНСУА. Лужа.
БУАССОН. Франсуа, почему ты ушел? Почему мы должны отдуваться за твои причуды?
ФРАНСУА. Острый вопрос. А почему мои причуды должны отдуваться за то, что вы отдуваетесь за мои причуды? Вот тоже острый вопрос.
БУАССОН. Франсуа, умоляю тебя, будь серьезней.
ФРАНСУА. Буассон, я держусь на ниточке самолюбия. Еще одно слово — и я разрыдаюсь. Не тревожь меня, друг. Меня тошнит от проклятого университета. Мне остомерзела сорбоннистая земля этой Сорбонны настолько, что я перелез через стену.
БУАССОН. Тише, идет Гильом.
Входит Гильом.
ГИЛЬОМ. Поздравляю вас, Франсуа, вам присвоили званье магистра.
ФРАНСУА. Я почти так же велик, как и вы, Гильом. Идеал, конечно, недостижим, но упорным трудом я надеюсь…
ГИЛЬОМ. Я не понимаю, за что вы на меня сердитесь. Все мы преклоняемся перед вашим талантом, но зачем вы терзали учителей?
ФРАНСУА. Учителя — душители, племя их неистребимо! Они берут ученика и суют его в ящик-форму для испечения себе подобных. Не дай бог, если ученик не влезает в этот ящик, — ему отстригут выступающие части. Отстригши голову ученику, объявляют его дураком безголовым, в отличие от соседа, у которого голова на плечах. А у соседа голова на плечах потому, что он на голову ниже, и это преимущество позволило ему не вылезать из ящика! Не вылезай из ящика — вот главная мудрость! Не вылезай из ящика, Франсуа!
ГИЛЬОМ. Франсуа, годы ученья позади. Мы покидаем эти стены, которые служили нам приютом, и перед нами открываются…
ФРАНСУА. Гильом, я знаю наизусть вашу дипломную речь. Если мне не изменяет память, это я ее и написал.
ГИЛЬОМ. Франсуа… Э-э… зачем об этом говорить? Я хотел вас познакомить с моими друзьями. Они будут рады принять вас в свое общество.
БУАССОН. Вы не спросили, будет ли рад Франсуа.
ГИЛЬОМ. О-о!
ФРАНСУА. Буду рад, Гильом. Не сомневайтесь. Действуйте, Гильом.
Гильом уходит.
БУАССОН. Франсуа, зачем тебе эти щеголи?
ФРАНСУА. А что ты мне предложишь взамен? Давить вместе с тобой клопов в городской ратуше?
БУАССОН. Франсуа, я тебя не узнаю!
ФРАНСУА. А ты думал, что смотришься в зеркало?
БУАССОН. Нет, конечно, но мы, которые тебе поклонялись… Нам может показаться, что ты ложный талант…
ФРАНСУА. Ах, опять что-то у меня вылезает из ящика.
БУАССОН. Ты ложный талант, Франсуа!
ФРАНСУА. И это все? Страшнее ничего нет? Ты серенький, Буассон, а мне нравятся и остальные цвета тоже.
БУАССОН. Не хочу с тобой говорить!
ФРАНСУА. Нет, почему же? Содержательная беседа. Особенно, когда приятель скромно предлагает следовать всю жизнь его советам. Зачем такая скромность, Буассон? Ты заметил? Меня просят о знакомстве, а не я просил. Неужели я упущу случай, который — все! (Замечает приближающихся щеголей.) Отойдем. Они изволят прогуливаться. Пусть не подумают, что я их поджидаю. С ними Генрих. Знаешь, меня к нему тянет.
Появился Гильом, Генрих, Сен-Поль и Ла-Гир. Гильом от щеголей направляется к Франсуа и Буассону.
ГЕНРИХ (вслед). Гильому-то что от них нужно? Вийон, как всегда, не умолкает ни на секунду. Он невыносим.
СЕН-ПОЛЬ. Генрих, Генрих, ты к нему несправедлив. Он действительно остроумен.
ЛА-ГИР. Остроумие у него вымученное. И потом, он ужасно суетлив. В нем за версту чувствуется выскочка.
ГЕНРИХ. Отсутствие породы. Больше ничего.
ЛА-ГИР. Бедняга, он так старается привлечь наше внимание и, увы, такие отзывы.
СЕН-ПОЛЬ. Предсказываю, он сейчас полезет с нами знакомиться. Генрих, как твой духовник, протестую.
ЛА-ГИР. Ха! Этот болван Гильом уже ведет его сюда.
ГЕНРИХ. Гильом не поумнел.
ГИЛЬОМ. Господа, позвольте вам представить метра Франсуа Вийона. Аббат де Сен-Поль, Генрих Арманьяк, Жак Ла-Гир.
ФРАНСУА. Совершенно неясно, почему я метр. Однако это несомненно. Это так же несомненно, как то, что метр — это я. Но я Франсуа Вийон, следовательно, Франсуа Вийон — это метр. Логическая фигура округлилась. Не беда, если эта фигура кусает сама себя за хвост. Округлость ее форм сияет убедительностью и внушает почтенье.
СЕН-ПОЛЬ. Не в таком темпе, метр, не в таком темпе. Мы всего только бакалавры.
ЛА-ГИР. Несмотря на округлость, эта логика застревает в глотке.
ГЕНРИХ. От нее пахнет чернилами.
ФРАНСУА. О, дорогой запах чернил. Горечь твоя напоминает о корне ученья, который горек. Мухи, плавающие в чернилах, очевидно, должны говорить о плодах ученья, которые сладки.
ГЕНРИХ. Франсуа, я хочу вас познакомить со своим отцом. Вот он идет сюда. Прощайте, господа.
БУАССОН (стираясь сохранить достоинство). Ну я, пожалуй, пойду, Франсуа.
ФРАНСУА. Прощай. Сейчас я буду соблазнять папашу Арманьяка.
АРМАНЬЯК (подходя). Генрих, ты мне нужен.
ГЕНРИХ. Отец, познакомьтесь с моим другом, метром Франсуа Вийоном.
ФРАНСУА. Счастлив я видеть воина, славного и могучего.
АРМАНЬЯК. Очень приятно. Генрих, плохие новости. Свадьба твоя расстраивается. Есть некоторые обстоятельства.
ГЕНРИХ (равнодушно). О, я плачу. Отец, метр Франсуа — автор «Чертова камня».
ФРАНСУА. Боже мой, Генрих, это печально. Она вам отказала. У вас есть соперник?
ГЕНРИХ (равнодушно). Вероятно.
ФРАНСУА. Прошу прощенья. Мне показалось, что дело шло о любви.
АРМАНЬЯК (Вийону). Ты мне нравишься… Генрих, приведи его как-нибудь к нам.
ФРАНСУА. Разрешите вас оставить, господа. (Уходит.)
АРМАНЬЯК. Генрих, где ты его откопал?
ГЕНРИХ. Пригодится.
АРМАНЬЯК. Но этот проходимец лезет совершенно открыто.
ГЕНРИХ. Он лезет туда, где ему приготовлена кормушка. Не дальше.
АРМАНЬЯК. Генрих, чтобы добиться успеха, надо окружать себя мечами, а не перьями.
ГЕНРИХ. Как знать? Времена меняются.
Явление 2
Переулок на берегу Сены. Поздний вечер. Входят полупьяные щеголи во главе с Генрихом. С ними Франсуа.
ГИЛЬОМ. Вот здесь хорошо. Передохнём.
ФРАНСУА. Генрих, сколько времени я с вами путаюсь, и все еще не вижу в этом никакой выгоды для себя. Мне казалось, что у вас веселее. Без вас я не шлялся по кабакам, с вами я шляюсь — вот и вся разница. Где же розы высокого вкуса, брошенные под ноги острого ума?
СЕН-ПОЛЬ. Если выражение «розы высокого вкуса» обличает хороший вкус, то что значит «ноги острого ума»? Это что-то не по-французски.
ФРАНСУА. Господи! Человек, который не знает, сколько пальцев на руке, берется рассуждать об анатомии. Вы режете живое выражение и обсуждаете огрызки. Вы — убийца.
СЕН-ПОЛЬ. Франсуа, придержите язычок.
ГЕНРИХ. Франсуа боится, как бы его не сочли за блюдолиза, и старается показать независимость.
ГИЛЬОМ. Ха-ха-ха!
ФРАНСУА. Вы угадали, Генрих, но вы меня обидели. Я посылаю вас всех к черту и ухожу. Прощайте.
ГИЛЬОМ. Господа, господа, перестаньте. Никто ничего не сказал.
ГЕНРИХ. Я не хотел вас обидеть, Франсуа. Я сказал, не подумав.
ФРАНСУА. Правда, Генрих? Я хотел бы поверить. Мне очень хочется остаться. Мне наплевать на ваших приятелей, но к вам меня тянет.
ГЕНРИХ. Вы… странный человек… Я просто тронут. Но нельзя же все говорить вслух. Давайте обнимемся, Франсуа!
ФРАНСУА. Генрих! (Обнимается с ним.)
СЕН-ПОЛЬ. Ах-ах, любовь с первого взгляда.
ФРАНСУА. Молчи, поп!
СЕН-ПОЛЬ. Что вы изволили…
ГЕНРИХ. Молчи, поп.
СЕН-ПОЛЬ. Конечно, я не способен понять ваши тонкие чувства…
ЛА-ГИР. Ты глуп.
В конце сцены появляются горожанин и его жена.
СЕН-ПОЛЬ. Возможно… возможно… А вот идет отличный писец.
ГИЛЬОМ. Нет, это не писец, это нотариус.
ЛА-ГИР. Это не нотариус, это главный судья. Франсуа, посмотри. Вот идет судья. Ведь вы судья, сударь? У вас около горла торчит протокол. Ах, простите, это воротник.
ГОРОЖАНИН. Я с вами не знаком, сударь.
ЛА-ГИР. Франсуа, он со мной не знаком. Ты слышишь? И это говорит судья!
ФРАНСУА. Это не судья, это муравьиный король.
ЛА-ГИР. Почему ты думаешь?
ФРАНСУА. Во-первых, у него жирные плечи, а во-вторых, он тащит к себе в гнездо прелестного мотылька. Куда он вас тащит, мадемуазель?
ГОРОЖАНИН. Пустите меня! Вы оскорбляете мою жену! Вы мне за это ответите.
ФРАНСУА. Месье, месье, остановитесь? Вы забываете главное муравьиное правило. Когда тащишь жертву, нужно сохранять хладнокровие! Вот видите, вы не можете открыть калитку, у вас дрожат руки.
ГОРОЖАНИН. Вы… Как вам не стыдно?! Вы мне годитесь в сыновья!
ФРАНСУА. Я вам гожусь в сыновья, а ваша жена годится мне в дочери! Стыдитесь, вы муж собственной внучки.
ГОРОЖАНИН. Тот негодяй, кто издевается над чужим счастьем!
ФРАНСУА. Папаша, я просто завидую. Будь у меня столько денег, сколько у вас, я бы тоже купил себе такую красавицу.
ЖЕНА. Идемте же. Вашу жену оскорбляют!
ФРАНСУА. Прощай, отец. Прощай, дочка, не ждите меня к ужину, я сегодня задержусь.
СЕН-ПОЛЬ. Согретый лаской Генриха, Франсуа распускается как роза. А почему хихикает Гильом?
Входит ремесленник, падает, споткнувшись о палку. Вот почему хихикает Гильом.
РЕМЕСЛЕННИК. Ох!
ГИЛЬОМ. Ха-ха-ха-ха! Что, не нравится? Пусти, ты с ума сошел! Пусти, я говорю! На помощь! Ко мне!
РЕМЕСЛЕННИК. Что, не нравится?
СЕН-ПОЛЬ. Бей его.
РЕМЕСЛЕННИК. Пятеро на одного. Так у вас водится?!
ГИЛЬОМ. А ты как думал?
ЛА-ГИР. Да ведь это Жак. Жак — простачок, Жак — серенькая скотинка. Как поживаешь, Жак? Хватает ли сена на еду?
РЕМЕСЛЕННИК. Сено все ослы пожрали, всё родня ваша.
ГЕНРИХ. Но-но, Жак, не забывайся!
РЕМЕСЛЕННИК. Да, я Жак. Я свое имя ночью не прячу, как вы.
ГЕНРИХ. Господа, представимся ему.
ВСЕ. Сен-Поль, Ла-Гир, д'Арманьяк, Вийон.
ЖАК. Ага, господские сынки шалят на улицах. Ну, эту повадку сразу видать. Последнего что-то не разобрал. Вийон, говоришь? Врешь. Наш Франсуа Вийон — наш поэт, а не господская проститутка.
СЕН-ПОЛЬ. Крепко сказано!!
Франсуа кидается на Жака и сталкивает его в Сену.
ЖАК (вылезая мокрым). Франсуа, я пел твои песни.
ФРАНСУА. Прощай.
Жак уходит.
Получается не очень-то весело.
СЕН-ПОЛЬ. Кому как.
ГИЛЬОМ. Ну, этот случай я не упущу. Приближается женщина.
Входит женщина.
ЛА-ГИР. Виват! Женщина, женщина! Т-ссс, не спугните. Стоп!
ЖЕНЩИНА. Ай!
ЛА-ГИР. Ловко, сразу в обморок. Гильом, тащи ее в сторону.
ЖЕНЩИНА. Пустите меня! Пустите!
ГИЛЬОМ. Молчите, мадемуазель, и все будет хорошо.
ЖЕНЩИНА. Пощадите меня, месье, что вы делаете?! Умоляю вас!
ГИЛЬОМ. Ну не надо ломаться.
ЖЕНЩИНА. Пустите! (Вырывается.)
СЕН-ПОЛЬ. Стоп! Куда! Нет, не пущу!
ФРАНСУА. Пустите ее, Сен-Поль!
СЕН-ПОЛЬ. Не путайся под ногами, Франсуа!
ФРАНСУА. Пусти, я сказал! (Отталкивают Сен-Поля от женщины.)
СЕН-ПОЛЬ. Так… Так…
ЛА-ГИР. Вы проявляете похвальную доблесть…
СЕН-ПОЛЬ. За наш счет.
ЛА-ГИР. Ловко у вас получается, Франсуа. И нашим, и вашим. Надо выбирать, кому служить, Франсуа.
ФРАНСУА. Я никому не служу. Я сам по себе.
ГИЛЬОМ. Он воображает…
СЕН-ПОЛЬ. Верно этот Жак сказал, что он проститутка!
ФРАНСУА. Если этот вонючий поп не уберется отсюда, я обрублю ему уши.
СЕН-ПОЛЬ. Что ты сказал? (Кидается на Франсуа.)
Франсуа дерется с Сен-Полем. Тот падает. Франсуа стоит ошеломленный.
ГИЛЬОМ. Генрих! Городская стража! Бежим!!
Франсуа неподвижен.
ФРАНСУА. Сударыня, я Франсуа Вийон. Как ваше имя, сударыня?
ЖЕНЩИНА. Катерина де Вессель… Месье, бегите скорее!
Франсуа и женщина торопливо уходят. Вбегают стражники.
СТРАЖНИК. Смотри, убитый!
ДРУГОЙ. Нет, живой. С нами крестная сила. Священник! Святой отец, кто на вас напал?
СЕН-ПОЛЬ (хрипит). Не заметил.
Явление 3
Комната в доме Катерины де Вессель, возлюбленной Франсуа. Катерина и Франсуа целуются.
КАТЕРИНА. Франсуа, милый. Как я тебя люблю…
ФРАНСУА. Знаешь, у меня какой-то осадок в сердце…
КАТЕРИНА. Забудь об этом, умоляю тебя… Я сказала глупость… Я совсем не подумала, что это можно так понять! Никаких денег, никаких подарков мне от тебя не надо, мне нужен только ты… только ты. Мне нужно, чтобы ты писал свои стихи…
ФРАНСУА. Я буду писать… Я буду писать о тебе… Мне это не трудно. Стоит мне подумать о тебе, как у меня поет сердце. Слышишь… Я многое могу… Я могу брать с неба звезды и сыпать их тебе в окно по утрам целыми пригоршнями… Я могу написать на воде Сены твое имя, и влажный блеск потечет до самого Дофина, а в Пуату прочтут написанное… Смотри, я говорю «Катерина» — и каштаны зашумели, как от ветра.
КАТЕРИНА. Подожди, Франсуа… У меня кружится голова… Когда ты так говоришь, у меня всегда кружится голова… Знаешь, это даже несправедливо, что одному человеку достается такой дар… Мне иногда кажется, что ты самый сильный поэт из всех, какие читали мне стихи. Конечно, ты пишешь неправильно… Может быть, у меня плохой вкус… Но мне нравится, как ты пишешь…
ФРАНСУА. Мой дар — это ты.
КАТЕРИНА. Скажи мне это еще раз…
ФРАНСУА. Мой дар — это ты.
КАТЕРИНА. Да… Приятно было это слышать… Но это не так… Твой дар — это ты. А я просто маленькая женщина, которой хочется счастья. Интересно, кто мне принесет счастье?.. Неужели ты, Франсуа?
ФРАНСУА. Я, Катерина, только я.
КАТЕРИНА. Не знаю… Ты слишком горяч… Ты все принимаешь чересчур всерьез. Тебе нужно быть спокойней.
ФРАНСУА. Хорошо… Я постараюсь… Я все хотел тебя спросить, Катерина. Откуда у тебя цветы?
КАТЕРИНА. Это от графа д'Арманьяка.
ФРАНСУА. Что?! От кого?..
Пауза.
КАТЕРИНА. Мне так неловко, Франсуа. Я тебе хотела сказать, как только ты пришел. Но ты заговорил совершенно о другом, и потом стало как-то глупо говорить об этом.
ФРАНСУА. Ну…
КАТЕРИНА. Что ты так говоришь со мной?
ФРАНСУА. Ну-ну!
КАТЕРИНА. Приходил Генрих, и…
ФРАНСУА. Генрих?!
КАТЕРИНА. Франсуа! Я назвала его Генрихом, потому что ты его так называешь постоянно!
ФРАНСУА. Катерина, и ты его приняла?!
КАТЕРИНА. Ну что тут такого?
ФРАНСУА. Ты его приняла после того, как он хотел тебя обесчестить?!
КАТЕРИНА. Но он же приходил извиняться!
ФРАНСУА. А, черт! Кто его просил об этом! И самое главное, что этого для тебя достаточно!
КАТЕРИНА. Но ты же его сам выделял из остальных!
ФРАНСУА. Чепуха! Сказать по правде, я его тебе расписывал потому, что мне было стыдно перед тобой за мою компанию! Такой же мерзавец, как и все остальные. Значит, для тебя достаточно простого извинения?
КАТЕРИНА. Франсуа, я не позволю тебе так со мной разговаривать!
ФРАНСУА. Катерина, мне начинает становиться страшно! Вот ты уже пытаешься воспользоваться тем, что я сказал грубость! Я уже не могу узнать истину! Ты этого добиваешься, Катерина?
КАТЕРИНА. Ты хочешь поссориться?
ФРАНСУА. Я узнаю когда-нибудь всю историю или нет?! Катерина!
КАТЕРИНА. Пожалуйста! Пожалуйста! Ты же сам не даешь сказать ни слова! Он гораздо лучше к тебе относится, чем ты к нему!
ФРАНСУА. Еще бы! Не я пришел к его невесте, а он к моей!
КАТЕРИНА. Да! Да, гораздо лучше! Он выхлопотал у короля тебе помилование! Только благодаря ему ты вернулся в Париж!
ФРАНСУА. Это он тебе сказал?
КАТЕРИНА. Да! Да!
ФРАНСУА. А сказал ли он тебе, что если бы он не добился мне помилования, я бы выложил в суде кое-что похуже о них самих! Он тебе цветы прислал или сам принес?
КАТЕРИНА. Принес! Принес! Назло тебе!
ФРАНСУА. Он после моего приезда не приходил?
КАТЕРИНА. Конечно, нет.
ФРАНСУА. И ты хочешь сказать, что цветы сохраняли свежесть две недели? Что это, Катерина? Что это?.
КАТЕРИНА. Ну, он был еще раз. Не знаю, почему я тебе не сказала. Ты так на меня напустился… Ты совсем бешеный… ФРАНСУА. Любопытно, почему голова у меня работает даже тогда, когда меня распирает ярость? Почему я не поражаюсь, когда узнаю гадости о своей возлюбленной? Надо заглянуть в свою душу… может быть, эта гадость живет во мне, и поэтому я так легко ее нахожу в других…
КАТЕРИНА. Да уж, это так.
ФРАНСУА. Может быть — да, а может быть, и нет… Ты так обрадовалась моей откровенности… Я же ищу оправдание тебе. Ты думаешь, мне легко видеть, как ты становишься похожей на других бабенок?
КАТЕРИНА. И это говоришь ты?! Ты осуждаешь Генриха?! А разве не ты участвовал во всех их гадостях? Разве не ты с ними пытался меня обесчестить?! Чем же ты лучше Генриха?!
ФРАНСУА. Как?! Да ведь я стал на твою защиту! Я выручил тебя из беды, в которую тебя хотел вовлечь Генрих! Генрих! КАТЕРИНА. Подумаешь, заслуга! Ты сам сказал, что влюбился в меня с первого взгляда! Ты просто решил отстоять меня для себя!
ФРАНСУА. Ты… посмела повернуть против меня мою любовь?! Хорошо… Почему же Генрих так не поступил, как я? Он тоже мог отстоять тебя для своих надобностей! Мы бы ему уступили… А?..
КАТЕРИНА. Он просто не разглядел меня в темноте… вот и все…
ФРАНСУА. Ты хочешь сказать, что теперь он тебя разглядел?.. Как подробно он тебя разглядел?.. Нет! Нет, не буду! Катерина! Я тебя теряю! Мы зашли чересчур далеко! Это мое проклятое самолюбие! Девочка моя, прости меня!
КАТЕРИНА. Франсуа! Милый…
ФРАНСУА. Ты единственная женщина на этой земле! Мне так плохо жилось, Катерина! С каждым днем я становился все хуже! Я так боюсь остаться без тебя!
КАТЕРИНА. Франсуа, не надо так! Я прошу тебя!..
ФРАНСУА. Скажи, ты меня любишь?
КАТЕРИНА. Люблю…
ФРАНСУА. Навсегда?
КАТЕРИНА. Навсегда! Милый…
Стук в дверь.
ФРАНСУА. Стучат. Войдите!
Входит слуга.
СЛУГА. Сударыня, граф д'Арманьяк и кавалер Ла-Гир… Как прикажете?
КАТЕРИНА. Франсуа… клянусь тебе… я не знала…
ФРАНСУА. Я… верю тебе…
КАТЕРИНА. Если хочешь, я велю передать, что меня нет… Делай, как хочешь…
ФРАНСУА. Всего только — нет дома… Я ждал другого… Приглашайте!
КАТЕРИНА. Франсуа!
ФРАНСУА. Пусть войдут.
Слуга уходит.
КАТЕРИНА. В чем дело, Франсуа?
ФРАНСУА. Ладно… Молчи…
Входят Генрих и Ла-Гир.
ФРАНСУА. Входите, Генрих. Входите, Ла-Гир. Мы рады вас видеть.
ГЕНРИХ. О, Франсуа. Разрешите вас приветствовать, мадемуазель, прежде чем Франсуа нас проколет своим языком.
ФРАНСУА. Вас языком не проколешь. В вас язык застревает, как пуля в мешке с песком.
ГЕНРИХ. Франсуа открыл огонь. Ты лучше скажи, когда ты перестанешь скрывать от нас свою невесту. Такая женщина заслуживает лучшего, чем сидеть в четырех стенах.
КАТЕРИНА. Извините, господа, я должна вас оставить… Мне нездоровится.
ФРАНСУА. Я тебя провожу.
КАТЕРИНА (зло). Нет, спасибо… не стоит… (Уходит с Франсуа.)
ГЕНРИХ. Ты заметил, мы попали в самый разгар.
ЛА-ГИР. Франсуа будет взбешен. Это самое главное… Впрочем, в ней что-то есть. Какая-то чистота и свежесть. Это подкупает… Ну что. Франсуа, как дела?
ФРАНСУА (входя). Генрих, ты мне друг?
ГЕНРИХ. Конечно, ты же знаешь.
ФРАНСУА. Генрих, дай мне денег, и побольше. Я тебе верну. У меня обещали купить стихи. Но мне нужно сейчас.
ГЕНРИХ. Нет, Франсуа, денег я тебе не дам.
ФРАНСУА. Да, это истинно по-дружески…
ГЕНРИХ. У меня просто нет. Впрочем, я бы мог тебя выру-чить… Вернее, не я… Я случайно узнал: есть один человек, ему нужно помочь в каком-то деле. Он согласен уплатить порядочно. Предупреждаю, тип довольно подозрительный, но я за него не отвечаю.
ФРАНСУА. Наплевать. Сведи меня с ним. Как его зовут?
ГЕНРИХ. Его зовут Питу.
ФРАНСУА. Чем он занимается?
ГЕНРИХ. Понятия не имею. Мне его показали в одном кабаке.
ФРАНСУА. Да… попаду я с тобой в историю…
ГЕНРИХ. Как хочешь. Я же не настаиваю.
ФРАНСУА. Хорошо… идем… Только сейчас…
Явление 4
Комната в доме Катерины де Вессель. Катерина и Генрих. Катерина сидит. Генрих стоит.
ГЕНРИХ. С этим пора кончать.
КАТЕРИНА. Я не могу, Генрих… У меня не поворачивается язык.
ГЕНРИХ. Да, у тебя поворачивается язык только, чтобы отказать мне… Меня это оскорбляет.
КАТЕРИНА. Как ты не понимаешь… Он приходит… приносит подарки… надеется… Неужели ты не можешь понять?
ГЕНРИХ. Могу, но не хочу… и тебе не советую… Если ты этого не сделаешь, я швырну ему подарки в лицо! Слышишь? Это позор принимать подарки от воров и проходимцев!
КАТЕРИНА. Но он же это делает из-за меня. Я сама его толкнула на это.
ГЕНРИХ. Никого нельзя никуда толкнуть. Он взрослый человек и сам за себя отвечает. Разве не мог он эти деньги заработать честным путем? Попросил бы у меня, наконец! Неужели ты думаешь, что я бы ему отказал?
КАТЕРИНА. Ты бы ему дал?
ГЕНРИХ. Ты меня обижаешь… Подумай, могу ли я иметь соперником продажного писаку?
КАТЕРИНА. Не говори так…
ГЕНРИХ. Ты, наконец, мне мешаешь делать тебе подарки! Мне! Я тоже имею на это право!
КАТЕРИНА. Генрих… мне неприятно, мы только и говорим об этом. Можно подумать, что у нас нет любви… Мне его просто жаль…
ГЕНРИХ. Еще бы… Говорить о поэзии и любви, как это делает Вийон, дело нетрудное! Гораздо труднее говорить правду… Мне просто жалко тебя, иначе бы я давно рассказал тебе о его смехотворных поисках богатой невесты.
КАТЕРИНА. Не лги, Генрих… Франсуа меня любит…
ГЕНРИХ. Дорогая… Вас спасает то, что вы женщина… Я никогда не лгу. Да, Франсуа тебя любит, но это не помешало ему свататься к одной богатой вдове… Ее счастье, что она ему отказала… Как он умолял меня помочь ему что-нибудь придумать… Ну я отказался, понятно… Я не люблю эти канцелярские уловки… Он жалок, твой Франсуа…
Входит слуга.
СЛУГА. Сударыня, господин Вийон.
ГЕНРИХ. Легок на помине.
Входит Франсуа.
ФРАНСУА. Катерина, девочка, я так рад, что наконец могу к тебе прийти. Кстати, у меня есть для тебя кое-что приятное… Вот, смотри, тебе нравится?.. Видишь ли, я только что получил деньги за стихи. О, у тебя гости, а я и не заметил…
ГЕНРИХ. Привет, Франсуа…
ФРАНСУА. Катерина, как тебе нравится это кольцо?..
КАТЕРИНА. Спасибо. Положи на окно. Я потом посмотрю.
ФРАНСУА. Как ты сказала?..
ГЕНРИХ. Ну вы тут разбирайтесь, я пока выйду… (Уходит.)
ФРАНСУА. Как ты сказала?
КАТЕРИНА. Франсуа, мне жаль тебя, но лучше сказать сразу… Я многое поняла за это время… Меня унижают твои жалкие подарки… Меня унижает то, что ты тянешься из последних сил за Генрихом.
ФРАНСУА. Дрянь. Я делал только то, что ты хотела. Проклятая, ты сама толкнула меня на этот путь!..
КАТЕРИНА. Возможно… Нет, надо кончить все сразу… Франсуа, я любовница Генриха…
ФРАНСУА (вежливо). И давно?
КАТЕРИНА (опешив). Давно…
ФРАНСУА. И это приятно?..
КАТЕРИНА (хрипло). Негодяй… Ты проявляешь удивительное хладнокровие!
ФРАНСУА. Я не хочу портить тебе удовольствия.
КАТЕРИНА. И этот человек уверял меня в своей любви… О!.. (Рыдает.)
ФРАНСУА (хрипло). Ты хотела зарезать меня, чтобы сделать Генриху приятное, и потом иметь возможность пожалеть меня… Это тебя успокоило бы. Я тебе этого не дал… И теперь ты воешь… Я все это чувствовал давно, но старался не верить…
КАТЕРИНА. Врешь! Врешь!.. Тебе больно! Больно! Это все твое притворство. Шут! Меня ты обмануть не сумеешь! Я женщина!
ФРАНСУА. Я шел в грязи, ночью… Я увидел, как впереди зажглась звезда. Я пошел к ней напролом, через лужи… но оказалось, что это поблескивали глаза суки… Что у тебя есть, кроме тела?
КАТЕРИНА. Да, тело — мое единственное богатство! Да, я хочу хорошо одеваться! Я хочу, чтобы исполнялись мои прихоти! А ты? Ты ведь поэт, а ты держишься со щеголями как проститутка!
ФРАНСУА. Женщина… мы на краю пропасти… Ты понимаешь это?
КАТЕРИНА. Пусть… Не пугай меня… Эту пропасть вырыла не я… Я хочу жить. А живут только они… Ты иди своей дорогой, я — своей.
ФРАНСУА. Ты… несчастная тварь… Ты не разглядела, к кому ты идешь!
КАТЕРИНА. Ты ошибся. Я разглядела. Кто ждет, что аристократ лучше, тот разочаруется! Кто ждет, что аристократ выше, тот никогда не разочаруется! Выше — значит порода, значит — право на бесчинства! Если бы тебя арестовали тогда ночью, во время драки с аббатом, тебя бы судили как бандита; а если бы попался Генрих, это сочли бы шалостью. И правильно! Ты участвовал в бесчинствах изза корысти, а Генрих — со скуки!
ФРАНСУА. Бесчинство со скуки! Тебе этого не хватало во мне?!
КАТЕРИНА. Нет! Для этого нужно таким родиться! Генрих храбр!
ФРАНСУА. Генрих — храбр?! Он ничтожество! Он просто лишен воображения.
КАТЕРИНА. Какая разница?! С ним женщина чувствует себя уверенно… А тебе надо каждый раз переламывать свою трусость!
ФРАНСУА. Что ты сказала?..
КАТЕРИНА. Не сверкай глазами… Конечно, ты трус!.. Ты можешь прийти в ярость, которая помешает тебе видеть опасность и сделает тебя храбрым! Но ярость долго не держится. Нужна природная храбрость!
ФРАНСУА. Природная тупость!
КАТЕРИНА. Нет, природная уверенность! Генрих всегда уверен, что возьмет верх. Он никогда не был унижен, а нас с тобой унижали от рожденья!
ФРАНСУА. Ты говоришь правду… Смотри, ты даже сейчас на него работаешь, ты увеличиваешь его храбрость и отнимаешь мою… Но не будь чересчур самоотверженной… Ведь ты разрушаешь облик простодушной девочки, который его привлекает…
КАТЕРИНА. Ты и здесь ошибся, Франсуа… Его тянет грязь Он будет думать, что это он меня развратил!
ФРАНСУА. Я думал, что знаю пределы низости… Я — младенец.
КАТЕРИНА. Это правда. Но не пытайся ему повредить… Я встану на его сторону, и тебе не сдобровать!
ФРАНСУА. Молчи!.. Тебя не существует… Существую ли я? Любопытно…
Входят Генрих и Ла-Гир.
ГЕНРИХ. Ну, эту болтовню пора кончать…
ФРАНСУА (яростно). Смерть!.. Смерть!.. Нас рассудит смерть! Ты… негодяй! Слышишь?
ГЕНРИХ. Мне — драться с тобой? Канцелярская крыса, книжный червь. Я — д'Арманьяк, граф божьей милостью! Мой род древней королевского! И мне драться с тобой? Голодранец! Поэтишка!
КАТЕРИНА. Генрих!
ГЕНРИХ. Оставь! Он давно заслужил встрепку! Надо указать место нахалу! Кстати, у него есть кредитор. Входите, дорогой, пора получать должок.
Входят аббат Сен-Поль и стражники.
Советую не сопротивляться… Это люди святой инквизиции… Аббат, читайте приговор…
СЕН-ПОЛЬ. «Приговор капитула святой инквизиции. Обвиняемый Франсуа Монкорбье, по прозвищу Вийон, известен был грешным и распутным образом жизни. Обманным путем пробравшись в общество благородных дворян, он пытался ввести в соблазн означенных благородных дворян, высокое общество коих не послужило к его исправлению. В усугубление вины означенный Вийон осмелился публично распространять злонамеренные стишки, в коих затрагивались чины нашей святой матери церкви. Учитывая молодость и неразумие обвиняемого, капитул постановляет на первый раз схватить означенного Вийона и, прочтя приговор, предать сечению на Гревской площади, после чего изгнать из Парижа и его пригородов». Взять его!
Стражники хватают Франсуа.
ФРАНСУА. Только не это!.. Только не это!..
КАТЕРИНА. Генрих! Я этого не хотела!! Франсуа!
ФРАНСУА (рыдая). Проклятый поп! Запомню я тебя!..
Стражники вытаскивают Франсуа. Молчание.
ГЕНРИХ. Ну вот и все…
ЛА-ГИР. Не думаю…
Катерина сидит белая.
Явление 5
Декабрь. Окраина Парижа. Дорога. Голые сучья деревьев. Притихший, жалко улыбающийся Франсуа смотрит ни ворота дома. Входит горожанин.
ГОРОЖАНИН. Тебя изгнали из Парижа… Ну что встал посреди дороги?!
ФРАНСУА. Простите…
Горожанин уходит.
Последняя попытка… Гильом; кажется, неплохо ко мне относился… (Стучит дверным молотком. Дверь открывается, и он входит в дом).
Некоторое время сцена пустует. Потом ворота дома открываются, из них за шиворот выволакивают Франсуа и дают ему пинка в зад. Он падает на землю; затем поднимается, закоченевший, серый, с отвисшей губой и мертвыми глазами. Поднимает с земли свой берет и, пошатываясь, бредет по дороге.
ЗАНАВЕС
А все же можно сфотографировать Образ или нет? И почему нет? А потому что Образ — это видение. У каждого свое. Видение может либо прийти, либо не прийти. Откуда оно берется — хрен его знает. Имеется предположение об электронном газе, облака которого складываются по желанию всего организма. Это еще Гошка Панфилов высказывал в разговоре с Зотовым.[4] Но ведь это только предположение.
Прочла Тоня пять сцен первого действия пьесы про Франсуа Вийона и пришла в недоумение.
— Ну и что? — сказала она. — Из-за чего шум? Пятьсот лет назад было. Нам-то какое дело?
— Это — шанс, — сказал Ефим Палихмахтер. — Шанс. Понимаешь? Наплевать, когда это было. Зато мы сразу становимся заметными. А этим уж как-нибудь воспользуемся.
Тоня подумала и сказала:
— Ваще-то да…
— Как ты думаешь, про что этот фильм? — спросил Ефим Палихмахтер.
— Ясно, про что, — ответила Тоня. — Про дурака.
— Как про дурака? Как? — забеспокоился Ефим Палихмахтер. — Это ты брось. Это сейчас считается самый великий поэт Франции. А с Францией у нас отношения дружбы и сотрудничества.
Но Тоня угрюмо молчала.
— Ну что ты?.. Что ты?.. — забеспокоился Ефим Палихмахтер.
— Ну что же он не видит, как она его делает?
— Кто?
— Да бабенка эта, Катерина.
— Тут все гораздо сложней, — сказал Ефим Палихмахтер.
А у самого дух захватило от предстоящей поездки на аукцион в Париж на кинофестивали или бьеннале. Или вообще бьеннале — это в Венеции?.. И там вообще не кинокартины продают, а живописные холсты? Надо узнать — как на самом деле.
— Нужна правда жизни. Жизнь надо изучать, — сказал Ефим Палихмахтер. — Работать надо. Нормально ходить на службу.
— А зачем? — спросила Тоня.
— Чтобы знать жизнь, — сказал Ефим Палихмахтер.
Тоня промолчала. Потому что уж что-что, а жизнь она знала. И не Палихмахтеру об этом судить.
— Ну подыщи что-нибудь… — нехотя сказала Тоня.
И Ефим ей подыскал место гидроакушерки. Что такое гидроакушерка, Тоня не знала. Но поскольку и я не знаю, что такое гидроакушерка, то мы это оставим.
— А теперь почитай мне второе действие, — сказал Ефим Палихмахтер. — Тут сильный заряд социальности.
— А что это? — неосторожно спросила Тоня.
— Ну, социальность — это социальность, — сказал Ефим Палихмахтер. — Это очень сложно. Я тебе потом объясню. — Но не объяснил.
И Тоня начала читать второе действие пьесы, из которой Ефим Палихмахтер намеревался сделать сценарий.
АКТ ВТОРОЙ
Явление 1
Город Мен. Епископат. Трактир на базарной площади, прислоненный к стенам епископской резиденции. Народ, кони, ослы. «Украшает» пейзаж виселица с петлей, закинутой на перекладину. Входит Франсуа.
ФРАНСУА. Здравствуйте, друзья.
ХОЗЯИН. Ну, что скажешь?
ФРАНСУА. Налей мне вина.
ХОЗЯИН. Опять платить нечем?
ФРАНСУА. Я вам спою…
ХОЗЯИН. Не нужно, уходи.
КРЕСТЬЯНИН. Почему не нужно? Пусть споет.
ХОЗЯИН. Запоет… потом опять плакать станет.
ДРУГОЙ. Жалкий человек.
ТРЕТИЙ. А ведь ученый.
КРЕСТЬЯНИН. Где ученый?.. Дай мне ученого… Ты — ученый?!
ФРАНСУА. Да, я ученый.
КРЕСТЬЯНИН. Э… Ученые люди!.. Тьфу на вас, ученые люди! Был я человек, был я хозяин, а теперь я кто? Хуже крепостного! А все ученые люди — будь они прокляты! Господин епископ обещал обождать с долгом, а пришли судейские, дали мне грамоту и прогнали из дома, и отобрали и овец, и виноградник, и посуду оловянную! А что в этой грамоте, дьявол ее забери? Я вот пойду добьюсь к господину епископу нашему!
ФРАНСУА. Дай прочту.
КРЕСТЬЯНИН. Да уж ты прочитаешь…
ВСЕ. Дай ему! Дай ему… Пусть прочитает… У него ловко выходит.
Окружают Франсуа.
ФРАНСУА. «По исковой жалобе господина епископа суд постановляет взять у крестьянина Боннара имущество его, если хватит, в уплату долгов господину епископу».
КРЕСТЬЯНИН. Смотри, и впрямь читает! Ловко!.. На… выпей.
ФРАНСУА. Здесь написано, что у тебя все отобрали по повелению самого епископа.
КРЕСТЬЯНИН. Где?! Что врешь? Дай сюда грамоту!
ФРАНСУА. Говорю тебе правду… Не сердись…
КРЕСТЬЯНИН. У… смутьян проклятый! Ты тоже хитрец ученый на нашу погибель! Вот господин епископ узнает про ваши плутни!
ФРАНСУА (жалко). А… что ты?.. я же не виноват…
КРЕСТЬЯНИН. Лютые вы волки! Развелось вас на беду нашу крестьянскую! Проклятые!
РЕМЕСЛЕННИК. Ну чего разорался!.. Пошел отсюда, баран. Иди, Франсуа, выпей…
ФРАНСУА. Это ты мне?.. Спасибо…
РЕМЕСЛЕННИК. А ведь я с тобой встречался…
ФРАНСУА. Правда?.. Может быть… Наверно, это так…
РЕМЕСЛЕННИК. В Париже… Не помнишь?
ФРАНСУА. Как же, помню прекрасно… Нет… соврал… не помню…
РЕМЕСЛЕННИК. Куда ушел ты из Парижа?..
ФРАНСУА. В разные места… Слушай… Я еще налью?..
РЕМЕСЛЕННИК. Пей, пей… На еще хлеба.
ФРАНСУА. Знаешь, а ведь мы с тобой встречались… Это правда…
РЕМЕСЛЕННИК. Ладно. Неважно. Где ты был, Франсуа?
ФРАНСУА. Всюду был…
ГОРОЖАНИН. А в Пуату был? Говорят, там хорошо.
ФРАНСУА. Скучно мне вспоминать. Когда я шел через Пуату, я видел, как собаки лизали руки повешенных, а маленькие дети просили есть.
ГОРОЖАНИН. О, господи!
ФРАНСУА. Что значит — «нечего есть»? Дурацкие слова! Правда? Как может человек не иметь еды? Не понимаю… Видал я в Шампани, как попы плясали вокруг костров, а благородный рыцарь Парсифаль кидал в костер детей…
ГОРОЖАНИН. Проклятые…
ФРАНСУА. Разве еретик тот, кому нечем уплатить десятину епископу? Не понимаю… Скучно мне…
ГОЛОСА. Проклятые… Везде, как у нас…
ФРАНСУА. За что обижают человека?.. Сильный бьет слабого… Глупый ест мудрого… А кто любит людей, про того говорят — вот враг… Лукавый же возвышается… Где правда на этой земле? Мы родимся и бежим от нищеты, а по дороге — могила… И все мы как дети на этой земле… Я иду по Франции и пою плохую песню. Крестьянин, ты не знаешь, почему дворянин смеется над нами? Не понимаю…
ПОЖИЛОЙ. Опять ты растревожил меня, проклятый! Где правда, я спрашиваю? Ну? Отвечай! Ты же ученый!
РЕМЕСЛЕННИК. Что пристал?
ПОЖИЛОЙ. Где правда?!.. Вот содрали с нас налог за восемь лет вперед, и сейчас повезут! А мы будем смотреть вслед и кланяться!
ФРАНСУА. И вы молчите? Вы позволяете? А жаловаться?
ГОРОЖАНИН. Кому?! При старом епископе посылали Жака в Париж, а там порвали письмо и в шею. Вот и вся жалоба. До короля не дойти, а этот господин епископ, вон он, над головой… (Хлопает по каменной стене.)
ФРАНСУА. Ах, черт меня возьми! Значит, надо отнять эти деньги!
ГОРОЖАНИН. Ишь, выпил — осмелел.
ФРАНСУА. Я пьян? Я трезв как селедка! Я бы не стал терпеть на вашем месте!
МОЛОДОЙ. Смотри, ворота открывают! Сейчас деньги повезут…
РЕМЕСЛЕННИК. Вот они, наши денежки.
ФРАНСУА. Ну… Решайтесь… Случай подходящий!
ПОЖИЛОЙ. Не тронь ты нас! Слышишь?!
ГОРОЖАНИН. Братья, а может возьмем?!..
МОЛОДОЙ. А вон телега показалась…
ГОРОЖАНИН. Что молчите?.. А?!.. Может, возьмем?!..
ОДИН. Э, нет, это пошли плохие речи.
ДРУГОЙ. Как бы нам не попасть впросак.
ФРАНСУА. Что, ослы покорные? Что, мулы? Поджилки трясутся? Вас бьют, а вы говорите «спасибо»? Вас бьют, вы говорите: «Получите налог, святой отец!»
МОЛОДОЙ. Правильно он говорит!
ОДИН. Молчи, голытьба! Он доведет до беды!
МОЛОДОЙ. Отобрать назад наши деньги, и все!
ГОЛОСА. Стражники! Стражники!
СТРАЖНИКИ. Прочь с дороги! Все вон отсюда! Я вам покажу, быдло!
ГОЛОСА. Да мы что… мы ничего…
Провозят телегу с деньгами.
ФРАНСУА. Бабы вы… Все… ничтожества… Ведь телега была перед вами!
ОДИН. Что телега!! Что — телега?! А потом что? Смутьян проклятый!
ДРУГОЙ. Ты пришел и ушел, а нам здесь жить!
ФРАНСУА. Ты это жизнью называешь, рабская твоя душа?!
ОДИН. Люди, не слушайте его! Я его знаю!! Это безбожный Франсуа Вийон. Его секли на площади в Париже!
ФРАНСУА. Тебя каждый день секут, старый ты заяц! Тебя жизнь сечет, тебя епископ сечет: твое поле град сечет, а меня секли господа на Гревской площади! Ты не видишь, остолоп, что я тебе брат по крови! Ты обидел меня, старый кочан, за что? За то, что мне из-за тебя обидно?
ГОРОЖАНИН. Не обижайся, Франсуа! У него скупая душа!
ФРАНСУА. Разве дело в его вонючей душе? Это моя душа в царапинах от обид за людей! Это мою душу лягали титулованные копыта! Я человек — эрго, я унижен! Я человек — следовательно, я беден! Я человек — значит, я люблю вас, голодранцы! Если вам скажут, что вы уродливы — не верьте! Если вам скажут, что вы грязны — не верьте им! Вы прекрасны! Вы прекрасны, ибо при том ничтожном, что есть у вас для поддержания жизни, вы не поедаете друг друга, как это делают они, знатные, зажравшиеся до бровей!
КРЕСТЬЯНИН. Тебя не поймешь! То ругаешься, то хвалишь! Бог с тобой.
ДРУГОЙ. Ты живи сам по себе, а мы — сами по себе. Идемте, люди…
МОЛОДОЙ. Отец, а я понял, что он говорил!
КРЕСТЬЯНИН (дает ему подзатыльник). Мал еще понимать такие речи.
ГОРОЖАНИН. Прощай, Франсуа… Будешь петь, позови, еще придем… Не обижайся…
ФРАНСУА. Да, я буду петь вам, бараны бессловесные, хотя б вы меня закидали навозом за это.
ПОЖИЛОЙ. Да, вишь, как получается… Ну, прощай пока… Пора, стадо гонят…
Все уходят.
ЧЕЛОВЕК. Франсуа…
ФРАНСУА. Кто здесь?
ЧЕЛОВЕК. Не бойся, трусишка… Ты меня не узнал, Франсуа?
ФРАНСУА. Питу? Как ты сюда попал? Превратности судьбы?..
ПИТУ. В общем… Да… Франсуа… Есть хорошее дело…
ФРАНСУА. Нет, Питу, я с вами больше не играю.
ПИТУ. Почему, Франсуа?
ФРАНСУА. С вами я был временно. Мне нужна была моя женщина, а ей нужны были деньги… Она взяла деньги и отпустила меня… заявив, что я еще легко отделался. В общем, это правда… если не считать разбитого сердца…
ПИТУ. Франсуа!..
ФРАНСУА. Слушай, Питу, я наизусть знаю, что будет дальше. Я буду отказываться, а ты — настаивать. Потом я скажу «нет», а ты начнешь угрожать. Будем считать, что весь обряд уже проделан, а я все-таки не согласился. Ну, что у тебя в запасе? Вероятно, угроза убить. Убивай на здоровье. Тебе это доставит удовольствие? Ты любишь этим заниматься? Вообще, на вид ты похож на человека… Странно, как же я тебя не раскусил? Я обычно хорошо чувствую, с кем имею дело. Ну, Питу, не затягивай! Живей! Живей!
ПИТУ. Что тебе нужно?
ФРАНСУА. Режь меня, что ли… Или, быть может, мне лечь поудобней? Знаешь, это уже гурманство.
ПИТУ. Тебя обидели, Франсуа, но ты можешь хорошо отомстить.
ФРАНСУА. Почему бы все-таки тебе меня не зарезать?
ПИТУ. Слушай… не терзай меня! Ты же знаешь, что я тебя не трону.
ФРАНСУА. Почему, дурачок?
ПИТУ. Воры имеют душу! Нет… любопытно: есть смелые ребята, есть возможность вернуть людям деньги, которые у них отняли, и все зависит от одного человека, который рыдает от любви к ближнему… Рыдает — и ни с места… Противно это, Франсуа…
ФРАНСУА. Знаешь, Питу… Ты только меня не отпевай.
ПИТУ. Если бы ты знал, на чьи деньги налет, ты бы сразу согласился. Это деньги епископа.
ФРАНСУА. О!..
ПИТУ. А епископ — Гильом. Друг твой старый… У тебя еще чешется зад?
ФРАНСУА. Гильом?!
ПИТУ. Видишь, я говорил, тебе понравится.
ФРАНСУА. Гильом?!
ПИТУ. Приди в себя!
ФРАНСУА. Как! Этот слизняк! Этот жирный каплун… этот гриб — епископ города Мена?! Он собирает налоги… казнит и милует?! Мой старый друг… Болван ты, Питу! И пусть это откроет тебе глаза! Ты начал не с того конца! Сказал бы сразу, что речь идет об этом ублюдке. Я согласен. Что надо делать?
ПИТУ. Ты должен заговорить с казначеем на дороге… и подольше…
ФРАНСУА. Вернем деньги людям, Питу?
ПИТУ. Свою долю вернешь…
ФРАНСУА. Благодетель бедных… Ладно, пусть будет так. Приходи за мной. Пусть ночь летит пулей!
Явление 2
В каменном полутемном зале бегает человек, зажигая свечи.
ЧЕЛОВЕК. Тьфу, прости, господи… Разве вас разожжешь, проклятые, не к ночи будет сказано. Ну и ночка… Все отсырело… Вот не успею… идут?.. Так и есть… Господи, пронеси…
С шумом распихиваются двери. В дверях Гильом, неимоверно разжиревший.
ГИЛЬОМ. Оливье! Сюда! Солдат, сюда!.. Или нет… лучше за дверью! Тащите факелы, дьявол вас забери! Здесь же адская темень. Оливье! Еще раз проверьте караулы… Ночка сегодня бодрая… Факелов сюда! Живо!.. Ну ведите. Стой! Стой! Дай сяду на епископское место… Господи, какой ветер… Эй, там, затворите окна!
Распахивается дверь. Быстро вводят Франсуа.
ФРАНСУА. А… Гильом… Старый друг… Давно я с тобой не видался… В последнюю встречу ты ногой посмотрел в мой зад…
ГИЛЬОМ. Ну вот, Франсуа, ты докатился… Ты стал грабителем с большой дороги… А ты был самым способным из нас… Скажу откровенно, мне иногда казалось, что ты способнее меня… Скажу тебе, я иногда перед тобой преклонялся.
ФРАНСУА. Ты, Гильом, не преклонялся, а подлизывался. Ты мне этого простить не можешь…
ГИЛЬОМ. Молчи! Вор! Негодяй!.. Не забывайся, с тобой говорит епископ!
ФРАНСУА. О господи, Гильом, где епископ?
ГИЛЬОМ. Вот я сейчас встану!
ФРАНСУА. Не вставай, Гильом! Ты упадешь на живот, мне тебя не поднять!
ГИЛЬОМ. Ты сейчас расскажешь, вор проклятый, куда ты девал деньги!.. Я не Гильом, а епископ, черт тебя подери!
ФРАНСУА. Какие деньги, епископ, черт тебя побери?
ГИЛЬОМ. Придется пытать… Ну, во имя отца и сына, ведите…
Франсуа уводят.
Кажется, он правда не знает, где деньги. Любопытно… заметил ли он, что деньги взяли мои люди? Ну это он нам пропоет на колесе и угольках. Во всяком случае, заметил или нет, твое дело конченное: мне любезные мои подданные внесут налог еще раз, поскольку им-то уж доподлинно известно, что их денежки у меня! Что это?! Кто здесь?!
ГЕНРИХ. Это я… твой друг.
ГИЛЬОМ. Какой друг?!.. Генрих?! Как ты вошел?!
ГЕНРИХ. Хорошо ты встречаешь друзей.
ГИЛЬОМ. Я так взволнован, Генрих. Один мой друг сейчас пытался меня ограбить.
ГЕНРИХ. Дорогой друг, я, в общем, тоже пришел за этим.
ГИЛЬОМ. Не шути на ночь, Генрих. У меня одышка, ты же знаешь…
ГЕНРИХ. Это твое частное дело, Гильом. Я пришел за деньгами.
ГИЛЬОМ. Какими деньгами?
ГЕНРИХ. Теми, что ты отбил у бандитов.
ГИЛЬОМ. Генрих, откуда ты знаешь?! Какие деньги?!
Генрих молчит.
Но это же деньги… это налоги, собранные с бедных вилланов.
ГЕНРИХ. Почему же ты делаешь из этого секрет, Гильом? Ладно, не валяй дурака! Тебя предупредили о налете? Не отпирайся, предупредили?
ГИЛЬОМ. Да… предупредили.
ГЕНРИХ. Так вот, это я предупредил.
ГИЛЬОМ. Сказать можно все, Генрих…
ГЕНРИХ. Ну-ну, не упрямься. Это мои люди хотели сделать налет. Но потом я подумал: зачем мне делиться с этими ворами и получать четвертую часть, когда мы с тобой по-братски поделим пополам.
ГИЛЬОМ. Но это же грабеж!
ГЕНРИХ. Правильно. Впрочем, если ты не хочешь, можно в городе объявить, что деньги у тебя… Только ведь это бунт.
ГИЛЬОМ. Упаси боже! Ладно, черт с тобой…
ГЕНРИХ. Молодец, толстяк! Есть еще порох, так сказать, (тычет ему в живот) порох в пороховнице. А Франсуа? Видел он, что деньги попали к тебе?
ГИЛЬОМ. Об этом он скажет на пытке.
ГЕНРИХ. Он может побояться своих приятелей — жуликов.
ГИЛЬОМ. Можно одного из них выпустить и объявить ему, что Франсуа — предатель.
ГЕНРИХ. Молодец… Там есть один, его зовут Питу. Я ему устрою побег. Он может еще пригодиться. А Франсуа?
ГИЛЬОМ. Франсуа? Этого я сгною в подвале… Этого…
ГЕНРИХ. Ладно, с делами покончено. Ну, здравствуй, Гильом.
ГИЛЬОМ. Здравствуй, Генрих. Как ты сюда попал?
ГЕНРИХ. Я здесь собираю отряд. Отец все воюет с бургундской фамилией, и мне, образованному человеку, приходится все это терпеть! Подумай!
ГИЛЬОМ. Генрих, ты здесь с отрядом?
ГЕНРИХ. Да, Гильом.
ГИЛЬОМ. Ужасно, Генрих! Я прошу тебя, не тронь моих вилланов. Они очень возбуждены!
ГЕНРИХ. Ну… Гильо-ом!.. Стыдись, ты проявляешь малодушие! Вели приготовить мне постель и пойдем: ты меня накормишь.
ГИЛЬОМ. Ах, Генрих шалопай… Когда ты станешь серьезным?
ГЕНРИХ. Пойдем, пойдем. (Открывает дверь — ветер вздувает портьеру.) Какой ветер… Слушай… А ведь это пикантно, что мы с тобой держим в подвале Франсуа?!..
ГИЛЬОМ (свирепо). Я еще в университете об этом мечтал. Пойдем…
Явление 3
Подвал. Ни голом полу — прикованный Франсуа, заросший клочьями бороды. Как привязанный за ногу ворон, он мечется скачками, волоча по камере цепь, привычно придерживая ее руками. Губы его трясутся.
ФРАНСУА. Что же делать!? Что делать?! Неужели не было смысла в том, что я жил? Какая мука… Может быть, еще посчитать? Раз… два… три… четыре… Раз… два… три… четыре… Только бы не думать. Раз, два, три, четыре. Так вытекают капли жизни… Зачем я жил? Зачем мы живем? Зачем вообще жизнь?.. Бедные матери, рожая нас, выкидывают нас на дорогу к смерти. Всю жизнь мы идем навстречу своей смерти. Неужели весь смысл в том, чтобы поудобнее претерпеть путь до своей смерти? Мы идем по этой дороге, и мы растем и умнеем… Когда ты понял все, что тебе положено! — хряк — стрелка часов протыкает тебе глотку. Кто больше понимает, тот больше думает о смерти. Но ведь если я думаю о смерти, значит, мне плохо, так как если бы мне было хорошо, я бы не думал о смерти. Значит, причина несчастья не в том, что умен, а в том, что несчастлив… Подумаешь, великая мысль: «Несчастлив потому, что не счастлив!»… Что ж, не такая уж плохая мысль. Она только означает, что несчастье лежит не внутри меня, а снаружи… Опять?! Как избавиться от привычки обвинять мир в своих несчастьях?! Я обвиняю врагов в моих несчастьях, но не я ли наплодил этих врагов? Кто стремился вверх, к щеголям и попам, и не ужился среди них?! Я. Кто, свалившись вниз, не ужился внизу и решил мстить? Опять я! Низ и верх извергли меня из своей утробы… И вот я догниваю в Гильомовом нужнике… Неужели это все? А что бы я стал делать, если бы меня отпустили? Не нужно лгать, я стал бы делать то же самое… Дьявол меня забери! Дьявол меня забери!! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре… Почему другие люди проще улаживают свои счеты со вселенной?! Раз, два, три, четыре… Раз, два, три, четыре. Очень просто — они не пишут стихов. Раз, два… может быть, в этом все дело? Что — вследствие чего? Что — почему? Бедствия мои от стихов, или стихи мои — от бедствий? Черт возьми, вот вопрос! Все дело в том, поэт я или не поэт… Все дело в этом… Господи! Если ты есть, дай мне узнать, поэт я или не поэт!.. Когда я пишу — я знаю, что я поэт; когда я читаю то, что написал, — лучше бы мне не читать! Все, что написано мною про любовь, слащаво; все, что я написал про хлеб, застревает в глотке!.. Вот я вчера написал в новом роде. (Читает стихи, нацарапанные на стене.)
Не пироги, не сласти на обед — Одна вода да хлеба вкус соленый. И на подстилку сена даже нет. Не забывайте бедного Вийона.Пауза.
Смотри, вчера написал, а сегодня все еще нравится. Может быть, я все-таки поэт? Хотелось бы мне это знать. Одни говорят, что это гадость, другие — превозносят до небес. Хотелось бы мне поговорить с порядочным человеком, но где его взять? Судари мои, где его взять?
Вводят Жака, кидают на пол, надевают цепь.
Кар-р! Ка-рр! Вот еще падаль! Вот еще сырое мясо!
ТЮРЕМЩИК. Тьфу, безумный!
ФРАНСУА. Кто ты, приятель?
ЖАК. Человек.
ФРАНСУА. Был человек. Теперь ты — отбивная.
ЖАК. Вийон?
ФРАНСУА. Да, Вийон. А ты разве меня знаешь?
ЖАК. Опять ты меня не узнал.
ФРАНСУА. Узнал! Узнал! Это ты накормил меня в кабаке на площади! Давно это было, друг.
ЖАК. Смотри, помнит.
ФРАНСУА. Вот ты мне был нужен… Именно ты! Слушай! Я написал стихи.
ЖАК. Хорошие?
Молчание.
ФРАНСУА. Неужели это ты?..
ЖАК. Да… конечно. А что?
ФРАНСУА. Ты не спросил, почему стихи! Ты не удивился, что в тюрьме — стихи! А почему ты не удивился?
ЖАК. Потому что я знаю тебя — ты пишешь стихи.
ФРАНСУА. Здравствуйте, месье. Я поэт, а вы кто? Вы жареная телятина, вот вы кто! Я думал, что встретил душу, широкую как море! Для которой стихи не безделица, а хлеб насущный! Эта душа не удивилась, встретив в тюрьме стихи; эта душа превозмогла боль собственного избитого тела, спросила мою душу — только! — хороши ли стихи?! А оказалось, что этот тип не удивился только потому, что знает мою профессию! Какой ты скучный. За что ты сюда попал? Наверно, за такое же скучное дело. Ты, наверно, заснул на епископском огороде, куда тебя послали махать руками на ворон? Да? Скажи правду. Или нет: тебя застали, когда ты жрал сырые трюфеля в грибнице. Да?
ЖАК. Я отказался уплатить налог епископу.
ФРАНСУА. Ты?! Это невероятно! Почему?
ЖАК. Потому что я слышал твои песни.
ФРАНСУА. Ты врешь!.. Ты смеешься надо мной… Конечно врешь! Какой же налог, когда налог уже уплатили?
ЖАК. Налог уплатили, а бандиты его похитили, и епископ постановил взять налог еще раз.
ФРАНСУА (хрипло). Этого не может быть…
ЖАК. Как видишь, это так.
ФРАНСУА (убито). Да… я вижу, что это так. Больше ты ничего не добавишь?
ЖАК. Нет.
ФРАНСУА. Бедный мой. Ведь это я упрятал тебя в тюрьму… Я мерзавец.
ЖАК. Нет, Франсуа, это не ты.
ФРАНСУА. Говорю тебе… Я участвовал в налете. Я заговорил с казначеем, пока остальные окружали охрану.
ЖАК. Я знаю, Франсуа. Люди так говорили.
ФРАНСУА. Потом нас схватили. Но не всех. Часть убежала с деньгами. Денег не нашли.
ЖАК. Почем ты знаешь?
ФРАНСУА. Спина моя изрубцованная знает! Лопатки вывернутые знают! Они добивались, куда я девал деньги!
ЖАК. Франсуа, ты брал не для себя. Люди знают.
ФРАНСУА. Люди знают? Скажи — это правда?
ЖАК. Правда!
ФРАНСУА. Вспомнил! Все вспомнил! (Кидается к Жаку, но цепь его валит на пол.) Гх… ха… Жак! Жак! Подтянись на цепи! Я прошу тебя!
ЖАК. Зачем тебе?
ФРАНСУА. Жак! Я не могу дотянуться! Я хочу поцеловать тебя! Я не дотянусь, Жак. Протяни мне что-нибудь, Жак!
ЖАК. Что ты, безумный… тише… Голову расшибешь!
ФРАНСУА. Жак, ты простишь мне все?! Когда я тебя спихнул в воду в Париже, во мне все перевернулось!.. Ты мне веришь?!
ЖАК. Да верю же… Тише… Зачем так… малыш…
ФРАНСУА. Я так устал, Жак! Я устал от своего ума и своего безумия. Я мало прожил и мало сделал, но я успел столкнуть тебя в воду…
ЖАК. Замолчи!.. Это не ты столкнул! Это они нас с тобой столкнули!
ФРАНСУА. Почему ты все понимаешь? Скажи, Жак.
ЖАК. Меня научили добрые люди, и ты… Когда ты поешь свои песни. Уже много людей знают наизусть твои стихи.
ФРАНСУА. Знают ли они мои стихи, Жак? Если б ты знал, как это мне важно! Ведь там нет ничего, что бы их касалось!
ЖАК. Не все сразу, Франсуа. Но мы на твоих стихах привыкаем глядеть в свое сердце.
ФРАНСУА. Жак… Неужели я нашел друга? Если ты мне изменишь!..
ЖАК. Молчи!
ФРАНСУА. Я буду тебе читать стихи, а ты мне будешь говорить про них!.. Я буду во всем слушаться тебя!
ЖАК. О, господи! Если бы это был не ты — меня бы стошнило! Почему ты должен слушаться меня?
ФРАНСУА. Все! Все узнают про тебя!
ЖАК. Ну, если тебе так нужно… Ты, друг, приди в себя! Не трать на меня пороху! Я — песчинка.
ФРАНСУА. Жак! Молчи, если ты болван! Ты песчинка, ты маленький кристаллик, но через тебя я вижу Францию! Я был слепым… Вверх-вниз… Я скакал вверх-вниз… Я вижу дорогу… Вот идет народ… На шею ему сели дворяне… На ногах повисли бандиты… А как быть поэту? Я лез вверх — они меня высекли. Я упал вниз — они меня высекли опять… Я не там искал, Жак. Нужно идти с вами… нужно смириться.
ЖАК. Хорошо, раз ты говоришь так, то и я тебе скажу… На кой черт ты нужен людям смиренный, Франсуа?
ФРАНСУА. Неужели ты хочешь, чтобы я сел тебе на шею, Жак? Что это? Постой!..
Пауза.
ЖАК. Болван! Ты же можешь идти впереди нас всех!.. Если не побоишься!..
Молчание.
ФРАНСУА (медленно и хрипло). Какого черта вдруг все стихло? Что-нибудь случилось?
ЖАК. Нет, как будто ничего.
ФРАНСУА. Случилось. Я слышал тихий удар грома. Ф-фух… какое освобожденье… Всю жизнь я старался не струсить… Не нужно вверх, не нужно вниз, нужно идти впереди — вот место поэта. Я теперь ни черта не боюсь… Есть горечь и есть сила. Ты просто раньше меня сказал слово «впереди». Я уже все понял сам.
ЖАК. Не торопись. Ты хочешь все сразу. С одного слова…
ФРАНСУА. Родиться можно только сразу… Все остальное — беременность. Не бойся, Жак… Я вступил на дорогу к бессмертию. Теперь следи за мной.
ЖАК. Ну пусть. Тебе видней. Садись. Идут благодетели.
Звон ключей. Входит тюремщик.
ТЮРЕМЩИК. Вот свежая соломка, друзья мои. Побольше берите. На голом полу холодно.
Пауза.
ФРАНСУА. Жак! Почему эта задница так подобрела? Ты как полагаешь?
ЖАК. Мы народ темный… Нам бы насчет пожрать.
ФРАНСУА. Он тоже народ темный. Ему бы тоже насчет пожрать. Наверно, запахло жареным. Уж не мое ли филе его привлекает?
ЖАК. Из тебя жаркое, как из кочерги… Но, может быть, ему нужна кочерга!
ФРАНСУА (тюремщику). Слушай, ты… Я тоже насчет пожрать. Ступай, принеси нам поесть. Слышишь? И побольше!
ТЮРЕМЩИК. Господин Франсуа… во Франции переменился король.
ОБА. О!..
Сидели они с очередным мужем, рассказывает Тоня про себя, кино смотрели. Телевизор. Ну вот, сидели они, смотрели какую-то передачу, и тут у них какой-то спор возник. Они рядом сидели. И он ей сказал:
— Да перестань ты, Тонь…
И так слегка он, легким взмахом руки, ей выбивает челюсть. Зубы все сдвинулись. Пошла она спьяну в больницу. Ей, конечно, больничный дали и поставили в рот такие пластинки (видимо, для выравнивания зубов). Такая железная штука, которая соединяет зубы. Сказали, что ничего нельзя есть, кроме жидкого. И снимать пластинки нельзя.
— Ну, манная каша мне эта надоела. Вино пить-закусить даже нечем…
Пошли они с мужем гулять. Стоит какая-то скамеечка. Тоня села на скамеечку и говорит:
— Слушай, Вить, надоели мне эти проволоки. Сними ты их к…
Ну он взял плоскогубцы там, и все положенные инструменты. А там во рту проволока очень сильно накручена, один за другой зубы зацеплены.
Идет какой-то мужик. Ничего не поймет. Смотрит с удивлением. Витек стоит возле нее и что-то там во рту у нее делает. Мужик раз прошел, туда прошел, обратно прошел. Один там зуб, второй там зуб… Ну, сколько у нее там зубов осталось? Тридцать с чем-то, я не знаю… А мужик все ходит и посматривает.
— Слушай, Вить, ты скажи что-нибудь… что ли…
— Ну сейчас, гражданочка, я слепочек сделаю, а завтра приходите — я вам пробные короночки поставлю. И будет нормально.
— А то сейчас пойдет, доложит… черт его знает, чего у него на уме там…
А он так подозрительно смотрел, мужчина-то. Прогуливался.
Ну, короче, снял он Тоне эти железки. Она там: «Тьфу…» — плюнула их там. И прекрасно себя чувствовала.
В больнице ей «нарушение режима» поставили…
Шахразада — Тоня закончила речи, дозволенные ей Ефимом Палихмахтером. Я отсмеялся положенное и говорю:
— Электроректоскопия.
— Это что? — спросила Тоня.
— Это когда в задницу вставляют трубку, зажигают лампочку и смотрят.
— В задницу?
— А куда ж еще? — спросил я.
— Это как называется?
— Электроректоскопия.
— Учиться тебе надо, Тоня, — недовольно сказал Ефим Палихмахтер, ученый человек.
— А зачем? — спросила Тоня, высовывая из платья что-то свое. — Правду жизни я знаю.
— Ролей давать не будут, — засмеялся Ефим Палихмахтер. — Роли дают тем, у кого диплом. Так или не так?
— Чаще всего так.
— Это я понимаю, — сказала Тоня. — «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек».
Ефим Палихмахтер не сказал ни да, ни нет, но было видно, что он считает, что «да». И хотел приобрести бумажку. Без бумажки он чувствовал себя неуютно. Без бумажки надо было доказывать, что ты умник, а бумажка сама это утверждала. С ней хлопот никаких. До наших совместных чтений Ефим Палихмахтер провел с Тоней нужную ему подготовку. Он ей объяснил, что я автор. Роли автор дать не может, но забодать Тонино назначение на роль автор может.
— Не понравишься ты ему — и все. Надо понравиться. Играть ты не умеешь. Правду жизни только начала изучать.
— Кто? Я? — спросила Тоня. — Сам ты…
И Ефим Палихмахтер почему-то не стал спрашивать ее, кто он сам. Но Тоня поняла, что она должна мне понравиться: роль дать не может, но забодать может. На хрена ей это?
А Ефиму Палихмахтеру уже представлялся парижский аукцион. Даже дух захватывало.
— Учиться надо, — твердо сказал Ефим Палихмахтер. — Вот ты прочла второе действие, а ни черта в нем не поняла.
— Кто? Я? — спросила Тоня.
— Не поняла социальный заряд.
— Ты же не объяснил, а обещал, — сказала Тоня.
— А подтекст? — не поддался Ефим Палихмахтер. — А подтекст?
— А это что? — спросила Тоня.
— О!!! — обрадовался Ефим Палихмахтер. — Подтекст в нашем деле — самая важная вещь. Вот ты читаешь сценарий, один другого спрашивает: «Который час?» — это текст. А подтекст может означать что угодно. К примеру: «Жизнь прошла мимо». Или: «И моя жизнь в искусстве — тоже». Подтекст — великая вещь.
— Это когда врут, что ли? — спросила Тоня.
— Верно, — сказал я, — в моей пьесе никакого подтекста нет, а есть текст. Что сказано, то и есть.
— Ну как же? — возразил Ефим Палихмахтер. — Подтекст. Подсознательное. Может быть, вы скажете, что и подсознательного нет?
— Подсознательное — это другое, — сказал я. — Тоня, опустите юбку. Вот так. Вот вы припомните, Тоня, — продолжал я настырно. — Разве у вас не бывало, что вы говорите что-нибудь неожиданное? Чего сами не ожидали? Хотели сказать одно, а сказалось совсем другое. Значит, в вас скопилось что-то, что до сознания еще не дошло. А неожиданно спроси — оно и вылезает, и вы ляпнули.
— Сколько хочешь, — сказала Тоня.
И Ефим Палихмахтер был рад, что обстановка разрядилась. И что хоть насчет подсознательного Тоня не станет со мной спорить. И не будет рубить сук, на котором они вдвоем с ним, Ефимом Палихмахтером, оказались. Благодаря перестройке. В общем, лучше было не шутить. Тоня задумалась, а потом рассказала случай о подсознательном…
«Иду я ночью однажды, — говорит Тоня, — и вдруг из-за кустов какой-то мужик появился и начал тащить меня в кусты. И я со страху забыла кричать: «Помогите!!!» И кричу: «Ур-ра!» Он испугался. Меня бросил и в другую сторону побежал!»
— Это — подсознательное? — спросила она меня.
— А как же… — ответил я. — Это оно и есть.
АКТ ТРЕТИЙ
Явление 1
Площадь базарная. Народ волнуется. Все вооружены.
ГОЛОСА. Ну, мужики! Не поддаваться! Все как один!
Влетает всадник.
ВСАДНИК. Эй, люди! Арманьяки жгут деревни у святой Бригитты! Готовы ли вы! Они мчатся за мной следом!
Вой женщин.
ОДИН. Ну, христиане, жить нам нельзя, помирать не хочется! — Будем биться!
ВТОРОЙ. Скорей бы уж, что ли!
ТРЕТИЙ. Может, откупимся? А?
ЧЕТВЕРТЫЙ. Гнать его, подлеца! Всюду он против людей! Вонючая твоя душа, правильно Вийон про тебя сказал!
ВТОРОЙ. Не послушали Франсуа, а все одно этим кончили.
ПЯТЫЙ. Ладно, поздно говорить! Знай — стой крепче!
ВТОРОЙ. Я-то уж постою? Мясники — ребята бойкие!
ПЯТЫЙ. Арманьяки идут!!
Входит толпа воинов. Впереди Арманьяк-отец, Генрих и Ла-Гир.
ГЕНРИХ. Нам загораживают дорогу.
АРМАНЬЯК. Ла-Гир, разгоните эту сволочь!
Рев. Общая свалка. Мясник бьет Арманьяка-отца и убивает его. Генрих кидается на него и валит. Взмахивает ножом. На него наваливаются воины. Он вырывается, хрипит. Его держат. Появляется худощавый человек в бархатном черном плаще и вишневом берете. С ним свита. Смотрит.
ГОЛОСА. Стойте! Стойте!.. Король! Король!
Навстречу королю бежит Гильом.
КОРОЛЬ. Приветливо меня встречает ваш город, епископ.
ГИЛЬОМ. Ваше величество!
КОРОЛЬ. Подберите живот, епископ.
ГОЛОСА. Да здравствует король! Да здравствует король! Будь нашим господином. Господин! Защити нас! Плохо живем! Кто хозяин — не знаем!
КОРОЛЬ. Дети мои! Я ваш господин, и никто больше! Я, Людовик Одиннадцатый.
ВСЕ. Виват! Слава! Слава!
КОРОЛЬ. По случаю моего приезда в город Мен освободить всех узников! Епископ, открыть подвалы!
ГИЛЬОМ. Ваше величество…
КОРОЛЬ. Ну что еще?
ГИЛЬОМ. Кроме одного узника… Там сидит Франсуа Вийон… Я умоляю вас…
КОРОЛЬ. А, король поэтов? Вот он куда девался! Вы знаете, господа, человек, которого увенчал лаврами Карл Орлеанский, сидит здесь в подвале.
ПРИДВОРНЫЕ. Возмутительно! Чудовищно! Это неслыханно! Такое варварство!
КОРОЛЬ. В чем дело, епископ?
ГИЛЬОМ. Ваше величество, он смущал народ…
КОРОЛЬ. Да-да, вы нравы… Но я вас велю кинуть в башню, если хоть одна дверь останется закрытой.
ГИЛЬОМ. Ваше величество, он богохульник.
КОРОЛЬ. Э-э, пустяки… Еще что?
ГЕНРИХ. Он сидит за грабеж.
КОРОЛЬ. Граф д'Арманьяк осуждает грабеж? Фи, вы подрываете семейную коммерцию. Кстати, Арманьяк, ваш отец — «граф божьей милостью»… Этот титул вверг его в гордыню, и это стоило ему именья и жизни. Я уважаю ваши сыновние чувства и не желаю обременять вас тяжелыми воспоминаниями, связанными с этим титулом. Я его отменяю.
ГЕНРИХ. Что?!
КОРОЛЬ. Этот пресловутый «граф божьей милостью…» Что он означает? Ровно ничего… Фикция. Все титулы даются милостью короля.
ГЕНРИХ (хрипло). Этому титулу… тысяча лет.
КОРОЛЬ. Еще одно слово, и с вами может случиться несчастье.
Ведут освобожденных из тюрьмы.
ВСЕ. Виват нашему королю, нашему господину!
КОРОЛЬ. Я не вижу Вийона.
ПРИДВОРНЫЙ. Вот он, ваше величество.
Вводят Франсуа.
КОРОЛЬ. Это Франсуа Вийон?
ФРАНСУА. Да… это все, что от меня осталось. Какой свежий воздух! Как легко дышится! А вот и мой друг, епископ… Гильом, ты помнишь, мы сидели за одной партой?..
ПРИДВОРНЫЙ. Это чудовищно! Человек, которого венчали лаврами, брошен в темницу!
ФРАНСУА. Пустяки, месье, лавровый венок я давно кинул в суп… Ах, какой воздух!
ПРИДВОРНЫЙ. Смотрите, музы плачут при этом зрелище!
ФРАНСУА. Возможно… Я не заметил… Почему я не вижу Жака? А? Где он? Я вас спрашиваю?!
КОРОЛЬ. В чем дело?
ГИЛЬОМ. Есть еще один узник… Но это должник, ваше величество…
КОРОЛЬ. Так… Ну, должников я не касаюсь. Имущество — святое дело.
Вийон поворачивается, чтобы уйти.
Куда вы, Вийон?
ФРАНСУА. Я передумал… Я еще посижу…
КОРОЛЬ. Что такое?!
ФРАНСУА. Я подожду еще одного короля… Может быть, он принесет правду…
Общий ужас.
ГИЛЬОМ. Схватить его!
КОРОЛЬ. Кто здесь король?! Вы… остолопы… Отпустить его друга…
ВСЕ. Виват, король! Виват, Франсуа!
Все убегают.
КОРОЛЬ. Болваны! Его лучше иметь с нами, чем против нас!
Все уходят. Площадь пустеет. Гильом и Генрих стоят у подножия башни.
ГИЛЬОМ. Нас разгромили, Генрих. Мне тебя жаль. Но, кажется, все пронесло. Я думал, Франсуа начнет болтать. Что с тобой? Ах, да… Отец… Но все мы смертны. Надо жить. Надо жить…
ГЕНРИХ. Если Франсуа приедет в Париж, он встретится с Питу… Вылезет вся история. Людовик ввел суды для дворян…
ГИЛЬОМ (садится). Это все ты! Ты меня втравил в это дело!
ГЕНРИХ. Молчи, сейчас поздно говорить об этом.
ГИЛЬОМ. Говорил! Я говорил, что не надо было отпускать Питу! Я говорил!
ГЕНРИХ. Молчи, свинья, или я задушу тебя! Надо ехать в Париж. К Сен-Полю. Он теперь папский нунций. Надежда только на него… Встань, свинья! Надо ехать в Париж.
ГИЛЬОМ. В Париж… Да-да… В Париж!
Явление 2
Париж. Вечер. Белый месяц на сиреневом небе. У городской стены (места прогулок буржуа) — Буассон и его жена.
ЖЕНА. Давай с тобой посидим еще немного. Мне что-то тревожно на душе. Такой месяц…
БУАССОН. Тебе не будет холодно?
ЖЕНА. Нет, что ты. Кто-то едет…
Подъезжают два всадника: Гильом и Генрих.
ГИЛЬОМ. Как ты думаешь, успеем мы проехать?
ГЕНРИХ. Наверно, ворота еще не закрывали. Да вот, спроси у этого малого.
ГИЛЬОМ. Любезный… Проеду я в городские ворота?
ПРОХОЖИЙ. Толстоват, правда… Хотя телега с сеном проезжает, проедешь и ты.
ГИЛЬОМ. Вот тебе новые порядки.
Проезжают.
ЖЕНА. Почему ты прячешься в тень? Кто эти люди?
БУАССОН. Я их знал когда-то. Это Гильом и Генрих д'Арманьяк.
ЖЕНА. Тот самый Арманьяк?
БУАССОН. Нет, его сын. Король отнял у него титул. Вероятно, приехал хлопотать. Да, когда-то я был знаком с этими беспутными. Они завлекали меня в свои сети, но я устоял, а вот Франсуа Вийон не устоял и погиб.
ЖЕНА. Этот твой Вийон… Ты так часто о нем говоришь… Кто он такой?
БУАССОН. Это поэт… Может быть, даже великий поэт… Нет, не великий, конечно. Великий поэт не может быть несдержан. А бедный Франсуа был несдержан. Он был очень несдержан.
ЖЕНА. Почему — был?
БУАССОН. Он бесследно пропал много лет назад, когда его изгнали из Парижа… Дело в том, что его секли на Гревской площади…
ЖЕНА. Какой ужас! Он совершил преступленье?
БУАССОН. Вероятно, да… во всяком случае, он с компанией этих щеголей — Гильома, Генриха и других — совершал различные бесчинства.
ЖЕНА. А их тоже секли?
БУАССОН. Нет, что ты! Наоборот… Они-то и добились этого приговора.
ЖЕНА. Не понимаю.
БУАССОН. Мы тоже не поняли ничего… Но Франсуа навсегда опорочен и не может быть принят в обществе.
ЖЕНА. А потом что было с ним?
БУАССОН. Потом доходили о нем самые противоречивые слухи. То говорили, что он победил на турнире поэтов и великий поэт герцог Карл Орлеанский сам увенчал его лавровым венком. То говорили, что видели его поющим в трактирах за кусок хлеба.
ЖЕНА. Это невозможно! Одно исключает другое.
БУАССОН. Это так. Впрочем, кто его знает. Мне его жаль. Он человек одаренный. Его стихи таковы, что от них сжимается сердце… К сожалению, я не могу тебе их прочесть. Они полны грубостей и неприличий.
ЖЕНА. Как могут быть хорошие стихи грубы и неприличны?
БУАССОН. Ты не понимаешь, дорогая: он просто человек крайностей. Он увлекается мыслью или чувством и теряет самообладанье. А самое главное в жизни — это чувство меры, самообладанье. Но у него есть прелестные вещи. Ах, сколько раз я плакал над его стихами.
ЖЕНА. Мне кажется, ты преувеличиваешь его достоинство. Ты скромен, это в тебе привлекает. Но нужно же знать себе цену.
БУАССОН. Дорогая, мне пришлось пройти путь тяжелых лишений и страданий, и жизнь научила меня скромности.
ЖЕНА. Бедный ты мой!
БУАССОН. Да, я работал, не разгибаясь. Я гнул спину в канцелярии суда, а он предпочитал отмахиваться от всего. И вот теперь, достигнув положения и оглядываясь назад, я вижу, что прав был я, а не Франсуа.
ЖЕНА. Милый.
БУАССОН. Он хотел легких успехов, он не хотел трудиться. Я помню, когда я его предостерегал от знакомства со щеголями, он мне сказал, что не хочет давить, прости меня, клопов в городской ратуше. И вот теперь, кто он и кто я? Он пропал без следа и известности, а я скоро стану председателем парижского суда. У меня прелестная жена, я полон сил и собираюсь еще много лет послужить моему королю и тебе.
ЖЕНА. Милый…
БУАССОН. Постой… Т-с-с…
ЖЕНА. Что с тобой?
БУАССОН. Молчи…
На стену на фоне неба взбираются два человека. Один силуэт среднего роста. Другой повыше и тощий. Они разваливаются, задирая ноги. Это Франсуа и Жак. Знакомые голоса…
ФРАНСУА. Ф-фух…
ЖАК. Посмотрите на этого долговязого.
ФРАНСУА. Да, я долговязый. Я молодец. Хочешь, я воспою себя? «Он пришел долговязый и сел на стену Парижа. Он задирает длинные ноги и смотрит на них при свете луны. Он вытягивает сжатые руки, и пальцы его хрустят. (Зевает.) Он смотрит на мир и зевает…»
ЖАК. Молчи, дьявол.
ФРАНСУА. Вот Париж… Я снова пришел к тебе, Париж. Большие черные птицы летят под луной в синем небе. Я пришел, и голова моя в снегу. Колпак мой драный, перо сломано и плечи покрыты пылью. Здравствуй, Париж.
Буассон, сняв шляпу, делает шаг к стене с фигурами и кланяется.
ЖАК. Ты так ждал встречи с городом. Откройся ему. Объяви свое имя. Видишь, тебя приветствуют толпы? Ну чего ты ждешь? Откройся.
ФРАНСУА. Я жду, когда передохнут мои комментаторы со шляпами в руках. Ну, прыгай.
Исчезают.
ЖЕНА (шепотом). Кто это был?.. Почему ты кланялся? Я боюсь…
БУАССОН. Мне самому не по себе… Это был Франсуа Вийон…
Явление 3
Перед занавесом монах и Сен-Поль, папский нунций.
НУНЦИЙ. Все ли готово?
МОНАХ. Вот еще образ святой Варвары взять. Господи, хоть бы все прошло удачно!
НУНЦИЙ. Что за малодушие, сын мой?
МОНАХ. Такие времена, ваша милость. Народ стал буйный. Святых не чтит. Пришлет ли король солдат?
НУНЦИЙ. Обещал прислать.
МОНАХ. Да, стадо запаршивело.
НУНЦИЙ. Каков пастырь, таковы и овцы. Неслыханное дело: король теснит великие фамилии голытьбе на радость!
МОНАХ. Голытьба поднимает голову. Только бы этот бродяга не явился.
НУНЦИЙ. Не надейся, сын мой. Сатана пирует в Париже, и слуги его ликуют.
МОНАХ. Заметьте, ваша милость. Чуть малейшее броженье — тотчас появляется этот проходимец.
НУНЦИЙ. Черви разводятся на гнилом мясе.
МОНАХ. Как только Вийон появился в Париже, все подонки подняли голову.
НУНЦИЙ. Подонки подонками и остаются. Их можно купить, можно выслать. Но волнуются суконщики и оружейники. Это похуже. А подмастерья ходят за ним стадом, распевая безбожные песни. Студенты ночи напролет поют его куплеты, и весь Париж становится сумасшедшим домом… Ну, благослови тебя бог… Иди.
Уходят.
Занавес открываются. Площадь перед собором. Народ. Стражники. Появляется монах. Шум стихает.
МОНАХ. Достолюбезные братья и сестры во Христе! Святая римская церковь, общая наша мать, обратила лицо свое к Франции и узрела ее бедствия. Страданья ее народа неописуемы. Бедствия, постигшие эту землю, вот уже сто лет наполняют ужасом сердца христиан. Доколе будете терпеть? Вопрошаю вас! Доколе жизнь ваша будет столь голодна и морозна? Разве не умирают дети ваши, разве не бьет засуха поля ваши?
ГОЛОС. Правда, святой отец!
МОНАХ. Слезы льются у святой церкви! Плачет она и ликует. Плачет от страданий своих детей. Ликует же, ибо знает о том счастье, что ждет в садах богородицы души страждущих, тех, кто земную юдоль проходит по пути стенанья! Грех бродит по миру… (Останавливается.)
Появляются поющие песню Франсуа и Жак.
ГОЛОС. Э, Франсуа… Пришел покаяться?
ГОЛОСА. Тс-с!.. Тише!..
ФРАНСУА. Продолжайте, месье! Я вам помешал! Вы остановились на словах: «Грех бродит по миру».
Хихиханье.
МОНАХ. Грех бродит по миру! Сатана пирует в Париже, и слуги его ликуют! Покайся, неразумный народ! Покайся, народ заблудший и погибающий!
Франсуа вскакивает на бочку.
ФРАНСУА. Почему остановились, отче? Вы хотите, чтобы я продолжил проповедь? Ведь мы же знаем, как это делается. (Обращаясь к народу.) Говорил он вам про ваши бедствия?
ГОЛОСА. Говорил!..
ФРАНСУА. Каяться велел? Ах да, велел. Значит, будет требовать денег. Он скажет, что все беды ваши от того, что римская церковь забыта вами, храмы оскудели и богородица сидит некормленная! А когда вы сами будете есть досыта? Вы будете есть на том свете! Скорее помирайте, люди, и вы будете обедать с ангелами! А почему этот монах сам не хочет помирать? Ему еще есть не хочется!
МОНАХ. Не слушайте еретика! Господь ниспосылает испытания и смерть только тем, кого он любит!
ФРАНСУА. Люди! Теперь вам понятно, почему расплодились монахи? Господь терпеть не может монахов и смерть на них не посылает!
Хохот.
Они гложут вас, дурачье! Они сосут вас и требуют, чтобы их благодарили. Конечно! Дайте им десятину! Дайте им десятую часть и от хлеба, и от вина, и от овец, и от дочерей ваших, а потом покайтесь! В чем каяться, я вас спрашиваю. Не в том ли, что дали им десятину?!
МОНАХ. Еретик! Закон церкви — божественный закон!
ФРАНСУА. Врешь, монах! Каждый божественный закон написан либо в Ветхом, либо в Новом завете; и ни в одном из них я не нашел, чтобы попеченье о светских делах было поручено духовенству! Разве мы звали этих попов? Разве мы сами не сумеем съесть свой хлеб и плодить своих детей? Разве нам нужна помощь? Смотрите: вы в лохмотьях, а от попов разит розовым маслом. Ваши желудки пусты, как и ваши кошельки, а у богачей и попов желудки набиты жареным хлебом и мясом перепелов. Вот стоят оружейники! Где ваша сила, кузнецы? Все съедено синьорами и попами! Вот красильщики! Эй, красильщик! Одежда твоя в лохмотьях, ты грязен и немыт! Весь ты смердишь, как тухлая рыба, и желудок твой съеден черным паром! А кто эти люди, бледные как смерть, которая стоит у них за спинами. Смотри, монах, — это ткачи! Они в подвалах ткут пряжу, чтобы ты ее носил. Они сидят скрюченные, как нерожденные младенцы, упираясь сердцем в свои колени! Стены трясутся от их хриплого дыхания! А вон господин стоит на пороге дома бедного художника… Желаете посмотреть вещи, месье? Ну, пожалуйста, месье! Это все хорошие вещи… Вот эту я делал пятнадцать ночей… Я согласен уступить… Может быть, вот эту, месье! Месье, месье, не уходите! У меня маленькие дети!.. А господин уходит, не взглянув. Смейся, монах!.. Я вижу, как рыдает этот художник… Это хороший художник, потому что нахальная бездарность, заломив перо за спину, торгует в передних у вельмож. Счастье людей у всех под руками, но оно легче дается грабежу, чем жизни трудовой.
МОНАХ. Народ, не слушай его! Это бунтовщик!! Вийон, я проклинаю тебя, а Парижу предрекаю несчастье!
Вийон падает на бочку в корчах. Все в ужасе замирают.
ВСЕ. Чудо… Чудо! Чудо!!!
Монах обалдело смотрит. Вийон поднимается, чистит колпак и раскланивается среди всеобщего изумления.
ФРАНСУА. Вот так они делают чудеса, эти жулики!
Восторженный рев.
Люди, слушайте! Я тоже пророк! Я вижу, что будет с нами, если будем платить десятину римской церкви! Идут черные бури! Выпьют воду из деревенских прудов… Повалят каштаны на сломанные колодцы… ковром смерти уложат саранчу под ноги! Разжиреют вороны и монахи! Вот она, римская ласка!
МОНАХ. Ты лжешь! Сатана! Ты лжешь! Сам король разрешил брать десятину! Молитвы Рима спасли Францию от англичан!
ФРАНСУА. Спасенные владетели приторговывали мясом своих подданных! Вот правда! Вся история Франции состоит в том, что ее продавали правители и выручали простые мужики!
МОНАХ. Ложь! Ложь!
ФРАНСУА. Молчи, монах! Я родился в тот год, когда благодарный король подарил на жаркое англичанам бедную Жанну д'Арк! А ведь эта девочка, сохранив ему корону, спасла его задницу от простуды!
Восторженный рев. На балкон выходит Сен-Поль с солдатами.
НУНЦИЙ. Именем святого престола, приказываю взять бунтовщика и еретика, а также его сообщников!
Стража кидается в толпу. Свалка.
Явление 4
Ночь. Ливень. Мокрые ветки деревьев хлещут по стене, белеющей в постоянных вспышках молний. Подъезжает карета. Из нее высаживают человека. Это Питу.
ПИТУ. Слушаюсь, святой отец.
НУНЦИИ. Его проведут по этой дороге. Ну, смотри… Франсуа пойдет посередине, не промахнись.
ПИТУ. Полагайтесь на меня. Второй раз эта тварь не уйдет.
НУНЦИИ. Да, кажется, у тебя есть свои причины.
ПИТУ. Еще бы. Такой был налет прекрасный. Взяли телегу денег. Кто выдал? Франсуа! Нет, черт возьми, меня трясет от бешенства. Не могу понять, Сен-Поль, зачем он это сделал?
НУНЦИИ. Наивный человек… Из-за тебя его секли на площади…
ПИТУ. Как из-за меня? Хотя можно понять и так… Ну, собака! Ладно, поезжайте.
НУНЦИЙ. Смотри…
Уезжает.
ПИТУ. Неужели Франсуа нас выдал? Питу, ты перестал понимать людей. Ого… Идут…
Скрывается. Входят Гильом и Генрих, кутаясь в плащи.
ГЕНРИХ. Какого черта ты вызвал меня сюда?!
ГИЛЬОМ. Сейчас, сейчас, Генрих! Сейчас. Вот уже пришли. Это здесь. Вот по этой дороге поведут Франсуа.
ГЕНРИХ. Опомнись, он сидит у Сен-Поля в подвале.
ГИЛЬОМ. Король потребовал, чтобы его судили открытым судом, а не церковным. Народ волнуется… престиж короля и прочее…
ГЕНРИХ. Его же взяли как еретика.
ГИЛЬОМ. Нет, его будет судить уголовный суд.
ГЕНРИХ. Та-ак… Что же делать?
ГИЛЬОМ. Генрих, ты понимаешь, если всплывет история с ограблением епископской казны, то тебе головы не сносить. Мы не успеем уехать. Они нас догонят.
ГЕНРИХ. Что же делать? Что же делать? Боже!
ГИЛЬОМ. Генрих, сейчас все зависит от тебя.
ГЕНРИХ. Что же делать?!
ГИЛЬОМ. Генрих, есть единственное средство. Прикажи Катерине уговорить Франсуа не упоминать о нас на суде…
ГЕНРИХ. Катерина?! Ты с ума сошел!
ГИЛЬОМ. Генрих, Генрих! Это необходимо!
ГЕНРИХ. Молчи, тварь! Ты забыл, кто я! Ты хочешь, чтобы я торговал своей любовницей? Только ты мог придумать это! Подлец!
ГИЛЬОМ. Я подлец? Ладно… Гильом дрянь! Гильом хитер! Но ты, благородный Генрих, будешь в ногах валяться у Гильома, чтобы я спас твою шкуру! Я ухожу, но если из-за тебя нас схватят, я тоже не промолчу о том, как ты выдал собственных бандитов, чтобы поделить со мной деньги!
ГЕНРИХ. Молчи, тварь, или я прикончу тебя!
ГИЛЬОМ. Поздно, Генрих! Теперь не прикончишь! Ты уже не граф божьей милостью. Я ухожу.
ГЕНРИХ. Постой…
ГИЛЬОМ. Живей… остаются считанные минуты!
ГЕНРИХ. Франсуа поведут солдаты?
ГИЛЬОМ. Не бойся, Генрих, они подкуплены… Ты не огорчайся, все будет хорошо. Франсуа никогда не мог устоять перед Катериной.
ГЕНРИХ. Прочь! Мразь! Прочь!
ГИЛЬОМ. Хорошо… Хорошо… Иду…
Уходит. Катерина де Вессель.
КАТЕРИНА. В чем дело, Генрих? Зачем он нас сюда привел? Мне холодно.
ГЕНРИХ. Катерина! Мы пропали!
КАТЕРИНА. Что такое? Что он тебе сказал?
ГЕНРИХ. Катерина, ты должна спасти меня! Слышишь?
КАТЕРИНА. Что же мне остается делать?!
ГЕНРИХ. Катерина! Я был плох с тобой все это время! Но все переменится!
КАТЕРИНА. Мне становится страшно… Что тебе еще нужно от меня?!.
ГЕНРИХ. Катерина… Есть некоторые дела… Катерина, я хочу, чтобы ты уговорила Франсуа не упоминать мое имя на суде.
КАТЕРИНА. Что ты сказал?..
ГЕНРИХ. Катерина!
КАТЕРИНА. Я давно знала, что ты подлец… но не думала, что ты кот…
ГЕНРИХ. Катерина! Это необходимо…
КАТЕРИНА. Ты с моей помощью погубил Франсуа; теперь ты просишь, чтобы я его уговаривала!
ГЕНРИХ. Катерина, если ты не уговоришь Франсуа, — мы погибли!
КАТЕРИНА. Я уговорю Франсуа? Он плюнет мне в лицо! На большее рассчитывать нечего. Неужели у тебя так плохи дела…
ГЕНРИХ. Катерина! Минуты бегут… Сейчас его поведут по дороге. Солдаты подкуплены… Только ты можешь спасти нас… Не забывай, ты ждешь ребенка… Франсуа не устоит перед тобой!
КАТЕРИНА. Ты струсил, Генрих… Ты давно уже потерял все перья, которыми я тебя изукрасила в своей душе, но на тебе оставалась корона — ты был храбр… И вот ты в грязи. И перед кем? Перед Гильомом! Пойди, убей его!
ГЕНРИХ. Не могу, Катерина, король отменил мой титул…
КАТЕРИНА. Да, ты был храбр, когда за твоей спиной стояли головорезы, которых ты выменивал на золото. Молчи, я все знаю! Вийон! Как вы смеялись над бедным Вийоном! Вам легко было чувствовать превосходство!
ГЕНРИХ. Время идет! Время идет! Я умоляю тебя, уговори Вийона, чтобы он молчал, и мы умчимся с тобой на край света. Кони за оградой.
КАТЕРИНА. Трус!
ГЕНРИХ. Я убью тебя!
КАТЕРИНА. Глупости! Ты больше не граф божьей милостью. Пусти, Генрих, идет Франсуа.
Солдаты вводят Франсуа. Катерина кидается на колени в грязь на дороге. Солдаты расступаются. Франсуа отскакивает, подняв вверх руки с кандалами.
ФРАНСУА. Прочь! Я расшибу тебе голову! Вы… собаки, что же вы не защищаете меня?
КАТЕРИНА (поднимает лицо). Франсуа, ты не узнал меня?
ФРАНСУА. Катерина?!
КАТЕРИНА. Франсуа, делай что хочешь, но не упоминай имени Генриха на суде!
ФРАНСУА. Давно я тебя не видел, Катерина. Ты плохо выглядишь… Эй, стража! Оттащите ее в сторону и ведите меня в тюрьму, или я заявлю, что вы подкуплены!
КАТЕРИНА. Франсуа! Спаси моего ребенка!.. Он ни в чем не виноват… Не губи его…
ФРАНСУА. Ребенка надо спасти… Когда-нибудь скажи ребенку, что его мать и человек, который мог бы быть его отцом, попали в клоаку, думая попасть в большой свет. Ты права, я не могу тебя судить. Я сам был таким. Прощай, Катерина. Когда-то я тебя любил.
Уходит. Входит Генрих.
КАТЕРИНА. Я сделала, как ты просил… Идем…
ГЕНРИХ. Ну, поговорила со своим Вийоном? Проснулась старая похоть?
КАТЕРИНА. Генрих!
ГЕНРИХ. Ты издевалась надо мной, гадина!
КАТЕРИНА. Генрих! Генрих!
ГЕНРИХ. Кони двоих не унесут!
КАТЕРИНА. Генрих! Не оставляй меня!
ГЕНРИХ. Прочь! Сука! (Хлещет ее плетью.) Раз!.. Два!..
КАТЕРИНА (падает). Ох!
Генрих убегает. Раздается стон. Возня. Крик Генриха.
КАТЕРИНА. Боже, что это?
Хрип. Выбегает Пишу. Его хватают подбежавшие солдаты.
ФРАНСУА. Питу?!
ПИТУ. Франсуа! Это Генрих выдал всех Гильому-епископу! Теперь он покойник.
Все уходят. Остается Катерина, которая встает, держись за стену.
Явление 5
Тюрьма Парижа. Огромный подвал с прикованными к стенам заключенными. Женщины. Дети.
ПИТУ. Я не хочу! Я не хочу! Куда вы меня тащите?
ФРАНСУА. Смотри, это Питу… Куда они его потащили?
ЖАК. Обычный конец вора.
ФРАНСУА. Какой это вор? Это — несчастный. Когда негде работать, долго ли поскользнуться? Каждого вора обманул вор постарше.
ЖАК. Франсуа, а самого старшего?
ФРАНСУА. Тс-с… Ты касаешься священной особы короля.
ЖАК. Молчи, юродивый. Здесь уши.
ФРАНСУА. Здесь уши, и там уши. Уши здесь, и уши там. Уши, что здесь нужно вам? (Щелкает, по носу мальчишку.)
МАЛЬЧИШКА. Папочка! Не знаешь, где уши, где нос!
ФРАНСУА. О! Парижские дети! Собственно, касайся короля или нет, а придется нам покачаться…
ЖАК. Переменим тему. Что ты на этот раз пишешь?
ФРАНСУА. Пишу эпитафию, Жак.
ЖАК. Торопишься на виселицу?
ФРАНСУА. Друг Жак, неужели у тебя сомнение? Приговор уже составлен, им остается сыграть комедию.
ЖАК. Понятно. И ты хочешь скрасить им неприятное чувство.
ФРАНСУА. Вроде того. Вроде того. Но знаешь, именно теперь мне не хотелось бы умирать. Мне это стало не безразлично, друг. Я как-то не привык умирать.
ЖАК. Ты попробуй, Франсуа. Может быть, тебе понравится…
ФРАНСУА. Я это и пытаюсь сделать в своей эпитафии. Вот слушай:
Люди, братья люди, Вот мы висим пятеро, Раскачиваясь под ветром, И вороны и дятлы выпили нам глаза!ТЮРЕМЩИК. Тише, сволочь! Простите, господин судья. Я не заметил вас.
БУАССОН. Ничего, мой друг. Ступай себе.
ТЮРЕМЩИК. Господин судья, вас проводить?
БУАССОН. Ступай, ступай!
ТЮРЕМЩИК. Слушаюсь.
БУАССОН. Здравствуй, Франсуа. (Ищет глазами.) Боже, кто это? Боже мой! Франсуа!
ФРАНСУА. По-моему, это Буассон.
БУАССОН. Это я, Франсуа… Боже мой! Не думал я, что встречусь с тобой при таких обстоятельствах. Ты сильно изменился…
ФРАНСУА. А ты все такой же: причитаешь, как кормилица.
БУАССОН. Тебе тридцать лет, а ты седой.
ФРАНСУА. Возраст пожилого мула.
БУАССОН. Нет. Ты все еще мальчик. Ты такой же беспокойный.
ФРАНСУА. Спокойным я буду в могиле… И я не мальчик, Буассон. Я просто сейчас маленького размера. Я расту и уменьшаюсь, расту и уменьшаюсь. Больше — меньше. Больше — меньше. Тик-так, тик-так… Как сердце.
БУАССОН. Все беды твои, Франсуа, в том, что ты жил сердцем. Ты образован, но мудрость прошла мимо тебя.
ФРАНСУА. Да как сказать… Черное и белое я различаю… Когда молоко запятнано мухами, например. Еще различаю цвет крови. Сегодня для поэта вся мудрость в этих красках.
БУАССОН. Да, ты всегда был невоздержан на слово, и это тебя погубило. Ну зачем ты связался с попами? Жить людям легче. Король к тебе хорошо относился. Ты мог занять место в жизни, которое тебе подобает. Ты заслужил бы любовь лучших людей. Ты мог бы петь как птица.
ФРАНСУА. Это только кажется, что птицы в клетках поют. На самом деле они плачут.
БУАССОН. Ты все остришь, Франсуа. Все шутишь. Талант недолговечен. Еще два-три года, и пересох бы ручеек твоего остроумия. Уже сейчас он пованивает болотцем.
ФРАНСУА. Врешь, Буассон. Душа моя рождает только песни любви. А остроты мои — это искры, которые высекает из моего ума сама жизнь. До тех пор, пока сталкивается мой ум с вашим безумием, — запас острот бесконечен.
БУАССОН. Твоя речь перегружена. У нормального человека кружится голова.
ФРАНСУА. Ну да, тебе что-нибудь попроще. «Утлый челн по воле волн». Что-нибудь в этом роде? Правда, Буассон?
БУАССОН. Мы люди простые…
ФРАНСУА. Ну да, вы люди простые. Вам бы насчет пожрать.
БУАССОН. Ты груб. Но ты обижен, и я не могу на тебя сердиться.
ФРАНСУА. Это ты обижен и унижен, а не я.
БУАССОН. Что ты болтаешь, Вийон? Я вознесен моим королем в меру моих заслуг.
ФРАНСУА. Ты не вознесен, а унижен.
БУАССОН. Ты всегда выворачивал понятия наизнанку, но смысла тебе не извратить. Ты сидишь в яме, Франсуа, и я, Буассон, — твой судья!
ФРАНСУА. Бедный серый Буассон. Это тебе кажется, что ты судья. На самом деле ты холуй. Ты этим унижен и ненавидишь меня за то, что я это понимаю… И за это ты будешь судить меня по всей строгости законов.
БУАССОН. Врешь ты! Тебя будут судить беспристрастно! Мне нет причин тебя ненавидеть!
ФРАНСУА. Как нет?! Ты гнул спину в канцелярии, а я плевал на это! Ты лизал колени у начальников, а я говорил им в лицо все, что хотел! Ты на четвереньках дополз до кресла судьи Парижа, а я в тюрьме смеюсь над тобой! Как же нет причин для ненависти?! Ты же раб, Буассон!.. Вот я: сижу на цепи, а ведь я свободен, по сравнению с тобой, спеленутым!
БУАССОН. Ты!.. Ты!..
ФРАНСУА. Видишь, тебе хочется меня вздуть, а ты не можешь себе позволить, потому что напялил маску беспристрастности!
БУАССОН. Король наш наводит порядок в стране. Он дарует людям правосудие, а ты злоупотребил дарованной свободой, и ты будешь наказан!
ФРАНСУА. У дарованной свободы на спине написано «рабство»! Действительно имеют только ту свободу, которую сами завоевывают! Прощай, Буассон. Я занят, я готовлюсь к вечности.
БУАССОН. Прощай, Франсуа.
Буассон уходит. Тюремщики приносят человека.
ТЮРЕМЩИК. Несите мимо. Живо! Живо!
ЖАК. Франсуа, не гляди. Эй, придержите его там!
ФРАНСУА. Жак… Жак… Не старайся… Я все видел… Это Питу… Он, вероятно, убит «при попытке к бегству»… Мухи пьют твои губы, и рука твоя метет пыль… А ты уже начинал становиться человеком… Они не любят лишних улик… Друзья! Я вас научу песне! Хорошей песне! Только ее надо петь хором!
ТЮРЕМЩИК. Эй, Вийон… Петь запрещено.
ФРАНСУА. Запрещено? Тогда я пою! (Поёт.)
Все постепенно и яростно подтягивают. Тюремщики кидаются на смертников.
ТЮРЕМЩИК. Замолчать! Плетей!
ФРАНСУА. Пойте! Он убить вас не посмеет! Нас должны завтра повесить! Господин король любит свежее мясо! Он хочет правосудия — он его получит. А тебя, падаль, лишат должности и посадят сюда! Ты вонючий! Запах крови, которым ты пропитался, не может заглушить вони из твоего рта! Значит, ты скоро умрешь! Я уже вижу смерть за твоей спиной!
Раз! Два! Три! Четыре! Звезда моя…Все поют громче и громче.
Явление 6
Перед занавесом Буассон и его жена. Буассон хмур и озабочен.
ЖЕНА. Я очень волнуюсь за тебя.
БУАССОН. Не беспокойся, все будет хорошо.
ЖЕНА. Самое главное, не поддавайся слабости. Ты должен забыть про этого Вийона. Перед тобой преступник, и больше ничего.
БУАССОН. Я знаю, дорогая, но это не так легко забыть.
ЖЕНА. Ты должен! Должен! Понимаешь? После тех оскорблений в тюрьме он не может рассчитывать на твою дружбу. Он не дорожит твоей дружбой. Он плюнул тебе в душу. Я знаю, ты целую ночь не спал. Я все видела.
БУАССОН. Хорошо. Хорошо. Ступай. Вот идет Сен-Поль. Он назначен обвинителем.
ЖЕНА. Помни все… (Уходит.)
Входит Сен-Поль.
НУНЦИИ. У вас все готово, господин судья?
БУАССОН. Вполне.
НУНЦИЙ. Скажу по правде, я озабочен этим процессом. Это по вашей вине, Буассон. Если б не вы, его бы судил церковный суд. Все ваш дурацкий доклад королю.
БУАССОН. Вы бы об этом не заботились. Приговор давно готов.
НУНЦИЙ. Да, но его надо протащить через головы черни, с которой заигрывает король.
БУАССОН. Я прошу вас не затрагивать особу короля.
НУНЦИЙ. Сын мой, когда римская церковь дает указания, то им следуют без рассуждений. Кстати, ваш пост парижского судьи еще не утвержден… От этого процесса много зависит в вашей судьбе… господин судья.
БУАССОН. Слушаю, святой отец. (Уходит.)
Открывается занавес. Огромный зал суда набит народом. Сен-Поль заканчивает речь.
НУНЦИИ. Итак, вы прослушали мою речь и познакомились с документами, обличающими преступления этого богохульника, еретика, вора, пасквилянта и убийцы! И наконец, последнее! У меня есть свидетель, который лучше всех других прояснит дело. Вот этот человек!
ФРАНСУА (неистово). Жак!
НУНЦИЙ. Вы видите, как взвился этот бандит! Вы видите, какой мукой искажено его лицо!.. Да, Вийон! Это Жак! Он был другом Вийона! Он вверил ему свою простую, доверчивую душу! Он не ждал обмана. Он не мог подумать, что ученый человек, который его к себе приблизил, есть исчадие ада, соблазнившее одного из малых сил. Своими лукавыми речами Вийон опутал этого простого человека, этого истинного француза, как и все вы, сидящие в зале суда. Но чистая душа его не выдержала, столкнувшись с грязью души Вийона, этого ложного друга бедняков. Никакая ложная наука, никакой сатанинский дар не устоял перед чистой верой этого простого сердца. Сердцем он понял ложь его слов! Сердцем он понял и соблазн его жалких виршей, столь противных французскому уху. Он был слеп — он прозрел! Он болел — и он выздоровел! Он покаялся, и святая церковь простила ему! Спросите — и он подтвердит мои слова! Спросите — и я не боюсь услышать слово правды.
Жак рыдает.
БУАССОН. Свидетель Марсель по прозвищу Жак-простак. Что вы можете показать по этому делу? Да успокойтесь.
ЖАК (рыдая). Как же успокоиться, когда такие слова? Когда господин Сен-Поль говорит, слезы так сами и капают. Не бойтесь, святой отец. Не извольте беспокоиться. Я все подтвержу, святой отец. Все сделаю, как вы мне приказали.
Франсуа хохочет. Общий громовой хохот.
НУНЦИЙ. Опомнись, болван, что ты мелешь?
ГОЛОСА. Ой, не могу!.. Все, как вы велели!.. Ох, господи, умираю!.. Ха-ха-ха!
НУНЦИИ. Когда я тебе велел, опомнись!
ЖАК (рыдая). Вчера, ваша милость, в камере…
НУНЦИЙ. Он просто глупец! Он не понимает, что он говорит!
Жак перестает плакать.
ЖАК. Как же, ваша милость, не понимаю?! Как вы велели все подтверждать, так я и подтверждаю.
НУНЦИЙ. Ложь! Он мне сам признался, что Вийон его заставил не платить налоги!
БУАССОН. Это было?
ЖАК. Было, господин судья.
НУНЦИЙ. Вот видите?!
БУАССОН. Расскажи, как это было.
ЖАК. Когда господин епископ взял с нас налоги за восемь лет вперед, тогда Вийон сказал: «Жак, а почему бы тебе не перестать платить этот дурацкий налог?»
НУНЦИЙ. Вот видите.
БУАССОН. Что ты ему ответил?
ЖАК. Я ответил: «Черт возьми, Франсуа, как это я сам не догадался?!»
Общий хохот и рев.
НУНЦИИ. Это ложь! Он сошел с ума! Он подкуплен!
БУАССОН. Внимание! Прекратить шум! Свидетель, тебя обвиняют в том, что ты подкуплен.
ЖАК. Это так, ваша милость.
Хохот.
БУАССОН. Тише! Подумай, что ты говоришь! Кто тебя подкупил?
ЖАК. Господин Сен-Поль!
НУНЦИИ. Это ложь! Он лжесвидетель!
ЖАК. Это правда, ваша милость!
БУАССОН. Что за идиотские шутки! Отвечай, почему же ты решился свидетельствовать против друга?
ЖАК. Так ведь господин Сен-Поль сказал, что приговор все равно уже составлен. А двадцать экю — деньги большие.
Рев. Выкрики.
ГОЛОСА. Что делают эти люди! А! Что они делают!
НУНЦИЙ. Я требую прекратить допрос. Оскорблена римская церковь.
ВСЕ. Долой! Долой!
БУАССОН. Допрос прекращен!
ВСЕ. Долой! Долой!
БУАССОН. Я прикажу очистить зал!
ВСЕ. Долой! Оправдать!
Вскакивает жена Буассона.
ЖЕНА. Буассон! Что ты делаешь? Ты губишь невинного!
БУАССОН. Замолчите!
ГОЛОСА. Молодец, девочка! Скажи ему еще!
ЖЕНА. Люди! Это мой муж! Он трус! Он продался этому римскому попу!
БУАССОН. Стража, вывести эту женщину из зала!
ЖЕНА. Мерзавец! Можешь не приходить домой!
НУНЦИЙ. Суд удаляется на совещание!
БУАССОН. Незаконно! Ему не дали последнего слова!
ГОЛОСА. Франсуа! Молчи! Ничего не говори! Это западня! Пусть скажет!.. Франсуа, скажи этим баранам!
ФРАНСУА. Стоит ли ломать комедию, когда приговор все равно готов заранее? Посмотрите, как бегают глаза у присяжных!
БУАССОН. Предупреждаю вас, вы вредите себе в глазах присяжных!
ФРАНСУА. Я презираю этот суд, где судьба человека зависит не от того, какая у него вина, а от того, понравится ли он судье и присяжным! Да в этом ли дело? Вы ныряете в пучину законов и выныриваете оттуда с монетой в зубах, брошенной богатым убийцей! Вы куклы, и суд ваш — кабак! Повесьте на него клок соломы!
БУАССОН. За оскорбление суда я лишаю вас слова!
НУНЦИЙ. Пусть говорит! Он честно зарабатывает себе петлю!
ГОЛОСА. Франсуа, молчи! Франсуа, не губи себя! Мы тебе верим!
ФРАНСУА. Детки! Сейчас это не имеет значения — у них в кармане звенит папское золото! Вы просчитались, судьи! Моя популярность растет пропорционально гнусности тех средств, которыми вы меня стремитесь погубить! Ваши стражники выкрадывают конфискованные у меня стишки и продают их за бешеные деньги!
ГОЛОСА. Франсуа, молчи! Франсуа, ты себя губишь из-за красного словца!
ФРАНСУА. Из-за красного словца? Красное словцо — это вся моя жизнь! Красное словцо раскрывает глаза людям! Красное словцо протыкает надутую ложь, как игла водянку!.. Красное словцо пронзает живые сердца и обнаруживает каменные! Услышав красное словцо, человек говорит: «Какого черта?!» Человек говорит: «Какого черта этого нельзя и этого нельзя?»
БУАССОН. Ты проповедуешь анархию? Ты изменник!
ФРАНСУА. Ложь! Я — душа моего народа! Я — Франция! Я кричу от боли, и я пою от радости! Когда я иду по кабакам и пою, распрямляются души, скрюченные, как копченые зайцы! Я — поэт! На корабле Парижа я — «впередсмотрящий»! Слушайте! Пусть будут стихи! Вперед гляжу со смертной высоты. С той крестовины мачты, где я распят, я вижу расцветающие зори, земли обетованной берега… Моей прекрасной Франции корабль вплывает в завороженную бухту… Матросы опускают паруса… И поднимают бедствия сигнал… Несут на берег бедного Вийона… Сам господин судья, рыдая, говорит… что он давно в душе меня любил. Что он, того гляди, меня простил бы… Когда бы не обязанность лизать… седалище богини правосудья…
НУНЦИЙ. Ты скоморох… продолжай, петля близко…
ФРАНСУА. Я — скоморох! Но скоморохи начинают битву!
НУНЦИИ. Какую битву можешь вести ты, жалкий петушок!
ФРАНСУА. Я — петух! Но если я кричу, скоро конец ночи! Смотри, поп, небо уже серебряное. Ты можешь свернуть петуху шею, но не тебе остановить рассвет!! Ку-ка-р-реку!!
ВСЕ. Виват, Франсуа! Пощады! Помиловать!
БУАССОН. Я удаляю всех из зала! Стража, очистить зал!
ВСЕ. Долой! Что вы делаете? Проклятые! Проклятые! Собаки!
Стража вытесняет всех из зала.
БУАССОН. Вот ваши штучки, Сен-Поль! Это вы позволили ему говорить! К дьяволу! Я отказываюсь вести процесс!
НУНЦИЙ. Вы не имеете права!
БУАССОН. Я снимаю с себя званье судьи…
НУНЦИЙ. О… Вот как?
БУАССОН. Да… Так…
НУНЦИЙ. Прекрасно. Церковь берет на себя ведение процесса! Буассон, вы человек конченый!
БУАССОН. Я плюю на вас, Сен-Поль.
НУНЦИЙ. Запомним… Суд удаляется на совещание.
За сценой крики. Вой толпы. Камень бьет в окно. Звон разбитого стекла. Крики резко стихают.
ГОЛОСА. Король! Король! Помилование! Пощада!
Входит король.
КОРОЛЬ. Кто устроил этот балаган? Вы мне головами ответите за этот суд.
Входит Суд. Сен-Поль подбегает к королю.
КОРОЛЬ. Кто отдал приказ разгонять народ?
БУАССОН. Я, ваше величество.
КОРОЛЬ. Болван! Вы последний раз исполняете вашу должность! А вы, Сен-Поль? Вы хотите, чтобы взбунтовалась чернь?! Как все это вовремя!
НУНЦИЙ. Ваше величество! Святая церковь не может потерпеть, чтобы Вийон остался ненаказанным!
КОРОЛЬ. Трудно сказать, что может и чего не может потерпеть святая церковь, но вас, Сен-Поль, я сотру в порошок!
НУНЦИЙ. Наместник Христа защитит своего слугу!
КОРОЛЬ. Наместник Христа кинет тебя в башню Ангела, скотина, как только я напишу ему, что по твоей вине появилась старая ересь!
НУНЦИЙ. Какая ересь?!
КОРОЛЬ (кричит). Коммуна! Парижская! Забыл?! Пошел вон!.. Буассон. Объявляйте приговор.
БУАССОН. Какой, ваше величество?
КОРОЛЬ. Изгнанье!
БУАССОН. Впускайте народ.
Явление 7
Франсуа уходит. Его изгнали. Встречаться с ним нельзя. Но в меркнущем свете дня, в бледных сумерках к серой знакомой стене начали сходиться люди.
— Ты что пришел сюда?
— А ты?
— Ну, ну, тише…
— Вы что здесь собрались? Уходите отсюда!
— Помалкивай…
— Становитесь и ждите.
— Он еще не проходил?
— Нет еще…
— Вот он идет…
Входят Франсуа и Жак. Люди придвигаются к ним, открывая Катерину, стоящую у стены.
— Прощай, Вийон. Ты был нам добрым другом.
— Вийон, если придешь в Льеж, то разыщи моего брата Симона Дю-Понтале, и ты всегда будешь иметь кусок хлеба.
Буассон расталкивает людей.
БУАССОН. Пустите меня! Дайте мне проститься! Возьми меня с собой, Франсуа!..
ФРАНСУА. Куда, цыпленок? Неужели ты хочешь сопровождать меня следующие пятьсот лет? Тебе нет туда дороги.
БУАССОН. Что я могу сделать для тебя, Франсуа?
ФРАНСУА. Ты можешь дождаться моей смерти и, издав мои стихи, заработать на похоронах.
БУАССОН. Франсуа, я издам твои стихи! Где мне найти тебя, Франсуа?
ФРАНСУА. Пойдешь прямо… до надписи «Франция»… Я там живу… Заходи, побеседуем. Идем, Жак… Путь дальний… Начинается ветер… Видишь, тучи покрыли черные каштаны за белой стеной… Ветер умчал пыль вдаль по сухой дороге… Слышу, как стучат башмаки по черепу дороги… Э-гей! Это твои ножки, красавица Марианна! Я иду! Я иду! Я — душа твоя, Франция! А зовут меня Франсуа Монкорбье, по прозвищу Вийон.
Поднимается ветер.
Эй, дорога… Дождь за шировот течет, Ветер лица нам сечет. Эй, дорога…Жак и Франсуа уходят. Выходит Катерина и идет за ними. Люди глядят им вслед и медленно сходятся на дорогу.
ЗАНАВЕС
Так как же все-таки быть с другой цивилизацией? Какая она должна быть? А? Я вас спрашиваю. А? И ответа я не получил. Спрашивать-то было некого. Как это я мог забыть? Кого спрашивать, если они заперлись там, в магазине «на воровство». И все, что может быть придумано, может быть использовано. И все-таки я по своей настырной привычке решил попытаться.
Ведь те, кто привел цивилизацию к магазину, и обдумывают, как дальше быть. То есть, как уворовать? Все то положительное, что будет вновь придумано. А уворовать можно было все. Практически. То есть как сделать так, чтобы выдумать такое, чтобы выдумкой нельзя было воспользоваться? А ведь всеми выдумками пользуются. И это и есть цивилизация. То есть как было выдумать такое, чтобы это не выглядело выдумкой? Потому что даже отменой цивилизации можно было воспользоваться и как-то уворовать плоды этого дела.
Передо мной стояла грандиозная задача, которая должна была перекрывать все мыслимое и даже немыслимое. И причем задача реальная, которая не укладывалась ни в какие концепции. То есть выдумка должна быть такая, которая не могла бы прийти в голову всему сонму дьяволов, которые там заперлись и вывесили табличку: «Магазин закрыт на воровство».
У меня кружилась голова от предстоящей задачи. Надо было опереться на что-то реальное. Реальное стояло передо мной, выпятив пузо. Жена смеялась.
— Слушай, а все же, кто ты такой? — спросил я грандиозного своего сына.
И тот пожалел меня и ответил в той же интонации, выставив вперед туго сжатый кулачок:
— Я такой молоденький, — сказал он, — лихой, голенький.
То есть он сказал то, чего я не мог сказать о себе. Хотя, если разобраться, я не мог сказать о себе только первое: то, что я такой молоденький. А вот лихой ли я? Как сказать… Если я затеваю поиски того, чем эти дьяволы не могли бы воспользоваться, то в случае удачи — как знать — может быть, и лихой. А что касается того, голенький ли я, а пожалуй, так оно и есть — голенький. Сама задача делала меня голеньким. То есть все, что я придумаю, я должен был тут же откидывать, потому что то, что я мог выдумать, мог выдумать и другой. И значит, это уже — тенденция. И значит, тенденцией можно уже воспользоваться. Магазин-то ведь закрыт с вполне определенными целями, и они там готовятся ко всему тому, что могу я придумать. И я взвыл:
— Я? Ну почему опять я?!
И на эту простую мысль возникал простой ответ:
— А почему не ты? Взялся за гуж — не говори, что не дюж…
Но я знал свое и вопил:
— Ни за какой «гуж» я не брался. Я даже не очень помню, что означает слово «гуж». Какой гуж, почему гуж?
Я смутно помнил, что есть какой-то гужевой транспорт. Лошадиный, что ли? Значит, «гуж» — это что-то на лошади? Гуж! Откликнись! Кто ты?!
Но Гуж не откликался…
Вы прочли то, что уже было написано. Ну и что особенного? В песне это называется припев, рефрен. Я это перепечатываю из-за чрезвычайной важности этого места, как я кричал: «Гуж, кто ты?» А «гуж» не откликался. А чрезвычайная важность этого места состоит в том, что задним числом я обнаружил, что я хныкал. А хныкать я не люблю. Потому что хныканьем в искусстве пользуются ог-го-го еще как! Просто торгуют соплями! Но делать было что-то надо. И где-то лежал выход, которого не знал не только я, но и собравшиеся там, в магазине, на воровство всего того, что можно было бы придумать.
Но делать было что-то надо. Это не отменялось. Потому что, если цивилизация дошла до магазина и теперь дрожит от страха, не кончится ли сама цивилизация от одного взрывчика, и вопрос теперь стоит так: как отменить такую цивилизацию, при которой основным чувством и стоп-сигналом стало чувство страха перед тем, что могут наступить всеобщие «кранты» (научно выражаясь), — надо что-то менять. Это ясно. И менять так, чтоб этим нельзя было воспользоваться. Значит, надо опереться на что-то, что уже открылось. То есть нечто реальное, чем я мог бы воспользоваться, а вся эта банда, засевшая в магазине, нет, не могла бы.
Самым основательным, что я к этому времени знал, было открытие Николаем Елисеевичем «закона случайности», не как дополнения необходимости, а как основного закона жизни, живой жизни. Потому что мертвой жизни не бывает. Но положение осложнялось (или, если хотите, облегчалось, кому как) тем обстоятельством, что я должен был придумать нечто такое, что было бы фактом искусства. Почему? Потому что это моя профессия, потому что я это люблю больше всего и потому что мне за это иногда платят деньги.
Ну и как быть? Я ведь не один. У меня семья, сын — их кормить надо. Да, как быть?
Что такое цивилизация? Цивилизация — это когда накопились ценности. Это когда жили-поживали и добра наживали. Но если то, что считалось добром, привело к магазину, и все ждут и трясутся, что эта цивилизация сама себя отменит при помощи кнопки, неживой кнопки, то надо было эти ценности пересматривать, хочешь — не хочешь. То есть нужна была переоценка ценностей. Все ли ценно в этих ценностях? А может, не все? А может быть, в этих ценностях есть кое-что выдуманное? А что особенного? Ценности пересматривают все время. Вот я сам слышал по радио. Передавали какую-то беседу с ансамблем «Кукуруза». Я и на беседу-то обратил внимание случайно, то есть по-живому, из-за названия ансамбля. Я в то время собирал мнения о кукурузе. Потому что кукуруза была плодом индейской цивилизации, то есть цивилизации, которая доработалась до сытости, не придумав колеса, которым гордилась Европа, но которое привело европейскую цивилизацию к магазину, подсунув Европе колесо, чье-то изобретение. И все обрадовались — какой простой выход! А выход-то привел к магазину, который заперт на воровство. Нет, тут нужно что-то Другое.
И вот какой-то представитель ансамбля «Кукуруза» рассказывает случай, который впервые реально показал, как происходит переоценка. И вот под смех слушателей кто-то из ансамбля рассказывал, как они заехали от Москвы, от центра цивилизации, в город Благовещенск. И кто-то из них зашел в магазин уцененных товаров и видит: продается контрабас, да не фанерный, как сейчас модно, а настоящий, долблёный. Он посмотрел на цену и глазам не поверил. Контрабас стоил два рубля! Он переспросил у продавщицы. Она подтвердила: «Да, два…» И тот из «Кукурузы» сказал, что если все так, то он купит сейчас этот контрабас, уйдет и больше его продавщица не увидит. Парень был честный и боялся — не ошибка ли это? Не игра ли воображения? Продавщица сказала: «Сейчас посмотрю». Порылась в бумажках и говорит: «Да, два рубля. Если вам не правится, зайдите за прилавок» (за кулисы, так сказать, этого театра). Там у нее еще два контрабаса стоят. Парень все же не поверил. Вернулся в ансамбль, разыскал кого-то из скрипачей и говорит; «Идемте кто-нибудь со мной. Может, контрабас бракованный». И те пошли с ним в самый лютый холод. Лязгали зубами, но пошли. Пришли. Смотрят, крутят — все правильно: контрабас отличный. «А еще есть?» «Есть» — говорит продавщица и показывает еще два контрабаса. Ну один, правда, похуже, фанерный, а другой традиционный, долблёный. «Берем два контрабаса», — сказали музыканты. Она им не дрогнувшей рукой выписала, а когда те уже держали в руках, один поинтересовался: «Почему все-таки четыре рубля пара?» Она им сказала:
— Привезли контрабасы. Стоили 380 рублей. Десять лет их никто не брал: в Благовещенске они не нужны никому оказались. Стали снижать цены, снижать, снижать… Переоценка ценностей. И вот последняя цена — два рубля.
Они заплатили четыре рубля и ушли. Вот тебе и кукуруза!
Контрабас не изменился. Как был так и есть, а вот цена на него упала до двух рублей. А какая истинная цена контрабаса? 380 рублей или 4 рубля пара? Оказалось, цена-то относительна. Относительность цены! Цена-то возникает от потребности, то есть от желания, то есть опять срабатывал «закон случайности», основной закон жизни.
Повычисляли, сколько стоит работа, налоги, прибыль. Назначили цену — 380 рублей. В Благовещенске никто не брал. И в Благовещенске в тот момент контрабасы стоили четыре рубля пара. Ансамбль «Кукуруза» и сейчас на них играет. Потому что ансамблю «Кукуруза» эти контрабасы были позарез. Вот и все. Над этим стоило подумать.
Я и начал было думать по-прежнему, логически, но, к счастью, мне помешала живая случайность, которая вошла ко мне в дом вместе с Тоней, которая к тому времени уже поступила в киноинститут, где дают дипломы. Диплома у нее еще не было, но роли она уже имела право получать. Считалось, что она уже прикоснулась к изучению искусства. Как будто искусство родилось от изучения, а не наоборот. Как-то все уже и забыли, что сначала было искусство, а потом началось его изучение. Потому что изучают то, что есть, чего нет — не изучишь. Значит, то, что есть, появляется раньше, чем то, что изучают.
И вот однажды появилась Тоня, а с ней внесли арфу.
— Не сердитесь на нее, — сказал просочившийся вслед за ней Ефим Палихмахтер. — Это ее выдумка, а не моя. Простите ей.
— Ну-ка, ну-ка, — сказал я, обрадованный тем, что Тоня, оказывается, вообще в состоянии выдумывать.
И Тоня, зардевшаяся от волнения, начала петь какую-то известную песню, вернее то, что считалось песней в те времена, ну там обычное: что ты мне звонишь… я тебе звоню… что ты мне не позвонила… или я тебе не позвонил… В общем — ты ушла, и я ушел, и оба мы ушли… В этом роде. То есть то, что сейчас на эстраде считается музыкальным авангардом, который больше всего похож на тираж и ширпотреб. Я сначала так и воспринял. А в чем же новинка? Новинка-то в чем? Выдумка? Чужое выдумывать нельзя. Выдумать можно только свое. А потом заметил, что выдумка-то не в песне, а в аккомпанементе. Она играла на арфе не так, как положено, вернее не так, как общепринято: не перебирала струны пальцами, а играла на арфе, как на гитаре, и как сегодня — «чесом». Играть на арфе «чесом» — этого я еще не слышал. Я тут же подумал: «А почему бы нет?» Ведь это и на гитаре не так давно было новинкой. Но я тут же подумал — а перспективна ли эта новинка? Для новой цивилизации, по крайней мере. Или этой новинкой тоже можно будет воспользоваться? А как проверишь? Будущего-то мы не знаем. По крайней мере, в области психологии или, как раньше говорили, в области душевной жизни. Как проверишь?
— Тоня, — сказал я, — один мальчик притащил домой черепаху, маленькую. А когда его спросили, зачем он это сделал, мальчик ответил: «Говорят, черепахи живут 200 лет. Я хочу проверить».
Тоня засмеялась. Как человек, честное слово. А как проверишь, сколько лет живет черепаха, если человек столько лет не живет? Другие проверят и либо подтвердят, либо опровергнут. Вот на это дьяволы, которые заперлись на воровство, и рассчитывают. Рассчитывают, что человек проверить не может. Что проверяют долгосрочные прогнозы другие люди, у которых будут свои желания. И им, может быть, наплевать на то, сколько лет прожила данная черепашка.
И тут я впервые подумал, что похоже, что в этом пункте магазинных дьяволов, в этом пункте прокол. В чем прокол — я тогда еще не знал, но почувствовал.
Это ни хрена себе! Я поставил перед собой задачку — переменить цивилизацию! Да еще при помощи искусства! Ни хрена себе!
А вы заметили, какая в этом году неестественная, нереальная зима? А-а. Вот то-то! Все время кажется, что она вот-вот кончится, а она не кончается. Уже пасха прошла — май скоро, а всё холодные ветры с Арктики. Это надо же — словами уговорить переменить цивилизацию! Опомнитесь! Иначе худо будет! На кого это действует? Уговоры… уговоры…
Вот вчера, выступает комментатор Зорин по телевизору и рассказывает:
— Ну, что это такое? Что это такое? Приезжал министр иностранных дел Шульц и уже сговорились о потеплении. Даже Рейган хлопал в ладошки и говорил: «Дело стало налаживаться». И вдруг министр обороны Уайнбергер выступает по радио и опять нас несет, как будто ничего достигнуто не было. И Зорин предупреждает:
— Это не пропаганда. Это на самом деле в администрации у Рейгана борьба началась. И Уайнбергер, представитель совсем других сил — военно-промышленного комплекса, — действует пока что пропагандой, надеется нашу пропаганду переговорить, или перепропагандить. А представляет совсем другие мощные силы — военно-промышленный комплекс.
Комплексы, комплексы… Го-осподи, ни у кого еще не хватает пороху сказать попросту — доходы берегут. Военнопромышлен-ные доходы.
Расходы — это у тех, кто работает, а для тех, кто продает их, ворует — чистые доходы. Кто же от них просто так откажется? И пытаются американскую публику перетянуть на свою сторону. А если нет, то возможны военные путчи! Потому что кто же от таких дивидендов, бесплатных, отказывается? И Зорин нас попугивает: «Берегитесь…» От чего беречься-то? Доходы доходами, а помирать каждому не хочется. И придется частью доходов пожертвовать. То есть, пойти на расходы.
Закон рынка… Закон рынка… Может у рынка и есть закон, но сам рынок необязательная выдумка. Что такое рынок? Это место, где добывают деньги. Не те добывают, кто что-то произвел, а те, кто с этим произведенным химичит. Сейчас этим местом пытаются сделать шарик земной. Но уже не всему шарику годится такая выдумка. Конечно, деньги сразу не отменишь. Но ведь было время, когда и деньги выдумывали, а дальше пошло развитие этой великолепной идеи.
Деньги можно скопить. Пустить в рост, и прочие радости… А сейчас кажется, что только так и можно жить, хотя каждый день видно, что это — чушь. Но стараются не обобщать. Контрабасы в Благовещенске остались теми же самыми, какие и были. Только стоили раньше 380 рублей, а когда их никто не брал — 2 рубля штука. Четыре рубля пара — те же самые контрабасы! Вот тебе и деньги! Чему они соответствуют? Контрабасы соответствуют — на них играют, а цена на них ничему не соответствует.
И я, конечно, не знаю, чем заменить деньги — я не экономист, но я уже знаю, что если не покупать оружие, то его выпускать не будут.
Это все брехня, что оружие сегодня заводят из-за страха, из-за опасения. Оружие толкают на рынок. Заводят рынок, где можно продать оружие, и толкают туда. А страхом обеспечивают спрос. Но уже перестают бояться. И вот уже выступает другой комментатор по телевидению — Геннадий Герасимов, который спокойно, толково разбирает что к чему. И голос ироничный. А ирония — это уже начало конца страха. Страх заканчивается. А Зорин все пугает. И видно, что сам боится. А Геннадий Герасимов — не боится.
И тот и другой комментаторы зарабатывают деньги. Но до Герасимова уже дошло то простое, что сложилось в народе, что всех денег не заработаешь. Значит, и хлопотать не о чем. А то если перехлопочешь, то и выйдет, что «жадность фрайера сгубила». А Уайнбергер — не самый умный человек из немцев. Был немец поумнее, а главное, понаблюдательнее — Бисмарк, который еще в XIX веке заметил, что Россия это такая тройка, которая медленно запрягается, но быстро едет! Ценообразования… Ценообразования… Мать их… Вот смешной мужик, к примеру, который был в Одессе 1 апреля, когда там проводилась всеодесская юморина, рассказывает, как в Одессе зарождается юмор, и делится передовым опытом. Он на рынке спросил у тетки:
— Почему все на рынке продают семечки по 20 копеек стакан, а вы по 30 копеек за стакан?
Она ему ответила:
— Потому что 30 — больше.
Это — юмор, то есть правда, высказанная не вовремя. Она ведь правду ему сказала, истинную, но высказала неожиданно, не вовремя — потому и смешно. А ведь действительно никаких других причин для тридцати копеек не было. 30 копеек у нее стоит потому, что 30 больше, чем 20. Вот и все! А все остальное — хорошо оплаченные профессорские соображения. А эта тетка бесплатно сказала. 30 копеек за стакан потому, что 30 больше, чем 20. И все. Простите, но я не знаю ни одной страны, ну не знаю и точка, кто знает — пусть меня поправит, но я не знаю ни одной страны, кроме Россия, где бы над деньгами уже начали посмеиваться. Еще робко, правда, потому что не знают, чем эту тысячелетнюю выдумку заменить, но уже начали. А как дойдут до хохота — тут деньгам и конец! Конец дьявольской выдумке, подсунутой человеку!
Ну ладно, пойдем дальше. Я, конечно, не выдумал, чем заменить деньги, но я был обрадован чрезвычайно тому способу, каким Тоня придумала играть на арфе. Так ведь действительно никто не играл. Нет, конечно, я сразу понял, что и этой выдумкой можно будет воспользоваться. Появятся ансамбли, которые будут играть на арфе «чесом» и будут за это получать большие «башли» от слушателей, которым это будет любопытно, какое-то время… Потом мода на это утихнет. «Башли» уменьшатся, и снова начнут платить за старый способ. Но это, я думаю, ничего. Главное было не в этом. А главное было то, что обнаружилось, что даже Тоня, на которую у меня сразу же не было никаких надежд, оказалось, что даже Тоня способна выдумывать. А если уж Тоня способна выдумывать, значит я на верном пути! Какой это путь, я еще не знал, но я уже понял, что путь верный. Потому что каждый способен выдумывать, каждый, если, конечно, захочет, а Тоня захотела. Вот какая штука. И я продолжил поиски универсальной выдумки.
Сначала я рассмотрел выдумку Н. Е., лингвиста, обыкновенного Бодуэна де Куртенэ. Совершенно очевидно, что Н. Е. видел выход в том, чтобы найти способ договориться. Я детально рассмотрел этот способ и понял, что это уже преувеличение и не универсально.
Тут у него, в отличие от «закона случайности», перебор и прокол. (Лингвист, все-таки…) Судите сами. А вдруг договориться и в принципе невозможно.
Вдруг у людей не только разные языки, но и разные способы на них реагировать. Где доказано, что это не так? Вот возьмите кошек и собак: они же враждуют всю дорогу. И выяснилось, что «уголок» этой вражды — первичные обстоятельства, некая мелкая хреновина, лежащая в основании всего, — открыл еще Гошка Панфилов. (Смотри роман «Записки странствующего энтузиаста», где рассказывается о специалисте по «уголкам» поэте Панфилове. Ах да, этот роман еще не вышел, хотя как будто выходит.)
Так вот, «уголок» исконной вражды кошки с собакой как будто состоит в том, что когда собака машет хвостом — она проявляет дружелюбие, а когда кошка машет хвостом — это для нее приготовление к нападению.
Один и тот же жест у собак и кошек означает разное. Как тут поверишь? Вот и сражаются.
Вот говорят, кризис доверия, кризис доверия… Будет доверие — сговорятся! А как это доверие установишь? Если у кошек и собак — хвосты разные. Хвостиные жесты. Что на собачьем языке означает дружелюбие, то на кошачьем означает — готовься: сейчас нападут. А как другому доверять до конца? Мало ли что у него на уме? Мало ли? Ну вот я, например, заявляю, что я люблю людей. А как проверишь? Ведь это только я знаю. А придет злодей, скажет, что он любит людей, значит, в том числе и меня. А потом меня же и съест.
Нет, тут что-то неуниверсальное. А годилось не просто нечто хорошее, а такое, чем воспользоваться было бы нельзя в корыстных целях и меня же и облапошить.
Вот я знаю одно великолепное стихотворение Аветика Исаакяна. Там рассказывается о том, как голубь, раненный в грудь, упал на берегу ручья. Ручей голубю сказал: «Хочешь я тебя излечу? А ты мне за это отдашь то, что всего дороже». Голубь, естественно, согласился. Ручей излечил его и говорит: «А теперь отдай мне крылья». А голубь ему говорит: «Фиг тебе!» Ну, может быть, не «фиг тебе», а как-нибудь по-другому, но смысл, по-моему, тот же самый. Но смысл тот же: фиг тебе! И как вы думаете, что сказал ему ручей? Самое трогательное еще только начинается. Ручей не только не обиделся. Ручей ему сказал: «Лети… Лети… И рабскому миру скажи, что свобода дороже, чем жизнь!» А?! Каково?! Лихо? Лихо! Все бы ничего! Классик! Но там не сказано — чья свобода. А в этом все дело. И чья жизнь, не сказано. А раз не сказано — магазинные дьяволы этим и пользуются.
Если б было сказано: своя свобода важнее, чем своя жизнь, — это одно. Каждый имеет право так считать, а ведь если своя свобода важнее, чем чужая жизнь, то это уже дела другие, и этим уже можно воспользоваться. Так что и этот случай не универсальный.
И я продолжил поиски универсального выхода из имеющейся цивилизации. Выхода такого, каким нельзя было бы воспользоваться в корыстных целях, во вред человеку.
Я еще долго занимался бы поисками иной цивилизации, и вообще неизвестно, на что я надеялся. Цивилизация существует тысячи лет, а тут приходит один и хочет ее отменить. Эка!
На что же я надеялся? Я надеялся на то, что мне легче, чем остальному человечеству. Остальное человечество еще не знало про «закон случайности», а я уже знал. Я читал роман «Сотворение мира», а остальное человечество — не читало. (Хотя да — он еще не напечатан.) Я этим случаем и хотел воспользоваться. Я ждал случайности, основного закона живой жизни, потому что неживой жизни не бывает. Неживая только аппаратура и вытекающий из нее магазин. И представьте себе — дождался.
Я еще раньше, давным-давно, смутно чувствовал, что если Я хочу узнать нечто важное — я должен приглядываться к женщинам и детям. К женщинам потому, что они детей родят, а к детям — потому что они у женщин родятся. Но попадались, правда, еще и мужчины. Но мужчиной был я сам (так мне, по Крайней мере, казалось). И кроме того, мужчины, даже самые шустрые, все тоже вырастают из детей, то есть из тех людей, которые все осваивают по первому разу. Все сплошь — гении, и их еще не перевоспитали во взрослых.
Сына я знал. Я знал, что он «такой молоденький, лихой и голенький», и знал, что он приносит идеи, достойные удивления, но я не ожидал этого от Тони. Я не ожидал, что она еще способна выдумывать. Она открыла способ играть на арфе «чесом». Это сбивало меня с толку, хотя, казалось бы, я ничему не привык удивляться, вернее, привык ничему не удивляться. И все-таки удивился. Надо же! Удивила меня Тоня, удивила!
Мне казалось, что в эстраде уже ничего нельзя придумать. Она вся покупная и продажная, давно уже не действует на душу, а только на уши, и каждое произведение эстрадное отличается от другого эстрадного произведения только своими децибеллами. Одни децибеллы медицински вредные, другие — все еще медицински терпимые. Вредные ведут к глухоте (после 90 децибелл допустимых), а невредные — оставляют надежду что-то услышать.
Песни эстрадные отличаются друг от друга не словами, которых все равно нельзя услышать из-за шума, и слава богу, потому что когда удается услышать слова, то не то чтобы непременно хотелось умереть, но возникало сожаление — зачем я родился? Но так думать было несправедливо и я гнал эти мысли. Потому что допрыгаться до смерти — в этом было, по крайней мере, хоть что-то самодеятельное, зависящее от меня; но уж в своем рождении я был начисто неповинен.
Когда меня зачинали и я рождался, тут уж меня, как и всех других, ни о чем не спрашивали. И в том, что я родился, моей вины нет, как нет и заслуги. Хотя есть верование и, стало быть, теории на этот счет: что и тут я ошибаюсь и что факт моего рождения есть последствие предыдущих моих смертей, хотя и в других обличиях. Так что на все есть свои теории.
Но меня останавливала мысль, которую однажды высказал мой сын моей супруге, когда она однажды разбушевалась (хотя для этого не было видимых и невидимых причин). Сын мой тогда ей сказал:
— Мама, ты главное, не вникивайся.
И я решил «не вникиваться»!
Что же мне оставалось? Да почти ничего! Только ожидание. Но я сам себя стреножил.
И я все-таки дождался! И притом в той даже области, какой тоже не придавал значения, и не придавал значения именно в силу ее распространенности. Напрасно думают, что труднее всего разглядеть редкое и неожиданное. А все как раз наоборот. Когда его много — о нем не думают, оно как воздух, о котором вспоминают, когда дышать нечем. Таежному жителю труднее заметить воздух, чем горожанину с асфальта. Это же ясно. Примелькалось.
Чего было больше всего в эфире? Конечно, эстрады. Многие так и считали, что хорошая жизнь — это когда много разной мануфактуры и много эстрады. Хотя от мануфактуры и эстрады хорошей жизни не прибавлялось, а прибавлялась только судорожная. Но это — на чей вкус!
Как я мальчишкой любил джаз! Даже описать невозможно. Я честно в школе изучал утверждение, что джаз — это музыка для сытых. Пока однажды не сообразил: ну и что плохого? Что плохого, что люди сыты? Разве мы сами не к этому стремимся? Накормить всех, а не только богатых. А если сытые захотят слушать другую музыку, что в этом плохого? Формула «музыка для сытых» не то призывала нас всю дорогу быть голодными, не то обещала, что сытые и богатые это одно и тоже. Но в любом случае — какое отношение это имело к музыке и джазу?
Никакого! Как мог Горький не заметить, что это была музыка улицы? Это же слышно каждому. Она была ресторанная музыка, ну и что? Где ее было играть? Играют там, где платят. Раньше и за старинную музыку платили, за классику платили. А кто платил? Те же сытые. Но классика уже забыла, что она зародилась на улице, а джаз ей это напомнил.
Неужели Горький всерьез думал, что музыка там, где консерватория? Неужели Горький забыл, что музыка раньше консерватории? Неужели он забыл, что живопись раньше анатомии и академий? И что язык раньше грамматики? Искусство зарождается раньше его изучения, потому что изучают то, что есть. А чего нет, то и изучать еще рано и невозможно. Неужели было незаметно, что в музыку вошла улица? Голодная, негритянская улица! Которая пела и играла свою музыку. И напоминала каждому, откуда он произошел. И доходила именно до души.
Кто хотел ее слушать, должен был либо идти на улицу, либо допустить, чтоб Она пришла к нему. За это надо было платить. Какая же это музыка для сытых? И уж во всяком случае, какая же это музыка сытых? Потому что сытый-то он сытый, но и он помрет. И знает про это. И именно музыка улицы ему об этом напоминала.
А старинная европейская музыка, которую слушали в аккуратных залах, уже давно ни на что не влияла, кроме как на такие же аккуратные вздохи и чванные эстетские улыбки. Нет, джаз было другое. Джаз нес надежду на то, что улица не задавлена. А пока она не задавлена, все еще может образоваться. Потому что жив человек Адам со своими грехами. Тут даже этнография потихонечку приходила к выводу, что Адам был негр, черненький, абориген, из которого потом произошли все разноцветненькие и чванные.
Вот что такое был джаз, в котором не услышали протеста! Но потом и его купили. И стали джаз выпускать, как ширпотреб, как музыкальную мануфактуру. Но я не мог понять, что в сегодняшней эстраде видят те, которым она нравится? Потому что уж чего-чего, а новинки в нынешней эстраде не было начисто. Сегодняшняя эстрада со всеми ее методами оставляла меня равнодушным, как тряпье, которое не становится лучше, даже если его называть дизайном.
Сегодняшние металлисты (хеви металл) эстрадные, которые разграбили все сегодняшние свалки вторсырья, издавали музыку, которая была похожа на песни заик. И как раз, когда я так решил, я услышал… Естественно, случайно включил и услышал и увидел передачу о том, как лечат заик. Вот только тут до меня дошло.
Прекрасная милая женщина, доктор (кажется, ее фамилия Сорокина), нашла способ лечить заик, и показывала это наглядно, при всех. Она брала любого заику, а их там был целый зал, просила его выйти на эстраду и спрашивала, как его зовут. И несчастный человек что-то лепетал, заикаясь. И тогда доктор просила его поверить только в одно, только в одно — что человек может все. Любой. В том числе и заика. И что он может на глазах у всех начать говорить, не заикаясь. (А заика к тому времени уже всякую надежду потерял.) Она возвращала ему надежду. Потому что ведь и он когда-то не был заикой.
Начиналось у всех по одной и той же причине: как бы человек ни говорил — его одергивали и все время поправляли. Всегда находился кто-нибудь, кто его поправлял. Кто криком, кто теорией. И человек пугался, начинал пристраиваться к кому-то бездушному. Начинал заикаться, начинал не уметь произнести даже свое имя и фамилию. Потому что чересчур много правил для отдельного человека. И душа его костенела. И вот эта прекрасная женщина-доктор говорила ему:
— Миленький, стисни низ живота, а верхнюю часть (ну там, где сердце), освободи. Как тебя зовут?
И ошеломленный заика четко произносил свое имя и фамилию. А потом то же самое делала с другим заикой. Обучала тут же, на глазах.
Женщина говорила:
— Человек может все!
И это подтверждалось наглядно. Это было, как чудо. Чудо любви и освобождения. От идиотских правил, душегубных правил, скопившихся в цивилизации. А то ведь заиками становились все умные и честные, которые хотели выполнить все правила. Но это было сделать невозможно. Тогда они наглядно, на глазах друг у друга посылали правила… посылали их все. Как можно подальше. И начинали говорить.
Потому что человек может все!
И я это видел сам. И потому все понял. Потому что был уже к этому готов. И понял, что вся сегодняшняя эстрада, против которой я так негодовал, — это самостоятельная попытка излечиться от заикания. Потому что как ни сыграй — все как-нибудь да не по правилам, все что-нибудь не так. И среди своры нападающих был и мой лай. Увы, мой лай, лай моих претензий! Потому что они ни на кого не походили, ни на одно из правил, даже на мои. И им, чтобы перестать заикаться, нужно было прежде всего послать их все… Они это и делали.
Прислушиваться к себе и совершать новинки и музыкальные открытия они будут потом. Сначала надо было перестать заикаться…
Вспомнил, как зовут прекрасную женщину-доктора. Случайно вспомнил. По-живому. Ее зовут Юлия Борисовна Некрасова.
Люди начинают заикаться, потому что начинают говорить не то, что думают, и привыкают к этому, потому что, что бы они ни говорили, всегда идет одергивание и попрек: «Не так, не так, не так… не то, не то…» Чего же удивляться после этого заиканию? Сначала надо наладить нормальную речь.
Окрыленный успехом, я начал искать более целенаправленно. Женщины и дети, женщины и дети… Если первая находка пришла от лица Тони, то вторую я мог ожидать от своего грандиозного собственного сына. А от кого же еще? И я удвоил внимание.
Он по рождению мальчик, значит, в перспективе будущий мужчина; и отличается он от будущих мужчин, в том числе от меня, только одним — ему пять лет, с половиной. Значит, все идеи, мужские, у него первичные, а не переученные взрослыми поправками, хотя он иногда уже и заикается. Значит, влиять начало и на него. Надо было торопиться.
Сейчас в своем лучшем виде он такой «лихой, молоденький и голенький». И уже маме велел «не вникиваться». Поскольку он будущий мужчина, он круглые сутки сражается. Как просыпается, так и начинает сражаться. И я ему не мешаю, и даже покупаю пластмассовых воинов. У него их целая армия. Есть и пираты.
— А зачем тебе пираты? — я спрашиваю. — Они же людей резали. Ты тоже хочешь людей резать?
— Нет, — говорит он, — я же понарошке.
И вижу, что он тоже «не вникивается». Понарошке — это значит спорт, самое распространенное мужское занятие. И тоже незаметное, как воздух. Так его много. Но меня это уже не смущало.
И вот однажды… О, это великое «однажды»! Неужели никто не замечает, что все живое бывает только однажды, дважды не бывает ничего. Дважды, трижды бывает только в машине. А в жизни — только однажды!
И вот однажды сын приходит и говорит:
— Папулечка! Папулечка!
— Ну, чего? — спрашиваю.
— Я игру придумал.
— Какую же? — поинтересовался я.
— Футбол! — говорит он.
— Ну, футбол не ты придумал… — говорю, потому что знал твердо, что футбол придумал не он.
Но сын сказал:
— Я другой футбол придумал.
— Какой? — спрашиваю.
— Надо каждой команде дать по мячу…
— Чего?.. — говорю. — Чего?
— И каждая команда будет забивать мяч в свои ворота.
— Ну и где ж соревнование? — спрашиваю.
Но судьба меня помиловала, и я не успел пропустить открытие.
Нет, вы представляете?! Выходят две команды на футбольное поле, у каждой свой мяч, и они начинают забивать мяч в свои ворота. Мы — в свои, они — в свои. И сколько я потом ни проверял эту идею, я видел почти ее универсальность, и не мог придумать, как этой идеей воспользоваться в корыстных целях. И магазинным дьяволам здесь нечего было делать. И я подумал: «Ог-го! Ог-го! Не оно ли? Не оно ли?» Ну сын, ну сын! Мне было чем гордиться.
Я понимал, что они могут придумать, как воспользоваться и этим, но меня радовало, что уже я не могу придумать. Потому что кто же будет платить деньги, чтобы посмотреть, как две команды забивают мячи в свои ворота. И не будет традиционных победителей. И наша самая распространенная игра не может рассчитывать на то, что распродаст билеты своим болельщикам. Потому что болельщики-то теперь были за две команды, а не за одну.
А что? А что? Тут что-то было! Во всяком случае, запахло проколом, запахло проколом всей дьявольской системы. А как пахнет прокол? Так и пахнет! Злым духом. То есть магазин стал очевидно пованивать.
И тут я впервые неизвестно чему обрадовался. И больше всего меня обрадовало, что я обрадовался неизвестно чему. А тут еще случайно приходит сын и говорит:
— Папа, а что больше: небоскреб или Египетская пирамида?
Я смутно помнил, что, кажется, небоскреб. И говорю: — Небоскреб не больше, а выше. Но уж что наверняка выше, и я знаю это точно, так это Останкинская телебашня. Она — 550 метров.
— Ого! — говорит сын.
— Ну да, она больше чем полкилометра.
А сам думаю: «Она ведь не только этим больше. Уже небоскреб отличается от пирамиды тем, что в небоскребе живет куча народу, живого, а пирамида хранит одного сушеного покойника. А уж с телебашни идут передачи для миллионов живых людей».
Передачи эти, правда, так себе. Но это уж не вина тех, кто слушает, а вина тех, кто эти передачи изготовляет. И миллионы живых людей вынуждены слушать разнообразную музыку, которая отличается друг от друга только подробностями заикания. Вынуждены слушать «Соло для кильки в томате» и вникать в стиль «сервелат». Или вникать в лекции, в которых людское неумение жить друг с другом цивилизованно объявляют духовной жизнью.
Но радость не проходила. И я вдруг понял, почему.
Заканчивалась «Утренняя почта», в которой было много шелупони и вторсырья, но была прекрасная лекция искусствоведа, над которым смеялись. Лекция фактически не отличалась ничем от любой искусствоведческой лекции, но была глупа настолько, что это было уже видно.
И вдруг последним номером пошла настоящая песня. Было видно, что она настоящая. Было слышно, что она настоящая. Хотя ни одного слова понять было нельзя, потому что ее пели на голландском, кажется, языке. Но песня была лихая, минорная, окраинная. И было понятно, что песня живет. И ни хрена с ней не сделаешь. Женщины за певицей делали какие-то движения распахивающимися платьями и показывали свои невероятно длинные ноги, но это не имело ни малейшего значения. Потому что все перекрывала песня. В ней была энергия, ритм, минор отчетливый. И лихость, равная лихости купринского «Гамбринуса». И душа разговаривала с многомиллионной душной.
— Посмотри, какие ноги… — сказала жена, желая сделать мне приятное, зная, что я этим делом увлекаюсь.
— Какие ноги! — закричал я. — Какие, к чертовой матери, ноги! Ты слышишь песню?!
— Только не плачь, — сказал сын, который заметил, что я реву только от радости, а на остальное плюю. Но все равно, это его беспокоило.
— Сынок, я не вникиваюсь, не бойся, не вникиваюсь. Я просто радуюсь.
И тут у меня впервые зародилось сомнение в отношении самой лекции о конце света лет через сорок. Лекции, в атмосфере которой я жил все это время. И сомнение зародилось именно потому, что лекция была научной. Нет, я не сомневался, или почти не сомневался в наблюдениях, на которых лекция основывала свои выводы, в эмпирических фактах, диструкции биосферы и человека. Я засомневался в ее выводах, и сомнения для этого давала сама лекция. Началась переоценка ценностей, в том числе и самой лекции. И в этой переоценке меня мощно поддерживал «Закон Случайности», живой случайности, которую вычислить было нельзя, поскольку она живая.
Вот вам два примера.
Один из прежней жизни, другой — из сегодняшней. Я слышал много версий о гибели Эрнста Тельмана. Какая из них правильная, я не знаю. Я не историк. Но одну версию о том, почему не удалось снасти Эрнста Тельмана, я сам читал в послевоенном «Огоньке».
Была целая организация, которая готовила его побег из тюрьмы. Кажется, из Моабита. Все было продумано. Все было рассчитано. Все буквально. А бегство сорвалось. Знаете, почему? Потому что кто-то, чтобы не заскрипел замок от ключа и дверь камеры открылась бы тихо, пипеткой залил в замок подсолнечное масло. И капля подсолнечного масла вытекла из скважины, и проходящий мимо охранник, заметив эту каплю, ничего не сказал, а прошел к сигналу тревоги. Поднял тревогу. Побег сорвался. Вот так!
Можно было эту каплю предусмотреть, а тем более предусмотреть, что капля вытечет из скважины? Нет, этого вычислить было нельзя. Но это случилось.
И второй случай. Передали, что запущен на орбиту модуль, который должен был состыковаться с космической станцией. Все было высчитано, сами понимаете… Компьютерный век! И баллистика, и всякое такое… А через день передали, что стыковка отменяется, и модуль снова запущен на стыковку. Чего же не рассчитали? И вот модуль состыковался, но неплотно. Образовалась щель, и космонавтам пришлось выйти наружу, глазами посмотреть, что же там произошло. Что же оказалось? Оказалось, что между модулем и станцией застрял кусок какой-то материи. Можно ли было рассчитать появление этой тряпки? Нет. Потому что появление этой тряпки было живой случайностью, и кто-то был виноват. А когда тряпку выдернули в космосе, то модуль благополучно притянулся и щель пропала…
Я смутно почувствовал, что в этой лекции, в атмосфере которой я жил все это время, есть какая-то щель и, значит, надо было искать тряпку или каплю масла в самой лекции.
А время шло, и киногруппа обрастала нужными ей кинопомощниками: и к одному я особенно присматривался, потому что он был похож на Апостола. Свела нас, ну конечно же, песня. Пел ее покойный Бернес, на слова, кажется, тоже покойного Исаковского. Песня про то, как солдат вернулся с фронта и пришел на могилу жены своей Прасковьи. И солдат на могиле своей жены справлял поминки. Солдат, который пришел к тебе, Прасковья, и три державы покорил. И там солдат пил из кружки «вино и горе пополам»…
И мы с ним сошлись на этой песне и понимали, что хлюпаем носами не от горя, а от радости, что сказаны такие вот слова. И мы с ним часто встречались, и пили. Из кружки. Вино и горе пополам. И звучала на всю квартиру «Прасковья». И жена моя негодовала. Совершенно справедливо.
И вот сегодня он пришел ко мне как раз, когда шла передача последних известий, в которых сообщалось, что на аукционе продана картина Ван Гога «Подсолнухи» кому-то в частные руки за 36 миллионов долларов. Ну, в общем, пьяный бред. Особенно было интересно это слушать, когда у меня наступила переоценка ценностей (денежных, во всяком случае), толчок к которой дал ансамбль «Кукуруза» и история с контрабасами (4 рубля пара).
И он мне говорит:
— Слыхал… Сообщали, что в американском посольстве американцы арестовали трех охранников из двадцати восьми. А охрану несет морская пехота. — За что же? — спрашиваю.
— За шпионаж, — говорит, — и за связь, любовную, с русскими женщинами.
— Та-ак. — говорю, — за шпионаж, значит…
А он отвечает:
— А знаешь… Ходят слухи, что и трех русских женщин мы арестовали за то же самое.
Это уже начинало походить на футбол с двумя мячами, по мячу в каждой команде, и каждая забивает в свои ворота. Я думаю: «Ничего, ничего… мы еще поищем…» И начал переоценивать саму лекцию. (И правда, если не торопиться и подождать лет десять, то и лекция сама будет стоить гораздо дешевле, чем контрабас.) И думал: «В чем же щель этой лекции? И какая тряпка не позволяет ей окончательно состыковаться?»
И тут приходит Тоня без арфы и спрашивает:
— У вас есть?
Я говорю:
— Да вот есть… немножко осталось, на донышке.
— Эх, зря не захватила, — говорит Тоня. — У нас есть кубинский ром; только муж считает, что он пахнет керосином, а я считаю, что ничего…
А Апостол говорит:
— А ты позвони ему. Пусть принесет.
— А вот и то дело… — И позвонила.
Мы закончили, что у нас было, и Апостол все время острил, и жена моя клала ему двугривенные за остроты. А когда у нас все кончилось, он собрал все двугривенные, пересчитал и сказал:
— Ну и ставочки у вас…
Ему дали еще двугривенный.
Потом пришел муж Тони, принес бутылку рома с запахом керосина, а Тоню увел. А жена пошла спать. Мы с Апостолом продолжили наши игры, и запах керосина совершенно не чувствовался, ну совершенно… И он начал меня учить, как надо дрессировать собак, хотя у меня собака была, а у него не было. Но это неважно. Важна теория.
И я ему сказал:
— Знаешь что? Обучи сначала меня… А я ей потом расскажу.
Апостол сказал:
— Хорошо…
Я надел на шею ошейник, и он начал учить меня собачьим командам: прыгать через препятствия, стоять на задних ногах. А когда я выучился стоять на задних ногах, я сказал:
— А теперь пойдем покажем жене. Она еще не видала наши успехи.
И мы пошли в спальню. Там свет не горел, а жена уже спала у стенки. Я ей сказал:
— Слушай! Смотри! Я уже умею на задних лапах стоять! И ходить в ошейнике!
Она сказала:
— А ну вон отсюда!
И прогнала нас. Чем вызвала в нас обиду.
Я сказал:
— Ничего, погоди… Погоди… Мы еще тебе покажем…
Мы зашли на кухню, у которой была общая со спальней стенка, за которой спала жена, не пожелавшая увидеть мои успехи. Я нашел штопор и сказал:
— Ну, сейчас ты у меня узнаешь…
И сначала хотел ввинчивать штопор в стенку, но потом сообразил, что если штопор пройдет сквозь стену, то попадет жене в голову. Я сказал:
— Не… Погоди… Так не годится… Это уж слишком. Обида обидой, но расплата чересчур велика. Голова нужна.
Но я быстро нашел и отсчитал по стенке нужное место, которое я замерил прямо по жене, стараясь ее не разбудить, а потом это место нашел на стенке. И стал ввинчивать туда штопор, чтоб штопор попал прямо в задницу! Вот это была бы месть! Но штопор не ввинчивался. Торчала ручка штопора, но он сквозь стенку так и не прошел. Стенка была толстая.
Апостол пошел спать на диван в другую комнату, а я в ту ночь обнаружил щель в этой лекции, которая не позволяла состыковываться всему, что в ней было описано, и я впервые за последние времена приободрился. Наконец-то! Догадка была простая как мыло, но абсолютная. И этой догадкой нельзя было воспользоваться никакому сонму дьяволов, засевшему там, в магазине, где они закрылись на воровство.
Вот она. Вся наша планета — вместе с биосферой (и многими другими сферами) и с человеком, живущим в ней, — явилась результатом миллионнолетнего творчества всей остальной Вселенной. И я подумал: «Если человек почти допрыгался до разрушения этой биосферы, после которого вся живность на Земле может однажды не проснуться (даже без всяких атомных бомб), то… я понял… что уж если миллионы лет творчества всей Вселенной привели к созданию меня, удивительного и необыкновенного человека, который уже протрезвел и выучился ходить на задних ногах, то… и избавиться от антропогенного разрушения Вселенная может сама. Ее творческие усилия способны и на это. Потому что паника это не предусмотрительность, потому что творчество это творчество. И его не предусмотришь и не вычислишь. И неизвестно, что придумают люди, которые к этому способны и для этого приспособлены законом живой случайности…»
Вообще надо сказать, что к вычислениям я отношусь сдержанно. Нет, конечно, все неживое, аппаратурное, вычислению, конечно, поддается. Но вот как дело доходит до вычисления времени, начинаются разночтения. Потому что никто еще не доказал, что время неживое. А вдруг одна сторона времени именно в том и состоит, что она — живая реальность. И вот уже Эйнштейн доказал, что время относительно. Относительно чего? Относительно какой-то другой реальности?
У нас дома два будильника — у меня и у жены. Вот сын приходит и говорит, что мамин будильник лучше. Я говорю: «Чем?» А сын говорит: «Он быстрее ходит».
Для нормального вычислителя «быстрей» — это просто мамин будильник торопится, спешит и, значит, неправильный. А почему неправильный? Почему, собственно? Вот сын считает, что так лучше, когда часы спешат. И я не могу утверждать, что прав я, а не он. Сомневаюсь, что и кто-нибудь другой может.
Просто мы с сыном измеряем разные стороны времени. Я измеряю его неживые признаки: ну, скажем, когда придет следующая электричка (потому что я знаю расписание). А она неживая, электричка. А сын измеряет живую сторону времени, всю заполненную непредсказуемыми живыми толчками случайностей. По тем же часам сын изучает человеческий фактор, а я работаю с аппаратурой. Вот и получается смешно.
Мне уже стало хорошо жить. Надежда, надежда, реальная надежда.
Потому что если лекция права, то мы появились на свет как последствия миллионно- или миллиарднолетнего творческого акта всей Вселенной, и у нее хватило на это пороха. Значит, у нее хватит творческой активности самой выпутаться из собственной антропогенной погибели. Да, это обнадеживало. Но так как ко Вселенной принадлежал и я сам, живая пылинка Вселенной, то я и стал выбирать и думать, что же я могу предложить для того, чтобы это избавление случилось реально?
Из кого состояла Вселенная? Моя. По крайней мере, Вселенная этого романа? Из Тони, грандиозного сына, ну и еще нескольких человек. Я не помнил, сколько миллиардов людей населяют Землю. Неужели я хотел придумать способ их изменить, если миллиарднолетняя Вселенная сделала их такими, а не другими. Конечно, нет. Кто я такой, чтобы менять людей, если я слишком люблю тех, которые уже есть. Но я мог повлиять на их повадки. И пустить их энергию в мирных целях.
Пришел сын и сказал:
— Ты мне отдаешь последнюю конфету «Птичье молоко»? Чтобы попить с ней чай? Я с ней никогда не пил чай.
Я говорю:
— Конечно.
— Тогда я у тебя здесь полежу…
Спрашиваю:
— А почему ты на диване не можешь полежать?
Он заявил:
— Здесь уютней.
Я ему говорю:
— Ты знаешь, кто ты?
— Кто? — спросил он.
— Ты молодой нахал.
— Почему? — справедливо спросил он.
— Потому что ты пользуешься своим преимуществом. Ты знаешь, какое у тебя преимущество?
— Какое?
— То, что я люблю тебя. И ты мне не даешь работать.
— А ты скажи волшебное слово, — сказал он.
— А-а-а, пожалуйста. Топай отсюда.
А он мне шепотом сказал:
— Посиди здесь подольше…
И я вспомнил, что он меня предупреждал еще раньше:
— Если ты хочешь, чтобы я тебе не мешал работать — попроси мешать тебе работать. А я сделаю наоборот…
Как же я мог забыть?
Очевидно, все люди делятся на тех, которых просят, а они делают наоборот, и на тех, которые делают, если их о чем-то попросишь. Сын был мужчина. И было похоже, что он сделает наоборот, если его о чем-нибудь попросишь. Я так и сказал. Сын встал и, деланно сгорбясь, ушел, чтобы не мешать мне работать.
И я продолжил пересматривать ценности, одновременно вспоминая, а что я смогу предложить сам? Позитивного?
С того момента, как я стал переписываться с Пушкиным, я понял, что надо пересматривать некоторые ценности в отношении и его… жизненного происшествия. Не самого Пушкина, а того, что с ним сделали.
Я, конечно, слышал песню, которую пела, кажется, Пахоменко, в которой речь шла о мужчинах. И в ней говорилось о том, что «мужчины, мужчины, мужчины к барьеру вели подлецов». Как я понял, речь шла о восстановлении дуэлей. Песня была хорошая и захватывала. Но и она была не универсальна, потому что я к тому времени прочел книжку о дуэли Пушкина, кажется, Ивана Рахилло. И там было рассказано, как Иван Рахилло и его друзья усомнились в одном факте пушкинской дуэли, а именно в том, что Дантеса якобы спасла пуговица от мундира, в которую попала пушкинская пуля, потому что у писателя Ивана Рахилло появились какие-то данные о том, что Дантес заказывал стальные латы, где-то на Севере.
Они провели следственный эксперимент. Взяли дуэльный пистолет пушкинских времен, зарядили его порохом пушкинских времен и вложили пулю пушкинских времен. Зажали пистолет в тиски и поставили манекен в мундире пушкинских времен на расстоянии метров двадцати, что ли… И произвели выстрел пушкинских времен по дантесовой пуговице, но без лат, и пуля попала в пуговицу и пробила весь манекен вместе с пуговицей…
Вот ведь как пуговица спасла Дантеса! Вот какие дела! И я усомнился в формуле — «мужчины, мужчины, мужчины к барьеру вели подлецов», потому что в этой формуле было непонятно, кто кого вел? И выходило после этого следственного эксперимента, что мужчин-то как раз к барьеру вели именно подлецы.
То есть, даже самого Пушкина, основоположника всей литературы нынешних времен, просто элементарно облапошили или, как говорят в коммуналках о дуэлях, которые отменены, Пушкина «сделали». И это теперь уже не являлось ценностью. Ведь теперь как? Когда один другому скажет: «Ты — подлец». Другой ответит: «Нет, ты…» В любой коммуналке так. Но вся коммуналка жива.
…И тут я вышел на балкон и увидел, что снег грязный: он был покрыт накопившейся копотью и явно таял. И значит Вселенная сама имеет шансы выпутаться, если она организовала все это.
А лично я мог предложить изготовление мясной пищи не из живых существ, умерших естественной смертью, и не из живых существ, специально разводимых и забиваемых на бойнях, а изготавливать мясную пищу из саморазвивающихся клеток, прямо в бочках, как грибы. Не все ли равно, из чего делать «каклеты»?
Еще я мог предложить фактический вечный двигатель, на который в реальной жизни никто не обратил внимание, но его чертеж и идею опубликовали в журнале «Студенческий меридиан». И вот уже начали поступать письма. И оказалось, что идея теплового насоса, как его называли, не моя и не нова. (И хрен с тем, чья она: лишь бы он был осуществлен.) И ссылались на патенты и профессора, который этим занимается.
Еще остались следы индейской цивилизации: кукуруза, картошка и помидоры (фактически все огородные плоды), и, значит, вставал вопрос о способе приготовления земли, которую теперь пахали чуть ли не танками, потому что основными злаками были пшеница и рожь, а огородные культуры индейцами возделывались при помощи заостренной палки. И я уже придумал барабан с длинными шипами, который надо было катить по полю. И полые шипы, заменяя палку, втыкали бы в нетронутую землю зерна огородных культур. Это было кое-что. А остальное должны были сделать другие.
И тут пришла Тоня, окрыленная своим успехом в эстрадной музыке.
— Слушай, — говорит она, — приятель моего мужа, ученый человек, сказал мне, что все персонажи в твоих книжках — выдуманные и что это ты сам и есть. Это правда?
— В гоголевском смысле — правда, — возразил я.
— Как это — в гоголевском смысле?
— Когда его спросили, кто такие его персонажи, он сказал, что не только Ноздрев, но и Коробочка — это он сам.
— Смеешься? — спросила она.
— Ага, — ответил я. — А что? Смех — это правда, высказанная не вовремя.
— Не задуривай меня, — сказала она. — Получается, что литература — это брехня…
— Наоборот, — возразил я. — Литература — это правда, высказанная под видом брехни.
— Зачем так? Так сложно? — спросила она.
— А как? Как по-другому с жульем разговаривать? Которое заперлось в магазине на воровство?
— Ваще-то, так… — сказала она. — Я вот читала твой роман про Сапожникова. Убедительно.
— Вот это — главное. — сказал я.
— Там сказано, что рак можно лечить резонансом…
— Чего-чего? — спросил я. — Или я неправильно говорю?
— Правильно, — сказал я. — Откуда ты знаешь слова?
— Сегодня все знают все слова.
— Тоже правильно. А на хрена тебе читать книжки?
— Для самообразования. — сказала она. — Я подковываюсь.
— Тоня, — я говорю, — а ты способна позволить, чтоб тебя обворовали?
— Если соображу — то не способна.
— А если оттого, что тебя обворуют, будет спасена куча людей? И дети?
Она посмотрела на моего сына, подумала и сказала:
— Ваще-то, это дело другое…
— Вот и я так думаю, — говорю. — Вообще-то это не страшно. — говорю. — Даже Америку, и ту украли.
— Как это?
— Ее открыл Колумб, а назвали Америкой по имени Америго Веспуччи.
— Я не знала, — сказала Тоня.
— Ну мало ли… — сказал я.
— А куда ты клонишь?
— Сейчас скажу… — И я приосанился. Так я лучше выглядел. Прическа, правда, была не то «нас бомбили — я спаслася». не то «без слез не взглянешь». Но так утверждала моя жена, а я ей не верил в этом вопросе.
— Тоня, — я говорю. — знаешь, почему теперь пет такой болезни, как оспа?
— Знаю, — отвечает, — так ведь прививки…
— Ну правильно, а кто их изобрел?
— А мне почем знать? А я говорю:
— Считается, что их изобрел английский врач Дженнер.
— Ну и что?
— А то, что он не изобрел, а взял наблюдение одной бабки, которая заметила, что коровы, которые переболели оспой и остались живы, заражают других коров, и те после этого не болеют вовсе.
— У какой бабки? Как фамилия?
— Фамилии история не сохранила.
— Ну и что? — сказала Тоня.
— История не сохранила, а люди перестали болеть. Так что люди перестали болеть не от профессора Дженнера, а от безымянной бабки. Как ты считаешь, кто кого облапошил?
— Понятно, — сказала Тоня. — Не пойму, куды ты клонишь.
— Вот куда, — говорю. — Когда я додумался, что рак, раковые клетки можно бить резонансом…
— Так ведь не ты додумался, а Сапожников?..
— А не все одно?.. Я разговаривал с онкологом. Когда я растолковал ему, что к чему, я увидал, что он понял. Ну что, будете этим заниматься? — спросил я. А он мне знаешь что ответил?
— Нет…
— Все правильно… Но наука пошла другим путем.
Я ему говорю:
— Какой путь… какой путь? А вы что, сами-то, застрахованы? А мать ваша застрахована? От рака? Он ничего не ответил и перевел разговор.
— Вот сука, — сказала Тоня.
— Но рак более или менее далекая перспектива, но вот сейчас появилась болезнь — СПИД, и в Нью-Йорке уже эпидемия, и к нам просочилась… А способ-то тот же самый. Бить резонансом не раковую клетку, а вирус СПИДа. Раз он вирус, значит он живой; значит и у него есть спектр излучения. И если подобрать к нему резонанс, то можно резонансом вирус бить, остальные клетки просто не трогать… Тоня, ты хотела бы спасти мир?
— От эпидемии?
— Не только от эпидемии. Достоевский утверждал, что мир спасет красота.
— А что? — сказала Тоня. — Шикарно было бы.
— Я почему-то верю, что теперь у тебя все получится. А если твою фамилию никто не узнает?
— А на хрена мне?
— Тогда подкинь эту идею своему профессору. Если он поверит, поверят и другие.
— Почему?
— Потому что он открытие припишет себе. Вот поверят ли только… Сомневаюсь…
— А ты не сомневайся! — сказала Тоня. — Сделаю разрез повыше — поверят.
— Тоня, тебе цепы нет, — сказал я.
— А я знаю, — сказала она.
Все сходилось. За исключением нескольких деталей все сходилось. Но окончательно все сошлось однажды на улице. Я встретил Апостола из киногруппы, который, как и я, любил песню о Прасковье.
Была весна. Снег в городе почти стаял. Зима кончалась, и на балконах и карнизах хлопотали необразованные воробьи, такие пушистые маленькие динозавры, которых тоже пытались истребить (хотя и не у нас) на основании научных методов своего времени; но вот они живы и подтверждают одно наблюдение, сделанное юмористом на вечере смеха. И это наблюдение настолько важное, что его стоит привести здесь. К сожалению, не помню фамилии автора. Он сказал, что «редких животных записывают в Красную книгу, а часто встречающихся животных — в Книгу о вкусной и здоровой пище».
Я увидел, что киноапостол идет хмурый. Я поинтересовался — в чем дело? Он сказал, что Тоня меня несет.
— За что? — в свою очередь спросил я.
— Ей передали, что ты против того, чтоб она играла роль в твоем сценарии.
— Кто передал?
— Да режиссер… Как его?..
— Ефим Палихмахтер?
— Он.
— Он ничего не понял, — сказал я. — Он добивается от Тони, чтоб она сыграла Образ; я ему объяснил, что это невозможно. Потому что Образ нельзя сфотографировать. Нарисовать можно, в мультипликации, а сфотографировать в игровом кино — нельзя. Образ — он как сон; как его сфотографируешь?
— А как же ты говоришь, что у актрисы Удовиченко получается…
— Ну, — говорю, — Удовиченко — это гений. А гений это тот, кто видит сны других людей. Удовиченко и играет.
— Вот видишь, — сказал он, — видишь…
— Что — видишь? — говорю. — Она эти сны играет. Как дети играют, — говорю, — капризно и весело. А этому как научишься?
— Ах ты Палихмахтер! — сказал Апостол.
— Такой фамилии тоже нет. Я его выдумал. Я всегда выдумываю, когда вспоминаю слово «степь».
— Степь? — удивился он.
— А-а-а! — говорю. И рассказал ему то, что вы прочли. В самом начале. И я первый раз рассказал другому человеку то, что никому не рассказывал про степь. Не рассказывал потому, что первый раз, фактически только сейчас, додумался до того, что же там было на самом деле, в этой степи. А там был степняк на лошади, который смотрел на эшелон. Потом приложил руку с висящей на ней нагайкой к виску и умчался, как лодка по воде. Сколько лет прошло, а я все думал, что бы это означало? И вот сейчас я сделал открытие.
— Какое? — спросил Апостол.
— Он хотел покрутить у виска пальцем, глядя на чокнутый эшелон, но ему мешала висевшая на руке нагайка.
— Не может быть, — сказал Апостол.
— Фома неверующий, — сказал я, — Впрочем, это случалось и с апостолами.
— Кстати, — поинтересовался он. — Как там было у апостолов?
— Апостола Фому прозвали неверующим за то, что он не поверил своим глазам и вложил персты свои в раны сошедшего с креста Иисуса.
— А что? — сказал Апостол. — Сейчас проверим.
По улице шла Тоня, «модная девчонка», в зимней лохматой куртке и юбке, которая была макси, но имела сзади разрез до самого до «ура». В разрезе все время мелькали ее ноги в колготках. Апостол догнал ее, протянул руку и сунул в заготовленный разрез. Визгу особенного не было. Но все удивились такому простому выходу из совершенно явного призыва. Тоня обернулась с улыбкой и быстро начала читать стихи о духовной жизни и стройности мира.
Все сходилось. Не хватало только подтверждения моей мысли о сказке, что в основе самых мощных последствий лежит сказка о чьем-то забытом личном уникальном опыте, который вдруг вспоминают, когда у всех подперло.
Представьте, тут же подтвердилось и это.
По улице мчалась машина, которую вел Ефим Палихмахтер. А рядом сидел муж Тони с возбужденными глазами. Когда Тоню спрашивали, кто ее муж, она отвечала: «Работник интеллектуального труда», потому что не знала, что это такое. Но поскольку и я не знаю, что это такое, то оставим все как есть.
Машина догнала нас как раз тогда, когда Апостол вынул руку. Хотя успел подтвердить, что красота явно начала работу по спасению мира.
Теперь осталось только подтвердить мою оригинальную мысль о сказке.
— А знаете… — начал работник интеллектуального труда, — а ведь я совершил великое открытие.
— Какое? — живо поинтересовался я.
— Я открыл, что все персонажи ваших произведений — вымышленные.
— Ну и что? — спросил я грубо и увидел торжествующее лицо Ефима Палихмахтера.
Было понятно, кто рассказал ему об этом. Я было хотел сказать «работнику», что Ефим Палихмахтер тоже выдуманное лицо, но пожалел их обоих. Меня интересовало открытие.
— Ну и что? — сказал я. — Гоголь тоже утверждал, что …
— Знаю-знаю, — сказал «работник», — что Коробочка и Ноздрев — это он сам… Знаю… Слыхали… Но дело в том, что Гоголь-то был, а я открыл, что вы даже не родились.
И у меня отлегло.
Все сходилось. Сказка начала свое движение.
Юрий Ревич. Об Анчарове
Художественное творчество, как и познание, не есть отражение действительности, оно всегда есть прибавление к мировой действительности еще не бывшего.
Н. Бердяев "Смысл творчества"Творчество
Если попытаться кратко выразить суть явления отечественной культурной жизни под названием "Анчаров", то это можно было бы сделать, на мой взгляд, так: Михаил Леонидович Анчаров есть несостоявшийся великий человек. В определении "несостоявшийся" нет обидного или горького подтекста — просто он не стремился стать великим. В одном интервью он говорил: "У меня в искусстве один–единственный соперник — я сам"1. И немного дальше: "…мне в основном нужен контакт с бумагой и два–три человека. Проверил и пошел дальше. Мне достаточно самооценки и оценки недалеко от меня отстоящих людей". Анчаров не искал общественного признания, он творил не для публики, а потому, что не мог не творить, это был способ его существования. И высшим судьей его творений был он сам. В том же интервью: "Когда меня критиковали — в одно ухо впускал, в другое выпускал. Но когда сам себе не нравился — тут была битва кровавая". Правильно это или нет? Я не уверен, что есть однозначный ответ на этот вопрос, но рассуждать на эту тему мне не хотелось бы. Такой вот он был человек.
На многих примерах из его разнообразного творчества — песенного, живописного, литературного — можно легко показать, как Анчаров почти сознательно приземляет свои творения, иногда даже не доделывает, "недошлифовывает" их, оставляя торчащие заусенцы, шероховатости и непрописанные, недорисованные места. Галина Аграновская в своих воспоминаниях называет его стих "слабым". Но полностью ее слова звучат так: "я все же не услышала, какой слабый стих у этой песни. Заворожила мелодия, энергетика голоса, манера петь" (выделено мной — Ю. Р.). Вам это ничего не напоминает?
Подойдите близко к картине Ван Гога "Пейзаж в Овере после дождя" и вы увидите, что лошади, которая тащит карету по мокрой дороге, на картине нет. Нет вообще — нарисована одна сбруя, всего несколькими штрихами. Вполне можно заявить, что у Ван Гога "слабый рисунок", не так ли? Но отойдя чуть подальше (или рассматривая плохонькую репродукцию интернет–качества), вы увидите эту лошадь, как будто она выписана во всех деталях. Если бы импрессионизма к тому времени, когда Михаил Анчаров начинал свой творческий путь, не существовало, он бы его, несомненно, придумал. Потому что его стихи и проза — это стихи и проза, сделанные художником–импрессионистом. Слова в его песнях иногда просто выпадают из стихотворной строки, лезут из нее, как старая дранка из деревенской кровли, вот типичный пример:
Ты не плачь, девчонка, не плачь! Ты капрон свой стирай в лохани. Год пройдет, как мимо палач. Не горюй — не придет коханный.Просто бред какой–то: "капрон", стираемый в "лохани"?! Да это же понятия из каких–то непересекающихся миров! И тут же "коханный" — украинский тут вообще при чем? Грубый, нарочито "ученический" стих — зато, ребята, "лохань" — "коханный" — какая рифма! И самое поразительное, что песня эта, взятая целиком, да еще не прочитанная с листа глазами, а пропетая с "энергетикой", по словам той же Аграновской, анчаровского голоса, производит удивительно цельное впечатление — настроение передано совершенно точно, не отдельные слова и строки, а все вместе есть, подобно ван–гоговскому пейзажу, именно то, что художник хотел выразить, и сумел он это сделать, как никто другой.
Не следует понимать буквально то, что я написал выше о заусенцах и шероховатостях анчаровского слога: он был выдающимся стилистом и ничего не делал просто так. Он искал — иногда годами — и умел находить нужные и точные слова. Вот в той же песне:
Приходи, приходи скорей! А не то на слепом рассвете Ты услышишь крик батарей — И меня не успеешь встретить.Услышать "крик батарей на слепом рассвете" — это да! Из–за этих строк лично я всегда воспринимал эту песню, как антивоенную — и сам Анчаров это подтверждает, называя ее "о девушках нашего возраста" (см. Комментарии). Но вот еще заусенец: если речь идет о послевоенных вдовах, то какой к черту капрон? Его в нашей стране не выпускали вплоть до первой половины пятидесятых годов, то есть "капрон" вошел в обиход едва ли раньше, чем через десяток лет после войны. А минимум тридцатипятилетних к тому времени ровесниц Михаил Леонидовича назвать "девчонками" как–то… рука не поднимается.
И все же песня, повторяю, очень цельная — попробуйте выкинуть из нее "капрон" и "лохань"! И очень типичная для всего анчаровского творчества. Вот возьмите его автопортрет, который помещен на заглавной странице этого сайта. Автопортретов, как вы можете убедиться, посетив картинную галерею, Михаил Леонидович рисовал много (как, кстати, и упомянутый Ван Гог), но на мой вкус, этот, пожалуй, лучший. На нем бросается в глаза недорисованная рука, которая, к отличие от тщательно выписанного лица, едва обозначена несколькими штрихами (не удивлюсь, если фоном для нее служит голый, едва тонированный грунт — это тоже типично для Анчарова–художника2). Почему так? Рука эта явно выпадает из картины, не соответствует остальной композиции, как в текстах песен "капрон" не соответствует "лохани", а "мужики" — "Аэлите" ("Аэлита — лучшая из баб"!!!).
Все это явно не ошибки художника, не недоделки, не признаки неумелости или недостатка вкуса — это сознательные акты. Это общий стиль — Анчаров искал и творил образ, впечатление, impression, а на детали обращал внимание лишь постольку, поскольку они созданию этого образа помогали или мешали. Если они мешали или были просто нейтральны — он их опускал. Когда же было нужно, он умел создать образ буквально одной фразой: чего стоит его знаменитое "когда я ношу по улицам гитару в чехле, мне кажется, я выгляжу, как человек, играющий на свадьбах" (по устным воспоминаниям Евгения Клячкина). Или (из "Баллады о танке Т-34…"): "безлюдный, как новый гроб". Воистину более точного образа "безлюдности", да еще в контексте темы песни придумать трудно, если вообще возможно.
Но возвратимся к изначальному вопросу — так почему же Анчаров "несостоявшийся" великий человек? Он очень многое делал первым, походя изобретая новые жанры в искусстве, если не умещался в старых. Первым стал писать авторские песни. Первым поставил сериал на отечественном телевидении. Одна молодая художница рассказала мне, что в Суриковском им преподавали способ рисования, который изобрел Анчаров. Под влиянием моего отца он стал писать фантастику — это была совершенно новая, ни на что не похожая фантастика. Сейчас, когда мы о фантастике знаем много больше, можно с уверенностью сказать, что у Анчарова тут не было ни предшественников, ни — увы! — последователей, это совершенно отдельное течение, которое так и не оформилось в жанр. Зато все остальное еще как оформилось! Но Анчарову уже не было до того дела…
Возможно, тут и кроется разгадка — он был слишком жаден до творчества, его интересовало в искусстве все, он начинал и остывал, не добираясь до самых вершин, не желая застолбить вот это пространство за собой и обозначить себя, как корифея–основателя, как первопроходца. Среди его картин можно встретить и откровенный соцреализм, и полотна "под Грекова", и точно выписанные классические пейзажи или натуры, и классический импрессионнизм и что–то совершенно ни на что не похожее, свое… Анчаров принадлежит к племени тех, кто открыл Америку задолго до Колумба, но чьи имена мы помним лишь смутно — вроде был какой–то Эрик Рыжий, да и то… зыбко это и как–то неоднозначно… Он просто не задумывался о какой–то там славе и престиже и тем более, если для обретения их нужно было предпринять какие–то специальные усилия (а это почти всегда так — кроме редких счастливых случаев). Он творил свою жизнь крупными мазками, не отвлекаясь на частности — делал то, что считал нужным. Наверное, он смог бы, если бы захотел, стать популярным и знаменитым — но, возможно, уже тогда не был бы Анчаровым таким, каким мы его знаем, помним и любим.
Политика
Подсвеченный первыми лучами, в зал ожидания смотрел Ленин.
"Теория невероятности"Безусловно, Анчаров был коммунистом — не в политическом, конечно, плане, а в идейном. Покойный Аркадий Натанович Стругацкий в частной беседе с автором этих строк тоже заявлял, что он — коммунист (это были уже перестроечные годы, когда насчет коммунизма в нашей стране было все всем понятно)3. В этом нет ничего странного или плохого — сама по себе идея коммунизма чрезвычайно привлекательна, особенно для таких яростных идеалистов, каким был Анчаров. Вообще объяснение тому факту, что довольно много интеллигентов с восторгом первоначально приняли пролетарскую революцию, не так уж и сложно найти — представьте себе Творца (в бердяевском смысле, см. эпиграф). И вот этому самому Творцу (или тому, кто мнит себя таковым) предлагают не просто клепать какие–то стишки или картины, а принять участие, ни много ни мало, как в акте творения нового мира, лепить собственными руками саму действительность! Искушение оказалось слишком велико — но получив вместо всемирного братства Всероссийскую чрезвычайную комиссию, большинство таких, как Андрей Платонов, к примеру, во всем этом быстро разобрались. Во втором поколении — оттепельном — то же самое повторилось, скажем, с Аксеновым или Стругацкими. Идея, однако, осталась, потому принадлежность Анчарова к славному племени идеалистов–коммунистов удивлять не должна.
Удивляют, однако, другие вещи. Во–первых, если Стругацие и иже с ними разобрались с конкретным режимом, то почему Анчаров не разобрался? Или все же разобрался? А если разобрался, то откуда Ленин и прочие его обращения к "вождям" (в "Золотом дожде" он называет Маркса с Энгельсом "великими художниками")? Чтобы прояснить этот момент, я проведу аналогию с другим выдающимся писателем советского периода — Виктором Конецким. Как и Анчаров, Конецкий был глубоко аполитичен (и в конце жизни не слишком восторженно принял перестройку и все с ней связанное), их можно было бы назвать конформистами — если бы не предельная честность и того и другого. Проза Конецкого говорит значительно больше, чем автор в нее вкладывал. Точно так же мой отец (см. выше ссылку на статью) не задумываясь, относит Анчарова к шестидесятнической оппозиции — хотя, на мой взгляд, это натяжка, он не был оппозиционером, если только не относить к оппозиции вообще всех честных людей того времени, что, конечно, будет неправдой. И если Конецкий просто сторонился политики, его интересовали люди и их проблемы, а не особенности системы и борьба с ней, то Анчаров был — действительно был, а не считал себя — намного выше ее. Для него конкретный политический строй не значил ничего. Безусловно, он много и горячо осуждал фашизм — но конкретный фашизм, против которого он воевал, был для него просто реализацией антидеи — противоположностью его Идее, его Красоте, чем–то вроде Мордора, воплощением Сил Зла. А из официального коммунизма он, подобно многим, отфильтровал то, что ему импонировало — религиозно–романтический настрой с заменой мрачноватого христианского Бога на Гармонию, Равенство и Братство и стало это Силами Добра. Можно даже утверждать, что в политике Михаил Леонидович не разбирался совсем — просто неинтересно ему это было, потому, когда дело доходит до конкретизации этих самых Сил Добра, мы не так уж и редко находим у него расхожие штампы советских времен. Это очень хорошо видно по его ранней живописи, но нередко досадно вклинивается и в лучшие творения зрелых лет: "когда этот парень держит копье, над миром стоит тишина"4. А песня "Баллада о мечтах" вполне могла бы стать советским официозом ("… он перепашет шар земной и вдоль и поперек…" — !!!), если бы не была настолько личной и неофициальной по форме. Можно с высокой степенью достоверности утверждать, что сам Анчаров об этом просто не задумывался, как не задумывался, что "Песня про низкорослого человека…" или "Цыган Маша", и даже "Мазы" — песни, в сущности, антисоветские. Антисоветскими — в смысле темы и исполнения — являются и некоторые его полотна благушинской тематики: пара за столиком ("Выпивающие"), пара на улице ("На Благуше")…
Вот вопрос: эти все штампы и общая аполитичность — очень ли плохо? С позиций сегодняшнего дня я берусь утверждать, что нет. Конечно, иногда это режет слух, как вышеприведенная строка из "Баллады о мечтах", но в значительной степени в силу нашей общей политизированности. Ведь "Баллада…", кроме всего прочего, замечательно отражает послевоенные настроения, об этом много написано: казалось, что после такого общего единения, после всех этих адских ужасов, народ уж теперь заживет хорошо, он это заслужил кровью… Анчаров очень точно зафиксировал эти настроения и некоторое лубочное бодрячество "Баллады…" ("И все мальчишки со двора сбегаются встречать…" — просто полотно кисти какого–нибудь Григорьева или Яр—Кравченко) можно ведь рассматривать и как художественный прием, предвосхитивший соц–арт.
Битов заметил, что его поколение «переэксплуатировало свое военное прошлое», я хотел бы скромно заметить, что наше — и шестидесятническое — поколения переэксплуатировали свое советское прошлое. Есть прекрасные произведения антисоветской тематики — «Остров Крым» Аксенова, «Москва 2048» Войновича, песни Галича и т. п. но они хороши вовсе не тем, что они антисоветские. Подобно тому, как хемингуэевский «Колокол» есть выдающееся произведение не потому, что оно антифашистское. Политическая направленность ничего не добавляет и не убавляет в этих, по–современному выражаясь, текстах. Вот великий Иосиф Бродский — ведь он тоже был глубоко аполитичен, это просто жернова системы его так перемололи… Или — из другой оперы — Конрад Лоренц не стал менее выдающимся биологом оттого, что воевал в составе гитлеровской армии на Восточном фронте. Политика не имеет прямого отношения к науке или к искусству — берусь утверждать, что политическая ангажированность погубила Солженицина, как писателя, автора "Одного дня…" и "Матренина двора". Можно написать и «Гулаг», или «1984», к примеру, — и это выдающиеся книги, во многом сформировавшие наше мировоззрение и ставшие явлением культуры — но не явлением искусства. В связи с этим я мог бы сказать много недобрых слов в адрес концептуализма, но оставлю это до более подходящего случая.
Вот такой оправдательный приговор Анчарову я выношу. Если тот факт, что человек не участвует в политической жизни, вообще требует оправдания. Если принять анчаровское «каждый человек — это мир» — то нет, не требует. Мир неизмеримо больше и объемнее одной отдельно взятой политической системы. И каждый свободен выбирать судьбу для себя сам. Никто не вправе осуждать тех, кто покинул СССР, и тех, кто остался, тех, кто стал дисидентом, и тех, кто был секретарем парторганизаций. При всех системах есть мерзавцы и честные люди — это и есть единственное приемлемое деление на «наших» и «ихних».
Физики, лирики и чем все это закончилось
В конце жизни Анчарова стали забывать. Причем мы — те, кто был воспитан на его песнях и прозе — ничего, конечно, не забывали. Мы относились к нему по–прежнему, пели его песни, перечитывали романы и ждали новых. Забывали его те, кто кормил — редакторы и режиссеры, сценаристы и критики. Сказалось тут и то, что Анчаров всегда сторонился официальной тусовки, и никак себя не рекламировал, пренебрежительно относясь к тому, что сейчас называется "пиар" (об этом идет речь в воспоминаниях Н. Лукьянова, в частности). Но сдается, что это не единственная причина, и, возможно, даже не главная. В конце концов не так уж и мало вполне признанных людей избегали официоза и паблисити, тем не менее оставась не обойденными вниманием публики и издателей. Если проанализировать этапы жизни и творчества Михаила Леонидовича, то очень хорошо видно, что наивысший его творческий взлет приходится на время оттепели. Именно на этой всеобщей волне творческого вдохновения, о которой пишет, в частности, мой отец (вы уже успели прочесть его статью?), по–настоящему расцвел талант нашего героя.
Тогда было можно — и модно — спорить о философских проблемах, о науке и искусстве, причем делалось это публично. Кто забыл или не застал это время — достаньте диски с фильмами "Застава Ильича" и "Я шагаю по Москве" — там очень точно отражена тогдашняя атмосфера. В качестве хорошего примера можно привести дискуссию "о физиках и лириках", о которой Анчаров упоминает, как о поводе для написания песни "Про поэзию". Сейчас вряд ли кто помнит, что это такое было, поэтому ниже позволю себе краткое отступление по этому поводу — сам уровень спора и его форма очень показательны для характеристики общественной атмосферы тех лет. Все же это было "что–то" — я имею в виду что–то живое, активное, резко контрастирующее с угрюмыми тридцатыми–сороковыми и несколько напоминающее по накалу политические дискуссии перестроечных лет — только из другой области. Рассуждать публично о политике в те времена — даже не в том дело, что табу и не принято, просто предмета для обсуждения не было, поскольку политика была одна (да и в общем и целом почти все, кроме очень небольшого и вполне изолированного круга диссидентов, по большиму счету были согласны с генеральной линией, расходились в частностях — по крайней мере так было до событий 68–го года, когда у многих открылись глаза). А вот о науке и поэзии — сколько хотите, и, пожалуй, аналогов этого всеобщего увлечения околонаучными проблемами больше не было ни в российской истории, ни на Западе. Научно–популярная литература тогда издавалась тысячами наименований. Тираж "Знание—Сила" в семидесятые годы доходил до 7 миллионов!
Спор "физиков" и "лириков" возник на страницах "Комсомольской правды" и продолжался около 3 месяцев — со 2 сентября по 24 декабря 1959 года5. Проходил он под рубрикой "О духовном мире нашего современника". Главная тема: значение науки и литературы (искусства вообще) для формирования сознания человека (понятно, что имелся в виду "советский человек"). Началом послужила публикация в КП от 2.09.1959 статьи И. Эренбурга "Ответ на одно письмо". Это был ответ студентке пединститута, которая в письме к писателю рассказывала о конфликте со своим другом–инженером. Писала она, что попыталась прочитать ему стихи Блока, на что он заявил, будто это устарело, чепуха и теперь другая эпоха. Инженер этот ничего не признавал, кроме физики. Корреспондентка и спрашивала, верно ли, что интерес к искусству вытесняется в наш век могущественным научным прогрессом? Эренбург в ответ наплел понятной чепухи, состоящей из сплошных общих мест, вроде необходимости гармоничного развития личности, эмоциональной бедности мира этого инженера и т. п. Но тут началось такое! КП только успевала публиковать отклики — каждую неделю по десятку минимум. Писатели, научные работники, инженеры, рабочие (куда ж без них), студенты, аспиранты, молодежь и старики просто завалили письмами редакцию. Пожалуй, столь оглушительный журналистский успех не отказалось бы повторить любое сегодняшнее массовое издание. Главное, что интересно: у инженера нашлись горячие адвокаты, мнение которых наиболее полно выразил некто Полетаев6: "Мы живем творчеством разума, а не чувства, поэзией идей, теорией экспериментов, строительства. Это наша эпоха. Она требует всего человека без остатка, и некогда нам восклицать: ах, Бах! ах, Блок![…] Хотим мы этого, или нет, они стали досугом, развлечением, а не жизнью". Пересказывать всю дискуссию нет никакого смысла — в первую очередь вследствие понятного уровня, но с сегодняшней точки зрения я бы обратил внимание на один важный момент. Это соотношение между искусством и масскультурой — где протекает между ними граница и есть ли она вообще? (В 1959 году эта проблема даже не осознавалась — советское искусство обязано было быть массовым.) Потому что тут во многом и содержатся ответы на вопросы в дискуссии "физиков и лириков". Ясно, что масскультура несет чисто развлекательную функцию, а искусство — альтернативный науке способ познания мира. Однако мы все же не будем углубляться, а вернемся к Анчарову.
Если вы имеете достаточное представление о характере Михаила Леонидовича, или хотя бы внимательно прочли его произведения, то должны понять, что сами вопросы, поднятые в этой дискусии, во многом определяют тематику его творчества (хотя, конечно, не исчерпывают). Он все время как бы возражает "инженерам Полетаевым". И вдруг — не совсем вдруг, а постепенно, конечно, — все это закончилось. Вместе с оттепелью канула в историю романтическая эпоха философских дискуссий на страницах газет и сами слова "моральный облик нового человека" стали вызвать понятную отрыжку (у меня так до сих пор вызывают). А Анчаров не изменился! Но в новой атмосфере, которую принято именовать "застойной", нельзя было выжить в искусстве так, как раньше. Тот же Конецкий, имея "настоящую" профессию капитана дальнего плавания, пережил бы, если бы его вдруг перестали публиковать — писал бы в стол, что тяжело и противно, но если у тебя есть еще что–то в жизни, то не смертельно. А многие и не пережили — кто–то уехал, кто–то сломался, кто–то и не пережил в буквальном смысле — Высоцкий…
А Михаил Леонидович, кроме всего прочего, никак себя не позиционировал — он не вписывался ни в какие рамки (и сознательно и не сознательно), его невозможно классифицировать, отнести к какой–то категории. Хотя Анчаров наиболее полно выразил атмосферу своего поколения, и он является, если можно так выразиться, квинтэссенцией оттепели, "дистилированным" представителем шестидесятников, все же его нельзя уместить в рамках культуры того времени. Сам он, суля по всему, даже не задумывался об этом — он, видимо, совсем не задавался вопросом, какое место занимает среди прочих, и не подозревал, что вообще об этом иногда надо размышлять (как, впрочем, не волновало его и то, нравится ли или не нравится его деятельность властям). Но его Тема занимала общество в краткий период 60–х годов ХХ века, а потом ушла с общественных горизонтов. Не вообще, конечно, ушла, потому что тема эта актуальна во все времена, но, грубо говоря, популярности (и денег) на ней теперь не заработаешь.
Проблемы, которые волновали Анчарова и общество в начале 60–х, уже через 10 лет перестали волновать читателя. В семидесятые–восьмидесятые надо было делать что–то еще, хотя бы для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Анчаров сначала не унывал — придумал форму телесериала. Блин получился несколько комом, но скорее от недостатка опыта. Дело в том, что "настоящее искусство" (о котором я упоминал выше) в форме сериала вообще, видимо, существовать не может — разве только, как экранизация классики, но все равно как экранизация, рассчитанная на массы, на домохозяек, на развлечение зрителей. И больше ни на что претендовать в этом жанре не стоит. (Хотя обещал не углубляться, но замечу все же в скобках, что по моему скромному мнению, поп–искусство все равно нужно рассматривать совершенно всерьез, наряду с исскуством "настоящим", хотя бы потому, что оно не только формирует личности, но и создает массовые архетипы — возьмите "Трех мушкетеров" или, скажем "Битлз".) И в этом качестве сериал и нужно было и рассматривать.
А все — и авторы сериала тоже — стали рассматривать это дело с точки зрения "настоящего" кино (мой отец не исключение). Это в корне неверно и такая позиция погубила замечательную в основе задумку. Тут от Анчарова и начали отворачиваться коллеги. Заметьте, что одновременно или несколько позднее вышло несколько фильмов, в том числе теле-, которые авторы и не пытались позиционировать, как "высокое искусство", но которые и сейчас смотришь с удовольствием: "Белое солнце пустыни", "Место встречи изменить нельзя", "Москва слезам не верит". А умные и неплохо написанные, но скучноватые монологи и диалоги героев "День ха днем", в большинстве своем представляющие собой ремейк фрагментов из первых романов и повестей, на экране не смотрелись. А ведь даже в таком виде "День" имел, как бы мы сейчас выразились, неплохой рейтинг — пожалуй, немалая часть современных сериалов, хоть и круто замешанных на бандитской тематике, еще скучнее. Вот бы тогда развить этот успех!
Но я слишком увлекся кинокритикой, в которой, конечно, совсем не специалист. Моя мысль в другом — та самая политика, от которой Михаил Леонидович бежал, как черт от ладана, и стала причиной того, что последний период его жизни был не слишком для него хорош. Общая затхлось атмосферы не могла не сказаться на его творчестве. А с началом перестройки, когда печатали все подряд, у Анчарова не нашлось ничего такого, чего он не говорил или не мог сказать раньше. Он просто не готовился ни к каким перестройкам — они его не волновали.
Однако нам сейчас уже неважно, какие там отношения у него были с критиками и издателями. Мы, возможно, не замечаем — а большинство просто не подозревает — что во многом живем его идеями. Вот один частный пример — авторская песня. Анчаров был ведь не просто основоположником жанра. Он задал тональность всем, кто пришел после него, даже если тот начинал независимо — как Окуджава, например. Были, все это знают, и более блестящие авторы, нет необходимости их перечислять, но можно выразиться так: никто больше не изобрел в авторской песне ничего такого, чего бы уже не содержалось в песнях Анчарова.
Это, повторяю, только один пример — можно привести еще. Скажем, — из совершенно другой области — он предсказал крах направления под названием "искусственный интеллект". Причем предсказал не в общем, а на чем именно это дело сломается. И ведь тогда, когда это все было на взлете! Тем, что рассуждения некоторых экстремистски настроенных сторонников "инженера Полетаева", ведущие свое происхождение от инфантильного большевистского "до основанья, а затем", сейчас кажутся нам идиотскими, мы тоже не в последней степени обязаны Анчарову. И тем, что в общественном сознании "творчество" давно перестало быть только художественным творчеством, признано, что это один и тот же процесс — у художника, ученого, инженера или ремесленника, мы также обязаны ему. Его идеи просто растворились в воздухе, стали им самим, они уже не привязаны к их носителю и часто невозможно определить их авторство. У него было удивительное чувство идеи — он умел свести любую мысль к немногим самым простым принципам и с этих позиций раздолбать ее или, наоборот, расхвалить. В наше время я бы пригласил этого Выдающегося Романтика на работу консультантом по проектам. Неважно, каким — электронных приборов, архитектурных сооружений или научных исследований. Тут он был бы на месте!
Да, сами проблемы в том чистом виде, как они обсуждались в 60–е годы, сейчас уже не обсуждаются. Но это не значит, что люди резко изменились — они сами по себе практически не меняются веками, обновляется только контекст их существования — и что, разве теперь уже нет романтиков и дилетантов, идеалистов и мещан, "физиков" и "лириков", наконец? Есть, они никуда не делись, и мы все анчаровские типажи видим вокруг себя ежедневно, и ежедневно решаем те же проблемы, разве что в иной словесной оболочке. Жаль одно — что сам Михаил Леонидович, относясь к своей деятельности очень серьезно, похоже, так и не сумел осознать ее истинную ценность. Возможно, тогда он все же пересилил бы себя и сумел бы стать немножко "более великим". Но мы и так его не забудем!
Примечания
1
Анчаров М. Л. Сочинения: Песни. Стихотворения. Интервью. Роман. /Соcт. В. Юровский, художник В. Крючков — М.: Локид—Пресс, 2001. — 495с.: ил. — (Голоса. Век ХХ).
2
Характерный штрих к личности М. Л. Мне тут случилось изготовить рамы к некоторым его картинам — это было сущее мучение. Я вас уверяю, что ни одной геометрически правильной картины у него нет. Если это холст на подрамнике — он или с неодинаковыми по размерам противоположными сторонами, или просто углы у него не прямые, если это картон — он обязательно отрезан неровно и т. д. Очень характерно также, что его полотна не подписаны. Он определенно не думал о вечности.
3
Добавлю, что при этом А. Н. сразу же подчеркнул, что ни о каких революциях и речи идти не может — если коммунизм и достижим, то только естественным путем и, по всей видимости, очень нескоро. Но в том, что он рано или поздно неизбежно наступит, А. Н. был уверен.
4
Хотя в авторском варианте строка звучит, как "на свете стоит тишина", я слышал именно в таком исполнениии. Очень показательная оговорка.
5
См. Мейлах Б. С. На рубеже науки и искусства. Л-д.: Изд–во "Наука", 1971 г. Заметим, что на этом дискуссия не закончилась, она вышла далеко за пределы страниц "Комсомольской правды", и в течение примерно пяти последующих лет отметилась на страницах практически всех значимых изданий того времени.
6
На самом деле, конечно, не "некто", а выдающийся ученый–кибернетик Игорь Полетаев, весьма образованный и остроумный человек, который под псевдонимом "инженер Полетаев" решил таким образом спровоцировать дискуссию, и с удовлетворением затем наблюдал, сколько благоглупостей при этом произносится. Вот что сам Игорь Андреевич потом писал об этом эксперименте: "Вероятно то, что я отстаивал, кратко можно назвать "свободой выбора". Если я или некто X, будучи взрослым, в здравом уме и твердой памяти, выбрал себе занятие, то — во–первых — пусть он делает как хочет, если он не мешает другим, а тем более приносит пользу; во–вторых, пусть никакая сволочь не смеет ему говорить, что ты, дескать, X — плохой, потому что ты плотник (инженер, г…очист — нужное дописать), а я — Y — хороший, ибо я поэт (музыкант, вор–домушник — нужное дописать).[…]Беда начнется, когда дурак, богемный недоучка, виршеплет, именующий себя, как рак на безрыбье, "поэтом", придет к работяге инженеру и будет нахально надоедать заявлением, что он "некультурен", ибо непричастен к поэзии.". Добавим, что сам кандидат технических наук Полетаев знал несколько языков, играл на музыкальных инструментах, собрал коллекцию классической музыки, занимался живописью, скульптурой и даже съемками любительских фильмов.
1
Рональд Рейган — президент США с 1981 по 1989 гг. — Прим. ред.
(обратно)2
Ку-Клукс-Клан — тайная расистская организация в США, выступающая против предоставления неграм гражданских прав. — Прим. ред.
(обратно)3
Г. Гейне. Романсеро. Кн. третья, стих. «Диспут». — Прим. ред.
(обратно)4
Смотри роман «Как птица Гаруда».
(обратно)



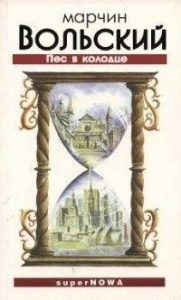



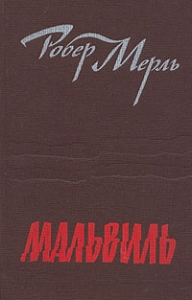
Комментарии к книге «Дорога через хаос», Михаил Леонидович Анчаров
Всего 0 комментариев