Евгений Лукин Великая депрессия
Ну ладно — мы рождаемся,
Переживаем. Старимся,
Увидимся — расстанемся…
Зачем?
Роберт РождественскийПроснулся я вовсе не от пистолетного выстрела — выстрел раздался позже. А проснулся я от страха. Остаток жизни представился таким крохотным, что его даже не на что было потратить. Ясная, беспощадная, словно вслух произнесённая мысль: вот и кончилось краткое твоё бессмертие… Словно вошли в одиночку, тронули тебя спящего за плечо и равнодушно сказали: «Вставай. Пора. Там уже ждут».
И тоска, тоска… Боже, какая тоска! Нет, конечно, утренние приступы мерихлюндии случались со мной и раньше, но чтобы так… Это было как мигрень. Как зубная боль. Постанывая, хватаясь за стены, я доплёлся до ванной и сунул башку под холодную струю. Не сразу, но помогло. Чуть-чуть.
И тут — выстрел. Возможно, из квартиры сверху.
Выключил воду, замер, прислушался. То ли рыдали где-то, то ли заходились истерическим смехом. Как был, босиком, в трусах, выбрался на балкон. Выглянул за перила — и обмер. Внизу на асфальте лежали два тела: одно — неподвижное, другое, к ужасу моему, попыталось приподнять голову — и обмякло вновь.
Двойное самоубийство? Да, но почему они так далеко друг от друга? Из разных квартир выпали? Одновременно?..
Происходящее воспринималось с трудом. Самому было плохо. Очень плохо. Подумал, что надо бы вызвать скорую, однако пальцы, впившиеся в перила балкона, никак не могли разжаться. «Да бог с ними, вызовут и без меня, — решил я наконец. — Наверняка, уже трезвонят вовсю…»
И тут лежащий пошевелился снова.
Я заставил себя оторваться от перил, поковылял за телефоном. Нашёл. Кое-как набрал номер. Тишина, потом короткие гудки. Всё правильно — линия перегружена. Звонят…
Уважаемый читатель! Вас не тянет из окошка Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой?Не в силах избавиться от этих кувыркающихся в мозгу строк Саши Чёрного, с грехом пополам оделся и, прихватив телефон, выпал на лестничную площадку. Квартиру оставил открытой, не смог попасть ключом в прорезь замка.
Пока спускался в лифте, успел ещё два раза вызвать скорую. Короткие гудки. Одни короткие гудки.
«Да ёлки-палки… — в бессильной злобе подумал я. — Мало мне придуманных бед, а тут ещё и настоящие…»
Отжал плечом тугую железную дверь подъезда, протиснулся наружу, остолбенел. Двор был безлюден. Два распростёртых тела — и никого.
С опаской приблизился к тому, что приподнимал тогда голову. Не знаю, кто такой. Ни разу его у нас не видел. Молодой, стриженный наголо парень, крови мало, но как-то странно подвёрнута нога — должно быть, вывих или перелом с подвывихом, веки ещё подёргиваются.
И ни зевак, ни дворников, ни скорой…
— Кто-нибудь!.. — ору я что было сил.
Словно в ответ на мой вопль, стекло в одном из окон пятого этажа расплёскивается осколками — и на тротуар падает третий. Мокрый хрусткий удар. Бросаюсь туда. Поздно. Черепом приложился.
Да что же это происходит?!
А ведь был ещё выстрел… Внезапно ко мне возвращается слух. Кричат. Кричат отовсюду. Кажется, будто голосит весь дом. Плач и скрежет зубовный. Потом откуда-то издали — визг покрышек и страшный скриплый удар.
Запинающимся шагом, заранее ужасаясь тому, что я сейчас увижу, пересекаю двор и, обогнув торец дома, выбираюсь на улицу. Брошенные машины стоят как попало. Одна заехала колесом на тротуар, другая и вовсе выскочила на встречную полосу, третья лежит вверх колёсами… Где же та, что сейчас разбилась? Ах, вон она где… на перекрёстке…
В следующее мгновение меня осеняет, а самое поразительное: осеняет-то почти правильно! Химическое оружие. Или утечка какого-нибудь газа, вызывающего депрессию. Такую депрессию, что люди не выдерживают, сходят с ума, пытаются покончить с собой. Если уж меня, привычного к хандре, так накрыло, то каково же остальным?..
* * *
Здравствуй, младенчик. Добро пожаловать в нашу камеру смертников. Не пугайся, тут не так уж и плохо, особенно поначалу. Камера просторна, в ней есть города, рощи, автомобили, зарубежные страны, молоденькие симпатичные смертницы — всё то, короче, что по справедливости положено узникам перед казнью. Когда она произойдёт, неизвестно. Но тем-то и хорош неопределённый промежуток времени, что слегка напоминает вечность.
Приговор тебе объявят не раньше, чем научат говорить, а иначе и объявлять нет смысла. Узнав, что тебя ждёт, ты будешь кричать ночами, пугая родителей, будешь просыпаться в слезах. Потом, глядя на спокойствие других, тоже успокоишься и затаишь надежду на помилование, которого, конечно же, не случится.
Не горюй. В камере есть чем заняться. Неравенство — лучшая из наших выдумок. Не говоря уже о том, что ожидать казни гораздо удобнее на нарах, нежели под нарами — борясь за лучшую участь, невольно увлекаешься и забываешь о том, кто ты на самом деле такой и куда попал.
Если же, несмотря на все старания, забыть об этом не удастся, поговори со смертниками помудрее, поопытнее — и ты поразишься, какой вокруг собрался изобретательный народ. Одни объяснят, что думать надлежит не о собственной смерти, но о бессмертии камеры, где ты родился; другие растолкуют, что, коль скоро есть тюрьма, то в ней должен незримо присутствовать и тюремщик. Собственно, не тюремщик (поправятся они) — благодетель, ибо на самом деле вовсе не казнит он нас, а, напротив, вызволяет из застенка, построенного им самим, хотя и по нашей вине. И не надо спрашивать, по какой именно. Ты с детства привык стоять в углу, не понимая причин. Поставили — значит, заслужил.
О том, что ждёт тебя за стенами камеры, когда отбудешь срок, допытываться также бесполезно. Всё равно никто ничего в точности сказать не сможет. Говорят, там, снаружи, хорошо. Блаженство и всё такое. А коли так, то впору ликовать, гражданин осужденный, — ты-то думал, казнь, а оказывается, амнистия! Не для всех, разумеется, — только для тех, кто соблюдал режим и сотрудничал с администрацией…
— Прелесть, правда? — призвал к ответу умильный женский голос.
Зрачки мои подобрались, перед глазами вновь возник сотовый телефон, удерживаемый алыми ноготками. На экранчике дошевеливался новорождённый. Дошевелился. Замер. В центре застывшей картинки обозначился треугольничек, коснувшись которого можно снова её оживить.
— Да, — сказал я. — Прелесть.
Она вспыхнула.
— Да что ж ты за человек такой?!
— Какой?
— Тебя что, вообще ничего не радует?
— Радует…
— Радует?! В зеркало поди посмотрись!
Зеркал поблизости нет. Есть витрина. Тому, что я в ней вижу, радоваться и впрямь не стоит. Вот он, итог полувека: облезлый кумпол, морщинистая мордень. Этакая безжизненная планета, изрубленная ущельями и трещинами. Интересно, как насчёт раскалённого ядра: теплится там что-нибудь внутри или выстыло уже до самой серёдки?
Что делать, против часовой стрелки не попрёшь! Жизнь — как папироска перед расстрелом: укорачивается и укорачивается. Хотелось бы знать, сколько ещё до исполнения приговора… А, нет, не хотелось бы! Решительно не хотелось бы.
— Ты же не живёшь! Ты всё время думаешь!
На это, как всегда, трудно что-либо возразить.
— Знаешь, о чём ты сейчас думал? Когда на него глядел!
— О чём?
— Вот вырастет он, станет взрослым, состарится… Так?
— Н-ну… не совсем так, но…
— От тебя же негативом шибает, как перегаром!
Виновато развожу руки.
— Ты же дышишь на всех! Ты всех заражаешь своим… — у неё не хватает слов.
Так… Руки я уже развёл. Что бы мне ещё такого сделать?
— Слушай, — зловеще-вкрадчиво говорит она. — А ты повеситься ни разу не пробовал? Как этот твой… Как его? Димка?..
— Ни разу…
— Да неужели? Смотри на меня!
Смотрю. Тоже, знаете, не слишком-то отрадное зрелище.
— Всё-таки как я вовремя с тобой развелась!
Вне себя поворачивается и уходит. Уходит, не зная, что срок исполнения приговора будет нам оглашён не далее как завтра. Да я и сам об этом ещё не знаю.
* * *
Ничего не изменилось. Почти год живём врозь, а кажется, будто расстались от силы пару дней назад. Ну вот зачем, скажите, назначила она мне встречу на перекрёстке? Только чтобы показать внучатого племянника?
Похоже, разведка. Решила удостовериться, сильно ли я без неё несчастлив. Видит: не сильно. Обиделась… Бедняжка! Конечно, развод был неминуем. Поди поживи с неисправимым мизантропом, да ещё и склонным к праздномыслию вслух… Ох, и влетало мне за это!
— Нет, гляньте! Опять физия унылая!.. Знаешь, почему ты такой? Потому что во всём сомневаешься…
Любимое женское занятие — менять местами причину и следствие. Да, сомневаюсь. Но именно от уныния. Ей-богу! Настолько всё вокруг бессмысленно, что усомнишься в чём-нибудь — и тут же повеселеешь.
Словом, пары гнедых из нас так и не вышло: конь в пальто и трепетная лань! Ладно бы ещё по молодости лет сошлись, а то ведь у каждого в резюме по неудавшемуся браку, дети взрослые… У меня хоть оправдание: руки у неё были соблазнительные. Хотя почему были? Наверняка и сейчас такие — бесстыдно обнажённые до плеч, просто под плащом не видать.
Не устоял, короче. И сразу же, кстати, был разочарован: раздеваешь её, а она становится всё менее и менее сексуальной…
Надо же! Заражаю! Да если хотите знать, к окружающим у меня отношение самое бережное. Нет, не ко всем, конечно, — только к тем, кто и сам задумался. А неутомимые борцы с негативом — чего их беречь? Они и так неуязвимы. В любую дурь поверят, даже в мировую гармонию, лишь бы на душе спокойно стало.
Один мой хороший знакомый… Ну не то чтобы хороший… Так себе знакомый. Полковник в отставке. Ударился в религию, воцерквился, крест на шею повесил, проповедовать начал за рюмкой. Поразил меня фразой «Бог создан для того, чтобы нас прощать». Прелесть что за верующий.
И что-то я ему такое ввернул простенькое — вроде бы спросил, как совместить заповедь «Не убий» с защитой Родины. Смотрю, а у сокамерника моего в глазах ужас. «Слышь! — говорит. — Ты это брось! А то мы сейчас с тобой в такие дебри залезем, что и не выберемся…»
Милый! Да я в этих дебрях всю жизнь обитаю — и ничего, временами даже неплохо себя чувствую.
— Ты с такими мыслями завязывай! Так и помереть можно…
— А как нельзя?
Иное дело — Димка. Димку жалко. Жалко до невозможности.
Дачи. Лето. Пыль. Сижу в одиночестве под навесом возле магазинчика, пиво пью. В глубине улочки возникает цветное пятнышко — этакая кривляющаяся клякса. Болтается сразу во все стороны, иногда кажется: вот-вот порвётся надвое, а то и натрое.
«Димка», — думаю с невольной ухмылкой.
Всё верно, он. Столь расхлябанной походки в округе нет ни у кого. Долговязый разочарованный шалопай. Женат, живёт в посёлке, состоит в подручных у здешнего каменщика, дачи строит, заборы.
Достигши столиков, присаживается напротив, здоровается со вздохом.
— Зря я от армии закосил, — признаётся он, помолчав. — Ребята вон из горячих точек вернулись, а мне и рассказать нечего…
— Нашёл о чём горевать! Они там такого насмотрелись, что и сами рады забыть, да не могут.
Горестно обдумывает услышанное, потом встаёт и скрывается в дверях магазинчика. Возвращается с неизменным своим фанфуриком. Запоев у Димки не бывает, хотя и трезвым его не встретишь — вечно он… Чуть не ляпнул «навеселе». Но такое состояние Димке не свойственно.
— Зачем вообще живу? — вопрошает он с тоской.
— С ума сошёл?
Не понял. Заморгал.
— Чё это?
— То это! Чтобы такие вопросы себе задавать, привычка нужна. А у тебя её нет. Слишком всё близко к сердцу принимаешь… Вон на Рому посмотри!
— На какого?
— Ну, дача у него… за колодцем…
— А… Это который лыбится всю дорогу?
— Во-во! Он самый. А знаешь почему? Инфаркту него был — полтора года назад. Такой инфаркт, что не выкарабкаешься. А он выкарабкался. С тех пор и лыбится… Это, я понимаю, мудрец! Остальные прикидывают, сколько им лет осталось, а он в в время наоборот отсчитывает — от той своей смерти, от несостоявшейся: оп-па!.. ещё один день прошёл… ещё один… А я всё жив!.. Понял, как надо?
Димка озадаченно скребёт макушку и уходит за вторым фанфуриком.
Потом он повесился. На ручке двери. Сидя. Поговаривали, что пьяный был, что жена достала, что в роду у него это уже не первое самоубийство… Много чего поговаривали. Но я-то знал, что главная причина не в том. Старался ему помочь — не вышло…
А она говорит: заражаю…
* * *
Чеканным разгневанным шагом моя сокамерница удаляется в сторону подземного перехода. Вспомнила о сотике, бросила в сумку, снизошла по ступеням, исчезла. Погрузилась в недра земные.
И ведь каждый заведомо ходит под приговором, вынесенным ещё с момента зачатия. И точно об этом знает! Казалось бы, как тут стать оптимистом? Ухитряются! Самое простое — убедить себя, что бессмертен. Причём ни одна зараза не задаст себе вопрос: а достоин ли я бессмертия?
Хорошо, достоин. Однако сомнения-то копошатся. Тогда что? Тогда обо всём забыть, хотя бы на время. Лучшее средство — работа. Любые сомнения вышибет из башки на раз. А вот на досуге, пожалуй, никуда и не денешься. Забавно, право! Пашут, капиталы сколачивают — и в итоге получают возможность вспомнить всё, о чём пытались забыть.
Смертельное время досуга… Вот почему им позарез надо развлекаться. Ежеминутно, любой ценой…
Милая моя смертница! Сколько сил на меня потратила — и всё впустую. По корпоративам своим таскала, по юморинам… Вот где страх-то! Зал — битком, и всяк изготовился заржать. Комик только рот открыл, ничего ещё не сказал — уже гогочут. Хотя… Билеты-то дорогие: купил — гогочи. А то, выходит, зря покупал…
Поделился я с ней этим своим соображением — взбесилась.
— Пошёлвон… — шипит. — Ещё и здесь настроение портить будет…
Встал, ушёл из зала. Почему нет, если приказано?
Пожалуй, единственное, на что она так и не отважилась, — это показать меня психиатру. Хотя грозила…
От здания к зданию протянут канат. На канате — плакат. На плакате визжит от счастья молодая пара. Что-то, видать, приобрели.
Чуть подальше — ещё один. На нём некто с проседью показывает в восторге прохожим упаковку таблеток от мужского бессилия. Ну правильно. Раньше у нас в России было две проблемы: перхоть и кариес, теперь — импотенция и педофилия. Блаженная страна.
Гляжу — и мысли мои обретают предельно циничный характер. А ведь сокамерница права: вовремя мы развелись. Получи я наследство чуть раньше, разлетелся бы дядин вклад за год-другой. Хорошая, кстати, морская команда: «Деньги на ветер!».
Помню, в восьмом, что ли, классе или в девятом разоткровенничались мы однажды с пацанами, кто кем хочет стать. Я сказал: тунеядцем. Смеху было… А ведь, между прочим, не шутил. Просто нет ничего на свете смешнее правды.
А на старости лет, представьте, взял и впрямь заделался рантье — живу на проценты. Живу скудно, однако без долгов, на работу устраиваться не собираюсь. Что поделываю? А вот как раз то, в чём меня сейчас столь яростно обвиняли: хожу, смотрю, думаю.
И никакой мне досуг не страшен.
Поворачиваюсь — утыкаюсь физией в рекламный щит. Влажными глазами глядите него лобастый телёнок. «Я не мясо, — отпечатано крупными буквами. — Я — маленький мир». Поднимаю глаза — там указатель: «Этичный магазин здорового питания». Не иначе для вегетарианцев…
Ну и как тут не задуматься?
Ладно, допустим, убедят они род людской перейти на травоядный образ жизни. И что станется со стадами крупного рогатого скота? А коровушек-то на Земле 1,5 миллиарда. Больше, чем население Китая. Хорошо, вычтем молочные породы. А остальные? Куда их деть? Предоставить самим себе, то бишь выпустить на природу — волки зарежут, медведи задерут. В лучшем случае. А в худшем — превратится наш телёночек из домашнего животного в сельскохозяйственного вредителя, пожирателя и вытаптывателя посевов. Стало быть, придётся отстреливать…
Нет-нет, что это я?! Отстреливать — неэтично! Конечно же, поступим гуманнее. Пусть коровки спокойно дощипывают травку на прежних пастбищах. А чтобы не размножались, стерилизуем… И в итоге выморим целый вид…
Милые мои коровки, поймите простую вещь: с вами церемонятся лишь до тех пор, пока вас едят.
Да и с нами тоже… Мы ведь, в отличие от вас, взаимоядные.
Из внутреннего кармана куртки раздаются первые такты Шопена. Прохожая старушка смотрит испуганно и на всякий случай обходит меня сторонкой. Извлекаю телефон, гляжу, кто. Неужто опять она? Нет, не она. Звонит мой закадычный друг Анатолий Сумароков. По профессии он… Ну кем ещё может быть по профессии мой закадычный друг? Разумеется, патологоанатом.
— Пьёшь небось? — с мрачной завистью осведомляется он.
— Нет.
— Почему?
— Не с кем. И повода нет.
— Сейчас будет, — ещё мрачнее обещает мой друг Анатолий.
Познакомились мы с ним года полтора назад под тем самым навесом, что возле дачного магазинчика. Крупный дебелый блондин. В трезвом виде неизменно угрюм. После первых двухсот граммов оживает: вытаращивает глаза, успевшие стать из серых голубыми, делается говорлив, сильные чувства (изумление, например) выражает хриплым троглодитским «ы-ы!..», причём производит его не на выдохе, а на вдохе.
— В драке мне… (ы-ы!..) нос однажды сломали… Пришёл домой, лёг, а он — хруп! — и набок… Поправлю, лягу опять на спину, а он… (ы-ы!..) — хруп! — и набок… Проворочался так до утра, а утром — куда? (радостно таращит глаза) В морг! Там все свои…
И чем страшнее история, тем веселее он её рассказывает.
Пьёт, конечно, многовато. Главное — не пробовать за ним угнаться. Да я и не пробую. С некоторых пор.
Что у нас с ним общего? Да, пожалуй, то, что мы, в отличие от воцерквлённого отставника-полковника, не боимся залезать в такие дебри, откуда и не выберешься… Оба помним, куда попали и кто такие. Ну вот и устраиваемся, как можем…
В городе у нас насиженное место — стекляшка у фонтана. Туда я сейчас и направляюсь. Не знаю, почему, но после встречи с бывшей супругой настроение у меня препоганое. Вроде ничего такого из ряда вон выходящего сказано не было, а вот поди ж ты.
Восхожу на эстакаду. Передо мной череда плакатов, и на каждом кто-нибудь ликует. Подо мной (справа, за парапетом) вяло шевелится автомобильная пробка. Глянцевые иномарки напоминают сверху огромных тараканов: чёрные, рыжие, белые (не иначе мутанты). Дихлофосом бы их… Прикидываю размеры баллончика. Где-то с водонапорку. Ох, и засуетятся, наверное, если брызнуть…
А на даче тараканы не живут. Потому что за зиму вымерзают. Кстати, смотрел вчера по телевизору, что будет с Землёй через миллиард лет. Долго смеялся…
И представляется мне вдруг великое оледенение планеты: тундра на экваторе, надвинувшиеся с полюсов снежные шапки, вросшие в лёд хитиновые скорлупки иномарок. Что, интересно, станется с людьми? Вымрут? Нет, пожалуй, не все. Мы, горожане, конечно, вымерзнем, негры там и прочие теплолюбивые — тоже… А вот чукчи выживут. Чукчи, эвенки, алеуты… Потому что морозоустойчивые. Откочуют в экваториальную тундростепь, размножатся и будут себе жить припеваючи. Так что не стоит их поголовно цивилизовывать — пригодятся ещё…
Увлечённый апокалиптической картиной, иду и даже не подозреваю, что видение-то моё пророческое и что сбудется оно уже завтра. Нет, речь, разумеется, не об оледенении — беда придёт такая, какой не ждали, а вот насчёт уязвимости рода людского — очень похоже, очень… Как в воду глядел.
Вот и родная стекляшка. У дверей сидит и смотрит на меня уличная собачонка с шевелюрой, как у философа Шопенгауэра. Дать мне ей нечего. Вхожу — и первое, что слышу из угла: хриплое восторженное «ы-ы!..», произнесённое не на выдохе, а на вдохе.
— Пешком, что ли, шёл? Я его тут сижу жду, ни капли ещё не принял…
Врёт нагло! Раз «ы-ы!..» — значит, успел.
* * *
— Мне за тебя стыдно! Как ты пьёшь?
— Гомеопатически.
Да. Вот в этом пункте жизненной философии мы с Анатолием решительно расходимся. Он глушит водку залпом, я же употребляю её аптекарскими дозами. Что-то вроде наглядного доказательства апории Зенона. Сперва Ахиллес отпивает половину стопки. Затем — четвертушку. Затем — одну восьмую. Затем — одну шестнадцатую. Из чего следует логически неопровержимый вывод: стопку Ахиллес никогда не допьёт.
— Гомеопатия — продажная девка империализма! — оглашает Толик на всё кафе. — Её лженаукой признали!
— Кто?
— Академики! Не слышал, что ли?
— И похмеляться запретили?
— Это почему?
— Ну вот! А ещё врач! Основной принцип гомеопатии — лечи подобное подобным.
Немногочисленные завсегдатаи стекляшки прислушиваются с ухмылками. К нам здесь давно привыкли. Странно, ей-богу. По отдельности каждый из нас — мрачная неразговорчивая личность, а сойдёмся за бутылкой — можем и балагурами прослыть.
Юмор у нас, правда, черноват, но это естественно, так что оптимистам к нам лучше не подсаживаться. Очень уж они хвалить себя любят, а за нашим столиком этот номер не пройдёт.
Происходит всё примерно так:
— Знаешь, что я в себе главное ценю? — грозно вопрошает третий лишний. — То, что я — честный человек!
Не люблю пьяных склок, поэтому сижу молчу. Но Толика-то не удержишь. Производит свой хриплый вдох, радостно вытаращивает успевшие поголубеть глаза.
— Ты — честный? Да честные все удавились давно!
Дальше, понятное дело, обида, выяснение отношений, опасная жестикуляция. Поражаюсь я Толику. Взрослый дядя, патологоанатом, а нарывучий — сил нет. Рассказывает:
— Возвращался ночью. Подкрались сзади — и тресь по балде! В отместку, понял? Кожу на затылке рассекли… Хорошо, дома специалист: жена — гинеколог! Зашила…
Слава богу, никто к нам сегодня не подсаживается.
Странные дела творятся в нашей камере смертников: оптимисты — обидчивы, а пессимистам всё по барабану. По-моему, мы с Толиком ещё ни разу не поссорились. Ну скажет порой гадость — и что с того? Если правду сказал, чего дуться? А если соврал, тем более не на что…
Не помню, где, но прочёл я однажды, что, когда ребёнку снятся кошмары, надо попросить малыша нарисовать ночное чудище, а потом добавить ему рожки, очки, усики… И страшное становится смешным. Нормальные граждане обычно поступают так с портретами политических лидеров. А мы вот — со всем мирозданием сразу.
Нельзя ни к чему всерьёз относиться. А иначе будет как с Димкой. Ох, Димка, Димка…
— Димку помнишь?
Хриплое «ы-ы!..» на этот раз звучит возмущённо.
— Это который у меня на даче фидер украл?
— Ну да…
— Так он же повесился!
— Да знаю… Слушай, а он у тебя не выпытывал, зачем живём?
— Ещё как!
— И что ты ему ответил?
— Говорю: сегодня у меня выходной, а завтра приходи в морг — покажу…
Беседуем в том же духе до вечера. Вполне удовлетворённые общением, встаём и нетвёрдой поступью следуем к дверям, понятия не имея о том, что нас ждёт утром. Уходя, прихватываю огрызок сардельки — для собачки, похожей на Шопенгауэра, но той уже нет.
* * *
Не знаю, кто нас и чем долбанул. И никто не знает. Поначалу, конечно, грешили на Америку, на Китай, те тоже — друг на друга и на всех прочих за компанию, каким-то чудом по красным кнопкам не ударили. Любопытно, что меньше всего пострадало население горячих точек. Хотя, в общем-то, понятно: люди там привычные, закалённые, не то что мы.
Разумеется, не было ни утечки, ни химической атаки. Какой-то, говорят, поток частиц из космоса то ли естественного происхождения, то ли искусственного. Но результат тот же — депрессия. Чудовищная, невыносимая депрессия. Кстати, идея насчёт искусственного происхождения потока мне кажется более правдоподобной: облучали нас, как выяснилось, в течение суток, то есть точно рассчитали время, за которое планета совершит полный оборот. Какая ж тут, к чёрту, случайность?
Но всё это нам сообщили позже. А тогда…
* * *
Со страхом вбираю ноздрями воздух. Вроде обычный, никаких незнакомых запахов…
Получается, что вчера днём, идя по эстакаде и размышляя о глобальном оледенении, я нечаянно попал в точку. Случись оно — выжили бы одни чукчи и алеуты. А после такой утечки (я всё ещё полагаю, что где-то произошла утечка), похоже, выживут одни лишь чёрные меланхолики. Вроде меня…
Стою и одичало озираюсь. Широкое асфальтовое полотно усеяно хитиновыми трупами иномарок. Отсуетились. Словно из баллончика на них брызнули. А где водители? Разбежались?
Эх вы… Оптимисты вы, оптимисты! Визжали от счастья, гнали мрачные мысли, задуматься боялись, на юморины ходили, в восторге от самих себя селфи делали… Как вас теперь спасать? И кому?
Неужто мне? Да вы с ума сошли!
Страх сменяется отчаянием. Что я могу?! И если бы даже мог! Всех не спасёшь, это ясно! Разве что самых близких…
И я вижу вдруг, словно воочию, как милая моя смертница соблазнительными своими руками, всхлипывая, связывает себе петлю и прикрепляет её к дверной ручке…
Срываюсь с места и шатко бегу к перекрёстку. К тому самому перекрёстку, на котором она вчера назначала встречу. Пробегаю мимо врезавшейся в парапет машины. Водитель уткнулся в руль головой. Не до него мне… Пытаюсь набрать номер — не получается. Приходится остановиться.
Длинные гудки. Бесконечные длинные гудки.
Неужели…
Ужаснуться не успеваю. Гудки обрываются, в динамике — сдавленные рыдания.
— Валька!.. — кричу я. — Валька, ты?!
— Я-а…
— Валька! Не смей ничего делать! Жди меня! Я сейчас буду! Ты меня слышишь?
— Слы-шу…
— Валька, я тебя люблю! Люблю тебя, дура! Повтори!
— Лю… люблю-у… — стонуще повторяет она.
— Всё будет хорошо, слышишь? Сиди и жди меня!
До её дома — полквартала. Снова перехожу на бег, врываюсь во двор. Там тоже кто-то лежит на асфальте под разбитым окном.
— Помоги-ите… — блажит сверху какая-то старушенция.
Не взглянув, бегу к подъезду. Набираю на домофоне номер квартиры, и в этот момент сотик в моей левой руке разражается первыми тактами Шопена. Идиот! Угораздило же меня установить такой сигнал…
Не сразу, однако, открыла. Господи, лишь бы лифт работал… Всё-таки девятый этаж! Слава богу, работает! Вваливаюсь в кабину, жму верхнюю кнопку и лишь после этого глушу похоронный марш.
— Да!!!
— Жив, зараза? — слышу я исполненный мрачного удивления голос.
— Толик?! Ты где?
— На скорой…
— Почему на скорой? Ты же вроде…
— Да не до мёртвых уже!.. — с досадой перебивает он. — Живым бы помочь… — и вопит на кого-то: — Заноси давай!..
Сейчас отключится.
— Толик! Толик, не отрубайся! Вальке плохо! Я сейчас к ней еду. Скажи, что делать!
— Успокоительного дай, снотворного…
Лифт останавливается. Вылетаю на площадку.
— Погоди, не отрубайся!
— Да я и не собираюсь… Ты как там?
— Хреново!
— Но дееспособен хотя бы?
— Да!
— Слушай, как убаюкаешь её — дай знать! Подъедем, подхватим… Каждый человек на счету! — в трубке раздаётся угрюмый циничный смешок. — Кому-то ж надо выручать этих… радостных…
Волгоград, февраль-март — 2017
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg





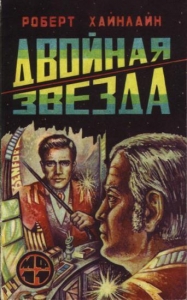
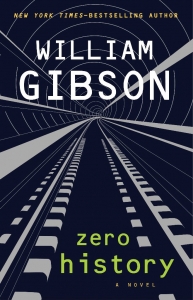


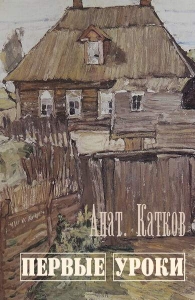
Комментарии к книге «Великая депрессия», Евгений Юрьевич Лукин
Всего 0 комментариев