Вадим Полищук Гвардии Зенитчик. Огневая позиция «попаданца»
Вступление
Вроде здесь. Деревья нависали над узкой грунтовой дорогой, образуя почти полную арку, их ветки оставляли свободными всего чуть больше двух метров свободного пространства. Моему почти пятиметровому седану с его пятнадцатью сантиметрами под защитой картера и базой два восемьдесят такие дорожки категорически противопоказаны. Да и металлик с боков ветками поцарапать можно. Ну да что делать? Раньше надо было думать, сейчас за джипом бежать поздно. Я включил правый «поворотник» и плавно добавил газ. Опа! «Кирпич». Так и прав можно лишиться. Однако для фабричного знака, изготовленного в соответствии со всеми ГОСТами, этот слишком блеклый, да и цвет малость не тот, если приглядеться. К тому же гаишников на таких всеми забытых грунтовках отродясь не водилось. Поэтому — вперед, и я решительно повернул руль.
Дорога оказалась во вполне приличном состоянии, во всяком случае, машина ни разу не чиркнула по ней днищем. Видимо, по ней все-таки регулярно ездили и не только на джипах. Деревья расступались перед капотом, жесткая подвеска потряхивала кузов на попадавшихся под колеса ямах. Дорога плавно изгибалась и просматривалась только метров на тридцать-сорок. Она или не она? Почти за семьдесят лет многое могло измениться, но, похоже, она. Через сотню метров путь преградили ворота, справа от них притулилась будка охраны. Машину я поставил так, чтобы номера автомобиля от ворот не просматривались, выключил зажигание и дальше отправился пешком.
Навстречу из будки вышел мордатый парень лет двадцати пяти. В черной куртке с неизменной желтой надписью «ОХРАНА» и гладкоствольным карабином на базе «калашникова».
— Ты что, знак на въезде не видел?
— Извините, никакого знака я не заметил. А база строительных материалов здесь?
Охранник окатил меня презрительным взглядом. Костюмчик на мне серенький, брюшко под ним, рубашечка беленькая, галстучек. Короче, типичный лох, срубивший бабла по воле случая и сейчас возводящий загородное гнездышко.
— Нет здесь никакой базы. Давай сдавай назад.
— Но как же, — я включил дурака на полную мощность, — мне сказали именно здесь.
— Ты откуда ехал? Со стороны Москвы?
— Да, оттуда.
— Тогда ты до нее двух километров не доехал, — смилостивился воротный страж, — с этой дороги направо поворачивай, а там слева увидишь, не промахнешься.
— Спасибо. Большое спасибо. До свидания.
Охранник по-английски вернулся в свою конуру, а я поспешил к машине. Стрелки приборов описали почти полный круг и вернулись назад, только тахометр показал обороты холостого хода. Развернуться не получится. Пришлось все сто метров медленно ползти задним ходом. И так же задом осторожно выползать на асфальт. Только направо я поворачивать не стал, все, что мне надо, и так уже увидел. Его перекрасили и покрыли красной металлочерепицей, ему вставили пластиковые стеклопакеты, а колючую проволоку на заборе заменили зеленой «рабицей». И ворота уже другие, и будки охраны раньше не было. Но я его узнал, сразу узнал. Они ушли отсюда, но за объектом продолжает кто-то приглядывает, судя по всему, из своих, из местных.
Стрелка спидометра подобралась к сотне, и я включил круиз-контроль. Серая лента асфальта стелилась под колеса, сыто урчал мотор, еле слышно шуршали покрышки, а из динамиков голос неизвестной певицы на английском языке пел о любви. Минут через пять будет кольцевая, полчаса вокруг столицы, проползти через Химки и вырваться на простор Ленинградки. Сейчас самое начало рабочего дня и все торопятся из области в город, а мне в противоположную сторону, поэтому надолго застрять не должен. А там семь-восемь часов, и я дома. Непонятно только, зачем я вообще сюда поехал. Нашел? Посмотрел? Что дальше? Давно пора забыть эту историю и жить дальше. Забыть? Нога резко надавила на педаль, стрелка тахометра метнулась вправо и машина рванулась вперед, наращивая скорость. Нет, ничего я забывать не собираюсь.
Глава 1
Хорошая все-таки штука — гугловские карты, особенно наложенные на снимки из космоса. За месяц после возвращения оттуда я просмотрел весь свой путь в сорок первом. Многое, конечно, изменилось. Например, на месте наплавного моста через Дон сейчас высится над водой современный железобетонный, тень от него на снимке позволяет прикинуть высоту. И от огневых позиций батареи ничего не осталось, всю местность занимают распаханные поля и выросшие в последнее время дома то ли дачного поселка, то ли садоводства. Но многое, очень многое осталось, мосты, вот, железнодорожные на прежнем месте, ни на метр не сдвинулись.
Карту Московской области к югу от МКАД я рассматривал особенно тщательно. К счастью, лесов в ближнем Подмосковье осталось не так много, поэтому в течение трех минут я нашел дорогу между двумя деревнями, пересеченную лесной просекой. Правда, никакого объекта в лесу и ведущей к нему грунтовки я на спутниковом снимке не увидел. Но это мало меня смутило — части, в которой я проходил срочную, тоже ни на одном снимке нет, а там объект площадь на два порядка большую занимает, да и строений побольше будет, не то, что дом и гараж, затерянные среди деревьев. Короче, надо поехать и проверить на месте. Вот и поехал, как только выдалась пара свободных дней.
Осталось только решить, что делать дальше. Взять базу штурмом и открыть межвременные закрома? Уй-й! Ёо-о!
— Ты где права купил, козел?!
Еле успел нажать на тормоз, избегая столкновения с «Фокусом», внезапно метнувшимся из правого ряда в левый. Идущая за мной «девятина» чуть не устроила мне приключение на задний бампер, но тоже успела оттормозиться. Водитель «Форда» проигнорировал мое мнение о нем, еще прибавил газу, рванул через сплошную полосу и успел втиснуться перед впереди идущей «Маздой», под рев клаксона летящей навстречу фуры. Камикадзе. Чувствую — его КАМАЗ уже в пути, такие долго не живут. Ладно, хватит, надо самому на дорогу смотреть, а то и свой грузовик проспишь.
К полуночи, уже где-то под Тверью я почувствовал, что за один присест мне обратную дорогу не одолеть. Дальше тянуть становилось просто опасно — глаза слипались. К счастью, подвернулась придорожная гостиница. За кровать в номере с удобствами в коридоре и охраняемую стоянку с меня взяли полторы тысячи. Как только голова коснулась подушки, я вырубился намертво и проспал до десяти часов следующего дня.
Домой вернулся уже в два часа после полудня. Поставил машину в гараж и уже закрывал ворота, когда все началось.
— Добрый день.
За моей спиной стоял белобрысый парень лет двадцати пяти. Еще пару секунд назад его там не было, он возник словно ниоткуда. Прежде чем ответить, я пригляделся к нему внимательнее. Среднего роста, худощавый, жилистый, лицо без особых примет. Нет, не двадцать пять, ему скорее тридцать. Тридцать, тридцать… В голове вдруг запульсировал сигнал тревоги. Тридцать! Неужели?!
— И вам не хворать. Чего надо?
— А вы не очень любезны.
— А кто вы такой, чтобы я с вами любезничал?
— Догадались, — натянуто улыбнулся блондин, продемонстрировав белоснежные зубы, — да, я оттуда.
По-русски говорит не совсем чисто, есть небольшой акцент. Я почему-то решил, что он из Прибалтики. Опыт общения с прибалтами у меня невелик, но, судя по растянутым гласным, парень оттуда. Про себя я так его и окрестил — прибалт.
— Так зачем я вам понадобился? Месяц назад мы, вроде, разошлись без взаимных претензий.
— Да, это так. Но через некоторое время после вашего возвращения там возник небольшой хронокатаклизм.
— Возник, и возник. Я-то тут при чем?
— Наши ученые считают, что есть связь между вашим пребыванием там и этим небольшим катаклизмом. Поэтому я предлагаю вам еще раз, с нашим участием, проанализировать ваше поведение там.
Там. Он даже не называет вещи своими именами.
— А я считаю до трех, и проваливай отсюда!
Прибалт парень резкий, тренированный, другого на такое задание и не послали бы, но гаражи просматриваются несколькими видеокамерами, вряд ли они решатся на силовой захват на глазах у гаражной охраны. До отделения милиции отсюда метров триста и, получив вызов, пэпээсники приедут буквально через три-четыре минуты. И если начнут выяснять личности участников драки, то у прибалта могут начаться проблемы. А я уже прикидывал, к кому обратиться, чтобы избавится от нежеланного гостя, не прибегая к помощи официальных структур.
— Наш разговор еще не окончен, — не то пообещал, не то пригрозил прибалт.
И тут я сделал ошибку. Решив, что в данный момент они действовать не рискнут, я повернулся к нему спиной. Хотел продемонстрировать, что общаться с ним больше не намерен. Продемонстрировал! Прибалт просто вырубил меня! Еще до того, как померкло сознание, я успел почувствовать, что меня подхватили, не давая упасть на землю.
Когда я очнулся, то чуть не завыл от тоски — уж больно знакомым оказалось помещение, в нем я уже провел почти три недели, причем не по своей воле, и покинул только месяц назад. Если считать по субъективному времени. Да и по объективному тоже. Выглянув в окно, я увидел на некоторых деревьях пожелтевшие листья. Значит, здесь тоже прошел месяц, и сейчас середина сентября. Костюм на мне остался прежний, только карманы основательно почистили, даже всю мелочь выгребли, уроды. Сунув ноги в туфли, стоявшие около кровати, я пошел к раковине, открыл кран и сунул голову под струю холодной воды. Шум в ней немного стих, видимо, вкатили мне какую-то гадость, и ее действие еще не закончилось. Да и в мышцах чувствовалась некая вялость. Толкнул дверь, убедился, что она закрыта снаружи, и отправился обратно на кровать.
Когда за мной пришли, я уже окончательно оправился и чувствовал себя неплохо. Лязгнул запор, и на пороге появилась сладкая парочка: прибалт и младший мордоворот.
— Очухался? — поинтересовался младший.
— Руки, — потребовал прибалт.
На моих руках защелкнулись красивые блестящие браслеты.
— Давай на выход.
На выходе меня подтолкнули вправо, но я уперся.
— Сначала в туалет.
— Пусть идет, — разрешил прибалт, — присмотри за ним.
Младший недовольно засопел, но возражать не осмелился. Поперся за мной даже в кабинку.
— Может, еще достанешь и подержишь?
— Давай ссы.
Я с удовольствием избавился от той гадости, которую почки успели перекачать из организма в мочевой пузырь. Не торопясь, вымыл руки и под бдительным присмотром младшего отправился в кабинет на допрос. Прибалт уже ждал там. Меня усадили на табурет перед монументальным столом.
— Может, сзади сковать? — предложил мордоворот. — Он парень прыткий.
— Не стоит, — усмехнулся прибалт, — с ним я справлюсь.
— Ну, тогда я пошел?
— Иди, — разрешил прибалт.
— У меня есть основания полагать, что в прошлый раз вы были с нами не совсем откровенны. Ничего не хотите сказать по этому поводу?
— Ничего.
— Сэр Джеймс предупреждал меня, что к сотрудничеству вы не склонны, но у меня есть для вас аргумент.
И тут он совершил ошибку — повернулся ко мне спиной и начал открывать стоящий у стены сейф. Достать его через стол я не мог, но все стоящее на столе было мне вполне доступно, а центральное место занимал антикварный письменный прибор из бронзы. Чернильница, как оказалось, пустая, но и без содержимого весьма увесистая, закончила свой полет, соприкоснувшись с белобрысым коротко стриженым затылком. Звук удара был глухой, костяной, с полутора метров промахнуться непросто, даже скованными руками. Секундой позже раздался более громкий стук падения чернильницы на пол, а еще чуть позже в соприкосновение с досками пола пришла голова прибалта. Я замер. Тишина. Никто не топал по коридору, не стучал каблуками, не спешил распахивать дверь и врываться на помощь.
Ключ! Наручники защелкивал прибалт, значит, и ключ должен быть у него. Нужный предмет отыскался в правом кармане брюк. Даже имея ключ, снять браслеты не так просто, минуты три провозился, пока освободил сначала одну руку, затем вторую. Проверил у лежащего пульс, вроде, есть, но под головой уже начало растекаться кровавое пятно. Извини, братан, вызвал бы я тебе скорую, но дела, дела, да и телефона под рукой нет. А сейф-то он закрыть не успел. Ну-ка, что у нас тут за аргумент? Коробка с десятком ампул и упаковка одноразовых шприцев. Это и есть какая-нибудь «сыворотка правды»? Небось больших денег стоит.
Хрусь. Под каблуком осталась мокрая кучка мелких стекол. Так, что тут у нас еще? Папки, папки, еще папки. Ноутбук, видимо, тот, который мне демонстрировал полковник. Пачки денег, довольно много. Но деньги мне сейчас ни к чему, мне нужно оружие. Хоть какой-нибудь ствол, хоть капсюльный. Ничего. Может, у прибалта есть? Когда я ощупывал его карманы, он слабо застонал. Жив — это хорошо, а оружия нет — это плохо. Остается стол. С ходу рванул ручку среднего ящика. Ухватистая рукоятка легла в руку как влитая, мой размерчик! Ничем не прикрытый ствол, большой наклон рукоятки, пуговки сверху. Я его сразу узнал — «парабеллум». Теперь прорвемся!
Вряд ли кто-то держит в столе пистолет с досланным в ствол патроном. Тем более что у «люгера», насколько я помню, ударно-спусковой механизм одинарного действия. Я потянул пуговки назад и вверх. Поначалу затвор пошел легко, но, отойдя назад миллиметров на пятнадцать, застопорился. Вторая попытка также не принесла успеха. В вырезе рамки было видно, что в стволе патрона нет. Тупорылый патрончик был виден где-то внизу, в магазине. Дальнейшее изучение незнакомого оружия я решил провести без патронов в нем. Кнопка защелки магазина нашлась там, где и должна быть — на левой стороне пистолета в задней части спусковой скобы. После нажатия на кнопку, магазин выскочил из рукоятки. Полный. Раз, два, три,…, восемь. Второго магазина ни в среднем ящике стола, ни в других не нашлось. Ладно, обойдемся тем, что есть.
Третья попытка оттянуть затвор также потерпела фиаско. Сквозь открывшееся окно пистолет был виден насквозь. Я подергал спусковой крючок, он ходил свободно, с небольшим усилием. Пимпа с левой стороны в задней части рамки, скорее всего, и есть предохранитель. Перевел его из нижнего положения в верхнее и нажал на спуск, ничего не изменилось. А если… В этот раз затвор дошел до конца и вернулся назад без всяких препятствий. Нажатие на спуск привело к звонкому щелчку внутри пистолета. Понятно, предохранитель не только разобщает спусковой крючок с шепталом, но и блокирует затвор. Интересно. Еще раз. Сдвоенный щелчок затвора, предохранитель вниз — спусковой крючок упирается в заднюю часть скобы без всякого эффекта. Предохранитель вверх, звонко щелкает ударник. Разобрался, наконец. Магазин досылается в рукоятку хлопком ладони. Кляк-кланц — патрон в стволе.
Стоп, стоп, можно не спешить, вряд ли прибалт планировал закончить допрос за двадцать минут, а в сейфе наверняка найдется масса интересного. Деньги, например. Хватанув одну из пачек, я удивился. В прошлый раз мне попадались коричневатые рубли с шахтером, зеленоватые трешки с пехотинцем и серые пятерки с летчиком. В чужих руках я видел зеленовато-серые банкноты достоинством в один червонец и красные три червонца с задумчиво-напряженными взорами дедушки Ленина. А сейчас я держал в руке пачку серовато-голубых купюр, с которых за мной напряженно наблюдал все тот же Ленин. Каждая бумажка достоинством десять червонцев или, проще говоря, сто рублей. С моими сержантскими семнадцатью с полтиной такие мне не попадались. В одной — мое жалованье почти за полгода, а вся пачка, выходит, за полвека вперед. А пачек здесь… Одна, две, три, четыре. Плюс пара пачек красных тридцаток, еще червонцы. В первом приближении больше пятидесяти тысяч. Кажется, я и здесь становлюсь состоятельным человеком.
Деньги всех проблем не решают, но помочь выжить могут. Деньги — это еда, это одежда, новые документы, наконец. Стоп. В нижнем отделении стального ящика стоит объемистый кожаный портфель. Пустой. Пока так везет — надо прорываться отсюда. Решительно сгреб все деньги в портфель. Это что? Какие-то пустые бланки, но уже с подписью и печатью, беру. Папки. На одной из них я заметил свою фамилию, открыл. Е-мое! Да это же мое дело! И паспорт мой здесь, и водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины, талон техосмотра, ключи от машины, от квартиры, от гаража, деньги 1997 года. Все здесь! Протоколы наших бесед с полковником, еще бумаги. А это что? Красноармейская книжка без фотографии, зато с моей фамилией. Сунул папку в портфель. Туда же запихал ноутбук. Портфель закрылся с трудом. Тяжелый, зараза! Как бы ручка не оторвалась. Пистолет в правую руку, патрон уже в стволе, предохранитель поднят. Я взялся за ручку двери, ведущей в коридор.
Стоп, в сорок втором году появиться на улице без головного убора все равно, что в наше время без штанов — внимание окружающих гарантировано. Однако ни кепки, ни шляпы мне не попалось, зато конфисковал у прибалта едва начатую пачку сигарет, пригодится в качестве антисобакина. Ну, все, пора. Я осторожно выглянул в коридор. Никого. Осторожно прокрался к входной двери, прислушался, вроде тихо. Толкнул дверь и сделал шаг наружу. На этом шаге мое везение закончилось — к входу направлялся младший мордоворот. На полсекунды мы замерли от неожиданности встречи. Правая рука младшего дернулась к карману шаровар.
— Стой!
Идиот! Ну зачем он за оружие схватился? У меня-то пистолет в руке, патрон дослан и предохранитель поднят. Бах! Бугай с воем покатился по земле пытаясь зажать рану в левом бедре, и напрочь забыв о своем оружии. Надеюсь, бедренную артерию пуля не задела. Однако мне пора, я рванул к забору. Спрятанные мною палки так и лежали на прежнем месте. Подпер ими нижний ряд проволоки и вылез наружу, следом вытащил тяжеленный портфель. По лесу я ломился, как напуганный лось, выскочил на дорогу и побежал в сторону Москвы. Метров через триста остановился, потоптался, сделал шаг на середину грунтовки, затем шаг назад и сиганул через кювет обратно в лес. На беглый взгляд все выглядело так, как будто я остановил машину и уехал на ней, благо свежие следы шин на дороге были.
Присыпав дорожку отхода табаком, выпотрошенным из сигарет прибалта, я направился через лес обратно, надеясь выйти на шоссе с другой стороны леса. По дороге я попытался продумать сложившуюся ситуацию. Из-за выстрела мой побег обнаружили сразу, это минус. Но в погоню, они сразу не пойдут, на объекте их осталось человека три-четыре, и у них на руках двое раненых, оба тяжелые. Значит, свяжутся со своим высоким покровителем. А что сможет предпринять тот? Лес здешний невелик, но полтора-два десятка квадратных километров занимает, а также имеет выход к нескольким населенным пунктам. Качественно прочесать такую местность — одного полка мало, да и не будут они войсковую операцию проводить, слишком многих придется задействовать и ставить в известность. Значит, пришлют на объект группу с розыскной собакой. Откуда приедет группа? С Лубянки? Далеко и долго, опять же начнут задавать неудобные вопросы. Могут прислать из местной милиции, это быстрее, и любопытство милиционеров проще прикрыть. Будем надеяться, что местная собачка окажется не таким профессионалом, как ее лубянская коллега.
Мне показалось, что я услышал шум мотора. Розыскники приехали? Нет, слишком рано. Скорее, раненых в больницу повезли на эмке. Минут через двадцать впереди, среди веток, наметился просвет. Проскочив через дорогу, я опять углубился в лес и через некоторое время вышел к реке. На берегу я немного отдохнул, заодно разобрал ноутбук, разбил об дерево остатки и выбросил их в реку. Таскать его с собой ни к чему, вид у него уж очень нездешний, да и тяжеленный, зараза. Надорвав пачку рублей, переложил несколько банкнот в карман. Попытался куда-нибудь пристроить пистолет. Вот для чего не предназначен «парабеллум», так это для скрытого ношения. Тяжеленная железяка оттягивала карманы, выдавая свое присутствие. Попытка пристроить его за поясом также не принесла успеха — то ствол торчит, то рукоятка. В конце концов, сунул его в портфель вместо ноутбука.
Еще через пару часов я вышел к большому поселку. Судя по свисткам паровозов, где-то здесь была железнодорожная станция. Я решительно направился к центру. Там я и отыскал то, что мне нужно — одноэтажное здание с большой надписью «ПРОМТОВАРЫ».
— Одежда по карточкам.
Отстояв короткую очередь, я удостоился внимания продавщицы в отделе готовой одежды.
— Здравствуйте. А шляпы тоже по карточкам? Мою ветер унес.
— Размер?
— Пятьдесят восьмой.
Порывшись в стопке шляп, продавщица протянула мне серую, из мягкого фетра, обвитую лентой.
— Зеркало там.
По размеру шляпа подошла, но вид у меня в ней абсолютно дурацкий. С другой стороны, костюмчик, галстучек, шляпа и объемистый портфель, общий вид малость помятый — типичный командировочный совслужащий. Мне бы рост поменьше, и в толпе я затеряюсь на раз.
— Беру. Сколько стоит?
Продавщица взглянула на бирку.
— Двадцать два тридцать. Касса там.
И я отправился пробивать чек. Выйдя из магазина, я осмотрелся и направил свои стопы в сторону железной дороги. Здесь наверняка ходят пригородные электрички, точнее, пригородные поезда на паровозной тяге.
До станции я не дошел, по дороге попался мне местный рынок, точнее, рыночек. В ближайших к дороге рядах основными товарами были махорка, картошка и соленые огурцы. Стакан махорки стоил десять рублей, во столько же обходился килограмм картошки, соленые огурцы того же веса колхозники продавали за двадцать. Даже не продавали, гораздо чаще просто меняли на вещи. Мне, привыкшему к копеечным ценам военторга, здешние требования показались весьма завышенными, а пачки денег в портфеле сразу упали в цене. И это только осень сорок второго, военная инфляция еще не успела набрать обороты.
Потолкавшись в продовольственных рядах, я добрался до вещевых. Здесь продавцы откровенно скучали, покупателей было мало, да и те больше смотрели и приценивались, чем действительно хоть что-нибудь брали. Моя начальственно-командировочная фигура привлекла внимание, продавцы носом почуяли возможную прибыль, но меня их тряпки не интересовали. Я подкатил к небритому дядьке на костылях, примостившемуся у самого края рядов. Перед дядькой лежала далеко не новая гимнастерка с черными петлицами и перекрещенными «мослами».
— Твоя?
— Моя.
— Продаешь?
— Не. Так сижу.
— Сколько?
— На красненькой сойдемся. А тебе-то зачем? Да и размер не твой.
Дядька был действительно помельче меня, но не сильно.
— Ничего, должна налезть. Значит, тридцать?
Дядька кивнул. Красная купюра исчезла с прилавка в мгновение ока, видимо, я переплатил. С другой стороны, зачем мне три стакана махорки? Я же не курю.
— Слушай, дядя, ты не знаешь, где можно комнату снять?
— Так у меня можно, я один живу.
— А жена?
— Да кому я с одной ногой нужен.
Да, в сорок втором бабы еще могли разбрасываться мужиками, пусть даже и одноногими. Через пару лет в дефиците будут всякие: кривые, однорукие, одноногие.
— Цена вопроса?
— Так это, — замялся дядька, — мне много не надо, может, бутылочку возьмешь?
Водки у продавцов я не видел, но из-под полы ею наверняка торговали, надо только знать к кому подойти.
— Сам возьми. Деньги я дам. Сколько надо?
— Три сотни.
Однако! И это притом, что государственная цена пол-литровой бутылки всего одиннадцать сорок. Прихватив три серо-голубых бумажки, дядька резво заскакал вглубь рынка. Вернулся он заметно повеселевшим минут через пять, я уже начал думать, что дядька просто слинял, но тут он прискакал. Кроме поллитры у него был небольшой пакет из газеты.
— Пошли. Гуляем сегодня!
— Далеко идти?
— Да нет, совсем рядом.
Мы выбрались с рынка и пошли по той же улице, которая привела меня сюда.
— Тебя как зовут?
— Колян.
Я тоже представился.
— Где же ты ногу оставил, Николай?
Дядька сразу помрачнел.
— Под Ростовом. Весной еще.
— Дивизионная? Полковая?
— Пэтэо. Позицию нашу засекли и минометами… Ну вот и пришли.
Дядька направился к подъезду двухэтажного деревянного дома, похоже, еще дореволюционной постройки.
Жил Николай в небольшой комнате большой коммунальной квартиры. Комната была почти пустой, все, что представляло хоть какую-нибудь ценность, было продано или обменено на водку. Наше появление было встречено соседями в духе «опять привел неизвестно кого». Дядя Коля огрызнулся, и мы убрались в его комнатушку. Хотя какой он дядя, ему еще и тридцати нет, а выглядит лет на двадцать старше. Одинокий инвалид попросту спивался и спился бы окончательно, если бы не дороговизна водки и почти полное отсутствие денег. На вопрос о размере пенсии он только обреченно махнул рукой.
Сейчас Николай храпел на старом, протертом до дыр диване. Я только обозначил свое участие, и почти все содержимое бутылки досталось ему. Закусывали солеными огурцами, принесенными в пакете из старой газеты. Убедившись, что хозяин на некоторое время полностью отключился от проблем этого мира, я решил разобрать содержимое портфеля.
Первым делом достал «парабеллум», нехорошо носить взведенный пистолет, пусть и поставленный на предохранитель. На надежность люгеровского предохранителя никто не жаловался, но боевая пружина устает. Сначала вытащил магазин. Кляк-кланц, и по полу покатился бочкообразный золотистый патрон. Клик — щелкнул ударник. Подобрал с пола патрон и попытался вставить его обратно в магазин. Хренасе пружинка! Пришлось приложить нешуточное усилие, прежде чем патрон встал на место. Один, два, три… Ладно, чего их считать, и так ясно, что осталось семь.
Закончив с пистолетом, я начал разбирать бумаги в свете и без того слабенькой лампочки, да еще и горевшей в полнакала. Напряжение у них тут ни к черту, но хорошо, что вообще есть. Все вещи и документы, относящиеся к двадцать первому веку, сразу отложил в сторону — в ближайшее время они мне вряд ли понадобятся.
Оставшиеся документы заинтересовали меня сильнее. Оказалось, что я стал обладателем нескольких незаполненных бланков командирских удостоверений и красноармейских книжек, зато уже с поставленными печатями и штампами воинских частей. Думаю что бланки подлинные, либо изготовлены с учетом достижений полиграфии двадцать первого века. Так что без тщательной экспертизы уличить меня будет невозможно. Жаль, что ни одного гражданского паспорта мне не досталось. А может, это и к лучшему — подделать записи в паспорте намного труднее, чем в красноармейской книжке. Поэтому придется мне опять форму одевать, тем более что гимнастерка у меня уже есть, осталось только добыть остальное обмундирование. Что еще? Справка Паричского военкомата о моем призыве в РККА. Отложил в сторону, еще может пригодиться. Оставшиеся бумаги оказались бланками командировочных и отпускных удостоверений, продовольственных аттестатов и справок о ранении. Короче, полный шпионский набор, с которым можно продержаться некоторое время. А мне и не надо держаться долго.
Деньги пусть лежат, а вот папкой со своим делом я занялся. Сверху лежало что-то вроде листка по учету кадров с моей фотографией десятилетней, приблизительно, давности. Не иначе из паспортного стола взяли. Я достал паспорт и сравнил. Ну, точно! Что у нас дальше: родился, учился, работал… Ничего интересного, это я о себе и так знаю. Смятая бумага полетела на пол. Моя здешняя автобиография, собственноручно написанная в запасном полку, видимо, вытащили из личного дела. На пол. Ого, а это что? Характеристика, написанная командиром батареи старшим лейтенантом Филаткиным. Так, так, интересно. Что тут у нас: «образование…, в РККА с…». Не то, а вот: «В исполнении служебных обязанностей настойчив, энергичен, инициативен. Требователен к себе и своим подчиненным. Дисциплинирован». И дальше: «Политически грамотный, морально устойчив». Ну, еще бы! А вот и вывод: «занимаемой должности соответствует». Короче, сразу орден с закруткой на спине. Характеристика полетела на пол к остальным бумагам.
А вот и то, с чего все началось — запрос особиста из запасного полка Брянского фронта. У-у-у, сволочь! Я выместил свою злобу на ни в чем не повинной бумажке. Следующий лист тоже не порадовал. Первое, что бросилось в глаза — резолюция в правом верхнем углу, написанная косым малоразборчивым почерком. Напряг зрение. Что-то вроде: малоконкретно, поручить агенту собрать дополнительный материал и подпись «нач. особ. отд. л-т ГБ» фамилию хрен разберешь, то ли Костылев, то ли Кошелев. Сама бумага являлась рапортом младшего сержанта медицинской службы Вороновой О.Л. Вот сучка! Некоторые мои промахи, оговорки и незнание реалий этой жизни мужики списывали на старорежимное интеллигентское воспитание, а эта стерва прозрачно намекнула на мое возможное эмигрантское прошлое и шпионское настоящее. А я-то считал, что уже пообтерся и от местных жителей ничем не отличаюсь. Фактов у нее, конечно, не было, поэтому особист и не стал сразу меры принимать, а там и фрицы подоспели, всем не до меня стало.
Дальше пошли ответы на запросы еще одного лейтенанта, на этот раз из ГУГБ. «Не был…, не зарегистрирован…, не значился…, не числился», короче, не существовал. Дальше пошли записи, протоколами их назвать нельзя, наших бесед с полковником, тоже ничего интересного. Куча бумаг на полу быстро росла, надо было принимать какие-то меры. Осмотрев комнату дяди Коли, я обнаружил дверцу печной топки прямо в стене. В топке оставалась зола, видимо, еще с весны. Бумаги с пола запихал в печку, а спичек-то у меня и нет. Надо было прихватить зажигалку у прибалта, да не подумал вовремя. А ведь Николай тоже курит. Беглый обыск карманов спящего хозяина принес зажигалку, сделанную из винтовочной гильзы. Остатков паров бензина хватило на то, чтобы сероватая канцелярская бумага занялась язычками желтого пламени. Однако весь дым полез обратно в комнату. Торопливо захлопнул топку и начал искать заслонку печной трубы, та нашлась под самым потолком. Через несколько минут пламя жадно пожирало подсовываемые ему листы. Минут через двадцать все усилия местных сыщиков и межвременных засланцев вылетели в трубу. То, что осталось, я убрал обратно в изрядно похудевший портфель. Однако и самому пора на боковую.
Утром Николай мучался от похмелья. Еще бы! Считай, целую поллитру в одну харю выпил! Поскольку я решил задержаться у него на несколько дней — пусть утихнет первый ажиотаж моих поисков и искатели решат, что субъект проскочил мимо их раскинутых сетей, пришлось бежать за лекарством для больного.
— На базаре найди Юрчика, — простонал дядя Коля, — скажи, для меня, он подешевле продаст.
Портфель я прихватил с собой, не дай бог, хозяин из чистого любопытства сунет в него нос. Для начала я хотел посмотреть обстановку на станции, но меня спугнул шлявшийся по перрону милиционер, пришлось сделать вид, что я просто мимо проходил и отступить обратно к рынку. Юрчика я нашел быстро — буквально первый же продавец, к которому я обратился, указал мне на ничем не приметного малорослого типа, торчавшего за прилавком, с которого он стаканами продавал махорку. Не случись второй революции, он бы наверняка был мелким лавочником, но и в Советском союзе нашел себе занятие по душе, только масштаб был еще меньше.
— Здравствуй, Юрчик. Привет тебе от дяди Коли.
— От какого еще дяди? — насторожился спекулянт.
— От Николая, вчера вон за тем прилавком гимнастерку продавал.
— А-а, от Коляна! Ну так бы сразу и говорил! А сам-то он где?
— Болеет. У тебя же небось вчера брал. Сегодня лекарство требуется.
— Понятно, — ухмыльнулся Юрчик. — Поллитра?
— Не, это он вечером опять будет пьяный, а завтра утром — больной. Чекушку давай.
Пятнадцать червонцев исчезли в кармане продавца, а бутылочка, извлеченная из-под прилавка, перекочевала ко мне в портфель.
— Слушай, Юрчик, а базар у вас всегда такой мелкий?
— По субботам побольше народа бывает, — ответил спекулянт и понизил голос, — а тебе продать что-нибудь надо или достать?
— Да ничего особенного, сапоги нужны приличные, кожаные.
Юрчик перегнулся через прилавок, оценивая размер моей обуви.
— Трудно будет. Такие здоровые редко бывают.
— А ты постарайся, в накладе не останешься. Если что-то будет, я у Коляна квартирую.
— Ну, лады.
На этом мы расстались с местным олигархом. Я еще полчаса побродил по рынку, купил командирский ремень со звездой. На обратном пути зашел в промтоварный магазин и купил две ручки с набором перьев разных номеров и две бутылки с чернилами: синими и фиолетовыми.
Лекарству Колян обрадовался, хотел выдуть всю чекушку разом, но я ограничил его аппетит третью граненого стакана. Похмелившись, он «сгонял» отоварил продовольственные карточки, и мы перекусили прямо на коммунальной кухне. А потом Николай опять прежнюю песню завел.
— Ну дай чекушку, не обижай инвалида.
Давать очень не хотелось, больно смотреть, как человек спивается, но уж очень мне нужно было в его документы взглянуть. Скрепя сердце отдал. Когда он дошел до нужной кондиции, я задал интересующий меня вопрос.
— Коль, а документы у тебя есть?
— Есть, как не быть.
— А где?
— Там.
Николай махнул в сторону шкафа, который по причине больших размеров и соответствующей массы не мог быть вытащен из комнаты и пропит. На верхней полке нашлась чистая тряпка, в которую были завернуты паспорт, военный и профсоюзный билеты, а также проходное свидетельство, вещевой и продовольственный аттестаты, справка о ранении. Поразило низкое качество полиграфии и небрежность заполнения документов. Во время срочной службы мне один раз пришлось заполнять журнал наработки списываемого бензоагрегата за десять лет. Тогда я подделал почерк и подписи четырех офицеров, отвечавших за него в разное время. Комиссия ничего не заметила, как и отсутствие нагара в выхлопной трубе, и заводскую смазку на двигателе. Теперь у меня экзамен посерьезнее будет.
Начал со справки о ранении, используя справку дяди Коли в качестве образца. На имеющемся у меня бланке стояла печать эвакогоспиталя N1662, знать бы еще, где это. В графе «диагноз ранения» написал коротко — контузия. Так как никаких шрамов на теле у меня не было, только на душе, но их в справке не укажешь. Дату поставил тем днем, когда меня арестовали. На месте подписи начальника госпиталя поставил размашистую закорючку. Потом сменил ручку, чернила, почерк и взялся за аттестаты. Проходное свидетельство меня не заинтересовало, а с отпускным билетом пришлось импровизировать. Еще раз сменил перо и чернила. Выписал себе билет в Шиловский районный военкомат Рязанской области. Посмотрел, сравнил с Колиными — что-то не то. Сложил, чуть помял — все равно не то. Надо будет несколько дней потаскать их в кармане, чтобы потерлись и обмялись. А в остальном очень даже похоже. Добавил к ним свою красноармейскую книжку. Конечно, серьезной конторе, вроде СМЕРШа, эта липа на один зуб, но для обычного патруля прокатит. По крайней мере, я на это очень надеюсь.
В субботу базар увеличился в размерах и порадовал представленным ассортиментом. Мне удалось купить новые шаровары моего размера и выгоревшую на солнце пилотку со звездой. Отыскал и солдатский сидор, а также массу мелочей, необходимых в повседневном быту, уж с этой стороной жизни я был хорошо знаком. На все про все потратил почти три сотни. Единственное, чего найти не удалось, так это сапоги. А куда можно идти без сапог? Юрчик, на которого я возлагал большие надежды, только руками развел.
— Нет ничего. Размер у тебя уж больно здоровый.
Увидев мою расстроенную морду, смог только посоветовать.
— Иди по той улице. Через два квартала увидишь будку сапожника. Не говори, что я послал, мы с ним в контрах, но может что-нибудь и найдет.
Забыв поблагодарить торговца, я помчался в указанном им направлении. Сапожник призыву явно не подлежал — возраст у него был вполне уважаемый. Когда моя фигура нависла над ним, он даже не поднял глаз. Не торопясь он приколачивал накат на ботинки явно военного происхождения. Я деликатно покашлял — никакой реакции, пришлось ждать, пока он закончит. Наконец, дед закончил и обратил на меня свое внимание.
— Что надо?
— Сапоги.
Дед оценил размер моей лапы.
— Только на заказ, материал — твой.
Дело зашло в тупик. Конечно, можно рискнуть и поехать в гражданке, имея в качестве документов только «парабеллум», но боюсь, что так я далеко не уеду, да и патронов осталось всего семь штук. А ехать в военной форме и без сапог было немыслимо.
— Слушай, дед, поищи какие-нибудь. Очень надо.
— Очень надо, говоришь, — дед исчез в своей будке, — ну, тогда держи, внучек.
К моим ногам шлепнулся сначала один сапог, чуть спустя — второй. Я поднял оба и критически их осмотрел. На ногу они, конечно, налезут, но в остальном…
— Да они же каши просят!
— Не хочешь — не бери. Сам взял только ради голенищ. А подметки я тебе пришью, но без гарантии.
Пришлось согласиться в надежде, что доберусь до мест с более широким размерным рядом обуви и там подберу себе другие.
— Завтра приходи.
И дед начал надевать на «лапу» хорошие хромовые сапоги, вот только размер у них был сорок второй, не больше.
Ранним утром в понедельник я выскользнул из комнатушки дяди Коли, давшей мне приют на эти дни, уже в новом обличии — сержанта зенитного артиллерийского полка, находящегося в отпуске по ранению. Правда, треугольнички в петлицы я не нашел, зато документы у меня были почти настоящие, а красноармейская книжка так и совсем подлинная. Смущала туго натянутая на плечи и живот, явно с чужого плеча, гимнастерка да сапоги, которые могли развалиться при малейшем зацепе об какое-нибудь препятствие. Все документы и ключи, относящиеся к следующему веку, я еще вчера закопал в ближайшем лесу под приметным деревом. Не знаю, доведется ли еще ими воспользоваться, но с помощью стеклянной банки и куска газоновской камеры я соорудил вполне герметичный контейнер. По крайней мере, несколько лет в условиях полной гидроизоляции и небольших перепадов температуры они пролежат. Я даже батарейки из брелока сигнализации вынул.
На станции купил билет на первый поезд в Москву и, смешавшись с толпой пассажиров, прошел на платформу. Дежуривший на ней милиционер никакого интереса к пассажирам не проявил. И ко мне в том числе. Поезд подошел минуты через три, и я нырнул в вагон, заполненный жителями Подмосковья, спешащими в столицу к началу рабочего дня. Место мне досталось только в тамбуре. Сидор пришлось снять и держать в руках перед собой — у меня там много ценных вещей, для чужих глаз не предназначенных.
Поезд останавливался на пригородных платформах, в вагон вливались новые люди, становилось все теснее. Пару раз мне наступили на ногу, раза три пихнули локтем в бок, дышать становилось все труднее, воздух, врывавшийся в тамбур, был с изрядной примесью паровозного дыма. Мои мучения закончились приблизительно через час — зашипев контрпаром паровоза, поезд, лязгая буферами, остановился у платформы Павелецкого вокзала. Толпа вынесла меня из вагона, дотащила до здания вокзала и выплюнула, устремившись к выходам в город. А я остался, мой правый сапог не выдержал перегрузок в толпе и разошелся по шву у подметки. Не зря дед-сапожник отказался давать гарантию на свою работу — старые, стоптанные сапоги дышали на ладан.
— Что, авария?
Пока я оценивал размер катастрофы, не заметил, как ко мне подошел уже пожилой милиционер в синей гимнастерке и синих же галифе с голубыми лампасами.
— Да-а, — протянул я, лихорадочно соображая, как построить разговор дальше, — приехал, называется.
— А далеко тебе?
— Не близко. В Рязанскую область, в отпуске я по ранению, — пояснил я и, предупреждая следующий вопрос, спросил на опережение сам. — А где здесь сапог починить можно?
— Починить? — милиционер сам оценил размер ущерба. — Нет, ремонт тут не поможет. Новые надо искать.
— Да где их найдешь?! — расстроился я. — Слушай, а рынок поблизости есть какой-нибудь?
— Есть, Даниловский.
— А добраться туда как?
— Добраться-то легко, только цены там…
— Ничего, авось какую-нибудь рухлядь сторгую.
— Ну-ну, — усмехнулся милиционер, — тогда слушай. С площади повернешь налево, дойдешь по Садовому до Пятницкой, там метров триста-четыреста. Сядешь на третий номер трамвая, а в трамвае спросишь у кондуктора, где выходить.
— Спасибо, браток, — я подхватил свой мешок, намереваясь направиться к выходу.
— Да не спеши ты, рынок еще закрыт. Часа через три ступай, а пока, вон, в зале ожидания посиди, утром ваши армейские патрули больно зверствуют, в такой форме враз в комендатуру загребут, а днем их поменьше будет.
— Спасибо за совет, — еще раз поблагодарил я и захромал к входу в вокзал.
В зале ожидания я пристроился к большой компании юных сержантов с голубыми петлицами. Как я понял из их разговоров — недавний выпуск авиационного училища, будущие пилоты «черной смерти» или, проще говоря, «горбатых». Вид у всех был если не боевой, то, по крайней мере, задиристый, но у многих уж больно молодой, никак не тянули они на восемнадцать лет. А может, мне просто показалось, привык к акселератам конца двадцатого века, некоторые, помню, уже в четырнадцать бриться начинали.
Но тут мое внимание привлек рассказ одного из сержантов, невысокого, но крепенького паренька в лихо сдвинутой на бок пилотке с голубым кантом.
— Мы на спортивной площадке физо занимались всем отделением. Кто солнышко крутит, кто на брусьях, кто на кольцах. И тут подходит мужик в кожаной куртке, запрыгивает на турник и пытается выход силой сделать. Но ничего у него не получается, так он на перекладине и повис. Ну Мишка подходит к нему, хлопает так по плечу и говорит: «слазь, корова».
— А мужик чего? — перебил рассказчика кто-то из самых нетерпеливых.
— Спрыгнул с турника, зыркнул на нас и ушел, а мы ржем! Вот, а вечером собирают нас всем училищем в актовом зале и объявляют: «Сейчас, товарищи, перед вами выступит Герой Советского союза, прославленный штурман, генерал-майор авиации Александр Васильевич Беляков». И выходит на сцену тот самый мужик в кожаной куртке. Все аплодируют, а у нас душа в пятках. Ведь при входе в актовый зал на мраморных досках три биографии выбиты: Чкалов, Байдуков и Беляков.
— А дальше что?
— Да ничего, после выступления всем отделением извиняться ходили, но он мужик не злой оказался — простил. Так что нас никак не наказали.
Разговор пилотов перескочил на другие темы, и я отвлекся, погрузившись в собственные мысли. К действительности меня вернул тот самый рассказчик, извинявшийся перед Беляковым.
— Слышь, папаша, эй, артиллерия.
— А? Что?
— Я говорю, табачком не богат, папаша?
— Нет, не курю, да и тебе, сынок, не советую, — еще раз вглядевшись в его лицо, я не удержался и спросил. — А лет-то тебе сколько? Восемнадцать-то хоть есть?
— На днях будет.
— А как же ты в армию попал? Доброволец?
— Да не совсем. Призвали нас, — летчик продолжил значительно тише, — а потом собрали в училище и сказали: «Пишите заявления, что вы добровольцы», ну мы и написали.
Смутная тревога тронула мое сердце, где-то я уже слышал эту историю, да и про Белякова, вроде, тоже. Я еще раз пристально посмотрел на летчика. Да нет, не может быть, мистика какая-то. Но тут его окликнули.
— Нос, пошли покурим, я махорки достал!
Нос! Точно Нос! Носов его фамилия! Знакомый отца, только было ему тогда уже около шестидесяти. Ничего не подозревающий сержант уже направился к выходу, а ведь я многое мог ему рассказать. Он еще успеет получить младшего лейтенанта, но приблизительно через полгода его штурмовик будет сбит. Стрелок погибнет, а сам он попадет в плен. Потом бежит из лагеря и до сорок четвертого будет командовать диверсионной группой в белорусской партизанской бригаде. Я даже помню численность его группы — шестьдесят четыре человека, потому что он часто рассказывал, как в праздники получал тридцать два литра самогона — по поллитра на душу. После соединения бригады с частями Красной армии он снова сядет за штурвал Ила, будет еще неоднократно сбит, домой на него придет пять похоронок, но войну он закончит в Берлине. А умрет в середине девяностых, пять раз обманув смерть за три с половиной военных года.
Я поднялся, забросил сидор на плечо и пошкандыбал к выходу — уж больно велико было искушение. Но я ничего ему не скажу, у него и так все будет хорошо. Сколько же у него будет внуков? Четыре? Нет, кажется, три.
Осмотревшись на площади, я влился в поток москвичей, спешащих по своим делам. Минут через десять добрался до пересекающей Садовое кольцо Пятницкой улицы, еще минут через двадцать пришел красно-желтый вагон с серой крышей и тремя дверями. Странно, мне казалось, что до войны все трамваи были с двумя дверями: в заднюю пассажиры только входили, из передней выходили. Но были, оказывается, и такие. В трамвай я влез, держа в руках сидор, с традиционным вопросом приезжего в незнакомый город.
— А сколько стоит проезд?
Плата была за одну остановку десять копеек и пять копеек дополнительно за каждый следующий участок. Но для каждого маршрута была установлена фиксированная плата за проезд всей линии. Маршрут N 3, один из самых протяженных, был, конечно, и самым дорогостоящим — пятьдесят пять копеек.
— А до Даниловского рынка, сколько будет?
— Двадцать пять.
Получив мелочь, кондукторша оторвала билет от рулонов, висевших у нее на ремне коричневой сумки. Переведя стоимость поездки в количество остановок, я продвинулся ближе к середине вагона. Заскрежетали, закрывающиеся двери, вагон тронулся. На ходу трамвай сильно дребезжал и раскачивался, похоже, дефекты конструкции усугубились недостатками военной эксплуатации, но все-таки он ехал. Еще минут через десять мы доползли до нужной остановки, и я вновь оказался на улице.
Вокзальный милиционер был прав — рановато приехал, торговля еще только разворачивалась. Впрочем, торопиться было некуда, и я отправился на рынок. Вскоре я, как показалось, уловил ритм движения этого, беспорядочного, на первый взгляд, сборища людей. Они четко делились на три категории. Первая, самая большая — покупатели. Эти ходили, толкались, приценивались, короче, постоянно были в движении и что-то делали. Вторая категория — продавцы. Эти никуда не ходили. Они стояли за прилавками, торговались, переговаривались друг с другом, в общем, тоже были при деле. Третья категория была представлена мужчинами, большинство из которых явно было призывного возраста. Эти ничего не продавали и не покупали, даже не приценивались, они наблюдали. Стояли, смотрели, потом вдруг без видимой причины срывались с места и исчезали в толпе, чтобы снова возникнуть в другом месте и так же бесцельно стоять, наблюдая за окружающей толкотней. Видимо, это был мелкоуголовный криминалитет, пасущийся при любом рынке в любое время.
Но это даже не рынок, на рынке все-таки торгуют, а здесь, по большей части, проходил натуральный обмен. Меняли вещи на еду и еду на водку, спичечный коробок махорки стоил пять рублей, и это при том, что средняя зарплата не превышала пятисот. Поразили выставленные на продажу огромные пятнадцатилитровые бутыли с чернилами. Неужели их кто-то покупает?
Понаблюдав за продавцами, я присмотрел себе мелкого барыгу, явно краденным торгует, но такой в МУР стучать не побежит, а если и побежит, то не сразу.
— Добрый день.
Барыга прицельным взглядом просканировал мою тушку.
— А с чего ты взял, что он добрый?
— С того, что если договоримся, то будет добрым.
— Чего надо? — заинтересовался торгаш.
— Для начала, шмотку толкнуть.
Я вытащил из мешка свой костюм. Барыга профессионально рассмотрел швы, пощупал ткань.
— Не наш.
— Английский.
Вообще-то, на самом деле, финский, но барыге это знать ни к чему, а все ярлычки «made in Finland» я предусмотрительно спорол.
— Новый почти, бери — не пожалеешь.
Деловой молча продолжил обследование брюк. Наконец он вынес вердикт.
— Пятьсот.
— Давай назад, я пошел.
Отдавать вещь ему явно не хотелось.
— Размер неходовой. Шестьсот.
— Косарь, ниже не опущусь, новый же почти.
— Семьсот, неизвестно, где ты его взял.
— Девятьсот, мой костюм, если хочешь — надену.
— Восемьсот, последнее слово!
— Договорились!
Судя по довольной ухмылке, которую не смог сдержать торгаш, меня опять здорово объегорили. Однако, спрятав костюм, деньги отдавать он не спешил.
— А что для конца?
— Сапоги нужны хорошие, кожаные, командирские. С размером проблема.
Барыга прикинул мой размер и сразу зарядил.
— Кусок.
— Может, сначала товар посмотрим?
— Посмотрим, — засуетился барыга, — обязательно посмотрим. А чем платить будешь?
— А что сегодня в ходу?
— Иголки для швейных машин, стекла для керосиновых ламп, кремни для зажигалок, спирт, — и понизив голос, — если есть маслята — возьму.
— Грибы-то тебе зачем?
— Грибы?! Ну ты даешь, деревня! Все, все, молчу. Пошли товар посмотрим.
Сдуру я поперся с ним, как бычок на бойню. Подозрения у меня возникли, только когда мы вышли за территорию рынка. Барыга направился к какой-то подворотне, а я чуть приотстал и, скинув с плеча мешок, начал распутывать узел. Подворотня оказалась тупиком, но это было заметно не сразу, а только когда углубишься шагов на десять. Сзади возникли две тени, но моя правая рука уже была внутри мешка. Зашедшие сзади притормозили, рука в мешке могла означать все, что угодно, от солдатской финки до трофейного «парабеллума» или заначенной от начальства гранаты. Я просто разжал пальцы, мешок упал на землю, а пистолет остался в руке. Кляк-кланц. Едва затихло второе «кланц», как в подворотне мы остались вдвоем.
— Стоять!
Барыга моментально влип спиной в стену, уставившись на черный зрачок пистолетного дула.
— Ты чо, козел, рамсы попутал?
— Ошибочка вышла, кореш. Кто ж знал, что ты фартовый?
— Гони лавэ.
— Да ты чо, в натуре?
— В натуре — кум в прокуратуре. Лавэ гони, или совсем зажмуриться решил?
Барыга трясущимися руками начал тащить из карманов банкноты.
— Давай! — торгаш, не спуская глаз с оружия, протянул деньги. — Пшел!
Повинуясь движению ствола, барыга порскнул к выходу. Я запихал деньги в карман, поставил пистолет на предохранитель и сунул его в правый карман шаровар. Подхватил мешок и, завязывая его на ходу, захромал к выходу. Выйдя, направился налево в сторону Садового кольца, но пройти успел всего шагов пять — по противоположной стороне улицы шел патруль. Первая мысль была — метнуться назад и переждать в подворотне, которую я только что покинул, но было уже поздно — меня заметили, и патруль двинулся мне навстречу. А бегать я сейчас не могу — с мешком, да еще и в разорванном сапоге.
— Ваши документы!
— П-пожалуйста, товарищ лейтенант.
Я подпустил легкое заикание, отрабатывая диагноз, указанный в справке. Ох, не переиграть бы!
— Почему заикаетесь?
— П-последствия контузии, в справке н-написано.
Лейтенант пристально разглядывал мою справку о ранении. Совсем еще молодой, видно, только из училища. Кроме него в патруле еще трое курсантов. Один моего роста, второй чуть ниже, третий совсем коротышка. За плечами СВТ с примкнутым штыком, в петлицах буквы «МКПУ». Да это же кремлевские курсанты! Лейтенант перешел к отпускному билету.
— Почему не по форме одеты, товарищ сержант?
— У к-каптерщика в госпитале д-другого ничего не б-было.
Лицо лейтенанта отражало напряженную работу мысли. Если сейчас решит тащить меня в комендатуру, то прыгаю вправо и назад выхватываю пистолет, одновременно снимая его с предохранителя. Стоят они компактной группой, у лейтенанта ТТ в кобуре, курсанты пока со своими винтовками развернуться… Ну не стрелять же в них, в конце концов! С другой стороны, привести в комендатуру контуженного воина, пусть и не по форме одетого, тоже не айс. Восполнять недостатки придется за счет запасов комендатуры, за что местные комендачи лейтенанту спасибо не скажут. Да и возиться с контуженным тоже никому не захочется.
— Приведите в порядок форму одежды.
Лейтенант протянул мне книжку с вложенными в нее справкой и отпускным.
— Д-да где же я с-сапоги и п-петлицы возьму?
Лейтенант посмотрел на меня, как на всю голову контуженного.
— В военторге.
Я еле догадался вскинуть руку к виску, отдавая честь уходящему патрулю.
При каждом шаге пистолет чувствительно бил по бедру и у меня создавалось впечатление, что все встречные подозрительно косятся на мой правый карман. Казалось, «парабеллум» вот-вот прожжет хэбэшку и с лязгом грохнется на тротуар. Убрать его в сидор не было никакой возможности — кругом люди. На обратном пути мне подсказали сесть на шестнадцатый маршрут трамвая, который должен был довезти меня практически до центрального магазина военторга. К счастью, нужный трамвай появился быстро. На этот раз вагон был обычный, с двумя дверями. Я залез в заднюю дверь, отдал кондукторше полтинник, получил билет, прошел в середину вагона и постарался встать так, чтобы никто не задел случайно мой правый бок. Ехать мне было долго.
Вагон дребезжал и вибрировал, раскачивался на поворотах, в электроприводе периодически появлялись какие-то резонансы. Люди чинно продвигались вперед, к выходу, кондукторша громко собирала плату за проезд. В трамвае мне не грозила встреча с милицией или патрулем. На некоторое время я мог почувствовать себя в безопасности, только оружие в правом кармане шаровар не давало расслабиться.
— Извините, товарищ, военторг на какой остановке выходить?
— Через одну, — не поворачивая головы, ответил совслужащий в коричневой шляпе.
— Спасибо.
Я продвинулся еще чуть вперед и, когда в окне вагона показалось пятиэтажное здание в стиле модерн с витринами на первом этаже и высоченными окнами со второго по четвертый, сошел с дребезжащей площадки на твердую землю. Пройдя через тяжелые деревянные двери, вошел в большой зал, вытянувшийся вверх сразу на три этажа. Народа в здании было немного, по большей части, естественно, военные, но попадались и плащи с пиджаками. Поначалу я решил, что причиной малолюдности является раннее время, но уже позже понял — цены в универмаге были отсекающими. В карманах у меня было всего две сотни плюс сколько-то мне сунул барыга в подворотне. Хватит или нет? Я уже представил, как перед кассой буду тащить из сидора денежные пачки. Интересно, кого вызовут — милицию или комендантский патруль?
— Гражданочка, где здесь сапоги можно купить?
— Там.
Стоявшая за прилавком дородная девица лет двадцати пяти махнула рукой вглубь зала и поджала губки бантиком — догадываюсь, чем я ей не понравился. С продавцом в отделе обуви мне повезло больше — он оказался мужчиной. Посмотрел на мой раззявивший пасть правый сапог и сказал.
— Что-нибудь подходящего размера мы найдем, но цены у нас…
— Найдите, я вас очень прошу, найдите, а с деньгами решим.
Пока продавец ходил на склад, я плюхнулся на табуретку, предназначенную для примеряющих обувь. Сидор поставил рядом, ослабил узел и, наблюдая за покупателями и продавцами, начал выбирать момент, чтобы переложить пистолет в мешок, благо видеокамер еще можно не опасаться. Вроде, подходящий момент настал, я уже сунул руку в карман, но тут вернулся продавец с парой яловых сапог гигантского размера. Хорошо хоть, новые портянки я намотал сегодня утром, а то запашок бы сейчас пошел…
— Кажется, даже немного великоваты.
Я встал осторожно сделал пару шагов, прислушиваясь к ощущениям от новой обуви.
— Берите, — посоветовал продавец, — зима скоро, толстые портянки намотаете или на шерстяной носок. Да и нет других.
— Хорошо, возьму. Сколько?
— Четыреста.
И это, напоминаю, при средней зарплате пятьсот. Но и не рыночная тысяча. Я полез в левый карман. Хренасе! Барыга мне сунул почти две тысячи, а я-то хотел с него свои восемь сотен стрясти. Но не искать же его, чтобы сдачу отдать. Я подхватил с пола сидор.
— Где здесь у вас касса?
— Туда. А со старыми что делать?
— Я могу попросить вас, их выбросить?
— Конечно. Пойдемте.
Все-таки вежливые люди попадаются и в системе советской торговли. Хотя в центральном универмаге военторга и подбор кадров должен быть соответствующим. Расплатившись, я еще пошлялся по большому магазину. До мола двадцать первого века, конечно, далеко, но по теперешним меркам очень даже прилично. Купил себе новые петлицы и несколько артиллерийских эмблем на лапках, пригодятся. На одном из этажей набрел на продовольственный отдел, но там не было ничего интересного, купил кулек изюма.
Уже почти на выходе мой взгляд упал на висевшую в витрине шинель. Вроде, мой размерчик. Сейчас еще тепло, но через месяц будет середина октября, и температура может запросто упасть ниже нуля, тогда в одной гимнастерочке мне придется кисло. И я подкатил к продавщице с перманентом, обесцвеченным перекисью водорода.
— Это же для старших командиров!
— Так я тоже командир, только младший. У меня и документы есть.
— Да что вы мне тут суете?! Я же сказала — не положено.
Да-а, похоже, насчет отбора вежливых кадров я поторопился.
— Но послушайте…
— Нет, это вы меня послушайте…
В самый разгар нашей дискуссии к нам подкатился седой еврейчик лет шестидесяти.
— Анечка, что за шум?
— Вот он скандалит. Шинель продать требует, а шинель-то командирская.
— Здравствуйте, я администратор, — обратился ко мне подошедший, — сейчас все решим. Анечка, сколько она у нас в витрине висит?
— Года два… Вроде.
— Так и продайте ее товарищу красноармейцу, а то она тут еще два года висеть будет.
Минут через десять я вышел на улицу с новой шинелью и хорошим настроением, даже пистолет в кармане доставлял меньше беспокойства. Сунул в рот несколько изюмин и направился к трамвайной остановке, надо еще как-то добраться до площади трех вокзалов.
Глава 2
Эшелон, лязгая буферами, начал гасить и без того невеликую скорость. В темноте проплыл единственный огонек в окне станционного здания. Шипение контрпара, последний грохот, увязший во тьме ночи, и осталось только негромкое чух-чух, чух-чух, доносящееся от головы состава.
— Прощай, красавица!
Красавица, которая, встав в вагонной двери, перекрывала ее наглухо, молча захлопнула эту самую дверь. Ну да, если бы я был проводником общего вагона товарно-пассажирского поезда Москва-Самара, то тоже, наверно, ненавидел всех пассажиров, поднимающих меня среди ночи ради того, чтобы выйти на каком-нибудь глухом полустанке. Расточаемые мною комплименты отлетели от раздраженной проводницы, как пулеметная очередь от танковой брони, и я остался висеть на узкой грязной лестнице общего вагона. Сколько до земли, в темноте не видно, но прыгать все равно придется. Примерился и… Уй-й-й! Взметнулись полы шинели, платформы как таковой не оказалось, поэтому приземление получилось достаточно жестким. Сидор, утяжеленный пистолетом, пачками денег и двумя бутылками водки, больно стукнул по спине.
Вот и добрался. Точнее, почти добрался — от районного центра до родной деревни Сашки Коновалова еще почти полсотни километров и их тоже предстоит преодолеть. Как преодолеть? Не знаю, надеюсь на какую-нибудь оказию. А пока надо найти место, где можно приклонить голову хотя бы до утра. Я с надеждой посмотрел на единственное освещенное окно. Огонек тусклый и какой-то мерцающий. Явно не электрическая лампочка и даже не керосиновая, скорее, лампион, сделанный из аптечного пузырька. Не очень далеко впереди замигал красный огонек. Паровоз зашипел, дал гудок, лязг буферов прокатился от головы к хвосту поезда, и вагоны начали медленно, но неуклонно набирать скорость. Красные огни последнего вагона уплыли в ночную темень.
— Ой! Напугал!
Я и сам почти испугался, настолько неожиданной была встреча. В руке у женщины был керосиновый фонарь с красным стеклом — это она давала отправление поезду.
— Неужто я такой страшный? Зато добрый.
— Да кто вас в темноте разберет, страшный или добрый. А к нам сюда зачем?
— В отпуск по ранению. Тридцать суток дали на поправку здоровья. А вы дежурная по станции?
— Дежурная, — подтвердила женщина.
— Зал ожидания у вас есть? Мне бы до утра где-нибудь переждать.
— А дальше тебе куда?
Я сказал название Сашкиной деревни.
— Далеко, — посочувствовала дежурная. — Ладно, пошли, у меня в каморке до утра посидишь. Там и теплее, чем в зале, и мне веселее будет.
Мы пришли в небольшой домик. Здесь, в неверном свете лампиона, отбрасывающем резкие тени, я смог ее немного разглядеть: низенькая, полная, навскидку лет сорок пять-пятьдесят, а может, и меньше. Война сильно старит женщин.
— Раздевайся. Сейчас чайку заварим.
Сама она сняла черную железнодорожную шинель и фуражку с, должно быть, красным верхом. Я повесил свою понтовую шинель на крючок рядом с ее шинелью. Затянул ремень и подсел поближе к буржуйке, на которую дежурная поставила закопченный чайник. Кроме печки, в комнатке стояли стол, пара табуретов и топчан, на котором дежурные по станции коротали время в перерывах между приемом и отправкой эшелонов.
— В каких чинах будешь? — поинтересовалась женщина.
— Сержант.
— Артиллерист?
— Зенитчик.
— Ты первый, кто оттуда пришел с руками и ногами. Народу-то много позабирали, а обратно только бумажки похоронные идут, да пара калек вернулась.
— Я тоже временно, через месяц обратно. А твой воюет?
— Нет, слава богу, по возрасту уже не гож. А младшенький на фронте, танкистом воюет. Старшему — бронь железнодорожную дали, сейчас в Рязани паровозы ремонтирует.
Так за разговорами я узнал местные новости, которых было немного. И что до конечной цели моего путешествия добраться будет нелегко. А тут и чайник закипел. Вместо чая заваривали какие-то листья, я так и не понял какие.
— Только сахара совсем нет, — предупредила дежурная.
— Подождите, — подхватился я, — у меня изюм есть.
Я достал из кармана шинели пакетик, купленный еще в Москве. И мы стали пить кипяток с запахом неизвестного мне растения, закусывая его мягким изюмом.
— Сержант, уголечку не принесешь? Мне его, проклятого, тяжело таскать.
Казалось бы безобидная просьба меня насторожила. За время моего отсутствия любопытная баба могла сунуть нос в мой мешок, а там на то, чтобы участковому стукануть, с запасом хватит. Забрать сидор с собой? Еще хуже. У обычного красноармейца ничего ценного быть не может, и причин не выпускать из рук свое имущество тоже нет. Надо придумать какой-то благовидный предлог, чтобы отмазаться от этого почетного задания. А пока потянем время.
— Где уголь-то брать?
— Сбоку от вокзала котельная, возле нее куча лежит.
— Не воруют?
— Не без этого.
Я подошел к мятому ведру и заглянул внутрь. На дне еще оставалась угольная мелочь, почти штыб. Набрал совком и забросил в печку.
— Хватит еще. Вот товарняк на Рязань пойдет, вместе и выйдем.
Сама проболталась, что скоро состав товарный должен пройти. Пока она состав встречать-провожать будет, я угля успею набрать и в каморку вернуться. Посидели еще, поговорили. Женщина время от времени поглядывала на стоящий на столе будильник. Наконец, поднялась.
— Пора.
Я тоже подорвался, как галантный кавалер, подал женщине шинель, натянул свою. Она взяла фонарь, я подхватил ведро с совком. Интересная, кстати, конструкция у этой керосинки. С двух сторон открыто стоят красный и желтый светофильтры, с третьей стороны — зеленый, прикрытый заслонкой, своего рода защита от дурака. С четвертой стороны дверца, через которую внутрь вставляется керосиновая горелка.
— Пошли.
Я галантно пропустил дежурную вперед, рысью рванул к котельной, торопливо нагреб ведро крупнокускового угля. Это когда перейдут на комбайновую добычу угля, он пойдет мелким, такой и по конвейеру транспортировать проще. А пока основным инструментом является отбойный молоток, максимум врубовая машина, и возят его под землей вагонетками, уголь идет крупный. Мало влезло, нагреб мелочи с горкой и рысью обратно. Успел вернуться намного раньше нее, подкинул топливо в печку.
Когда дежурная вернулась, я уже делал вид, что дремал, завалившись прямо на пол, завернувшись в свою щегольскую шинель и подложив под голову сидор. Войдя, женщина задержалась около меня, потом прошла дальше, я еще слышал, как заскрипел топчан, а потом действительно провалился в сон.
— Вставай! Слышь, сержант, вставай.
Дежурная трясла меня за плечо.
— Вставай, скоро сменщица моя придет.
Я разлепил глаза, за окном серел еще не поздний осенний рассвет.
— Встаю, встаю.
От долгого лежания на жестком полу в одной позе тело затекло. Я тяжело поднялся, разминая мышцы.
— Спасибо за ночлег, хозяюшка. А чего сменщицу боишься? Муж ревновать будет?
— Скорее уж отругает за то, что раненого солдатика на улицу выгнала.
— Ну тогда чайком на дорогу напоишь? Изюм у меня еще остался.
Горячая вода, пусть и на пустой желудок, окончательно разбудила. Когда я вышел на небольшую площадь перед вокзалом, было почти светло. Куда идти? Постоял, подумал. Не хотелось задерживаться в поселке надолго. Вряд ли здесь есть воинские части, но райотдел милиции, безусловно, имеется и можно нарваться на бдительного милиционера. Однако голодное урчание в животе решительно опротестовало намерение немедленно двинуться в путь, и я решил задержаться.
В дневном свете поселок оказался совсем не маленьким. Побродив по просыпающимся улицам и порасспросив местных, я понял — удовлетворить мою насущную потребность тут просто негде — не позволяют неразвитость местного сектора общественного питания и товарно-денежных отношений. Проще говоря, на весь райцентр ни одной столовой и рынок только по субботам, а сегодня понедельник — тяжелый день. Хлеб и прочее продовольствие в магазинах только по карточкам, которых у меня не было.
Да и в целом этот поселок, стоящий на одной из основных железных дорог страны, производил тягостное впечатление, была в его облике какая-то безнадега. Вообще, Рязанской области с географией не повезло, в том смысле, что она была достаточно далеко, чтобы не пользоваться благами близости к столице, но недостаточно далеко, чтобы иметь возможность откосить от всех поборов центральной власти. Причем налоги с окрестных населенных пунктов Москва брала не только деньгами, но и людьми. Своего пика этот процесс достиг в девяностые-нулевые. Из всех областных центров, находящихся в трех-шести часах езды по железной дороге, все, кто хоть что-то мог руками или головой, уезжали в Москву. Оставались старики, дети и те, кому в столице ловить нечего. В свою очередь, областные центры тянули людей из районных. А те, естественно, из деревень. Только к тому времени в деревнях народу не так много осталось. Сейчас же этот гигантский насос по выкачиванию жизненных сил только начинал работать, но влияние его уже сказывалось. Плюс война.
Насколько помню, человек может не есть три дня, сил он при этом не теряет. Сейчас, конечно, не июль сорок первого, а конец сентября сорок второго, но пятьдесят километров за два дня я одолеть должен. А по дороге, глядишь, купить что-нибудь получится, тем более что две универсальных валютных единицы у меня есть. Вообще-то я предполагал отметить мой приезд с Сашкиным отцом, но голод не тетка, и я пришел к выводу, что одну из них вполне можно пустить на обмен. Жалко, фляги нет, не догадался купить. Под голодное урчание в животе я зашагал по глинистой грунтовой дороге, ведущей через поля к желто-красному осеннему лесу.
Солнце, иногда пробивающееся сквозь низкие свинцовые облака, подобралось к зениту. По моим прикидкам я уже отмахал километров пятнадцать, но скорость моя понемногу падала. За месяц натертые раньше мозоли успели смягчиться, а тут еще новые сапоги и длительный пеший марш. Пришлось выбрать место почище, снять сапог, размотать портянку и проколоть надувшийся пузырь самой толстой иглой, какая только нашлась за отворотом пилотки. Так я далеко не уйду, попутного транспорта не предвидится, даже неизвестно, сколько до ближайшего жилища. Да-а, ситуация. Но тут судьба улыбнулась мне вместе с осенним солнышком, появившимся в очередном разрыве облаков. До моих ушей донесся скрип тележных колес. Я начал торопливо наматывать портянку, но до появления на дороге гужевого транспорта не успел.
— Добрый день, дед.
— Здорово, служба.
— Подвезешь? А то мой транспорт больше не тянет.
— Что ж ты так?
— Да вот, разнежился в госпитале, отвык.
— Ну залазь.
Я вместе со своим мешком взобрался на деревянный борт, низкорослая лошаденка, понукаемая дедом, дернула телегу, и та заскрипела дальше.
— Далеко путь держишь? — поинтересовался дед.
Я назвал деревню.
— Верст десять не доедем.
— И то дело. А колодец у вас в деревне есть?
— Есть, — ответил дед. — А тебе зачем?
— Может, пустишь воды напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде.
— Х-ха! Ладно, пущу переночевать. А вот скажи мне…
Дед оказался въедливым: интересовался положением на фронте, международными событиями, прогнозами на окончание войны. А мне особенно болтать не стоило, поэтому старался отвечать покороче и не очень определенно. Дед недовольно кряхтел и продолжал расспросы. Так под разговоры, когда уже начало темнеть, добрались до дедовой деревни.
— Давай ужин, старая, — скомандовал дед вышедшей на крыльцо старушке, — гость у нас!
Пока дед распрягал, кормил и поил лошадку, ужин был готов — чугунок с картошкой «в мундире» и домашний хлеб. Мне стало неудобно, и я полез в свой мешок, вытащил одну из двух поллитровок, предназначенных для налаживания контакта с Сашкиным отцом, и выставил ее на стол.
— Казенная!
Дед подхватил бутылку, похлопал по ней рукой и вернул на стол.
— Давай стопки и это…, яишню жарь, раскомандовался обрадованный старик.
И мы пили водку, закусывая ее хлебом и яичницей прямо со сковородки. основательно выпившего деда потянуло на воспоминания о молодсти.
— Я так раньше орел был, ой орел! В самом Питербурхе служил!
— В гвардии? — удивился я.
Роста дед был явно не гвардейского.
— Нет, ростом в гвардию не вышел, — смутился он, но тут же выправился. — Сто сорок пятый пехотный Новочеркасский Императора Александра III полк! Ой, жизнь была, ой жизнь! Их благородие, господин шабс-капитан… Во!
Дед продемонстрировал мне сухонький, но еще крепенький кулачок.
— А как в город выйдешь… И смех, и грех.
Дед пьяненько захихикал.
— Я вот тебе анекдот расскажу. Вышли два солдатика в город, приняли в трактире, как положено. Ну и приперло их по малой нужде. А где? Кругом дома каменные, люди ходят. А один из них совсем неграмотный был, а второй-то грамоту чуть разбирал. Идут они, место ищут. Видят — на доме вывеска «институт». Второй читает «ни ссы тут» и первому говорит «идем дальше, здесь нельзя». Идут, видят другую вывеску «таможня», второй читает «там можня». Ну и справили нужду солдатики-то!
Дед зашелся смехом. Незатейливый, однако, юмор был у предков.
— У этого анекдота продолжение есть.
— Это какое же? — заинтересовался старик.
— А такое. Делают солдатики свое дело. Первый второго и спрашивает: «почему я писаю слышно, а ты писаешь не слышно»? А второй ему и отвечает: «так ты писаешь на панель, а я сзади тебе на шинель»!
— На шинель!
Подвыпивший дед смеялся так, что чуть не свалился с табурета. А откуда я этот анекдот знаю? Дед рассказывал. Живучий оказался анекдот, но в пору всеобщей грамотности уже неактуальный.
— Хватит вам, — вмешалась молчавшая до этого момента хозяйка, — спать пора, ночь на дворе.
Утром я проснулся со страшной головной болью, и погода здесь, похоже, ни при чем. На меня алкоголь вообще плохо действуют, а вчера мы с дедом раздавили поллитру на двоих. Утром наступила жестокая расплата. Пришлось старику отпаивать меня капустным рассолом. Капусту мы съели позже, когда голова немного пришла в норму и начала соображать. В результате я покинул гостеприимный дом не утром, как рассчитывал, а после полудня, когда кукушка в старинных ходиках прокуковала двенадцать раз. Пеший марш по грунтовой дороге пошел на пользу здоровью. Легкий ветерок выдул остатки алкоголя из мозга, и к конечной цели путешествия я пришел два часа спустя прямо как огурчик, такой же зеленый и небритый.
Деревенька была невелика, дорога, по которой я пришел, рассекала ее на две почти равные части. Дома — потемневшие от времени бревенчатые пятистенки, со стороны улицы заборы слеплены из подручных материалов, видно, что живут небогато. А вот людей на улице не наблюдалось. Подойдя ближе, я увидел в одном из дворов бабку, кормившую курей. Я подошел к забору, подождал, пока она закончит свое дело, и только тогда окликнул.
— Бог в помощь, бабушка.
— Ой! Напугал! И тебе не хворать, сынок. Зачем пожаловал?
— Коноваловых ищу. Не подскажешь, бабушка, где их дом?
— А который тебе нужен? Иван или Андрей?
О том, что Коноваловых в деревне может быть несколько, я не подумал, а какое имя у Сашкиного отца, не знал. Пришлось выкручиваться.
— У которого младший сын Сашка сейчас зенитчиком служит.
— А-а-а. Это тебе к Ивану нужно. От меня третий дом налево.
— Спасибо, бабушка.
Я уже сделал пару шагов в указанном направлении, но тут она меня окликнула.
— Постой, сынок.
Я обернулся.
— Так на него это… Похоронка на него пришла.
Казалось, земля ушла у меня из-под ног. Если бы не забор, за который я ухватился, то, наверное, упал. Я смог только прохрипеть.
— Когда?
— Да уж недели две как. Что с тобой, милок? Постой, я тебе водички принесу.
— Не надо.
Я сумел справиться с секундной слабостью и на ватных ногах пошел по улице. В душе теплилась надежда, что бабка ошиблась, что это не тот Сашка, которого я вытащил из трибунала и которого не сдал иновременщикам. Я был полностью уверен в том, что именно он причина хронокатаклизма, грозящего будущему. Поэтому я и искал его, чтобы предупредить о грозящей опасности. И что? Все зря? Нет, не может быть. Это не он. Сейчас я доберусь до указанного мне дома и все выясниться. Сейчас. От сильного толчка калитка распахнулась, и я решительно направился к крыльцу.
На стук никто не вышел. Я постучал сильнее — никакого эффекта. Толкнул дверь — она оказалась не заперта — и вошел без приглашения. Вторую дверь, ведущую непосредственно в дом, открыл без стука.
— Есть кто-нибудь?
Не ожидавшая моего появления женщина испуганно вскрикнула, но я ее не сразу заметил. Взгляд мой был прикован к красному углу дома, где рядом с иконой висела фотография молодого парня в гимнастерке с черными петлицами и скрещенными «мослами» пушечных стволов. Судя по всему, фотография была сделана прошлой зимой и прислана родителям из запасного полка. С нее на меня смотрел красноармеец Коновалов Александр Иванович. Только фотография эта была в черной траурной рамке. Помимо воли у меня сорвалось.
— Ну здравствуй, Саша.
«Ваш сын красноармеец Коновалов Александр Иванович. Уроженец Рязанской области, Шиловского р-на, дер…». Я оторвался от небольшого желтоватого куска бумаги — все совпадает. «в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявил геройство и мужество, был убит». Убит. Не умер от ран, не пропал без вести. От огневой позиции батареи до правого берега Воронежа расстояние было приличное. Вряд ли это была пуля, скорее всего, под артиллерийский обстрел попали. Или под минометный? Нет, даже для миномета далековато. Хотя все может быть. «Похоронен в г. Воронеж, б.м. N…» Черт! Номер братской могилы написан неразборчиво, то ли 036, то ли 038. «Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии (Приказ НКО СССР N220–41 г.)». Подпись «Шиловский райвоенком, капитан административной службы…». Подпись, как всегда, неразборчива.
Дочитав до конца, я опустил похоронку и взглянул на сидевшего передо мной, постаревшего лет на тридцать Сашку. Отец и сын были очень похожи. Иван Коновалов, такой же невысокий, квадратный, белобрысый и голубоглазый.
— Все совпадает. Значит, все-таки он.
Коновалов-старший только горестно кивнул, его жена, мать Сашки, украдкой провела рукой по щеке, стирая непрошеную слезу. Дата! Я опять впился глазами в бумажку. Где? А, вот! Выходит, через день после моего ухода из этого времени. С высокой вероятностью можно предположить, что Гарри и компания здесь не засветились. Просто не успели бы. Выходит, действительно фрицы постарались. Интересно, остальные пережили тот налет, или еще кто-нибудь погиб? Я аккуратно положил извещение на выскобленный добела стол и поднялся.
— Извините, что раны ваши разбередил, не знал я. Еще раз извините, пойду я, пожалуй.
Я хотел было сделать шаг к двери, но тут женщина вцепилась в рукав шинели.
— Да куда же вы?! Вам же отпуск выписали в наш район! К тому же Саша вас приглашал, оставайтесь. Куда вам идти?
Насчет приглашения я почти не соврал, Сашка и в самом деле приглашал меня к себе, только после войны. А идти мне и в самом деле некуда.
— Оставайся, — пробасил Коновалов-старший. — Завтра сорок дней будет. Надо помянуть сына.
Насчет остаться мысль хорошая. Деревенька в Рязанской глухомани — идеальное место для того, чтобы отсидеться, осмотреться, обдумать и без спешки принять решение, как быть дальше. И искать меня здесь никто не будет.
— Спасибо за приглашение… Извините, не знаю вашего имени.
— Анна.
— А по батюшке?
— Сергеевна.
— Спасибо за приглашение, Анна Сергеевна, остаюсь. А о моем питании не беспокойтесь — будет в райцентре базарный день, тогда там провизию и куплю. Деньги у меня есть.
Иван хлопнул ладонью по столу.
— Насчет «купим», это ты брось. В деревне живем, ты нас сильно не объешь. Аня, — обратился он к жене, — давай ужин. А ты, будь добр, расскажи, как сынок наш служил, как Родину защищал.
Я ничего не видел, не слышал, не ощущал запахов, а попытка определить, где верх, где низ закончилась крахом, видимо, тело мое пребывало в невесомости. Осталась только боль, жуткая головная боль. Это же надо так надраться второй раз за три дня. И где? На поминках друга, боевого товарища. Нет, в первый раз были только цветочки — всего одна поллитра заводской водки на двоих, а вчера не помню, сколько вонючего, ничем не очищенного самогона. Господи, из чего они его только гонят! Не иначе из коровьего навоза. Мыслительный процесс вызвал сильнейший приступ головной боли, и я постарался отключить головной мозг. Попытка не удалась — боль стала чуть тише, но только чуть.
Через некоторое время я попытался включить внешние рецепторы. Сначала включилось осязание. Со стороны груди и живота чувствовалось легкое покалывание. Поскольку со спины ничего подобного не наблюдалось, то я сделал вывод, что лежу на животе спиной вверх. Анализ ощущений показал, что лежу я на чем-то мягком и одновременно колючем. После очередного приступа боли появилось обоняние. Запах был хороший, приятный, ассоциировался с детством. Запах сухой травы и… Да это же сеновал! Не самое худшее место, вполне мог бы очнуться на жестком полу в луже собственной блевотины. Момента, когда вырубился, в памяти не сохранилось, но сам я сюда прийти не мог, значит, принесли те, кто оказался покрепче или меньше пил. Да там же все мужики были пенсионного возраста, да и пили они не меньше моего. Ах да! Еще участковый был — хорек язвенный, но он, насколько помню, упал под стол еще раньше меня.
— Эй, ты тут живой?
О, и слух заработал, но в ответ я смог только промычать что-то нечленораздельное. А открыть глаза так и не удалось.
— Жив все-таки.
По голосу я узнал Сашкиного батю.
— Ну и тяжеленный ты, еле сюда дотащил.
Ну здоров! Он же наравне со мной на грудь принимал, но я валяюсь в абсолютно небоеспособном состоянии, а он, похоже, ни в одном глазу. Да еще вчера меня на себе таскал. Вот что значит природное здоровье плюс хорошая экология и отсутствие генномодифицированных продуктов в рационе.
— Может, тебе водички принести?
— М-м-м…
— Тогда рассольчика.
— У-гу.
Коновалов старший ушел, а я все-таки разлепил глаза. Судя по пробивавшемуся сквозь крохотное стекло свету, давно уже был день. Потом, наконец, сумел приподняться и на четвереньках дополз до двери, там сел привалившись к стене. Перемещение на пару метров отняло последние силы. Так меня и застал Иван, пришедший с большой эмалированной кружкой.
— Пей.
Насыщенная солью жидкость смыла всю мерзость изо рта и покатилась по пищеводу в желудок.
— Ну, как?
Я с трудом оторвался от кружки.
— Ноально.
— Встать можешь?
— Неа.
— Давай помогу.
Вдвоем мы доковыляли до горницы, которая уже избавилась от следов вчерашних поминок, и хозяин уложил меня на лавку. Хозяйки, к счастью, не было в доме, но когда она вернется, то я от стыда сгорю.
— Ладно, отдыхай. В субботу я у бригадира лошадь возьму, в райцентр съездим. Я на базар, а ты зарегистрируешься.
— Где?!
— В военкомате. Ты же участковому обещал.
Участковый! И здесь меня советская власть достала! А мешок мой где? Там же… Хотел вскочить с лавки, но руки потеряли опору, и я рухнул обратно.
— А сидор мой, где?
— Там, где и был, под лавкой. Да вот он.
Хозяин наклонился и вытащил мой мешок.
— Никуда не делся. У нас в деревне ворья отродясь не водилось.
Я успокоено откинулся на спину.
— Ну вот и хорошо. В субботу съездим.
Времени до субботы у меня еще хватало.
Все-таки наше поколение здорово избаловано средствами передвижения — любая точка Европы находится в пределах четырехчасового перелета. За это же время можно долететь до Новосибирска, а если набраться терпения на десять часов, то можно оказаться на восточном побережье США или Канады. Или, например, что такое пятьдесят километров? На машине да по хорошей дороге чуть больше получаса. Или чуть меньше часа на междугородном автобусе. Или полтора-два часа на рейсовом. Красота. Даже если дорога проходима весьма условно, то можно воспользоваться джипом или, в крайнем случае, вездеходом. Все равно время в пути будет измеряться часами. Как-то раз в весеннюю распутицу наш ГТТ прополз двадцать километров за два с половиной часа там, где дороги не было вообще, только тяжелая, раскисшая глина.
Если же ваше транспортное средство тащит не пара сотен лошадей, а только одна, да и та весьма мелкая, то преодоление расстояния в полсотни километров это уже настоящее путешествие. На машине тысячу километров можно преодолеть часов за десять-двенадцать. Гужевому транспорту на то же расстояние потребуется как бы ни месяц. Крейсерская скорость крестьянской телеги пять-шесть километров в час, зато по проходимости уступает разве что тому же ГТТ. Но лошадка не человек. Это человек может сжать зубы, напрячь силы и преодолеть нужное расстояние за день. Если очень надо, то он может повторить такой же переход на следующий день. А животное надо кормить, поить, в конце концов, ему отдых требуется.
— Еще пяток километров, и на месте будем. Н-но, зараза!
Иван батогом добавил прыти сбавившей ход лошаденке. Я ее понимаю — на телеге, кроме двух не самых легких мужиков, лежали еще и несколько мешков с зерном и овощами, предназначенными для продажи. Плюс торба с овсом для лошади и мой сидор, оставлять его в деревне я не отважился, хотя и с ним путешествовать — риск немалый. Не то чтобы в хозяйстве Коноваловых наблюдался большой излишек продовольствия, но натуральным это хозяйство давно перестало быть, а потому ему требовалось такие вещи, как соль, спички, кое-какую мануфактуру, закупать извне. Вот и вынуждена была несчастная лошадка везти в райцентр часть урожая с личного огорода колхозника. Но до райцентра еще далеко. Пять километров, в которые Иван оценил остаток пути, остались до села, где мы должны были переночевать у кого-то из его знакомых, чтобы с утра совершить рывок к конечной цели.
Село оказалось довольно большим. В центре обшарпанная церковь, лишенная креста и колоколов. Несколько одноэтажных кирпичных домов явно дореволюционной постройки, в которых сейчас расположились сельсовет, правление колхоза, школа и, как пояснил Иван, фельдшерско-акушерский пункт. Даже электричество в селе было. Искомый нами дом располагался почти на выезде из села, к счастью, в нужную нам сторону. Неразвитость местных информационных коммуникаций не позволила заранее предупредить хозяев о нашем визите. Тем не менее, встретили нас очень радушно. Хозяин, внешне очень похожий на Коновалова-старшего, только повыше и не такой квадратно-могучий, после крепких объятий пробасил жене.
— Сгоноши на стол, гости дорогие к нам пожаловали.
Дом оказался таким же, как и у Ивана, пятистенком, может, чуть больше. А вот народа в нем жило не в пример больше. У Коноваловых старший сын уже отделился, а младшие до войны семьями обзавестись не успели. Вот и остался отец вдвоем с женой. Здесь же помимо хозяев жила сноха с двумя детьми и младшая дочка, еще не вышедшая замуж. Буквально через полчаса, пока мужики не торопясь распрягали и обхаживали лошадь, попутно делясь последними новостями, ужин был готов, и вскоре за столом прозвучал первый тост: за встречу. Пили тот же мутный и вонючий самогон. Как мне объяснили, гнали его все же из сахарной свеклы, но когда я попытался рассказать им о методах очистки этого продукта, то был сурово отбрит хозяином.
— Ты, городской, нас уму-разуму не учи. Раньше-то он у нас как слеза был, а сейчас ни марганцовки, ни угля активированного взять негде. А молоко на это дело тратить жалко, лучше я его детишкам отдам.
После такой отповеди я старался больше молчать, а пить, помня о последствиях, меньше. Долго посидеть не удалось, часа через два тусклая лампочка, освещавшая горницу, мигнув пару раз, погасла окончательно, и народ начал размещаться на ночлег, тем более что вставать нам завтра задолго до рассвета.
Начавшийся затемно путь продолжился в предрассветных сумерках и завершился на въезде в райцентр, когда было уже совсем светло. Здесь наши дороги разошлись.
— Во-он военкомат.
Иван указал мне на нужное здание.
— Я постараюсь быстрее.
— Не торопись, товара много, быстро не распродать.
Я спрыгнул с телеги, стащил с нее свой вещмешок и, разминая затекшие от долгого сидения ноги, зашагал к военкомату. Лошадка потащила облегченную телегу в сторону местного рынка. Несмотря на ранний час и выходной день, военкомат работал, война все-таки. А вот желающих попасть на прием никого, кроме меня, не нашлось, поэтому я через несколько минут предстал перед худым лейтенантом лет сорока. Почему он не на фронте воюет, а бумажки в тыловом военкомате перекладывает, можно было не спрашивать — его болезненная худоба и нездоровый цвет кожи говорили сами за себя. Приняв мои бумаги, лейтенант несколько минут изучал их, потом записал какие-то данные в толстый гроссбух и шлепнул на обратную сторону отпускного билета большой штамп, куда вписал дату проведения медицинской комиссии.
— Можете идти, — лейтенант подал мне документы, — комиссия через тридцать дней.
Протягивая руку с бумагами, он поморщился, как от боли, видимо, дела его совсем плохи.
— Есть!
Положив документы в нагрудный карман гимнастерки, я с облегчением покинул данное учреждение. Формальности, чтобы не навлечь неприятности со стороны представителей власти, были соблюдены, но что делать дальше, я пока не решил. Послонявшись некоторое время по грязным немощеным улицам, я вышел-таки к местному рынку и разыскал Ивана устроившего торговлю прямо с телеги.
— Как дела?
— А-а-а.
Значит, ничего стоящего на обмен пока не предложили. Оно и понятно, здесь не город, огороды есть практически у всех жителей райцентра, а горожан, приезжающих обменять вещи на продукты, здесь бывает немного — не каждый решится на такое путешествие. Ситуацию могли бы исправить перекупщики, скупив товар у местных крестьян и отвезя его в областной центр, а то и в саму столицу. Но в военное время подобные операции крайне рискованны: можно запросто загреметь в лагерь, а то и к стенке встать. До крышевания подобных делишек местная милиция еще не додумалась, это произойдет позже, намного позже.
— Слушай, походи по рынку, посмотри иголку для швейной машинки.
На просьбу Ивана ответил согласием, сидеть просто так быстро надоело, и я рад был походить, поглазеть. «Зингер» с ножным приводом, еще дореволюционный, стоял в хозяйской спальне. Швейная машинка была символом достатка крестьянской семьи. Шустрые агенты компании успели столько своего товара распродать в России, что отдельные экземпляры в сельских домах встречаются до сих пор, причем, по большей части, вполне работоспособные. А что? Агрегат надежный, практически вечный, его только смазывать нужно вовремя. Слабое место его — это ломающиеся иголки и капризные шпульки.
Нужный товар отыскался в дальнем углу. Торговал им неприметный дедок в драповом пальто, явно ему великоватом, и серой кепке, надвинутой на самые глаза. Не став ввязываться в торговлю сам, я решил сходить за Иваном, он местные цены лучше меня знает. Когда я вернулся, около коноваловской телеги стояла женщина с двумя детьми. Товарообмен явно подходил к концу, крестьянин получил какой-то сверток, женщина взвалила на плечо тяжелый мешок.
— Отрез сторговал, — поделился радостной новостью Иван, — Аннушка себе юбку сошьет, а может, и мне на штаны хватит. А ты иглы нашел?
— Нашел.
Я объяснил ему, где найти искомое.
— Посторожи телегу.
Иван метнулся в указанном направлении, а я все смотрел в след отошедшей женщине. Невольно в памяти всплыла другая — тоже с двумя детьми, но в другом «городском» платье и с дамской сумочкой. Может, они и есть причина хронокатаклизма? Последовали моему совету, уехали из Ленинграда до начала блокады и остались в живых? Очень даже может быть. На дальнейшие события я не очень обращал внимание. Появился хозяин, прихватил с телеги мешок и опять исчез. Опять появился. Подходили другие люди, присматривались, торговались, что-то брали. После полудня телега опустела.
— Ну что, обратно поехали?
— Езжай один, я здесь на некоторое время задержусь.
— А как же…
— Доберусь как-нибудь, ты за меня не волнуйся, дела у меня тут образовались. Извини.
И я, закинув на плечо сидор, зашагал в сторону железнодорожной станции.
— Эй, открывай давай! Слышь! Вы там спите все или уже сдохли!
Скорый поезд Самара-Москва стоит здесь всего три минуты, а я уже две с половиной из них обиваю кулаки о запертую дверь вагона. Наконец, когда моя мысль уже металась между желанием попробовать счастья у двери следующего вагона и боязнью в последний момент оставить начатое, раздался сухой щелчок и дверь распахнулась.
— Здравствуй, красавица, опять я к тебе.
«Красавица» сдала назад освобождая проход.
— Шлындают тут всякие туда-сюда.
Едва я повис на поручнях, как со стороны паровоза раздался гудок и по составу прокатился лязг буферов.
— В вагоне мест нет, — порадовала меня проводница.
— Тогда, может, к себе в купе пустишь?
— Еще чего?!
Ну ладно, ладно. Не очень-то и хотелось. Я протиснулся в проход, ведущий внутрь вагона, а женщина осталась закрывать дверь под неторопливый, пока еще, перестук колесных пар. Мест в вагоне действительно не было. Люди сидели на всем, на чем можно было, на полках, чемоданах, узлах, каких-то котомках, на верхних полках лежали по двое. И как только не падали на разгонах и торможениях? Я пробирался по узкому проходу, уворачиваясь от свисающих с полок ног, пару раз наступил кому-то на ноги, услышав про себя и своих родственников массу интересного. В конце концов, нагло сдвинув в сторону замухрышистого солдатика, втиснул свой сидор на пол и уселся на него. Разбуженный неожиданным вторжением в его сон военный попытался возмутиться, но я молча сунул ему под нос кулак, и он заткнулся.
Сверху над головой висели чьи-то грязные ботинки, через человека слева храпел какой-то мужик, а брошенный в вагонную атмосферу топор взлетел бы к потолку. Но я сильно не огорчался — через пару часов будет Рязань и часть пассажиров выйдет. Правда, тут же в вагон набьются новые, но за те минуты, пока будет происходить смена, всегда есть шанс занять места получше, может, даже забраться на верхнюю полку. Я поерзал на мешке, устраиваясь удобнее, чем вызвал недовольное бурчание соседа справа. За время, прошедшее с момента нашего расставания с Иваном, сидор существенно облегчился. «Парабеллум», чистые бланки и большую часть денег я спрятал в лесочке, недалеко от райцентра, решив, что таскать это хозяйство с собой слишком опасно.
Большие сомнения были по поводу документов. С одной стороны, я нахожусь как бы в законном, ну, почти законном, отпуске по ранению, и никто не лишал меня права свободного передвижения по стране. С другой стороны, время все-таки военное, и с реализацией своих прав у призванного в Красную армию гражданина могут возникнуть проблемы. Но я решил рискнуть и не стал выписывать себе новые документы, хотя чистые бланки и были. Кстати, я буквально носом пропахал эти бланки в поисках пресловутых спецпомарок. Либо их там не было, либо у меня что-то со зрением, хотя до сих пор я на него не жаловался. В любом случае, если они там есть, то Гарри и компания должны снабжаться своим высоким покровителем вполне свежими бланками документов со всеми необходимыми атрибутами.
Как я и предполагал, во время стоянки в Рязани удалось занять сидячее место на нижней полке. Для лежачего на верхней я оказался слишком велик и недостаточно расторопен, но был доволен и достигнутым. После того как вновь вошедшие расселись, утихли вагонные склоки и скандалы, пассажиры погрузились в дорожный сон, у кого-то тяжелый и тревожный, у кого-то чуткий, а у некоторых счастливчиков спокойный и безмятежный.
— Держи его!
Еще до того, как открыть глаза, я крепче вцепился руками в лежащий у меня на коленях сидор. Мимо меня мелькнула чья-то тень, но я почти автоматически выбросил вперед правую ногу, и тень с грохотом растянулась на полу.
— Уй! Е-о-о-о!
Что-то больно ударило меня по голени, и я окончательно проснулся. «Тень» вскочила на четвереньки и, пока пассажиры соседнего купе хлопали ушами, с низкого старта скрылась за дверями нерабочего тамбура, а возле моей ноги остался стоять фибровый чемодан с металлическими уголками и блестящими застежками.
— Чемодан! Мой чемодан!
Какая-то тетка ухитрилась слету проскочить проход и, буквально упав, вцепилась в свой чемодан. Не повезло сегодня майданщику. Под сочувственный гомон пассажиров тетка убралась обратно, даже спасибо не сказав, а я остался потирать ушибленную ногу. Вагон, взбудораженный происшествием, понемногу утих и опять погрузился в сон. Я тоже задремал, забыв о боли в ноге. Скоро будет Москва, где мне предстоит пересадка на поезд, идущий на север.
В Москве я надолго не задержался, всего-то и дел было: перейти через площадь, под которой еще отсутствовал длинный загаженный переход, купить билет и дождаться поезда на Ярославль. На вокзале послушал утреннюю сводку Совинформбюро: «В течение ночи наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда и в районе Моздока. На других фронтах никаких изменений не произошло». Немецкое наступление уже выдыхается. Кое-где они еще рвутся вперед, но их последние потуги успеха уже не приносят. Немецкая группировка на юге, по сути, разделена на две части: кавказскую и сталинградскую. А между ними сотни километров безлюдной и безводной степи.
«В районе Сталинграда продолжались упорные бои. Гвардейская миномётная часть под командованием товарища Дорофеева обстреляла скопление противника и истребила более двухсот немецких солдат и офицеров». Очень интересно, «товарища Дорофеева». У него что, звания нет? «На другом участке бойцы под командованием младшего лейтенанта Матыца отбили три атаки немцев и уничтожили четыре танка и до роты пехоты противника». Да-а, когда наши пойдут вперед, когда в сводках начнут звучать названия освобожденных областных центров, тогда же Левитан озвучит названия соединений и объединений, принявших участие в этих боях, фамилии генералов и маршалов. А сейчас и небольшой успех взвода или роты под командованием младшего лейтенанта, сумевшего удержать свою позицию, считают достойным прославить на всю страну. Ничего, ничего, осталось всего полтора месяца, а там и на нашей улице будет праздник.
Толпа устремилась на перрон, и я поспешил влиться в нее, чтобы успеть захватить место на нижней полке, а если повезет, то и верхнюю целиком. Не повезло. Но и на нижней тоже можно ехать, только во время сна ноги сильно затекают. До Ярославля поезд полз двенадцать часов, от Ярославля до Вологды еще почти десять, но все-таки доехали, а вот дальше возникли проблемы.
— В ближайшие сутки поездов на Архангельск не будет. Следующий!
Военный в черной шинели с двумя рядами блестящих пуговиц не солоно хлебавши, отошел от окошка кассы. Следующим был я, но драконить кассиршу тем же вопросом не стал и отошел вслед за моряком. Судя по фуражке с крабом и кобуре на двух ремешках — средний командир, а что означают две полоски на рукаве, верхняя уже, нижняя шире, я не знал. Кстати, кобура болтается так, что никакого пистолета в ней явно нет.
— Разрешите обратиться, товарищ…
— Лейтенант, — подсказал флотский, видя мое затруднение.
— Вам в Архангельск срочно надо?
— Срочно. А в чем дело?
Видимо, к месту службы торопится.
— Мне тоже в Архангельск. Может, на товарном попробуем?
— Давайте попробуем, — согласился лейтенант.
Но стоило нам направиться к выходу из вокзала, как на пути нарисовалась неопределенного возраста женщина с двумя котомками.
— Товарищи, — заторопилась она, — товарищи военные, возьмите меня с собой. Мне к мужу надо в Вельск.
— Да мы еще и сами не знаем, как поедем. К тому же товарняк — это даже не общий вагон, это намного хуже, — пытаюсь отговориться я.
Но женщина продолжает настаивать.
— Хорошо, — сдается лейтенант, — поехали.
Мне эта идея не показалась здравой, но спорить со старшим по званию, хоть и значительно моложе по возрасту я не стал.
— Давайте помогу.
Я взял у женщины одну из котомок, вторую взял лейтенант.
Уехать нам удалось только в открытом сверху порожнем полувагоне. Сидели мы, прижавшись к его передней стенке — туда меньше задувал холодный поток встречного воздуха, а на ходу долетали только отдельные капли холодных осенних дождей. Лейтенанта звали Андреем. Училище он закончил два года назад и только добился перевода с Тихоокеанского флота на Северный. Очень волновался: успеет ли прибыть вовремя к новому месту службы, и на какой корабль получит назначение. Поскольку основные силы Северного флота базировались в районе Мурманска, то я с высокой вероятностью предположил, что вместо стремительной «семерки» или хотя бы «новика» ждет его провонявший треской рыболовецкий траулер с парадным ходом десять узлов, вооруженный парой сорокапяток в морском варианте и дюжиной глубинных бомб.
— Скорее всего, — согласился лейтенант, — но и на такой калоше можно воевать.
— Можно, — не стал спорить я, — но на эсминце все же лучше. А еще лучше на крейсере. Только где его взять?
Лейтенант только вздохнул.
Женщина оказалась моей землячкой, ленинградкой. Когда я сдуру ляпнул «Ну как там?», она разрыдалась. Пришлось нам с Андреем ее успокаивать, внезапно она заговорила, выкладывая незнакомым попутчикам свою историю. Выяснилось, что она с маленькой дочерью и свекровью пережила самую страшную блокадную зиму. Выжили только благодаря брату мужа — военному, полк которого стоял в Красных казармах. Раз в неделю он приходил к ним, преодолев пешком шесть километров, приносил что-нибудь сэкономленное от своего командирского пайка. Все, что можно было съесть — съели, все, что имело хоть какую-то ценность — обменяли на еду. Но выжили, а многие из соседей — нет.
— Я ведь за месяц до войны с Кушелевского хлебозавода уволилась, — все сокрушалась она. — Весной совсем плохо стало — их часть на фронт отправили, он только один раз и смог вырваться, принес лошадиную кость с остатками мяса. Совсем уже умирали, но тут нас эвакуировали. Везли в машинах, лед трещит, вода до самого кузова доходит…
Женщина опять разрыдалась. Несколько человек умерли во время дороги через озеро, буквально чуть-чуть не дотянув до большой земли, где их ждали тепло и пища. Эвакуированных блокадников расселили тут же — в деревнях Ленинградской области. Ей повезло — она устроилась работать на молокозавод. Работникам разрешали забирать так называемый «обрат» — остатки молочного сырья после производства сливочного масла, на нем и держались. За лето окрепли и набрались сил, вот женщина и рискнула навестить мужа, строящего Северную железную дорогу в направлении на Воркуту. Я думал, что он там по договору работает, оказалось, по приговору.
— Муж у меня каэровец, — призналась она.
— Это кто? — заинтересовался лейтенант.
— Контрреволюционер. Статья пятьдесят восемь десять, десять лет и дали в тридцать седьмом.
На момент ареста ее муж проходил службу в Красной армии. Часть его дислоцировалась в КаУРе, буквально в полутора десятках километров от дома. Два раза в месяц он получал увольнение и мог бывать с семьей. До конца службы оставалось уже меньше полугода, да где-то что-то не то ляпнул, кто-то донес, и закрутилось. Жена у него была тогда на восьмом месяце беременности, дочка родилась уже после приговора. А она его ждет и на свидание едет, думает, что через пять с половиной лет отпустят. Наивная. Почти все в сорок седьмом будут осуждены повторно и выйдут из лагерей очень нескоро. А тем, кто выйдет, проживание разрешат только за сто первым километром.
Между тем поезд не торопясь пробирался на север, подолгу стоял на станциях и полустанках, ожидая прохождения встречных эшелонов. На станциях мы мокли и бегали за кипятком, постоянно оглядываясь — боялись отстать от поезда. Морженга, Вожега, Коноша. В Коноше мы помогли женщине выбраться из вагона, дальше наши пути расходились. Ей на Воркутинское направление, а наш эшелон шел до самого Архангельска.
На станцию Бакарица наш эшелон прибыл утром, и мы, замерзшие и промокшие, покинули, наконец, наше столь некомфортабельное пристанище. Станция располагалась на левом берегу Двины выше самого Архангельска. Здесь же находился и крупный порт, принимавший грузы, поступающие в СССР по ленд-лизу. Сначала мы долго шли по путям, ныряли под вагоны, перелазили через тормозные площадки. Справа тянулись какие-то бесконечные заборы, пакгаузы, станционные здания. Несколько раз мимо нас, обдавая паром и закладывая уши гудками, проезжали маневровые паровозы, толкающие или тянущие вагоны. Станция и порт жили своей жизнью круглосуточно.
В город переправились на древнем пароходике. Меня поразила мощная ширь реки, заставленная длинным рядом судов, ждущих разгрузки, и испещренная большим количеством речной мелочи, снующей вдоль и поперек русла. На правом берегу наши с лейтенантом пути разошлись, он направился в штаб Беломорской военной флотилии.
— Удачи тебе, лейтенант, — пожелал я ему на прощание.
Моя же задача была намного сложнее: отыскать в незнакомом, к тому же совсем немаленьком, городе женщину по одному только имени и отчеству. Решить эту задачу самостоятельно я не надеялся, поэтому попытался прибегнуть к помощи официальных органов. Выяснив у первого встречного адрес городского отдела милиции, я направился прямиком туда. Если Вера Мефодьевна воспользовалась моим советом и приехала сюда, то непременно должна была зарегистрироваться по новому адресу. Шел осторожно — в городе полно военных, штаб округа находится здесь же, на патруль можно нарваться в любой момент. Город в основном деревянный одно- и двухэтажный.
В милиции, после того как меня пофутболили по кабинетам, я пристал к ведавшему паспортными столами капитану. Того хватило минут на десять.
— Ну как я тебе ее найду? Фамилии нет, год рождения только приблизительно. Ты представляешь, какое после начала войны перемещение людей произошло?
— Представляю, товарищ капитан, потому и прошу — помогите.
— Ну как ты мог фамилию забыть? Имя помнишь, отчество помнишь, имена детей тоже помнишь. А фамилию забыл?
— Забыл, товарищ капитан. Контузия. У меня и справка есть.
— Да видел я уже твою справку! Хорошо, жди.
Капитан начал обзванивать районные отделы. Судя по его разговорам, перспектива поиска гражданки по таким данным у его подчиненных восторга не вызвала. Однако часа через два результат появился. Капитан, разговаривая по телефону, что-то писал на клочке бумаги, потом протянул его мне.
— Вот. Смирнова Вера Мефодьевна, пятнадцатого года рождения. Сын Александр тридцать шестого и дочь Людмила тридцать девятого. Она?
— Она, товарищ капитан! Точно она.
— Ну, тогда иди. Адрес там есть.
Пользуясь капитанскими подсказками, я минут через двадцать оказался на улице, застроенной небольшими двухэтажными домами. Стуча каблуками по деревянному тротуару, я уже продумывал, как провести разговор с Верой, но тут в домах возник разрыв. В этом месте большая воронка практически поглотила один из домов, от второго осталась только часть обугленной стены. Я еще раз сверился с адресом на бумажке, и сердце ухнуло вниз. От нужного мне дома осталась только часть фундамента. Сойдя с тротуара, я приблизился к воронке. Относительно свежая, от одного до трех месяцев. Края еще не успели оплыть, на дне стоит грязная вода. Тут я споткнулся и чуть не упал. Не поленился, выковырял из земли предмет, о который споткнулся. С трудом узнал в этой железяке стабилизатор немецкой авиабомбы. Судя по размерам воронки — пятисотка. У тех, кто находился в доме, шансов на спасение не было.
Неужели все? Или могли спастись? Может, в этот момент они находились за пределами дома? Обратный путь я проделал в два раза быстрее. Выслушав меня, капитан опять взялся за телефонную трубку. На этот раз поиск закончился минут через десять.
— Никто не выжил. Двух месяцев не прошло, не успели документы переоформить, на живых времени не хватает.
— И никакой надежды?
Капитан отрицательно покачал головой.
— Трупов их никто, конечно, не видел, но они были в доме, все трое, это точно. И не только они…
Прочь отсюда! Судьба словно издевалась надо мной второй раз отнимая у меня надежду, найти, предупредить, как-то помочь. Они избежали ужасов первой блокадной зимы, но остановить немецкую фугаску было не в моих силах, как и снаряд, оборвавший Сашкину жизнь. Все напрасно, все зря. На душу давило осознание собственного бессилия. Я — песчинка, гонимая ветром судьбы, полный ноль, который ничего не решает и ничего не может. Ноги сами несли меня в направлении пристани, здесь меня больше ничего не держало. И не только в городе, но и в СССР середины осени сорок второго. Кто здесь меня помнит? Петрович, Дементьев, Рамиль, Катерина. Все? Ну, может, еще Филаткин. Кто я для них? Враг народа, шпион и диверсант. Они в это не верят? Пусть так, в любом случае, встреча с ними ничем хорошим закончиться не может, ни для них, ни для меня. А потому — прочь, быстрее прочь отсюда.
Уй! Едва успел нырнуть в проход между двумя домами, избегая встречи с группой из троих в серых шинелях. Патруль, не патруль, а нарываться все равно не стоит. Эта встреча несколько отрезвила меня, голова заработала чуть лучше. Бежать, надо бежать отсюда. Куда? Лучше всего обратно в свое время. Но как? После всего, что я натворил на их базе, договориться с хрономародерами невозможно. Заставить вернуть меня силой? Заставлялка не выросла. И вряд ли когда-либо достигнет нужных размеров. Нет у меня рычагов воздействия на них. А они меня ищут и будут искать до тех пор, пока не найдут. Поэтому уходить придется здесь. И не просто уходить, а уходить, обрубив все концы. Воображение услужливо нарисовало стоящую на прямой наводке зенитку, всаживающую осколочную гранату прямо в окно одноэтажного дома с зеленой крышей. Ну как-то так.
Порыв холодного ветра раздул полы шинели, напомнив о близости студеного океана. Невольно вспомнилась тень вертолета, скользящая по темно-синей безбрежной поверхности. К черту воспоминания! Я осторожно выглянул из-за угла, осматривая подходы к переправе. Около пристани болтался патруль. Красные повязки на рукавах шинели, винтовки с примкнутыми штыками. Когда плыли в город, его не было, дуракам везет. Выждав, когда патруль отойдет в сторону, и прикрываясь потоком людей, прибывших с левого берега, я проскользнул на паром. Спокойно, спокойно, у меня есть еще время. Можно вернуться в Рязанскую деревню, обстоятельно обдумать сложившуюся ситуацию и принять решение. Пусть ошибочное, но свое собственное. Сойдя с парома, я двинулся на звуки свистков маневровых паровозов.
Глава 3
— Поставьте ноги одну за другой по одной линии, раскиньте руки в стороны, закройте глаза. Очень хорошо. Указательным пальцем правой руки дотроньтесь до кончика носа. Отлично. Теперь сделайте то же самое указательным пальцем левой руки. Великолепно.
— Глаза открыть уже можно?
— Да, да, конечно. И встать можете, как вам удобно.
Я открыл глаза, старикашка с козлиной бородкой, одетый в белый халат, что-то писал с энергией, не присущей его возрасту. Недаром говорят, что единственный врач, который считает, что у вас все в порядке, работает в военкомате. Откройте рот, закройте рот. Дышите, не дышите. Годен. Следующий. Доктор, а опять дышать можно? По этому принципу всех остальных врачей медицинской комиссии я прошел в общей сложности минут за двадцать, а этот нервный патолог, наверняка начинавший еще в земской больнице, пытал меня уже не меньше получаса. Стучал блестящим молоточком по локтям и коленям, щекотал разные места гусиным пером, задавал массу разнообразных вопросов. На мой взгляд, большая часть из них была абсолютно идиотской. Особенно его интересовало: не били ли меня чем-нибудь тяжелым по голове в детстве, и не было ли у меня черепно-мозговых травм в последнее время. В конце концов, я не выдержал.
— Доктор, у меня что-то не в порядке?
— Нет, нет, все реакции у вас в норме. И вестибулярный аппарат хороший. Но это и странно, ведь у вас контузия была всего два месяца назад, а сейчас я никаких последствий найти не могу.
— Так и хорошо, что без последствий обошлось. Выходит, к строевой я годен.
— Да, да, конечно. Я сейчас все напишу.
И он опять уткнулся в свои бумажки. Трудно найти последствия того, чего не было. А мне лишнее внимание к своей персоне абсолютно ни к чему. За две недели деревенского сидения я так никакого окончательного решения и не принял. Куда ни кинь — всюду клин. Спрятаться в тылу не получится: ни легенды, ни надежных документов, да и навыков агентурных тоже нет. За границу уйти? Опять же куда? Китай, Монголия, Иран и Афганистан меня не интересовали. Вся Западная и почти вся Восточная Европа оккупированы гитлеровцами, и путь туда мне заказан. Можно попытаться пробраться на одно из судов, идущих в Великобританию или США. Однако вероятность удачного исхода такой попытки стремилась к нулю. К тому же, обнаружение русского дезертира на союзном судне вряд ли бы вызвало восторг у его команды. В лучшем случае выдадут обратно, а в худшем — могут и за борт выкинуть, ребята там суровые. Да и не лежала душа к загранице. Я и в своем времени мог туда уехать, но остался и ни разу об этом не пожалел.
Где лучше всего спрятать лист? Правильно, в лесу. А военного? Ну, конечно, в армии. А там, глядишь, и подвернется возможность сменить документы или скрыться в дыре поглубже. Поэтому, когда настала обозначенная в отпускном билете дата проведения медицинской комиссии, я в положенное время прибыл к дверям райвоенкомата. Учитывая, что большая часть моего личного дела обнаружилась в папке, прихваченной из сейфа, и была потом уничтожена, разоблачения я не очень опасался. Хрономародеры должны были подчистить следы моего пребывания здесь, и на запрос в архив или по месту прежней службы ответ должен быть: личное дело утрачено. Вот и бродил я между врачей, обрастая их резолюциями о своем здоровье, пока не нарвался на въедливого невропатолога, но и он уже свое дело заканчивал.
После медкомиссии я получил возможность одеться и подпер стенку в ожидании своей дальнейшей судьбы. Вместе со мной в коридоре стояли десятка полтора мальчишек и пара мужиков моего где-то возраста — то, что наскреб район к очередному призыву. Очередь двигалась быстро, на каждого военком тратил минуты три-четыре, не больше. Как я заметил, отсрочки от призыва никто не получил. Из-за задержки у невропатолога в кабинет военкома я попал последним. Кроме капитана административной службы, в кабинете находился один из врачей, видимо, председатель комиссии. Едва взглянув на меня, военком уставился в мои бумаги.
— Сержант, командир орудия, зенитчик, к строевой годен.
Капитан посмотрел на врача, тот кивнул, подтверждая прочитанное. Военком взял ручку, макнул перо в чернильницу и что-то начал писать. Наконец обратил внимание на меня.
— Вы будете направлены в запасной зенитный полк. Но сначала поможете сопроводить команду призывников в ее запасной полк. Команда будет сформирована через четыре дня. В военкомат прибыть двадцать седьмого числа к девяти ноль ноль. Все ясно?
— Так точно, товарищ капитан! Разрешите идти?
— Идите.
Капитан отдал мне отпускной билет, действительный еще четыре дня.
— Р-равняйсь! Смирно! Александров!
— Я!
— Афиногенов!
— Я!
— Барабанов!
— Я!
Стоящий передо мной строй по большей части курнос, лопоух и недокормлен. Ничего удивительного — двадцать четвертый год рождения. На их долю выпали голодные годы начала тридцатых и последний военный год в тылу, когда поесть досыта удавалось далеко не всегда. А ведь именно этим пацанам, ничем не похожим на сказочных богатырей, предстоит в ближайшее время ломать хребет гитлеровской военной машине. Сейчас на дворе не сорок первый год, а конец сорок второго. Сегодня утром сообщили, что наше наступление под Сталинградом успешно продолжается. Сводка пестрела цифрами убитых, пленных, захваченных трофеев.
— Калинин!
— Я!
— Ларин!
— Я!
— Микифоров!
— Я!
А морозец-то сегодня приличный! Минус пять, не меньше. А может, и все десять, вон как за уши щиплет. Призывникам хорошо — они одеты уже по-зимнему, мамлей тоже в зимней форме, в шапке-ушанке, хотя шинель у него пожиже моей будет. Я же по-прежнему в натянутой на уши летней пилоточке и хэбэ. Туловище хоть шинель спасает, а ноги — толстые шерстяные носки, подарок Сашкиной матери. Вот голову бы надо чем-то прикрыть, но нечем. Можно, конечно, найти какую-нибудь гражданскую шапку, только тогда образу бравого сержанта будет нанесен непоправимый урон. Приходится терпеть.
— Шебанов!
— Я!
— Шиловский!
— Я!
— Эрастов!
— Я!
Перекличка закончена. Все на месте, что, в общем-то, было ясно с самого начала, но порядок есть порядок. Теперь надо доложить старшему команды. Поворот направо, шаг вперед, правая рука взлетает к пилотке.
— Товарищ младший лейтенант, сборная команда номер тридцать шесть в количестве сорока человек построена.
Старший команды — младший лейтенант Иванов всего на год старше призывников, только-только из училища, ускоренный выпуск. Полушаг вправо, поворот. Лейтенант делает шаг вперед.
— Здравствуйте, товарищи призывники!
Те отвечают вразнобой, ничего, еще научатся.
— Вольно!
Строй расслабился и как-то оплыл.
— Разбейте команду на отделения, — это лейтенант уже мне, — назначьте командиров и ведите на станцию. Я догоню, надо у военкома кое-какие документы оформить.
И ушел. Надо так надо. В отделении должно быть двенадцать человек, но сорок на двенадцать не делится, поэтому пусть будет по десять. Первые десять — первое отделение, вторые — второе, ну и так далее.
— Командиров отделений выберете сами, через минуту жду фамилии.
В минуту, конечно, не уложились, но начальство себе выбрали.
— В колонну по два становись! Шаго-ом, марш!
Скрипя ранним снегом колонна двинулась в путь. На выходе с военкоматовского двора призывников ожидала толпа родственников, в основном, женщин. Все понимали, что многих из этого строя родные провожают навсегда.
Так, сопровождаемые еще одной, преимущественно, женской командой, дошли до станции. Лейтенант, кстати, нас так и не догнал. Ладно, обойдемся пока без него.
— На месте, стой! Раз, два! Нале-во! Из строя не выходить, я сейчас.
Я уже заметил красный головной убор дежурного по станции и метнулся в его направлении. О, старая знакомая!
— Здрасьте. Для тридцать шестой команды какой транспорт предполагается?
— Уже обратно?
— Уже.
— Вон в тупике теплушка стоит, туда и грузитесь.
— Спасибо.
Лопоухий строй, сопровождаемый хвостом из родственников, остановился около указанного вагона. Я сунул нос внутрь. Буржуйка с выведенной в окно трубой есть, как и деревянные нары, видимо, для перевозки людей теплушка используется регулярно. О топливе, конечно, никто не позаботился, да и загажен вагон изрядно, и стекла в окошках под крышей отсутствуют.
— Афиногенов!
— Я!
Откликнулся демократически избранный командир первого отделения. Этот, на взгляд, пошустрее остальных будет.
— Берешь свое отделение и ищешь на станции топливо. Любое, дрова или уголь. Видишь трубу котельной?
— Вижу.
— Не вижу, а так точно. Там сбоку куча угля есть. Только аккуратно.
— А…
— В чем угодно. Хоть в шапках таскайте, хоть в карманах. Сколько ехать — неизвестно, и если не хотите приехать в пункт назначения в состоянии леденцов — работайте шустрее. На все про все — тридцать минут.
— Есть!
Афиногенов убежал вместе со своим отделением.
— Остальные! Выгребаем из вагона всю мерзость, затыкаем дыры, щели. Картон или фанеру для окон найдите.
Тридцать человек для такой задачи это явный перебор, хватило бы и трех, но надо же всех чем-то занять. А что ты хотел? Ты теперь в армии, сынок! В самый разгар этого действа нарисовался младший лейтенант с каким-то железнодорожником.
— Что вы себе позволяете, товарищ сержант?!
— Что позволяю? — мой дурак моментально включился на полную мощность.
— Вы приказали призывникам воровать уголь!
— Не воровать, товарищ младший лейтенант, а обеспечить теплушку топливом, если хотим избежать обморожений во время пути.
— Да ваши архаровцы от котельной весь уголь растащили! — влез со своими комментариями железнодорожник.
— Не архаровцы, а будущие бойцы Красной армии, выбирайте выражения, товарищ! Они, между прочим, на войну едут, вас защищать. А вам для них двух пудов угля жалко? Да в этой куче тонны три, не меньше.
— Я за этот уголь ответственность несу, в случае чего, с меня и спрос будет, — пробурчал железнодорожник, но уже без прежнего запала. — Сейчас маневровый подойдет, прицепим вас к тому эшелону. Эшелон отправляется через двадцать пять минут.
И ушел. Лейтенант недовольно зыркнул на меня, но вслух ничего не сказал. Полез руководить работой призывников, внося в общий бардак свою лепту. Нет, в данном случае, трое справились бы с уборкой вагона и затыканием щелей гораздо быстрее тридцати. Через двадцать минут наша теплушка была прицеплена к эшелону, ждущему только зеленого сигнала семафора для отправления. Лейтенант загнал всех призывников в вагон и сам проводил последнюю перекличку. Я остался сидеть у открытой двери, родственники толпились у вагона, стремясь заглянуть внутрь, еще раз увидеть своих сыновей, внуков, братьев. Засвистел паровоз, зашипел пар. Какая-то женщина сунула мне в руки узелок.
— Вы уж там присмотрите за моим Сереженькой.
Я уже открыл рот, чтобы объяснить ей, что командиром ее сына я не буду, я только… Теплушка дернулась, лязгнули буфера, перекрывая остальные звуки, взвыли женщины. Они еще некоторое время шли за набиравшим ход вагоном, из открытой двери махали им и что-то кричали едущие на фронт мальчишки. Я не выдержал этого зрелища и отошел вглубь вагона, узелок так и остался у меня в руках.
— Дверь закрой!
Это товарищ младший лейтенант Иванов командный голос вырабатывает. К власти своей он еще не привык, время от времени косится на свои петлицы с одинокими кубарями, а в кобуре — тряпка. Зачем молодые командиры это делают? Я понимаю, перед девками форсить, но ведь здесь-то женского пола не наблюдается, и все прекрасно знают, что пистолета в кобуре нет. Ну нет и нет, носи пустую, а лучше совсем сними. Нет, запихают, что под руку попадется, и ходят, оттопырив зад. Смешно, честное слово.
Парнишка в драной телогрейке и заячьем треухе вздрогнул от неожиданного окрика и, едва не выронив закопченный чайник, торопливо задвинул дверь в теплушку. Нет, в чем-то лейтенант, конечно, прав, в теплушке и так не жарко, мягко говоря, и долго держать открытой дверь не следует, но зачем же так орать? Мог бы и нормальным голосом сказать, постоянным криком командирский авторитет не зарабатывают. Только задроченный за время курсантства, а затем внезапно получивший немалую власть мамлей этого не понимает. Поначалу хотел я ему пару слов сказать, да передумал — не поймет он сейчас, одни уставы в голове. Такого, похоже, только могила исправит. А до могилы ему совсем недалеко. Насколько помню, свежеиспеченный взводный на фронте воевал чуть больше недели. А этот, если от своих замашек в кратчайшие сроки не избавится, и до недели может не дотянуть. Или это он себя так ставит, чтобы в запасном полку подольше застрять, а там, глядишь, и в постоянный состав попасть можно. Ладно, не мое это дело. Я с ними только до ворот части.
Эшелон не литерный, обычный товарный. Поэтому ползем медленно, подолгу стоим на станциях, полустанках и разъездах. Отстать от эшелона можно элементарно — поезд начинал двигаться без предупреждения. Точнее, больше стоим, чем едем. Общий курс — на Москву, куда дальше — неизвестно, Иванов знает, конечно, но молчит как рыба об лед. На остановках призывники по очереди бегают за кипятком. Чайник только один, кто-то из родителей пожертвовал сыну ценную посуду. В чайник входит около трех литров, которых для сорока человек явно не хватает. Приходится бегать несколько раз, другой посуды для выполнения этой задачи нет, а кипяток, даже пустой, единственный способ согреться на стоянке. В вагоне все равно осталось слишком много не заткнутых щелей, и на ходу все тепло из него быстро выдувается. Некоторые пытались греться домашними запасами, которые сердобольные родственники успели всучить призывникам во время следования на станцию, но у местной самогонки есть один недостаток, делающий ее абсолютно не пригодной для скрытого употребления — запах. По этому признаку все запасы были быстро изъяты товарищем младшим лейтенантом. Меня он тоже к этому делу привлек, но я отнесся к нему без энтузиазма. Не люблю я рыться в чужих мешках и торбах, даже по приказу свыше. Все найденное было решительно уничтожено Ивановым. Уничтожено, в смысле, вылито, а не то, что вы подумали.
— И мне плесни.
Вообще-то мне уже наливали из предыдущего чайника, но так приятно согреть озябшие пальцы об эмалированную кружку, а потом размять ими задубевшие уши. Когда вода немного остынет, ее можно выпить, кайфуя от ощущения катящейся вниз организма теплой волны. В узелке оказалось несколько картофелин, сваренных «в мундире», и луковица. Картофелины я чистил, и некоторое время держал над кружкой с кипятком. Они становились мокрыми от конденсата, но немного согревались.
К вечеру температура снаружи упала еще на пяток градусов. Иванов сидит на нарах в глубине вагона. Мерзнет, но к обсевшим буржуйку призывникам не присоединяется, держит с подчиненными дистанцию. Вместе с тем, я вижу, что он тоже прислушивается к тем фронтовым байкам, которые я травлю раскрывшим рот пацанам.
— Пока танк едет — он не очень опасен. На ходу у наводчика поле зрения трясется так, что он ни хрена не видит. Из пушки стрелять он на ходу не будет, все равно не попадет. Курсовой и башенный пулеметы в белый свет палят, как в копейку. Да и вообще, из танка мало что видно. Но когда он прямо на тебя прет, то выглядит все страшно: гусеницы лязгают, пулеметы строчат, и он все ближе, ближе, ближе… Бывают не выдерживают, бегут. Только от танка все равно не убежишь.
Я сделал небольшую паузу, чтобы слушатели прониклись. Ишь замерли, ушки топориками. Ну слушайте, слушайте, авось когда-нибудь и пригодится.
— Вот когда танк короткую остановку сделал, тогда смотри в оба. Если ты круглый ствол видишь — ныряй в окоп, особенно, если рядом с тобой наш пулемет расположен. Танк в него целится и тебе тоже достаться может.
Я еще хотел поведать благодарным слушателям, как надо во время отражения атаки вражескую пехоту от танков отсекать, хотя сам об этом только понаслышке знаю, но тут меня прервал Иванов.
— Отставить р-разговорчики! Скоро в Рязань прибудем, там на продовольственном пункте организовано питание личного состава, следующего в эшелонах. Порядок приема пищи следующий…
Приятно все-таки, когда о тебе заботятся, даже когда забота ограничивается черпаком жиденького супчика из горохового концентрата, скудной порцией синюшной перловки и горячей, чуть сладковатой бурдой в эмалированной кружке, именуемой чаем. А что вы хотите? Здравствуй, третья тыловая норма довольствия. От деревянных столов пованивает хлоркой, призывники подчищают алюминиевые тарелки, звеня по ним алюминиевыми ложками, на гражданке сейчас тоже голодно. Говорят, есть шестая летная норма, по которой в день положено чуть ли не полкилограмма мяса. Эту норму получает только командный состав ВВС, да и то не весь, а по специальному списку. Но так ли это, никто достоверно не знает, норма секретная, и ни самой нормы, ни списка лично никто не видел.
Ночью прибываем в Москву. На какой-то сортировочной станции наш вагон прицепляют к другому эшелону, и он, к нашему удивлению, отправляется на восток. За стенами теплушки проплывают знакомые еще по той жизни двойные названия. Павловский Посад, Орехово-Зуево, и я догадываюсь, куда направляется наша сборная команда. Во Владимире нас еще раз накормили, а вечером следующего дня мы выгрузились на станции до боли знакомого города. Всего-то год прошел, даже чуть меньше, с той поры, как мы в такой же темноте стащили с платформы нашу пушку, а где сейчас Епифанов? А Петрович? Живы или нет? Будем надеяться, что живы.
— Станови-ись!
Младший лейтенант Иванов проходит вдоль строя, еще раз пересчитывая призывников.
— Напра-во! Шаго-ом марш!
Приблизительно через час за нашей неровной колонной закрылись стальные ворота с красными звездами на створках. Иванов хотел пройти на территорию части с шиком, и как только колонна начала втягиваться в ворота, подал команду «Смирно!». Зачем он это сделал? Кроме наряда по КПП оценить его старания было некому. Однако он не учел полное отсутствие строевой подготовки у призывников и снег под ногами. Кто-то, неправильно поняв команду, застыл, на него наткнулся задний… В результате строй смешался, и в ворота мы проскочили, по сути, толпой.
Запасной зенап располагался в тех же казармах, поэтому буквально через пять минут после прощания с командой призывников я уже предстал перед дежурным по полку старлеем. Все начальство и канцелярия уже убыли, разбираться со мной было некому, и дежурный, повертев в руках мое предписание, пристроил меня на ночь в казарму хозроты.
— Подъем!
Как только я разлепил глаза и осознал, где нахожусь, мне стало муторно. Вставать не хотелось, но и дальше валяться было невозможно. Едва я успел натянуть гимнастерку, как пришел моих габаритов мужик с четырьмя треугольниками в петлицах и матюгами выгнал личный состав на зарядку. Впрочем, не всех, некоторые его мат проигнорировали. Ничего удивительного — здесь были личные водители комполка и начштаба, штабные писари и прочая шушера, над которой власть старшины была весьма условной.
После руко- и ногомашества на небольшом морозце, оправки и приборки рота строем убыла в столовую, а я остался — на довольствие меня еще не поставили. Переждав утреннее построение в казарме под бодрое урчание в животе, я прибыл в штаб полка и предстал перед нестроевого вида капитаном из строевого отдела. Посмотрев мои документы, он даже удивился.
— Второй раз к нам?
— Второй.
— А в постоянном составе остаться не хотите? Будете призывников учить. А то ведь возраст у вас уже…
Нормальный у меня возраст для конца сорок второго года, скоро все мои одногодки в армии окажутся. А капитанское предложение очень даже заманчивое. Есть, конечно, минусы в виде тыловой нормы, строевой подготовки и стен военного городка, но все они искупались отсутствием свиста немецких снарядов над головой.
— Я согласен, товарищ капитан.
— Вот и отлично. Направляю вас в батарею капитана Гаврилова.
Капитан как-то пристально посмотрел на меня, будто ожидая моего согласия или, наоборот, возражений. Даже если бы он действительно поинтересовался моим мнением, то мне было все равно. В прошлый раз, как уже подготовленный кадр, я быстро попал в батарею, сформированную для отправки на фронт, учебные дела меня не касались, и о командирах учебных батарей я ничего не знал, а фамилию своего нового комбата слышал впервые. Есть у меня такая особенность — пропускать мимо ушей и глаз то, что меня и ближайшего окружения не касается. Выждав несколько секунд, капитан макнул перо в чернильницу и начал заполнять бумаги.
— Дежурный по батарее на выход!
Мое появление в казарме не осталось незамеченным. «На тумбочке» замер лопоухий курносый дневальный, двухэтажные деревянные нары, в проходах грубо сколоченные табуреты, вымазанные зеленой краской, все выровнено — чувствуется порядок. Кроме наряда в казарме ни души, пирамиды для винтовок и вешалки для шинелей пустуют — личный состав на занятиях.
— Постоянно к нам? Это хорошо, сержантов у нас не хватает, из наряда в наряд только и летаем. Теперь полегче будет. А комбат у себя, вон дверь в его каморку.
Дежурный по батарее указал на дверь, выкрашенную в салатовый цвет, такой же, как и стены. Я еще успел удивиться тому, что в учебной батарее нехватка сержантов. Младших командиров готовят здесь же, в полковой школе, поэтому всегда есть возможность отобрать самые лучшие кадры. Или кто-то по залету на фронт загремел? Я взялся за ручку двери.
— Разрешите войти, товарищ капитан!
Гаврилов мне понравился с первого взгляда. Для своего звания, пожалуй, даже слишком молод или просто молодо выглядит. Лицо открытое, располагающее, взгляд прямой, как у человека, которому нечего скрывать. Сам чуть ниже среднего роста, в талии перетянут командирским ремнем так, что кобура с пистолетом практически не отвисает. В капитанской каморке кроме стола и табурета есть еще узкий, жесткий даже на вид топчан, застеленный синим одеялом. На время беседы комбат предложил мне табурет, сам сел на топчан. Расспрашивал меня долго, обстоятельно, особенно интересовался участием в боевых действиях, припомнил и стрельбу по разведчику без команды.
— Правильно тогда Дронникова поперли!
Комбат рубанул воздух ладонью правой руки.
— Заряжающих готовить сможете?
Это он, видимо, мои габариты оценил, но возраст его смущает. Все-таки восемнадцатикилограммовые снаряды мне предстоит ворочать.
— Смогу, товарищ капитан.
Гаврилов что-то начал писать карандашом на листке, вырванном из блокнота. Закончив, встал, давая понять, что разговор окончен, и протянул записку мне.
— Второе орудие, второй взвод. Ступайте к старшине, получите зимнее обмундирование, на довольствие вас с обеда поставим, а после обеда приступайте к своим обязанностям.
— Есть, товарищ капитан.
Поворот кругом с поднятой к виску ладонью я постарался сделать как можно четче — надо же произвести на новое начальство хорошее впечатление. На вопрос где найти старшину, дежурный указал в конец казармы.
— Там, в каптерке, — и, понизив голос так, чтобы не слышал дневальный, добавил, — ты поосторожнее с ним.
Я промолчал, ожидая продолжения, но его не последовало. Ладно, примем к сведению.
— Шинелька у тебя хорошая, а водку пьешь?
Старшина Остапчук мне сразу не понравился. Мой ровесник, может, чуть моложе, не богатырь, брюшко солидное. На свою должность явно попал с гражданки, не чувствуется в нем сверхсрочник. Мне почему-то сразу захотелось назвать его завмагом, а он еще и знакомство с новым подчиненным начал с такого вопроса.
— Нет, товарищ старшина.
Старшина развалившись сидел на стуле. На стуле! А комбату самодельный табурет подсунул. И как только этого кадра Гаврилов терпит? Но порядок в казарме он поддерживать умеет, да и в каптерке все на своих местах, все по линеечке.
— Тю-ю-ю, — разочаровано протянул Остапчук. — Как же ты у нас служить будешь?
— Так по тыловой норме водка только по праздникам.
Старшина сочувственно посмотрел на меня как на полного идиота.
— Ладно, давай тебе обмундирование подберем. Пятьдесят шестой?
— Пятьдесят шестой, — подтвердил я.
— И где я его тебе найду?
Нашел. Нагрузив меня новой гимнастеркой, шароварами, шапкой, рукавицами, новыми зимними портянками и массой других очень нужных красноармейцу вещей, он подвел меня к нарам у прохода.
— Вот твое место. В тринадцать ноль-ноль — построение. Шоб был как штык, форма — с иголочки.
— Есть!
— Не есть, а за винтовкой пошли.
На складе мне вручили длинную, тяжелую трехлинейку с четырехгранным штыком уже без заводской смазки.
— Пристреляна?
— А как же.
Оружейник и мысли не допускал, что может быть по-другому, хотя за пристрелку личного оружия он по должности не отвечает. И он, и я расписались, где надо. Не миновала и меня эта чаша, придется поучить «стебель, гребень, рукоятка». Заметив мою гримасу, Остапчук поинтересовался.
— Что не так?
— У меня до этого СВТ была.
— Интеллехенция, — одним словом старшина высказал все свое презрение к чуждому классу, — ничего, научишься.
Да научусь, конечно, не сложнее АКМа будет. Трехлинейку я и раньше в руках держал, но только держал, стрелять не приходилось. Пристроив винтовку в пирамиду на указанное старшиной место, я занялся обмундированием. Закончил как раз к обеду, старье сдал старшине на ветошь и второй срок.
Стуча сапогами и гремя оружием, розовощекая от легкого мороза и попадания в теплое помещение, в казарму ворвалась вернувшаяся с занятий батарея.
— Оружие в пирамиды! Построение через десять минут!
Надрывался кто-то из взводных лейтенантов. Десять минут на оправку всей батарее, строго у них тут! Ловя на себе частью удивленные, частью настороженные взгляды, я тоже начал надевать шинель. Мои будущие подчиненные тоже где-то здесь, они догадываются, что нового сержанта прислали на место их прежнего командира. Нам еще предстоит знакомство и притирка друг к другу, а пока они смотрят, изучают и пытаются догадаться, чего им от меня ждать. Я тоже присматриваюсь к людям. На здешнем пайке живот не нарастишь, но и доходяг тоже не видно, хотя запавшие глаза, обострившиеся носы и выпирающие скулы почти у всех. А вот просто пышущий здоровьем розовощекий сержантик. Интересно, на каких харчах он такую ряшку наел?
— Станови-ись!
Грохот сапог по доскам пола, суета. В конце строя я нахожу семерку красноармейцев с «чистыми» петлицами.
— Подвинься.
Мосластый парень сдвигает своего соседа вправо, тот своего и так далее. Я встаю на освободившееся место.
— Р-равняйсь! Смирно!
О, сам комбат пожаловал.
— Товарищ капитан…
Приняв доклад, Гаврилов вызвал меня из строя и представил батарее. Так расписал, что орден можно давать не глядя. Они меня теперь знают, а я их еще нет. Очень неуютно стоять под расстрелом семи десятков пар глаз. Хорошо хоть, правый фланг строя с моего места видно неважно. Наконец, представление заканчивается.
— Встать в строй!
— Есть встать в строй!
— Батарея, напра-во! На выход бего-ом марш!
Вместе со всеми я стучу сапогами по каменным ступеням, ведущим на выход из казармы. Теперь все по распорядку, все бегом. А что ты хотел? Ты теперь в армии, папаша!
— Коротким — коли!
Штыком, раз! Штыком, два! Прикладом, н-на! Надо пробежать полсотни метров, ткнуть штыком два чучела и треснуть прикладом по третьему. При этом нужно что-нибудь орать. И не просто орать, а с выражением, со злостью. Еще два десятка метров с криком «Ура!», и финиш. Просто? В общем, да. Но за каждым твоим движением бдительно следят — чуть что не так и…
— Выпад резче, локоть выше! На исходную!
И так до тех пор, пока въедливый лейтенант не признает твои выполнение упражнения удовлетворительным. Чучела сделаны из толстых прутьев или досок — штык может запросто застрять. Прикладом нужно бить так, чтобы дерево трещало. А вокруг еще три десятка гавриков бегают, орут, штыками размахивают, падают, повторяют все сначала. И так два часа в день, то строевая, то рукопашный бой. Ну на кой зенитчикам такая подготовка? Лучше бы матчасть зенитной артиллерии учили.
Трёхлинейная винтовка Мосина образца 1891/1930 года. Вес 4,5 кг, длина — 166 см, в том числе штык — 43 см. Начальная скорость пули — 870 метров в секунду, скорострельность — 10 выстрелов в минуту. Это я уже наизусть вызубрил. А винтовочка мне досталась новая, выпуска 1942 года. От довоенной она отличается паршивой лакировкой деревянных частей, это даже на глаз хорошо видно. Оно и понятно — с завода оружие попадет прямо в бой, а не на склад, поэтому возиться с тройной лакировкой и сушкой между ними никто не станет. Зато ствол без дефектов, что более важно. Кстати, я из винтовки еще ни разу не стрелял, что способствует минимизации усилий при ежедневной чистке оружия. Вечерняя чистка — это один из немногих моментов, когда можно посидеть, отдохнуть и расслабиться. Вынул затвор, прошелся по и без того зеркально чистому стволу слегка смоченным в масле ершиком, протер тряпочкой затвор и сиди, делай вид, что чисткой занят.
— Локоть, локоть выше!
Это взводный орет мне, что-то я размечтался. Штыком, раз! Прикладом, хренак!
— Ура-а-а!!!
Бежавший за мной сибиряк Колька Ерофеев, тот самый мосластый парень, поскользнулся, замахиваясь прикладом, и загремел на плац, вызвав гневно-матерную тираду взводного. Парень хоть и не быстро соображает, зато от работы не отлынивает. Из него хороший заряжающий выйдет — кость крепкая, а мясо еще нарастет. Если он жив останется, конечно.
— Станови-ись!
Наконец-то все закончилось. Идем в казарму, оставляем в пирамидах винтовки, оттуда нас ведут строем в столовую. Запевала выводит:
Небо голубое да над землей родимой. Затянуло тучей, грозовой. За родные земли да за страну любимую. Выходи, зенитчик, на смертельный бой. Батарея дружно подхватывает припев: В бой за Родину, в бой за Сталина! Воин, бей без промаха врага. С неба чистого гниль фашистскую Мы сметем потоками огня!И почему я на гражданке с песней в столовую не ходил? Аккурат к концу песни мы подходим к столовой. Минутное ожидание, и наконец-то.
— Справа в колонну по двое заходи!
Красноармейцы подходят к столам с двух сторон. По команде поворачиваются лицом друг к другу. На столах уже бачки с супом на восемь человек, алюминиевые миски, нарезан хлеб. Ложка у каждого с собой. Вилки и ножи не полагались. Звучит команда — приступить к приёму пищи. По этой команде бачковой, каждый день новый, разливает похлебку по мискам. Суп разливается «по черпаку», каждому был положен один черпак. Мне — два. Почему? Гаврилов официально выбил мне двойную норму, как имеющему рост выше ста восьмидесяти сантиметров. В моем положении лишний черпак супа многое значит.
То, что остается на дне бачка, достается самому бачковому, все зорко следят, чтобы он не слил сверху воду, оставив на дне гущу. Тут же кухонный наряд приносил второе — макароны, тушеную капусту с горохом, пюре на воде. На третье — чай. На весь процесс приема пищи — 10 минут. Успел, не успел, доел, не доел — шагом марш! Дожевывая на ходу, красноармейцы бегом устремляются к выходу, на очереди следующая батарея.
Кормили нас не плохо, а очень плохо. Нет, даже на третьей тыловой можно жить, но всё, что нам положено по этой норме, прежде чем превратиться в «разносолы» на красноармейском столе, проходило «утряску» и «усушку» в руках бессовестных пэфээсников и частично попадало на городские базары. Мы же жили впроголодь. Конечно, до голодных обмороков не доходило, и мясо с червями мы не ели, потому что совсем его не видели. Но кухонный наряд утверждал, что в суп кое-что попадало. Куда только оно потом девалось?
Хотя… Вот взять, например, сержанта Ивченко из первого взвода. Того самого, мордатого. Уж он-то явно от голода не страдает, но где и что он жрет, я не пойму. Ивченко ходит в любимчиках у старшины, после поверки личного состава он каждый вечер минут на тридцать-сорок, а то и на час, ныряет в каптерку. Чем они там занимаются, никто не знает. Сам «завмаг» на людях появляется нечасто, бывает, что и целыми днями его не видно. Свои должностные обязанности он почти целиком взвалил на своего протеже. Именно сержант гоняет всех на зарядку, распределяет наряды, следит за порядком в казарме и оружейных пирамидах, проводит поверку и даже ежедневно проверяет личный состав на педикулез по форме двадцать. Каждое воскресенье он ходит в увольнение. Увольнительные ему достает Остапчук. Сам же занимается хозяйственными работами и гоняет внутренний наряд, чтобы служба им медом не казалась.
Кроме учебы и несения внутреннего наряда, учебные батареи нашего запасного полка дежурят у орудий, установленных для защиты железнодорожного моста через Волгу и Окского моста. По уровню подготовки личного состава наш полк считается лучшим среди всех зенапов недавно образованного корпусного района ПВО. В начале ноября немецкие бомбардировщики несколько раз бомбили промышленные предприятия города. Досталось химическому заводу им. Свердлова, заводу N 2 «Нефтегаз», артиллерийскому заводу N 92 им. Сталина. В корпусном районе числится больше двухсот орудий и целая истребительная авиадивизия, даже посты ВНОС стали работать лучше. Но вся сила не смогла остановить небольшие группы немецких самолетов, летающих по ночам, даже сбить никого не удалось. Правда, и точность немецкой бомбежки тоже оставляет желать лучшего. Ночная темнота и маскировка промышленных объектов тоже играют свою роль. Корпуса ГАЗа затянуты маскировочной сеткой, а посередине проходит черная полоса, имитирующая асфальтированную дорогу. С конца ноября немцы над Горьким появляться перестали. Видимо, бои под Сталинградом и окружение шестой армии оттянули на себя все силы вражеской авиации. Противник утратил интерес к Горьковскому промышленному району, даже высотные разведчики перестали появляться.
А еще мы ходим в караулы и в самом городке, и на железнодорожной станции. Меня назначают либо разводящим, либо помощником начальника караула. В последнем случае по Уставу караульной службы в ночное время полагалось не менее двух раз проверять правильность несения службы часовыми. В тот раз, кроме эшелонов с воинскими грузами, стоял на путях гражданский товарный эшелон. Проверять посты мы пошли вдвоем с одним из караульных. Молоденький красноармеец оказался весьма глазастым — издалека заметил щель в одном из вагонов.
— Товарищ сержант, вагон открыт!
— Где?
— Да вон.
Но я уже и сам заметил темную полосу между дверью и стенкой.
— За мной.
На ходу я стащил с плеча винтовку с уже примкнутым штыком. В этот момент от вагона метнулись две тени — наше приближение не осталось незамеченным.
— Стой! Стой, стрелять буду!
— Стрелять?
Мой напарник уже встал на колено, направив ствол на бегущие тени.
— Давай!
Бах! Промазал! Тени нырнули под вагон и исчезли. Поднялся переполох, народу набежало… Воры оставили только следы на снегу. К счастью они только вскрыли вагон, перевозящий мануфактуру, но мы их спугнули, унести они ничего не успели. Вагон заново опломбировали, а на следующий день после смены с караула комбат объявил нам благодарность. И тут же заметил.
— А почему вы нашивку за ранение не носите?
— Да как-то…
— Стесняетесь? Нечего вам стесняться. Вы же за Родину кровь проливали, этим гордиться надо. Вы должны служить примером храбрости для нового пополнения.
Не мог же я ему сказать, что вся моя кровь осталась при мне и справку о ранении я сам себе написал.
— У меня в книжке соответствующей записи нет, — попытался отмазаться я.
— Нет? Давайте ее сюда, это мы быстро исправим.
Пришлось пришить над правым нагрудным карманом узкую золотистую полоску.
— Заряжай!
Красноармеец Ерофеев подхватывает патрон у пятого номера и досылает его в патронник. При этом первый и четвертый номера продолжают крутить свои маховики, и казенная часть ствола перемещается по углу и по азимуту, находясь в почти вертикальном положении. Это самое трудное упражнение для заряжающего, его выполнению обучают в самом конце, перед отправкой в боевую часть. Кланц — лязгает затвор, запечатывая снаряд в стволе. Очень хорошо — ни недосыла, ни заклинивания.
— Огонь!
Выполнение команды заканчивается щелчком ударника, снаряд-то учебный. В батарее я появился, когда обучение очередной партии новобранцев уже подходит к концу. Они уже почти все умеют, и скоро их ждут боевые части.
— Разряжай!
Колька открывает затвор и не успевает подхватить патрон. Унитар ткнулся дном гильзы в снег и, падая, едва не врезал мне по ноге, еле отскочить успел.
— Ну, ты… Долбодятел хренов! Откуда у тебя руки растут?!
Колькина физиономия выражает полное раскаяние, но безнаказанным это дело оставлять нельзя.
— Два наряда вне очереди!
— Есть два наряда!
— Следующий.
Огребший два наряда Ерофеев отходит в сторону, его место следующий красноармеец.
— Заряжай!
Кланц.
— Огонь!
Щелк.
— Разряжай!
На этот раз заряжающий ловит снаряд безукоризненно.
Задержавшись в парке, я возвращался в казарму. До построения на обед еще минут десять, и можно было не торопиться. Возле клуба стоит полуторка, водитель сидит на подножке, курит, наблюдая, как полковой киномеханик таскает внутрь тяжелые цилиндрические коробки. Кино, по сути, единственное развлечение, доступное в запасном полку красноармейцам и сержантам. Не удержавшись, интересуюсь.
— Что привез?
— «Трактористов».
— Опять?
Фильм о сельскохозяйственно-производственной жизни с демонстрацией тяжелых тракторов «Сталинец» и легких танков БТ лично мне уже надоел. Другим, думаю, тоже. Но кто-то неведомый выделяет полковому клубу одни и те же фильмы, а хочется чего-нибудь новенького.
— А ты что хотел?
Я быстро перебираю в памяти названия довоенных фильмов. Не то, не то, это тоже смотреть не хочется.
— А «Сердца четырех» есть?
— Какие сердца?
— Четырех. Неужели не слышал?
— Нет, — уходит в отказ киномеханик. — А что за фильм? Что-то из новенького?
Странно, очень странно. Я же точно помню, что комедия, где на фоне дачной жизни в образцовых советских граждан влюблялись идеальные советские девушки, был снят еще до войны. В общем-то, конечно, ничего особенного — обычная сталинская сказка. Но именно по этим сказкам будут потом судить о довоенной жизни советских граждан. Все ее трудности и страхи забудутся, а эти фильмы останутся. И еще, на таких сеансах можно посмеяться над немудренными шутками и комедийно-бытовыми ситуациями, полюбоваться красотой актрисы Серовой и поглазеть на молоденькую Целиковскую. Однако из сложившейся ситуации надо как-то выкручиваться.
— Да. Слышал, перед самой войной съемки закончили, а в прокат, видно, выпустить не успели.
Похоже, это действительно так. Выпускать такой фильм на экраны после начала войны я бы, наверное, тоже не стал.
— А из актрис кто снимался? — продолжает интересоваться механик, женский вопрос его тоже волнует.
— Серова и, вроде, Целиковская.
— Да-а, наверное, действительно хороший фильм.
Ну если оценивать по этому критерию, то и правда хороший. Однако надо же так проколоться.
— Ладно, таскай свои коробки.
— А помочь не хочешь?
— Нет, не хочу, у каждого свой груз.
Мне сегодня уже пришлось унитары потаскать, наломался. И я поспешил скрыться за углом, направляясь в казарму.
20 декабря мне дали увольнение в город с девяти до двадцати одного часа. Событие это было тем более неожиданным, что вечером я должен был заступить в караул, но заявившийся на вечернюю поверку «завмаг» неожиданно все переиграл. Вместо меня помначкара пошел Ивченко, а обычно предназначавшуюся ему увольнительную, Остапчук отдал мне. Эх, жаль, Ивченко стоял далеко от меня на правом фланге батареи и рожу его в этот момент я увидеть не мог, но, подозреваю, она была далеко не радостной. После того как была подана команда «Разойдись!», Ивченко бросил на меня неприязненный взгляд, как будто все произошедшее было моей инициативой, и подскочил к старшине. Полминуты от них исходило шипение рассерженных котов, слов было не разобрать, после чего они скрылись в каптерке. Сержант вышел быстро, минут через пять, видимо, старшина нашел аргументы для его успокоения. В мою сторону даже не глянул.
Неожиданно свалившаяся на мою голову увольнительная большой радости не доставила, да и идти в городе мне некуда и не к кому. Хотя от возможности покинуть стены военного городка и на несколько часов ощутить себя относительно свободным человеком откажется только полный дурак. А еще я ломал голову — к чему бы все это? Чернила, которыми было вписано мое имя, отличались от чернил гавриловской подписи. Значит, Остапчук имеет запас уже подписанных бланков, которым распоряжается сам. И что это значит? Старшина решил стравить меня с Ивченко? Но я ему дорогу вроде не перебегал. Или тут какие-то другие причины? Уснул, так и не придя ни к каким выводам.
Город встретил меня легким морозцем, скрипучим снегом, двухэтажными домами на центральных улицах, длинными утренними очередями спешащих отоварить карточки и угловатыми красно-кирпичными башнями кремля. Побродив по нагорной части города, наткнулся на небольшой рынок. За кирпич черного хлеба, после небольшого торга, отдал сто сорок рублей. Деньги у меня еще были, «лениных» достоинством три и десять червонцев брать с собой не рискнул. Прихватил с собой только червонцы и остаток «летунов» с «пехотинцами» и «шахтерами», всего чуть меньше двух тысяч. По военному времени сумма приличная, но не запредельная, а по меркам черного рынка так и совсем пустяки. Если даже и накроют, больших подозрений такие деньги вызвать не должны, авось отмажусь.
Нет, есть, конечно, люди, которые буквально через час-другой заводят себе знакомых в абсолютно чужом городе, вливаются в какие-то компании и неплохо проводят время. У меня так не получается. На улицах знакомиться я не умею, с людьми схожусь трудно, вот и болтаюсь в одиночестве по заснеженным улицам. Мороз хоть и небольшой, но после нескольких часов, проведенных на открытом воздухе, все-таки хочется попасть в теплое помещение. А куда пойти? В кино? Так, небось, тех же «Трактористов» крутят. Город двадцать первого века предоставляет случайному гостю гораздо больше возможностей развлечься. Можно посидеть в кафе или ресторане, получить доступ к интернету, в конце концов, просто потолкаться в торговом центре. Заодно и согреться.
А время уже подходило к обеду. Желудок дал о себе знать в положенный час, и я понемногу дощипал остаток буханки.
— Товарищ военный, лишний билетик не купите?
Я обернулся. Вот это встреча! Передо мной стояла бравая предводительница женской штурмовой команды из городской общественной бани. Я постарался удержать морду ящиком, но она меня узнала.
— Что, военный, так в тылу и ошиваешься?
— Это кто в тылу ошивается? — абсолютно искренне возмутился я. — Да я под Воронежем немецкие танки останавливал! Я… Я ранен был, сюда опять из госпиталя попал. Да я… А ты…
Попытка рвануть ворот шинели и продемонстрировать нашивку за ранение была заранее обречена на неудачу, но и возмущенной тирады хватило — женщина поверила.
— Ну извини, — смутилась она. — Кто же знал, что ты герой?
— Герой, не герой, а от фрицев не бегал.
Тут я приврал, побегать тоже пришлось. Чтобы не затрагивать эту тему дальше, я перешел в наступление.
— Так что там насчет лишнего билета? Кавалер не пришел?
— Подруга. Здесь встретиться договорились, кино вот-вот начнется, а ее нет. Три рубля тоже деньги не лишние.
— Беру.
Я выудил из кармана несколько мелких купюр и вручил женщине «пехотинца», став взамен обладателем зеленоватой полоски бумаги.
— А что хоть показывают?
— Волгу-Волгу.
Эту комедию с Ильинским и Орловой я видел неоднократно, но отступать было поздно. В зал мы попали уже после начала сеанса, но сам фильм еще не шел — крутили документальную хронику из Сталинграда. Оперативно сработал сталинский агитпроп.
— А ты к нам надолго? — поинтересовалась женщина.
— Это уж не мне решать, а начальству. Может, задержусь, а может, завтра туда отправят.
Я кивнул на экран, где камера крупным планом демонстрировала заметенные снегом трупы в серых шинелях. Начался фильм, и некоторое время мы сидели молча. Зал не то чтобы полный, но народу хватает. Некоторые парочки, воспользовавшись темнотой зале, перестали обращать внимания на экран. Прямо перед нами совсем еще пацан облапил такую же зеленую девицу и неумело изображал страстный поцелуй.
Сеанс уже дошел до середины, и парусник начал догонять доисторический пароход с колесом в заднице, как вдруг под мой правый локоть медленно, но настойчиво начала внедряться чья-то рука. Я бросил взгляд на женщину, она смотрела прямо на экран. Чужая рука добралась до конца. Я рискнул накрыть ее своей левой и слегка сжал. И тут же уловил легкое ответное пожатие. Путь открыт? А, была, не была! Женщина «поплыла» чуть ли не с первых же секунд поцелуя. Год назад она на мужиков кидалась с совсем другими намерениями, а тут вероятность перевода отношений в горизонтальную плоскость стремительно приближалась к единице.
— Эй, эй, ты что делаешь? — возмутилась совесть. — Может, у нее муж на фронте?
— Отвали, — огрызнулся основной инстинкт, почуявший близость поживы. — Если муж и есть, то шансов вернуться у него ноль. А если и вернется, то жена хоть квалификацию не потеряет. Хе-хе.
— Постойте, постойте, нельзя же так, — вмешался разум, — а вдруг она забеременеет? Возможно, тогда вся мировая история пойдет насмарку…
— Ничего, перепишут, — донеслось откуда-то из-под пряжки брючного ремня, — не в первый раз.
Отбросив доводы разума и совести, я предался предварительным плотским радостям с практически незнакомой женщиной, но тут опять вмешался мозг.
— Ну и куда ты ее поведешь? В гостиницу — нельзя, комнату снять — нереально, на свежем воздухе — погодные условия не располагают. Ну что, съел?
Ситуация действительно складывалась комическая: вроде есть кого, есть чем, на близость женского тела организм отреагировал как надо, несмотря на постоянное недоедание, но негде! Оторвавшись от женщины, я задал вопрос, в котором таилась последняя надежда на благоприятный исход.
— Может, к тебе?
Тут же выяснилось, что в ее четырнадцатиметровой комнате кроме нее живут мать, сестра и трое детишек. Город был переполнен беженцами, каждый квадратный метр жилой площади был на счету. Птица обломинго расправила крылья и распустила хвост. Тащить ее в антисанитарные условия какого-нибудь чердака или подвала я не рискнул. Тогда я задал еще один вопрос.
— А как тебя зовут?
Женщину звали Ольгой. Работает на ГАЗе контролером ОТК. Муж работал там же, имел заводскую бронь, но осенью прошлого года ушел на фронт добровольцем и буквально сразу же сгинул где-то в Вяземском котле.
— Написали, без вести пропал.
Остался ребенок, мальчик. В этом году пошел в первый класс. На глаза у нее навернулись слезы, и приставать к ней в таком состоянии я уже не рискнул. Однако она довольно быстро успокоилась и шепотом поведала мне, что одной ей трудно. Основной инстинкт ехидно прокомментировал полную неразвитость индустрии помощи одиноким женщинам в Советском Союзе сороковых годов. Крутить романы на работе или по месту жительства она не хотела, да и опасалась злых языков соседок и сослуживиц, в подавляющем большинстве таких же соломенных и реальных вдов.
— Да и мужиков нормальных вокруг мало, — посетовала она.
Я сочувственно согласился. Между тем в голове завелась мыслишка: а подружка-то была? Была, по крайней мере, Ольга так утверждала, и действительно не пришла.
На экране пошли титры, народ потянулся из зала, мы тоже поднялись. Я предложил ее проводить, она согласилась. Так, под ручку мы прошли почти полгорода по хрустящему снежку, уже начинало темнеть. На улице, застроенной двухэтажными деревянными домишками, Ольга остановилась.
— Ты меня дальше не провожай.
— Соседок боишься?
— Боюсь.
Я притянул женщину к себе. Сопротивлялась она всего пару секунд, после обмякла и обвила руками мою шею. Однако бесконечно это длиться не могло, пришлось объятия разжимать.
— Мы еще увидимся?
Ольга ненадолго задумалась и продиктовала телефон.
— Это подружкин. Ее Аней зовут. Будет возможность — позвони, она все мне передаст, а я что-нибудь придумаю.
И ушла. Проводив ее взглядом, я медленно побрел обратно. Потом вспомнил, что есть шанс успеть на ужин, и добавил оборотов. По пути мне пришло в голову, что это ее «а я что-нибудь придумаю» прозвучало довольно многообещающе. Чем черт не шутит! Короче, КПП я проскочил в довольно приподнятом настроении, даже в столовую с батареей прийти успел.
Глава 4
Начало дня не предвещало никаких происшествий, но буквально сразу после утреннего развода в батарее начался натуральный кипеж. Сначала появились наши батарейцы, снятые с караула. От них мы узнали, что сегодня ночью кто-то опять вскрыл вагон, на этот раз удачно, и утащил два десятка ящиков с американской тушенкой. Консервы вынесли через дыру в заборе, возле которой воров ждала машина, затерявшаяся потом в ночном городе. Сделано все было настолько тихо и незаметно, что никто из часовых и не почесался. Пломба была аккуратно срезана, а потом так же аккуратно пристроена обратно. Пропажу обнаружили только утром — сопровождающий груз перед отправкой эшелона проверил пломбы на вагонах. Он-то и поднял тревогу. Приехала милиция, нашли следы, дыру в заборе, отпечатки протектора грузовика. Если бы не бдительность железнодорожника, то эшелон ушел бы на следующую станцию, а там, поди, найди, где пропало продовольствие.
Всем понятно, что сработали местные уголовники, и делом этим занималась милиция, но воры не меньше получаса незамеченными орудовали на станции, вынося тяжелые ящики. Получалось, они отлично знали, что сам вагон и путь выноса часовыми не просматривались. Кроме того, они знали время смены и, возможно, время проверки постов. А тут уже попахивало сообщником среди караульных. Всех подозреваемых допрашивал полковой особист. Я даже тайком перекрестился, что эту ночь спал в казарме, а не караулил станцию — встреча с органами в мои планы и так не входила, а уж в качестве подозреваемого и подавно.
Однако рано я обрадовался, на следующий день на допрос дернули и меня, правда, в качестве свидетеля, милиция связала два ограбления: вчерашнее и неудавшееся недельной давности. Но помочь местным сыщикам в поимке злоумышленников я не смог.
— Опознать? Нет, не смогу. Далеко было, и освещение плохое, только силуэты и видели.
— Ладно, идите. Если что-то вспомните…
— Обязательно сообщу, товарищ политрук!
Я с огромным облегчением выкатился за дверь кабинета и только в коридоре позволил себе немного расслабиться. Остальных на допросы таскали еще неделю, особист давил, стращал, Ивченко даже три дня просидел на гауптвахте и вернулся злой как черт, но так ничего и не выяснилось. Понемногу дело заглохло, все успокоилось, народ облегченно вздохнул и начал готовиться к встрече Нового года. Я тоже начал размышлять, как опять выбраться в город и продолжить столь перспективное знакомство, но в один из вечеров меня некстати занесло в туалет после отбоя.
Когда я вошел, Ивченко стоял возле открытой форточки. Ничего необычного в этом не было, некоторые втихаря, а Ивченко практически открыто, курили в туалете, что было строжайше запрещено. Вот только папиросы у него в руке не было, мне показалось, что за мгновение до моего прихода он что-то выбросил в окно. Ну выбросил и выбросил, не мое это дело. Обернувшись и увидев меня, сержант ухмыльнулся, приоткрыл рот, вроде хотел что-то сказать, но закрыл рот обратно и, слегка пошатываясь, вышел. Когда он проходил мимо меня, я почуял свежий выхлоп. Во, обнаглел! Бухали они в каптерке со старшиной. Видимо, Новый год досрочно встречать начали.
На этом бы все и закончилось, но на следующее утро судьбе было угодно загнать меня на расчистку снега с тыльной стороны казармы. Вгоняя в сугроб фанерную, обитую жестью лопату, я вывернул из снега золотистую банку емкостью приблизительно поллитра. Посредине банки крупными буквами было написано «Pork хрен пойму meat». Я поднял голову — прямо надо мной, на втором этаже поблескивало стеклом окно туалета нашей батареи.
— Что это у вас, товарищ сержант?
— Да так, ничего.
Я с трудом затолкал банку в карман шинели.
— Ну что замер, Ерофеев? — накинулся я на не в меру любопытного подчиненного. — Греби больше, кидай дальше. До обеда все должно быть расчищено.
И сам взялся за лопату, но снег уже кидал чисто механически, раздумывая над тем, что предпринять. Или ничего не предпринимать? Первый порыв — рвануть на полусогнутых в известный кабинет за справедливостью — уже прошел. А что? Выкинуть эту проклятую банку и забыть. И спокойно жить дальше. Нет, не выход, долго сосуществовать с этой сволочью на территории, ограниченной казармой, я не смогу, рано или поздно все равно схлестнемся. Пустая банка давила на бедро при каждом движении, постоянно напоминая о своем существовании и подгоняя в принятии решения.
— Валиев, куда ты кучу навалил? Военный сугроб должен ровненьким быть, как по линеечке. Подравнять немедленно!
Или все же к особисту? Но все мое естество восстало против такого решения. Стукачом я никогда не был и не буду. Да и не видел я ничего хорошего от этих товарищей в форме политсостава, одни гадости. И тут же завелась мыслишка: может, это другая банка? Ну да, ее Ивченко на трудовые доходы купил! Смешно. Нет, ситуация ясная. У «завмага» есть связь с местным криминалитетом. Скорее всего, ворованное через них толкает. А Ивченко выполняет функцию связного между старшиной и уголовниками, поэтому каждую неделю и ходит в город. Но много в родной части не наворуешь, вот они и придумали новый бизнес с потрошением вагонов на станции. Сдали схему постов, время смены часовых и стали ждать прибыли. Но в первый раз им обгадил малину один помначкар, не вовремя попершийся с проверкой постов, и тогда они поставили в караул своего человека, надеясь, что воровство обнаружится не сразу. Но тут вмешался случай в лице бдительного железнодорожника, заметившего нарушенную пломбу.
Однако куш они взяли неплохой — по ценам местного рынка два десятка ящиков «второго фронта» — это ого-го. За добычу им пришлось расплачиваться потрепанными нервами, особенно сержанту Ивченко, он был под серьезным подозрением, но доказать ничего не смогли. Вот он вчера нервы и лечил, а закусывали добытым. Во, наворотил! Но, вроде логично. Хотя чего-то в этой схеме не хватает.
Короче, если я сейчас подниму шум, то могу оказаться крайним. Если старшина и Ивченко не полные идиоты, то хранить ворованное в каптерке они не будут. Принесли вчера одну банку и тут же ее слопали. А кроме меня, никто больше в руках сержанта ее не видел. Отпечатки пальцев? А он скажет, что это я его угостил. Никто, конечно, не поверит, но если другие банки не найдутся, то я могу стать крайним. А в том, что они найдутся, я сильно сомневался. И тут мне в голову пришла мысль.
— Валиев!
— Я!
— Остаешься старшим. Я скоро вернусь.
Идя напрямую к Гаврилову, я, конечно, нарушал субординацию — к комбату мы должны были обращаться только через взводных, и за этим следили строго. Но случай был экстренный, а комбат, в принципе, мог разобраться с этими гадами своей властью — просто отправить с очередной командой на фронт, а там, глядишь, немецкая пуля и свершит правосудие. Кстати, очередная команда отправлялась из полка буквально завтра днем. С этими мыслями я возник на пороге комбатовской каморки.
— Разрешите войти, товарищ капитан!
Гаврилов поднял на меня удивленный взгляд.
— Входите. Что у вас?
Я плотно прикрыл дверь и с трудом извлек банку на свет.
— Что это?
— Сержант Ивченко вчера в окно выбросил, а я сегодня нашел.
Капитану хватило буквально секунды, чтобы оценить ситуацию.
— Кто-нибудь еще видел, как вы ее нашли?
Я его понимаю, всплывет история — капитану тоже мало не покажется, точно из запасного полка на фронт попрут.
— Не знаю. Может, кто и видел.
Гаврилов пару раз пересек свою каморку, хотя что там пересекать — два шага туда и два обратно. Остановился передо мной, постоял, размышляя, наконец, вскинул голову — ростом он существенно ниже меня — и произнес.
— Спасибо вам. С этой сволочью я разберусь. Обязательно разберусь, но мне надо подумать. А сейчас идите.
— Есть!
Гаврилов мужик правильный и командир настоящий, недолго этим гадам осталось в тылу сидеть. Полный радужных надежд, я выкатился в помещение казармы и поспешил к своим архаровцам — их только оставь без присмотра, сразу сугроб вдоль дорожки кривой выйдет.
До конца дня ничего не случилось. И следующее утро прошло как обычно: подъем, зарядка, приборка, построение, завтрак, развод. Около десяти, во время занятий в парке, за мной пришли старшина и Ивченко. По их рожам я сразу понял, чего не хватало в моей схеме — крыши. А крышевал всю эту компанию наш бравый капитан, образцовый командир и душевный человек. До последнего момента не думал про него плохо, а купил-то он меня всего лишь за лишний черпак супа и ложку каши. Козел! Урод морально-нравственный!
— Пошли с нами, — приказал Остапчук.
— Куда?
От неожиданности я решил, что меня просто грохнут, и начал лихорадочно перебирал варианты использования подручных предметов в качестве оружия, в карманах у меня не было даже перочинного ножа. Увы, но ничего подходящего поблизости не было. Однако Ивченко, более молодой и менее выдержанный, рассеял мои страхи.
— На фронт поедешь, — хохотнул он, — с сегодняшней партией.
До меня, наконец, дошло, что на глазах у многочисленных свидетелей убивать меня никто не будет. Да и зачем им лишнее дело на себя вешать? Достаточно просто сплавить меня из полка подальше, что и сделал комбат, включив меня в команду, отправляемую в боевую часть.
— А пока имущество сдай, — добавил старшина, — да быстрее, давай, шевелись. Или от страха в штаны наделал?
— Свои проверь, — огрызнулся я. — Пошли, получишь свое барахло обратно.
Я решительно двинулся прямо на них. Не успевший убраться с дороги Ивченко отлетел в сторону, задетый моим плечом, и едва удержался на ногах.
— Чего хлебальники раззявили, — обрушился он на невольных свидетелей произошедшего, — а ну за работу! Матчасть учите!
Я быстрым шагом направлялся к казарме, оба обормота сопели за моей спиной. Страха не было, была обида и злость. Надо же было так ошибиться в человеке!
Процедура сдачи вещевого имущества заняла минут двадцать, еще полчаса оформляли документы. К одиннадцати я стоял в строю среди абсолютно незнакомых мне красноармейцев. За спиной висел «сидор», с которым я здесь появился, винтовку тоже пришлось сдать, «там дадут». Об этом я нисколько не жалел — зенитный полк еще не передовая и вряд ли мне в ближайшее время потребуется личное оружие. Незнакомый капитан начал перекличку, назвал и мою фамилию, я привычно откликнулся, продолжая считать про себя количество людей. Счет остановился на девяносто пятой фамилии.
— На-пра-во! Шаго-ом марш!
Колонна «по четыре», скрипя снегом, вышла через распахнутые ворота. Шли молча, я воспользовался последней возможностью рассмотреть город. Почему-то я был уверен, что больше сюда не вернусь, по крайней мере, в этом времени.
На станции нас уже ждал эшелон, нашей команде выделили три теплушки. Назначенный старшим по вагону младший лейтенант с набитой тряпками кобурой, еще раз пересчитал нас по головам. Началась погрузка. Едва я успел плюхнуться на нижний уровень деревянных нар поближе к печке, как кто-то тронул меня за руку.
— Товарищ сержант, а можно рядом с вами?
— Можно Машку за… — привычно начал я. — Ерофеев? А ты здесь как?
Автоматически считая фамилии, я упустил знакомые, и мне казалось, что из батареи сюда направили меня одного.
— Меня прямо с наряда сняли и сюда. Тут незнакомые все, а я как вас увидел — обрадовался. Можно, я и дальше с вами?
— Ну это уже не мне решать, а начальству. А из наших никого больше не видел?
— Валиева. Но он в другой вагон попал.
— Понятно.
Всех, стало быть, спихнул из батареи капитан. Ну и хрен с ним! Может, там, на фронте, воздух чище будет, а здесь что-то сильно пованивает. Дверь вагона с лязгом закрылась. Сразу наступил полумрак, теплее не стало, зато перестало дуть. Кто-то напихал в печку бумаги и поджег, отсветы пламени заплясали на деревянных стенкам.
— Товарищ младший лейтенант, — поинтересовался я, — а вы совсем с нами или туда и обратно?
— Совсем.
Лейтенант попытался добавить в голос нижних тонов для солидности, но сорвался на мальчишеский фальцет. Детский сад.
— А куда нас, не знаете?
— Это секретная информация.
Чувствую — врет, сам ни хрена не знает, но мальчишеский гонор не позволяет в этом признаться. Ну и ладно, приедем — увидим.
Новый год приходилось встречать в разных условиях и обстоятельствах: за тысячи километров от дома и цивилизации в вахтовом вагончике, два раза в казарме, раз пять в ресторанах разной степени приличности, несколько раз всухую, но никогда на колесах. Накануне нам выдали сахар, немного, граммов пятьдесят. Его ссыпали в карманы, в кисеты, бумажные кулечки, тут же меняли на хлеб и табак. Новый год в промороженной теплушке с раскаленной почти докрасна буржуйкой мы встретили послащенным кипятком с куском черного хлеба. Терпеть не могу говорить тосты, но тут меня прорвало — когда минутная стрелка на часах лейтенанта почти совпала с часовой, я встал и, перекрыв шум, потребовал внимания.
— За новый одна тысяча девятьсот сорок третий год. Год, когда мы сломаем, наконец, хребет фашистского зверя. За Победу!
Народ радостно загремел кружками, все хотели чокнуться со мной. Кипяток был в самый раз: недостаточно горячий, чтобы обжечься, но хранящий много драгоценного тепла, проникающего прямо внутрь организма. Снаружи горохом сыпанули несколько выстрелов, пауза, и опять: бах, бах, бах. Лейтенант метнулся к двери.
— Не суетитесь, товарищ лейтенант, это славяне новому году салютуют.
Однако молодости не свойственно прислушиваться к советам старших и более опытных товарищей. Ошибки предков они предпочитают изучать на собственном опыте.
— А может нападение? Надо выяснить. Вы — за старшего.
Спрыгнул на насыпь и побежал в голову эшелона.
— Колька, дверь закрой, — попросил я Ерофеева.
И мы продолжили праздновать. Минут через десять, в дверь теплушки постучали. Сидевшие около двери красноармейцы открыли ее и втащили замерзшего лейтенанта обратно, тот смущенно проскользнул на свое место. Хоть и пацан, но, по крайней мере, не трус. Я бы три раза подумал, стоит ли бежать разбираться со стрельбой, когда тебя этот вопрос прямо не касается, а в кобуре вместо оружия — тряпки.
Между тем мы пятые сутки ползем на юг. С учетом происходящих на фронте событий, я с вероятностью девяносто девять процентов могу указать конечную точку нашего путешествия — Сталинград. Сейчас активно действует воздушный мост, доставляющий грузы окруженным фрицам. Видимо, в ближайшее время придется пострелять по немецким транспортникам.
В Саратове уже почувствовалась близость фронта, к нашему эшелону прицепили две платформы с зенитными автоматами. Подозреваю, что в случае налета немецкой авиации толку от них будет немного, но хоть будет, чем фрицев пугнуть. Зато народ сразу подтянулся, посерьезнел, подавляющее большинство в зону боевых действий попадало впервые. Однако до Сталинграда мы не доехали. Второго января нас выгрузили на небольшой станции в паре сотен километров от города. От самой станции мало что осталось — бомбили ее много. Кругом занесенные снегом воронки, насыпь и рельсы хранят следы многочисленных ремонтов, от станционных зданий не осталось даже стен, только возвышающиеся над общим уровнем снега сугробы указывают на места, где они когда-то стояли.
Едва мы выгрузились, эшелон ушел обратно, а нас пешим порядком, по хорошо утоптанной предыдущими колоннами дороге, отправили куда-то на юго-запад, если ориентироваться по солнцу. Ночевать пришлось прямо в открытой степи. Точнее, когда-то здесь был хутор, но от него остались только пара закопченных труб да разрытые сугробы на месте домов, где наши предшественники разыскивали топливо для костров. Ночевать на морозе у костра — жуткое дело. Спереди уже пованивает паленым шинельным сукном, а со спины пробирает мороз. Надо периодически поворачиваться. Не дай бог заснуть, можно и не проснуться, товарищи периодически толкают друг друга. Если задремать и потерять над собой контроль, то можно упасть вперед — прямо в раскаленные угли.
Утром голодные, не выспавшиеся и замерзшие, мы тронулись в путь и к полудню едва доползли до более крупного населенного пункта, станицы или поселка. Здесь были уцелевшие дома, но народу в них набилось… Внутри холодно — топить нечем, но хоть от ветра защита есть. Спать можно только сидя, ноги вытянуть невозможно. Я пристроил вещмешок под спину и расположился почти полулежа. Рядом со мной пристроился Ерофеев.
— Надолго нас сюда?
— Думаю, нет. По частям быстро распихают, чего зря такую ораву кормить.
Однако со сроками я ошибся, как и с будущим местом службы — не судьба мне была послужить в Сталинградском корпусном районе ПВО. Продажная девка фортуна выписала очередной пируэт, в результате которого жизнь моя сильно изменилась, не могу сказать, что к лучшему.
Личный состав района ПВО и так процентов на пятьдесят был женским. Но потери зенитных частей Сталинградского, Юго-Западного и Донского фронтов в операциях ноября-декабря сорок второго года вынудили начальство еще раз прочесать состав частей ПВО на предмет высвобождения мужского контингента. Естественно, пополнение, которое еще не успели распределить по частям, попало под эту гребенку в первую очередь. К нам зачастили «покупатели» из отдельных дивизионов и полков зенитной артиллерии.
В занимаемых нами домах стало свободнее, раз в день стали кормить горячей пищей, если добавить отсутствие налетов авиации и полезных занятий, то стало даже скучновато. На престарелого сержанта никто из приезжавших позариться не спешил, разбирали более молодых. Но все когда-нибудь заканчивается, выходя из нашего пристанища, я столкнулся с незнакомым лейтенантом.
— Кто такой?
Я представился.
— Командир орудия? Это хорошо. А не хочешь послужить в нашем полку МЗА?
Наверное, он ожидал, что я бодро соглашусь «Так точно, товарищ лейтенант!», но я только плечами пожал, мне было все равно где. А лейтенанта я понимаю, они только что окружили Паулюса, надавали по сусалам Манштейну, пребывали в радостной эйфории и были готовы гнать фрицев дальше. Вот только я его оптимизма, по понятным причинам, не разделял. Лейтенант пригляделся ко мне внимательнее.
— Уже повоевал? Когда? Где?
— Днепр, Брянск, Елец, Воронеж.
— Понятно. Ну так что? Готов Родине в МЗА послужить?
— Можно и в МЗА.
— Не можно, а «есть, товарищ лейтенант».
— Есть, товарищ лейтенант!
— Вот так-то лучше. Через десять минут жду у штаба.
Штабом громко именовалась канцелярия, ведавшая прибывающими и убывающими, располагавшаяся в одном из уцелевших домов в центре поселка.
— И меня возьмите, товарищ лейтенант!
Колька то ли услышал, то ли почуял, что меня куда-то вербуют.
— А ты кто?
— Красноармеец Ерофеев!
— Заряжающий, — пояснил я. — С запасного полка вместе.
— Заряжающий тоже сгодится, — согласился лейтенант, — значит, оба через десять минут штаба.
— Есть, у штаба!
Лейтенант ушел. Колька удивленно взглянул на меня.
— Чего это он по избам ходит? Обычно по бумагам набирают.
— Людей себе подбирает, — ответил я, — для своего же подразделения. Вот и смотрит, кого брать. Ладно, пошли собираться.
У «штаба» стоял вымазанный белой краской тентованный грузовик, похожий на уменьшенный «студебеккер» без второго заднего моста. Возле грузовика притопывали, пытаясь согреться, еще шестеро таких же, как мы. Из дома вышел красноармеец и направился к машине.
— Что за агрегат? — поинтересовался я, кивнув на ранее не виданный грузовик.
— «Шевроле», девяносто три лошадиные силы, все мосты ведущие.
Сказано это было с нескрываемой гордостью за каждую лошадиную силу, как будто машина эта была собственноручно создана водителем от рамы до последней гайки. Я еще хотел расспросить его про машину, но тут появился лейтенант.
— Станови-ись!
Мы после некоторой заминки построились. Я оказался на правом фланге.
— Я — лейтенант Угрюмов. Ваша дальнейшая служба будет проходить под моим командованием.
Большой радости по этому поводу никто не выказал. После короткой переклички мы погрузились в кузов. Хлопнула дверца кабины. Что меня удивило — двигатель завелся от обычного стартера. Наши машины заводились только кривым. На ходу под тент малость поддувает, тусклый свет проникает внутрь сквозь щели. Холодно. Все попрятали руки, нахохлились, стараясь не растерять имеющееся тепло, на разговоры не тянуло. Машина едет неторопясь, на глаз километров тридцать-тридцать пять в час, а когда и меньше. В вечерних сумерках добрались до затерянного в заснеженной степи хутора.
— Переночуем здесь, — принял решение лейтенант.
Нам достался крайний дом, стоящий у дороги на запад. Все население хутора состояло из нескольких дедов, дюжины бабок и нескольких ребятишек. Все остальные в возрасте от десяти до шестидесяти лет обоего пола отсутствовали напрочь.
— Кто сам ушел, а кого герман угнал, — пояснила хозяйка дома, щеголявшая в зеленой шинели неизвестной армии.
Шинель для старухи была длинновата, полы буквально волочились по земле, что придавало бабке довольно комичный вид. Остановка военных на хуторе была праздником для местного населения. Немецкие войска и их союзники, отступавшие через хутор, дочиста выгребли все содержимое кладовок и погребов хуторян, обрекая их на голодную смерть. Кое-что у них, видимо, сохранилось, надежно спрятанное от мародеров разных национальностей, но случая подкормиться от солдатского котла они не упустили. Набив живот сухпаем, который после третьей тыловой нормы шел просто на ура, и, запив ужин кипятком с кусочком рафинада вприкуску, я уже намеревался завалиться на боковую, но тут малая нужда погнала меня на улицу.
На крыльце приплясывал часовой, хлопая себя по бокам — к ночи мороз сполз явно ниже двадцати градусов, на скрип открывающейся за спиной двери он даже не отреагировал. Сходу я передумал бежать в и без меня загаженный, насквозь промороженный сортир, сугроб за углом вполне подойдет для моей цели. Стоило мне завернуть за угол, как привычный скрип снега под ногами сменился странным хрустом. Ощущение такое, будто наступил на едва присыпанную снегом щебенку. От удивления я запустил руку в снег. Нет, не щебенка — гильзы. Судя по закраине, наши. Ё-мое, да их тут даже не сотни — тысячи! И все на небольшом пятачке. Судя по всему, около этого угла стоял «максим» и бил по дороге, ведущей от хутора на запад. И было это не очень давно, гильзы едва присыпаны снегом. Почему «максим»? Да потому, что ни ДС, ни тем более ДП такого количества патронов за короткое время переработать не смогут. Только старый надежный станкач с водяным охлаждением ствола способен на такое, да и выброс гильз характерный — вперед. А почему за короткое время? Да если бы бой был как-то растянут по времени, то пулеметчики позицию поменяли, а они с одного места выпустили пять или шесть лент. Но кто мог наступать на хутор за последние две недели? Немцы контратаковали? Обследование стены за россыпью гильз показало, что никаких следов от пуль или осколков на ней нет. И что получается? Недели две назад здесь стоял наш станковый пулемет, который буквально за несколько минут выпустил тысячу, а то и две, патронов в западном направлении. В ответ же не прилетело ни одной пули, ни одного снаряда или мины. Странно, очень странно. Сделав свое дело в сугроб, я заспешил обратно в дом. Внутри наткнулся на хозяйку.
— Бабулька, а кто у вас тут недавно возле дома воевал?
— Свят, свят, свят…
Крестясь, бабка шмыгнула в сторону, демонстрируя полное нежелание продолжать разговор на данную тему. Ну и ладно. Какое мне дело, кто тут в кого стрелял?
На следующий день подняли нас еще до рассвета, лейтенант торопился догнать ушедший вперед полк. После команды «По машинам!», еще не до конца проснувшись, я забрался под тент нашего «шевроле», притулился спиной к борту и, натянув поглубже ушанку, попытался добрать то, что не доспал. Не получилось, задние колеса у «шевроле» двойные, при движении машину в колее болтает сильно.
От хутора дорога сразу нырнула вниз, а затем начался длинный пологий подъем — тягун. Сидевший у заднего борта Колька толкнул меня локтем в бок.
— Смотрите, товарищ сержант!
Я нехотя разлепил глаза, взглянул в направлении колькиной рукавицы. Ну и что? Еще не до конца рассвело, и видимость была довольно паршивая. Бугры какие-то зеленые на обочине, почти занесенные снегом. И тут я увидел лицо. Бледное, перекошенное ужасом мертвое лицо проплыло буквально в паре метров от меня. Вместе с осознанием того, что все обочины завалены трупами в зеленых шинелях, куда-то в живот вполз липкий, ледяной страх. Десятки, нет, сотни и сотни, замерших и замерзших в самых разных позах покойников лежали на расстоянии всего метра от меня. Румыны или итальянцы? А может, венгры? Но точно не немцы, их серые шинели я хорошо помню. Привлеченные восклицанием зашевелились остальные, пытаясь рассмотреть, что же там интересного нашлось за задним бортом грузовика.
— Всем сидеть на своих местах! Отвернуться! Отвернуться, я сказал!
Парни молодые, совсем еще зеленые, насмотрятся на такие ужасы, и у самых впечатлительных еще и крыша поедет. Да и свой страх я постарался загнать поглубже. А обочины из трупов все тянулись и тянулись, надсадно выл на высоких оборотах мотор грузовика. А водителю с лейтенантом в кабине каково? У них-то обзор получше нашего будет. Невольно пришла мысль, что не всех убитых убрали с дороги, некоторые наверняка остались под колесами машин.
Звук мотора стал ниже и не таким громким — подъем закончился. Вместе с подъемом закончились и страшные обочины, дальше шли обычные сугробы. И тут у меня сложилась вся картина. Авангард одного из наших кавалерийских корпусов нагнал отступавшую колонну гитлеровских сателлитов, как только она прошла через хутор. Кавалеристы сняли с вьюка «максим», установили его около угла крайней хаты, и те, кто не успел перевалить через гребень, защищавший от пуль, навсегда остались в промороженной степи. Бежать они могли только по дороге, снега вокруг намело столько, что шаг в сторону и проваливаешься на глубину где-то между коленом и поясом. А тех, кого не убили пули, прикончил первый же ночной мороз.
Мне не было их жалко. В конце концов, никто их сюда не звал, и конец их был закономерен для врагов, пришедших на нашу землю. Но бойня была жуткая. У пулеметчиков должны быть железные нервы. Или очень сильная ненависть. Интересно, что они сделали, когда цели закончились и пулемет выплюнул последнюю ленту? Деловито открутили крышку кожуха и добавили снега в кипящую воду? Или торопливо закурили, высекая огонь из «катюши» и стараясь унять дрожь в руках? А еще кому-то пришлось растаскивать трупы, освобождая дорогу… Бр-р-р. Не то от холода, не то от увиденного меня пробила дрожь, как будто я сам только что убрал руки с рукояток «максима». А смог бы я так же? Наверное, нет. А может, да? Пока не попадешь в конкретную ситуацию, не узнаешь. Бр-р-р. Я постарался не думать об увиденном, но стоило прикрыть глаза, как начинали плыть мимо зеленые, заметенные снегом шинели и белые, замерзшие лица.
Полдня ехали по «выжженной земле». Отступая, немцы сожгли все, что могло дать хоть какое-то укрытие от мороза и непогоды преследующим их советским войскам. Вдоль дороги часто попадаются трупы, чаще немцы и их союзники, реже — наши. Никто их не собирает и не хоронит. Вид насквозь промерзших, страшных восковых кукол действует угнетающе. Поэтому едем молча, да и вой автомобильного движка общению тоже не способствует.
Через Дон переправились по мосту около Калача. Перед мостом машину проверяют. Документы смотрят только у лейтенанта и водителя, к нам в кузов просто заглядывают и пересчитывают по головам. Про захват этого моста передовым отрядом наших танкистов я читал когда-то давно, еще мальчишкой, теперь пришлось увидеть его воочию. Темнеет в январе рано, и лейтенант принимает решение — на ночь остановиться в городе. Калач, по местным меркам, крупный и важный населенный пункт, а значит, в нем есть не только комендатура, где можно попасть на губу, но и пункт питания для проходящих и проезжающих войск, где могут накормить чем-нибудь горяченьким.
Город носит следы скоротечного, но ожесточенного боя. Сопротивлялись фрицы отчаянно, в городе находились большие склады военного имущества, с которых снабжалась вся шестая армия. После недолгих скитаний по улицам пункт питания мы нашли. Там нам плеснули в котелки жидкого, зато горячего супчика. Похлебав, на ночлег устроились в одном из домов с выбитыми окнами, остальные были забиты под завязку. Нашли небольшое помещение без окон, туда все и набились. Водитель забрался в кабину и что-то там шуровал. У грузовика выставили часового с шоферским карабином, установили порядок смены. Вряд ли в округе остались немцы, кроме мертвых и пленных, но из наших славян, мимо брошенного без присмотра грузовика, редко кто спокойно пройдет, вот и приходится кому-нибудь торчать на морозе.
Наличие буквально под боком огромного количества бесхозного имущества не давало мне покоя. За время пребывания здесь я научился ценить мелкие бытовые вещи, без которых обходиться очень трудно. Однако одному идти было стремно, да и возможную реакцию начальства на такие действия не помешает узнать. Я подошел к водительской дверце и постучал.
— Здорово, земляк.
— Привет, коли не шутишь.
— На какое имя откликаешься? — спросил я.
— Николай.
Я тоже назвался.
— Ну будем знакомы.
Сдернув рукавицу, я пожал крепкую промасленную ладонь. Решив не разводить политесы, сразу взял быка за рога.
— Я слышал, в городе большие немецкие склады есть. Может, навестим? Ты как?
— Я тоже слышал, — кивнул Николай. — Можно и навестить.
— А лейтенант? Отпустит?
— Не, молодой еще, от устава ни на шаг.
— А если ущучит, не сдаст?
— Не сдаст, мужик он нормальный, нарядами отделаемся.
— Тогда через час, как все угомонятся.
— Идет, — согласился с моим предложением Николай.
Склады на окраине нашли быстро, безоблачное небо и лунный свет играли на нашей стороне. Огромные, никем не охраняемые штабеля ящиков скрывали снаряды, минометные и противотанковые мины, патроны. Все продовольствие и вещевое имущество давно было растащено без нас. Остались только плетеные из соломы караульные боты, надеваемые поверх сапог.
— Может, хоть их возьмем? — я крутил в руках пару ботов. — Все в кузове ехать теплее будет.
— Брось, — отверг мою идею шофер, — засмеют, позора потом не оберешься.
— Логично.
Я швырнул боты обратно в кучу.
— А это что?
Большая, на ощупь грязноватая тряпка оказалась чем-то типа ветровки, но без застежки, одеваться она должна через голову. Материя плотная, должно быть непродуваемая, пригодится. Николай тоже пощупал мою находку.
— Фрицевская.
— А ты тут нашу ожидал найти? Если почистить, то пойдет.
— Ты только осторожнее в ней щеголяй, — посоветовал водитель.
А ведь он прав — носить вражескую форму почти на передовой занятие небезопасное. Да и реакция будущих сослуживцев может быть отрицательной, того же лейтенанта, например. Однако просто выбросить находку тоже жалко. Решил, ладно, может, у местных на хлеб или картошку сменяю.
Обратно мы вернулись с почти пустыми руками. В темноте я отыскал и растолкал Ерофеева.
— А? Что? На пост?
— Тс-с.
Я зажал ему рот.
— Лейтенант нас не искал?
— А? Нет, спали все.
— Ну вот и хорошо.
Прижавшись друг к другу, мы заснули и спали, пока меня, а затем и его не разбудили сменить часового у машины.
Утром Угрюмов заметил мою обнову — в вещмешок она не влезла, пришлось приспособить ее сверху.
— Это что такое?
— Да вот… нашел.
Лейтенант рассмотрел находку.
— Блуза немецкого горного стрелка. Хорошая вещь.
Да я уже сам оценил и понял, что хорошая. Снаружи обычный «фельдграу», подкладка — белая. Можно носить и так, и так — камуфляж на все случаи. На груди большой карман с клапаном, разделенный на три отделения. Можно носить запасные магазины, они же в случае чего послужат защитой. Капюшон и рукава на завязках, чтобы не продувало и снег не попадал, еще одна завязка на талии. Сзади клапан-хвост. Его можно продеть между ног и застегнуть спереди, тогда блуза превращается в подобие комбинезона. На шинели этот фокус не пройдет, но поверх телогрейки или гимнастерки — вполне.
— Что-то мне такие не попадаются, — заметил Угрюмов.
Я тут же напрягся, но лейтенант тему дальше развивать не стал, ну и ладно. Из этого разговора я понял, что непосредственное начальство ничего против ношения таких трофеев не имеет. Заодно решил расспросить нового знакомца о будущем командовании.
— Комбат? Нормальный, с пониманием, — ответил водитель, — батареей командует недавно, даже старшего еще получить не успел. Главное — не трус.
— Что, и трусы среди комбатов попадаются?
— А то! В третьей батарее как стрельба начинается, так комбат сразу в укрытие — шасть.
— Не может быть, — усомнился я.
— Может, очень даже может. Так бежит, что пятки в жопу втыкаются. Приедем, ты этот цирк сам увидишь.
— Кто ж его тогда в комбатах держит?
— Комполка. На пару зашибают.
— Да-а, весело у вас.
— А мы не жалуемся. Машины вот новые получили. Ленд-лиз.
Дальнейший разговор пришлось прервать, так как лейтенант скомандовал «По машинам!», хотя машина была всего одна.
К цели нашего путешествия добрались поздним вечером, почти ночью. Нас сходу запихнули в полуземлянку, перекрытую плащ-палатками. Температура в ней от наружной отличалась не сильно, но пять-шесть градусов в положительную сторону — уже неплохо. Плюс отсутствие ветра.
Утром я смог, наконец, рассмотреть место, где мы оказались. Тыловые части расположились в большой станице, а мы их прикрывали с воздуха побатарейно. Полк был четырехбатарейного состава. Кроме батарей МЗА в полку была зенитно-пулеметная рота, имевшая шестнадцать ДШК на зенитных станках, перевозившихся на тех же «шевроле». В общем, от зенитного дивизиона начала войны полк отличался не сильно, но за счет мощных полноприводных грузовиков был гораздо мобильнее.
Утро выдалось солнечным и морозным, зато безветренным. А на солнце и мороз переносится гораздо легче. Особенно когда прибывает полевая кухня с горячим завтраком. В котле та же перловка, но ее дают намного больше, чем в тылу — можно полностью набить брюхо, даже остается. Орудия батареи стоят «по квадрату» со стороной метров в пятьдесят. Долбить котлованы в мерзлой земле никто не стал, просто разгребли сугробы до грунта и нагребли полуметровые снежные брустверы. Не защита, а только видимость, но начальству виднее. К тому же, если вырыть котлован полностью, то орудие просто утонет в сугробе. Колесные ходы прикрыты белыми полотнищами, на стволах закреплены белые же зонтики, прикрывающие прицел и верхнюю часть орудия, а также белые чехлы, прикрывающие сам ствол, только пламегаситель сверху торчит. Такую маскировку я видел впервые.
Долго любоваться на окружающие пейзажи мне не дали. Сначала последовали бумажные формальности. Потом нас переодели — вместо шинелей и сапог выдали ватные штаны, фуфайки и валенки. Затем получали личное оружие, мне опять досталась длинная трехлинейка со штыком. Судя по внешнему виду, повидала она немало, но затвор ходил с нормальным усилием, ствол был в хорошем состоянии. Личным оружием зенитчики пользуются крайне редко.
— Это до первого боя, — подсказал старшина, выдававший оружие, — а там карабин себе подберешь или ППШ.
На это я, собственно, и надеялся. Полк МЗА — это не стационарный полк ПВО страны, переезжать с места на место придется намного больше, а разворачиваться с длиннющей винтовкой в тесном кузове не очень удобно.
После этого с пополнением решил познакомиться командир батареи. Лейтенант Александров от своих взводных отличался только белым командирским полушубком. Такой же двадцатилетний парень с румянцем на щеках, только повоевать успел чуть больше. Тут же нас распределили по расчетам. Меня определили в первый расчет второго взвода, Колька немедленно напросился вместе со мной. Комбат повернулся к взводному-два Угрюмову.
— Смотри, как подчиненные за своего командира держатся, должно быть, хороший сержант нам достался.
Я не хороший, я обыкновенный, такой, как все. И для красноармейца Кольки Ерофеева я такое же зло, как практически любой другой начальник. Но я свое зло, привычное, и менять меня на нового командира, от которого не знаешь, что ждать, и под которого придется заново подстраиваться, он не хочет. Однако вслух я это, конечно, не сказал. А дальше взор комбата обратился на меня. Ростом он не вышел, поэтому пришлось ему смотреть снизу вверх.
— А ты, сержант, новое орудие сможешь освоить?
— Смогу, товарищ лейтенант. Пятьдесят два ка освоил, а это не сложнее будет.
С тридцатисемимиллиметровым автоматом 61-К я уже был немного знаком. Очень давно нам о нем рассказывали как о музейном экспонате, даже кое-что показали. Не скажу, что он мне совсем не понравился, но не было в нем грозной силы 52-К, и приземистой мощи С-60 тоже не было, как и конструктивного изящества «рогатки». Обычный зенитный автомат конца тридцатых — начала сороковых: ни приводов наведения, ни даже принимающих приборов. Все на глаз: наводи и стреляй. Автоматику копирного типа с вертикальным затвором я в свое время изучал на «Шилке» и ЗУ-шке, а построительный прицел с двумя коллиматорами на С-60. Поэтому никаких сомнений в моем голосе не было.
— Тогда держи, — комбат протянул мне книжку на сотню, приблизительно, страниц в потрепанной мягкой обложке, — экзамен приму через неделю.
— Есть, через неделю.
Комбат ушел, а взводный остался.
— Ну что, пошли с расчетами знакомиться?
Я сунул книжку за отворот ватника, и мы гуськом потянулись вслед за лейтенантом по тропинке, ведущей к огневым позициям. Второй взвод занимал дальнюю от станицы сторону квадрата. Когда взводный появился над снежным бруствером, расчет находился на своих местах в полной готовности открыть огонь — сегодня наш взвод был дежурным. Команду «смирно» никто подавать и не подумал, но сидевший на месте правого наводчика красноармеец все же доложил:
— Происшествий нет, противник не появлялся, товарищ лейтенант.
Причем именно в таком порядке: сначала происшествия, потом противник.
— Не появлялся, и ладно, — ответил Угрюмов. — Вот вам новый командир и пополнение.
Расчет одобрительно загудел: пополнение — это хорошо, объем работ прежний, а рабочих рук прибавляется. Лейтенант представил меня и добавил.
— Воевать начал еще летом сорок первого.
Воевать — громко сказано, позднее хлебнуть, конечно, пришлось, но уважения и заинтересованности во взглядах расчета прибавилось. Еще весной сорок второго я несколько раз был свидетелем, как успевшие понюхать пороху в ноябре или даже декабре сорок первого свысока бросали тем, кто начал воевать уже после первого января: «Ты, салага, настоящей войны уже не видел. Вот в сорок первом, тогда да…».
— Командуйте, сержант, — сказал Угрюмов и ушел, уведя с собой пополнение для второго расчета.
А я остался командовать. Спустившись с бруствера, я обернулся.
— Спускайся, Николай, знакомиться будем. И ты тоже спускайся. Как тебя?
— Вася. Рохлин.
— Спускайся, Вася Рохлин.
Я повернулся к «старичкам».
— Меня вам назвали, а вас как величать?
Первым назвался наводчик с правого сиденья.
— Ефрейтор Аникушин, Александр. Первый номер.
Лет тридцати. Нет, скорее, тридцати пяти. Выдающимися физическими кондициями не отличается: невысокий, худой, причем от природы, а не от недоедания. Взгляд голубых глаз цепкий, внимательный. Мужик не так прост, как кажется. До меня именно он тут командовал, но по каким-то причинам батарейное начальство предпочло найти сержанта на стороне, а не повысить ефрейтора в звании и должности. Надо будет этот вопрос выяснить.
Второй наводчик назвался красноармейцем Мазаевым.
— Тебя, небось, дедом Мазаем кличут.
— Или просто дедом, — улыбнулся второй номер.
Парень простой, но, похоже, малость шебутной. За таким глаз да глаз нужен. Похожие друг на друга установщики прицела действительно оказались двоюродными братьями Максимовыми. Третий номер — установщик дальности и скорости представился Иваном, четвертый — установщик угла и курса Андреем. Про себя я их сразу окрестил «кузенами». Удивил пятый номер — заряжающий, он оказался литовцем Миколасом Станкусом. До этого момента я литовцев в Красной армии не встречал, а они, оказывается, есть. Среднего роста, смуглый, худощавый, но жилистый. Такие запросто могут подтянуться на перекладине сто раз или целый час вставлять тяжелые обоймы в магазин зенитки.
— Меня все Николаем называют.
— Николаем, так Николаем, — согласился я. — Это тоже Николай, только Ерофеев. Из Сибири. А это, как вы уже знаете, Вася Рохлин. Откуда будешь, Вася?
— Из Вологды.
— Понятно. Красноармейцев Ерофеева и Рохлина мы определяем в подносчики патронов. Работа несложная, но ответственная.
Расчет заулыбался.
— Берете в ящике обойму, несете к орудию и отдаете ее заряжающему. Понятно?
— Понятно.
— Тогда потренируемся.
Минут через десять оба новоиспеченных подносчика уже научились не мешать друг другу у ящиков и не сталкиваться при пробежках от ровика к орудию и обратно.
— Нормально? — поинтересовался я мнением первого номера.
— Сойдет, — согласился ефрейтор Аникушин.
— Тогда подносчикам — перекур. Вы дальше дежурство тащите, а я пока умную книжку почитаю. Если что-то непонятно будет…
— Спрашивай, сержант. Э-э-эх!
Наводчик крутанул маховики и уехал от меня вместе с платформой. Хоть и яркое солнце в бездонном голубом небе, а на дворе не май месяц — долго без движения на холодном железе не высидишь. Поэтому для себя я выбрал деревянный укупорочный ящик с осколочно-трассирующими гранатами. Помню, в свое время с боевыми снарядами мы обращались с величайшей осторожностью. Но на войне обращение со всевозможными взрывоопасными игрушками становится повседневной обыденностью, чувство опасности притупляется. Вот и сейчас сижу я практически на нескольких килограммах взрывчатки с уже вставленными взрывателями, и ничего, хорошо сижу, спокойно, книжку читаю.
Начал с обложки. «37-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1939 г. Краткое описание». Ну и, как положено, вверху «Главное артиллерийское управление Красной армии», внизу — «Воениздат НКО СССР», еще ниже «1942». Свеженькое издание, но уже довольно потрепанное, видимо, пользовались часто. Ладно, идем дальше. Назначение. Ну это понятно. Основные данные. Калибр…, начальная скорость…, вес снаряда… Цифры откладываю в памяти, они должны отпечататься в ней намертво, чтобы в любое время суток, в любом состоянии, чтобы от зубов. А вот это интересно: «Темп стрельбы — 160–180 выстрелов в минуту», а ниже «Практическая скорострельность — 160–180 выстрелов в минуту». Темп стрельбы совпадает с практической скорострельностью! Может, конечно, в течение одной минуты и совпадает, но вряд ли больше — даже если такой темп выдержит заряжающий, то не выдержит ствол. Я с сомнением посмотрел на ствол вверенного орудия. После шестиметрового ствола восьмидесятипятимиллиметровки он казался каким-то ненадежно тонким. Быстрая смена ствола, как у «рогатки», конструкцией пушки предусмотрена, но запасного ствола я не позиции не заметил.
Я опять уткнулся в книжку. Горизонтальный обстрел…, вертикальный обстрел… В конце шли данные прицела. Что интересно, наклонная дальность совпадала с дальностью С-60. На этой дистанции исчерпывались возможности человеческого зрения, со станцией орудийной наводки возможности более мощной системы увеличивались еще на пару километров. Дойдя до конца главы, я еще раз повторил основные ТТХ пушки, потом еще раз, затем закрыл глаза и воспроизвел их по памяти. Открыв глаза, успел поймать усмешку первого номера.
— Ефрейтор Аникушин!
— Я! — бодро отозвался первый номер.
— Назовите основные данные тридцатисемимиллиметровой автоматической зенитной пушки образца тридцать девятого года.
Данные он отбарабанил, не ошибившись ни в одной цифре.
— Все так могут?
По отведенным взглядам понятно, что не все.
— Отлично, ефрейтор, только вам надо за воздухом следить, а не за командиром.
— Не боись, командир, не проглядим супостата.
И опять уехал на другую сторону огневой позиции, а я продолжил изучение. В общем, ничего нового в конструкции я не нашел. Удивило только отсутствие предохранительных устройств, но их заменяли механизмы взаимной замкнутости и замороченная схема подачи патронов из магазина в казенник. Тоже, в принципе, понятно — вытащить из обоймы фланцевую гильзу и подать ее в ствол не так-то просто. Вот была бы она бесфланцевой… Хотя на С-60 система подачи патрона с фланцевой гильзой реализована проще и, как мне кажется, надежнее, но там и затвор поршневой.
Так часа за три, когда уже начало темнеть, дошел до конца книжки. Описание было дополнено очень прилично выполненными эскизами, разрезами и чертежами отдельных деталей и узлов, поэтому в теории я все понял. Завтра, когда будет дежурить первый взвод, можно будет посмотреть все на практике, даже пушку частично разобрать, хотя за дополнительные занятия на таком свежем воздухе мне расчет спасибо не скажет. Но мне учиться надо, и новоявленных подносчиков, кстати, тоже учить. Неприятно поразила таблица возможных задержек почти на три страницы мелким шрифтом и перечень неисправностей пушки при стрельбе на пять с половиной страниц обычного шрифта. Подавляющее большинство неисправностей требовало частичной разборки пушки.
Вечером личному составу выдали «наркомовские» сто граммов. Зачем солдатам выдают водку? Чтобы легче переносить морозы? Мнение распространенное, но ошибочное — летом-то ее тоже продолжают выдавать. Водку выдают для аппетита, чтобы солдат мог месяцами есть кашу на воде с каким-нибудь хлопковым маслом в лучшем случае, а чаще и без него. На отсутствие аппетита я не жаловался, а на морозе с водкой шутки плохи — разливающееся по организму тепло обманчиво и может привести к серьезным последствиям, и тому я знаю немало прецедентов. Поэтому от положенной мне порции отказался в пользу расчета, чем вызвал удивленно-радостную реакцию. С одной стороны, дополнительные пятнадцать-двадцать граммов радуют, с другой стороны, отказ здорового мужика от положенной порции водки удивляет, даже настораживает.
Разговор с Аникушиным я не стал откладывать в долгий ящик. После ужина я отозвал его в сторону.
— Тебя вне строя как называть? Александром?
— Можно Александром, можно Иванычем, только не Шуриком. Не люблю.
Тогда я прямо спросил.
— Как дальше служить будем, Иваныч?
— А чего? Нормально будем служить.
— Ну ты дурака-то не включай. Сам понимаешь, о чем я — в расчете может быть только один командир.
— Вот ты и командуй, а я лучше у прицела посижу. Я в начальство не рвусь, оно мне надо за все художества огребать? То, что ты из интеллигенции, я уже понял. С технической частью у тебя проблем не будет, главное, чтобы ты трусом не оказался. Да и штучки интеллигентские у нас тоже не пройдут…
— Тогда будем считать, что мы поняли друг друга. А что касается трусости, то бой покажет, кто есть кто.
Ефрейтор уже собрался уходить, но я его остановил.
— А прежний командир куда девался?
— Пара «худых» по батарее прошлась. Командир с одним подносчиком зажмурились, второго — в госпиталь. Второму расчету больше досталось, там четверо выбыли.
— Понятно. А ты за что сидел, Иваныч?
Делая вывод по одному только слову, я здорово рисковал ошибиться, но попал в точку.
— Та-а, было дело, — развивать эту тему дальше он явно не собирался.
На матерого уголовника Аникушин никак не тянул, да и не наденет блатной форму ни при каких условиях, а от чего в нашей стране нельзя зарекаться, общеизвестно. Поэтому я дальше копать тоже не стал, и мы разошлись. Надо было решить еще одну проблему — котелок и ложку помыть. Легко? А вы попробуйте на двадцатиградусном морозе.
Глава 5
В противоположность первому дню, второй выдался пасмурным. Вместе с облаками пришло тепло, температура поднялась до минус пяти-семи по Цельсию, но снегопада не было. Низкая облачность предполагала нелетную погоду, и мы, с разрешения лейтенанта Угрюмова, частично разобрали орудие. Точнее, сняли с люльки магазин с досылателем, чтобы новички, и я в том числе, разобрались в работе механизмов подачи. Мы уже закончили и даже начали сборку.
— Куда? Куда ты его пихаешь? — горячился руководящий сборкой Аникушин. — Смотри, чтобы ролики в пазы вошли!
Проклятые ролики никак не хотели входить туда, куда нужно. Вася Рохлин пыхтел, сопел, но делу это не помогало. В конце концов, я не выдержал и, отстранив Васю, сам вставил лоток досылателя в магазин.
— Так?
— Так, — подтвердил первый номер.
— Воздух!!!
Двухмоторный «юнкерс» неожиданно вывалился из облаков где-то в километре от нас, прямо над станицей. Прижатый облачностью к самой земле, он, ревя моторами, шел на высоте всего семьдесят-восемьдесят метров.
Не ожидавший появления самолета дежурный взвод промедлил с открытием огня, да и курсовой угол был невыгодный — где-то девяносто градусов. Красные трассеры выпущенных снарядов, хорошо видимые на фоне серых облаков, прошли за хвостом «юнкерса» и метров на двадцать ниже. Но, удачно пройдя мимо нашей батареи, немец выскочил прямо на третью. Там успело открыть огонь только одно орудие, но буквально первый же снаряд попал в кабину, убив или ранив летчиков. Вспышка взрыва была видна довольно отчетливо. Еще один снаряд попал в хвостовую часть фюзеляжа, но, видимо, серьезных повреждений не нанес — самолет продолжил полет с пологим снижением, плюхнулся на брюхо в паре километров от станицы и сгорел, лишив женскую часть штабного контингента парашютного шелка, а мужскую — трофейных пистолетов.
— Разведчик, — предположил кто-то из кузенов.
— Похоже, — согласился я. — Быстро, собираем магазин. Сейчас начальства набежит, могут и к нам заглянуть, а у нас орудие не боеготово.
Какие к нам, в принципе, могут быть претензии? Огонь не открыли? Так мы сегодня и не дежурили. И разрешение на разборку от непосредственного начальника получено. Но не пытайтесь объяснить это разгоряченному дяде со шпалами в петлицах. Поэтому сборка была выполнена гораздо быстрее разборки. Однако обойму в магазин вставлять не стали и рукоять первого заряжания не тронули — появление второго разведчика за один день маловероятно, а держать пружину досылателя сжатой не стоило.
К нам начальство, к счастью, не заглянуло, все поздравляли комбата-три и открывший огонь расчет. Буквально через пару часов стали известны подробности. Первым на появление «юнкерса» среагировал именно комбат: с воплем «Ложись!!!» он нырнул в сугроб и вылез из него, только когда стих грохот выстрелов и рев моторов.
Самолет шел прямо на батарею. У расчета было где-то восемь секунд на то, чтобы довернуть ствол в нужном направлении, дослать патрон и нажать обе педали спускового механизма. Для хорошо тренированного расчета — масса времени, большую часть которого они, видимо, потратили на осознание происходящего. Поэтому огонь открыли, когда самолет был почти над батареей, и он сам буквально влетел в очередь зенитного автомата. 37-мм осколочно-трассирующая граната при взрыве дает 25–30 осколков массой более восьми граммов и до сотни более мелких. Летчикам хватило.
Комбат потом гоголем расхаживал перед полковым начальством, выпячивая грудь, небось дырку для ордена уже провертел. «Это я левее ноль-десять скомандовал!». Какие ноль-десять? Самолет шел прямо на батарею, то есть «курсом ноль». Полный придурок.
Между тем, от устройства орудия мы понемногу перешли к приемам стрельбы.
— Это в среднекалиберной ПУАЗО за вас думает, а у нас все на глаз, — поучал меня Аникушин, — скорость, курсовой угол, угол пикирования. Разве что дальность по дальномеру определят. А вообще, результат больше от наводчиков зависит.
— Это понятно. Ты лучше скажи, какие команды при стрельбе подают?
— По основному способу…
— Стоп. А какие еще бывают?
— С рассеиванием, по пикирующим самолетам, по штурмовой авиации, по парашютному десанту, заградительный, ну и по наземным целям, — перечислил способы стрельбы ефрейтор.
— С рассеиванием поясни.
— На первом орудии ставят скорость плюс десять метров, на четвертом — минус десять, на втором и третьем, то есть нашем, скорость остается без изменений.
Понятно. Первое бьет перед целью, второе и третье по цели, четвертое позади, авось кто-нибудь попадет.
— А заградительным?
— По команде «заградительным» я относительно указанного ориентира поворачиваю ствол на один оборот маховика влево. После каждой очереди я вращаю маховик вправо на четверть оборота. После пятой очереди стрельбу прекращаем и ждем следующей команды.
— Уяснил. Давай к командам вернемся.
— А остальные способы?
— Остальные я и так знаю.
Они и в самом деле ничем от способов стрельбы из С-60 не отличались, только там основной был со станцией орудийной наводки.
— Ну-ну. Первым делом тебе скомандуют цель, потом способ стрельбы, если ничего не скажут, значит, основной.
— Понял.
— Дальше идет тип снаряда, скорость, дальность в гектометрах, длина очереди. Уяснил?
— Уяснил.
— Ты все это повторяешь и следишь за нашими действиями. Как все готово будет, правую поднимаешь и громко орешь «Третье готово!». После чего тебе скомандуют «Огонь!». Ну это мы и сами услышим, дальше слушай поправки и нам их погромче ори, а то при стрельбе от грохота хрен чего услышишь, да и в азарт многие впадают.
— Понял, не дурак. А теперь давайте малость потренируемся. Орудие к бою!
Такого исхода расчет, расслабленно наблюдавший за обучением незнайки-командира, явно не ожидал и с выполнением команды промедлил.
— Быстрей, быстрей, черепахи беременные! По самолету над первым! Осколочным! Скорость сто десять!
Расчет наконец-то занял свои места, ствол начал движение, затрещали установки прицела.
— Двадцать пять! Короткими!
Сначала лязгнула рукоять первого заряжания, потом вставляемые в магазин обоймы.
— Готово! — доложили наводчики.
— Отбой! Разряжай!
— Тренируетесь?
— Так точно, товарищ лейтенант!
За всей суетой появления Угрюмова никто не заметил.
— Да не ори ты так, не на плацу, — осадил мое рвение лейтенант. — Это правильно, похоже, недолго нам осталось в резерве сидеть. Устройство орудия изучили?
— Так точно! Теперь с командами при стрельбе разбираемся.
— Вижу. Ты Аникушина слушай, он мужик грамотный, в полку со дня формирования. Если бы не тот случай…
Лейтенант бросил выразительный взгляд на первого номера, тот отвел глаза.
— Если вопросы будут…
— Да пока нет, товарищ лейтенант, сами справляемся.
— Продолжайте.
Взводный ушел, а я накинулся на заряжающего.
— Станкус, команду «разряжай» никто не отменял.
Однако меня сильно заинтересовало, что же такого произошло, что Аникушин лейтенанту в глаза смотреть не может. Поначалу расчет отнекивался, но еще до ужина мне удалось их разговорить. Дело оказалось в обычном российском разгильдяйстве, точнее, в данном случае в российско-литовском. Произошло это еще в конце прошлого года. Полк расположился в только что освобожденной станице. Выделенный расчету дом оказался пустым, хозяева куда-то исчезли. Впрочем, куда они исчезли, можно было догадаться, так как в доме нашлась масса признаков совсем недавнего квартирования в нем немецких офицеров. В шкафу висела серая шинель с витыми погонами. На погонах было по одной квадратной «звездочке». Тут же на полке лежала черно-серая фуражка с высоко заломленной тульей. Почему немец бросил свое имущество, было понятно — жиденькая шинель, рассчитанная на среднеевропейскую зиму, мало чем могла помочь своему владельцу в донской степи, да еще и в конце декабря. Наверняка он нашел себе что-нибудь более существенное.
Если бы обнаруживший шинель дед Мазай просто закрыл дверцы шкафа, то дальнейших событий не произошло бы, но он как на грех заинтересовался.
— Это что же за чин такой?
Более грамотный Аникушин бросил взгляд на погоны.
— Оберст-лейтенант.
— Лейтенант… — разочаровался Мазаев.
— Не лейтенант, — поправил его ефрейтор, — а оберст-лейтенант. Подполковник по-нашему.
— Подполковник? Ну это другое дело.
Дед, взяв шинель за плечи, вытащил ее из шкафа и растянул, прикидывая размер.
— Слышь, Николай, а она же как на тебя сшитая.
— Скажешь тоже!
Отмахнулся заряжающий.
— Да не, точно говорю — твой размер. Ну-ка примерь.
— Да чтобы я фрицевскую шинель одел… — возмутился комсомолец Станкус.
Но Мазаева тут же поддержали кузены.
— Давай примерь, чего ты упираешься?
— Хоть немного подполковником побудешь.
— Ефрейтора по стойке «смирно» поставишь, — заржали оба.
— А что? И поставлю.
Станкус начал стягивать свой ватник.
— Делать вам нехрен, — высказал свое мнение Аникушин, но прямо запрещать ничего не стал.
Шинель и в самом деле была как на заряжающего сшита. Станкус начал застегивать пуговицы, Дед тут же напялил ему на голову фуражку.
— Ну ты вылитый фриц!
— Где ваш ком…
Закончить фразу вошедший в дом зампотех полка не успел, нос к носу столкнулся с немецким офицером. Все замерли, немая сцена. Как это ни странно, первым начал действовать именно зампотех — стал лапать себя правой рукой за задницу в поисках несуществующей кобуры с ТТ. Был он мужик вполне нормальный, но, как и большинство штабных, имел болезненное пристрастие к трофеям, особенно к пистолетам. Буквально пару дней назад он раздобыл офицерский «вальтер» и начал носить его по-немецки — слева на животе. Он и сейчас там висел, но от волнения зампотех по привычке полез к правому бедру. Станкус попытался объяснить, кто он такой, но испугался заряжающий ничуть не меньше зампотеха, поэтому объяснять начал на литовском, что только активизировало поиски пистолета.
— Товарищ капитан, это же мы!
Дед Мазай буквально повис на руке зампотеха.
— Это же заряжающий наш, Станкус! А шинель мы в доме нашли!
До зампотеха, наконец, дошло, что он не во вражеском тылу, а вокруг все свои.
— Ах вы!
Капитан стряхнул Мазаева со своей руки и пулей вылетел за дверь.
— Снимай шинель! Быстро! — завопил Аникушин.
Но было уже поздно. Карьера ефрейтора Аникушина была безнадежно погублена, по крайней мере, в этом полку. Комбату придержали третий «кубарь» до исправления морально-политического облика подчиненных. Короче, досталось всем. И по комсомольской линии в том числе.
Следующий день принес массу неприятностей, началось все с раннего утра. Когда мы, продирая глаза, выползли из нашей импровизированной полуземлянки, то обнаружили, что позиции батареи и поле вокруг засыпаны листками желтоватой бумаги, размером меньше половины обычного листа. Я нагнулся к ближайшему. «КРАСНОАРМЕЙЦЫ, КОМАНДИРЫ! Вам грозят, если вы перебежите к немцам, то ваши жены, дети и все родные будут сосланы в концентрационные лагеря или уничтожены…». И когда только фрицы успели? Выходит, проспали мы ночью самолет, но и фрицы промахнулись — сыпанули листовки не на станицу, а в поле и на нашу позицию. В конце традиционный пропуск и призыв «Не забудьте взять с собой шинели и котелки!». Ага, счас-с. Уже бежим. Неужели еще остались наивные олухи? Или эти бумажки из старых запасов?
— Бумаги-то сколько пропадает, — посетовал дед Мазай.
— Ну ты еще попробуй подбери, — предостерег его Аникушин.
— Да что я, совсем дурной?
Однако видно, что бумаги ему действительно жалко, с ней в полку напряженка, а нормальных папирос, тем более сигарет, многие с начала войны не видели. Фрицы же, сволочи, напечатали свои листовки на курительной бумаге, размером как раз для самокрутки.
— Вон уже комполка едет, — заметил один из Максимовых.
По-моему, это Андрей, пока еще я их путаю в одинаковых ватных костюмах и шапках с опущенными ушами. Андрей, вроде, повыше родственника. В указанном им направлении скакал по полю «виллис». По амплитуде скачков было видно, что пассажиры машины очень торопятся и водитель гонит без оглядки на долговечность рессор и амортизаторов. «Виллис» влетел на позицию, и к нему поспешили три фигуры в белых полушубках. Мне показалось, что вылезший из джипа командир на комполка как-то не тянет. Аникушин подтвердил мои сомнения.
— Особист.
— И как он?
— Да ничего, вроде. Пакостей никому не делал.
Прибывший старший лейтенант организовал сбор вражеских листовок силами доверенных партийных и комсомольских кадров батареи. От нашего расчета в их число вошли оба кузена. Еще до завтрака сбор был закончен. Особист действительно оказался нормальным парнем. По крайней мере, с воплями «Не смотреть!» и «Не читать!» среди собирающих не метался. Взял собранное и уехал, понимая, что за фрицевский промах личный состав батареи ответственности не несет.
Дальнейшие события показали, что рано мы расслабились. Ближе к полудню «появился тот же «виллис». Но ехал он намного медленнее, явно не торопясь. Наш взвод был дежурным, и дальнейшие события мы наблюдали со стороны, сидя и стоя у орудия, пока не добрались и до нас. Из машины выбрались трое.
— Командир и замполит, — прокомментировал Мазаев.
— А третий? — заинтересовался я.
— Адъютант.
На более вытоптанной площадке, изображавшей плац, построили первый взвод. До нас долетали только некоторые звуки, но ничего хорошего они не предвещали. Так и оказалось. Первый взвод разбежался по позициям, командир полка в сопровождении замполита, адъютанта, комбата и обоих взводных начал обход. На каждой позиции задерживался минут на десять, пришла и наша очередь.
— Где карточка огня? — потребовал комполка, не дослушав мой доклад.
Протягивая карточку, я заметил страдальческие выражения на лицах комбата и взводных, видимо, эта процедура повторялась уже не в первый раз.
— Это карточка?! Это карточка?! Это говно, а не карточка!
Смятая бумага полетела под ноги, а сверху на нее опустился командирский сапог.
— Переделать!!!
У меня даже уши заложило. В принципе, карточка, составленная еще до меня Аникушиным, была так себе — всего два ориентира. Первым был крайний дом, а вторым огневая позиция третьей батареи в километре от нашей. А где еще ориентиров набрать на ровной, как стол, заснеженной степи? У всех такие же были.
— Вот ты, — палец командира нацелился на кузена Ивана, — доложи мне общие обязанности военнослужащего.
Не имевший довоенного опыта Иван малость запинался, но, в целом, на мой взгляд, ответил вполне пристойно. Комполка погонял остальных на знание обязанностей и ТТХ пушки, меня почему-то не тронул. Как и ожидалось, Вася Рохлин и Ерофеев «поплыли» конкретно. Командирское лицо перекосило.
— Почему ни хрена не знают?! — обрушился он на комбата.
— Так они в батарее всего третий день…
Попытка Александрова оправдаться, казалось, еще больше разозлила комполка.
— Откройте нижний люк!
Сунувшись в люк, он на несколько секунд застыл, выискивая недостатки.
— Почему смазка густая? Ударят морозы, задержки при стрельбе начнутся! Александров!
— Я!
— Лишить водки и этот расчет!
Дальше нецензурно. А мы, похоже, не первые. Позже выяснилось, что первый расчет лишили водки за пятнышко ржавчины на какой-то второстепенной детали, второй за слишком густую смазку на обоймах. И не последние — вся делегация направилась к четвертому орудию. Судя по жестикуляции персонажей, вся процедура повторилась. Приблизительно через час, оставив всю батарею без водки на три дня, комполка убыл восвояси, оставив нас устранять выявленные недостатки. Первым делом мне предстояло решить, где взять бумагу на новую карточку и где найти новые ориентиры в этом огромном ровном сугробе. Аникушин был прав — теперь это мои заботы.
— Теперь комбату третий «кубарь» долго не дадут, — задумчиво проводив взглядом «виллис», заметил дед Мазай.
— Ничего, — отмахнулся я, — вместе с погонами третью звездочку получит.
— Погоны, погоны, — пробурчал Аникушин. — Ты сам-то хоть раз их видел, эти погоны? Разговоры одни.
Приказ о введении новой формы и погон вызвал гораздо меньший ажиотаж, чем я ожидал. Молодежь их не застала и отнеслась к приказу довольно равнодушно, других забот хватало. Старики… Похоже, я в батарее единственный, кто погоны видел. И не раз, даже сам носил, но ефрейтору об этом знать не надо. И остальному расчету тоже. Понятие «офицер», кстати, тоже реабилитировали только с приставкой «советский», теперь можно произнести это, ни от кого не таясь. Но я поймал себя на мысли, что «красный командир» пролетает легко, а на «советском офицере» я спотыкаюсь. Досамоконтролировался.
— А знаешь, командир, что комбат-три учудил? — не унимался Мазаев.
Не знаю. Есть у меня такая особенность — все слухи я узнаю последним, если вообще узнаю. На мне же они и заканчиваются. Потому что, во-первых, я не люблю пересказывать, во-вторых, пересказывать их уже некому, все и так знают.
— Давай, выкладывай.
— На следующий день после сбитого «юнкерса» вызывает он к себе обоих взводных и говорит им: «Я сегодня всю ночь не спал. Думал, думал и надумал вам обоим по трое суточек ареста дать».
— За что? — удивился я.
— Вот и они спрашивают «За что, товарищ старший лейтенант?», а он им «Чтобы ушки топориком держали».
— Вот…
У расчета уши встали «топориками» от потока неизвестных, но интуитивно понятных русских слов. Виноват, не сдержался. Но поймите мое возмущение — носит же земля такое чмо, а система позволяет этой сволочи людьми командовать. И не в глубоком тылу, а почти на передовой, где этот гад десятки человек погубить может.
— Ну ты могешь, командир, — выговорил Аникушин, когда я остановился.
— Могу, еще и не так могу, только вы постарайтесь, чтобы я свои возможности на вас не демонстрировал. А сейчас давайте взаимозаменяемость отработаем. Рохлин!
— Я!
— Третий номер! Ерофеев — четвертый!
— Есть! Есть!
— К бою! По самолету над первым…
После ужина ко мне подошел Аникушин с вопросом.
— Как на сухую спать ночью будем?
— А что, есть мысли по этому поводу?
— Есть, но надо отлучиться.
В самоход намылился мой первый номер, но если он действительно что-нибудь «для сугреву» принесет, то…
— Ладно, иди, от взводного я прикрою.
— Один не справлюсь. Мне бы еще Станкуса и Максимовых с собой взять надо.
— Это чего ты задумал?
Удивлению моему не было предела.
— Если получится — увидишь. Ну отпусти, командир.
Коллективный самоход — это уже не шутка, но, с другой стороны, вероятность попасться минимальная, а хоть немножко погреться хочется. Дров в округе нет. Дома на дрова разбирать, естественно, никто не даст. Унитары, в отличие от среднекалиберных батарей, здесь распатронивать не принято, да и пороха в них мало. А хитрый ефрейтор, видимо, что-то нашел.
— Ладно идите, только…
— Одна нога здесь, другая — там.
И исчез. Приблизительно через час оставшиеся стали свидетелями небывалого зрелища: увязая в сугробах, четыре человека тащили по полю здоровенный… Крест! Да, да. Метров шесть, с какой-то надписью по-немецки.
— С немецкого кладбища стащили? — догадался я.
— Ага. Его танком в первый же день свалили, да забыли. Потом крест снегом занесло, еле откопали.
Где только фрицы такую здоровую лесину взяли? Наверно, специально откуда-то привезли. Опыт устройства земляных печей у меня уже был. В стене полуземлянки выдолбили нишу, сверху пробили дымоход. Остальные, кроме часовых, вроде бы спали, но весть о том, что третий расчет раздобыл дрова, разнеслась по батарее молниеносно, вместе со стуком топора. Пришлось делиться. Наконец, в нашей печке затрещал огонь. Промерзшая земля начала оттаивать, а выступающая вода — испаряться. Атмосфера в полуземлянке как в парилке. У других расчетов та же история. Утром на морозе влажная одежда дубеет и становится колом. Товарищам офицерам проще — у них полушубки. Комбат построил батарею и подал команду.
— Бего-ом, марш!
Сразу теплее стало, размялись и даже запыхались. Здорово спасает горячая каша на завтрак, только съесть ее нужно как можно быстрее, пока не остыла.
День прошел в тренировках, но провести стрельбы боевыми не разрешили, вся надежда на «старичков». К ночи подготовились лучше — натащили соломы и настелили дополнительный слой на землю, парило уже меньше. На третью ночь стало еще суше, а на четвертую… На четвертую дрова закончились, зато выдача водки была возобновлена.
А еще через два дня температура упала ниже минус сорока. Все забились в землянки, даже часовых снаружи не оставили. Дышать можно только верхней частью легких и очень осторожно, стоит вдохнуть глубже, и дыхание сразу перехватывает. Даже в валенках нужно постоянно шевелить пальцами ног, поддерживая кровообращение, иначе через несколько минут они начинают неметь. Пока мы, скрючившись, сидим в землянке, самочувствие вроде более или менее нормальное, только надо постоянно шевелить пальцами, потирать нос. Трудно заставить себя шевелиться, но без движения сидеть долго нельзя — охватывает душевная и физическая апатия, совершенно не хочется двигаться, и постепенно, отключаясь от окружающего мира, ты засыпаешь.
Засыпать надолго нельзя — можно не проснуться. Периодически тебя толкают, и, проснувшись, ты, преодолевая инертность, начинаешь двигаться сам, задевая локтями и ногами соседей. Народ просыпается, бурчит, шевелится и постепенно опять впадает в сон. Удивительно, но к утру обошлось без обморожений. Только возникла новая проблема: кухня не прибыла, а сухой паек превратился в камень. Хлеб, консервы, концентраты — все замерзло, дров в округе нет, разогреть пищу не на чем. Зато всем дали водки на пустой желудок. Канонада затихла — обеим сторонам сейчас не до боевых действий, надо сначала выжить на холоде.
На солнце мороз переносится намного легче, но все равно, пятнадцать-двадцать минут на открытом воздухе и надо прятаться в полуземлянку, где от дыхания сидящих в ней людей температура воздуха градусов на десять выше и нет ветра. Так и сидели до самого вечера. Только когда совсем припирало выбегли буквально на пару минут чтобы отлить и юркнуть обратно. К следующей ночи потеплело, если так можно сказать, до минус тридцати, а утренние минус двадцать воспринимаются почти как оттепель.
А потом нам устроили баню. В большую палатку поставили специальную печь, которая служила источником горячей воды. В ней же можно прожарить верхнюю одежду, а белье выдали чистое. Впрочем, вшей и так почти нет, не выживают они в таких условиях, в отличие от людей. На пол настелили слой соломы, но вода в промерзшую землю не уходит, в палатке ее набралось по щиколотку, на такие мелочи никто не обращает внимания. Затягивая ремень на ватнике, я выбрался на морозный воздух. Хмуро-сосредоточенный ефрейтор Аникушин уже стоял снаружи затягиваясь самокруткой.
— Чего такой смурной? — удивился я.
— А чего радоваться? Скоро вперед пойдем.
— Думаешь?
— А чего тут думать? Коли начальство на баню расщедрилось, значит, наступление скоро.
Настроение сразу упало. Отступать мне уже приходилось и оборону держать тоже приходилось, а вот наступать, еще нет. Не то чтобы я испугался, нет. Не испугался, наверное, потому, что в наступлении ни разу не участвовал. И ежу понятно: лучше встречать противника сидя в глубоком окопе, чем самому переть на его позицию. Хотя мы все-таки не пехота и даже не полковая или противотанковая артиллерия, по потерям и близко к ним не стоим, но в наступлении шанс сойтись с немцами накоротке и нарваться на неприятности намного выше.
Ефрейтор дотянул самокрутку до конца, обжег пальцы и, ругнувшись, бросил ее в снег, придавив сверху валенком.
— Ладно, пошли. Черт не выдаст, свинья не съест.
И мы потопали к огневой позиции.
На ужин привезли рисовую кашу с консервированной американской колбасой. Много каши, повар валил ее в котелки, не скупясь. После этого даже у самых упертых скептиков исчезли все сомнения — не сегодня, так завтра вперед.
С утра в батарее начался бардак. Простояв на месте почти три недели, батарея как-то обустроила свой тыловой быт, который сейчас безжалостно ломался.
— О готовности к маршу доложить в девять ноль-ноль, — приказал лейтенант Угрюмов.
И началось… Перевели орудие в походное положение, вытащили из ровика укупорочные ящики с патронами, прервались на завтрак. Только поели, приехали «шевроле», один из них остановился у нашей позиции. Из кабины выбрался крепенький краснощекий мужичонка.
— Здоров, Степаныч, — приветствовал его Аникушин.
— Здорово, здорово, — пробурчал водитель, откидывая задний борт. — Грузите, что ли.
Погрузили. Закрыли борт, задернули тент. Тут же нашлась масса имущества у старшины. Погрузили и его. Потом нам подкинули радиста вместе с радиостанцией. Аппарат меня заинтересовал.
— Что за рация?
— Шесть пэка — трет бока или малая политотдельская, — засмеялся радист.
— Далеко берет?
— Километров десять, если телефоном. Ключом вдвое дальше.
Полное несоответствие массы аппаратуры и дальности связи. Место в кабине занял взводный, а мне пришлось забраться вместе с расчетом и радистом в кузов. Наконец, взвыл мотор, и машина тронулась, пристраиваясь к куцей колонне первого взвода.
Надсадно воет мотор «шевроле», за задним бортом прыгает на ухабах замотанная в брезент пушка. Еще дальше поблескивает стеклами кабина следующего грузовика. Скоро начнет темнеть, а мы, проехав за день больше полутора сотен километров, еще не добрались до конечной цели. Все уже знают, что полк наш придали танковому корпусу. Включить в состав корпусов полки малокалиберной зенитной артиллерии вынудила необходимость прикрывать танковые колонны на марше. Конечно, для этой цели больше подошли бы зенитные самоходные установки, но до конца войны никаких ЗСУ наша промышленность не выпускала. Было только то, что поставляли союзники, плюс еще трофеи.
Добрались уже затемно. Батарею развернули в чистом поле. Позиция — квадрат со стороной метров в сто. Разгребли снег и начали долбить мерзлый грунт. Для орудия я выбрал небольшую впадину, там, где снега было больше. Логика простая: чем толще снег, тем меньше промерзает грунт. Так и оказалось — на глубине в полтора штыка земля пошла мягче. К полуночи огневая позиция и оба ровика были готовы. Не на полную глубину, конечно, но все-таки. Измученный расчет свалился в перекрытый плащ-палаткой свежевырытый окоп, чтобы моментально забыться тяжелым сном.
Корпус располагался в небольшом рабочем поселке, с двух сторон облепившем железнодорожную станцию. Станция не узловая, но довольно большая — с десяток запасных путей и ветки к предприятиям в самом поселке. И поселок, и станция сильно разрушены, следы недавних ожесточенных боев видны повсюду. Говорят, что граница с Украиной начинается сразу за поселком и две наших батареи уже находятся на территории другой республики, еще не превратившейся из союзной в суверенную.
После январских боев в нашем, теперь уже нашем, танковом корпусе осталось всего полтора десятка исправных танков, да и те требовали замены двигателей и переборки ходовой части. За месяц, который корпус провел в резерве фронта, количество танков в нем превысило полторы сотни в трех танковых бригадах, из них шестьдесят процентов приходится на Т-34, остальные — Т-70. Мотострелковую бригаду довели почти до штатной численности, правда, бронетранспортеров у них нет ни одного, только грузовики — американские «шевроле» и «студебеккеры». Мотострелков, кстати, гоняют по-черному прямо у нас на глазах. Ничего удивительного — на восемьдесят процентов бригада укомплектована призывниками, спешно набранными на только что освобожденной территории.
Еще в корпусе есть мотоциклетный батальон, танко- и авторемонтные части. Наш полк прибыл к месту сосредоточения корпуса предпоследним, теперь ждали только отдельный разведывательный батальон с тремя десятками бронемашин.
— По пикировщику! Огонь!
— Огонь!
Грохочут орудия, звенят выброшенные гильзы, красные трассеры исчезают в голубом небе, и через несколько секунд доносятся до наших ушей негромкие хлопки самоликвидаторов. Мы здесь стоим уже неделю, и начальство, наконец, разрешило учебную стрельбу боевыми снарядами. Темп стрельбы действительно невелик, при желании наводчики легко могут отсекать отдельные выстрелы и без режима одиночного огня. И патрон, и экстрагированная гильза проходят большое расстояние, поэтому цикл выстрела получается довольно длинным.
— Ну как, Вася?
Подносчик снарядов, похоже, малость обалдел от грохота выстрелов. Трясет головой и ковыряет пальцем в ухе, пытаясь восстановить слух.
— А ничего. Прежняя-то пушка тоже громко бабахала. А уж эта…
— Ничего, Вася, привыкнешь.
Привыкнет, конечно, куда денется. Между тем в воздухе ощутимо запахло весной. Солнце днем заметно пригревает, и температура переваливает через ноль. Снег заметно осел и начал подтаивать. Даже не верится, что всего десять дней назад мы буквально загибались от сорокаградусного мороза, а три дня тому позицию полностью засыпало крупными хлопьями снега. Пришлось браться за лопаты и расчищать все заново, а сейчас на дне котлована среди снега хлюпает водичка. В этой жиже мы и топчемся.
— И-и-и, р-раз! И-и-и, два!
Вот чем хорош ствол 61-К, так это тем, что он заметно короче и в два с лишним раза меньше по калибру, чем у восьмидесятипятимиллиметровки. Поэтому чистить его намного быстрее и легче. Пока трое банят и пыжуют ствол, остальные успевают собрать стреляные гильзы и уложить их в ящики, набить обоймы новыми патронами.
— И-и-и, р-раз! И-и-и, два!
Пыж вываливается из ствола.
— Шабаш.
Чистоту пыжа я признаю достаточной, и расчет, расслабившись, начинает приводить позицию в полный порядок, убирая грязную ветошь, выравнивая укупорочные ящики и натягивая на орудие белые маскировочные чехлы.
— Слышь, командир, а когда нам сапоги дадут? — интересуется Аникушин.
Остальные тоже заинтересовались, вопрос достаточно животрепещущий, валенки, которые спасали нас от обморожений еще недавно, сейчас уже абсолютно не годятся — мокнут.
— Завтра обещали.
— Завтра? Тогда нормально, ночь мы еще переживем.
Ночь мы пережили. После завтрака валенки нам действительно сменили на сапоги. Но на этом хорошие новости закончились. После полудня началась какая-то суета, которая вскоре прервалась четким приказом «Готовиться к маршу!». Часам к трем мы уже знали, что корпус передан в распоряжение штаба общевойсковой армии и предназначен для развития наступления к Днепру. Вообще дела наши идут хорошо, объявили, что освобождены Ростов, Изюм, Курск, Харьков, Белгород. Вот только помнится мне, что последние два города придется освобождать еще раз уже после Курской битвы, а это значит… Это многое может значить, но о событиях февраля-марта сорок третьего я не знаю ничего. Вообще ничего, белое пятно. Сталинград помню, Курскую дугу помню, а что было между ними, не представляю. Вроде, перед Курском было долгое затишье. Тогда куда мы лезем сейчас? Ладно, приедем — увидим.
Марш начался в восемнадцать часов, когда уже стемнело. Впереди, по двум маршрутам, идут две танковые бригады. За ними еще одна танковая и мотострелковая. Дальше растянулись тыловые колонны, которые мы должны прикрывать от атак с воздуха. В танковых бригадах есть свои зенитные батареи. Шли всю ночь и весь день не останавливаясь. Сначала прошли сто километров, потом еще сто, потом еще. В конце третьей сотни, ближе к вечеру появились немецкие самолеты.
— Воздух!!! «Мессеры»!!!
— К бою!
Я первым прыгаю с борта, разбрызгивая на дороге снежную кашу. Где они?! Есть! С головы колонны заходят, но хоть низкое солнце не слепит.
— По штурмовой, огонь!
Однако не все делается так быстро. Для того чтобы открыть огонь, даже с колес, требуется около полуминуты. Но вот лязгает обойма, вставляемая в магазин.
— Огонь!
Грохот наших очередей сливается с перестуком авиационных пушек. Успели! Фрицы шарахаются от наших трассеров и для повторного захода выбирают хвост колонны, где зениток нет.
— Дальность сорок! — вопит дальномерщик.
— Дальность сорок!
Повторяя это число, я понимаю, что это фактически за пределами прицельной дальности. Но не смотреть же безучастно, как «мессеры» разносят замыкающие машины и расстреливают беззащитных солдат.
— Огонь!
Ствол орудия лишь немного приподнят над горизонтом, а трассеры почти параллельно земле несутся в хвост колонны. Один из «худых» на выходе из пике задымил, скользнул вдоль колонны, упал в поле и взорвался. Попадания снаряда никто не видел, но если в единицу времени выпускать определенное количество снарядов на единицу площади, то есть вероятность, что на один из них кто-нибудь нарвется.
— Есть! Есть, один! Огонь!
Однако стрелять уже не в кого — после падения одного «мессера» остальные резко утратили энтузиазм и ушли. Комбат подскакивает к Угрюмову, что-то ему говорит, и тот бегом срывается в хвост колонны.
— За подтверждением побежал, — догадывается дед Мазай.
— Назад бы успел, — волнуется один из кузенов.
Мы набиваем патронами опустевшие обоймы и запихиваем укупорочные ящики обратно в кузов.
— Приготовиться к началу движения!
Команда быстро проносится вдоль колонны, мы забираемся в кузов. Появляется наш взводный.
— Ну, как?
Лейтенант победно демонстрирует бумажку.
— Порядок! Там какой-то капитан пытался доказать, что это его ремонтники из пулемета «мессер» свалили!
— И как?
— Да свои же его и послали. По рации сообщили — наш снаряд попал, многие видели.
За сорок часов корпус прошел триста километров. Это если по прямой. С учетом дорожных изгибов набегает все четыре сотни. Немецкая авиация нас беспокоила мало, и потери от нее невелики, но наших в воздухе не видно совсем. Аэродром в степи еще надо построить, а немцы летают со своих баз в районе Днепропетровска и Запорожья. Говорят, там даже полосы бетонированные.
Наш полк добрался до цели к середине ночи, отставшие тылы тянулись до самого утра. Утром немцы приветствовали нас артобстрелом. Видимо, обнаружили прибытие корпуса.
Обрабатывали нас недолго — минут пятнадцать. Но эти минуты тянутся бесконечно, и кажется, что с момента падения первого снаряда и последующего за ним истошного крика «Ложи-и-ись!!!» прошли уже часы. Точнее, фрицы обрабатывали артиллерией не нашу батарею, а расположение танкистов, которых мы должны были прикрывать, но некоторые недолеты попадали и на нашу позицию. Причем калибр был солидный — миллиметров сто пятьдесят, не меньше. Чем больше калибр, тем сильнее растягивается время артобстрела, а интервалы между взрывами кажутся бесконечностью. При каждом взрыве земля вздрагивала, то сильнее, то слабее, иногда сверху летели комья мерзлой, еще не оттаявшей, земли. Бах! Бах! Ба-бах!!! Этот совсем рядом. Куда же ты, фриц, прицел опустил? Где будет следующий, ближе или дальше? Ну, где же ты? Чего тянешь? Ну давай, давай, не томи. Только подальше, подальше… Бах! Пронесло!
После последнего разрыва я для верности выждал минуты три и только после этого высунулся из окопа. Более молодые и, соответственно, более нетерпеливые уже повылезали из своих укрытий. Один, два, три… Где дед?
— Дед, ты где?
— Да здесь я, живой, — откликнулся рядовой Мазаев, вылезая из ровика, который уже покинули все остальные.
Пушка, вроде, не пострадала, расчет в сборе, но чего-то не хватает. Я еще раз осмотрел огневую позицию батареи. Комбат, взводный первого взвода. А наш где?
— Дед, это хорошо, что ты живой. Глянь, как там наш лейтенант.
Мазаев направился к окопчику, в котором во время обстрела укрывался лейтенант Угрюмов, а я стал исследовать орудие в поисках незаметных на первый взгляд повреждений, тем не менее, могущих привести к отказу в самый неподходящий момент. От поисков меня отвлек странный звук. Я обернулся и застыл: дед, согнувшись, травил из себя сегодняшний завтрак. Мучимый нехорошими предчувствиями, я поторопился к нему. Заглянул в окопчик, и меня тут же вывернуло, как и деда — зрелище было не для слабонервных. Взводный не успел пригнуться, так и сидел, привалившись к стенке окопа. Крупный осколок начисто снес ему верхнюю часть головы, которая исчезла неведомо куда. Кровищи… При этом нижняя челюсть вместе с языком осталась на месте. Жуткое зрелище.
Привлеченный нашим столь странным поведением народ начал подтягиваться ближе. Некоторые, едва взглянув, торопливо покидали скопившуюся толпу, некоторые бежали, зажимая рот, у остальных нервы оказались покрепче.
— Ну что встали? — это комбат подошел. — Ты, ты и ты. Достаньте лейтенанта.
«Добровольцы», не сильно торопясь, принялись за дело. Остальные быстро рассосались, найдя неотложные дела на огневых позициях своих орудий. Ну и я тоже задерживаться не стал.
Лейтенанта похоронили в воронке от немецкого снаряда. Подровняли воняющую сгоревшим тротилом землю, положили туда тело с замотанным в пропитанную кровью мешковину остатком головы и засыпали комьями земли вперемешку со снегом. Сверху воткнули традиционную доску, и треснул жиденький винтовочный залп — взвод отдал последние почести своему командиру.
Весной грунт подтает, и холмик оплывет, а к осени, скорее всего, от него уже и следа не останется — все скроет пожухлая степная трава. Только покосившаяся зеленая доска от патронного ящика со сделанной химическим карандашом надписью будет напоминать об этом скорбном месте. А через некоторое время исчезнет и она. Лет через десять сгинут в траве наши неглубокие позиции, через тридцать-сорок и воронки от снарядов. Останется только в похоронке весьма неточное указание на место захоронения, по которому ничего нельзя будет найти в широкой степи.
Больше нас не обстреливали. Комбат сказал, что фрицы просто выпустили по нам тот боезапас, который не могли увезти с собой, и драпанули. Похоже на правду — канонада существенно отдалилась и притихла, но не исчезла совсем. После обеда меня вызвал комбат.
— Принимай взвод, пока не пришлют нового лейтенанта.
— Есть, принять взвод!
Собственно, принимать особенно нечего, да и не у кого. Два орудия, шестнадцать человек личного состава, вместе со мной, возимый бэка и два комплекта ЗИПа. Все в наличии — тридцатисемимиллиметровые патроны у местного населения спросом не пользуются, как и принадлежности к орудиям. Да и мало его в округе, населения этого.
Больше всего меня беспокоил второй расчет — там из восьми человек четыре новобранца. Правда, наводчики, заряжающий и командир из ветеранов, если так можно назвать пацанов, повоевавших пару месяцев. А еще командир второго орудия сержант Илизаров… Нет, как командир орудия он вполне на своем месте, и пока служит всего лишь ретранслятором команд расчету, вреда от него не будет. Но самостоятельную задачу ему поручать нельзя — уж больно правильный и излишне горячий. Известный лозунг Эренбурга понимает слишком буквально. Выдержки может не хватить, сам погибнет и людей погубит, он именно из таких. Со временем, может, и пройдет, но пока его надо в узде держать. У Угрюмова это хорошо получалось. А у меня получится? Тем более что мы с ним в одинаковом звании.
Долго предаваться психологическим изыскам мне не пришлось, к вечеру новый марш. На этот раз он был недолгим, километров на двадцать-двадцать пять в направлении на юго-запад. Сквозь звук мотора прорывалась артиллерийская канонада, значит, до фронта километров десять, может, пятнадцать, но не больше. Не обошлось и без происшествий. Во время одной из остановок рядом с нами оказался брошенный «Опель-Блитц». Дед Мазай не утерпел, полез трофеи собирать, хотя и так было видно, что машину основательно выпотрошили задолго до нас. Однако Дед вылез оттуда с довольной рожей.
— Что нашел? — поинтересовался я.
— Вот.
Дед продемонстрировал мне круглую металлическую коробочку.
— Зачем она тебе?
— Табак хранить буду.
Дед начал ковырять коробку, пытаясь ее открыть. Когда я уже отворачивался, то мне показалось, что я услышал негромкий щелчок.
— Ты что творишь?!
Подошедший Аникушин выхватил коробочку у Мазаева и бросил ее в овраг. Грохнул взрыв. Тут же примчался комбат, как будто специально где-то рядом поджидал.
— Что это было?
— Граната, — пояснил Аникушин, — наступательная. Румынская. Или венгерская.
— Три наряда вне очереди! — отреагировал Александров. — А вам, товарищ сержант, выговор.
И ушел еще до того, как ефрейтор успел открыть рот. После ухода лейтенанта Аникушин дал Деду смачный подзатыльник.
— Из-за тебя все, паразитина! Наряды за меня отработаешь.
— Ну и отработаю, — пробурчал Мазаев, поднимая шапку из мокрой снежной каши. — Чего сразу драться?
До рассвета пытались ковырять неоттаявшую землю лопатами. Бесполезно. Тут же заливает талой водой. Плюнули и оставили орудия прямо на грунте. Все равно скоро вперед.
Дороги развезло окончательно. Танки ушли вперед, а мы остались. Где-то там впереди грохочет, то чуть сильнее, то постепенно затихая и отдаляясь. День и ночь мы простояли на месте, потом вместе со штабом и тыловыми частями продвинулись немного на юг и замерли еще на два дня. Наметился кризис с подвозом горючего и боеприпасов, да и с кормежкой тоже, сидим на сухом пайке.
Утром меня и командира первого взвода вызвал комбат.
— Корпус ведет бой за важный опорный пункт. Противник сопротивляется отчаянно, его поддерживает авиация с аэродромов Днепропетровска, бригадная батарея… Короче, можно считать, что ее нет. Получен приказ выдвинуться вот сюда.
Карандаш лейтенанта уперся в точку на карте. Направление на юго-запад, километров пятнадцать-двадцать. А это что? Днепр? До него еще километров тридцать пять-сорок. Далековато забрались, не нравится мне это.
— Готовность к маршу через час. Порядок следования в походной колонне…
Одна часть моего сознания слушает лейтенанта, запоминает и прикидывает, как лучше организовать марш взвода. Вторая же истошно вопит «Стой! Не иди туда! Туда нельзя!». Я смотрю на лица обоих лейтенантов: молодые, чуть уставшие парни, которые делают свою привычную работу. Опасную, тяжелую, но работу. Боже мой! Они же ничего не знают! Еще не поздно их остановить. Одно дело, когда ты сидишь в окопе, ждешь вражеского удара и твердо знаешь, что уходить отсюда нельзя. Ни при каких обстоятельствах нельзя, кроме прямого приказа сверху. И совсем другое, когда не надо никуда идти, надо просто остаться на месте, и все будут живы. И я в том числе.
— Вопросы?
— Нет вопросов, товарищ лейтенант.
— Выполняйте.
— Есть!
— Есть!
Пропустив первого взводного, я выхожу из палатки и иду к позициям взвода. Надо довести задачу до бойцов и подготовиться к маршу. Там тоже люди, и их нужно прикрыть от атак с воздуха.
Дорога нырнула в небольшую лощину, у правой обочины замер немецкий полугусеничный тягач. Потом она пошла чуть вверх, вывела в открытое поле и тут же опять нырнула в небольшую ложбину. И было-то того открытого места полсотни метров, не больше. Первая машина уже почти достигла середины поля, вторая еще только начала выбираться из низинки. Бах! Снаряд попал первой машине в двигатель. Засада!
— К бою!
Бах! Еще одно попадание в переднюю машину.
Я распахнул дверцу кабины, готовясь выпрыгнуть. Степаныч вдавил педаль тормоза до упора, «шевроле» встал почти мгновенно, благо скорость была невелика. Едва не приложившись головой о лобовое стекло, я попытался выскочить, но выдергивание из кабины длинной винтовки заняло пару лишних секунд. Бах! Второму «шевроле» прилетело куда-то в район кабины. Застучали немецкие винтовки. Бах! Опять досталось первой машине. Из кузова второй машины горохом сыпались уцелевшие. Бах! Еще один немецкий снаряд прервал этот процесс, расшвыряв людей как тряпичных кукол. Похоже, комбату хана, и всем остальным тоже. Хотя, вроде, кто-то у второй машины шевелится, но это те, кому удалось выбраться из кузова. Стреляли справа, и калибр был невелик, скорее всего, это пятидесятимиллиметровый пак.
Расчеты, матерясь, уже сдернули чехлы, готовясь открыть огонь прямо с колес. Но стрелять было не в кого — гребень скрывал противника от нас. И нас от противника тоже, если бы не он, то противотанковая пушка, а судя по темпу стрельбы, она у немцев всего одна, спалила батарею еще до того, как мы успели развернуться. Щелкнули взведенные затворы, лязгнули вставляемые в магазины обоймы — взвод к бою готов. Но толку от этого никакого — деваться нам все равно некуда. Вперед хода нет, немцы это нам наглядно продемонстрировали. Назад? Полноприводные грузовики без орудий вполне могут развернуться на этой дороге, но позади тоже открытое место. Фрицы позволили нам втянуться в лощинку и, как только первый взвод выехал из нее, уничтожили его, захлопнув ловушку.
Тут мне на глаза попался радист. Связь! У нас же радиостанция есть! Сейчас свяжемся со штабом полка, и кого-нибудь пришлют к нам на помощь.
— Радист! Со штабом связаться сможешь?
— Попробую. Уехали недалеко, должна достать.
— Ты не пробуй, ты свяжись. Колька, хватай винтовку и дуй на гребень, смотри, чтобы фрицы к нам незаметно не подобрались.
В горящей машине часто хлопали патроны, красные трассеры разлетались в разные стороны, то и дело рвались снаряды, но общей детонации не было — калибр не тот. А вторая машина не горит, и раненых надо вытаскивать.
— Третьи и четвертые номера, подносчики, за мной! Илизаров, если фрицы полезут, открывай огонь самостоятельно.
— Есть!
Пригибаясь, бежим к переднему грузовику. До него метров семьдесят. За тридцать метров приходится шлепнуться в снег и дальше ползти, здорово мешает винтовка, но не бросать же ее в такой обстановке. Навстречу нам также ползком, прикрываясь складкой местности, двое тащат третьего. Встречаемся метрах в пятнадцати от заднего колеса орудия.
— Еще кто-нибудь там есть?
— Нет. Нас двое осталось, да вот, Пятаков, тяжелый.
Отвечает только один, второй, азиатской наружности с залитой кровью правой стороной лица, молчит.
— Тащите его дальше. И товарища своего перевязать не забудь.
А я решаю вытащить пушку, она, вроде, не пострадала. Самое опасное — снять сцепку с крюка. Для этого надо приподняться где-то на метр и откинуть защелку. Остальные в этот момент должны толкнуть орудие вперед, а затем после поднятия сцепки назад. На всю операцию нужно секунд пять, но на эти секунды надо вылезти из укрытия. А если фрицы из пушки пальнут… Я смотрю на лежащих у орудия сослуживцев. Нет, похоже, лучше самому. Подползаю к крюку, выжидаю секунд десять и, быстро подхватившись, пытаюсь откинуть защелку. Она идет туго, а время летит быстро. Немецкая пуля с резким хрустом врезается в борт грузовика. Падаю обратно. Дзинь, пи-иу! Еще одна попадает в сцепку и с визгом рикошетирует. Метко бьют, сволочи! «А пулемета-то у них нет», — вертится в голове.
— Мужики, давай вперед. Толкай!
Толкать лежа не очень удобно, но вот колеса чуть шевельнулись. Ложусь на спину и двумя ногами толкаю сцепку вверх. Есть, поднялась! Несколько пуль дырявят брезент орудия, рикошетируют от металла или просто пролетают мимо. Немецкая пушка молчит, а пулемета у них точно нет.
— Давай назад!
Назад, под горку, орудие идет легче. Убедившись в бесполезности своей стрельбы, фрицы затихают. Через несколько минут можно приподняться, а у первого грузовика встать в полный рост.
— Есть связь, сержант!
Прежде чем взять гарнитуру, спрашиваю.
— Кто?
— Комполка, — шепчет связист.
А чего шептать? Пока тангента не нажата, нас никто не услышит, радиостанция-то симплексная. Прижимаю черный эбонитовый наушник к уху, а тангенту нажать не успеваю.
— Александров! Александров, ты чего молчишь! Прием!
— Товарищ майор, лейтенант Александров убит. Прием.
— А ты кто такой? — удивляется наушник.
Я представляюсь.
— А этот, как его? Взводный где?
— Тоже убит. Товарищ майор, батарея попала в засаду в районе Водяного. Точнее сказать не могу, карта у комбата осталась. Потери: восемнадцать убитых, двое раненых, один тяжело, одно орудие, две машины. Прошу помощи.
Всего в двух машинах был двадцать один человек: два расчета по восемь, комбат, взводный, дальномерщик, два водителя. Выжило трое. Что-то сейчас комполка скажет, боюсь, что неласковое.
— Где противник?
— За гребнем. От нас метров триста-четыреста. Одно орудие с пехотным прикрытием.
— Одно орудие? — переспрашивает наушник. — Значит так, слушай приказ! Выкатить орудия на гребень и длинными очередями снести там все на…
Несколько мгновений я не могу ничего понять. Зачем на гребень лезть? Это фрицы нас оттуда моментально снесут. Какими длинными очередями? И тут до меня доходит — да он же пьяный! С трудом удержался от того, чтобы швырнуть гарнитуру связисту. Отдал аккуратно, незачем имущество портить, может, еще пригодится.
— Выруби эту шарманку на хрен!
Выкручиваться придется самим.
— Ерофеев, как там фрицы?
— Пока тихо сидят.
Надо бы самому взглянуть. Вытаскиваю из грузовика трофейную блузу, выворачиваю белой стороной вверх и натягиваю на ватник. Теперь на белом фоне не так выделяться буду. Но тут меня опять позвал связист.
— Кто?
— Замполит.
Час от часу не легче, сейчас еще этот политику партии мне разъяснять будет.
— На связи, товарищ майор. Прием.
— Что дальше делать думаешь, сынок?
От такого обращения я малость обалдел, по возрасту я вроде даже постарше его буду. Потом до меня дошло, что из всех полковых сержантов только я один бугай на пятом десятке, а большинство остальных вполне замполиту в сыновья годятся. Однако время идет, надо принимать решение.
— Дождусь темноты и по одному выведу орудия назад в безопасное место. Прием.
— Дождись и выведи. Только не назад, а вперед. Назад тебе сейчас лучше не возвращаться, поверь мне.
— Понял, товарищ майор. Связь кончаю.
— Удачи тебе, сынок.
Гарнитуру я вернул связисту, а сам направился к Ерофееву. Подползаю к Кольке и пытаюсь глядя в бинокль отыскать фрицевскую позицию. Полевой бинокль шестикратного увеличения с сеткой на линзах, в латунном корпусе, выкрашенном черной краской, на коричневом кожаном ремешке достался мне от Угрюмова. Шарю взглядом по небольшим снежным холмикам и ничего не вижу.
— Колька, ты их видишь?
— Вижу.
— Где?
— Во-он бугорок…
— Какой бугорок? Их здесь до черта.
— Вон, с кустиком.
Бугорок с торчащими из снега прутьями я отыскал, а фрицев нет.
— И где?
— Чуть левее…
Наконец до меня доходит, что темное пятно — это дульный тормоз. Дальше виден выкрашенный белой краской ствол, а вон и край щита торчит. Хорошо замаскировались, гады. И никакого движения. И пулемета у них нет.
Скатываюсь вниз и подхожу к Аникушину с Илизаровым.
— Ну что? Будем темноты ждать?
— Зачем? — удивляет меня ефрейтор. — Фрицы, думаю, уже сбежали.
— ?!
— Сам посуди. По второму грузовику они какими стреляли?
— Бронебойными.
— Вот. А почему бронебойными?
— У них осколочные закончились! — догадался я.
Смотрю на брошенный немецкий тягач, и вся картина сразу складывается. Тягач сломался, расчет откатил пушку с дороги, дождался первой же русской колонны, которой на свою беду оказалась наша батарея, и выпустил по ней все, что у него осталось. Будь у них еще хоть один снаряд, орудие мы бы просто так не откатили. А они свою задачу выполнили и ушли, минут десять тому, попробуй догони.
— Проверить надо.
— Надо, — соглашается Аникушин.
— Кто пойдет?
Может, не все немцы ушли. И патроны винтовочные у них наверняка остались.
— Я пойду, — вызывается Илизаров.
Берет свой ППШ и, проваливаясь, медленно идет по заснеженному полю. Все напряженно следят за его фигурой. Сто метров, еще сто. На третьей сотне становится ясно, что фрицев и след простыл.
— Приготовиться к маршу!
Расчеты переводят орудия в походное положение, убирают снаряды в кузов. Уцелевшую пушку первого взвода цепляем к первой машине. Надеюсь, у «шевроле» хватит лошадиных сил утащить сразу две. Возвращается Илизаров.
— Прицел и замок сняли. Потом по балочке ушли. Я им гранату в казенник сунул, в ствол не влезла.
— По машинам!
А раненый из первого взвода — Пятаков, умер. Его, как других погибших из первого взвода мы так и не похоронили. Не было времени, поставленную задачу надо выполнять.
Глава 6
В тот день до цели мы так и не добрались. Со вторым орудием скорость движения упала до десяти-пятнадцати километров в час. Полный привод не спасал, приходилось выбираться и выталкивать автопоезд из очередной снежно-ледяной лужи. А потом «шевроле» встал. Причем довольно удачно — прямо посреди населенного пункта. Степаныч со вторым водителем, матерясь, начали ковыряться в моторе, подсвечивая себе переноской.
— Надолго?
— Похоже, да.
Температура чуть ниже нуля, а ветер сырой, пронизывающий. На железе выступает вода, чтобы через минуту превратиться в ледяную корку. Упаси господи, в такую погоду с металлом дело иметь, не завидую я нашим шоферам.
— Может, помочь?
— Лучше иди, не мешай.
Постояв возле них еще минуты три и убедившись, что быстро возобновить движение не получится, я подошел к заднему борту.
— Слазь, славяне. Ночевать здесь будем.
Укрывавшийся от ветра под тентом народ посыпался на землю, точнее, на снег. Орудия и неисправный автомобиль откатили к ближайшему дому. Второй «шевроле» съехал с дороги сам.
— Эй, есть кто живой?
Аникушин забарабанил кулаками в дверь. Минуты через три-четыре дверь открылась и на пороге появился лысый дедок, кутавшийся в какое-то тряпье.
— Здорово, дед. Еще кто-нибудь на хуторе есть?
— Из военных?
— Ну не гражданских же! Естественно, военных.
— Не, никого. Вы одни.
— А переночевать пустишь?
Дед молча посторонился, пропуская нас в дом, особенной радости от появления постояльцев он не выразил. Настроение его несколько улучшилось, когда солдаты поделились сухим пайком с ним, с его старухой и тремя детишками, судя по возрасту — внучатами. Где их родители, я спрашивать не стал.
Все уже стали понемногу засыпать, когда по улице не спеша прогрохотало что-то гусеничное. Никто даже не дернулся, только поворчали, что «мазута уснуть не дает». Лязг гусениц затих у нашей машины, потом дизель взревел, танк чуть продвинулся вперед и заглох — танкисты тоже решили переночевать здесь. Видимо, отставший танк из той же бригады, в которую направлялись мы. Когда вернулись водители, я уже не услышал, забылся в тяжелом сне.
Разбудил меня рев танкового дизеля. И не меня одного. Приподнявшись, Аникушин взглянул в окно. Тьма уже отступила, пора и нам вставать, но я оттягивал последние мгновения перед неизбежным подъемом. Танк залязгал гусеницами, и вдруг… Бах! Выстрел из пушки! Все замерли. Буквально тут же донесся звук, как будто кто-то ударил по земле гигантской кувалдой. Именно так бьет по мерзлой земле бронебойная «болванка».
— Немцы!!!
Сонное царство тут же сменилось лихорадочной суетой.
— Степаныч, машина готова?!
— Готова!
— Заводи! Батарея к бою!
Мы выскочили из дома в несколько секунд, благо спали не раздеваясь. Из-за крайнего дома показалась корма «тридцатьчетверки», замерла. Бах! И тут же дернулась назад. Ответный снаряд, выбив из угла дома какие-то палки, прошел впритирку с танковой башней. Хороший у фрицев наводчик. Счастливо избежавший попадания танк развернулся, объехал дом и высунулся с другой стороны. Я тоже обежал наш дом и высунулся из-за угла, чтобы оценить обстановку. Три немецкие самоходки пятились задом от хутора. Именно с ними и перестреливалась «тридцатьчетверка», но в постепенно разгоняемой рассветом мгле, меняющей силуэты и расстояния, обе стороны пока мазали. Чуть дальше виднелось что-то еще: то ли грузовики, то ли бронетранспортеры, не разобрать.
Бах! Выстрелила танковая пушка. Трассер достал одну из «штуг», и она замерла. Банг! Немецкий снаряд срикошетировал от лобовой брони нашего танка, когда он уже двинулся назад. Рывком проскочив несколько метров и укрывшись за домом, танк замер. Дизель продолжал молотить на холостых оборотах, но сам танк оставался неподвижным. Я подбежал к танку, вскарабкался на броню и постучал по башенному люку.
— Эй, танкеры, вы там живы?
Снаряд броню не пробил, но даже в этом случае приложить их должно было очень хорошо. Секунд пятнадцать ничего происходило, потом дизель заглох, люк откинулся, и в нем показалась чумазая голова в черном ребристом шлеме.
— Га?!
Говорил танкист неестественно громко, почти кричал. Я тоже почти кричал, чтобы он меня услышал.
— Живы, говорю?
— Ага!
— Ты уходить отсюда будешь?
— Ни, тут воювати буду. Солярки майже зовсим немае.
Понятно, идея прицепить третью пушку к танку потерпела фиаско.
— А снаряды?
— Трохи е.
— С бригадой связаться пробовал?
— Нема звязку.
— Ладно, понял.
Я спрыгнул с танка и побежал к своим, там меня уже ждали.
— Ну, что? — поинтересовался Илизаров.
— Три «артштурма». То ли третьи, то ли четвертые, не разобрал, «свинорылые». Около роты мотопехоты. Одну самоходку фрицы потеряли, остальные отошли. Похоже, передовой отряд. Танкисты остаются, у них в баках почти сухо. Связи с бригадой нет.
— Сейчас остальные подтянутся, — предположил Аникушин, — артиллерию подвезут и…
— Ты лучше скажи, что делать будем? — прервал его я.
— Я остаюсь, — неожиданно заявил Илизаров. — Возьму двух добровольцев и третью пушку, с ней вы все равно далеко не уйдете. А вы уходите, мы с танкистами их здесь придержим.
Признаться, я испытал облегчение. Решение бросить одно из орудий и спасать остальные было первым, которое пришло в голову. Но за оставленную без боя пушку по головке не погладят, значит, кто-то должен остаться с ней.
— Где встать думаешь?
— Там, за сараем.
— Где???
Длинный сарай непонятного назначения находился за пределами хутора на другой стороне глубокого оврага. Этот же овраг ограничивал маневр немецкого левого фланга, а обход справа вынуждал их сделать приличный крюк и приводил к большой потере времени. К тому же именно в том направлении находилась наша бригада, до которой мы так и не смогли добраться. Учитывая господство в воздухе немецкой авиации, не знать о ней немцы не могли. Поэтому наиболее вероятным направлением второй атаки было такое же, как и первой. Собрав против одной «тридцатьчетверки» пять-шесть своих самоходок, немцы могли рассчитывать на ее быстрое уничтожение. С пятисот метров все может решить одно попадание, второй раз танкистам вряд ли так повезет. А мы им помочь мало чем могли — для сорок третьего года бронепробиваемость снарядов 61-К была явно недостаточной. По крайней мере, «штурмгешютц» нам в лоб не взять. Выбранная Илизаровым позиция позволяла обстрелять немецкую бронетехнику в борт, причем под углом почти в девяносто градусов, тут у нас был шанс.
— За сараем, — повторил Илизаров.
Говорил он спокойно, как будто речь шла о выборе места для воскресного пикника. Эту спокойную решимость я за ним и раньше замечал, но его неожиданно проявившаяся готовность в любой момент, без каких либо внешних эмоций, пойти хоть на смерть, хоть к черту в зубы пугала и восхищала одновременно. Так как было у этой позиции два существенных недостатка: по оврагу немецкая пехота могла незамеченной подойти вплотную, а двести метров чистого поля до первых строений хутора не оставляли шансов дойти до них живыми.
— Хорошо, — согласился я, хотя Илизирову мое согласие было до лампочки, он уже все решил сам. — Минут десять-пятнадцать-двадцать у нас еще есть. Пушку откатите вручную, нечего фрицев грузовиком дразнить. Снарядов сколько возьмешь?
— Два ящика бронебойных, два осколочных. Думаю, хватит.
— Ищи добровольцев и действуй. Я с танкерами договорюсь, вы начнете, они вас поддержат. Аникушин готовь остальных к маршу.
Я второй раз подбежал к танку и взобрался на него. На этот раз башенный люк был открыт, а один из танкистов лежал у угла дома — наблюдал за немцами.
— Эй!
— Га?! — откликнулся командир танка.
— Тебя как звать?
— Мыкола.
— Слушай, Мыкола, мы во-он там, за сараем сейчас пушку поставим. Как немцы на полкилометра подойдут, она им во фланг начнет, а как они к ней повернутся — ты сразу подключайся.
— Зрозумив, не дурний.
Я уже собрался спрыгнуть с танка, но тут танкист остановил меня.
— Стий. Я тоби адресу напишу. Як Фастив звильнят ти моим батькам повидомь, що син их, лейтенант Кулиш, в бою впав… Ну ти зрозумив.
Лейтенант! А я с ним как…
— Понял, товарищ лейтенант, пишите.
Пока он карябал строчки карандашом по мятой бумажке, захватанной грязными пальцами, я посмотрел, как идут дела у наших. Грузовики уже развернулись, и расчеты цепляли к ним орудия. Третьего видно не было — скрылось за строениями.
— Тримай.
Лейтенант протянул мне бумажку. Я, не читая, аккуратно сложил ее и положил в нагрудный карман гимнастерки.
— Прощай, лейтенант.
— Удачи тоби.
Едва я добежал до переднего «шевроле» и вскочил на подножку, наша куцая колонна тронулась. На окраине хутора притормозили. Из кузова достали ящики со снарядами и потащили их к сараю. Стоя у грузовика, я хорошо видел, как опустилась на грунт пушка и неузнаваемые с такого расстояния артиллеристы начали снимать с нее брезент. Видел, как подтащившие к орудию ящики со снарядами задержались на несколько секунд, видимо, прощаясь, и быстро рванули обратно.
Когда они пробегали мимо меня, я пытался определить, кого не хватает, кто остался у спрятанной за сараем пушкой. Не получилось. Внутри меня вдруг что-то произошло, ощущение было таким, будто распрямилась мощная пружина, разом сбросившая сжимавший ее тяжкий груз. На душе вдруг стало легко и свободно. Я понял, что произошло — ушел страх, я больше ничего не боялся. Последним бежал Аникушин.
— Поехали!
Он хотел проскочить мимо меня к заднему грузовику, но я прихватил его за плечо.
— Не спеши. На, держи, — я сунул ему в руки снятый с шеи бинокль, — тебе он нужнее будет.
— Чего?
— Того. Я остаюсь. Молчи, — оборвал я его, заметив, что хочет открыть рот, — молчи и слушай. Ты дорогу обратно помнишь?
— Помню.
— Забудь ее. На главные дороги не суйся. Уходи второстепенными на Лозовую. И никто с тебя не спросит, некому будет спрашивать. А спросят — вали все на меня. Скажи, что я приказал. Ты все понял?
— Да ничего я не понял. Какого…
— Времени для дискуссий нет. Не понял, так не понял. Главное, до Лозовой доберись. Хочешь, я тебе письменный приказ напишу?
— Твоим приказом только в сор…
Ба-бах! Гаубичный снаряд лег близким недолетом перед хутором. Немецкая артиллерия начала пристрелку.
— Все, давай!
Я толкнул ефрейтора к переднему грузовику.
— Стой! На, возьми. Командир танка просил родителям сообщить после освобождения Фастова. Адрес и фамилия там должны быть. Давай бегом, фрицы ждать не…
Ба-бах! Перелет. Я дождался, когда мимо меня проедет второй грузовик со скачущей на неровностях пушкой, и, загребая ногами снежное месиво, побежал к сараю, поддергивая съезжающую с плеча винтовку.
Илизаров из-за угла наблюдал за немцами. Уцелевший из первого взвода, тот, что вытаскивал раненого Пятакова, я никак не мог вспомнить его фамилию, и первый номер из расчета Илизарова, худенький, похожий на подростка красноармеец Денисов, торопливо набивали обоймы патронами. Мое появление у орудия встретили без удивления, Илизаров спросил только.
— А ты зачем?
— Затем же, зачем и вы. Должен же вам кто-то патроны подносить.
С этой позиции подбитый «артштурм» был хорошо виден. Внешне машина не имела никаких повреждений, люки были закрыты, но с первого взгляда было понятно, что машина мертвая. И машина, и экипаж. Я взял пустую обойму, вытащил из ящика черноголовый патрон и занялся делом.
Тем временем артобстрел хутора прекратился, выпустив десятка два снарядов, немецкая артиллерия замолчала. За танкистов я не волновался, их танку страшно только прямое попадание или совсем уже близкое накрытие, а вероятность такого случая при этой плотности огня нулевая. Хотя всякое бывает.
— К бою! — скомандовал Илизаров, и расчет занял свои места.
Пауза затягивалась.
— Чего-то фрицы время тянут. Глянь за угол, — обратился он ко мне, — когда пойдут — предупредишь. И смотри, вдруг пехота по оврагу подберется.
Я хотел взять винтовку, но Илизаров протянул мне свой ППШ. От угла в овраг вел довольно крутой спуск, натоптанный хуторянами, добиравшимися сюда пешком. После вчерашней оттепели его прихватило морозцем. Я уже собирался выглянуть за угол…
— Граната!!!
Инстинкт бросил меня на землю, и я, не удержавшись на краю спуска, съехал на дно оврага. Граната рванула в тот момент, когда я достиг нижней точки. Бах! Подхватившись, я рванул наверх. А там уже зачастил ППШ Денисова, застучали винтовки. Я уже достиг половины склона как… Бах! Бах! Еще две гранаты. Не удержавшись, я съехал на животе обратно. Наверху стало тихо. Неужели все? Стараясь не шуметь, я медленно взвел затвор ППШ и взял на прицел край склона — первого, кто высунется, срежу, и будь, что будет. В плен попасть я не боялся — озверевшие после Сталинграда фрицы, что из СС, что из Вермахта, в этих боях в плен никого не брали.
Сверху дважды коротко простучал МП и бухнула винтовка. Раненых добивают или просто страхуются. Подумав, я сдвинулся правее под крутой склон.
— Гыр-гыр-гыр-быр.
Пш-ш-шш, пш-ш-ш-ш, — ушли в небо две зеленые ракеты. Похоже, это и было сигналом к началу атаки — шум нескольких моторов я услышал довольно отчетливо. Наша возня у сарая не осталась незамеченной, и прежде, чем переть в лоб, фрицы решили подстраховаться с фланга. Умные, сволочи!
— Быр-гыр-гыр-быр.
И у сарая все стихло. Неужели ушли? Поставив автомат на предохранитель, я начал осторожно ползти вверх по склону. Через минуту я получил возможность выглянуть из оврага. Илизаров так и остался сидеть в кресле второго номера, остальных не видно, остались с другой стороны орудия. А немцы? Вот они! Семеро. Пригибаясь, крадутся к хутору. У одного пулемет, остальные с винтовками. Нет, вон у среднего МП в руках, со спины плохо видно, еще у одного винтовка за спиной, а в руках, похоже, автомат Денисова. На всех почти такие же белые анораки, как и на мне, только у меня штаны черные, ватные, а у них такие же белые, как и блузы.
Стрелять из такого неустойчивого положения я не рискнул, отдача могла сбросить обратно на дно. Подполз к орудию, пристроился за колесом, снял ППШ с предохранителя, перекинул целик на двести метров и взял на прицел пулеметчика, решил, что он самый опасный. Немцы уже прошли еще полсотни метров, опасности сзади они не ждали, ведь здесь они все подчистили. Палец лег на спуск, и тут меня как молнией пронзило. Танкисты! Они ведь ничего не знают и будут ждать нашего огня. Подпустят фрицев слишком близко и… Что делать? Что делать? Голова была ясная, и мысли летели, обгоняя друг друга, но решения не находилось — одному из пушки не выстрелить.
Идиот! Неужели все так просто! Подползаю к ногам Илизарова. Так и есть, Денисов и заряжающий лежат около орудия. Труп заряжающего сильно обезображен — попал под разрыв гранаты, снег вокруг покраснел. Его карабином и моей винтовкой фрицы побрезговали, только сняли затворы. А орудие не тронули — зачем трофей портить? Прикрываясь орудием, я и стащил сержанта с сиденья. Труп еще не успел окоченеть. Еще пять минут назад он был живым, все они были живы, а сейчас остался только я. Нащупал в кармане индпакет, рванул зубами упаковку и начал бинтом приматывать педаль к платформе. Пружина у педали тугая, получается не сразу. Так, теперь магазин. Первая обойма вставлена, но патрон не дослан. А фрицы уже скрылись за домами.
Поворачиваю рукоятку первого заряжания и вставляю в магазин вторую обойму бронебойных. Теперь проверить установки прицела. Дальность — шестьсот, скорость — пять, курсовой угол — девяносто. Так и есть, мужики выставили их заранее.
А вот и «артштурмы». Одна, две…, пять. Теперь надо действовать быстро. Плюхаюсь в кресло Илизарова и подвожу прицел под гусеницы ближайшей самоходки. До нее метров четыреста. Нет, пожалуй, четыреста пятьдесят. На корме «артштурма» привязаны какие-то ящики. Теперь обратно на правую сторону, в кресло первого номера. Навожу прицел на передний срез силуэта. Черт! То ли пушка стоит криво, то ли местность снижается — прицел задирается. Однако исправлять наводку уже поздно. Дожидаюсь, пока прицел окажется на середине силуэта, и сам себе командую.
— Огонь!
Г-г-гах! Попал! Две характерных вспышки трассеров явно указывают на это. Хоть и первый раз стреляю, но при таком темпе стрельбы трехпатронную очередь мне удается отсечь без труда. Перевожу прицел чуть левее. Г-г-гах! Выше! А меня заметили — самоходка начинает поворачивать в мою сторону. Про танк они, конечно, помнят, но, когда тебе в борт лупят бронебойными, рефлекс заставляет повернуться к опасности наиболее защищенной стороной. Навожу орудие на следующую. Здесь прицел оказывается заниженным. Плевать! Г-г-гах! Есть попадание! Вспышка трассера возникает в кормовой части, и самоходка, споткнувшись, замирает. Все, десятый снаряд остался на линии досылания, но пока в магазине не окажется следующая обойма выстрела не будет.
Ко мне вернулся страх. Зенитный визир — это не прицел прямой наводки. У него отсутствует увеличение, зато он имеет широкое поле зрения, чтобы наводчики не теряли из вида скоростную и маневренную воздушную цель, и быстро переносили огонь с одной цели на другую. А еще визир делает изображение четче и как бы рельефнее. Вот я и увидел впервые то, о чем рассказывал пацанам-призывникам в вагоне — направленный на меня круглый ствол пушки. С четырехсот метров увидел. Четко и рельефно.
В следующее мгновение «артштурм» дергается и полсекунды спустя взрывается — сдетонировал боезапас. Танкисты! Секунду спустя до меня докатывается грохот взрыва. Однако уничтоженная самоходка не единственная, кто обратил на меня внимание. Все, хватит испытывать судьбу! Целую секунду я потратил на то, чтобы прихватить из-под колеса ППШ, и эта секунда чуть не стоила мне жизни. Едва успеваю «рыбкой» уйти по обледеневшему спуску, как сзади гремит взрыв. Чувствую сильный удар в правое бедро, тут же глохну, а скатившись вниз, чувствую, как по ноге потекло что-то липкое и горячее. До кучи приходит мысль, что ППШ я на предохранитель не поставил, а затвор-то был взведен.
Ч-черт, больно-то как! На ногу пока не смотрел. К виду чужой крови как-то привык, а вот к своей… Стиснув зубы, нащупал второй индивидуальный пакет, краем сознания похвалив себя за то, что в свое время его захомячил. Стоп. Надо сначала ногу перетянуть, кровь остановить. Оставил пакет в кармане и снял с себя поясной ремень. Осторожно перевернулся на спину, опираясь на руку сел, и замер — штанина была абсолютно целой. Ни дырочки, ни пятнышка крови. Тронул бедро — больно. Видимо, приложило куском мерзлой земли или льда. Ну да, снаряд-то при взрыве осколки в основном вперед бросает, а я позади него оказался. И ведь было полное ощущение, что кровь по ноге течет. Все-таки иногда хреново хорошее воображение иметь!
Валить, валить надо отсюда, пока фрицы не вернулись. Снял с ремня подсумки с винтовочными обоймами, оставил только флягу — лишняя тяжесть мне сейчас ни к чему — и вернул ремень на место. Перевернулся на живот, встал на четвереньки. Подтянул к себе автомат, поставил, наконец, ППШ на предохранитель и, опираясь на него, встал на левое колено. Левой рукой оперся на колено, правой на ствол автомата. Собрался с духом. Рывок! Боль прострелила мозг, но удержался, удержался, балансируя на левой ноге и автомате одновременно, не упал. А дальше? Мелькнула мысль бросить ППШ к чертовой матери, опереться на него нельзя, слишком короткий, а таскать с собой лишнюю тяжесть… Вместо этого максимально подтянул под себя правую ногу и, оттолкнувшись от земли автоматом, выпрямился, прихватив оружие за ствол. Аж в глазах потемнело, а из-под шапки хлынул холодный пот.
Несколько секунд постоял, приходя в себя. Оружие повесил на шею, натянул капюшон на голову. Обзор ухудшился, но теперь есть шанс на расстоянии сойти за какого-нибудь раненого фрица, от которого я сейчас отличаюсь только черными штанами. А ППШ? Ну и что? Прихватили же они автомат Денисова, вот и у меня «трофейный». Может, они мне еще и помощь окажут? Ага. Пусть только поближе подойдут, сволочи, а там я и сам им помогу. Так помогу, что им никакая помощь больше никогда не потребуется. Диск у ППШ полный. Ну пусть Илизаров не до конца его набил, но на шесть десятков патронов я могу рассчитывать. Если одиночными, то на три-пять минут хватит.
Я прислушался, стрельба наверху уже стихла, доносился только шум моторов немецкой техники. При таком превосходстве немцев продержаться долго танкисты в принципе не могли. Надеюсь, что кто-нибудь из них все-таки выжил. Остальным — вечная память. Все, пора, пока обо мне не вспомнили. Правую руку на приклад, левую на кожух ствола, так лучше балансировать. Зубы сжал, на правую ногу чуть оперся, левой — р-раз, правую подтянул. Левой — р-раз, правую подтянул. Левой, правой, левой, правой. Снег, проклятый, почистить не догадались. Левой, правой, левой, правой. Йо-о-о-у! Кочку под снегом не заметил. Не могли асфальт положить. Куда только местный губернатор смотрит? Левой, правой, левой, правой.
Первую сотню метров преодолел минут за десять, а вымотался, как после десятикилометрового кросса. Здесь фрицы поднялись наверх, вон их следы. Оглянуться не было сил. Постоял? Отдохнул? Вперед! Первые шаги дались с большим трудом, а потом вроде притерпелся к боли. Левой, правой, левой, правой. Прошедшее здесь отделение фрицев протоптало дорожку, которой я и воспользовался. Никто меня не преследовал. Со второго захода мне удалось преодолеть еще метров триста, а может, и больше. Здесь я окончательно лишился сил и привалился спиной к крутому склону. Вроде стоишь, а вроде и нет, даже левую ногу удалось расслабить. Снял с ППШ тяжелый кругляш, выключил предохранитель, нажал на спуск — автомат послушно лязгнул затвором — и вернул диск на место. Глотнул воды из фляги, она показалась мне ледяной. Так и провел минут тридцать, а может, сорок.
Отрыв от земли прошел намного проще, чем предыдущий, значит, ничего серьезного — просто ушиб. Сейчас бы отлежаться, компрессик холодный приложить… Р-раз, два, левой, правой. Постепенно втянулся, скорость увеличилась, но тут я понял, что овраг ведет не туда, куда мне надо — на северо-запад, а мне нужно на северо-восток. Однако вылезть наверх не рискнул, немцы могли быть где-то рядом. Так и шел, пока овраг не закончился. Дальше была еще скованная льдом речка. Повернул направо и, прикрываясь обрывистым берегом, двинулся почти в нужном направлении.
Следующие два километра я преодолевал около часа, вполне приличная, с учетом моего состояния и состояния дороги, скорость. Дальше речка поворачивала куда-то к югу, но были видны мостик через нее и проходящая через него дорога. За мостом чернел брошенный грузовик. Подумав, что по полю мне все равно далеко не уйти, я решил воспользоваться дорогой. Грузовиком оказался наш ЗиС, судя по ржавчине, разукомплектованности и занесенности снегом, стоящий здесь еще с сорок первого года. Значит, эта не та дорога, по которой мы ехали — там никаких грузовиков у моста не было. Или был, да я в темноте не заметил?
Едва отойдя от грузовика, я осознал свою ошибку — со спины послышался шум моторов. Придурок! Кто же днем по дорогам ходит? Днем по ним фрицы ездят, а ночью они спят, вот тогда и надо высовываться. Торопливо дошкандыбав до ЗиСа, быстро забился в щель, ограниченную снегом снизу и кузовом сверху. Спрятался почти весь, дальше не пустила рама. Колонна приближалась. В щель между рамой и кузовом я отлично видел идущую впереди «тройку» и голову танкиста, торчащую из люка командирской башенки. Что меня удивило — немец был в черной пилотке, с надетыми поверх нее здоровенными наушниками. Да, да, не в шлеме, а именно в пилотке, да еще и зимой! У них в танке что, нет ни единого угла, о который можно треснуться головой?
Танк прорычал мимо, обдав меня вонью сгоревшего бензина. А дальше пошли другие танки, еще танки, бронетранспортеры, полугусеничные артиллерийские тягачи, грузовики, цистерны с горючим, в конце опять танки. Они проходили буквально в четырех-пяти метрах от меня. Долго проходили. Одних танков я насчитал почти три десятка — танковый батальон, хоть и неполный. Когда колонна прошла, решил остаться на месте — в любой момент могла появиться другая, а иных укрытий впереди не было. Возвращаться назад и терять с таким трудом пройденные метры было жутко обидно. До вечера мимо меня прошли еще три колонны. Одна артиллерийская часть со стопятимиллиметровыми гаубицами и две тыловые колонны, сопровождаемые броневиками.
Когда стемнело, я выжидал еще около двух часов. На большее терпения не хватило — голод и жажда гнали меня вперед, ничего съестного у меня с собой изначально не было, а воды во фляге буквально на дне, и кончилась она до обидного быстро. Казалось бы, снега вокруг навалом, речка рядом, а попробуй добудь водички через толстый, намороженный за зиму слой льда, не имея никаких инструментов.
Убедившись, что с наступлением темноты движение прекратилось, я двинулся по дороге. Отдых пошел ноге на пользу, и двигался я уже довольно бодро. Через полкилометра меня догнал шум моторов. Еще одна колонна! Оглянувшись, я увидел плавающий по дороге тусклый свет фар. Перевалившись через снежный гребень у дороги, замер. Фары со светомаскировочными заслонками дают очень маленькое пятно света на самой дороге, поэтому был хороший шанс, что лежащего на обочине человека в маскировочном анораке не заметят, а если и заметят, то примут за труп. Колонна приближалась, вой моторов становился все громче. Я натянул капюшон на голову, а когда первая машина поравнялась со мной, нервы не выдержали и я взвел затвор, рискуя выдать себя движением. К моему счастью, по сторонам немцы не смотрели, а предписанная уставом дистанция не позволяла увидеть меня водителю следующей машины. Так и лежал, пока не проехали все, благо колонна была небольшая.
Когда затих мотор последней машины, я, предварительно оглядевшись, выбрался обратно на дорогу, снял затвор автомата с боевого взвода и плюнул вслед фрицам.
— Разъездились тут, сволочи!
Дул влажный пронизывающий ветер. Если бы не трофейная накидка, он выдул бы из меня остатки тепла и я окончательно дал дуба. А так завязал шнурки на рукавах, капюшоне и талии, и шагай себе. Несмотря на ночь и отсутствие луны, полной темноты не было. Видимо, лунный свет пробивался все-таки сквозь облачность, да и не успевший почернеть снег тоже накидывал с десяток дополнительных люксов. В этом неверном освещении, темное пятно с левой стороны дороги я увидел только, когда приблизился к нему метров на сорок. При ближайшем рассмотрении это оказался легкий вездеход, видимо «виллис». Точнее сказать было нельзя — машина была разворочена прямым попаданием фугасного снаряда приличного калибра. «Четверка» сработала, или тот же «артштурм», решил я. Судя по положению машины, для ехавших в ней встреча с немцами была неожиданной, а гибель мгновенной.
Я уже хотел бы продолжить путь дальше, но заметил лежащий за машиной труп. Погибший, в своем белом командирском полушубке, был почти незаметен на фоне снега. Выдали его чернеющие на белом сапоги. Лезть через снежный бруствер не хотелось, но мысль, что у погибшего командира может быть фляга с водой, а то и водкой, послужила причиной к действию. Фляги у убитого не оказалось. На ремне была кобура ТТ, через плечо — командирская сумка. Спина разворочена крупным осколком. Видимо, успел выскочить, но тут же получил осколок в спину. Умер не сразу — успел перебраться через снежный вал, где и остался лежать, пока я его не нашел.
Пошарил в сумке, какие-то бумаги, тряпка, вроде, мыло, пачка сигарет. Красиво жил командир по местным меркам, сигареты курил, а пачки галет в сумку положить не догадался. Обидно. Надо бы документы прихватить, может, удастся сообщить родственникам. Перевернул труп и полез за отворот полушубка. Ух-ты! Воротник гимнастерки — стойка. Просунул руку дальше, так и есть — погоны. Откуда же ты тут взялся такой красивый в форме нового образца? В штабе корпуса все еще старую форму донашивают, даже сам комкор. Это я точно знаю. Значит, эти были из штаба армии или фронта. Скорее фронта, а может, чем черт не шутит, и из Москвы. Это объясняет и наличие сигарет, которых в нашем полку отродясь не было. Удостоверение оказалось в левом нагрудном кармане. Сумку тоже решил взять с собой — вдруг там что-нибудь важное, при дневном свете посмотрю — решу.
Вытащил из кобуры ТТ, а из ТТ — магазин. Хотел взять с собой, но передумал — от ППШ толку больше при том же патроне. Правда заранее неизвестно удастся ли доснарядить диск, но будем надеяться, что удастся. Пистолет улетел в сугроб. Выщелкнул патроны из магазина ТТ и отправил его на противоположную сторону дороги. Спустя минуту, туда же отправился запасной магазин, также лишенный всех патронов. Ни себе, ни людям. Зато разжился шестнадцатью дополнительными патронами. С сумкой пришлось повозиться, мало того, что она висела на ремне, так еще имела и плечевой ремень. Удостоверение убитого командира положил в сумку, повесил ее на плечо под анорак, перевалился через снежный вал и зашагал дальше.
В ту ночь я преодолел километров десять-двенадцать, точно сказать не могу. Устал смертельно, и когда на дороге появился второй по счету хутор, решил остановиться на дневку именно здесь. Идти дальше не мог, и жрать хотелось уж больно сильно. Если повезет, то может и удастся отлежаться здесь пару дней. Долго прислушивался к ночной темноте хутора, но она встречала мне полной тишиной. Немцы народ дисциплинированный, на ночь обязательно часовых выставят, парный патруль по улице пустят. Солдаты обязательно нашумят, они не призраки — бесшумно двигаться не умеют, амуниция обязательно звякнет. Окончательно убедился в отсутствии немцев, когда где-то залился лаем хуторской кабысдох. Меня почуял? Нет, вряд ли, за время оккупации у него на людей с оружием должна выработаться совсем другая реакция — сидеть и не высовываться. А этот жив, значит, сию собачью мудрость знает прекрасно. А раз лает, значит, немцев на хуторе нет, те бы его за помеху ночному сну в ту же секунду сократили.
Первый дом встретил меня пустыми глазницами окон и криво висящей на одной петле входной дверью, он оказался нежилым. Во второй дом я соваться не стал. Заходить туда — шаг вполне очевидный не только для меня, но и немцев, которые будут разыскивать окруженцев таких же, как я. Поэтому добрался до крайнего дома с восточной стороны хутора, взвел затвор ППШ и негромко постучал в окно, состоящее из трех почти целых кусков стекла. Поначалу никакой реакции. Постучал еще раз, потом еще. Минут через семь, скрипнула входная дверь, и на пороге появился, как я смог разобрать в темноте, сухонький дедок в чем-то темном и белеющих из-под верхней одежды кальсонах.
— Здорово, дед. Немцы на хуторе есть?
— Не, никого нету. Наши вчера еще до полудня убёгли, а германцы не задерживаясь проехали. Вот когда тыловики ихние нагрянут, тогда да.
— А ты откуда знаешь?
— Так ведь не первый раз. Полтора года назад точно так же было. Сначала одни прошли, потом другие приехали. И окруженцы, вроде тебя, тоже месяц еще ходили, в окна стучали, а германцы тыловые их отлавливали.
Похоже, опытный мне попался дедок. И разговорчивый.
— А дверь ночью на стук открывать не боишься?
— На такой не боюсь. Когда так стучат — помощи просить будут. Вот когда в дверь прикладами колотят и выломать ее грозятся, вот тогда да, страшно.
— А мне поможешь?
Дед покосился на ствол автомата.
— Чем смогу.
— Я ногу зашиб, хожу плохо, мне бы дня два-три отлежаться…
— Не, не, не. В дом не пущу. Германцы нагрянут, и тебя, и меня со старухой, и сноху с внучатами, всех повесят. Ты чуть дальше пройди, там амбар ничейный, в нем схоронись. Туда никто не ходит. А я тебе сейчас чего поесть соображу. Голодный, небось?
— Голодный, с позавчерашнего вечера не ел. А дом на окраине по этой причине пустой?
— По этой. Да и не только он, — даже в темноте было заметно, как дед помрачнел. — И людишки на хуторе тоже разные есть. Ладно, жди.
Дед исчез в доме, закрыв, но не заперев дверь. Вернулся быстро, как будто все у него было готово заранее. А может, и вправду заранее подготовился к таким визитам.
Дверь скрипнула, и на пороге появился дед с нашим армейским котелком.
— На, ешь. И вот еще.
Дел сунул мне полбуханки черного хлеба. Хлеб был явно заводской, а не домашней выпечки.
— А это откуда? — спросил я, набивая рот хлебом и цедя через край котелка еще не остывшую болтушку на ржаной муке.
— Хлебопекарня у нас стояла. А как германцы на дороге появились, они еле утечь успели. Все побросали: и готовый хлеб, и то, что в печи, и тесто. А мы разобрали по домам.
— Вояки хреновы.
Мы уже который день на сухарях сидим, а где-то, оказывается, хлебопекарни работают. Куда только их продукция девается?
— Да какие там вояки, — не поддержал меня дед, — наполовину бабы, наполовину нестроевщина, чуть меня помоложе, и лейтенант мордатый. Вот и все войско.
— Слушай, дед, а две машины с пушками на прицепе вчера утром через ваш хутор не проезжали? Пушки на четырех колесах…
— Нет, не проезжали, — дед на секунду задумался, вспоминая. — Точно не проезжали.
Значит, это не та дорога. Или батарее не удалось проскочить. Хотелось бы думать, что первое.
— А водички во флягу не нальешь, лучше горячей.
— Ради тебя одного греть не стану, но чугунок в печи еще не остыл вроде.
На этот раз дед отсутствовал дольше, когда он вернулся, я уже прикончил и хлеб, и болтушку.
— На, держи, — дед протянул мне теплую флягу, которую я тут же спрятал между телогрейкой и гимнастеркой в качестве грелки. — А хлеб весь слопал? Так и знал. Надо было на день что-нибудь оставить. Вот, возьми и радуйся, что у меня сейчас много.
Дед отдал мне еще полбуханки.
— Как тебя зовут-то, дед?
— Евграфычем. Ступай в амбар, следующей ночью я тебе еще чего принесу.
— Спасибо, Евграфыч.
— Бывай, солдат.
Старик забрал котелок, закрыл дверь и лязгнул запором. А я вспомнил, что на радостях, да увидев жратву, автомат даже на предохранитель не поставил.
Минут через пять моего хода я вышел к указанному дедом амбару. Из двух створок ворот уцелела только одна. А в остальном настоящая ловушка: выход только один, стены достаточно еще прочные, чтобы их выломать. Можно попробовать поискать другой выход через чердак, но не в моем состоянии. Однако дневать в снегу и под открытым небом было выше моих сил, здесь хоть от ветра есть защита и старая солома на полу. Я зарылся в кучу прелой соломы. От фляги под ватником разливалось приятное тепло, желудок был полон. Незаметно я провалился в сон.
Разбудил меня шум моторов. Мгновенно очнувшись от сна, какой уж тут сон, я подполз к воротам и осторожно выглянул наружу. Через хутор тянулась колонна немецкой артиллерийской части. Выскакивать из амбара было поздно, передние тягачи уже выходили с моей стороны, и оставалось до них не больше сотни метров. Я бросил взгляд на дорогу и внизу живота мгновенно образовался кусок льда. Евграфыч был прав — в амбар никто из хуторян действительно не заглядывал. До меня. А сейчас от дороги к воротам по снегу тянулась четкая цепочка следов. Моих следов.
Передний тягач, рыча и лязгая, неотвратимо приближался к месту, где я свернул с дороги. Пятьдесят метров, двадцать, десять. Я подтащил к себе ППШ, оттянул затвор и поставил переводчик на автоматический огонь. Как только остановятся — начну первым. Тягач доехал до моих следов, чуть притормозил и… Перевалив через дорожную колдобину поддал газу. То же самое проделали и остальные. И плевать было фрицам на какие-то там следы, ведущие в старый амбар.
Когда последний тягач отъехал на пару сотен метров, я отвинтил крышку фляги и залпом выдул сразу половину. Потом стер со лба выступивший пот и попытался осмыслить произошедшее. Во-первых, надо быть осторожнее и продумывать каждый шаг, любую мелочь. Во-вторых, передвижение немцев по своим тылам явление абсолютно естественное, и видеть мне их придется, очевидно, неоднократно. Поэтому при каждом их появлении не надо хвататься за автомат, пока нет непосредственной опасности обнаружения. Кстати. Щелк, кланц, диск на место. Что там третье? Ах, да, артиллерийский дивизион для моей поимки останавливаться не станет, даже если меня заметят. У него другие задачи, более важные, чем поимка одного русского в своих тылах.
Чтобы успокоиться, решил разобрать доставшуюся мне сумку. Вытянул ремешок и открыл. Так, что тут у нас? Компас? Хорошо. Перочинный нож? Отлично! С шилом, с отверткой, даже с ножницами! И непременный штопор сбоку прилепился. Карта! Я торопливо развернул лист. Оперативная обстановка на девятнадцатое февраля к сегодняшнему дню уже безнадежно устарела — слишком многое изменилось. Затем нашел на карте свое нынешнее место и место вчерашнего боя. Надо было правее брать. А так получалось, что вместо северо-востока двинул почти строго на север. Ладно, теперь при наличии карты ориентироваться будет проще.
Из внутренностей сумки я извлек невзрачные серые корочки. НКВД-СССР, УДОСТОВЕРЕНИЕ. Та-ак, интересно. Открываем. Это не то, ага, вот. Оперуполномоченный особ. отд. Откуда? ЮЗФ. И что бы здесь делал оперуполномоченный особого отдела, да еще из штаба Юго-Западного фронта? А вот и ответ — командировочное предписание. Что-то номер части больно знакомый, где-то я его уже видел… Да это же штаб нашего корпуса! Но если он приехал в штаб, то как его сюда занесло? Получается, что ехал он не в штаб, а уже из штаба в сторону фронта. Ехал, ехал, а навстречу немецкие танки. Водитель бьет по тормозам, сидящий справа впереди успевает выпрыгнуть, водителю мешает рулевая колонка, а у сидящих сзади шансов спастись и вовсе нет. Ладно, эту загадку мне все равно не разгадать. Отложил документы в сторону и продолжил обследование сумки.
Треугольнички с номером полевой почты. Личные письма. Совать в них нос не стал, отложил к документам. Запустил руку в сумку, нащупал какую-то тряпку и потащил ее наружу. Но раньше тряпки из нее вывалилась зеленая сигаретная пачка с иностранной надписью. Я аж подскочил. Но после внимательного рассмотрения, надписей в черной рамочке «Минздрав предупреждает…» или «Smoking kills» не обнаружилось. Да и весь дизайн пачки был достаточно старомодным, относящимся скорее к первой половине двадцатого века, то есть вполне современным. Черным в оранжевом круге было написано «LUCKY STRIKE», ниже и мельче «It's toasted». Союзнички, ленд-лиз. Пачка была нераспечатанной. Видимо, попала к особисту случайно и для особого же случая он ее хранил.
Тряпкой оказалось вафельное полотенце. Кроме него нашлись круглая коробка с зубным порошком, целлулоидная мыльница с обмылком, расческа, зубная щетка, опасная бритва, маленький стаканчик, чашечка для взбивания пены и помазок. Мыльно-рыльные я решил оставить себе, а документы и письма надо бы передать куда надо, не то погибший так и будет пропавшим без вести числиться. И те, кто с ним ехал тоже. С другой стороны, таскать с собой такую телегу… Позже придумаю что-нибудь. Я запихал все, кроме писем и документов, обратно в сумку. Надо бы ногу посмотреть.
Осмотр ничего нового не принес. Огромный иссиня-черный синяк, по краям просто синий с желтоватым ободком. Лечение: покой и теплые компрессы. Где их только взять? Зря мерз, снимая штаны и сапог с правой ноги. Едва успел сапог натянуть, как опять послышался шум моторов. На этот раз немцы задержались на хуторе. Из открытых ворот было видно, как фигуры в мышастых шинелях несколько раз мелькнули во дворах крайних домов, в том числе и во дворе Евграфыча. Через полчаса, по моим внутренним часам, колонна вытянулась из хутора. Штаб какой-то в сопровождении тяжелых броневиков. По крайней мере, колонна состояла в основном из автобусов, легковушек и утыканных антеннами грузовиков. Ее проезд я воспринял спокойнее и за автомат уже не хватался.
Когда стемнело, пришел Евграфыч, принес воды, той же болтушки на ржаной муке и хлеба, на сей раз уже домашней выпечки, заводской, похоже, закончился.
— Ну как ты тут?
— Да ничего, нормально. Фрицы вот только нервируют.
— Привыкай. Мы под ними полтора года прожили. Только порадовались — свои пришли, а они опять драпать. И долго нам еще терпеть, спрашивается?
Дедок вопросительно уставился на меня.
— До осени, — ляпнул я, и тут же понял, что надо как-то выкручиваться. — В крайнем случае, до зимы.
— И с чего это ты взял, что до осени?
К этому вопросу я был готов.
— С того. Летом фрицы навалятся, нас отожмут, осенью мы им накостыляем, зимой погоним. Так что к следующей зиме освободим вас от супостата.
— А сейчас у нас на дворе что?
— Конец февраля, — осторожно ответил я, чуя подвох.
— Стало быть, зима?
— Зима, — я понял, куда клонит дед. — Но это временные трудности…
— Временные? Ага…
Пока возникла пауза, я решил перевести разговор на другую тему.
— Что немцы на хуторе делали?
— Как всегда, куры, яйки, млеко.
— Нашли?
— Ага, щ-щас.
За полтора года хуторяне оккупационные порядки изучили на отлично, потому что двоечники в этой школе долго не жили, поэтому беглый обыск, учиненный проезжавшими штабистами, никаких результатов дать не мог по определению.
— Значит, тайник надежный у тебя есть?
Полувопросительно, полуутвердительно произнес я.
— А что? — насторожился Евграфыч.
— Документы спрятать надо. Сможешь?
— Какие документы?
— Офицера убитого.
— Офицера?
— Евграфыч, ты часом не еврей? Что ты мне все вопросы задаешь? Ты мне прямо скажи: спрячешь или нет? И не зыркай на меня так, офицерские звания в Красной армии еще в январе ввели…
— Брешешь?!
— Собаки брешут, а тебе, считай, приказ верховного главнокомандующего довожу.
— Не может быть!
— Может, может. Ну так спрячешь? Когда наши окончательно придут, власть советская установится, ты их в военкомат, нет, лучше в милицию отнеси, скажи — погиб. Пусть родственникам сообщат. Отсюда километров десять, «виллис» — это автомобиль такой, прямым попаданием разбило. Офицер этот выпрыгнуть успел, да далеко не ушел, там и помер. А начнут неудобные вопросы задавать — вали все на меня.
— Ладно, давай.
— Вот, удостоверение, командировочное, личные письма. А сумку я себе возьму, мне она сейчас нужнее, чем ему. Да, вот еще, сигареты, импортные.
— Импортные?
— Ну не наши, американские.
— Мериканские…
Дед пытался рассмотреть пачку в слабом лунном свете. Пока он рассматривал, я быстро добивал им принесенное.
— Давай посуду, пошел я.
Евграфыч потопал обратно к хутору, а смотрел ему вслед и думал: ради абсолютно незнакомого человека этот старик рискует собой, своей женой, снохой, внуками. А смог бы я так? Не знаю. Если честно, то, скорее всего, нет. А его внуки, если выживут, еще долго будут писать утвердительный ответ в графе «находился на оккупируемой территории?».
Ночь и следующий день прошли спокойно, немцы больше не появлялись и я расслабился. Даже некоторое удовольствие начал получать от возможности просто лежать и ничего не делать. Правда температура в помещении болтается около нуля, а под спиной не мягкий диван, а куча старой соломы и вместо телевизора настежь распахнутые ворота, в которых ничего не меняется. Зато воздух свежий и… Нет, кроме постоянного пребывания на свежем воздухе, других положительных сторон своего положения я не нашел. Как ни крути, а вскоре предстоит мне марш на несколько десятков, а то и сотню-другую километров, в одиночку, с больной ногой, да еще по территории, где большая часть встречных хочет меня убить или взять в плен. А пока есть возможность просто поваляться и я ею пользуюсь вовсю.
Когда стемнело, меня навестил Евграфыч и, глядя как я набиваю желудок, сказал.
— Уходить тебе надо. Самое позднее — следующей ночью.
— Чего так?
— Чую скоро тыловые германцы придут, тогда поздно будет.
Причин не доверять чутью старика у меня не было, и я согласился.
— Завтра, так завтра.
— Я тебе харчей на дорогу соберу, — пообещал Евграфыч и ушел.
Жизнь внесла свои коррективы в мои планы — покинуть свое убежище мне пришлось несколько раньше и налегке. Не совсем, точнее, налегке, один только ППШ на пять с лишним кило тянет, но без обещанного продовольствия и с наполовину пустой флягой. Или наполовину полной, это как смотреть. До темноты оставалась еще пара часов, когда в амбар влетел Евграфыч.
— Беги, паря, немцы!
— Далеко?
— Кум сказал, уже к хутору подходят.
Схватив автомат и сумку, я выскочил наружу. Выскочил это, конечно, громко сказано — правая нога еще существенно ограничивала мою подвижность. Старик уже направлялся к дороге. Для своего возраста он двигался довольно шустро или был моложе, чем казалась мне.
— Прощай, Евграфыч! Спасибо за все!
Старик только рукой махнул. Я завернул за угол, теперь со стороны хутора меня не увидеть. Как смог подготовился — повесил сумку на плечевой ремень под анорак и завязал все завязки на нем. Если идти по снегу, то получится очень медленно и первый же, кто посмотрит в мою сторону, наверняка меня заметит. И тогда я пополз. Медленно, проваливаясь в снег и стараясь уберечь оружие. Полз, оглядывался, отдыхал и снова полз. Не могу сказать, сколько прошло времени, я потерял ему счет, но уже начинало смеркаться, когда оглянувшись, я увидел на белом фоне четыре темно-серые, почти черные фигурки, направлявшиеся к заброшенному амбару. Фрицы все-таки решили обследовать его.
Я отполз чуть в сторону, за небольшой снежный холмик, скрывавший меня визуально и дававший иллюзию защиты от пуль. Судя по тому, как они шли, оружие держали в руках, в полной готовности пустить его в дело. Скрылись из виду и через пару минут появились парами с разных сторон амбара. Остановились. Заметили мои следы? Да, заметили, сложно не заметить, хотя уже заметно стемнело. Одна пара двинулась по моим следам. Я за холмиком в своем анораке малозаметен на снегу, а они в своих шинелях представляют собой хорошую мишень. Надо только подпустить их поближе, тогда большая прицельная дальность стрельбы их «маузеров», растеряет преимущество перед автоматическим огнем ППШ.
Однако фрицы не торопились. Первая пара прошла совсем чуть-чуть, остановилась и… повернула обратно. Как же я их понимаю! И не только понимаю, но и полностью разделяю их позицию: не стоит ловить одиночного русского в наступающей темноте, топая по колено в снегу, когда твои камрады уже сидят по избам и готовятся приступить к ужину. Тем более, что вместо русского вполне можно поймать пулю. Да и фрицы эти не из боевых частей, обозники, а может, вообще какие-нибудь «хиви». Нет, тем оружия, вроде, не давали. Дождавшись полной темноты, я выбрался на дорогу и повернул направо, к своим.
Глава 7
— Артиллерист?
— Зенитчик.
— Сержант, командир орудия?
— Так точно, товарищ капитан.
Дурацкая у этого капитана привычка вопросы задавать, держа в руках документы, в которых все синим и фиолетовым по белому написано. Товарищ капитан повернулся к товарищу майору.
— Ну что?
Товарищу майору, похоже, было все равно. Невооруженным глазом было видно, что он смертельно устал и разбираться с еще одним гавриком ему совсем неохота. Капитан-то из молодых, да ранних, вон какой борзый, подметки на ходу режет. А майор в своем звании давно переходил, явно мой ровесник. От длительного недосыпания и недоедания его щеки, покрытые рыжеватой недельной щетиной, провалились, а скулы наоборот вылезли, кожа на лице бледная, пергаментная. Еще недавно он был то ли замкомандира, то ли начальником штаба стрелкового полка, а сейчас на его рано поседевшую голову свалилось три сотни таких же, как и я окруженцев. И всех их надо вести к линии фронта, кормить, укрывать от немцев. Из этих трехсот почти полсотни раненых, точнее раненых больше, но таковыми считаются только те, кто не может самостоятельно передвигаться, их везут на повозках санроты. Остальные идут сами, с оружием и в строю.
После поспешного бегства и амбара, я три дня болтался по немецким тылам на полуторном питании. То есть за три дня поесть удалось целых два раза. К концу третьего дня я набрел на компанию тыловиков и всех их взял в плен. Обнаружил я их по дыму костра, который они разожгли в неглубокой балке, чтобы приготовить ужин. Даже караульного не выставили, что позволило мне незаметно подобраться к ним буквально на десять метров. До тех пор, пока я с криком «руки вверх!» не появился на краю склона, никто и ухом не повел, настолько все увлеченно следили за булькающим в котле варевом. Потом я их, конечно, отпустил за долю малую. Точнее, не столь уж малую — один слопал почти половину содержимого котла, в котором ужин готовился на девять человек.
Тыловики оказались мужики не злые, а мой набег их несильно разорил, перед тем, как бросить свое хозяйство, они основательно набили свои мешки консервами и концентратами. Еще пару дней я шел вместе с ними. У них было продовольствие, у меня карта. Потом мы наткнулись на остатки стрелкового полка с прибившимися к нему санитарной ротой и несколькими мелкими группами окруженцев. Еще пару дней нас не трогали, только опустошили вещмешки тыловиков в пользу раненых, а мы опять оказались на голодном пайке. Когда идешь один, то можно подкормиться где-нибудь у местного населения, а такой оравой ходить по хуторам бесполезно, да и опасно. Мелкие же группы фуражиров много не принесут, да и сами могут нарваться на немцев.
Спасает нас то, что у немцев здесь мало пехоты, точнее, обычной пехоты совсем нет. Есть панцергренадеры, танки, самоходки, буксируемые пушки есть, а пехоты нет. Поэтому немцы не могут перекрыть не только промежутки между дорогами, но и большинство второстепенных дорог. Они контролируют основные трассы, перекрестки, передвигаются по ним днем. А ночью на второстепенных дорогах, как из-под земли возникает другая армия, которая идет за передовыми частями немцев, стараясь оторваться от идущих сзади пехотных дивизий немцев. Сейчас это напоминает гонку хромых с одноногими. Снег окончательно сошел, дороги превратились в грязевое месиво, колесная техника встала намертво. Идут только люди, лошади и танки.
В этот день мы встали на дневку в небольшой балке. Отсюда хорошо слышна канонада — фронт уже близко. Возглавлявшие нашу группу майор и капитан стали готовить ее к прорыву. Старались задействовать всех кого можно. Пришла и моя очередь.
Майор пожал плечами.
— Какая разница, больше все равно некого.
Капитан повернулся ко мне.
— Значит так, сейчас пойдешь в санроту, найдешь старшину Захарчука и получишь у него миномет…
— Миномет?!
— Да, миномет. Что непонятно?
— Да я даже рядом с минометом ни разу не стоял.
— Ничего, — отрезал капитан, — разберешься. Еще возьмешь у старшины два десятка мин. Он же выделит тебе второго номера. Когда все получишь, бегом сюда, поставим тебе задачу. Все, иди.
Капитан протянул мне мою красноармейскую книжку.
— Есть!
Забрав книжку, я отправился искать неведомого Захарчука. Добравшись до повозок санитарной роты, нужного мне старшину я вычислил мгновенно, наверно потому, что другого старшины в роте не было.
— Старшина Захарчук?
— Я, старшина. А ты кто?
— Я за минометом.
— За минометом? — в голосе Захарчука прорезалось явное облегчение. — Ну пошли.
Он подошел к одной из повозок, я за ним, и откинул брезент.
— Забирай.
Я, признаться, ожидал увидеть что-то вроде «подноса», а лежащий в телеге миномет оказался ротным, пятидесятимиллиметровым, да еще и импортным, то есть трофейным. Разглядев закрепленную на стволе ручку, явно предназначенную для переноски миномета в сборе, я, ухватившись за нее, выдернул оружие из телеги и поставил на землю. Да-а, невелик, но тяжел, десятка на полтора килограммов потянет.
— И мины не забудь, — напомнил старшина, указывая на лежащие в той же повозке два ящика.
— Мне еще второго номера обещали, — напомнил я.
Старшина поморщился, как от зубной боли — отдавать мне кого-либо из своих подчиненных ему явно не хотелось. Я буквально читал в глазах его желание отправить меня за напарником туда, откуда я пришел, но связываться с пославшим меня сюда капитаном он не рискнул. Несколько секунд длилась напряженная работа старшинской мысли, завершившаяся грозным окриком.
— Витька, иди сюда!
Я взглянул на своего нового напарника. Невысок ростом, лопоух, больше похож на подростка по недоразумению одетого в не по росту длинную шинель, полы которой он даже не догадался обрезать.
— А поздоровее никого нет? Ему еще ящики с минами таскать…
— Бери что дают. Я тебе людей не рожу. И за раненными тоже кто-то должен ходить.
С этим спорить было трудно — несколько десятков не могущих передвигаться самостоятельно лежали прямо передо мной. К счастью, за те дни, что я здесь никто не умер. Видимо, находившиеся в критическом состоянии умерли раньше, а те, кто остался, имели хорошие шансы снова встать на ноги. Главное — довезти.
— Ладно, давай своего Витьку.
— Витька, хватай ящики и ступай за…
— Сержантом, — подсказал я.
— Ступай за сержантом, поступаешь в его распоряжение.
Автомат я повесил на спину, закинул миномет на плечо и посмотрел, как мой второй номер пытается стащить с повозки одновременно два укупорочных ящика с минами. Понаблюдав за ним секунд десять, я не выдержал. Придерживая ствол миномета левой рукой, правой прихватил один из ящиков и зашагал в направлении нашего импровизированного штаба. Витька стащил, наконец, с повозки оставшийся ящик и побежал за мной. За спиной у него болтался тощий «сидор». Оружия же не было совсем, даже подсумки на ремне отсутствовали.
Миномет — пятнадцать кило, ящик с минами — десять, скорее, даже больше, ППШ — пять с копейками. Даже если командирскую сумку не учитывать, а там тоже явно больше килограмма набирается, то все равно выходит тридцать с хвостиком. Староват я уже с таким грузом бегать, поэтому к штабу мы добирались не спеша. Увидев нашу парочку, майор даже поморщился, как и старшина Захарчук буквально пять минут назад. Капитан же, напротив, оживился.
— Сейчас я приказ напишу, передадите командиру роты, этому, как его… Евстигнееву.
— Евстифееву, — поправил майор. — Слушай, сержант, сегодня ночью мы пойдем на прорыв. Наши отошли за Северский Донец, поэтому реку нам придется форсировать. Лед на реке еще крепкий, но берега крутые, особенно правый, поэтому с обозом придется повозиться. Слева от выбранного места переправы — высотка, на ней сидят немцы, сколько — неизвестно. Высоту эту нужно взять и удержать до утра. Или пока все не переправятся. Не возьмем высотку — повозки с ранеными не пройдут. А поддержать роту, кроме твоего миномета, нечем. Ну, ты, понял.
— Понял, товарищ майор.
— Держи приказ, — капитан протянул мне листок, вырванный из блокнота. — Рота в ста метрах впереди по оврагу.
— Разрешите идти?
— Идите, — разрешил майор.
Метров через сто мы действительно нашли группу из двух десятков мужиков в черных ватниках. Снег почти везде сошел, а там, где еще лежал — почернел. Теперь наша пехота, в ватниках и шинелях, уже не так бросалась в глаза на черно-сером фоне освободившейся от снега земли. Свой анорак, кстати, я просто вывернул на другую сторону и продолжил носить поверх ватника.
— Кто здесь ротный Евстифеев?
Один из мужиков молча указал на другого, сидевшего чуть поодаль. От своих подчиненных ротный отличался автоматом и биноклем, который я не сразу заметил. В остальном, тот же ватник, «сидор» и шапка-ушанка, даже сумки командирской у него не было. И зарос он здорово — борода почти лопатой. Я за десять дней тоже ни разу не брился, но моя щетина с его бородищей ни в какое сравнение не шла.
— Вам приказ из штаба.
— Давай.
Я невольно подумал, что он сейчас приказ по слогам разбирать начнет, уж больно вид у него был, как бы это сказать, малообразованный. Но Евстифеев потратил на чтение буквально пять секунд и поднял на меня глаза.
— Значит, поддерживать будешь?
— Буду. Высотку приказано взять.
— Раз приказано, значит, возьмем. А ты отдыхай пока, до вечера еще далеко.
— Есть отдыхать! Пошли, Витек.
Ротный, глядя на нас, только покачал головой. Расположились мы метров через пять от ротного, выбрав площадку поровнее. Здесь я решил изучить абсолютно незнакомую матчасть. Пока мы располагались, я заметил, что ротный подозвал к себе двух таких же заросших мужиков, о чем-то с ними пошептался, бинокль перекочевал к одному из них, и парочка исчезла, перебравшись через край оврага.
Когда-то давно я читал, что ротные и батальонные минометы создавались по схеме незамкнутого треугольника. Или разомкнутого? Не помню точно. А у стоявшего передо мной вся конструкция была смонтирована на прямоугольной опорной плите. Причем, конструкция не из простых, тут разобраться придется.
Первым делом я выделил простейший прицел для наводки на видимую цель. А если покрутить рукоятку справа от ствола, то он перемещается по горизонтали. Угол перемещения — градусов по двадцать в каждую сторону. Стоп, здесь же шкала есть. Даже две. И одна смещена относительно другой. А зачем? Та-ак, цена деления каждой шкалы ноль двадцать, а всего выходит шесть больших делений угломера, по три на сторону. Смещение шкал позволяет производить наводку с точностью до ноль десяти. Понятно.
А что у нас с вертикальной наводкой? Под стволом проходит трубка, на ней ряд отверстий. Если нажать на защелку, то можно сдвинуть втулку до следующего отверстия на трубке. Это механизм грубой наводки. А точной? Недолгий поиск привел меня к муфте одним концом закрепленной на рамке миномета, вторым концом на втулке под стволом. А если покрутить? Двигается. Хитро придумано! На самом деле все просто, а сразу и не догадаешься. А почему стрелка на этом секторе сместилась? Да это же дальность! Мог бы сразу догадаться. Шкала от нуля до пятисот, значит, максимальная дальность стрельбы — пятьсот метров.
Будем считать, что с наводкой разобрались. А это что за ручки? И эта пимпа на казенной части зачем? Да-а, наворотили фрицы! Сначала нажал на рычажок. Тот поддался нехотя, чувствуется сопротивление пружины. Щелк! Что это было? Я отпустил рычаг, и он послушно вернулся вперед. Еще раз на себя. Щелк! Да это же что-то вроде ударно-спускового механизма! Можно опустить мину в ствол, уточнить наводку, и только потом выстрелить. К чему такие сложности?
А это, похоже, шаровой уровень. Если есть уровень, то миномет можно как-то горизонтировать. Только как? Уж не этими ли ручками по бокам от ствола. Ручки можно вращать вперед-назад, а можно вправо-влево. Разобраться с этими ручками у меня получилось не сразу. Пузырек воздуха никак не хотел занимать центральное положение. Оказывается, ручками надо действовать синхронно: пузырек отклонился назад — обе рукоятки вращать влево, пузырек отклонился вперед — обе рукоятки вращать вправо, пузырек уклонился вправо — обе рукоятки вращать наружу, пузырек уклонился влево — обе рукоятки вращать внутрь. Ну и площадка под опорной плитой изначально должна быть ровной. Когда поймешь — ничего сложного, а попробуй, пойми!
Ну, вроде, все, разобрался. Разобрался? А мины?
— Витек, дай-ка ящик. Только осторожно.
Укупорка раскрылась на две половины, с каждой стороны по пять красноватых мин, в головной части которых поблескивали металлом взрыватели. Прихватив мину за хвостовик, осторожно вытащил ее из ящика. В хвостовой части виден капсюль. Опускаешь мину в ствол, нажимаешь… А если там есть стрельба с самонакалыванием? Надо будет при первом опускании мины в ствол быть готовым к выстрелу. Никаких предохранительных устройств на взрывателе я не обнаружил, как ни старался. Не было их и все! Калибр-то невелик, всего пятьдесят миллиметров. Значит, взрыватель самый примитивный. А чем проще взрыватель, тем он капризней. Одно неловкое движение и…
Я еще более осторожно вернул килограммовую, приблизительно, мину обратно в укупорку. Фу-ух. Разобрался. Надо бы и напарника обучить.
— Витек, ты с техникой как? Никак? Понятно, тогда мины будешь подавать. Смотри сюда. Из ящика вот так, за хвост достал и осторожно мне в руки отдал. Смотри не урони и вот этой блестящей штучкой ничего не задень. Понял? Вот и хорошо.
Если у парня с техникой плохо, то смысла не вижу тратить время на его обучение, тем более что мин всего два десятка, а ночь, наверняка, предстоит бессонная. Растянувшись на еще не просохшей прошлогодней траве, я понемногу начал дремать, а потом и вовсе заснул.
Растолкал меня Витек. Не без труда разлепив глаза, я увидел, что уже начало темнеть, а рота явно готовилась к движению. Поднялся ротный Евстифеев, закинул на плечо автомат.
— Ну что мужики, пошли?
Два десятка мужиков в черных ватниках, составлявшие костяк роты, встали и пошли, молча. Следом за ними потянулись еще несколько человек разного возраста, в основном в шинелях. Потом к роте присоединились два бронебойщика со своим здоровенным ружьем.
Я уже пристроил миномет на загривке и хотел подхватить ящик с минами, но меня опередил один из пехотинцев.
— Степан Иванович сказал вам помочь.
— Степан Иванович? Это кто?
— Ротный наш.
Первый раз слышу, чтобы солдаты ротного командира по имени-отчеству называли.
— А ты давно его знаешь?
— Давно, сколько себя помню. Он у нас в леспромхозе до войны бухгалтером был.
— И многие тут из вашего леспромхоза?
— Не. Раньше больше было, да побило многих.
Не завидую я ротному, если до конца войны доживет и обратно в свой леспромхоз вернется. Это сколько же народу его попросит «расскажи Степан Иванович, как мой сын смерть свою принял». Или муж, или внук. Да какая разница кто! Главное, каждому спросившему ответить придется, и за каждого.
Всего нас было десятка три. Кроме ПТР и нашего миномета, в роте был один «дегтярев» и пара ППШ, не считая моего. Прошли мы около километра, остановились в небольшой ложбине, где нас ждали двое, ушедшие с места прежней стоянки еще днем. Отсюда открывался хороший вид на высотку, которую нам предстояло атаковать. Между нами и ней лежало метров семьсот, а может и восемьсот абсолютно открытого поля. Как я понял, остановились мы надолго, по крайней мере, до темноты. Я и сам не представлял, как можно днем, такими силами атаковать засевших на высоте фрицев через открытое поле? Да немцам одного пулемета хватит, чтобы нас всех выкосить.
Темнота наступила, хоть глаз выколи. Прошел еще час, а мы все продолжали сидеть на прежнем месте. Я уже дергаться начал, но тут вдоль сидящих на земле прошелестело «пошли». Сердце екнуло, переборов секундную слабость я торопливо подхватил миномет. Хорошо хоть темно, никто не заметил. Дерн сменился грязищей. Видимо, здесь раньше было поле, а сейчас грязь килограммами налипала на сапоги, затрудняя и без того нелегкую задачу. Перед этой грязью отступило даже ожидание того, что фрицы вот-вот нас обнаружат и откроют огонь. Я плохо представлял, сколько мы прошли, сколько осталось и как стрелять по высоте, если я ее не вижу.
Между тем, местность вроде бы начала подниматься, грязь отступила, и идти стало легче. А вскоре мы явно пошли вверх по склону. Неужели добрались без боя? Может, немцы отсюда сами ушли? Тут сзади раздался какой-то шум и сдавленный писк. Я обернулся, похоже, Витек куда-то провалился.
— Куда прешь?
Идущий последним пехотинец вытащил Витька из ямы, в которую я тоже не провалился каким-то чудом — прошел мимо и не заметил.
— Т-там есть кто-то, — прошептал Витек, — я н-на него наступил.
Где-то сквозь плотные облака проглянула луна, и стало самую малость светлее. Я пригляделся к обнаруженной яме. Да это не яма, это окоп, даже не окоп, а пулеметное гнездо. На дне действительно лежат два немца, точнее два трупа. У одного, похоже, горло перехвачено, что называется от уха до уха, пулемет исчез.
— Ты что, фрицев дохлых не видел?
— В-видел.
— Раз видел — хватай ящик и пошли. И так от наших отстали.
Витек подхватил ящик, и мы пошли к вершине высотки догонять ушедшую вперед роту. Можно считать, что высота нами взята. Не зря ротный отправил сюда двоих наблюдателей. Те выявили немецкий секрет на высотке, а потом в темноте бесшумно ликвидировали его. Не могу только понять: как они ухитрились в такой темноте найти фрицев, бесшумно к ним подобраться и убить так, что никто и пикнуть не успел.
Рота окапывалась, торопливо вгрызаясь в землю штыками малых пехотных лопаток. Те, кому шанцевого инструмента не хватило, выгребали вскопанную землю. У кого были — касками, у кого не было — руками. Евстифеев лично указал позиции для двух пулеметов, нашего и трофейного, бронебойщикам и нам. Мы оказались чуть позади и, соответственно, выше нашей жидкой цепи. Лопатку мне одолжил сам ротный, увидев, что нам с Витьком, язык не поворачивается назвать его Виктором, копать просто нечем. Прошло уже три или четыре часа как мы заняли высоту, я потерял счет времени, но чувствовалось, что вот-вот начнется: либо немцы обнаружат пропажу своего поста, либо заметят прорыв основной группы за Донец. Слышались только скрежет лопат по грунту, глухие удары, шебуршание и негромкий мат.
Теоретически я помнил, что сначала отрывается окоп для стрельбы лежа, потом он углубляется для стрельбы с колена, а затем доводится до глубины, когда из него можно стрелять стоя. Однако я решил сразу рыть окоп для стрельбы с колена. Время у нас было, но под слоем дерна обнаружился твердый слой промерзшей земли, и тратить силы на лишний объем грунта не хотелось. Лопатка мне досталась необычная — клепаной конструкции и с обжимным кольцом. Сейчас я яростно рубил едва поддающийся лезвию грунт, а Витек выгребал его наверх, буквально руками насыпая бруствер. Если немцы начнут кидать по высоте мины, а они рано или поздно начнут, то нам будет важен каждый сантиметр глубины.
Выстрел треснул сухо, негромко и непривычно. Все замерли, будто надеясь, что тишина поглотит его и снова воцарится над ночной тьмой. Не вышло. Затрещали новые выстрелы. Пш-ш-ш — ушла вверх немецкая осветительная ракета, освещая часть горизонта мертвенно-белым фосфорным светом. И тут же застучал, зачастил, торопясь выплюнуть боезапас, пулемет. Что-то бухнуло, пулемет споткнулся, не доведя очереди до конца, но перестрелка после этого только усиливалась, перейдя в какофонию, из которой изредка можно было вычленить партии отдельных стволов. Над полем повисли не только немецкие ракеты, но и желтоватые — наши. В разные стороны полетели красивые цепочки трассеров. От нас до места боя было около километра. Похоже, наши пошли на прорыв и вляпались.
— Копайте, копайте, — по голосу я узнал ротного, — может, и у нас сейчас начнется.
Началось. Вдоль невидимого во тьме берега взлетели в воздух разноцветные сигнальные ракеты. Видимо, немецкие посты обозначали себя и показывали, что еще живы. С нашей высоты, естественно, никаких сигналов не было. У немцев здесь нет сплошной линии обороны, им для этого элементарно не хватало пехоты, отставшей в первые дни наступления и никак не могущей догнать по ранней распутице ушедшие вперед механизированные части. Поэтому вдоль реки у них только ряд опорных пунктов и секреты, вроде того, который был уничтожен нашей ротой на этой высотке.
Та-та-та-та. Это уже по нам, несколько пуль цвиркнуло где-то над головой, но на них никто не обратил внимания. Для осветительной ракеты далеко, а попасть в кого-либо в полной темноте, да еще на таком расстоянии в принципе невозможно. Фрицы просто давили на психику, показывая, что наш маневр уже обнаружен. Ответом обстрелу было усиленное сопение, участившиеся удары лопат да более громкий мат.
Между тем, бой на юго-востоке затих, дойдя до дежурной перестрелки. Ракеты взлетали с большими интервалами, а не поминутно.
— Как думаешь, прорвались наши? — спросил Витек, пытаясь заглянуть за гребень высоты, туда, где недавно кипел бой.
— Конечно, прорвались! Если бы не прорвались, они бы здесь пошли. А раз их нет, значит, точно прорвались. Ты не назад глазей, а землю давай греби! Вон ее, сколько уже скопилось.
Если бы уверенность в моем голосе соответствовала уверенности в душе. Мы уже углубились сантиметров на шестьдесят, а местами и на семьдесят. Я все надеялся, что мерзлый грунт сейчас кончится и пойдет более податливый. Но пока мои надежды не сбылись, и я продолжил остервенело долбить грунт стальным лезвием малой пехотной лопатки.
К утру мы уже зарылись на глубину больше метра, точнее, на две длины лопатки плюс еще один штык. Для нас с Витьком, миномета и двух ящиков получилось тесновато, но, как говорится, чем богаты. Ротный прошел вдоль цепи наших ячеек.
— Все, шабаш, мужики, отдыхайте.
Я подровнял бруствер и опустился на ящик, привалившись спиной к стенке окопа.
— Витек, у тебя пожрать чего есть?
Тот покачал головой. Понятно. Я закрыл глаза, постарался не думать о еде и, кажется, задремал. Разбудил меня толчок напарника. Я еще глаза не успел разлепить, как услышал его шепот.
— Сержант, а, сержант, немцы идут.
— А чего шепчешь, боишься, что услышат?
Перестрелка с обеих сторон стихла, и наверху почти царила тишина. Почти, потому что, если прислушаться, то в рассветных сумерках можно услышать вой моторов и, вроде, лязг гусениц. Неужели танки? В животе неприятно заныло. Если это действительно так, то с высотки нас смахнут за считанные минуты. Одним ПТР много не навоюешь, а противотанковых гранат я ни у кого не видел — тяжелые, заразы, чтобы их в окружении постоянно с собой таскать. Или это слуховые галлюцинации, и воображение дорисовывает собственные страхи?
Стало еще чуть светлее, и вражеская колонна внезапно появилась вся сразу, как будто кто-то поднял вверх гигантский туманный занавес. Мне показалось, что разрядилась сгустившаяся было над высотой напряженность — только грузовики и бронетранспортеры, еще повоюем. У окопчика бронебойщиков остановился ротный.
— Если бронетранспортеры на поле не полезут, даже не высовывайтесь!
Евстифеев направился к нам.
— Подпустим на триста метров, огонь открывайте сразу после пулеметчиков. Главное — первый наскок сбить, прижать к земле, второй раз быстро не поднимутся.
Логично, с патронами в роте негусто, самый большой боезапас у трофейного пулемета, поэтому открывать огонь на дальней дистанции нельзя из экономии боеприпасов.
И побежал дальше, к пулеметному гнезду на правом фланге. Минуты тянулись мучительно медленно, а немцы атаковать не торопились. Колонна остановилась на расстоянии больше километра. Отдельных фигур было не разобрать, только общее шевеление. Но вот в воздухе раздался до зубной боли знакомый свист.
— Ложись!!!
И тут же. Бах, бах, бах, ба-бах! Мы с Витьком едва успели нырнуть в окоп. За ночь стенки окопа оттаяли и начали оплывать, на дне хлюпала вода. Бах, ба-бах, бах, бах! Минометы у фрицев батальонные, с нашим не сравнить. Бах, бах, бах, бах! Уже чуть дальше. Обстрел был не очень интенсивным, да и продолжался недолго, минут десять. А может, и того меньше — в эти минуты время течет совсем по-другому. Едва обстрел прекратился, приполз ротный.
— Как вы тут?
— В порядке.
— Ну и хорошо. Минут через десять-пятнадцать опять обстреляют, потом полезут.
— Потери большие? — поинтересовался я.
— Не, все целы.
А мне почему-то показалось, что рота должна чуть ли не половину потерять. Должно быть, давно я в такой переплет не попадал.
— А чего они сразу-то не лезут? — интересуется Витек.
— На вшивость нас проверяют. Может, мы без боя уйдем.
— Как это так? — удивляюсь я.
— А так. Фриц, он ведь тоже человек, и умирать ему тоже не хочется. Они же знают, что нас здесь мало, и догадываются, что патронов кот наплакал, вот и щупают — авось слабину дадим и сами уйдем. Вот были бы у них танки, тогда бы они нас без разговоров в землю закатали. Ладно, готовьтесь, скоро начнут.
— Кстати, а долго нам тут еще сидеть? — поинтересовался я. — Майор говорил, что только до утра, а уже, вроде, совсем утро.
— Не знаю, что он там тебе говорил, а в бумаге четко написано «до получения приказа».
— А если приказа вообще не будет?
— Значит, не будет, — отрезал ротный и уполз.
Сурово. Я сунул лопатку в руки Витьку.
— Копай, давай. Чую, это не последний обстрел, который нам в этом окопчике придется пережить.
Или кому-то не пережить. Но этого я вслух произносить уже не стал. Угол подъема ствола сразу выставил на триста метров. Подумал и винт горизонтальной наводки закрутил до предела влево, решив вести обстрел слева направо. В принципе, разницы нет — слева направо, или справа налево, но так как-то привычнее. Закончив с минометом, открыл ящик и начал еще раз проверять мины. Бах, бах, бах, бах! Прав был ротный, началось! Торопливо захлопнул укупорку, чтобы не попала земля. Витек присел рядом со мной на свежевскопанную землю.
— В первый раз? — кричу.
Солдатик кивает. Вижу, что ему страшно. У меня и самого поджилки трясутся, но вида стараюсь не показывать. Наверное, к этому невозможно привыкнуть. Бах, бах, бах, ба-бах! Последняя мина ложится очень близко к нашему окопчику. Наше счастье, что гаубиц у немцев нет. Они эту высотку за несколько минут расковыряли. А мина, выпущенная из батальонного миномета, оставляет воронку глубиной где-то в полметра и в диаметре метра полтора. По сути, страшно только прямое попадание в окоп, но с километра в маленькую стрелковую ячейку еще нужно попасть.
Вот если бы у нас было время и нормальные лопаты, то мы выкопали траншею полного профиля на обратном скате высоты и пережидали обстрел там. При наличии же некоторого количества строевого леса можно сделать землянки хотя бы в два наката. Такое перекрытие мина не пробьет даже при прямом попадании. Бах, ба-бах, бах, бах! Ох, что-то я размечтался. Ни времени, ни лопат, ни леса у нас нет, да и мерзлая земля ударным темпам земляных работ не способствует. Поэтому и пережидаем обстрел в индивидуальных окопчиках глубиной метра полтора, максимум.
Обстрел на этот раз еще менее интенсивный, но более продолжительный — под его прикрытием немецкие пехотинцы выдвигаются через поле. Знали бы они, сколько у нас патронов на винтовку — шли бы в полный рост и мины зря не тратили. Я уже начинаю беспокоиться — судя по времени, фрицы уже должны подойти близко, а команды на открытие огня все нет. Может, ротного убили и команду подать некому? Выбрав паузу между двумя разрывами, высовываюсь из-за бруствера и едва успеваю нырнуть обратно. Над головой свистят осколки. Немецкая цепь еще достаточно далеко, идти им приходится по той же грязи, что и нам прошедшей ночью, а потому скорость у них невелика.
Но вот я скорее ощущаю, чем слышу: «К бою!».
— К бою, Витек!
С этого момента все страхи и сомнения как бы отходят на задний план. Рывок! Миномет становится на подготовленную площадку. Навожу ствол на левый фланг немецкой цепи и черенком лопатки осаживаю опорную плиту. Горизонтировать некогда.
— Мину!
Мне в ладонь тычется холодный яйцеобразный корпус. Хорошо слышно, как мина идет вниз по стволу и блямкает о казенную часть. Выстрела нет. Тяну рычажок. Ках!
— Мину!
В полете мина находится секунд пять, за это время успеваю опустить в ствол следующую. Неслышный и нестрашный на вид разрыв вспухает метрах в двадцати позади группы немцев. Перелет! Или они слишком приблизились, или я миномет криво поставил. Торопливо кручу муфту, поднимая ствол. Ках!
— Мину!
Уже лучше, доворачиваю ствол вправо. Что ни говори, а для пехоты страшнее пулемета зверя нет. К этому времени фрицы, в основном, роют носами землю, на короткие перебежки в направлении высотки отваживаются немногие. Особенно свирепствует трофейный МГ на правом фланге, к нему патронов больше всего, покойные пулеметчики позаботились. Ках!
— Мину!
Еще правее ноль-сорок. К минометному обстрелу высотки добавляется пулеметный. Ках!
— Мину!
Еще правее, стараюсь навести ствол на тех, кто мне кажется пулеметным расчетом. Ках!
— Мину!
Пулеметная очередь выбивает землю из бруствера, заставляя невольно нырнуть в окоп под надежное прикрытие земли. Засекли, сволочи!
— Мину! Мину, твою перемать!
Одного взгляда вниз достаточно, чтобы понять — напарника у меня больше нет. Шапка слетела с головы, а во лбу как бы открылся третий глаз, из которого стекает алая струйка крови. Ох, не вовремя ты высунулся. Вытаскиваю из лежащей на коленях руки килограммовое стальное яйцо с ребристым хвостовиком и опускаю его в ствол. Ках! Бой продолжается.
Нагнуться, вытащить мину из укупорки, выпрямиться, опустить мину в ствол, поправить горизонтальную наводку, вращая винт, и вертикальную, подкручивая муфту, потянуть за рычаг… Ках! Миномет выплевывает очередной «подарок» своим бывшим хозяевам. На весь цикл уходит секунд десять-двенадцать. При этом надо еще отслеживать места падения выпущенных мин. Пули то и дело выбивают землю из бруствера, но в этой гонке нет времени обращать на них внимание. Муфта поворачивается до упора, немцы приблизились уже метров на двести. Приходится передвинуть втулку на следующее отверстие в трубке и выкрутить муфту обратно.
Резкий выстрел бронебойки прорывается сквозь звуки боя. Пока возился с механизмами наводки, не заметил, что два бронетранспортера выползли на поле и, подобравшись на полкилометра, начали поливать высотку из своих МГ. Видя отсутствие нашей артиллерии, немецкий командир решил поддержать своих пехотинцев. Но это забота бронебойщиков, а я навожу визир на самых шустрых. Ках! Ках! Выпрямившись в очередной раз, вижу, что немцы попятились. Теперь их пулеметы прикрывают отход, продолжая давить нашу оборону. В запале, выпускаю две последние мины по пульсирующему пулеметному пламени. Все, удержались. Для ППШ уже слишком далеко и я в изнеможении опускаюсь на дно окопа рядом с Витьком. Стрельба наверху понемногу стихает.
Сколько все это длилось? От команды «к бою» прошло, наверное, минут пять-шесть. В пределе десять, а Витька уже нет. Я протягиваю руку и закрываю ему глаза. Над окопом нависает борода ротного.
— Живы?
— Не все. Помоги-ка…
Евстифеев тянет сверху, я берусь за ноги, и мы вытаскиваем труп из окопчика. Черт, с виду маленький, а такой тяжелый. Или это я с голодухи ослабел?
— Куда его?
— Тащи на обратный скат. Фрицев выкинем, а наших в их окопе сложим.
Прежде, чем опустить Витька на дно бывшего пулеметного гнезда, обшариваю его карманы в поисках документов. Ничего, кроме обычных солдатских мелочей. Красноармейской книжки у парня нет. Зато находится смертный медальон. Внутри пластмассового футляра лежит чистая, незаполненная бумажка. Карандашом пишу имя: Виктор. Все, ни фамилии, ни года рождения, ни адреса. Возвращаю медальон обратно владельцу и осторожно, как будто он может что-то почувствовать, опускаю его вниз. Рядом, а потом и сверху ложатся другие погибшие, всего шесть человек. Пули и осколки собрали свой урожай. Я направляюсь обратно к окопу, но меня перехватывает ротный.
— Мины еще есть?
— Нет, все выпустил, до последней железки.
— Что дальше делать думаешь?
— Окапываться.
— Это правильно, — одобряет мое намерение Евстифеев, — но есть другое дело — раненых нужно вынести.
— Я же не саниструктор.
— Санинструктора у нас уже неделю нет. Ты пойми, там ходячих нет, а я никого больше послать не могу, каждый боец на счету. Ты мужик здоровый, по одному постепенно утащишь.
Перед высоткой лежит десятка три трупов, почти сливающихся с серой грязью поля. Только по каскам и можно их пересчитать. Еще дальше замер один из бронетранспортеров, второй успел уползти.
— Где раненые?
— Пошли, покажу.
Раненых оказывается трое, все тяжелые. У одного голова обмотана окровавленными бинтами, пытаюсь нащупать у него пульс, не получается. У второго пулей разворочено плечо, похоже, задет сустав. Третий…
— Осколок скулу срезал, — поясняет Евстифеев.
Кого выносить первым?
— Финогенова бери, — видя мое сомнение, ротный указывает на третьего.
Логично. Раненый в голову — непонятно жив или мертв, второй останется инвалидом, это даже мне очевидно. А у третьего еще есть шанс встать в строй. А лицо… В конце концов, люди со всякими лицами живут, а после войны еще и завидным женихом считаться будет. Вешаю автомат на спину.
— Ну, давай!
Закидываю левую руку раненого себе на шею, прихватываю своей левой, правой беру его за талию и встаю вместе с ним. Финогенов стонет от боли.
— Потерпи, солдат. Давай: левой, правой, левой, правой.
Стараюсь всю его тяжесть принять на себя, но мы еле двигаемся. Нет, так дело не пойдет.
— Подожди.
Перевешиваю автомат на шею и беру раненого на «мельницу». Встаю.
— Терпимо?
Тот что-то мычит, но вроде как терпимо. По крайней мере, от боли на каждом шагу не стонет. Интересно, парень-то явно крупнее Витька будет, но того мы вместе с ротным еле тащили, а Финогенова я один пру, и ничего. Или это чисто субъективное — труп всегда тяжелее кажется, чем живой человек?
Однако через пару сотен метров я в этом уже не был так уверен. В Финогенове верных семьдесят килограммов будет, а дорожка еще та. Хоть и стараюсь я в грязь не лезть, выбирать места посуше, но не всегда это удается. Грязь липнет к сапогам, уменьшая и без того невеликую скорость. ППШ качается на шее и на каждом шагу стукает диском по груди. Вроде и не сильно, но так раздражает. Раз, два, левой, правой. Вспомнив начало своей трудовой карьеры, стараюсь не думать о давящей на плечи тяжести и втянуться в монотонный ритм шагов. Раз, два, левой, правой. Вроде, помогает.
А вот и берег. Нахожу спуск, по которому съезжали на лед реки повозки. Берег истоптан и заезжен множеством следов, убитых нигде не видно, значит прошли. Только бы не упасть, только бы не поскользнуться. Осторожно балансируя, спускаюсь на лед. Сверху он уже подтаял, под ногами хлюпает вода, а снизу лед. Скользко. Расставляю ноги пошире и иду мелкими шагами. С левого берега мне уже спешит помощь.
— Отпускай.
Тяжесть сваливается с моих плеч, раненого за моей спиной принимают двое пехотинцев.
Вдоль берега вырыта траншея. Глубокая, даже мне достаточно лишь немного пригнуться, чтобы полностью скрыться в ней, местные могут ходить не пригибаясь. Здесь нас встречает местное начальство.
— Кто такой?
Я протягиваю молоденькому младшему лейтенанту свою изрядно замусоленную красноармейскую книжку.
— Ротный меня послал раненого вынести. У вас санинструктор есть?
— Нет санинструктора. У меня на почти полкилометра двадцать активных штыков есть. Неси на сборный пункт.
— Помощника дадите?
— Дам. Он и дорогу знает.
Сборный пункт в виде большой брезентовой палатки с красным крестом в белом круге расположился в неглубокой балке. Пехотинец исчезает, едва мы опускаем Финогенова на землю у входа.
— Есть кто живой?
Только я сунул нос внутрь, как тут же отпрянул обратно — лучше на свежем воздухе, чем такой атмосферой дышать. На мой крик из палатки выбрался невысокий субъект в некогда белом халате поверх шинели.
— Чего тебе?
— Раненого принимай.
— Откуда? — засуетился субъект.
— С того берега.
— Не наш, стало быть.
— Как это не наш? — удивился я.
— Не из нашей части, — объяснил медик. — Фамилия?
— Финогенов.
— Какой полк?
Хоть бы спросил, куда ранен.
— Откуда я знаю? Документы посмотри. Ладно, пошел я, меня другие раненые ждут.
— Стой. Оружие давай.
— Какое оружие?
— Его оружие. Раненых положено с оружием выносить.
Об этом я как-то не подумал.
— Второго принесу вместе с двумя винтовками.
— Без оружия раненого не могу принять, — уперся этот мелкий хрен в халате.
Вот гад!
— Что, так здесь и бросишь?
Мелкий пожимает плечами.
— Без оружия принять не могу. У меня приказ.
Вот заладил. А ведь может и бросить, у него приказ. Не нравится он мне. Решение приходит само собой — я стягиваю с шеи автомат. Не то, чтобы жаба душит — на фильтре все равно отберут, но как-то привык я к его не очень удобной тяжести. А сейчас мне еще придется идти назад с пустыми руками.
— На, подавись. Второго принесу с винтовками — вернешь.
Хмырь цапнул автомат.
— Помоги занести.
Внутри — местный филиал ада. Дышал только ртом и по сторонам старался не смотреть. Упаси Господи сюда попасть! Наружу выскочил, чистого воздуха глотнул и побрел обратно. Пока иду надо хоть немного отдохнуть, иначе второго за один заход не донесу.
Навстречу мне идут люди, заросшие, изможденные — окруженцы. Теперь становится понятно, зачем рота до сих пор сидит на той высотке — держит коридор. На типа в трофейной блузе, зачем-то идущего без оружия на правый берег, только бросают подозрительные взгляды, остановить никто не пытается. Вскарабкиваюсь по скользкому спуску на правый берег и пытаюсь оценить обстановку. Слева вяло постреливают, а справа, куда мне надо, пока тишина, вот и хорошо.
На прежнем месте меня ждет только один раненый, тот, который в плечо. Видимо, второй умер, и его уже унесли. А вот и их оружие — три винтовки лежат совсем рядом, да я в первый раз просто не обратил на них внимания, раззява.
— Ну ты как, жив?
Парень в сознании и, похоже, ему очень больно, но ничего обезболивающего я ему предложить не могу.
— Потерпи еще немного, сейчас пойдем.
Две винтовки вешаю себе на шею и поднимаю раненого себе на плечи тем же приемом. Он вскрикивает и замолкает, наверное, сознание потерял.
— Держись, скоро придем.
Скоро — это я для самоуспокоения. Ну, поехали, раз, два, левой, правой. Возросший груз оружия на шее несколько компенсируется меньшей массой раненого на плечах. А если еще и ППШ на себя навесить? Черт с ним, главное — дойти. Раз, два, левой, правой. Каждый шаг сопровождается деревянно-металлическим соприкосновением висящих на шее винтовок. Тяжело, однако, а прошел-то всего метров полтораста, двести, в лучшем случае.
Ба-бах! Воздушная волна толкает меня в спину. Перелет. Бах, бах, бах. Осторожно оборачиваюсь. Над высоткой опадает земля, поднятая последним взрывом — начался второй акт. Калибр солидный, видимо, сто пять мэмэ. Танковых моторов слышно не было, но при такой поддержке и пехота справится. Раз, два, левой, правой, пытаюсь увеличить скорость, но липкая грязь под сапогами делает тщетными мои потуги. Пару раз чуть не навернулся, едва удержался на ногах.
За моей спиной раздается десятка три взрывов, затем резко вспыхивает ружейно-пулеметная перестрелка. Еще минуты через три, начинают хлопать гранаты. А я иду. Медленно, очень медленно приближается спасительный берег. На переправе никого не видно — кто мог, ушел на левый берег. Звуки боя за моей спиной стихают. Быстрее надо, еще быстрее. Вот-вот, фрицы перевалят через гребень, и окажусь перед ними как на ладони. Между лопатками начинает чесаться, неужели в ожидании пули? Раз, два, левой, правой.
С правого берега открывает огонь наша дивизионная артиллерия — калибр не такой солидный, как у немцев и стреляют реже, боеприпасы экономят. Не выдержав, оглядываюсь. Снаряды рвутся на скате, обращенном к нашим позициям. Неужели все? Нет, не все. Замечаю, что несколько человек выскользнули из-под обстрела и, пригибаясь, перебежками, двигаются в мою сторону. Падают, поднимаются и снова бегут. Мне тоже пора, только бежать, в отличие от них, я не могу. Раз, два, левой, правой.
Они догнали меня у самого спуска на речной лед. Всего трое. Мне казалось, что с высотки успело отступить больше, до берега добрались не все.
— Помогите…
Двое пехотинцев принимают раненого с моих плеч. Третий ранен сам и в этом действии не участвует. Прежде чем спуститься, оглядываюсь в последний раз. Нас не преследуют, разрывы снарядов по-прежнему пятнают склон, выбрасывая вверх фонтаны земли и черные шапки сгоревшей взрывчатки.
Перебравшись по льду на левый берег, взбираемся по откосу и оказываемся в уже знакомой мне траншее. Здесь наша компания уменьшается на одного человека — уцелевшего на правом берегу пехотинца младший лейтенант явочным порядком зачисляет в свою роту. А наш путь опять лежит дальше — на сборный пункт. Тяжелораненого несем на импровизированных носилках, сделанных из двух винтовок — пригодились — таки, и шинели. Я иду первым, поскольку уже знаю дорогу. Носилки получились короткие, раненый на них полусидит, опираясь на мою спину. Пока мы его тащили, он потерял сознание. Второй носильщик тоже ранен, к счастью, легко — голова его обмотана уже успевшим испачкаться бинтом, сквозь который проступает алое пятно свежей крови. Замыкает процессию третий раненый. Ему, судя по замотанной бинтом руке, досталось серьезнее, постепенно он отстает.
Обстановка в знакомом овраге кардинально изменилась — около палатки стоят три повозки, запряженные лошадьми. Ездовые выносят из палатки раненых и укладывают на подстеленную в телеги солому. Руководит этим процессом невысокий командир с тонким, почти женским голосом.
— Принимайте еще троих.
Мы осторожно опускаем наши эрзац-носилки на землю, отставший раненый тоже спускается в овраг. Командир оборачивается к нам, и я понимаю, что это действительно женщина. В петлицах два кубаря и «хитер как змий и выпить не дурак».
— Откуда?
— Все оттуда же.
Военфельдшер не стала продолжать расспросы, а приказала ездовым положить нашего раненого на одну из телег. Я же начал вытаскивать винтовки из рукавов шинели. Винтовки пытаются зацепиться мушками за шинельное сукно и подкладку, приходится повозиться. Наконец, я выпрямляюсь, держа в каждой руке по стволу. Пришедших со мной уже увели внутрь палатки, да и обоз с ранеными вот-вот тронется в путь. Хмыря, забравшего мой автомат, что-то не видно.
— Ирина Семеновна, Ирина Семеновна, там еще один без оружия…
Легок на помине. Прежде, чем женщина успевает ответить, я делаю шаг вперед.
— Вот его винтовка. И автомат мой верни, я вторую принес.
— Так я его уже оприходовал…
Нет, ну мало меня кидали? Одним разом больше, одним меньше — какая разница? Надо бы плюнуть этому гаду в рожу и пойти дальше, но от столь наглого и бесцеремонного развода я зверею.
— Верни оружие, сволочь!
Я делаю шаг вперед и пытаюсь схватить мелкого за ворот шинели, но он уворачивается и успевает юркнуть за свое начальство.
— В чем дело? — удивляется начальница.
— Я раненого принес без оружия, так этот хмырь отказался его принимать. Я ему свой автомат оставил, сказал, что винтовку потом принесу, а он мне пэпэша вернет.
— Объедков, верни автомат, — принимает решение начальство.
На мой взгляд, вполне справедливое.
— Я же его оприходовал!
Объедков, дали же предки фамилию, продолжает ерепениться. Зря он так. Щелк! Затвор выбрасывает в грязь стреляную гильзу. Убедившись, что в магазине есть еще один патрон, толкаю рукоятку вперед до упора и поворачиваю вправо.
— Сейчас я тебя самого оприходую!
Хмырь, взвизгнув, опять прячется за свое начальство. Я пытаюсь обойти женщину сбоку, но длинный ствол винтовки не позволяет сделать это достаточно быстро и он опять ускользает.
— Прекратите! — голос женщины срывается. — Объедков…
Вот это да! Нет, слыхал я матерщину и похлеще, но чтобы такое срывалось с губ вполне интеллигентной с виду женщины, военного медика… Санитар, или кто он там, срывается с места, как спринтер на чемпионате мира, гнев начальства пугает его сильнее моей пули. Нырнув в палатку, он буквально через три секунды выскакивает обратно с автоматом в руках.
— Давай сюда.
Убедившись, что это действительно тот автомат, сую в руки Объедкову винтовку.
— Разрядить не забудь. Вторая — вон лежит, подбери.
Прихватив обе трехлинейки, хмырь скрывается в палатке, обоз трогается с места. Мне тоже пора. Поправив на плече привычную тяжесть и сделав два шага, я замираю. А куда, собственно, идти?
Глава 8
— Старшиной батареи пойдешь?
— Нет, товарищ старший лейтенант, не пойду.
— Ну и дурак.
Сам знаю, что дурак. Был бы умным — сидел бы в генеральном штабе, а не в этой дыре. Или вообще в эту историю не вляпался.
На фильтре меня недолго мариновали — таких, как я, туда прибывали каждый день десятки и сотни. Многие без оружия, а некоторые и без документов, с ними разбирались основательнее. Моя красноармейская книжка, даже без фотографии, никаких подозрений не вызвала, и уже через неделю я оказался в таком же зенапе, только гвардейского танкового корпуса. Гвардейцам повезло чуть больше — они хоть и вышли из окружения почти без техники, но более или менее организованно. А мои прежние сослуживцы, насколько мне известно, еще ходили где-то по немецким тылам — в фильтрационном лагере никого из нашего корпуса я не встретил. А автомат все-таки отобрали.
Дела наши на фронте шли неважно. Левый берег Донца удалось удержать, но Харьков скоро должен пасть, а там, насколько помню, и до Белгорода дойдет. Но знал я и другое: это контрнаступление — лебединая песня панцерваффе. У них еще будут Курская дуга, Житомир, Арденны и Балатон, но больше ни разу им не удастся сотворить еще один котел, подобный тому, из которого только что выбрался.
— А может, все-таки согласишься? — настаивает комбат.
Батарея, в которую я попал, материальной частью укомплектована наполовину, а личным составом приблизительно на треть от штата. Проще говоря, на две пушки приходилось полтора расчета. При этом — два командира орудия, два комвзвода и один комбат, поэтому еще один сержант там был совсем не нужен. Старшина же сгинул в окружении вместе с поваром, полевой кухней и клячей, которая эту кухню возила.
— Место хорошее. Второй раз предлагать не буду.
А кто говорит, что плохое? Фактически — четвертый человек в батарее, при водке, продовольствии и прочих материальных благах. Плюс свобода перемещения и близость к прочим полковым «придуркам». На огневой позиции надо появляться один-два раза в день вместе с кухней. Правда во время боев придется гоняться на лошади за батареей, передвигающейся на машинах, и обязательно ее находить, ведь с полной кухней патрули обратно не пропустят. А байку про расстрел старшины, вывернувшего содержимое котлов на дорогу, я уже слышал. Или это не байка была?
А тут меня еще вши заели, нахватался за время круиза по немецким тылам. Ну и проявил я инициативу. Нашел двухсотлитровую бочку из-под бензина, с помощью топора и кувалды ликвидировал «верхнее днище» и вместе с другими батарейцами вкопал ее на склоне оврага. Вырыли под ней печку, развели огонь, налили воды и можно мыться. Вода, правда, первое время бензином пованивала, а потом — ничего, нормальная стала. Белье поменяли, обмундирование отдали в прожарку. Когда старое исподнее кидали в огонь — треск стоял. Так от сопутствующей живности почти избавились. Начальство заметило, вот теперь и настаивает.
— Ну хотя бы временно, получим новые орудия — опять станешь командиром.
Это мы уже тоже проходили, нет у нас ничего более постоянного, чем временное. Тут только согласись, хрен потом слезешь.
— У меня, товарищ старший лейтенант, на такие должности — аллергия. Разрешите, я расчет и орудие в прежней должности подожду.
— Черт с тобой, жди, — комбат разочаровано машет рукой.
— Разрешите идти?
— Иди. Стой.
Я оборачиваюсь.
— Тряпку немецкую сними и выброси, а то, как тебя вижу, так рука сама к кобуре тянется.
— Есть снять!
Снять, конечно, сниму, хотя ночи еще холодные, да и днем ветер бывает довольно промозглый, а выбрасывать не стану. Выстираю и постараюсь сохранить, может, еще пригодится, хотя бы ближайшей осенью.
Корпус занял оборону по левому берегу Северского Донца, растянувшись на пятнадцать километров от Малиновки до Шелудьковки. Точнее, держат оборону только мотострелковая бригада, приданный корпусу разведбат и то, что удалось наскрести по тылам, включая автоматчиков и минометчиков. Танковые бригады и штаб корпуса вывели за сто километров от фронта, аж в Купянск. А жизнь продолжалась. Выбравшиеся из окружения и понемногу отходящие от напряжения предыдущих боев люди снова почувствовали себя живыми. Этому, правда, не способствовали погода и кормежка.
В ночь на 18 марта нас разбудил грохот артиллерии. Выскочив из землянок, мы увидели на северо-востоке сполохи взрывов и зарево осветительных ракет. Первая мысль — немцы прорвались. Расчеты заняли свои места и приготовились открыть огонь по наземным целям. Никакой растерянности и уж тем более паники не было, не сорок первый на дворе. Те, кто прошел Сталинград, бегать отучились. Между тем грохот артиллерийских разрывов не приближался, хотя и не ослабевал. Комбат Гогелашвили связался со штабом полка.
— Наши на правый берег пошли, — сообщил он, — это наша артиллерия их поддерживает.
Утром выяснилось следующее: четыре дня назад противостоящую нам танковую дивизию СС сменила пехотная дивизия, прибывшая из Франции и восточного фронта еще не нюхавшая. В корпусе набрали две сотни добровольцев, сутки готовили операцию и этой ночью переправились на правый берег. Атака началась без артподготовки, но благодаря этому была настолько неожиданной, что немцы побежали. Наши продвинулись почти на километр до линии железной дороги, еще три часа отбивали контратаки немцев и к утру вернулись назад приведя с собой два десятка пленных.
С конца марта зарядили проливные дожди, и боевые действия практически прекратились. Вода стоит на огневых позициях, вода хлюпает в ровиках, ее постоянно приходится вычерпывать из землянок. А обсушиться негде — все уцелевшие дома и так под завязку забиты либо гражданскими, либо военными. Дрова в округе есть, но свежесрубленные лесины горят плохо, тепла почти не дают, только дымят. Зато и по специальности работать не приходится — в такую погоду никто не летает, ни наши, ни фрицы. К тому же развезло не только взлетные полосы, но и дороги, то есть бензин и бомбы на аэродром доставить почти невозможно.
В один из таких тоскливых и мокрых дней меня вызвал к себе комбат.
— У тебя какое образование?
— Верхнее.
Гогелашвили шутку не оценил.
— Документы есть?
Пришлось еще раз выкладывать свою легенду.
— Хватит, и так понятно, — прервал меня комбат. — Пойдешь в штаб полка писарем. Временно, до получения новой техники. Это — приказ.
Последнюю фразу он успел вставить еще до того, как я успел открыть рот.
— Есть, в штаб.
— Собирайся, машина будет через час. В штабе найдешь пээнша капитана Руденко, поступаешь в его распоряжение. Все, иди.
Штаб полка расположился в нескольких уцелевших домах на окраине маленького поселка. После недолгих поисков я добрался до нужного капитана — смуглого брюнета, судя по характерным ухваткам и выражениям, родом он был из Одессы.
— Вже прибыл? Ступай до старшины Лившица, он тебе место в землянке определит, и пулей обратно, дел невпроворот.
Не успел я выйти, как был остановлен капитаном.
— Постой. Это шо, все твои бебехи?
Из вещей у меня действительно были только командирская сумка, доставшаяся мне в наследство от особиста, и скатка с трофейной блузой.
Моя штабная карьера едва не потерпела фиаско буквально в первый же день — я еле-еле мог писать перьевой ручкой, постоянно макая ее в чернильницу. Пришлось вспомнить времена, когда никто еще не слышал таких слов, как «компьютер», «плоттер» и «автокад», а все чертежи выполнялись тушью на обычном ватмане. Тушь — это не карандаш, в случае ошибки никакой ластик не поможет, разве что лезвие «Нева» от безопасной бритвы, да и то далеко не всегда. Получается иссушающе медленно, зато кра-аси-иво-о! Первый раз, взяв в руки написанный мною рапорт, Руденко поинтересовался.
— Это у тебя почерк такой?
— Это не почерк, это чертежный шрифт. Мне так писать привычней.
За это и оставили. Потом у меня прорезался талант к списанию различного имущества, утраченного в ходе боевых действий и выхода из окружения. А утратили много… Начальник штаба, читая мои акты и рапорты, хмыкал, крякал, изумленно поднимал брови и, вздыхая, в конце концов, подмахивал, оставляя закорючку между своими званием и фамилией, аккуратно выписанными чертежным шрифтом.
Впервые за два года я попал в полковой штаб. Какого-либо антагонизма между «огневиками» и «штабными» я не замечал, по крайней мере, в нашем зенитном полку. Все хорошо понимали, что и штабную работу надо кому-то делать. За то короткое время, что я провел в стенах штаба, мне, естественно, не удалось понять всех принципов его функционирования. Они были очень сложны, а многие скрыты от постороннего глаза. Да и особого желания проводить подобные исследования не было — как ни крути, а я здесь человек абсолютно посторонний, к тому же временный. Но кое-что за его обитателей — как сказал бы одессит Руденко — я узнал.
Командир полка. До войны командовал зенитным дивизионом. За два военных года из капитанов в майоры — невелик взлет, зато не упал. В герои не лезет, но и труса не празднует, во время зимнего наступления в штабе не сидел — передвигался вместе с передовыми батареями. И во время немецкого контрнаступления полк сумел вытащить. Почти сумел, но у других потери были значительно больше.
А вот с замом командира все ясно с первой встречи — хам, матершинник и пьяница. Никогда не мог понять, почему система позволяет существовать таким типам? А они не только существуют, но и вполне комфортно себя чувствуют. Зачем его держат при штабе? Толку от него никакого, по нему же штрафбат плачет! Но, видимо, есть какие-то скрытые от моего глаза связи и подпорки, не позволяющие ему упасть.
О начальнике штаба сказать почти нечего — тих и незаметен. Но штаб функционирует, бумаги пишутся, сводки идут наверх вовремя, значит, на своем месте сидит. А вот его помощник и мой нынешний начальник Руденко явно не на своем. Какая основная работа у ПНШ? Правильно, сводки писать. Наступление, отступление, в своем тылу или в окружении, а вечерняя сводка должна уйти наверх без задержек. Горячему одесскому парню вся эта бумажная возня поперек горла. Ему бы шашку, коня и… Ну хоть батарею, пусть даже зенитную. А здесь он или сопьется, или окончательно потухнет и мимикрирует под общую штабную массу.
Замполит. Этот из кадровых политруков. Карьеры не сделал, по возрасту кабы не старше меня будет, а до сих пор майор. С первого взгляда показался мужиком неглупым и невредным, видимо, так и есть, но в один день услышал я от него такую фразу: «Плохо мы воевали. У мотострелков потери почти семьдесят процентов, а у нас почти ничего». Выходит, он результаты боевых действий по потерям оценивает. Странная позиция.
Нынешние штабные офицеры вышли из комбатов сорок первого — сорок второго и их жизненная позиция: мы повоевали, пусть теперь молодежь воюет. Они уже получили звания, должности, ордена. После Сталинграда перед ними замаячила возможность дожить до победы, и они этот шанс старательно используют, взваливая опасную работу на комбатов и взводных. Сами под снаряды и бомбы, без крайней необходимости, стараются не соваться, предпочитая посылать других. На этом общем фоне, как я уже сказал, выделяется комполка — он идет вперед с огневиками.
Еще один штабной работник, которого я не мог обойти своим вниманием — это, конечно, особист. Предыдущие встречи с его коллегами показали мне, что лучше им на глаза не попадаться даже обладателям безупречной анкеты, а мне и подавно. Этим я старательно и занимался, но за самим старшим лейтенантом приглядывал. К моему удивлению, вполне нормальный оказался парень. Доносы ни на кого не строчил, дела липовые не шил. Как и положено, была у него своя агентура в батареях, но до серьезных мер дела он старался не доводить, предпочитая предупредить потенциального штрафника, чем тащить его в трибунал. Однако каким бы прекрасным человеком ни был наш полковой «молчи-молчи», я прекрасно понимал, что стоит появиться в моей легенде хоть крохотной трещинке, и он раскрутит меня по полной программе.
Еще пара человек, с которыми мне пришлось познакомиться ближе это старшина Лившиц и писарь строевого отдела Семаков. Старшина занимался продовольственным снабжением. Поговаривали, что что-то он с продуктами химичит, но за руку его никто не поймал, а когда тылы подтянулись, кормить стали значительно лучше. Расположение старшины я заслужил, починив пишущую машинку «Москва». Еще в студенческие годы был у меня «Ундервуд» то ли 1894, то ли 1896 года, переделанный на русские литеры уже в годы советской власти. Изношенный механизм хоть и работал, но постоянно требовал мелкого ремонта, с которым я справлялся своими силами. Поэтому, как только появилась возможность, древний агрегат был заменен «Москвой» тридцатых годов, почти такой же, какая стояла в штабе. В принципе, штабная машинка была исправна, и даже не изношена, но сильно загрязнена. Грязь и тормозила лентопротяжный механизм. После чистки — старшина даже спирт для этой цели добыл — и смазки все заработало.
Если с Лившицем я могу общаться нормально, то с моим соседом по нарам снизу писарем Семаковым не получается. Странная у него манера общения — вроде, с тобой разговаривает, на вопросы отвечает, а смотрит сквозь тебя, будто ты дух какой-то бесплотный. Потом я понял почему — такие, как я, у него в списках проходят десятками и сотнями, повзводно и побатарейно. Сегодня он фамилии в список прибывших записал, а завтра те же фамилии в списки убывших, кого в наркомздрав, а кого и в наркомзем. Вот и старается он за фамилиями людей не видеть. Мы для него просто наборы букв в списках, сегодня в одном, завтра в другом. А взгляд этот, видимо, просто защитная реакция организма — если за каждого переживать, то и свихнуться недолго.
К концу марта линия фронта стабилизировалась, и где-то наверху было принято решение вывести наш корпус в резерв Ставки. Данное мероприятие предусматривало передислокацию всех частей в район Миллерово, то есть еще полторы сотни километров на восток. Поскольку бумажный вал уже схлынул, то Руденко нашел мне новое занятие.
— Поедешь с лейтенантом Шепелиным на место новой дислокации — квартирьерами будете. Постарайтесь прихватить что-нибудь приличное для штаба. Лейтенант еще зеленый, подскажи ему, если что.
Зеленый — это не то слово, молоко на губах у младшего лейтенанта Шепелина еще не обсохло. Как только я его увидел, то сразу спросил.
— Сколько вам лет, товарищ лейтенант?
— Восемнадцать.
А выглядит еще моложе. В полк прибыл только после училища, назначения получить не успел. До этого, кроме десятилетки, ничего не видел. Надо бы на такое задание капитана посылать, как минимум, а лучше майора. Нет, лучше полковника, но полковников у нас в штабе нет. А с этим пацаном любой горлопан с лишним кубарем или звездочкой отожмет у нас все, что мы успеем прихватизировать в этом неведомом Миллерово. Надеюсь, хоть населенный пункт приличных размеров и зданий на все штабы хватит. Лившиц выдал нам сухпай на неделю, погрузились мы в видавшую виды полуторку продовольственной службы и, объезжая старые и свежие воронки, поехали на восток.
Без груза грузовичок здорово козлит. Пытаюсь задремать, но очередная колдобина возвращает меня обратно в реальность трясучего и прыгающего кузова, а также нудно воющего мотора. Сколько мы так ехали, сказать не могу, но окончательно я пришел в себя от того, что тряска и вой мотора прекратились. Выглянув из-за кабины, я увидел, что мы стоим в чистом поле на развилке, мотор молотил на холостых оборотах. Направо уходила грунтовка, окончательно добитая гусеницами какой-то бронетехники, налево — вполне приличное, по фронтовым меркам, шоссе.
— Чего стоим, кого ждем? — поинтересовался я у сидящих в кабине.
Лейтенант сидел, уткнувшись в карту, разложенную на коленях. Ответил водитель, высунув голову в свое окно.
— Думаем, куда ехать. Направо — короче, налево — дорога лучше.
— Налево, — тут же принял решение я. — Короткая дорога не всегда самая быстрая. У тебя не «шевроле», на полуторке мы на ней быстро увязнем, а вдвоем с товарищем лейтенантом ее не вытолкать.
Видимо, проявив неуважение к ввереному агрегату, я чувствительно задел душу нашего водителя.
— Кто бы говорил! Вон ты кабан, какой здоровый, и без лейтенанта управишься.
— А вот я сейчас как дам кому-то сапогом по наглой морде…
Я привстал, делая вид, что собираюсь реализовать свою угрозу. Голова моего оппонента поспешно скрылась в кабине. Я уже собирался с удовлетворением плюхнуться обратно, но в следующую секунду уже колотил кулаком по кабине.
— Воздух!!!
Из кабины опять показался шофер.
— Чего?
— Того! Воздух! Давай на обочину!
Скрежетнув торопливо втыкаемой передачей, полуторка прыгнула вперед и замерла на обочине. Прихватив мешки с сухпаем, я выпрыгнул на дорогу и крикнул водителю.
— Открывай борта!
— Зачем? — удивился лейтенант.
Более опытный шофер меня сразу понял. Мальчики у Геринга дотошные, если заметили что-то — обязательно вернутся, чтобы проверить. Мы же попробуем сымитировать брошенный автомобиль. На открытом месте от пары «худых» все равно не уйти, а расстреливать брошенную машину у них азарта не будет. Главное — не начать метаться, когда они по машине садить начнут.
Заметят или нет? Заметят или нет? Заметят… Заметили! Две точки в небе сначала замирают, а потом начинают почти незаметно расти в размерах.
— Бежим!
Отбежав на сотню метров, мы плюхаемся в кювет и роем носами землю. Поднять голову я рискнул, только когда прервался треск пулеметной очереди. Первый «мессер» звеня двигателем, вышел из пологого пике, второй оставался выше и в атаке не участвовал, видимо, следил за небом и контролировал результаты штурмовки первого.
— Ушли? — поднял голову Шепелин.
— Лежите, товарищ лейтенант, может, еще на второй заход пойдут.
Не пошли. Уходили они на запад, значит, шли с охоты, выработав горючее. Выждав минут пять, возвращаемся к машине. Одна из пуль пробила заднюю стенку кабины и диван пассажира, из дырки торчат клочья какого-то материала. Еще пару дыр я обнаруживаю в кузове.
— Хорошо, что он снаряды пожалел — так легко бы не отделались.
— Главное бензобак и скаты целы, — подводит итог водитель. — Ну что, поехали?
До Миллерово добрались засветло. Во время зимних боев город был сильно разрушен, но железнодорожная станция уже заработала. По этой причине корпус сюда и перебрасывают, а леса вокруг дают возможность укрыть не только танковый корпус, но и целую армию. Пока лейтенант решал вопросы в комендатуре, я подошел к нашему водителю, представившемуся Кузьмичем.
— Табачком угостишь?
— Ты же, вроде, некуришь?
— Да я не себе.
— А кому?
Я кивнул на пожилого солдата, пристроившегося в углу двора с железной «лапой» и пояснил.
— Для начала разговора.
— Тогда держи.
Кузьмич хотел отсыпать табак в газетный обрывок, но я прихватил весь кисет.
— Не боись, верну.
Выбрав момент, когда сапожник закончил прибивать каблук, я подошел к нему.
— Покурим?
— Угощаешь?
Я вытащил водительский кисет. Сапожник отсыпал табака и свернул себе самокрутку.
— А сам?
— Да я не курю.
— Чего тогда надо?
— Поговорить.
— Ну поговори…
Когда лейтенант вышел из комендатуры, я уже знал весь расклад по местному жилфонду.
— Сколько в городе зданий, пригодных для размещения штаба полкового уровня? Вот именно! И почти все они уже заняты либо военными, либо гражданскими. Тыловики, железнодорожники, комендачи те же самые, горком с райкомом. Кого выгонять будем? А что начнется, когда сюда остальные прибудут? Штаб корпуса со всеми службами — раз, четыре бригадных штаба — два, разведчики — три. У них хоть и батальон, но ребята они шустрые и у начальства в фаворе, наверняка нас ототрут. А потом усиление начнет прибывать: артиллеристы, минометчики, саперы, ну и еще по мелочи. Друг на друге сидеть придется. Так что, даже если сейчас и прихватим какое-нибудь здание, то завтра же нас оттуда с треском выпрут.
— И что ты предлагаешь? — интересуется лейтенант.
— Зимой тут один танковый корпус уже пополнялся. Как сюда ехали, слева от дороги, танковая бригада стояла, они там землянок понарыли. Место хорошее, уже подсохло, лес строевой рядом и речка, с водой проблем не будет. Землянки, конечно, ерундовые, но на первое время сойдут. Их и прихватим, пока остальные расчухают, полк уже подтянется. А остальные пусть за здания в городе дерутся. Все равно их, в конце концов, по окрестным лесам разгонят.
Лейтенант впал в раздумья. Недавнему курсанту приходится, пожалуй, впервые принимать решение как командиру.
— Место для ночлега нам в комендатуре уже выделили. Поэтому ночуем здесь, а завтра с утра поедем землянки смотреть.
— Надо будет насчет бани узнать, если повезет, сегодня помоемся, — предложил я. — Кисет верни, — напомнил Кузьмич.
Пожалуй, впервые за последние несколько месяцев у меня появилась масса свободного времени. Ночью еще подмораживает, но днем температура устойчиво держится выше нуля. Земля вокруг подсохла, и я развалившись на прошлогодней траве, наблюдаю за Кузьмичом, помешивающем супчик в котелке, подвешенном над костром — сухпай уже надоел.
— Ты соли не многовато сыпанул?
— Не учи ученого, — отбривает меня Кузьмич.
Переворачиваюсь на спину. Хорошо! Небо синее, чистое — ни облачка, ни самолета. Несмотря на хорошее настроение, мысли невольно скатываются на мое нынешнее положение. Приход в военкомат был последним самостоятельным решением. Дальше жизнь гнала меня, не давая головы поднять, а сейчас появилась возможность о будущем поразмыслить.
Здравых идей по путям возвращения назад у меня так и не возникло. В полный рост встала перспектива остаться здесь навсегда. А основной вопрос пребывания здесь — это выживание. Попробуем классифицировать угрозы для моей драгоценной жизни. Во-первых, немцы. Самые опасные противники, которые прихлопнут меня при первой же возможности, но охотятся они не конкретно за мной, а за всеми, кто одет в красноармейскую форму. Решение проблемы: держаться от них подальше, что в моем теперешнем положении невозможно, и голову под пули не подставлять, что далеко не всегда выполнимо. Окончательно справиться с фрицами, позволит только их безоговорочная капитуляция, но до девятого мая еще нужно дожить.
Во-вторых, хрономародеры. Враги последовательные и упорные. Эти будут искать до конца — само мое существование в этом времени является для них угрозой — и найдут. Рано или поздно найдут, возможности у них большие, в этом я уже убедился. Пока, надеюсь, удалось сбить их со следа, но против системы мне долго не продержаться. Пассивное ожидание здесь не годится, надо что-то предпринимать. А что? Пока не знаю, будем думать, нужен какой-то финт.
В-третьих, все окружающие. Они страшны своей многочисленностью. Пока все мои оговорки и ошибки поведения находятся в пределах допустимого разброса, обусловленного старорежимным воспитанием и образованием. Но стоит только расслабиться, ляпнуть что-нибудь не то или сделать что-нибудь не так, и предстоит мне встреча со славным парнем из особого отдела, который на деле может оказаться не таким уж и славным. Интересно, просто напишут или сразу начнут руки крутить? Без разницы, держим ушки топориками, фильтруем базар, и авось пронесет.
Итак, подведем итоги. Против двух угроз вполне применима пассивная стратегия выживания, против третьей тоже. Какое-то время. Какое? Прежний мой полк попал в окружение, и штабные бумаги, надеюсь, там и сгинули. Если какие следы и остались, то я там числюсь пропавшим без вести. Пока все утрясется, пока выявят возможные места моего пребывания, пока Москва запросит… От двух до четырех месяцев у меня есть, а дальше придется что-то предпринимать. Что? Хороший вопрос.
Первый вариант — накинуть очередную петлю, сбив погоню со следа и выиграв некоторое время. Но сколько можно так бегать? Рано или поздно все равно попадешься. Пока оставим как вариант и перейдем к следующему — активному противодействию. Самое лучшее прибегнуть к помощи организации не менее мощной, чем гоняющаяся за мной. В принципе, можно обратиться по двум адресам: «Москва. Кремль. Товарищу Сталину» и «Москва. Лубянка. Гражданину Берии». А еще? Можно еще попробовать «Москва. Ставка. Маршалу Жукову» или «Москва. Генштаб. Генералу Василевскому». Нет, не годится, тогда уже сразу можно «Москва. Мавзолей. Дедушке Ленину». Хотя его-то как раз из Москвы вывезли куда-то в Сибирь.
В любом случае, к кому бы ни пришлось обращаться, потребуются весомые аргументы. А что я могу предъявить? Даты. Вспоминаем даты. Ближайшая — 5 июля 1943 года. А что это даст? Направления немецких ударов наши определили правильно, конечную дату тоже узнали заранее. Большого значения мои «предсказания» иметь не будут. Что у нас было дальше? Из ближайшего вспоминаются «Багратион», «Кутузов» и осеннее наступление на левобережной Украине. Из более дальнего — Корсунь-Шевченковская, Яссо-Кишиневская и Висло-Одерская. Ах да, еще окружение под Минском. Во всех этих случаях я могу назвать время с точностью до времени года и участвующие в них силы плюс-минус фронт. А какие еще есть даты кроме 9 мая? День окончательного снятия блокады. Что-то как-то грустно стало.
Стоп, рано вешать нос, есть же еще направления развития техники. Уж тут-то я развернусь! С чего начнем? Тяжелые танки! Что у меня есть в голове по тяжелым танкам? Наклонная броня, торсионная подвеска, дизель… Все уже было. Сверхмощная пушка? ИС-2 со стадвадцатидвухмиллиметровкой к концу года появится. Активная броня! Да, точно, она самая! Хотя, конечно, ее еще тоже до ума доводить надо. Не густо, но хоть что-то.
Идем дальше. Авиация. Да не просто авиация, а реактивная авиация! Что я знаю про реактивную авиацию? Да ни хрена я про нее не знаю! Вроде там проблема не столько конструкций, сколько технологий. И пока немецкие движки вместе с документацией к нашим не попадут, ничего путного из этого не выйдет. Да, еще англичане нам что-то после войны толкнули. Так что до конца войны все равно ничего практически полезного не появится. Скорее, даже вредное предложение, поскольку отвлечет ресурсы от основного направления. Ладно, забыли.
Атомная бомба? Ну, конечно! Хотя работы над ней и так уже идут, и мое дилетантское вмешательство тут ничего не даст. Вот сделают американцы свою бомбу, наши у них конструкцию стянут, технологию усовершенствуют… Пока же и у американцев особо тянуть нечего, а из моей головы тем более. Хрен с ней, с этой бомбой!
Автомат Калашникова? Давайте не будем мешать Михаилу Тимофеевичу. Со временем он опыта наберется, технологии соответствующие подтянутся, и он сам прекрасно со всем справится. Ждать недолго осталось. А промежуточный патрон не далее, как в этом году уже появится. Профан я в военном деле, и не надо туда соваться.
А что у нас с технологиями двойного назначения? Полупроводниковая электроника? Эмиттер, коллектор, база, исток, сток, затвор. Схему полевого транзистора я, конечно, нарисую, но без технологий получения сверхчистых материалов с заданными свойствами… Обидно. И что в итоге? Почти пусто. Точнее, совсем почти пусто. И грустно. Слишком велик временной и технологический разрыв — там, где я привык обходиться компьютерной мышью, местные пускают в ход зубило или кувалду. В этом отношении, мне гораздо проще общаться с потомками — все-таки не так уж и далеко они от нас ушли. По крайней мере, ничего принципиально нового я не заметил.
А еще надо как-то передать информацию наверх, минуя промежуточные инстанции, и при этом, желательно, остаться незаметным самому. А как это сделать? Письмо написать? Так ведь до адресата не дойдет, а какой-нибудь секретарь, вскрывший письмо, решит, что это бред сумасшедшего, и, в лучшем случае, выбросит в мусор. А в худшем… Разве что найдется человек, который сможет передать информацию лично. А где его найти? Не к полковому же особисту идти. Хотя он парень нормальный — сразу в трибунал не потащит, для начала отправит на психиатрическую экспертизу.
К каким либо определенным решениям я не пришел, только настроение окончательно испортилось, и весеннее солнце уже не радовало. Кузьмич снял котелок с костра.
— Суп готов. Зови лейтенанта.
— Тебе надо, ты и зови, — огрызнулся я.
У тебя суп, а у меня глобальные научно-технические проблемы не решаются. Придется пока занять позицию залетевшей гимназистки в надежде, что все рассосется само собой. И думать. И искать решение.
Неделю полк обустраивался на новом месте. А куда торопиться? Подновили старые и выкопали новые землянки, оборудовали огневые позиции, а там и пополнение начало прибывать. Мотивировав необходимостью обучать вновь прибывших, я из штаба сбежал. Руденко не стал удерживать, ему и самому там тошно.
Пополнение к нам прибыло еще то. Никакой возможности отбора не было — приходилось брать что дают. Дали пацанов двадцать четвертого — двадцать пятого года рождения, едва достигших восемнадцати лет, и старичков под пятьдесят, повоевавших еще в Первую мировую. Поскольку орудия еще не было, то дали мне в расчет двоих: Коробовкина и Казакина. Первый успел повоевать под командованием генерала Лохвицкого в составе Русского экспедиционного корпуса во Франции и чудом вернулся обратно в Россию только в двадцатом году. Второй, несмотря на возраст, удивил всех четкостью и какой-то небрежной лихостью выполнения строевых приемов с оружием. Где его так натаскали, не рассказывал, наверное, где-нибудь в гвардии служил.
Обоих моих подчиненных в запасном полку почти ничему не научили, придется учить заново. В наводчики они не годятся — зрение уже не то. В заряжающие? Там двигаться надо быстро, да и обоймы с пятью снарядами тоже не пушинки. Определил их в установщики прицела. К моему удивлению, не шибко грамотные «деды» эту науку освоили очень быстро.
— Не учась и лаптя не сплетешь, — прокомментировал мое удивление их успехами Коробовкин, отныне третий номер еще не существующего расчета. — Ты, главное, кричи громче, а уж цифирь мы выставим как надо.
Осталось только дождаться прибытия нового орудия и остальных номеров расчета.
Заодно присмотрелся и к своим командирам. Командир первого взвода лейтенант Топчев — пацан пацаном, да и к водке излишнее пристрастие имеет. Поскольку корпус вывели в тыл и раздача «наркомовской» нормы прекратилась, приходится ему у местных самогонку изыскивать. Пока еще на службе это не сильно сказывается, но если так и дальше пойдет, то погубит парня пьянство. Хотя у него гораздо больше шансов погибнуть от немецкой пули или осколка. Второй взводный — лейтенант Сладков. Этот на пару лет постарше, до войны успел закончить два курса в институте. Он гораздо серьезнее и основательнее, да и технику, как мне кажется, знает лучше. Решил, что постараюсь попасть во второй взвод.
Оба взводных, как и большинство остальных солдат в батарее, войну начали с наступления под Сталинградом. Об этих событиях они и рассказывали вновь прибывшим, так как вспоминать об этом победном наступлении было куда приятнее, чем о событиях конца февраля. Особенно запомнился такой эпизод, рассказанный Сладковым.
— Однажды заблудились мы в степи. Стемнело уже, звезд не видно, ориентиров никаких, куда дальше ехать, не знаем. Заметили в поле огромную скирду соломы, решили около нее переночевать. Только расположились, луна выглянула. И в свете луны видим, как прямо к нам по гребню балки идет колонна, человек сто пятьдесят. Кто такие — непонятно. Выкатили мы пушки из-за скирды и отправили навстречу пятерых. Договорились — если это немцы, то они красную ракету пустят, и мы огонь откроем. Колонна все ближе и ближе, и ни ракеты, ни стрельбы. Подходят. Впереди наши, а за ними румыны в высоких таких шапках. Это они, оказывается, сдаваться шли, так мы их в тыл даже без конвоя отправили.
Среди слушателей пробежали смешки, а лейтенант продолжил:
— Сейчас смешно, а тогда не до смеха было. Их втрое больше, чем нас — в темноте смяли бы, и пушки не помогли. Ночью же такой мороз ударил, что каждые двадцать минут друг друга будили. А утром, когда рассвело, мы уже к движению готовились, на скирде вдруг появляются двое. Винтовки над головой подняли и что-то нам кричат. Оказалось, тоже румыны, и тоже сдаться решили. Одного понять не могу, как они на эту высоченную скирду взобраться сумели?
Собравшийся народ тут же принялся рассказывать и по ходу обсуждать другие невероятные случаи, произошедшие с ними уже на фронте или еще до войны. А лейтенант обратился ко мне:
— Поедем машины для батареи принимать. Завтра утром будь готов.
— Всегда готов, — автоматически ответил я. — А что нам дадут?
— Обещали «шевроле».
Это хорошо. С самого формирования автопарк корпуса и приданных частей практически не пополнялся, а потери были большие. И если в автотранспортную роту с корпусного обменного пункта кое-что попадало, то бригады и остальные части получали технику по одному принципу: что урвал — твое. А так как чаще урвать удавалось у противника, чем у собственных тыловиков, то в расположении было множество трофейной техники: «блитцы», MANы, иногда попадались даже дизельные «мерседесы», итальянские «фиаты» и французские «ситроены». Конечно, не обошлось и без отечественной техники — ЗиСы и полуторки также имелись в значительном количестве.
Снабжение такого разношерстного автостада было настоящей головной болью. Если на наши автомашины запчасти можно было достать, а для трофейной техники снять с брошенной фрицами при отступлении, то для американской не было ничего. Говорили, что американцы запчасти нам поставляют, но куда они потом исчезают? «Шевроле» и «студебеккеры» — машины, конечно, хорошие, но и они время от времени ломаются, особенно на наших фронтовых дорогах. А найти на них какую-нибудь железяку можно только сняв ее с другой такой же машины. Самое худшее состояние дел было с шинами. Заокеанской размерности девять на шестнадцать ни наша промышленность не выпускала, ни немецкая.
Утром следующего дня мы с лейтенантом прибыли в Миллерово на железнодорожную станцию. Полным ходом шла разгрузка прибывшего эшелона. А машин там было! А народу вокруг! Первым делом танкисты и мотострелки расхватали трехосные «студебеккеры», потом всевозможные штабные прибрали к рукам «виллисы» и «доджи» три четверти. Зенитчиков допустили к шапочному разбору.
— Хватайте два крайних, — говорю на ухо лейтенанту.
— А почему именно их? — удивляется Сладков.
— Да какая разница? С виду они все одинаковые, а разбираться времени нет. Оформляйте бумаги, товарищ лейтенант, а то, пока думать будем, ничего не останется.
Взводный ушел быстрым шагом, а я остался, чтобы придержать конкурентов и присмотреться к водителям. Обоим наверняка нет еще и двадцати, на фронте явно впервые. Миллерово еще не фронт, но уже преддверие оного. Я к ним подошел, ситуацию объяснил и рассказал, как сказочно им повезет, если они к нам в полк попадут. Буквально тут же мы уже втроем отбивали попытку старлея-танкоремонтника оттягать одну из машин под подвижную ремонтную мастерскую, которая у них на двух полуторках передвигается. Первая с деревянной будкой для ремонтников, вторая с токарным станком в чем-то вроде КУНГа. Потом пришел Сладков, потряс перед носом наглого старлея какими-то бумагами и скомандовал:
— По машинам!
Лейтенант с одним водителем сел в первую машину, я с другим во вторую. Поехали. На выезде со станции у лейтенанта проверяют документы, и мы, вырулив на дорогу, держим путь в расположение полка.
— Как звать? — интересуюсь у водителя.
— Андрей. Красноармеец Копытов, — быстро поправляется он.
— За рулем давно?
— Четыре месяца.
Оно и видно, что четыре. Машина идет неровно, рыскает. Передняя машина идет гораздо ровнее и увереннее, видимо, водитель там опытнее или машину лучше освоил. А мы, то отстаем, то почти упираемся своим радиатором в задний борт впередиидущему. Водитель то выкручивает мотор до истошного воя, забывая переключиться на повышенную передачу, то едва не глохнет, когда приходится сбросить скорость. Передачи, чаще всего, втыкаются со второй попытки со скрежетом, при этом Копытов отвлекается от дороги и смотрит, куда двигать рычаг. Такого издевательства над новой машиной я пережить не смог.
— Тормози. Вылазь. Ручник затяни!
Пробравшись на мягкий диван с левой стороны, впервые оцениваю иномарку с места водителя. Обзор вперед из-за покатого капота очень хороший. Назад… В высоко задранные круглые зеркальца почти ничего не видно, так выполнения перестроений на скорости далеко за сотню и не предполагается. Баранка огромная, тонкая, в центре пимпа звукового сигнала. На приборной панели бросается в глаза спидометр, вокруг него указатели количества топлива, зарядки аккумулятора, температуры воды и масла. Обороты двигателя контролируются исключительно по его звуку, точнее по вою.
Газ напольный, сцепление и тормоз торчат из наклонного пола, между ними проходит рулевой вал. Тормоз сильно выдается вперед, переносить на него ногу будет трудно. Пробую педали. Сцепление оказывается не таким тугим, как ожидал, а тормоз почти сразу встает колом, новая машина, колодки еще не притерлись. Еще раз бросаю взгляд на схему включения передач, раздатки и демультипликатора, закрепленную над лобовым стеклом. Ну, поехали!
Ручник отпустить. Сцепление, первая включилась почти без скрежета. Чуть добавляю газа и начинаю отпускать сцепление. Момент включения чувствуется довольно четко, еще газу. Тронуться получилось плавно, еще газ. На руле никакой околонулевой зоны или реактивного действия, но машина идет почти ровно, подруливания требуются минимальные. И чего Копытов такие пируэты на дороге выписывал? Звук мотора уже настойчиво лезет в уши. Пора вторую? Как там было на газоне? Сцепление, газ отпустить, нейтраль, сцепление отпустить, пауза, сцепление выжать, вторая вошла как по маслу, сцепление отпустить, газу добавить. Двадцать лет за рулем! И хоть все они прошли на легковушках, но и древний пятьдесят первый тоже не забылся, руки и ноги сами помнят.
А спидометр-то здесь в милях. Скорость подбирается к двадцати. Третья? С третьей получается не так чисто, но получается с первой попытки. Задний борт переднего «шевроле» начинает стремительно приближаться. Вроде только что был еле виден, а сейчас настойчиво лезет под мой капот. На самом деле скорость километров пятьдесят в час, а то и меньше, но спокойствия это не добавляет. Ну и тормоз! Выручают только зубастые покрышки. Хотя на наших ЗиСах с их только задними тормозами должно быть еще веселее, но все равно — тормозить нужно заранее. Теперь на пониженную. Сцепление, газ отпустить, нейтраль, сцепление отпустить, подгазовать, сцепление выжать, вторая, сцепление отпустить. Задний борт передней машины медленно начинает уплывать вперед. Хватит гонок, и я, стараясь держать постоянную скорость и дистанцию, плетусь за машиной лейтенанта.
Из кабины я вылез с мокрой спиной. Вроде и ехать недалеко, и, в теории, ничего особенно сложного в работе рычагом несинхронизированной коробки нет, главное — правильно подбирать время паузы и нажатие на педаль газа. На деле все оказывается намного сложнее: из контрольных приборов только спидометр и собственные уши, малейшая ошибка вызывает недовольный скрежет шестерен, а еще за дорогой надо следить. Ближе к концу пути я, наконец, приноровился к повадкам «шевроле» и ошибок почти не делал. Зато понял, почему так ценили шоферскую профессию в эти годы, да и долгое время после войны. Опять оказавшись на земле, я задал Андрею Копытову только один вопрос:
— Как ты только ее до сих пор не угробил?
Оказалось, что он на «шевроле» практически не ездил. После трехмесячных курсов, где учебным автомобилем была полуторка, полсотни новоявленных водителей привезли в Орджоникидзе, а там… На широком поле стояло несколько тысяч новеньких американских грузовиков. Эти машины доставлялись в Иран по морю. Оттуда их своим ходом перегоняли в СССР женские автобатальоны. Не все машины выдерживали прикосновение нежных девичьих рук и путешествие через горные перевалы. Неисправные машины тут же разукомплектовывались, да так и оставались стоять никому уже не нужные.
Здесь новичков присоединили к приблизительно такой же по численности группе водителей под командованием старшего лейтенанта из автороты корпуса, также прибывших за новыми машинами. Через несколько дней прибыл очередной караван из Ирана. Полученные машины перегнали на станцию, погрузили на платформы и привезли в Миллерово. Погрузку и выгрузку осуществили опытные водители, новичкам достался только перегон машин до станции.
— Слышали, товарищ лейтенант?
— Слышал, — подтвердил подошедший Сладков. — Доучивать придется.
Доучивать… Скорее заново учить и не одного шофера. Буквально на следующий день время сорвалось с привязи и понеслось, события посыпались одно за другим. Сначала прибыла техника, потом пополнение из запасного полка. Пушка нам досталась не новая, из ремонта. Этому факту я скорее обрадовался, чем огорчился. Дело в том, что до конца 1942 года наши 61-К изготавливались по единому эталону тридцать девятого года. С начала 1943 заводам изготовителям разрешили вносить конструктивные и технологические изменения, удешевляющие и упрощающие производство, но, естественно, не влияющие на технические характеристики и надежность орудия. Однако проверять на собственной шкуре, что там наупрощали мне как-то не хотелось.
При приемке я облазил орудие от колес повозки до пламегасителя. Ничего криминального не нашел. От предыдущих боев остались несколько тщательно закрашенных вмятин. Со временем краска в этих местах отойдет, ничего, заново подкрасим. Ствол и тормоз отката новые, пружины также заменены, механизмы наводки работают плавно, без рывков и заеданий. Автоматика работает исправно, а выверку прицела и сами сделаем. Кстати, о самих.
— Р-равняйсь! Смир-рно!
В строю шесть человек, второго подносчика не дали. Двое уже знакомы, с остальными сейчас познакомимся. Я пристально вглядываюсь в лица замерших солдат. На правом фланге стоит невысокий ефрейтор с нашивкой за ранение, уже успел повоевать. Мой взгляд встречает с едва заметной усмешкой, дескать, смотри, смотри, много высмотришь. Дальше среднего роста парнишка с едва заметным пушком над губой, старательно тянется, смотрит чуть поверх нового начальства. Красноармейцы Коробовкин и Казакин, взглядом на них не задерживаюсь. Пятый.
— Как фамилия?
— Красноармеец Бикбаев.
— Откуда родом?
— Из Казахстана, товарищ сержант.
Лет двадцати пяти-тридцати, по-русски говорит правильно, почти без акцента. Чувствуется образование.
— До войны кем работал?
— Учителем.
— Воевал?
— Еще нет.
Кроме ефрейтора, остальные, похоже, тоже «еще нет». Последним в строю стоит худющий парень, а ему, между прочим, предстоит за двоих тяжелые, пятиснарядные обоймы таскать.
— Вольно.
— Что это вы нас так разглядываете, товарищ сержант, или не нравимся? — не удержался от вопроса ефрейтор.
— Вы не девка, чтобы нравиться. Кстати, представляться надо, товарищ ефрейтор.
Тот слегка скривил уголок рта, как бы говоря, где он видал мои уставные заморочки.
— Ефрейтор Ложкин!
— Так вот, ефрейтор Ложкин, если с сорок первого брать, то вы у меня…, да, пятый расчет.
— Так и вы у меня не первый командир, — лыбится ефрейтор.
— Главное, чтобы не последний, — парирую я.
— Хотите сказать, я сам скоро командиром стану?
Нашелся альфа-самец на мою лысину. Однако придется ставить на место.
— Станешь. Когда-нибудь. А пока, — повышаю голос, чтобы слышали все, — для повышения образования ефрейтора Ложкина и развития его командирских навыков проведем проверку нулевой линии прицеливания стрельбой по щиту. Командуйте, товарищ ефрейтор.
— Чего командовать?
— Проверкой командуйте.
— …
Я и сам об этой проверке недавно узнал, но еще ни разу не пробовал. Из нынешних зенитчиков про этот способ мало кто знает, обычно ограничиваются проверкой нулевой линии по удаленной точке. Не дай бог, опозорюсь, но отступать уже поздно.
— Тогда бери красноармейцев Бикбаева и… Как тебя?
— Красноармеец Тимофеев, — откликается подносчик.
— И Тимофеева. Через час жду вас с дощатым щитом размером два на полтора метра.
— А где доски взять?
— Вопрос неправильный. Я должен был услышать: «Есть! Разрешите выполнять?». На что вам отвечаю: разрешаю. Через час жду обратно, время пошло.
Здесь для пущего эффекта надо демонстративно взглянуть на часы, но собственным хронометром я так и не обзавелся. Поэтому просто поворачиваюсь к остальным.
— А сейчас проверим, чему вас научили в запасном полку. Начнем с проверки прицела и выверки его по удаленной точке.
Ложкин все еще мнется, не знает где ему доски взять. Я бы мог подсказать, но нехрен было нарываться.
— Так, Ложкин, ты все еще здесь? Через час щита не будет — отправлю яму под батарейный сортир копать, а то все кусты вокруг загадили, двух шагов от расположения не отойти!
Кстати, хорошая мысль. Надо будет старшине подкинуть, надоело как по минному полю ходить, чуть зазевался и… Не смертельно, конечно, но очень неприятно. Только это как-то аккуратно надо сказать, чтобы самому реализовывать не пришлось.
— Бикбаев, Тимофеев, за мной, — начинает действовать отличный солдат и, наконец, убирается в сторону дороги.
Правильно сообразил, там стоит брошенный «Опель-Блитц» с развороченным мотором, но кузов уцелел, его борта на щит вполне пойдут. Только я бы к старшине зашел, и инструмент взял — голыми руками с кузовом не справиться. Ничего, в следующий раз умнее будет.
— Огонь!
Гах! Гах! Четвертый и пятый трассеры бронебойных снарядов исчезают в сером прямоугольнике щита, установленного в сотне метров от огневой позиции.
— Ну как? — интересуется Сладков, тоже пришел посмотреть на новый способ.
— Отлично, — я отрываю от глаз бинокль и возвращаю его лейтенанту, — в самый центр.
Сама проверка несложная, только требует тщательности и аккуратности, да и результат дает чуть лучше, чем прежние способы. На прицеле выставили нулевые установки, выпустили по щиту три снаряда, нашли среднюю точку пробоин и провели через нее вертикальную линию. На этой линии отмеряем шестьдесят миллиметров вверх — это точка, в которую направлен ствол. Проводим через эту точку горизонтальную линию — линию ствола. Вправо откладываем пятьсот восемьдесят миллиметров, влево — пятьсот девяносто пять, на столько разнесены правый и левый коллиматоры от оси ствола. Теперь поднимаемся в этих точках еще двадцать четыре сантиметра и находим точки, в которые должны быть направлены перекрестья коллиматоров. Регулируем их, закрепляем и выпускаем два проверочных снаряда.
Взводный подходит к щиту, рассматривает пробоины.
— Хорошо, очень хорошо. Ну что, к бою готовы?
— Готовы, товарищ лейтенант.
На самом деле к бою готова только пушка, а с расчетом еще работать и работать. Тем более что одного из наводчиков нам на следующий день придется лишиться.
— На завтрашний день ефрейтор Ложкин поступает в распоряжение старшины для оборудования батарейного отхожего места…
— За что? — не выдерживает наказанный.
— Во-первых, за задержку с доставкой щита, — тут моя совесть чиста, я дал ему час, за который вполне можно было успеть справится, а они провозились, как минимум, полтора, а может, и все два. — Во-вторых, за то, что перебили старшего по званию и должности. В-третьих, кто, если не вы? В-четвертых… Ладно, хватит и трех причин. Понятно?
— А когда это вы успели со старшиной договориться? — не унимается ефрейтор.
— Пока вы со щитом возились. В том, что в срок вы не уложитесь, у меня сомнений не было — сразу инструмент надо было брать, а не гонять за ним Тимофеева.
Вообще-то за время отсутствия Ложкина с командой я успел не только со старшиной договориться, но и «подорваться». Точнее, сначала «подорвался», а потом договорился — надоело!
— Да вы не расстраивайтесь так, товарищ ефрейтор, не одному вам на этом ответственном участке трудиться придется. От каждого расчета выделяется по одному человеку, вы — старший. За сутки должны справиться. Заодно и навыки командирские разовьете.
Последнее сорвалось с языка непроизвольно, не хотел я этого говорить, но какой-то черт дернул меня за язык. Ефрейтор Ложкин — не самый худший представитель хомо зенитикус, это я уже успел заметить. Технику знает, с людьми ладит, а то, что амбиции у парня чуть повышенные, так молодой еще. Но, что сказано, то сказано, назад не вернешь.
— А сейчас приступаем к чистке ствола и механизмов автоматики.
Все-таки, у нового способа проверки нулевой линии есть свои недостатки.
Глава 9
— По танку. Бронебойными. Скорость пять. Четыре.
Четыре — это дальность в гектометрах. С такого расстояния лязг гусениц и рев мотора слышны отчетливо. Невольно я командую тише, как будто танкисты могут меня услышать.
— Есть цель, — докладывает Ложкин.
Неужели они нас действительно не видят? Хотя со стороны наша пушка выглядит сейчас как большой куст — столько веток мы привязали к станку, что расчет еле помещается, а заряжающий Бикбаев едва может развернуться.
— Огонь! — командует Сладков.
— Огонь!
Теперь голос можно не сдерживать, танк приблизился на ожидаемое расстояние и подставил борт.
— Трасса прошла за кормой танка, — дает вводную лейтенант.
— Полтанка влево, дальность три, — тут же реагирую я.
Тридцатьчетверка разворачивается, плюясь с кормы черным выхлопом и разбрасывая с гусениц донской чернозем. Механик-водитель добавляет оборотов и, выдав назад еще более плотную черную завесу, танк движется на исходную. В связи с приближением немецкого наступления под Курском нас на танки натаскивают почти также интенсивно, как на самолеты. Вот и сейчас учимся стрелять не по воображаемому, а вполне реальному танку. Впрочем, танкистов, мотострелков, разведчиков гоняют не меньше нашего.
— Хорошо, — подводит итог взводный, — пока все.
— Матчасть в исходное, — добавляю я.
Приближается время обеда, поэтому команда выполняется с особым рвением.
— Командир, а кухня-то нас сегодня найдет? — интересуется Коробовкин.
— А черт ее знает.
Может и не найти. Или не искать. Тогда придется начинать вторую часть учений с бурчащим от голода животом.
— Вон, комсорг идет, — замечает Ложкин. — У него спроси.
После упразднения политруков, их обязанности частично возложили на комсорга и парторга батареи. Вот они и бегают, беседы проводят, боевой дух нам поднимают. На сей раз оказалось, что комсорг пришел по мою душу.
— Послезавтра состоится совещание по обмену опытом и упорядочению возрастных взаимоотношений, — сообщил он. — От нашей батареи решено направить вас.
Я в первый момент возмутиться хотел — успел я застать такого рода собрания позднесоветской поры, ничего путного на них не происходило, докладывали, отчитывались, переливали из пустого в порожнее. Сидишь, зеваешь, аж скулы сводит, боишься заснуть и думаешь, когда же, наконец, все это закончится, а они все говорят, говорят, говорят…
Но первый порыв мне удалось сдержать, а по здравому размышлению, может, и стоит туда съездить — вдруг, что полезное услышу. Опять же, появляется возможность обстановку сменить, что в округе происходит посмотреть. Одним из самых трудных моментов армейской службы является отсутствие новых впечатлений. Месяцами один день сменяется другим, точно таким же, все возможные места пребывания изучены, а отлучиться нет никакой возможности, люди вокруг — одни и те же. Тогда любая возможность вырваться из замкнутого круга становится желанной, даже, если для этого надо будет весь день копать или тяжеленные ящики грузить. Или на скучном собрании сидеть. Да и согласия моего никто спросить не удосужился.
Под эту поездку я выцарапал у старшины новую форму.
— Ну как я буду на корпусном собрании нашу батарею в этом рванье представлять?
С обмундированием действительно беда. Штабные уже переоделись в форму нового образца с погонами. Красноармейцы и младшие офицеры, в основном, продолжают донашивать старую. Кто-то прицепил погоны к старой гимнастерке довоенного образца с отложным воротником, так и ходит. Зеленые пуговицы к полевым погонам и петлицам никто в глаза не видел. Пытались красить пуговицы зеленой краской, но масляная краска на латуни держится плохо, отлетает.
— Нет у меня новой формы, да еще и твоего размера — упирается старшина. — Видишь, в чем сам хожу.
Естественно, не может же он сам переодеться в новую форму, когда комбат и взводные ходят в старой.
— Так совсем нет или нет моего размера? — настойчиво уточняю я.
После получасовых препирательств, сопровождавшихся призывами к совести и напоминанием кто ему идею с сортиром подкинул и руководителя работ выделил, старшина все-таки сдался.
— Тяжелый ты человек — вот вынь тебе все и положь, совсем без понятия. Ладно, пошли, может, что и найдем.
Нашли. И размер подошел, только гимнастерка оказалась офицерской. От солдатской она отличалась прорезными карманами с клапанами. Этот факт меня обрадовал, так как положить документы солдату или сержанту было просто некуда. Теоретически для этого предусматривался задний карман штанов, но постоянно носить документы на заднице… Китель образца шестьдесят восьмого года с его внутренними нагрудными и прорезными боковыми карманами был гораздо удобнее.
Вместе с гимнастеркой мне досталась пара пятиугольных погон с красным артиллерийским кантом. Погоны крепятся на гимнастерку с помощью продольной лямки, пришитой в нижней части погона. Лямка продевается в поперечную нашивку на плече гимнастерки и пристегивается к пуговице, пришитой у воротника. Верхний конец погона пристегивается к этой же пуговице. Но прежде, чем пристегнуть погоны, надо привести их в соответствие своему званию. Это же сколько лет прошло, когда я последний раз пришивал к погонам лычки из красной тесьмы! Чуть слеза не прошибла. У нас в части эту тесьму называли галуном, оказалось, правильное ее название — басон. Галун — та же тесьма, но сделанная из металлизированной нити. В годы моей службы галун уже попал под запрет и некоторые сержанты, рискнувшие блеснуть неуставными лычками, потеряли их навсегда.
Теперь бы надо доработать форму — ушить гимнастерку и галифе, но этими правилами я пренебрегаю. Во-первых, к таким изыскам солдатской моды я всегда был равнодушен, и тратить время на это бесполезное, по сути, занятие мне не хочется. Во-вторых, на том же собрании будет много старших офицеров и светиться в неуставной форме может быть небезопасно.
— Красавец, — оценил результат моих стараний старшина, — хоть сейчас в рамочку вставляй.
— Только не в черную, — парировал я.
Мое появление в батарее вызвало фурор немногим меньший, чем появление на городской улице конца восьмидесятых десантника в парадном камуфляже. Даже взводный пришел посмотреть.
— Готов к собранию?
— Готов, товарищ лейтенант.
На следующий день возле штаба полка собрались шестеро красноармейцев и сержантов — все существенно за сорок, и два младших лейтенанта — оба, судя по внешности, не дотягивали до двадцати. Пофыркивая мотором, к штабу подкатила полуторка и, пискнув тормозами, остановилась.
— Привет, Кузьмич, — приветствовал я знакомого водителя.
— О, привет. Как жизнь? Лезь в кабину, поговорим по дороге.
Ехать недалеко, но за несколько минут Кузьмич вываливает на меня все полковые новости, которые, как обычно, прошли мимо меня.
— Подожди, — прерываю я словоохотливого шофера. — Это кто такие?
Навстречу идет колонна «студебеккеров» с прицепленными к ним, закутанными в брезент, орудиями на четырехколесных повозках.
— ИПТАП, — поясняет Кузьмич, — недавно прибыли.
А я-то подумал, что это тоже зенитчики. Нет, с одной стороны, восьмидесятипятимиллиметровая зенитка может остановить любой немецкий танк, даже «тигр» или «пантеру», с расстояния почти километр. С другой же стороны, на поле боя 52-К, после первого же выстрела, не цель, а мечта вражеского наводчика — с того же километра хрен промажешь. И позицию без тягача уже не сменить, пятитонную пушку с огневой позиции на руках не выкатить, поэтому, где встал — там и стой. До самого конца, а уж каким этот конец будет…
На окраине поселка мне на глаза попались несколько странных танков. Длинные, узкие, гусеницы полностью охватывают корпус, подвеска состоит из десятка маленьких одиночных катков, ленивцы вынесены далеко вперед и получается, что механик-водитель находится в эдаком открытом сверху тоннеле и может видеть только узенький сектор прямо перед собой. Первая ассоциация, которую вызывает вид данной бронетехники — крокодил. Довершает это сооружение скромных размеров прямоугольная башня с чуть скругленными гранями. Из передней вертикальной стенки торчит короткий, относительно общей длины танка, ствол пушки с цилиндрическим утолщением на конце. На дульный тормоз оно похоже мало, да и длина ствола не предполагает высокой начальной скорости снаряда.
— А это что за звери? — указываю Кузьмичу на вызвавшую удивление технику.
— «Черчилли», — равнодушно бросает водитель, — из тяжелого танкового полка.
Похоже, он на них уже насмотрелся. Оно и понятно — почти каждый день в Миллерово за продовольствием мотается. Я же про них только слышал, а о появлении в корпусе даже не знал, увидеть же пришлось впервые. Значит, корпус усилили тяжелыми танками, это хорошо, конечно, но против немецкого зверинца этот английский «красавец» слабоват будет. Интересно, а что еще приготовило наше командование к этой торжественной встрече?
— А кто еще на усиление нам прибыл?
— Разведчики. Вон их броневичок скачет.
Навстречу, подскакивая на дорожных ухабах, пылит кургузый, угловатый бронеавтомобиль с маленькой башенкой. БА-64.
— Еще самоходчики, — продолжает Кузьмич.
— Какие?
Самоходная артиллерия только начала появляться на фронте, кого же прислали к нам: СУ-76 или, может, СУ-85?
— Здоровые, — отвечает пушка, по-моему, сто пятьдесят два мэмэ.
— СУ-152? «Зверобои»?
Я тут же прикусываю язык, насколько мне помнится, «зверобоями» они стали уже после Курской дуги, а до нее еще больше месяца. Водитель на мою оговорку внимания не обращает.
— Наверное, они. Но здоровые дуры.
Судя по той скорости, с какой корпус накачали новыми танками, пополнением и приданными, по новым штатам, частями — немецкого наступления ждали уже к середине мая и были к нему готовы.
— Это хорошо, что здоровые. Слышал, что фрицы для нас приготовили?
— А то!
Про это только глухой не слышал. Уязвимые места «тигра» мне скоро сниться начнут. Но о «тигре» известно все: внешний вид, калибр орудия, толщина брони. С ними наши танкисты уже встречались в февральских боях, а захваченные под Ленинградом даже успели расстрелять на полигоне. Про «пантеру» и «фердинанда» все только слышали. На мой взгляд, «пантера» — не самая большая удача немецких конструкторов. Вместо линейного танка, который задумывался как противовес Т-34, получили тяжелую противотанковую самоходку с пушкой во вращающейся башне, сложную и дорогую в производстве, а на начальном этапе применения еще и ненадежную. Однако толстая лобовая броня, установленная под большими углами наклона, длинноствольная пушка с высокой начальной скоростью снаряда и, как всегда, отличная немецкая оптика делают ее очень опасным истребителем танков. Да и не только танков.
— Приехали, — информирует всех Кузьмич.
Я с трудом выбираюсь из тесной кабины, остальные выпрыгивают из кузова, выбивают осевшую на форме пыль. Народу собралось… Полтысячи, никак не меньше. Помещения нужного размера в разрушенном войной Миллерово, естественно, не нашлось. Поэтому, вместо кресел — зеленая весенняя травка, вместо потолка — синее майское небо с редкими белыми пушинками облаков и, почти по-летнему, жаркое солнце. Стол для президиума, однако, присутствует. За ним поблескивают золотом погон несколько старших офицеров, но генералов не видно, только полковники.
Началось. Мы оказались довольно далеко от трибуны. Никакой звукоусиливающей аппаратуры не предполагалось, слова выступающих доносились до нас с пятого на десятое. Как я понял, выступающие отчитывались об успехах, достигнутых в обучении молодого пополнения, некоторые позволяли себе легкую критику в адрес своих сослуживцев. Старшина танковой роты рассказал о небрежном отношении танкистов к личному оружию, потом предался воспоминаниям, как он берег свою винтовку во время гражданской, в конце заверил командование, что немедленно устранит все недостатки по прибытии в часть. А чем, интересно, он до этого занимался? Недостатки коллекционировал.
Следующим выступил какой-то водитель, нудно критиковавший какого-то Кувшинова, не берегущего вверенную ему машину. Я прислушался.
— Когда бы он ни поехал в рейс, без помощи бригады слесарей он не вернется в роту. А происходит это потому, что он машину не бережет и ее не обслуживает. Совершенно по-другому работает красноармеец Лучин. Машину он получил из капитального ремонта и вот уже второй год на ней возит разные грузы и не было случая, чтобы она отказала в работе. Шофер любит и бережет свою машину пуще ока. Вот с него и надо брать пример.
Следующим на трибуне появился младший сержант-азиат. Не очень складно рассказал о том, как он уважает старших и командование, в конце попросил присылать им в часть газеты на узбекском языке. После этого, мое намерение тихо отсидеться в сторонке с треском рухнуло — неужели по делу никто не скажет? Выдрав из блокнота листок, я написал в президиум записку с просьбой предоставить слово и передал ее по рядам, а сам начал прокручивать в голове свое будущее выступление. К моему удивлению, вызвали меня буквально минут через двадцать, видимо, выступающего от зенитчиков не назначили, поэтому решили дать слово мне.
— Товарищи, от лица воинов-зенитчиков хочу заверить вас, что все свои знания, весь свой опыт мы передадим прибывшему пополнению и в предстоящих боевых действиях не позволим фашистским стервятникам безнаказанно бомбить части нашего корпуса на марше и в бою.
Краем глаза замечаю, что полковник, сидящий в президиуме ближе всех ко мне началом моего выступления доволен, а некоторые из танкистов передо мной скрывают иронические усмешки — в последних боях они от вражеской авиации получили по полной программе, поэтому скептицизм их мне вполне понятен. Пора переходить к основной части.
— Однако, товарищи, в обучении молодежи есть ряд трудностей и в их решении нам хотелось бы получить помощь от вышестоящего командования.
Ловлю на себе вопросительный взгляд полковника, но останавливаться уже поздно.
— Вот, например, по нормативу на замену ствола отводится сорок пять секунд и менять его должны два человека, а мы втроем в норматив уложиться никак не можем. А почему? Да потому что пополнение нынешнее — мальчишки. Последние два года почти никто из них досыта не ел, у них просто сил не хватает. Их бы сейчас подкормить надо, но служба ПФС внимания этому не уделяет, местные ресурсы для этого не использует, ждет только — что к ней с корпусных складов поступит. Я понимаю, что третья тыловая норма, но почему в котле то суп пересоленный, то каша подгорелая? Ведь больших усилий исправление этих недостатков не требует. Или вот такой случай. Выезжает батарея на учения за пределы расположения полка, и все, считай без обеда остались — кухня батарею найти не может, а ведь мы всего-то на три-четыре километра уехали. Или посылают людей за каким-нибудь имуществом, пока до станции доедут, очереди своей дождутся, погрузят-разгрузят, назад приедут — день прошел. И все опять голодные, сухой паек у пэфээсников не допросишься.
Полковник что-то интенсивно строчит в своем блокноте. Зато мои слова вызывают негромкий одобрительный гул среди сидящих, видимо, не только у нас такие проблемы. Но пора закругляться, и так уже лишнего наговорил.
— Вот я и прошу командование корпуса оказать помощь в исправлении этих недостатков. Спасибо за внимание, товарищи.
Как только я плюхаюсь обратно на свое место, тут же получаю одобрительный тычок от незнакомого артиллериста, сидящего справа от меня.
— Молодец, правильно сказал, теперь, может, хоть немного почешутся. Видел, как замполит в своей книжке черкал? Как из пулемета строчил.
— Это он новый начальник политодела?
— А ты не знал?
— Да откуда? Мы из своего угла, считай не вылазим.
Замечаю у соседа на левом рукаве ромбовидную черную нашивку с красной окантовкой и перекрещенными пушечными стволами.
— А ты — противотанкист? «Прощай Родина»?
— Противотанкист, — подтверждает сосед. — Только зря ты так, «прощай Родина», «длинный ствол — короткая жизнь», чего только про нас не придумали! А мы себя смертниками не считаем. Нет, текучесть кадров у нас, конечно, большая, но это только во время боев. А так, ведь танковые атаки не каждый день бывают — перерывы между боями месяц-два, а то и больше, неделями на передовой не сидим. Поэтому в стрелковой роте потери, в среднем, как бы, не больше будут.
Ну вот, обидел человека. Не хотел, но все равно обидел. Собрание вскоре закончилось, и нас отвезли обратно. Какие действия совершил начальник политотдела, я так и не узнал, но кормить стали лучше буквально со следующего дня.
В конце мая корпусу вручили гвардейское знамя. На вручение прилетел какой-то важный генерал из Москвы, три дня драили технику и приводили в порядок форму — вдруг и к нам заглянет. Не заглянул. Ну и ладно. Полк тоже получил гвардейское знамя. Как ни готовились, а строй получился довольно разношерстным — кто-то уже получил новую форму, кто-то пришил погоны к гимнастерке старого образца, споров петлицы. Офицеры — кто в пилотках, а кто в довоенных фуражках, новых фуражек еще в глаза никто не видел.
Ровно в двенадцать часов прозвучала команда:
— Под Знамя, смирно!
Строй замер. Вынесли знамя и зачитали приказ о преобразовании полка в гвардейский. Во время зачитывания, легкий ветерок подхватил тяжелое алое полотнище, знамя развернулось. В левом углу красная звезда с серпом и молотом, правее надпись «Смерть немецким захватчикам», а внизу новый гвардейский номер полка. Командир полка преклонил колено и поцеловал край знамени, короткая команда и на колено опускается весь полк, звучат слова гвардейской клятвы.
— Получая это гвардейское Знамя, поклянемся, товарищи…
— Клянемся! — разносится по поляне ответ полка.
Даже меня — старого циника, что называется, пробрало. Помнится на присяге, которую я приносил, как гражданин уже не существующей там, и еще существующей здесь страны, волновался меньше. А тут засвербило где-то в переносице и вместе со всеми я повторяю.
— Клянемся! Клянемся! Клянемся!
Потом было прохождение полка торжественным маршем и построения в батареях с вручением правительственных наград. Наград было много. Все «старики» получили медали «За оборону Сталинграда», хотя в самой-то обороне они и не участвовали, а боевые действия начали только 19 ноября. Сладкова наградили орденом Красной Звезды за достоверно сбитый взводом «юнкерс». К моему удивлению, таким же орденом наградили Ложкина, одновременно присвоив ему младшего сержанта. Мне объявили благодарность за отличную подготовку расчета за столь короткий срок. Не то, чтобы завидно, я вообще по натуре не завистлив, но все же, все же, все же, все же… Даже гвардейские значки новичкам не дали — сказали, что сначала надо подтвердить звание гвардейца в бою.
Затем был праздничный обед с наваристым борщом и макаронами по-флотски. И концерт! Настоящий концерт с приезжими артистами! У двух «шевроле» откинули один боковой и задние борта, подогнали вплотную задом друг к другу на ровной площадке — вот и вся сцена. В качестве занавеса использовали обычные армейские плащ-палатки на шестах. По поляне расставили пустые укупорочные ящики из-под снарядов и растащили бревна, оставшиеся после строительства землянок. Зрители собирались заранее, стараясь занять места получше.
Тут нам не повезло — все приличные места оказались уже заняты. Снарядные ящики первого ряда никто не занимал, они предназначались для полкового начальства. Пришлось пристраиваться справа от импровизированной сцены и располагаться прямо на земле. Слева от меня пристроился командир второго орудия сержант Помогайло, еще дальше разместились наши расчеты. Ложкин, уже со второй лычкой на погонах, как всегда, устроился подальше от меня.
— Лейтенант идет, — замечает кто-то из наших взводных дедов. — С барышней.
Взвод дружно крутит головами в поисках невиданного раньше зрелища. Я тоже нахожу взглядом. Сладков в новенькой форме с погонами, слева на груди поблескивает рубиновыми лучами свежеполученный орден и серебрится медаль. Рядом, действительно, барышня — связистка из штаба полка. Идут рядом, даже за руки не держатся, но любому сразу понятно, что вместе.
— Давайте к нам, товарищ лейтенант, — приподнимается со своего места Помогайло.
Лейтенант как-то неопределенно машет рукой и проходит со своей пассией дальше. Понятно, сейчас ему хочется побыть «наедине» со своей девушкой, если так можно сказать про почти весь полк, собравшийся на этом поле в ожидании приезда артистов.
Наконец, появились офицеры с рельсами на погонах — комполка, замполит, начальник штаба, и их замы, значит, ждать осталось недолго. Примета не подвела, не прошло и пяти минут, как подвывая изношенным мотором и нещадно дымя выхлопом, приполз раздолбанный автобус. Судя по разлапистым крыльям и решетке радиатора, довоенное изделие завода имени Сталина. Первыми из дверей автобуса выпорхнули две девушки. Первая чуть постарше, лет двадцати пяти, вторая около двадцати. Симпатичные. В красивых, видимо, концертных платьях. Девушки были моментально окружены местными ухажерами и потерялись из виду в этой толпе. Но вот группа двинулась к грузовикам и из автобуса вылезли двое мужчин. Один высокий шатен в светло-сером костюме, второй ниже среднего роста брюнет, похоже, кавказец. Следом за ними осторожно вылез еще один мужчина, лет сорока, с футляром аккордеона на плече — аккомпаниатор.
Артисты исчезли за плащ-палатками, замполит разогнал по местам добровольных помощников и через несколько минут концерт начался. Аккордеонист играл, обе девушки и высокий шатен пели, чернявый кавказец оказался чтецом-декламатором. Музыкальный репертуар был мне хорошо знаком: «Синий платочек», «Давай закурим», «Жди меня», «Катюша», «Землянка» и, конечно, «Три танкиста». В перерывах между песнями чтец читал стихи Симонова, Суркова, Твардовского. Вел концерт наш полковой комсорг.
Не могу сказать, что люблю стихи, скорее, наоборот. Песни слушал с удовольствием, а еще на певиц глазел. Хороши, а в своих, подчеркивающих фигуру, платьях, они казались мне, да и не мне одному, существами уж если не с другой планеты, то из другого времени точно. Но вот, в очередной комсорг объявил чтеца с армянской фамилией. Провожая взглядом уходящих со сцены певиц, я прохлопал начало его выступления. И вдруг.
…прожорливых отвергни И не давай им сладостей своих! Насильников, осмелившихся дерзко Тебя, родная почва, попирать, Встречай везде ты жгучею крапивой.Было в этих стихах что-то знакомое, но автора я никак не мог узнать. Не выдержав, пихнул локтем Помогайло.
— Чьи стихи?
— Якись Шекспир, — ответил потомок запорожских казаков.
Точно Шекспир! Но откуда эти строки? Я не великий знаток творчества Шекспира, но некоторые его вещи слышал, в переводе, конечно. А чтец между тем продолжал.
Когда ж они нагнутся, чтоб сорвать С груди твоей цветок, то умоляю, Спрячь под цветком ты лютую змею, И пусть она врагов нам ненавистных Уничтожает смертоносным ядом!Строки хорошо ложились на всеобщее настроение, а голос продолжал нестись над притихшими людьми.
Да, земляки, деремся молодцами, Но не окончен бой, И держатся еще враги на поле…Я аплодировал вместе со всеми, не жалея ладоней. Декламатор долго раскланивался, потом комсорг объявил об окончании концерта. Автобус с артистами уехал, праздник закончился, а нас ждали сначала тыловые будни, а потом… Но думать об этом не хотелось, казалось, что до этого еще далеко. Казалось, что у меня еще есть время.
Из резерва ставки корпус был передан в состав Степного фронта. Пришлось покинуть насиженное место под Миллерово и в очередной раз разрушать налаженный солдатский быт. При подготовке к маршу я увидел, как наши водители заправляют машины из двухсотлитровых бочек. Подгоняют полуторку со стоящими в кузове металлическими бочками. Откроют бочку, дольют туда какую-то дурно пахнущую жидкость, размешают. Затем опускают в бочку шланг, подсосут и другой конец шланга в бак «шевроле». Вообще-то положено перекачивать топливо ручным насосом, но где его взять? А атмосферное давление всегда под рукой.
Заинтересовала меня жидкость, которую водители в бензин добавляли.
— Присадка для повышения октанового числа, — важно ответили мне, — тоже из Америки присылают.
Действительно, октановое число советского бензина не превышало шестидесяти шести. Американский же мотор имеет повышенную степень сжатия и требует октанового числа не ниже семидесяти, а еще лучше семьдесят два. Вот и повышают его дополнительными присадками.
— А раньше чего не лили?
— Раньше с армейского склада специальный бензин получали — этилированный, а в этот раз нам обычный дали вместе с присадкой и сказали сколько лить.
— И что это за гадость? — интересуюсь. — Уж больно вонь от нее противная.
— А хрен ее знает, — отвечают. — Что дали, то и льем. Иди, не мешай. Видишь — заняты.
Я перестал приставать с вопросами к нашей шоферне и пошел по своим делам, как до меня дошло — да это же тетраэтилсвинец! Да, да, тот самый тетраэтилсвинец, который у нас лет десять, как окончательно запретили, так как любой катализатор свинцовая эта гадость за считаные часы приканчивала. Я про него уже и забывать стал. Стоп! Это же яд сильнейший, а они его в рот тащат! При подсосе, бывало, часть бензина попадала шоферу в рот, и он потом долго отплевывался. Подумав, я вернулся обратно — предупредить решил.
— Слышь, мужики, вы бы с этим бензином этилированным поосторожнее. Присадка эта очень ядовитая, отравиться запросто можно.
Моя забота об их здоровье только развеселила этих рыцарей «кривого стартера».
— Я уже двенадцать лет за баранкой, и еще ни разу не слышал, чтобы от этого кто-то помер, — лихо отбрил меня, под дружный смех остальных, самый уважаемый водила.
Похоже, мой авторитет среди этой братии, слегка приподнявшийся после перегона «шевроле» от станции, стремительно покатился к нулевой отметке. Вон, даже Копытов, за рулем без году неделя, в передачах едва разобраться успел, право и лево до сих пор путает, деревня, а туда же — ржет вместе со всеми. Обидно. Ну я и врезал им ниже пояса.
— Вот придете после войны домой, на жен своих залезете и…
Тут я взял паузу.
— Что «и»? — не выдержал самый молодой — Копытов.
— И все. Вот тогда и вспомните мои слова, и то, что не хрен всякую отраву в рот тащить, а химию эту лучше в противогазе разливать и перчатками резиновыми пользоваться.
Старший водитель громче всех вопил, что по мужской части у него все в порядке, и детей у него трое, и жена довольна была. И не только жена. Но я уже не слушал, гордо удаляясь к своему расчету. Еще один случай прищемить нос местным «шумахерам» выпал на следующий день. Если наше орудие возил новый «шевроле», то второе орудие взвода — ветеран, прошедший с батареей все перипетии прошедшей зимы. Естественно, аккумулятор на нем сдох. Плотность упала, заряд не держит. После некоторых мытарств аккумулятор для него добыли, наш, советский. Старый, еще американский, аккумулятор сняли, а дальше стоп. Дело в том, что на наших машинах плюс батареи шел на массу, а минус в цепь. У американских же все было наоборот: минус на массу, плюс в цепь. Водилы собрали консилиум. Я тоже не выдержал, присоединился, и выслушал мнения собравшихся. Мне эта проблема показалась надуманной.
— Да какая разница, чей аккумулятор? Направление тока для внешней цепи важно. Ставьте так, как у американцев стояло.
За свое столь категоричное высказывание я был с позором изгнан, хоть и был в своем мнении не одинок. Через пару часов Копытов вернулся в расположение расчета.
— Поставили?
— Поставили.
— И что?
— Да-а. Ничего.
— Стартер спалили или аккумулятор?
— Аккумулятор.
Раздолбаи. Однако к новому месту дислокации полк прибыл быстро и в полном составе. Без мелких происшествий, вроде этого, естественно, не обошлось, но в целом, марш прошел на удивление гладко. За пару месяцев водители опыта набрались, дороги подсохли, да и организация марша была на гораздо более высоком уровне.
Степной фронт — это еще не настоящий фронт, но уже фронтовой тыл. Над нами начали появляться немецкие самолеты-разведчики. И не только разведчики. У нового командира корпуса выявилась «самолетобоязнь». Судя по рассказам бойцов, принимавших участие в февральско-мартовском наступлении, асы Геринга тогда здорово порезвились над боевыми порядками и тылами корпуса и во время наступления, и во время отхода. Фрицы тогда летали с бетонированных аэродромов Запорожья и Днепропетровска, а наша авиация осталась далеко в тылу на раскисших весной грунтовых полосах. Да и зенитная артиллерия сидела на голодном пайке. Память о прежних боях выразилась в приказе: одну из батарей выделять для прикрытия штаба корпуса.
Жизнедеятельность штаба корпуса мне пришлось наблюдать впервые. Штаб это целый поселок: землянки, землянки, укрытия для техники, окопы, маскировочные сети, огневые позиции дежурной зенитной батареи. И население в сотни человек. Штабные, вспомогательные, тыловые и приданные подразделения: батальон связи, саперный и разведывательный батальоны, автотранспортная рота, две ремонтных мастерских, полевой хлебозавод, почтовая станция и даже авиазвено связи. Тут же всевозможные ординарцы, порученцы, канцелярская и хозяйственная сошка. И все это постоянно живет, движется, суетится. Поначалу за всем этим даже интересно было наблюдать, потом — надоело.
— Ты, глянь, глянь какая.
Тимофеев незаметно, как ему кажется, указывается первому номеру на проходящую мимо связистку. Я осматриваю небо — ни самолета, ни облачка. Редкое по нынешним временам явление. Войск в округе много, буквально из-под каждого куста ствол торчит. Если не гаубичный, то пушечный или танковый. Или, как наш — зенитный. Немцы пытаются с воздуха нащупать все это хозяйство и, если обнаруживают, то бомбят. Точнее, пытаются. Сейчас не сорок первый, и не сорок второй, и даже не начало сорок третьего — в воздухе идут ожесточеннейшие бои. Наших больше, фрицы — опытнее, но времена, когда их самолеты безнаказанно гонялись за каждой полуторкой безвозвратно прошли. Иногда, когда появляется возможность, стреляем и мы.
Перевожу взгляд на уже удаляющуюся связистку — так себе, ничего особенного, по крайней мере, со спины, может, с лица — королева. Нет, лучше принцесса. О, лейтенант идет.
— Отставить связистку, за воздухом следим.
Расчет тоже обнаружил взводного и дружно задрал головы, демонстрируя начальству бдительность и служебное рвение.
— Как тут у вас? — интересуется подошедший Сладков.
— Как у всех — тишина.
Сегодня особенно ответственный день — из Москвы прилетело большое начальство и сейчас они, вместе с начальством корпусным, уехали наблюдать за показательными учениями танковой и мотострелковой бригады.
— Когда вернутся? — я киваю в сторону штабных землянок.
— Да кто его знает?
Понятно, значит, меняться будем затемно, когда начальство уже уедет. Пока оно здесь, ни о какой смене речи идти не может. Надеюсь, что хоть кухню из полка прислать догадаются. Скорее бы вернуться в состав действующей армии.
— Товарищ лейтенант, не знаете, надолго мы здесь?
— Похоже, нет. Скоро нас ближе к фронту передвинут.
Я тоже так думаю. Поначалу штабные довольно резво на новом месте обустраивались, но потом интерес к этому делу резко пропал, значит, надолго здесь задерживаться не собираются. Сдадим сегодня проверку, и вперед.
Так и оказалось. В конце первой декады июня за шесть часов ночного марша наш полк вместе со всем корпусом оказался на сто двадцать километров севернее Курска. Насколько я представлял начертание линии фронта, место новой дислокации не предполагало наше участие в будущей битве. Теоретически, конечно, в течение одной ночи корпус мог бы совершить обратный марш. Но зачем тогда было срывать его с места? Похоже, сил у Красной Армии достаточно не только для отражения контрнаступления под Курском, но и для наступления на других направлениях. Вполне логично после того, как фрицы увязнут в нашей обороне и потеряют значительную часть своих танков, нанести удары по флангам. Наш корпус, похоже, нацеливают на Орел.
Уже на следующее утро все знали, что корпус передали в состав Брянского фронта. Брянский фронт, в отличие от Степного, действующий, а не резервный. То есть отныне мы в составе действующей армии. Что это значит? Правильно, прощай третья тыловая норма. В котле появился приварок. Это радовало, а вот необходимость заново обустраиваться на новом месте радости не доставляла. Опять копаем, копаем, копаем… Все глубже и глубже зарываясь в землю.
На новом месте, в первую же ночь довелось нам наблюдать странное явление. Около двух часов ночи, в стороне фронта вдруг возникли желтоватые сполохи, а через некоторое время донеслось странное уханье. Продолжалось все это недолго, меньше минуты. Затем все стихло, а через несколько минут загремела артиллерия. Похоже, сначала немецкая, потом — наша. Еще минут через двадцать все стихло. А под утро опять повторилось, но уже в другом месте — дальше от нашей позиции. Следующая ночь прошла по тому же сценарию. На вопрос «Что это было?», командиры наши ответить толком ничего не смогли. И только после третьей ночи странное природное явление получило объяснение.
— Работают кочующие установки гвардейских минометов, — разъяснил всем комбат.
— Это «катюши» что ли? — поинтересовался кто-то из присутствующих.
— Они самые, — подтвердил Гогелашвили. — Психологическое воздействие на противника оказывают.
Теперь все понятно: одиночная установка подъезжает к линии фронта, дает залп и тут же сматывается. Обиженные фрицы открывают ответный артиллерийский огонь по месту, откуда велась стрельба. Наши отвечают… Я о таком применении «катюш» услышал впервые. Обычно, они стреляют по площадям и не меньше, чем дивизионом. А тут они просто фрицам спать мешают. Можно подумать, что нашим солдатам этот ночной концерт вместо колыбельной. Но приказ есть приказ, вот и палят каждую ночь.
5 июля началось под Курском, а у нас пока тишина. Восьмого числа корпус подняли по тревоге, думали, что перебросят на Курскую дугу, но после короткого ночного марша мы оказались в полосе обороны другой армии, где началась подготовка к наступлению на Орел. Передний край здесь проходит по реке Зуша. Немцы тут стоят больше года, и окопаться успели весьма основательно. Окопы полного профиля, ДЗОТы, позиции для противотанковой артиллерии и минометов, подготовленные для круговой обороны, колючая проволока в три, а где и в шесть колов, минные поля… За первой полосой обороны — вторая. За второй — эшелонированная в глубину система опорных пунктов с проволочными заграждениями, минными полями и противотанковыми орудиями.
Все началось одиннадцатого числа. После короткой артподготовки, несколько рот начали переправу через Зушу. Немцы без труда сорвали эту попытку, целью которой было выявление системы артиллерийского и минометного огня противника. Основное наступление началось на следующий день. К 43-му году Красная армия выработала свой рецепт преодоления столь сильной полевой обороны фрицев — двести с лишним артиллерийских и минометных стволов на километр фронта. При этом всё, что имело калибр меньше пятидесяти миллиметров в расчет просто не бралось. Если бы не эшелонирование артиллерийских позиций по глубине, то пушки стояли бы вплотную — колесо к колесу.
Канонада длилась ровно три часа и завершилась залпом «катюш». Их вой на какое-то время перекрыл грохот орудий, казалось, что после такого огня там никто и ничто не сможет уцелеть. Затем, под прикрытием артиллерийского огня, переправу начала пехота. Планировалось, что наш корпус введут в бой к вечеру первого дня, после прорыва второй полосы обороны, но дело застопорилось. Во-первых, фрицы оборонялись упорно, не везде их оборону удалось подавить полностью, местами они даже пытались контратаковать. Во-вторых, из понтонных мостов, планируемых для переправы корпуса на правый берег Зуши, удалось навести только два. Тех, кто должен был переправляться по отсутствующему мосту, перенаправили на два имеющихся. В-третьих, зарядили проливные дожди, дороги развезло, к вечеру вода в Зуше начала прибывать. Броды, предполагавшиеся для переправы, использовать стало невозможно. Движение на мостах застопорилось, все графики полетели к черту.
Около девяти вечера наша батарея, пристроившись в хвост колонне противотанкового дивизиона, переползла через колышущуюся под массой техники переправу и, преодолевая дорожную грязь и ночную тьму начала движение к рубежу развертывания корпуса. Танковые, мотострелковая бригады, противотанковый и наш, зенитный, полки ушли вперед, артиллерия и тылы застряли на левом берегу. Больше стояли, чем шли — к утру прошли километров шесть, может семь. С рассветом небо прояснилось, дождь стал реже.
А потом начался ад…
Глава 10
— Справа еще трое заходят!
Голос срывается на визг. Прошло всего минут пять, с той поры, как кто-то, первым заметил черные точки на сером фоне облаков и закричал «Воздух!!!», а кажется, что не меньше часа. Две девятки «лаптежников» подошли с запада, почти задевая низко висящую облачность, и начали валиться в пике. Батарея едва успела развернуться. Комбат только успел крикнуть.
— Огонь по пикировщикам!
Дальность и углы выставлять некогда, главное было открыть успеть открыть огонь.
— Готово! — кричит Бикбаев.
— Огонь!
Орудие заходится непрерывной очередью, затыкаясь только на время подачи следующей обоймы. Стрелять приходится на очень невыгодном курсовом угле, и дальность приличная — самолет находится в зоне действенного огня всего несколько секунд, а потом приходится переносить огонь на следующий. Я пытаюсь корректировать огонь по трассе, но в грохоте выстрелов и взрывов падающих бомб наводчики моих команд почти не слышат. Очередная трасса проходит перед летящей вниз «штукой».
— Выше! Выше бери!
Но «юнкерс» словно заколдованный проходит между трассами и, сбросив бомбу, начинает выравниваться. Больше всего достается противотанкистам. Хоть у них и 52-К, но в противотанковом варианте, да и вести огонь по воздушным целям они, похоже, не умеют. Во всяком случае, даже не пытаются. Танкам крупнокалиберные фугаски не очень страшны, разве что прямое попадание, а на нас фрицы внимания не обращают. Сейчас у них другие цели, поэтому потерь у нас пока нет. Низкая облачность прижимает самолеты к земле, подняться на привычные два-два с половиной километра и круто спикировать вниз они не могут, поэтому вынуждены бомбить с пологого пикирования, что несколько снижает точность.
Снаряды в обоймах первых выстрелов уже подходят к концу, да и ствол перегретый надо бы сменить, но справа заходит очередная тройка.
— Дальность двадцать!
Казакин меняет установку прицела, ствол поворачивается в направлении новой цели и приопускается вниз.
— Огонь!
Г-г-гах! Гильзоотвод выплевывает очередную пятерку гильз. Орудие на пару секунд замолкает и оживает только тогда, когда заряжающий вставляет в магазин новую обойму. Г-г-гах! Опять пауза. Г-г-гах! Последний «лаптежник» издевательски вильнув хвостом выходит из пике и набирает высоту.
— Отбой.
Лежащий вокруг дороги народ еще только начал поднимать головы, осознавая, что в этот раз все уже закончилось, пора вставать на ноги, помогать раненым, собирать убитых и убирать с дороги разбитую технику. В этот момент из облаков вываливается еще одна шестерка самолетов. Я уже открыл рот, но вовремя остановился, опознав своих.
— Спохватились, соколы, — ворчит Корбовкин. — Где только раньше были?
Я молчу. Прежние графики движения сорваны, система обнаружения, даже в качестве постов ВНОС, отсутствует, а реакция на вызов авиационного представителя требует времени. Яки рванулись на перехват «лаптежников», сходу завалили одного, остальные поспешили укрыться в облачности. Дымный хвост коснулся земли за пределами прямой видимости.
— Ложкин, Бикбаев, Тимофев тащите запасной ствол.
Пока они ходят за стволом, мы с Коробовкиным открываем люки люльки, потом он снимает лапки экстрактора, а я, отвинтив две гайки, снимаю стопор ствола. После этого, поворачиваю ствол на девяносто градусов, и заряжающий с подносчиком вынимают еще горячий ствол из горловины люльки. Затем ставим на место сменный ствол и переводим пушку в походное положение.
Минут через сорок техника опять стягивается к дороге, и колонна начинает движение. Наша батарея только успела проехать, а точнее перемесить грязь на протяжении полукилометра, как опять.
— Воздух!!!
Звено «фоккеров» заходило на нашу колонну в пологом пикировании. Подскочив, я забарабанил кулаком по кабине.
— Сворачивай!
Пока съезжали с дороги, пока разворачивались… Первая пара обстреляла колонну и ушла безнаказанно, пара ДШК из зенпульроты, шедшие где-то впереди ничего не смогли сделать. Десантники попрятались за танками, которым двадцатимиллиметровые пушки «фоккеров» не страшны. Вторая пара чуть отстала, вот ее ведущий и получил по полной программе. Первый снаряд буквально отшибает консоль крыла и тут же еще один попадает в центроплан. Самолет моментально вспыхивает — от тридцатисемимиллиметрового осколочно-фугасного никакая авиационная броня не спасет, никакое протектирование баков не поможет.
— Го-ори-и-ит!!!
Я почему-то уверен, что второй снаряд, попавший во фрица — наш. Оранжево-черный огненный болид с грохотом врезается в землю и тут же исчезает во вспышке взрыва. Второй «фоккер», видимо, потрясенный внезапной гибелью ведущего, дает короткую очередь по колонне и, проскочив над дорогой, быстро набирает высоту. Вслед ему трещит несколько очередей, но это уже на пределе дальности. Этот «сто девяностый» чертовски быстр, куда там «лаптежнику». Взводный уже готов дать команду «Отбой», но тут немец вместо того, чтобы свалить вместе с первой парой, разворачивается и идет на второй заход.
— Осколочным! Скорость сто пятьдесят! Семь! Непрерывным. Огонь!
Второй заход немца встречают дружно, даже некоторые десантники палят из своих ручников и карабинов. Фриц не остается в долгу, отвечая из всех шести стволов. Но главную партию играем все-таки мы, зенитчики — взрыв снаряда под двигателем был виден четко. Потянув за собой жирный черный хвост дыма, «фока», используя набранную при пикировании скорость, постарался набрать высоту, преследуемый пунктирами пулеметных трасс и трассерами наших снарядов. Достигнув верхней точки, самолет на мгновение замер и от него отделился сначала один предмет, а когда «фоккер» уже начал валиться на крыло — второй. Буквально тут же над вторым раскрылся белый купол парашюта. Самолет, падая, намного опережает пилота и, ударившись о землю, взрывается.
— Е-есть!!! Ура-а-а!!!
Глоток никто из расчета не жалел. Еще десять секунд назад грозный и смертельно опасный враг был повержен. Над колонной в двух местах поднимается черный дым, буквально в сотне метров от нас горит полуторка-санитарка, именно она стала последней целью сбитого фрица. Причем это уже второй за последние две минуты. Между тем, ветер начал сносить летчика обратно к дороге. Поднявшиеся с земли десантники, задрав головы, как завороженные следили за этим полетом. Но вот какой-то солдатик вскинул к плечу винтовку, с затвором, однако, справился не сразу.
— Не стрелять! Не стрелять!
Какой-то офицер кинулся в гущу десантников, хватаясь за стволы винтовок.
— Не стрелять! Живым взять!
Какое там, выстрелы сыпанули горохом, чуть позже к ним присоединился «дегтярь», потом второй. Даже было видно, как вздрагивало тело летчика от попадающих в него пуль. Люди мстили за погибших в «санитарке» и за свой, только что испытанный страх. Почти неуязвимый враг вдруг оказался на расстоянии прицельной дальности их оружия. Парашюту тоже досталось, и последние полсотни метров тело пролетело со все возрастающей скоростью падения. Выстрелы смолкли, и труп шмякнулся на землю в полной тишине. Только трещала горевшая «санитарка», около нее суетились люди, но спасли кого или нет было непонятно.
— Пошли, посмотрим, — предложил я, указывая в сторону гаснущего парашюта.
— Зачем? — удивился Ложкин. — После такой стрельбы от него там немного осталось.
— Документы заберем, — поддержал меня Сладков. — Для подтверждения сбитого. Первый с концами сгорел, еще надо будет на него у танкистов подтверждение взять.
Сладков двинулся первым, я за ним, следом увязался и Ложкин. К моему удивлению, труп оказался хоть и основательно продырявленным, но, в общем, целым, а голова в сеточке и ушастых наушниках совсем не пострадала. При жизни летчик, видимо, походил на поросенка с выставки достижений какого-нибудь швабского свинского хозяйства, был такой же молодой, розовый, гладкий и упитанный. Смерть обескровила и исказила его лицо.
— Ишь, боров какой, — высказал свои впечатления Ложкин. — И чего на второй заход пошел? Ведь видел же, чем все это для первого закончилось.
— За ведущего мстил, — предположил я.
— Или с перепугу не понимал куда лезет, — выдвинул свою версию лейтенант. — Совсем пацан еще.
— По «санитарке» этот пацан бил весьма прицельно и настойчиво.
— Черт, пистолет покорежили!
Своего пистолета у взводного до сих пор не было, и эта попытка обзавестись личным оружием также не удалась. Лейтенант расстегнул комбинезон и, покопавшись, вытащил сильно запачканный кровью зольдбух летчика. Раскрыл.
— Лейтенант фон… Дальше все кровью все заляпано. Барон, наверное. Или граф.
— Ага, белая кровь, голубая кость.
— Не любишь ты, сержант, аристократию, — заметил Сладков.
— Аристократов не люблю, — поправил я. — Особенно немецких. Особенно из люфтваффе. А вот с какой-нибудь немецкой аристократкой, может, и доведется полюбиться, если доживу. А что? Знаешь, лейтенант, немецкие аристократки — самые страстные женщины.
— А ты откуда знаешь?
— Знающие люди говорили. Вот дойдешь до первого немецкого замка, дверь распахни, но сразу не входи, сначала из ППШ очередь в потолок дай, а уж затем и сам появляйся. Вот тогда и увидишь, как немецкая баронесса или графиня русского мужика хочет. Так хочет, что аж вся трясется.
— Дурацкие у тебя шутки, сержант, — насупился взводный.
Старый анекдот попал на неблагоприятную почву — Сладков продолжает гулять со своей связисткой. Держась за ручку. Сомневаюсь, что они хоть раз поцеловались.
— Ладно, пошли, — командует лейтенант, — скоро движение начнется. Чего на этого подсвинка освежеванного любоваться?
Сладков с Ложкиным пошли обратно к дороге, я чуть задержался. Когда они уже не могли меня слышать, я пробормотал себе под нос.
— Может, и шутка. А, может, объективная реальность? Поди, знай.
Может, еще и узнаю. Чем черт не шутит? Хотя что-то мне подсказывает, что до Германии я так и не доберусь.
Пушка прицеплена к грузовику, расчет забирается в кузов. Танк сдвигает еще дымящуюся, несмотря на противно моросящий мелкий дождь, полуторку в кювет. Дорога свободна. Надсадно воя двигателем, «шевроле» выползает на дорогу. Остаются позади сложенные на обочине тела тех, кому не повезло, позже ими займется похоронная команда. «Тридцатьчетверка», видимо уклоняясь от одной бомбы, носом съехала свежую в воронку от другой, и сейчас ее пытаются вытащить другим танком. Дело не ладится, и мат танкистов перекрывает звук танковых дизелей, работающих на холостом ходу.
Пауза между налетами длилась столько, сколько потребовалось «штукам» чтобы вернуться на аэродром, дозаправится, подвесить бомбы и долететь до нас.
— Воздух!!!
Пушка плюхается на грунт, успели. «Юнкерсы» опять подходят на высоте около километра и опять двумя девятками. Я начинаю догадываться, что это новая тактика, а не погодные условия. Раньше «штуки» бомбили точечные объекты: мосты, переправы, огневые позиции батарей и опорные пункты пехоты. Здесь нужна высокая точность, поэтому они пикировали с высоты два с половиной-три километра под углом семьдесят-девяносто градусов, бомбы сбрасывали на высоте семьсот-тысяча метров. Сейчас их перенацелили на танковые колонны. Танк — маленькая и очень трудная цель для пикировщика. «Лаптежники» подходят к цели на высоте семьсот-тысяча двести метров, так их труднее обнаружить и истребителям, и наземным наблюдателям. Пикируют под углом двадцать-пятьдесят градусов, бомбы сбрасывают с высоты сто-триста метров.
— Осколочным! Скорость сто двадцать! Двадцать пять! Длинными! Огонь!
Однако есть и отличия от прошлого раза — первое звено «штук» явно выбрало своей целью нашу батарею. Как ни крути, а летчик, сидящий в кабине самолета, не оператор беспилотного аппарата. Он рискует не только машиной, но и своей жизнью. Попав под плотный огонь целой батареи, передний «лаптежник» явно преждевременно и со слишком большой высоты сбрасывает свой груз и лезет вверх. Его ведомые повторяют ошибку командира, зато все уходят без потерь. Гогелашвили приказывает перенести огонь на следующее звено, но я невольно продолжаю отслеживать полет трех бомб крупного калибра. Проведя несколько секунд в свободном полете, бомбы вдруг распадаются и в воздухе повисают три серых облака. Эти облака стремительно летят к земле, и земля вдруг вспухает множеством мелких взрывов.
Часть этих взрывов пришлась совсем близко к позиции первого взвода, но оба его орудия продолжают вести огонь.
— Осколочным! Скорость сто двадцать пять! Двадцать! Длинными! Огонь!
И мы переносим огонь на следующее звено. Эти несут свой обычный груз: двухсотпятидесятикилограммовая фугаска и четыре бомбы по пятьдесят.
— Непрерывным! Огонь!
Орудия захлебываются злобный лаем, но очередной фриц таки опять уходит невредимым. И ведь много-то «лаптежнику» не надо — всего один снаряд, и все. «Юнкерс-87» машина, конечно, крепкая, но, как правило, попадания одного тридцатисемимиллиметрового снаряда ей вполне хватает для того, чтобы изобразить погребальный костер для своего экипажа. С первым «фоккером» нам сильно повезло, второй нарвался на наши снаряды вполне закономерно. А в эти чертовы «юнкерсы» никак не попасть. Но хоть отбомбиться прицельно мы им не дали. Почти не дали. На краю ржаного поля, рядом со здоровенной воронкой, лежит на боку наш легкий танк. Еще дальше виден Т-34, полностью уничтоженный прямым попаданием. Да и боекомплект, похоже, сдетонировал. Вокруг сплошные поля, танкам укрыться негде. Да и некогда укрываться, поставленную задачу надо выполнять. Если так дальше пойдет…
— Товарищ лейтенант, вы не знаете, что это немцы по нам бросали?
— А, это… Эсдэ один в пятисоткилограммовых авиационных контейнерах, — отвечает Сладков. — Раньше никогда с ними не сталкивался?
— Нет, в первый раз.
— Эти бомбы очень похожи на немецкие пятидесятимиллиметровые мины, — поясняет лейтенант. — Каждая весит один килограмм, в контейнер их входит около четырехсот. После сбрасывания контейнер раскрывается, ну а дальше ты видел.
— Да лучше бы не видел! Как там, кстати, первый взвод?
Первый взвод отделался на удивление легко: двое легкораненых, один из них остался в строю, пробитый скат и посеченный мелкими осколками кузов «шевроле». Хотя, если бы тот фриц контейнер сбросил чуть позже и курс взял чуть левее… Да, видать, дрогнула рука у фрица. Не железные они все-таки, не железные. Тоже жить хотят.
А потом был еще один налет. И еще. Наших же соколов с неба как ветром сдуло. Только башни-гайки «тридцатьчетверок», американские грузовики, да погоны на плечах напоминали, что на дворе июль сорок третьего, а не сорок первого года. Я понимаю, что наше направление не единственное и у авиации хватает других задач, но попробуй объясни это пехотинцу, в десятый раз за день роющему носом дрожащую от взрывов бомб землю. Или зенитчику, лихорадочно меняющему раскаленный ствол орудия в паузе между заходами двух звеньев «лаптежников».
К двенадцати часам, передовые части корпуса выбили немцев из какой-то деревеньки и собрались двинуться дальше, но тут немцы подтянули к месту прорыва танковую дивизию и сами перешли в контрнаступление. Как говорил один известный персонаж: «Дивизия — во! Правда, не цельная». Но от этого немцы дерутся не менее яростно. Вместо решительного прорыва и стремительного продвижения вглубь вражеской обороны с выходом на оперативный простор, завязался встречный бой с большими потерями, как для нас, так и для фрицев. И еще одно отличие. В сорок первом от таких налетов наши части боеспособность потеряли бы почти полностью, по крайней мере, наступать под такими интенсивными ударами авиации уж точно не смогли, а сегодня, хоть и медленно, но идем, идем вперед.
В этих боях немецкая штурмовая авиация работала прямо по полю боя, в глазах уже рябило от этих «юнкерсов» и «фоккеров». Отбомбившись или отстрелявшись, последний немецкий самолет выпускал, перед уходом, красную ракету. По этому сигналу тут же начинали атаку танки и пехота. Пару раз я уже решал, что пора вскрывать укупорки с бронебойными, но до стрельбы по наземным целям так и не дошло, зато в воздухе этого добра хватало. Ближе к вечеру пожаловали очередные незваные гости.
— С тыла заходят!
Обычно немцы пикировали со своей стороны фронта и, освободившись от бомбового груза, шли на второй заход, пуская в ход пушки и пулеметы. Еще дважды они выбирали целью нашу батарею, но нам пока везло — все машины были на ходу, все орудия продолжали вести огонь. Обернувшись на крик, я увидел черные точки, которые быстро росли в размерах, постепенно превращаясь в хорошо знакомые силуэты. Установки прицела менять некогда.
— По пикировщикам! Длинными!
Орудие развернулось на сто восемьдесят градусов, ствол дернулся чуть выше.
— Огонь!
Г-г-г-гах! Г-г-г-гах! Г-г-г-гах! Зачастили зенитки. Трассеры, казалось как-то неторопливо, потянулись к «юнкерсам». Самолеты прошли буквально в трех сотнях метров от нашей позиции и я с удивлением увидел, что бомб на внешней подвеске у них нет. Зато из двух контейнеров, подвешенных под крыльями рядом со стойками шасси, торчали длинные стволы приличного, должно быть калибра. Перейдя в планирование под небольшим углом, «штуки» начали обстреливать танки, норовя зайти с кормы и всадить снаряд сверху в решетку моторного отделения. Танки маневрировали, уклоняясь, и с первого захода фрицы результата не добились.
На втором заходе один из наших трассеров коснулся корня крыла самолета, сверкнула яркая вспышка и «юнкерс», перевернувшись через крыло, с грохотом воткнулся в землю. Рванул авиационный бензин, черно-оранжевый шар взметнулся в небо, постепенно переходя в столб черного дыма. Однако и у нас один из танков застыл неподвижно. Один — один.
Этот налет был последним, поле боя укутывала спасительная темнота.
— Отбой!
Я опустился на землю там, где стоял, привалившись мокрой от пота спиной к колесу орудия. Шевелиться не хотелось, совсем. Как и думать. Наступило полное опустошение. Остальные последовали моему примеру, только наводчики остались сидеть в своих креслах.
— Повоевали, — высказался кто-то из наших «дедов».
— А что? — откликнулся Ложкин. — Три достоверно сбитых за один день. Комбат может себе еще одну дырку крутить.
— И себе не забудь. Или фрицев попроси, они тебе точно дырку провертят, — я не удержался и подколол младшего сержанта.
Подошел взводный. Тоже на ногах еле держится. Вот вроде и обоймы со снарядами мы не таскали, и даже маховики наводки не крутили, а вымотались, будто вагоны с цементом без перекуров разгружали. Видимо, сказывается нервное напряжение.
— Как дела? Сиди, сиди, — махнул рукой Сладков на мою попытку встать.
— Все в порядке, товарищ лейтенант. Потерь нет, орудие исправно. Сейчас отдохнем и приведем его в порядок.
При этих словах по расчету прокатилось нездоровое бурчание. Казалось, что никакая сила не сможет оторвать от земли и заставить ворочать банником. Но это только казалось, минут через десять придут в норму и мы все сделаем.
— Только снарядов осталось всего полтора ящика.
— Снаряды скоро должны привезти.
Значит, кроме чистки еще и разгрузка тяжеленных укупорочных ящиков предстоит. Я мысленно застонал.
— Товарищ лейтенант, а кухня когда будет? — интересуется Тимофеев.
— Не знаю, — пожимает плечами Сладков. — Тылы отстали, сами видели что творилось. Ладно, отдыхайте, я — к комбату.
Он ушел, а мы остались изгонять из себя, накопившуюся за трудный день усталость. День закончился, но впереди был еще вечер, потом ночь. А потом будет еще один день, и еще… Если будет…
Короткая июльская ночь пролетела незаметно. Кажется, только закрыл глаза, а тебя уже пихают в бок.
— Подъем.
Когда с трудом удается разлепить глаза, небо на востоке едва начинает светлеть. Плеснув на глаза воды и размазав ее по своей небритой морде, начинаю понемногу соображать, чего от меня хотят. Хотели, в принципе, то же самое, что и вчера. Насильно запихнув в живот завтрак и, когда уже полностью рассвело, грузимся в машины. Пропускаем вперед танковую колонну — судя по номерам на башнях, в бой пошел второй эшелон — и пристраиваемся к ней в хвост. Впереди грохочет артподготовка, грохочет недолго, около получаса. В воздухе проплывает большая группа наших бомбардировщиков, самолетов тридцать, целый полк. А потом все повторяется: «юнкерсы», «фоккеры» и опять «мессеры», «фоккеры», «юнкерсы». В отличие от вчерашнего дня, наши колонны с воздуха прикрыты истребителями. Видимо, кому-то из авиационных командиров ночью накрутили хвост. Но наши летают группами по четыре-шесть самолетов, а немцев налетает по тридцать-сорок, поэтому толку от такого прикрытия немного. Да и от нас, если честно, тоже.
К полудню ситуация меняется, немцы в небе практически исчезают, а наших наоборот прибавляется. Над головой проплывают шестерки и девятки штурмовиков. Штурмуют передний край и ближний немецкий тыл. После их атаки гремит артиллерия и под прикрытием дымовой завесы наши танки врываются в небольшой населенный пункт. На улицах поселка вскипает ожесточенный бой, а мы получаем передышку.
— Если так дальше пойдет, за неделю стволы расстреляем.
Ложкин, Бикбаев и Коробовкин снимают горячий ствол, держа его руками в асбестовых рукавицах.
— Ты еще проживи эту неделю-то, — отвечает второму номеру установщик дальности.
Мы все невольно косимся в сторону КП, где лежит тело батарейного радиста. Во время последнего налета пара «фоккеров» прошлась из пушек по батарее. Радист упал на землю, и двадцатимиллиметровый снаряд под острым углом попал ему в спину. Рана страшная. До сих пор никак не могу привыкнуть к виду изуродованных и обгоревших трупов. Пока есть немного времени, надо будет похоронить, а то в любой момент может прийти приказ двигаться дальше.
Однако бой в населенном пункте продолжается до самого вечера. Но и наступление темноты не приносит передышки — наступление продолжается ночью. Продвинувшись еще на пару километров, танки и мотострелки завязывают бой за какой-то хутор. Вместе с ними перемещаемся и мы, но поскольку работы у нас не предвиделось, батарее разрешили отдыхать. Хлопнув по сто грамм, мы засыпаем мертвецким сном, еще один день прожит. Знал бы я, чем закончится следующий день! Но, увы, я, пусть и приблизительно, мог сказать, что будет со страной следующие семьдесят лет. А вот что будет со мной через двадцать четыре часа, мне не было дано знать.
Погода улучшилась, но для нас, зенитчиков, это означает, что работы только прибавится. На этот раз позиция нам досталась посреди ржаного поля. Тяжелые колосья образуют почти ровную золотистую поверхность с промятыми следами наших машин и черными язвами огневых позиций. Времени у нас было немного, закопаться успели неглубоко, но хоть что-то.
Над нами, высоко в небе проплывает девятка «пешек». Красиво идут. Еще выше видны точки истребителей прикрытия, однако их тип без оптики не разобрать. По этой девятке откуда-то из-за линии фронта открывают огонь немецкие «ахт-ахт». Черные пятна разрывов начинают пятнать небо вокруг самолетов, но они продолжают свой, кажется, неспешный полет, не обращая на них никакого внимания. Видимо, по дальности прицел был взят неверно. А вот вокруг нас посыпались осколки немецких снарядов. Никого не задело, но комбат дал команду надеть каски.
Коробовкин разминает в руках один из колосьев, осторожно сдувает с ладони шелуху, оставляя зерна.
— Поспел уже колос-то, убирать пора, а то скоро осыпаться начнет.
— Некому убирать, — отвечает ему Ложкин, — а сейчас фрицы налетят, бомб набросают, может и загореться еще.
— Не. Не загорится, — вклиниваюсь я, — дожди трое суток шли, влажное все.
Над позицией повисает тишина, все прислушиваются к гремящей на западе канонаде. Мы уже знаем, что это немцы пытаются отбить хутор, ночью занятый нашими. От нас до места боя всего пара километров, а сейчас, скорее, уже меньше, и мы можем различить отдельные нюансы боя. Вот грохочут разрывы тяжелых снарядов — немецкая артиллерия поддерживает наступление своих. А вот звонко захлопали танковые пушки, за хутором поднимаются черные столбы дыма. К танковым присоединяются еще более мощные, до боли знакомые, хлопки — это бьют 52-К, в дело вступили противотанкисты. Черных столбов становится больше.
Мимо нас, в обход хутора, вытягивается танковая колонна. «Тридцатьчетверки», в конце уже знакомые крокодилы-«черчилли».
— Что-то фрицы сегодня задерживаются, — глядя на проходящую колонну высказывается второй номер.
Словно в ответ на его слова с КП батареи доносится «К бою!».
— Накаркал! — окрысился я прежде, чем сам заорал, дублируя команду — К бою!
Уже заметив в воздухе растущие черные точки, по манере захода на цель понял — «фоккеры». И уже автоматически выдал.
— Осколочным! Скорость сто пятьдесят! Тридцать!
Точки начинают обрастать крыльями и хвостами.
— Длинными! Огонь!
Эта группа атакует наши танки на поле боя. Грохота много, толку мало — все фрицы убираются восвояси целыми. Расстояние в два километра великовато для стрельбы по скоростным «фоккерам». После этого налета наступает пауза. Фрицы, не выдержав нашего контрудара, откатываются.
Ближе к полудню в батарею прибывает капитан Руденко с приказом следовать дальше за наступающими танками. «Тягачи на батарею!», и наша колонна вытягивается на запад. На месте недавнего боя еще дымятся подбитые танки, наши и немецкие. Впереди показывается еще один населенный пункт, колонна догоняет марширующую впереди пехоту и тут в очередной раз «Воздух!»
Немцев много, десятка три, «юнкерсы» и «фоккеры». Впервые вижу такое смешение разных типов в одной группе, видимо с авиацией у немцев совсем туго, вот и бросают против нас все, что смогут собрать. Пехота, шедшая впереди, стремительно исчезает с дороги, стараясь укрыться в небольших балках, а мы с ходу разворачиваемся для открытия огня.
— Осколочным! Скорость сто двадцать! Тридцать! Длинными! Огонь!
Первый «юнкерс», ведущий, получает снаряд в брюхо и пылающим факелом рушится вниз еще до того, как успевает войти в пике. Остальных потеря ведущего не смущает, поодиночке и тройками они упорно идут вниз, навстречу нашим трассерам, сбрасывают бомбы. «Фоккеры» добавляют нам пулеметно-пушечным огнем.
— Выше! Выше!
Внезапно орудие замолкает.
— Ложкина ранили!
Наводчик сидит в кресле, навалившись на маховики наводки и пытаясь зажать рану в бедре. Шальная пуля с пикировщика или штурмовика, судя по кровотечению — рана серьезная.
— Санитар! Санитар, сюда быстро!
Вместе с Коробовкиным стаскиваю наводчика с кресла. Сую прицельному индивидуальный пакет.
— Перевяжи его!
А сам плюхаюсь в жесткое стальное кресло, под которым растеклась небольшая лужа крови. Выглядываю поверх визира, выискивая цель. Вижу как еще один «восемьдесят седьмой» рушится вниз явно не по своей воле. На подходе еще один.
— Давай по этому!
Первый номер кивает, сплюснутый фюзеляж, и изломанные крылья с лаптями обтекателей появляются в визире. Еще пара движений маховиками, есть цель. «Огонь!», командую самому себе, нажимая педаль огня. Пушка послушно заходится длинной очередью до окончания патронов в магазине. Мимо! Лязг вставляемой в магазин обоймы. Еще раз! Г-г-г-гах! Опять мимо! «Юнкерс» выходя из пике, выскакивает из поля зрения визира. Выискиваю следующего. Огонь! Мимо! Черт, выше надо брать! Выше! Сколько раз сам видел, как трасса, загибаясь, проходит под самолетом, а наводчику кажется, что трассеры летят в цель, так как вершина их полета проходит через силуэт. Стоило самому оказаться в кресле, как все из головы вылетело.
Когда в визире появляется следующая цель, беру прицел на одно деление выше.
— Огонь!
И буквально секунду спустя.
— Е-е-е-с-сть!
Вспышка взрыва в корне крыла, и «юнкерс» переворотом через это крыло выносит из визира. Этот мой, точно мой! Наш, точнее. Однако радоваться некогда. Г-г-г-гах! Г-г-г-гах! Гремит орудие. Ловлю в прицел очередной самолет. Черт! Почему молчат остальные? Есть цель, огонь. Г-г-гах! Короткая очередь и пушка затыкается. Удар по педали огня, но орудие продолжает молчать.
— Бикбаев! Бикбаев, перемать твою!
— Командир, снаряды кончились!
Я отрываю взгляд от черных точек в небе и поворачиваюсь к Бикбаеву.
— Как кончились? Совсем все?
— Совсем.
Один снаряд на линии досылания, конечно, остался, но, пока в магазин не будет вставлена следующая обойма, нельзя выпустить даже его. Взгляд скользит по заваленной гильзами огневой позиции, последние минуты просто некогда было их убирать, по раскрытым укупорочным ящикам. Что делать-то? Впервые орудие осталось полностью без боеприпасов.
— Может, у Помогайло что-то осталось? — подсказывает Бикбаев. — Они до последнего стреляли.
— Я сейчас.
Выскакиваю из окопа и рысью на соседнюю позицию. Уже отбежав на полсотни метров соображаю, что надо было взять Тимофеева с собой. Даже, если у Гришки что-то и осталось, пусть даже бронебойные, то мне одному целый ящик не утащить. Ну вот и огневая второго орудия.
— Грицко, снаряды есть?!
— Есть.
Сержант Помогайло указывает на казенник своего орудия. Из магазина торчат две обоймы, первая — явно неполная, всего снарядов семь-восемь.
— И все?
— Все, — подтверждает Помогайло.
— А дальше чем воевать будем?
— А бис его знает. Пусть комбат об этом думает.
Я уже хотел отправиться обратно, но тут с КП раздалось «Воздух!» — к нам приближалась очередная группа немецких самолетов. Пока еще они были россыпью точек, но судя по строю, это были пикировщики «штуки». Плохо, очень плохо, сейчас мы не то, что кого-то прикрыть, сами отбиться не можем.
Приближается такой нарастающий, тяжелый гул «лаптежников», идущих тройками. Не долетая до нас, они перестраиваются друг за другом и начинают пикировать. Во время пикирования, немецкие летчики практически не пользовались сиренами. Конечно, на находящихся под бомбежкой она оказывает серьезное психологическое воздействие, нагоняя страху. Но ведь летчик-то и сам не изолирован от ее воздействия. К тому же сидит он не в пример ближе к ней. «Юнкерсы» буквально гонялись за укрывшейся в неглубоких балках пехотой. Причем, хорошо было видно, как от них отрываются бомбы и на земле встают черные кусты взрывов.
Последний же фриц явно нацелился на нашу батарею. Видел, гад, что мы молчим и понял — здесь можно отбомбиться безнаказанно. Я уже хотел рвануть обратно, но Помогайло поймал меня за рукав.
— Стой! Куда? Все равно не успеешь.
И уже своим.
— Осколочным! Скорость сто двадцать! Пятнадцать! Огонь!
Все правильно, бить надо пока он не начал пикировать. Пушка коротко рявкнула и споткнулась. Струя трассеров прошла ниже и чуть впереди самолета. И тогда, пожалуй, впервые во время налета я услышал.
— Ложись!
Казалось, что бомбы летят прямо на меня. Ба-бах! Бах! Бах! Бах! Бах! И гул удаляющегося самолета. Тряхнуло хорошо, в ушах стоял какой-то шум и я не сразу оторвал голову от земли. Первый взгляд в сторону своей огневой — на месте, где стояло орудие только вывороченная, дымящаяся земля. Первое, что пришло в голову — надо было Тимофеева с собой взять. Пока эта мысль билась в голове, ноги сами несли меня к воронке. Полутонка рванула совсем рядом с орудием, расчет просто исчез без следа, а пушка превратилась в груду искореженного металла, из которой торчал ствол, буквально скрученный в штопор чудовищной фантазией взрыва. Ложкина санинструктор оттащил в сторону, но и им досталось: санинструктор погиб, наводчику оторвало обе ноги, но он был жив и в сознании, кричал и просил застрелить его.
Сколько я простоял так — не помню. Возле моих ног лежала подметка американского ботинка. Это Тимофеева, только у него были такие. А ведь я мог спасти его! Мог, стоило только догадаться взять его с собой. Около Ложкина суетились люди, пытались перевязать, но он постепенно затих. Окружавшие его поднялись и стянули головные уборы. Я тоже последовал их примеру, не стать уже младшему сержанту Ложкину командиром орудия.
Ко мне подбежал Руденко.
— Жив?! Гогелашвили и Сладков ранены, надо срочно доставить их в санбат!
Я механически кивнул.
— Да очнись ты! Бери свой «шевроле» и вези раненых в санбат! Первый, какой найдешь. Потом найдешь тылы полка, загрузишься снарядами и пулей обратно. Понял?!
— Так точно, товарищ капитан! Только, где тылы искать?
— А черт его знает! Связи нет, эфир помехами забит. Попробуй на старом месте. Если передислоцировались, то там спросишь или по следам найдешь. Все, выполняй!
— Есть.
Руденко протянул мне спасительную соломинку — новую цель на ближайшие часы. Грузно, загребая траву пропыленными сапогами, я побежал к машине.
— Андрюха, заводи! Раненых в санбат повезем!
Двигатель взвыл, едва я втиснулся в кабину.
— А как же мужики? А пушка?
— Нет больше никого. Прямое попадание.
Первая потеря друзей производит на молодого парня гнетущее впечатление. Машина уваливается влево, я перехватываю руль, направляя «шевроле» к импровизированному КП.
— Ты что, заснул?! На дорогу смотри, а то людей подавишь!
Машина останавливается у группы стоящих батарейцев. В кузов грузят раненых офицеров.
— Вот тебе накладные на снаряды, — Руденко сует мне пару сложенных пополам листков серой канцелярской бумаги, — остальное сам знаешь.
— Так точно! — накладные отправляются в нагрудный карман гимнастерки.
— Давай. Сам знаешь, какое у нас положение, постарайся обернуться быстрее.
— Есть.
Вскидываю правую ладонь к виску.
— Андрюха, у первого же регулировщика тормозни, я — в кузов!
У Сладкова рана не очень серьезная — осколок зацепил лучевую кость левой руки, перерезав проходящие по запястью вены. Со своей перебинтованной рукой он похож на неудавшегося самоубийцу. Его вовремя перевязали, он в сознании. Комбату досталось серьезнее — осколок бомбы вырвал часть бицепса правой руки, он потерял много крови и сейчас лежит в забытьи. Лицо серое, осунувшееся.
— Все будет нормально, товарищ лейтенант, скоро в медсанбат приедем.
Это я пытаюсь подбодрить взводного, а у самого на душе неспокойно — знать бы еще, где этот санбат располагается. Пяток километров машина пролетает на максимально возможной скорости. Трясет пустой грузовик изрядно, приходится придерживать Гогелашвили, чтобы его не швыряло по кузову. Наконец, «шевроле» сбрасывает скорость, сползает на обочину и замирает. Я высовываюсь из-под тента, есть регулировщик!
На кадрах кинохроники в качестве военных регулировщиков выступают молодые улыбчивые девицы с ППШ за спиной, лихо размахивающие флажками, да еще успевающими козырнуть проезжающим начальникам. В реальности это, чаще всего, усатые дядьки предпенсионного возраста. К одному такому усачу я сейчас и бросаюсь.
— Где ближайший медсанбат?
Глянув на мою перекошенную физиономию, дядька флажком указывает на дорогу, ведущую на северо-восток.
— Там. Километра два будет.
Действительно, проехав два километра, мы находим медсанбат одной из стрелковых дивизий, куда и сдаем обоих раненых. Сдаем уставшему мужику в перепачканном грязью и кровью, некогда белом халате. Комбата сразу уносят в операционную.
— До свидания, товарищ лейтенант, — я прощаюсь со Сладковым, — надеюсь, скоро увидимся.
— Я вернусь, обязательно вернусь, — обещает взводный.
Он остается, а я бегом возвращаюсь к машине.
— Поехали, Андрюха. Знаешь, где склад боепитания был?
— Ага.
— Не ага, а так точно, — автоматически поправляю водителя. — Вот туда и поехали. И жми на полную, батарея без снарядов сидит.
Копытов жмет и спустя час мы находим нужный нам склад, он, к нашему счастью, с места не сдвинулся.
— Куда вам столько? — удивляется начальник склада, которому я вручаю накладные. — А почему подпись Руденко? Гогелашвили где?
— Ранен комбат, в медсанбате. Руденко батарею принял. А мы все выпустили, до последней железки.
Укупорочные ящики стоят прямо на земле. Начальник склада отмеряет штабель, отсчитывая количество ящиков.
— Вот до сих — все ваше. Грузите. Помощников я сейчас пришлю.
Пересчитывать некогда. Да и смысла мухлевать с тридцатисемимиллиметровыми патронами нет, на сторону их не толкнешь. Помощники, однако, не торопятся, мы успеваем закинуть в кузов четыре тяжеленных ящика, прежде, чем появляется четверка солдатиков с ефрейтором во главе. Да и работают складские воины без огонька, на мои подгоняющие команды вяло огрызаются. Наконец, минут через сорок после начала погрузки наш грузовик начинает обратный путь. Грузоподъемность «шевроле» две с половиной тонны, мы загрузили почти четыре. Рессоры чуть в обратную сторону не выгнулись, мотор с натужным воем тянет перегруженную машину.
До батареи остается совсем немного, когда Копытов бросив взгляд в левое окно кабины говорит мне.
— Танки.
Спокойно говорит, без испуга. Да и я за последнее время настолько привык, что танки могут быть только своими, что далеко не сразу обращаю внимание на слова водителя. Только приглядевшись, различаю угловатые башни и набалдашник дульного тормоза у переднего танка.
— Сворачивай! Немцы!
Копытов крутит руль и одновременно жмет на тормоз. Перегруженная машина едва не съезжает в кювет. Со скрежетом врубается задняя передача. Поздно! Пока мы ехали им наперерез, немцы не стреляли, а стоило предпринять попытку уйти, как передний танк остановился и повел стволом орудия.
— Прыгай!
Обычно, процесс покидания кабины «шевроле» занимает у меня довольно приличное время, габариты больше среднестатистических, да и возраст уже не тот. Но в этот раз я катапультировался за секунду. После прыжка на ногах не удержался и кубарем полетел в кювет. На втором перевороте меня догнала ударная волна: ударила по ушам, дыхнула раскаленным. Докатившись до конца, я тут же подхватился. Кабина грузовика пылала, тент горел, вот-вот займутся ящики в кузове. Благо сам кузов стальной.
— Андрюха! Копытов!
А в ответ только треск пламени. Не повезло сегодня парню. Дальше лежать у горящей машины смысла не было, скоро начнут хлопать патроны в ящиках, трассеры полетят куда попало. Я огляделся, кругом чистое поле, ни сбежать, ни укрыться. Тогда, стараясь не высовываться, я на четвереньках рванул по кювету обратно. Успел таким образом преодолеть полторы сотни метров, когда передо мной на дорогу выбрался немецкий танк.
Из люка торчала голова танкиста в черной пилотке, перехваченной большими наушниками. Он не мог не заметить меня, с его места кювет никакого укрытия не давал. Я замер. От танка не убежишь, да и гоняться никто не станет, срежут одной короткой очередью. Танк взревел мотором, скрежетнул гусеницами и проехал мимо, обдав вонью выхлопа. Немец скользнул по мне равнодушным взглядом. Он посмотрел на меня как на насекомое, которое можно походя раздавить, но незачем, к тому же лень делать лишнее движение. Чуть дальше на дорогу выполз еще один танк. Еще один танкист, взглянув на меня, мы даже встретились с ним взглядом, проехал мимо. Где-то в груди заныло, неужели пронесет?
Рано радовался. Как только вслед за танками на дорогу выполз гробообразный бронетранспортер, сердце тут же сжалось — это за мной. Так и оказалось. Съехав на обочину, бронетранспортер замер напротив моей лежки. Поверх борта на меня скалились фрицевские рожи. Так близко я их видел только мертвых или пленных, а эти живые, здоровые и, в отличие от меня, с оружием. Лежать дальше показалось мне бессмысленным. Я встал и выбрался на дорогу, где меня уже ждали четверо в касках и камуфляжных блузах.
Один, видимо, офицер, что-то приказал второму. Второй щелкнул каблуками, ткнул стволом своего МП в направлении моего живота и что-то гавкнул. Ремень требует снять, дошло до меня. На, подавись. Ремень с флягой и подсумками забрал третий фриц с маузеровским карабином. Второй, еще раз ткнул в меня стволом и забрал снятую мной командирскую сумку. Сумку он передал офицеру. Тот сунул в нее нос, ничего интересного не нашел и что-то напомнил второму. Тот вернулся ко мне и вытащил из нагрудного кармана документы, проверил остальные карманы. Офицер заглянул в них, полистал, сунул в сумку. Достав карандаш и блокнот, он начал что-то писать, остальные ждали. Только один, четвертый, самый молодой из всех, не спускал с меня глаз и черного дула своего маузера.
Дописав, офицер подозвал к себе четвертого фрица, что-то ему сказал, тот вытянулся, щелкнув каблуками. Офицер передал ему мою сумку и вырванный из блокнота листок, третий, протянул мой ремень со всем содержимым. После чего, эта троица погрузилась в бронетранспортер и уехала, а мы вдвоем остались.
Все произошло настолько быстро и в тоже время буднично, что до меня только сейчас стало доходить — я в плену! Я даже рук не поднимал, но это ничего не меняет. Бежать, надо бежать, как можно быстрее!
— Форвертс!
Ствол карабина дернулся, указывая мне направление на юго-запад. Немец еще зеленый, видимо, в панцергренадеры попал сразу после их фрицевской учебки. Добраться бы только до него, да, видно, не получиться. Солдатик держится настороженно, соблюдает дистанцию, ствол постоянно смотрит на меня, палец на спусковом крючке.
— Форвертс!
Еще громче и требовательней. А ведь может и пальнуть. Хрен с тобой, пошли. Но только дай мне шанс: отвлекись, отвернись, расслабься.
То ли фриц мне попался плохо внушаемый, то ли из меня экстрасенс хреновый, но за всю дорогу он бдительности не потерял, а шли мы больше часа. Несколько раз я оглядывался, и опять встречался с настороженным взглядом и черным зрачком маузеровского дула. Фриц начинал нервничать, гавкать что-то угрожающее, я отворачивался и шел дальше. В одном месте, где кустарник близко подступал к дороге, я уже совсем было решился сигануть через кювет и рвануть под прикрытием веток, да черт принес встречную автоколонну. Фриц согнал меня на обочину, а когда колонна прошла, утроил бдительность. Нет, не мой сегодня день, не мой. А вскоре показалась деревня — цель нашего похода.
Деревенька носила следы недавнего ожесточенного боя. Похоже, наши оставили ее совсем недавно. На окраине нас остановили немцы в серых, мышастых мундирах. Мой конвоир предъявил свою бумажку и нас отвели к одной из немногих уцелевших изб. Меня продержали во дворе минут десять, потом на крыльцо вышел мордатый унтер.
— Ком.
И я оказался в небольшой комнате с низким потолком перед двумя офицерами, сидящими за столом из струганых досок. Тот, что помладше, лейтенант, держал в руках мою красноармейскую книжку. На столе был разложен мой хабар, в котором уже основательно успели покопаться. Однако краткое описание 37-мм автоматической зенитной пушки обр. 1939 г. и пара старых карточек огня интереса у них не вызвали. Других бумаг в сумке не было.
— Фамилия, звание, должность, номер полка.
Вопросы задавал тот, что постарше, капитан. А лейтенант переводил их с немецкого на ломаный русский. Но, в общем, я его понимал. Не мог, и до сих пор не могу понять, почему все допрашивающие любят задавать вопросы, ответы на которые есть в лежащих перед ними документах? На нестыковках ловят? Чтобы, если кто-то забудет год своего рождения, радостно закричать: «Попался, шпион недобитый». Ну так я своей принадлежности к Красной армии и не скрывал. Закончив с анкетными данными, капитан перешел к главному.
— Где находится твоя батарея?
— Не знаю. Нас за снарядами послали, а когда мы вернулись, батареи на прежнем месте уже не было. Мы попытались найти ее самостоятельно, но напоролись на ваши танки.
Возникла пауза, пока лейтенант переводил мой ответ капитану. Дослушав до конца, капитан еле заметно кивнул и мордатый унтер хорошо отработанным движением дал мне в ухо. Хорошо дал. Не удержавшись на ногах, я загремел в угол.
— Ауфштейн!
Я поднялся, голова гудела.
— Где находится твоя батарея?
— Мы за снарядами ездили, а когда вернулись…
На этот раз я улетел в тот же угол еще до того, как капитан дослушал перевод. Пока выбирался, капитан расспрашивал моего конвоира. Тот вытянувшись отвечал. Капитан удовлетворенно кивнул и опять задал вопрос лейтенанту, тот перевел.
— Почему на тебе офицерская гимнастерка?
Дофорсился, идиот!
— Такую выдали, да и документы в ней носить удоб…
На ногах я удержался, но во рту появился привкус крови. Осторожно провел языком по зубам, вроде, все на месте.
— Врешь! Ты — офицер! Скажи свое звание!
— У вас же документы в руках и погоны у меня сержантские. Когда бы я их сменить успел?
Как только я ввернул про погоны, мордатый унтер, повинуясь жесту лейтенанта, сорвал их с меня и швырнул куда-то в угол. Офицеры о чем-то посовещались, еще немного помурыжили меня, но уже без азарта и больше не били. Наконец прозвучало.
— Энтфанен.
Унтер обратился к капитану, тот, подумав пару секунд, кивнул. Унтер взял со стола мою фляжку, а также круглую жестяную коробку с зубным порошком и мыло, вытащенные из сумки. Сунул все это добро мне и толкнул к выходу.
— Коммен.
Во дворе меня отвели к бревенчатому сараю. Стоявший у входа часовой открыл дверь. В вечерних сумерках я успел заметить, что в сарае было еще несколько наших пленных. Унтер втолкнул меня внутрь, дверь со скрипом закрылась. Наступила почти полная тьма, свет пробивался только в щель над дверью. Встретила меня полная тишина и тогда я поздоровался.
— Здорово, мужики.
— Вода есть? — вместо приветствия поинтересовался справа снизу хриплый бас.
— Есть.
Угадав в темноте протянутую руку, я сунул в нее флягу. Бас отвинтил крышку, забулькал, потом пустил флягу по кругу.
— С полудня без воды здесь сидим, — пояснил бас. — А ты кто такой?
— Сержант, зенитчик.
— Откуда?
Я назвал номер корпуса.
— А сюда как попал?
— За снарядами поехали, на обратном пути на немецкие танки нарвались. Я успел выпрыгнуть, а шофер нет.
— Повезло, — констатировал бас. — Допрашивали?
— Было.
— Сильно били?
Гул в голове почти прошел, но левое ухо болело сильно, зубы, вроде, не шатались.
— Почти не били. Так, для порядка.
— Садись, — предложил бас и когда я сел, опершись спиной на бревенчатую стену, представился, — ефрейтор Хватов, триста тридцать шестой стрелковый полк.
Я тоже назвался. Глаза понемногу привыкли к темноте и я смог различить, что в небольшом помещении кроме меня и Хватова находилось еще двое, но они почему-то в разговоре участия не принимали. Ефрейтор вернул мне почти пустую флягу и я вылил в горло остатки воды.
— Ты здесь надолго обосноваться собрался или как? — спросил Хватов.
— Не, не нравится мне у Гитлера на харчах, — признался я.
— Как уходить собираешься?
— Пока не знаю. Если бы я из плена по три раза на день бегал, то знал. А так как я здесь впервые, то надо подумать.
Я пощупал дощатый пол под собой.
— Пол разобрать не пробовали?
— Пробовал уже — бесполезно. Прибит на совесть, без инструмента не справится. И часовой услышать может.
— А потолок?
— То же самое.
Да-а, ситуация. Снаружи дверь заперта на щеколду, изнутри не открыть, да и часовой клювом щелкать вряд ли будет. Дождаться, когда утром принесут пожрать, если принесут, и напасть на часового? Из области фантастики. И фрицев во дворе днем будет немало. Остается только одно.
— Уходить надо, когда дальше погонят. Выбрать момент, и в кусты.
— Да нет здесь кустов, — высказался ефрейтор, — одни поля вокруг.
— Да это я уже заметил, — насупился я. — Были бы хоть какие кусты, я бы сейчас в своей батарее кашу лопал, а не в этом сарае с вами загорал. Кстати, а они, почему молчат?
— Да они из Средней Азии, по-русски ни бельмеса.
Вот и попробуй сбеги в такой компании. Хотя ефрейтор, вроде, нормальный парень.
— Ладно, утро вечера мудренее. Может, наши вернутся. Фрицев немного прорвалось: танков десятка полтора, панцергренадеров батальон, да и тот явно не полный, скорее на пару рот потянет. Наш корпус этим не остановить.
— Твои бы слова да… Ладно, завтра увидим. А пока давай спать, завтра силы могут понадобиться.
Я с ефрейтором Хватовым мысленно согласился, сполз по стене ниже, пристроил голову на бревне нижнего венца и под голодное урчание в животе постарался заснуть. Самый длинный день в моей жизни закончился. Я потерял товарищей, свободу, пусть относительную. Немцы сорвали с меня погоны и набили морду. Остались только кусок мыла, жестянка с зубным порошком, пустая фляга и надежда. Она, как известно, умирает последней. И она всегда будет со мной, пока я жив.
Глава 11
Фрицы открыли дверь в сарай и выгнали нас на улицу еще затемно. Во дворе происходила какая-то нездоровая суета. Вчерашний мордатый унтер приказал встать возле стены сарая и приставил к нам второго часового. Наблюдая за бегающими по двору фрицами, я вдруг понял — да они же драпать собираются! Видимо, удержать эту деревеньку они не наделись или по каким-то своим тактическим соображениям не считали нужным. Негромко прошипел стоящему рядом ефрейтору.
— Пока темно, можно попытаться.
Тот еле заметно кивнул. Прозвучала гортанная команда, суета начала стихать, на улице формировалась колонна. Опять появился унтер-офицер, и часовые погнали нас в хвост колонны. Особенно доставалось обоим азиатам, мне даже жалко их стало. Они готовы были выполнять команды немцев, но никак не могли понять, чего от них хотят. Охранники злились и пускали в ход приклады карабинов.
Наконец, построились и пошли. Из деревни вышли, когда небо на востоке уже начинало светлеть. Я поймал вопросительный взгляд Хватова, огляделся, оценивая обстановку, и отрицательно качнул головой. Впереди около батальона фрицев, позади еще где-то взвод, по бокам двое бдительных охранников. Слишком много лишних глаз и стволов. Тут даже темнота не станет спасением, да и темнота уже весьма относительная, скорее, рассветные сумерки.
Когда мы прошли несколько километров, колонна остановилась, а нас четверых погнали дальше. Конвоировали двое солдат и унтер-офицер. К своим конвойным обязанностям они относились не просто добросовестно, а еще и проявляли служебное рвение, даже попытки перекинуться парой слов пресекали своим лаем, сволочи, а когда я не внял, получил по спине прикладом тяжеленного маузера. Хорошо хоть хребет успел убрать, но теперь каждое движение правой рукой причиняло боль, и я заткнулся.
Километров через пятнадцать, мы оказались на территории какой-то тыловой немецкой части. Здесь посадили в машину, и опель-блитц довез нас до лагеря военнопленных. Высадили перед опутанными колючей проволокой воротами. Одна створка ворот распахнулась, и мы оказались внутри. Здесь конвой передал нас лагерной охране. Нас еще раз обыскали, отобрали все личные вещи, хотя отбирать уже было практически нечего, все найденные при нас бумаги тут же сожгли. Пройдя процедуру регистрации, я уже знал, что мы находимся на территории так называемого дулага — лагеря для временного содержания военнопленных, где происходила первичная сортировка: офицеров, отделяли от солдат и сержантов, больных от здоровых. Впрочем, тяжелораненые и те, кто не мог самостоятельно передвигаться, сюда просто не попадали. Первичный отстрел по этому признаку производился солдатами передовых частей вермахта при взятии в плен и конвоирами во время пеших маршей.
Оказавшись, наконец, на территории лагеря мы осмотрелись и Хватов высказал наше общее мнение.
— Вот это влипли.
Лагерь небольшой, примерно на полтысячи человек. Колючая проволока в два ряда, по углам вышки с прожекторами и пулеметами. В центре бывший скотный двор, превращенный в барак для военнопленных, у ворот П-образное сооружение с обрывками веревок. Охрану несут десятка три местных полицаев и немного немцев. Но и такая охрана для лагеря была избыточна, он был практически пуст. Видимо, немцы очистили лагеря, в ожидании притока пленных после окружения наших войск под Курском. Но с окружением, как и с пленными, вышел у них большой облом и сегодня, вместо сотенных колонн, ворота лагеря пропустили жалкую группу из четырех человек, даже вторую створку открывать было незачем.
Кроме нас по лагерю бродили еще около полусотни обросших, грязных и голодных людей. А над всем этим витала атмосфера страха, безнадеги и человеческих испражнений. Страх был обоюдным, пустота лагеря говорила сама за себя. И пусть сюда еще не доносился грохот фронтовой канонады, но даже тем, кто не имел мозгов, а только глаза и уши, уже было понятно: падение Орла — вопрос двух-трех недель. Полицаи, охранявшие лагерь тряслись, что немцы бросят их здесь, пленные понимали, что если их вовремя не вывезут, то живыми Красной армии тоже не сдадут.
— Что дальше делать будем? — вопросительно уставился на меня ефрейтор.
— Не знаю, — ответил я. — Пока не знаю.
До меня уже дошло, что мы совершили трагическую ошибку: бежать нужно было сразу. Сразу, как только представится хоть малейшая возможность. Или кончать с собой, будущее нам ничего хорошего не сулило. О, этот инстинкт самосохранения! Древний, великий и могучий. Именно он не позволяет ткнуть под челюсть ствол оружия и нажать на спуск, пока есть такая возможность. Или броситься на врагов, схватив за ствол автомат с опустевшим магазином. Есть, конечно, и такие, но большинство выбирает жизнь. А тут еще и разум начинает действовать на мозг: «Неужели твоя жизнь стоит дешевле маузеровского патрона? Подними руки и останешься жив. А потом, как представится возможность, сбежишь. Выйдешь к своим, опять возьмешь оружие в руки и… Это трупы никаких шансов не имеют, а у тебя он есть, есть, есть…».
Большинство думает именно так, или приблизительно так. Кроме тех, конечно, кто сдается в плен осознанно и добровольно. Вот только мало кто представляет, что система конвоирования и охраны военнопленных у немцев хорошо отлажена и вырваться из ее лап удается немногим. И чем дольше ты находишься в плену, тем меньше шансов обрести свободу. А если вывезут в Германию, то бежать оттуда практически невозможно. Голодом, холодом, побоями и издевательствами доведут до скотского состояния, когда ни о чем кроме наполнения своего брюха и думать не сможешь. Сохранить в таких условиях человеческое достоинство трудно, очень трудно. Вздрогнул, как представил что нас ждет.
— Ладно, пошли в барак, осмотримся.
В бараке нам навстречу шагнул грязный небритый тип одетый, несмотря на теплую июльскую погоду, в длинную не по росту шинель.
— Вы где в плен попали, товарищи? Как на фронте дела?
Видимо, опознал в нас новичков, недавно попавших в плен.
— Отвали.
Не ожидавший толчка тип, не удержался на ногах, и я шагнул в освободившийся проход. За мной, оглядываясь на упавшего, двинулся Хватов, следом подтянулись еще два попутчика, они так и старались держаться неподалеку от нас.
— Ты чего?
Я уже выбрал более или менее приличное место на верхнем этаже трехъярусных нар, и готовился на него влезть.
— Того.
Запрыгнув на нары, я вытянулся. Наконец, можно отдохнуть. Сапоги решил не снимать, если украдут, тогда точно конец.
— Это — транзитный лагерь, тут люди долго не задерживаются. Здесь офицеров, комиссаров, евреев и цыган выявляют. А еще слишком говорливых и к побегу склонных. Тут всяких стукачей, провокаторов и всякой швали должно быть выше крыши. А этот хрен по бараку ходит и только еще красным флагом не размахивает. С чего бы это?
— А-а.
— Два. Язык на привязи держи и болтай поменьше, особенно с такими. Этим хорошо, к ним приставать бесполезно, — я взглянул в сторону устраивающихся на ночлег азиатов.
Утром полицаи внесли в барак бак с водой, к которому тут же кинулись люди. Что успел выпить, то твое, второго бака за весь день не будет. О том, чтобы умыться, и речи не шло. Дважды в день дали по черпаку жиденького супчика с кусочком хлеба, который рассыпался, стоило к нему прикоснуться, но мы не потеряли ни крошки.
Еще трижды к нам подкатывали какие-то подозрительные личности. Один искал земляков, второй пытался разглагольствовать о судьбах России, третий — опять пытался выяснить обстановку на фронте. Я таких посылал сходу. Хватов больше отмалчивался, но на пристававших зыркал недобро. Мы еще не успели ослабеть на такой кормежке, габаритами я существенно превосходил всех, да и ефрейтор, тоже был парень нехилый, связываться с нами не рисковали. А вот вчерашний тип в шинели куда-то исчез.
Однако лагерная машина по сортировке пленных продолжала работать. Пусть со скрипом, по инерции, но продолжала. Через некоторое время после раздачи пищи к нам подошел полицай из лагерной охраны.
— Вы, оба, бегом на допрос к господину зондерфюреру!
Полицай повел нас к лагерным воротам. Справа от входа располагалось что-то вроде контрольно-пропускного пункта, через который можно было попасть на территорию лагеря, минуя ворота. К КПП была пристроена караулка. Кухня и основная казарма охраны располагались неподалеку от ворот, но за территорией лагеря. Полицай подвел нас к одной из дверей, на несколько секунд исчез за ней, выйдя, ткнул в меня пальцем.
— Ты — первый.
Оказалось, что «господин зондерфюрер» — это уполномоченный местного гестапо в лагере. Русский язык он знал довольно хорошо, во всяком случае, обходился без переводчика. Пленных в лагере было немного, вновь прибывших всего четверо, поэтому торопиться гестаповцу было некуда. Беседа протекала в таком ключе: хозяин кабинета сидел на столе, свесив одну ногу, в правой руке он держал отполированную до блеска палку, похлопывая ею по ладони левой руки. На другом конце палки видны были бурые пятна.
— Ты, комиссар?
— Нет, я командир орудия, сержант. Документы же перед вами лежат.
На документах он сидел, но это было неважно.
— Бывший командир, — поправил меня гестаповец.
— Бывший, — согласился я, против этого не попрешь.
— Тогда, ты — еврей.
— С моей-то фамилией? Да и не похож я на еврея.
— Значит, ты — скрытый еврей.
— Нет, я не еврей. Насколько мне известно, среди моих родственников не было евреев.
А если и были, то незачем твоей гестаповской морде об этом знать. Зондерфюрер, помурыжив меня еще некоторое время, решил сменить пластинку.
— Кто вчера агитировал пленных в бараке.
— Никто не агитировал.
— Врешь! Не хочешь говорить правду?
— Я и говорю правду, никто никого не агитировал.
И так еще минут двадцать. Он явно пытался вывести меня из себя, чтобы я сорвался, ляпнул, что-нибудь не то и дал ему основание пустить в ход привычный инструмент. Но я держался. В конце концов, ему этот спектакль надоел, и он подвел итог нашей «беседы».
— Ты — хитрый скрытый еврей, который не хочет сотрудничать с немецким командованием. За это ты будешь наказан. Дежурный!
В комнату ввалился полицай, дежуривший в пропускном пункте. Щелкнул каблуками и вытянулся, прижав ладони к бедрам и чуть согнув руки в локтях. Как его фрицы выдрессировали! Настоящий цирк. А стоечка-то характерная, не врет наш советский кинематограф.
— В бункер, — отдал распоряжение зондерфюрер, ткнув в меня своим жезлом.
Когда меня выводили, Хватов все еще подпирал стену возле двери, мы успели перекинуться с ним взглядами. Бункером оказался холодный погреб, располагавшийся под сторожкой. В бункер вела узкая, крутая лестница. Полицай подождал, пока я спущусь вниз и закрыл дверь, отсекая дневной свет. Попытался найти хоть что-нибудь, на что можно присесть. Не нашел. Пришлось садиться на холодный земляной пол. Я уже настроился на долгое одиночество, но из дальнего угла неожиданно прозвучал хриплый с присвистом голос.
— А тебя сюда за что?
— Да так, ни за что.
— Осторожный.
Человек, видимо, хотел рассмеяться, но закашлялся. Прокашлявшись, продолжил.
— Без толку это все. Отсюда есть два выхода: в лес, на расстрел и в город, в тюрьму. Оттуда тоже никто еще не возвращался.
Это не карцер, как я считал вначале, а камера смертников! И только тут до меня дошло, что именно я совершил. Забыл, что здесь нет суда присяжных, адвоката и прокурора. Зондерфюрер сам может решить кому жить, а кому умирать. Посылая его провокаторов по известному адресу, мы только разозлили гестаповца и подписали себе смертный приговор. Надо было присесть с каким-нибудь из них, поговорить за жизнь, между делом поругать советскую власть, недобрым словом помянуть товарища Сталина, глядишь, и пронесло бы.
— А ты здесь давно?
— В лагере-то? Второй месяц. Лейтенант не хотел идти, как чувствовал. Начальство настояло, язык уж очень нужен был. Вот и пошли. И нарвались…
Собеседник опять закашлялся.
— Сильно били?
— Сильно. Только мне уже все равно, не жилец я.
Этому я поверил, по одному голосу было понятно — не врет.
— А сюда как попал?
— Бежать пытался.
Вот это сюрприз! Я осматривая периметр лагеря не нашел никаких лазеек, а он, выходит, придумал как открыть путь на волю. Впрочем, не стоит недооценивать парня, наверняка он из полковой или дивизионной разведки, значит, какая-никакая подготовка у него должна быть. И опыт. Однако ответ на мой вопрос разочаровал — разведчик не придумал ничего лучше, как напасть на полицая, дежурившего на пропускном пункте и попытаться завладеть его винтовкой. А дальше, как будет судьбе угодно. Попытка эта завершилась в бункере. Перед тем, как бросить сюда, разведчика избили до полусмерти и теперь он потихоньку угасал.
— А я скрытый еврей, — решил, наконец, представиться и я, — отказывающийся сотрудничать. Думаю, скоро еще одного приведут.
— Тоже еврея?
— Хрен его знает, чего там у этого зондерфюрера для отчетности не хватает.
Приблизительно через час дверь открылась, и в погреб спустился мой недавний знакомый — ефрейтор Хватов.
— Тебе что пришили? — приветствовал его я.
— Большевистскую агитацию.
— Понятно. Из меня еврея лепят, а… Тебя как величать, разведчик?
— Родители Виктором назвали.
— Виктор на рывок неудачно пошел, а все равно в одной яме лежать будем.
С помощью старожила бункера ввел Хватова в курс дела.
— А ты, вроде, и смерти не боишься?
— Боюсь, — признался я.
— Чего, тогда такой спокойный?
— Да поздно уже дергаться. Пока к стенке не поставили, можно спокойно сидеть, а как поставят…
Так перебрасываясь словами и фразами, мы просидели некоторое время. Даже мои биологические часы не могли мне подсказать, что сейчас снаружи: день или ночь? Тьма и тишина не давали никаких временных ориентиров. Мною овладела какая-то апатия — будь, что будет. Однако, когда заскрипела открываемая дверь и косое пятно света упало на пол погреба, сердце мое екнуло, а дыхание перехватило. Но оказалось, что нам принесли по кружке воды и кусочку хлеба, по большей части состоящего из опилок. Хватова полицаи припахали на вынос ведра, служившего парашей. Потом нас оставили в покое до утра.
Утром процедура повторилась. Мы уже подумали, что доживем до следующего вечера, но когда дверь распахнулась, сверху донеслось.
— А ну давай на выход! И этого с собой захватите.
Я встал. Руки и ноги сделались будто деревянными, а сердце бухало, как паровой молот. С Виктором вышла заминка, вытащить его по крутой узкой лестнице мы не могли, не рассчитана она была на такое. Один из полицаев, видимо, старший, принял решение.
— Оставьте его. Я здесь сам управлюсь, а ты этих за барак отведи.
— Прощай, разведчик.
Хватов тоже что-то хотел сказать, но обрушившийся сверху мат перекрыл все звуки. Едва мы выбрались, как старший из полицаев, нырнул вниз, направив ствол винтовки перед собой.
— Чего встали?! — набросился на нас второй. — Давай на выход.
Едва за нами закрылась дверь, как раздался негромкий, приглушенный стенами хлопок. В лагере, между тем, творилось что-то непонятное. Всех обитателей, кто мог передвигаться на ногах, согнали в толпу перед воротами. Народу явно прибавилось, видимо, вчера вечером или сегодня утром прибыла еще одна партия пленных. Немцев тоже стало заметно больше. Пулеметы с вышек настороженно глядели вниз. Толпа шумела, заливались лаем собаки, выкрикивались команды на русском и немецком языках. После тишины бункера эта какофония оглушала.
— Идите, туда.
Полицай подтолкнул нас к бараку, но едва мы прошли с десяток шагов, как сзади раздалось.
— Стойте!
Я не выдержал, обернулся. Полицай, воровато оглядевшись, неожиданно подтолкнул нас к толпе. Хватов, не поняв, попытался открыть рот, но я, схватив его за рукав гимнастерки, буквально затащил в людскую массу. Полицай закинул винтовку на плечо и исчез из виду.
— Чего это он?
— Того. Он нам только что жизнь спас.
Из барака вытаскивали тех, кто не мог передвигаться самостоятельно, и уносили куда-то за угол. Прозвучала усиленная жестяным рупором команда на немецком и охрана начала выгонять толпу из лагеря, формируя по ходу неровную, пошатывающуюся колонну.
Охранялась наша колонна очень хорошо. Одних только фрицев десятка три, плюс полицаи, плюс собаки. На едущей в конце колонны телеге, я заметил пулемет и при нем пару фрицев. И все это на две неполных сотни истощенных пленных. Видимо, немцы всерьез опасались массового побега пленных.
— Слышишь?
Я прислушался, но кроме топота сотен ног по грунтовке, да поскрипывания тележных колес ничего не услышал. Ну еще собачки гавкали.
— Нет, ничего не слышу.
— Да ты прислушайся.
Я прислушался. Ничего. Разве что… Стоп! Это же артиллерия! Наша?! Да хоть бы и немецкая! На каком расстоянии слышна канонада? Километров тридцать? Сорок? Значит, наши где-то прорвались, и теперь стало понятно, откуда вся эта суета. Шедший справа от нас, заросший рыжей щетиной дядька в гимнастерке довоенного образца тоже навострил уши и неожиданно в полный голос сказал.
— Я тоже слышу. Наши.
Несколько человек спереди обернулись на его слова, тоже начали прислушиваться. По колонне в обе стороны от нас покатилась шумовая волна. Люди оборачивались назад, движение колонны начало сбиваться. Конвоиры почуяли неладное, с двух сторон кинулись к пленным, щедро раздавая пинки и удары. Вслед за хозяевами заливаясь лаем рванулись собаки.
— Шнель! Шнель! Быстро! Быстро!
Кто-то из фрицев засадил поверх голов очередь на полмагазина. Они хотели заставить нас двигаться бегом, но истощенные, обессилевшие люди не могли двигаться быстро. Однако волну возбуждения немцы сбили. Скорость движения начала понемногу замедляться, и вот мы уже опять медленно бредем по дороге. И канонада была уже не слышна, а может, и правда артиллерия затихла. Солнце, обгоняя нашу колонну, понемногу заходило слева.
Часа через три мы добрели до железнодорожной станции. Там нас уже ждали вагоны с опутанными колючей проволокой окошками. Изнутри вагоны никак не были оборудованы. Затрудняюсь сказать, сколько человек загнали в один вагон, но лежать или даже сидеть на полу всем одновременно было невозможно. С грохотом закрылись вагонные двери, лязгнул запор. Засвистел паровоз, поехали.
Брянск, Унеча, Гомель, Жлобин. На крупных станциях нас выводили из вагонов, давали по черпаку баланды, в которой плавали несколько крупинок и капустные ошметки. В это время вагоны тщательно обыскивали в поисках предметов, которыми можно было сломать доски пола и сбежать. В среднем такие остановки случались один или два раза в сутки. Слуцк, Барановичи, Волковыск. Где-то в этих местах мне пришлось обретаться летом сорок первого года, а теперь меня везли обратно. Мы уже поняли, что приближаемся к польской границе, но является ли Польша конечной точкой нашей поездки?
Остановились в Белостоке, затем справа мелькнула Варшава, и мы поняли, что нас везут куда-то в южную Германию. До польской столицы за окошком проплывали крытые соломой бревенчатые избушки, после — чистенькие кирпичные домики с черепичными крышами. Европа, мать ее! На какой-то польской станции наш эшелон остановился у платформы с маленьким вокзалом. По платформе гуляли люди, доносился женский смех, с другой стороны, постукивая молотком, прошел польский железнодорожник. Кроме паровозного дыма и испарений масла теплый вечерний ветер заносил в вагон запах травы, а где-то далеко, еле слышно звучала музыка. Все это было совсем рядом за тонким слоем дерева, но как же далеко от нас все это было!
На седьмой день поезд замер, двери распахнулись, и конвой выгнал нас из вагонов. Фахверковые домики с островерхими крышами, узенькие улочки. Вот я и в Германии. Доехал таки, но этому факту почему-то не радуюсь. Средневековый немецкий городок производил впечатление декорации к какой-нибудь опере. В качестве массовки группа важных немецких господ и одна пожилая дама. Позже мы узнали, что это окрестные землевладельцы прибыли, чтобы присмотреть себе новых работников, точнее новых рабов. Наш же путь лежал в опутанные колючей проволокой грязные казармы на окраине городка.
По прибытии всех пленных раздели, одежду забрали на дезинфекцию, а нас, сунув в руки по крохотному кусочку мыла, загнали в душевую. Из кранов текла только холодная вода, но мы и такой были рады. После помывки — санобработка: всех обрили наголо, места, где были волосы, засыпали каким-то жгучим порошком, завшивленных отделили от общей массы. Стригший нас пленный тихо спросил.
— Откуда?
Ему также тихо ответили одним словом.
— Орел.
Одежду нам вернули, а вот с обувью вышло иначе. Все более или менее приличное забрали. Пленным предоставили возможность выбрать себе что-либо подходящее из лежащей во дворе кучи деревянных колодок, именуемых «сабо». В этих колодках можно ходить, можно работать, а бегать нельзя. Как же я радовался, когда нашел свои разбитые кирзачи! Это был мой шанс и я не намеревался его упускать. Благодаря нестандартному размеру, а также общей потертости и ушатанности они никого не заинтересовали.
Затем на каждого заполнили зеленую карточку. Указали рост, цвет волос и глаз. Долго расспрашивали фамилии родственников, места их рождения — выискивали людей с частью еврейской и цыганской крови, сумевших просочится через фильтры дулагов. Интересовались довоенной профессией. Назвался техником, решил, что козырять здесь высшим образованием глупо, лучше слиться с общей массой. В конце всех сфотографировали в фас и профиль, сняли отпечатки пальцев и выдали металлические прямоугольные таблички со скругленными углами. Таблички разделены вдоль прямоугольной перфорацией, в верхней и нижней части выбит пятизначный номер пленного и номер лагеря. У меня табличке стояли забитые буквы «Fr», рядом выбито «SU» и номер. Видимо, изначально табличка предназначалась для французского военнопленного, а досталась мне. Табличку полагалось постоянно носить на шее. В случае смерти, табличку разломят пополам, верхнюю часть похоронят вместе с умершим, а нижнюю приколют к зеленой карточке и отправят в архив.
Наружную охрану лагеря несли немцы, внутри царили русские и украинские полицаи. И голод. Кормили баландой из недоваренной капусты, а хлеб давали красный от добавленной в него свеклы. Практически все в лагере страдали поносами. Но мы уже знали, что нам повезло. Раньше людей набивали в вагоны так, что они могли только стоять, в дороге почти не кормили и, когда двери открывали, они не могли выйти из вагонов самостоятельно. Многие, не выдержав такой поездки, умирали, но так и оставались стоять среди живых.
С весны 43-го ситуация изменилась. Потери немцев росли, рабочих рук не хватало, пленных стало намного меньше, и они вынуждены были пойти на улучшение их положения: стали чуть лучше кормить, ввели санобработку, начали борьбу со вшами, хотя общий курс на истребление пленных не изменился — пленный жил, только пока мог работать. В лагере же и формировались рабочие команды. Удачей считалось попасть к бауэру или на сахарный завод. Работа на воздухе, при продовольствии, но за кражу какой-нибудь брюквы или сахарной свеклы били, могли и до смерти забить. Худшим вариантом были шахты или подземные заводы. Там люди месяцами не видели солнца, а за саботаж — вешали. И совсем печальной была участь тех, кто отправлялся на строительство секретных сооружений — эту тайну они должны были унести с собой.
— Я все узнал, — шептал мне Хватов, когда пленные, наконец, расползлись по баракам и угнездились на нарах, — тут до Франции всего полторы сотни километров.
Франция. Франция это хорошо. Вот только, насколько я помню историю, южную часть Франции немцы уже оккупировали, а на севере маки будут тихо сидеть до июня следующего года. Это я ефрейтору и высказал.
— А кто тебя ждет в этой Франции? Те же немцы. Да и французы местные твоему появлению вряд ли обрадуются. Нет, Франция это не вариант.
— И что ты предлагаешь?
То, что обратно к нашим не светит добраться мы понимали. Между нами лежали сотни километров германской территории, где любой встречный тут же нас выдаст. Генерал-губернаторство, где сам черт ногу сломит, разбираясь в политической ориентации различных вооруженных групп. Но, подозреваю, что русских военнопленных далеко не все из них жалуют. Плюс оккупированная территория Белоруссии до самого Днепра или даже дальше. А вот…
— Швейцария должна быть неподалеку.
— Так ведь границу фрицы должно быть крепко стерегут.
— А ты думал? Но из всех путей, этот — наиболее реальный. Надо будет только подготовиться: информацию собрать, хлеба подкопить. Тогда можно и…
С этими мыслями мы заснули.
Следующий день принес разочарование: швейцарский маршрут у местных беглецов пользовался огромным успехом. Надо сказать, что смельчаков, рискнувших отправится в такое путешествие, было немного. До Швейцарии было всего две сотни километров, но граница проходила по горам и через озеро Бодензее. И очень хорошо охранялась. Поэтому пересечь ее удавалось не многим. Тех, кого не дострелили немецкие пограничники, привозили в лагерь и казнили здесь или публично отправляли в лагерь смерти. Хотя, неделю назад пара наших соотечественников «подорвала» с одного из сахарных заводов и немцы до сих пор молчали об их судьбе, что наводило на мысль — беглецам удалось добраться до своей цели, по крайней мере, их до сих пор не поймали. Кто-то из доброхотов даже поделился с Хватовым технологией побега.
— Надо украсть велосипеды, доехать до озера, — шепотом, но от этого не менее горячо доказывал мне ефрейтор, — а потом обмотаться велосипедными камерами и переплыть его.
— Тебе что, в рукопашной мозги отшибли? Ты до хрена у немцев великов видел? Они у немцев не на каждом углу стоят, — сомневался я, — а их еще стырить надо суметь. Во-вторых, на обычных дорожных велосипедах по горам не поскачешь. И в-третьих, озеро горное, глубоководное, вода должна быть холодная. Это тебе не сочинском пляже в середине августа перед девками выпендриваться. Даже если не брать в расчет пограничные катера, ты выдержишь заплыв на несколько километров в ледяной воде?
Мой не в меру горячий оппонент только пожал плечами.
— Не ссы, прорвемся.
— А вот я не уверен. Поэтому не гони волну, давай еще репу почешем, а потом будем решение. Пока же информации недостаточно. К тому же сначала надо выбраться из лагеря, а это тоже непросто.
Однако, буквально на следующий день судьба повернулась к нам своим парадным фасадом и помогла сделать первый шаг к свободе, более того, она даже сократила дистанцию до нее. С утра, меня Хватова и еще троих счастливчиков вывели из лагеря под конвоем двух солдат, привели на станцию и запихнули в товарный вагон. Через несколько часов нас выгрузили на небольшой станции. Неподалеку от железнодорожного полотна стоял сборный барак, огражденный колючей проволокой, в него нас и отвели.
Два десятка старожилов быстро разъяснили нам местные реалии. Жили они здесь практически автономно, работали на фирму, занимающуюся ремонтом железнодорожных путей. Рабочий день по десять-двенадцать часов, невзирая на погоду. Работа тяжелая, но и кормят значительно лучше, чем в лагере. Даже ежемесячно платили зарплату от фирмы — по десятку-другому пфеннигов, причем платили по-разному: кто плохо работал — получал меньше, за этим следил мастер. Но самое главное было то, что сбежать из-под такой охраны не составляло никакого труда, а до швейцарской границы «всего» около ста двадцати километров. Осталось только продумать, как преодолеть эти самые километры, особенно последний.
Изнутри барак был разделен перегородкой. С одной стороны перегородки обитали мы, с другой — четыре солдата и унтер-офицер. Солдаты здесь назывались вахманами — солдатами несущими вахту. На двери с нашей стороны надпись на немецком «Не входить», мы и не входили. На окнах железные решетки и деревянные ставни. Вдоль стен стоят двухэтажные железные койки. На койках лежат бумажные тюфяки, набитые соломой. Койка застлана старым байковым одеялом, используемым в качестве постельного белья. Второе одеяло служит собственно одеялом. Посреди комнаты стоит буржуйка. Обстановку дополняли длинные деревянные столы и скамьи. На ночь барак запирался, а во двор выпускали сторожевую собаку.
Подняли нас в шесть утра. Двое пленных с одним вахманом отправились за завтраком, который готовил для нас ближайший «гастхаус». Остальные наводили порядок в бараке. В пределах огороженного периметра находились уборная и комната для умывания — «вашераум». На крыше этого сооружения стоял бак, в который насосом из речки подавалась вода. Утром там можно было умыться, а вечером даже постирать одежду. Потом завтрак из миски баланды и половины хлебца. Хлебцы эти пекли в том же гастхаусе, на день двоим, полагался один такой хлебец.
Если до места работы было недалеко, то гоняли пешком, если далеко — везли в товарном вагоне. Двое, заявившие, что они больны, могли оставаться в бараке. «Болели» пленные по очереди, давая отдых наиболее обессилевшим. Нередко наша команда делилась на более мелкие группы, которые работали под охраной одного-двух вахманов. Еще большее удивление вызвал тот факт, что вместе с нами работали гастарбайтеры из других стран: поляки, чехи, румыны, даже один итальянец. Причем многие из них приехали на работу в Германии еще до войны, да так и остались работать на частную немецкую фирму. После войны, когда страны восточной Европы окажутся за «железным занавесом», сбудутся ночные кошмары всех нацистов и их место займут турки и арабы. Экономика Германии всегда нуждается в дешевой рабочей силе.
Работа начиналась и заканчивалась по свистку мастера, пожилого фрица, носившего в петлице значок с шестеренкой и свастикой. Мастер был сух и требователен со всеми, и с пленными, и с гастарбайтерами. Никому не доверяя, проверял уплотнение щебенки под шпалами ударом острой кирки. Мастера побаивались, поскольку по его жалобе запросто могли отправить обратно в лагерь, чего никому не хотелось. Помощником мастера называли молодого здоровенного немца, не попавшего в армию только по причине умственной отсталости. Но он был немец, поэтому, несмотря на тупость, считался помощником мастера. Пленных он люто ненавидел, постоянно нас задирал и, если бы ему дали в руки оружие, то не сомневаюсь, первым делом он перестрелял всех нас.
Работа наша заключалась в ремонте железнодорожных путей и насыпи. Мы таскали тяжелые, пропитанные шпалы, грузили и разгружали гранитную щебенку. Наиболее тяжело было переносить железными цангами стальные рельсы. Неподалеку, где-нибудь на возвышенности располагался «зихерпост» — старый немец-железнодорожник с рожком. При приближении поезда он дул в свой рожок, по этому сигналу мы прекращали работу и убирались с насыпи.
По возвращении в барак нас обыскивали, но не очень тщательно, поэтому пленные всегда протаскивали в барак относительно свежую газету, выброшенную из проходящего поезда. Если отбросить пропагандистскую шелуху, то немецкая пресса довольно точно давала положение на фронте, а среди пленных один, носивший кличку «Саратовский», неплохо говорил по-немецки и мог читать. До войны он жил среди поволожских немцев, там и научился. В плену, работая наравне со всеми, он выполнял функции переводчика, а мы благодаря ему были в курсе текущих дел.
Между тем, к концу третьего дня у меня уже сложились первоначальные наметки плана побега. Их я изложил Хватову, когда вечером после работы мы уединились в уборной.
— Надо напроситься пойти с вахманом за завтраком. Тут даже хлеб копить не надо, получим сразу на двадцать пять человек, двоим до швейцарской границы должно хватить.
Правда, мы оставляли без дневной хлебной пайки своих товарищей, но я надеялся, что они нас поймут, хотя, возможно, и не все. Если в этом пункте ефрейтор был со мной согласен, то дальше начинались расхождения: я хотел уйти по-тихому и вахмана не трогать, Хватов жаждал его крови.
— Винтовка нам пригодится, в случае чего — бой примем.
— Толку от той винтовки, — возражал я. — Вахманы полный боекомплект с собой не таскают, судя по количеству подсумков, всего четыре-шесть обойм. Много ты с двумя десятками патронов навоюешь?
— Сколько смогу, все мои будут.
— Вот именно. Если без крови уйдем, то немцы, может, и искать нас не будут. Понадеются на пограничников или на местных. А если вахмана замочим, то тогда наверняка получим на хвост погоню с собачками, прочесывания местности и прочую прелесть. А оно нам надо?
Какую прочую я не знал, но на кровожадного ефрейтора мои доводы, похоже, подействовали. Второй трудностью была одежда. Для работы нам выдали форму из запасов армий, оккупированных немцами стран, перекрашенную в жуткий сине-зеленый цвет с надписями белой краской «SU», сделанными на правом колене, левой части груди, правой лопатке и пилотке. Затеряться в таком наряде было невозможно, я предложил одеть под нее нашу красноармейскую форму, оставшуюся еще с фронта.
Для отрыва от погони предполагалось использовать немецкий же железнодорожный транспорт. На нужном нам направлении был крутой поворот, где поезда двигались с минимальной скоростью. Вполне реально было на ходу незаметно забраться на тормозную площадку или на платформу. До следующей станции, где поезд мог остановиться, километров двадцать. Хорошее расстояние, чтобы сбить возможную погоню со следа и нарастить отрыв. Дальше был абсолютный туман. Карты, компаса и прочего у нас не было, но и расстояние, которое требовалось пройти также невелико. В крайнем случае, по солнцу или звездам сориентируемся. Идти будем по ночам. Но как преодолевать границу, я даже не представлял. О системе охраны не было ни малейшего представления, о схеме расположения постов можно было только мечтать. Причем, стрелять в нас могли начать как на немецкой стороне, так и на швейцарской. Оставалось рисковать и надеяться на наш русский «авось».
Начало четвертого дня не предвещало ничего плохого. На работу нас отвели на ближайшую станцию, ремонтировали запасные пути. С одной стороны нас охраняли вахманы во главе с унтером, с другой стоял немецкий воинский эшелон. Судя по направлению, какую-то пехотную часть перебрасывали из Франции на восточный фронт, где они, видимо, еще не успели побывать. Представляете, целый эшелон непуганных фрицев. Как истинные арийцы они поначалу пялились на нас, тыкали пальцами и обменивались между собой мнениями. Потом пришли к выводу, что эти русские не такие уж и страшные, начали гоготать и кидать в нас всяким мусором. В конце концов, какой-то шутник запустил в нас куском щебенки. Метил в пленных, а попал в помощника мастера. Тот во всю глотку обругал придурка, солдаты ответили, завязалась перепалка, прерванная подошедшим офицером. Офицер разогнал солдат по вагонам и сделал внушение унтеру из нашей охраны. Хотя тот-то был ни при чем — он охранял пленных, а мы в этой словесной дуэли не участвовали, фрицы разбирались между собой.
К унтер-офицеру прибежал солдат, остававшийся в бараке. Там у немцев стоял телефон, по которому с ними связывалось лагерное начальство. Фриц что-то докладывал унтеру, тот недовольно морщился. В конце концов, он принял какое-то решение и солдат, козырнув, рысью рванул обратно в барак. На этот разговор я почти не обратил внимания, но во время перекура ко мне подсел Саратовский.
— Унтер с вахманом о тебе говорили.
— Что говорили? — насторожился я.
— Приказано немедленно доставить тебя в лагерь.
Сирена моей внутренней тревоги истошно взвыла. В любом случае, возвращение обратно не сулило мне ничего хорошего.
— Унтер, хотел отложить до завтра, — продолжил Саратовский, — но солдат сказал, что приказано именно немедленно. Поезд в нужном направлении будет вечером, после окончания работы.
И ушел. Все это я тут же вывалил Хватову.
— Что делать будешь?
— Уходить. Прямо сейчас, как только представится возможность.
А возможность все не представлялась. Военный эшелон ушел только когда мастер, посмотрев на часы, достал свисток, сигнализирующий о конце работы. Гастарбайтеры начали собирать инструмент, а вахманы сгонять нас в колонну.
— Я их отвлеку, действуй, — шепнул мне ефрейтор.
Колонна уже двинулась, но тут сзади раздался какой-то шум и тут же немецкая ругань. Я обернулся — Хватов упал и сделал вид, что не может быстро подняться. Строй смешался, и вахман начал поднимать упавшего пинками. В этот момент по стоявшему справа эшелону прокатился железный лязг, вагоны дернулись и колеса начали свое пока еще медленное вращение. Взгляд вперед — идущий впереди вахман не обратил на происшествие внимания и сейчас был обращен ко мне спиной. Десяток метров пролетел еще до того, как я осознал, что именно делаю. Шестым чувством понял — это мой единственный шанс. На треть секунды задержался и нырнул между двумя скатами. Грохот колес на стыках оглушил меня, но сквозь него я все-таки услышал, как бахнул выстрел и дзинькнула по металлу пуля. Этот звук придал мне дополнительной прыти и я вылетел с другой стороны состава.
Тут же нырнул под состав, стоящий на следующем пути. Еще один. К моему счастью, ни одного воинского эшелона среди них не оказалось. Четвертый состав также начал набирать ход и шел с уже довольно приличной скоростью. Я рванул параллельно ему, стараясь уравнять скорости. Страх и жажда свободы придали мне сил. Какой-то пожилой фриц в черной форме едва успел убраться с моей дороги, мне сейчас было не до него. Левой рукой удалось зацепиться за поручень тормозной площадки, но скорость была уже очень велика. В каком-то отчаянном прыжке удалось добросить до поручня правую руку, и я повис на нем, поджав ноги. Каменистая насыпь проносилась в каких-то сантиметрах от подошв моих сапог.
Долго провисеть в таком положении мне не удастся — руки начинали быстро слабеть. Пришлось рискнуть, оттолкнуться от насыпи ногами. Ноги сильно рвануло влево, но я был к этому готов, успел закинуть правую руку сантиметров на двадцать выше, подтянул левую, потом засучил ногами и сумел закинуть правую на нижнюю ступеньку. Минуты три повисел, отдыхая в таком положении, затем, опираясь на ногу, подтянулся по поручню выше, утвердился на ступеньке обеими ногами и полностью выполз, наконец, на тормозную площадку, где мне удалось упасть и отдышаться.
Свобода! Весьма условная, полная опасностей, но свобода! Ближайшие минуты мне не грозили пуля вахмана или зубы конвойной собаки. А дальше? Дальше будет видно. Сорвал с шеи и вышвырнул прямоугольную табличку с лагерным номером — возвращаться назад я не собирался при любом исходе. Хорошо, что на паровозе нет рации, а до мобильных телефонов еще полвека впереди. Но немецкий железнодорожник видел в какой поезд я влез и на следующей станции состав остановят и обыщут, поэтому долго кататься нельзя. Надо прыгать. А куда? Судя по солнцу, эшелон идет на запад, во Францию. Значит, мне налево и дальше на юг к озеру Бодензее. Знать бы еще, где оно находится.
Спрыгнул я хорошо, ободранные ладони — мелочь, главное, что руки и ноги целые, даже двигаются. Ну я и двинул. Хотел пройти по руслу попавшегося на пути ручья, но он оказался неожиданно глубоким, да еще и с неровным дном. Вымок, воды в сапоги набрал, а ушел недалеко. Пришлось выбираться на берег, выливать воду из сапог, отжимать мокрые штаны. Только время потерял, а вода в сапогах продолжала хлюпать.
Уже в сумерках я наткнулся на немецкие огороды. Все-таки август — самый благоприятный месяц для побегов: ночи еще достаточно теплые, урожай созревает, зеленая листва дает укрытие от посторонних глаз. Правда, в моем «камуфляже» даже среди сине-зеленых водорослей не скрыться, зато с питанием проблем не предвидится, даже выбор есть. Я сходу отверг все корнеплоды, помыть негде, почистить нечем, а я еще не настолько оголодал, чтобы лопать их вместе с землей. С бобовыми возиться тоже было не с руки. Что оставалось? Огурцы или помидоры найти не удалось, но капусты было… Выбрал четыре кочана, самые большие. Срезать было нечем, пришлось выдергивать. Снял куртку, положил на нее добычу, застегнул пуговицы, завязал рукава, получилась вполне приличная торба.
Наследил, конечно, а что делать? Голод оказался сильнее. Пиршество устроил в ближайшем лесу. Ободрал верхние листья и захрумкал теми, что были ниже. Кочерыжка твердая, зараза! Выбросил. Слопал еще один, больше не влезло. Передохнул, взял два оставшихся кочана, нашел на небе Полярную звезду и отправился в противоположную сторону, по крайней мере, мне казалось, что я иду именно на юг. Вообще-то я планировал идти всю ночь, но тяжелый рабочий день и последующие события измотали меня. Через час-полтора я начал спотыкаться, и один раз чуть не выколол себе глаз каким-то сучком. Решив, что с утра наверстаю упущенное, я свернулся под кустом, накрылся кителем и провалился в сон без сновидений.
Следующим утром меня разбудил собачий лай. Лай! Собаки! Мысли о том, что это не за мной или охотники дикого кабана гоняют, мою голову даже не посетили. Бросив ворованную капусту, я стремительно рванул в сторону, противоположную от приближающейся погони. Только сейчас я понял, что «холодное дыхание смерти» это не только образное выражение. Несмотря на теплое солнечное утро, по моей спине струями стекал холодный пот, а остатки волос на голове стояли дыбом. Плюнув на запутывание следов, я ломился по благоустроенному немецкому лесу, стараясь оторваться от погони. Страх безостановочно гнал меня вперед, придавая дополнительные силы, когда, казалось, что следующий шаг станет последним. Неизвестно, чего я боялся больше: карабинов охранников или клыков конвойных собак. На первых порах, мне удавалось удерживать дистанцию до погони, но уже через полчаса собачий лай начал приближаться. Все-таки охранники находились в лучшей физической форме, да и возраст мой к участию в марафонских забегах не располагал. А собачки, встав на свежий след, заливались вовсю. Именно собаки, как минимум две, а то и больше.
Впереди между деревьев показался просвет. Выскочив на большую поляну, я наддал из последних сил, плюнув на рвущиеся легкие и колющую боль в правом боку. Там за спиной смерть, а я жить хочу! Жить! Жить! Жить! Земля встретила меня мягкой травой и давно забытым летним запахом. И птички поют. И совсем все было хорошо, если бы не заливистый собачий лай. Жадно хватая ртом воздух, я приподнялся на руках, но ноги отказались повиноваться окончательно и я рухнул обратно лицом в траву.
Крохотный черный муравей деловито карабкался по зеленой травинке, и плевать ему было на мои проблемы. То, что сейчас меня будут долго и мучительно убивать, его абсолютно не интересовало. Мне вдруг захотелось стать вот этой маленькой черной букашкой, деловито спешащей по своим насекомьим делам. И пусть заскулят потерявшие след собаки, пусть в поисках моих исчезнувших следов роют носом землю их проводники. Пусть бесцельно прочесывают свой немецкий лес вахманы. А я буду тихо сидеть на своей травинке, маленький, черный, безмозглый.
Нет, у муравья тоже хватает врагов, и век его неизмеримо короче людского, но никому в голову не придет травить его собаками, расстреливать, травить газом, затягивать на шее петлю. Да у него и шеи-то нет. И вообще, людям он не интересен. Как и я. Все, мне кранты. Как говорится, финита ля комеди. Я поставил свою жизнь на этот рывок и проиграл, пришла пора платить по счетам. Представляю, что может сделать с обессилившим человеком одна немецкая овчарка, а тут их, как минимум, две. Пришло почти физическое ощущение, как собачьи зубы сжимаются на моей плоти, прикрытой тоненьким слоем драного хэбэ. Некоторые из тех, кому удалось бежать из плена, оставили потомкам свои воспоминания. Те, чей побег закончился неудачей, мемуаров, естественно, не написали. Мне, видно, тоже уже не суждено. Но я ни о чем не жалел — лучше так, чем медленно загибаться на лагерной пайке, вкалывая на благо третьего рейха.
Я лег на левый бок, свернулся «калачиком», голову прижал к коленям, а предплечьем правой руки прикрыл шею. Интересно, то, что останется после собачек, на месте пристрелят или притащат обратно в лагерь, и там повесят в назидание остальным?
Глава 12
Время шло, секунды текли, собачий лай приближался, приближался и неожиданно приближаться перестал. Было слышно, как проводники удерживают своих подопечных и стараются их успокоить. Где-то через полминуты я рискнул выглянуть из-за своих коленей. Собак действительно было две, одна черная, другая с рыжиной. Некрупные, но очень злобные овчарки продолжали рваться с поводков и лаять. Один из двух проводников в обычной мышастой форме даже стегнул своего подопечного концом поводка. Собака взвизгнула, обиженно взглянула на хозяина, лаять не перестала, но прыти поубавила.
Но меня больше поразили другие персонажи. Человек десять, все лет двадцати-двадцати пяти, здоровые, мордатые, в ранее никогда мной не виданном мешковатом камуфляже. Все стояли метрах в пяти от меня, оружие в руках, но ни один ствол на меня направлен не был. Да и незачем им на меня оружие направлять, видно было: опытные, уверенные в себе вояки. Даже один на один и без оружия я бы не рискнул против них выйти. Но больше всего меня удивило, что они стояли молча. Просто стояли, переминались с ноги на ногу, но кроме собачьего лая не было никаких звуков. Не хватали меня, не тащили, молча стояли и чего-то ждали. И ожидание это затягивалось.
Поняв, что на растерзание собакам меня немедленно отдавать не будут, я рискнул сесть. Овчарки тут же громко запротестовали, а «камуфляжные» на мои действия никак не отреагировали, даже не шелохнулись. Киборги какие-то. У одного я заметил торчащую из-за спины антенну радиостанции. Одна из собак пошла на хитрость: сделала вид, что успокоилась и рваться перестала. Но стоило проводнику расслабиться — тут же рванула ко мне, проводник дернул поводок, собачьи зубы не дотянулись до меня где-то на метр. Один из «камуфляжных» взглянул на проводника и тот, что-то пробормотав, оттащил овчарку подальше, то же самое сделал второй.
С одной стороны, задержка давала мне лишние минуты жизни, с другой, эта неопределенность начинала угнетать. Но вот оживился радист, даже наушники левой рукой прижал к уху. Поднес ко рту гарнитуру, которую держал в правой и рявкнул.
— Яволь!
Что-то доложил старшему из «камуфляжных». Тот выслушал, кивнул и отдал короткую команду. «Камуфляжные» задвигались, подтянулись, изобразили на лицах служебное рвение. Нет все-таки не роботы, а солдаты, пусть и покруче обычных. Однако их поведение указывало на скорое прибытие неведомого начальства. И оно прибыло. Сначала послышался шум мотора. Где-то за деревьями проходила невидимая с этой поляны дорога. Затем с этой стороны на поляну вышли трое.
Передний, лет тридцати. Черная с серебряным форма, фуражка с высокой тульей, надраенные до зеркального блеска сапоги. Воплощенные воля и подавление. По траве печатает шаг как по брусчатке Унтер ден Линден. Вот только росточка бы ему добавить, сантиметров десять-пятнадцать. Как той белокурой бестии, почтительно отстающей на полшага справа от своего высокого по должности, но низкорослого начальства. На бестии такая же камуфляжная форма, как и на догнавших меня солдатах. Третий шел сзади и я никак не мог разглядеть его. Только когда они приблизились на полсотни метров, я увидел, что третий это благообразный седой джентльмен лет пятидесяти в элегантном сером костюме.
Когда троица приблизилась, старший из «камуфляжных», он один был вооружен только пистолетом, завопил «Хайль Гитлер!» и вскинул правую руку в нацистком приветствии. Остальные замерли навытяжку. С другой стороны белокурая бестия также замер и вытянул руку. Черномундирный приветствовал собравшихся неторопливым взмахом правой полусогнутой руки. Прервав доклад подчиненного, он шагнул ко мне, окинул презрительным взглядом, как ушатом ледяной воды окатил и повернулся к подошедшему джентльмену, тот едва заметно кивнул, узнал, таки. Я не знал, что мне делать: то ли продолжать сидеть, то ли кинуться на черномундирного, в надежде, что подчиненные в страхе за своего начальника просто пристрелят меня. Эсэсовец что-то скомандовал.
— Яволь, герр штандартенфюрер! — вытянулся белокурая бестия и продублировал приказ «камуфляжным».
Те подхватили меня под руки и потащили к дороге. Я попытался дернуться, да куда там! Троица двинулась за нами, к ним на почтительном расстоянии пристроились остальные, проводники с собачками успели куда-то исчезнуть — они больше не требовались. Машин оказалось две. Одна легковая, я не смог определить ее марку, и грузовик с трехлучевой звездой. Эсэсовцы запихнули меня и сами забрались в кузов. Весь путь я проделал с завязанными глазами. Ехали долго, но вот машина, сбросив скорость, запетляла по улицам населенного пункта. Остановилась, тронулась, опять остановилась, сдала задом, пискнула тормозами. Меня вытащили из кузова, ввели в здание, пахнущее хлоркой и еще какой-то медициной. Провели по коридору и втолкнули в какое-то помещение. Здесь повязку сняли.
Помещение оказалось душевой. Вместе со мной в душевую ввалились двое охранников с оружием. Один из эсэсовцев начал что-то говорить мне, но я больше ориентировался на жесты: мне приказывали снять одежду и вымыться. Нигде не встречал, чтобы душ входил в обязательную процедуру перед расстрелом, могли бы и вообще не возиться, а просто отправить в лагерь. Но раз хотят видеть меня чистым, значит, я зачем-то им нужен, значит, еще поживем. Но что это будет за жизнь? Вещи я хотел повесить на крючок, но эсэсовец указал в угол — кидай туда. Неприятно, когда на тебя голого пристально пялятся два мужика. Понимаю, они не по своей инициативе, у них приказ, но все равно противно. А тут еще нарисовалась средних лет немка в сером платье с белым передником — принесла полотенце и белье, подчеркнуто смотрела только перед собой, сквозь присутствующих.
Вымывшись и вытеревшись, я натянул принесенное белье. Новое, немецкое. Дальше по коридору. В коридоре никого, только стук солдатских ботинок по дощатому полу. Лестница на второй этаж, опять коридор, дверь, ничем не выделяющаяся на фоне остальных. За дверью меня уже ждали.
— Не могу сказать, что рад вас видеть.
— Взаимно, Гарри. А где этот ваш штандартенфюрер?
— Уехал обратно в Берлин.
— Большая шишка?
— Не очень. Но работает в центральном аппарате. А в сорок пятом будет отвечать за эвакуацию музейных ценностей.
— Понятно. И чем вы его купили?
— Как обычно, жизнью после войны, — усмехнулся сэр Джеймс.
После этой усмешки мне почему-то показалось, что скромный домик в Аргентине на берегу океана штандартенфюреру все же не светит. Кому он будет нужен после войны?
— А собственная судьба вас не интересует? — продолжил Гарри.
— Очень даже интересует, но если бы вам нужен был мой труп, то не стали бы тащить меня сюда, а пристрелили на месте. Кстати, где мы находимся?
— Госпиталь ваффен-СС. Для всех вы важный русский пленный, числящийся за шестым департаментом РСХА.
Действительно, помещение, в котором мы находились напоминало больничную палату: белые стены, покрашенные масляной краской, металлическая кровать, тумбочка, стул. Но на окне решетка, а дверь запирается снаружи. В коридоре же осталась пара лбов в эсэсовском камуфляже. Если бы они ушли, то их топот я услышал.
— А шестой департамент это…
— Разведка. Здесь вас немного подлечат, приведут в форму, а потом мы отправим вас обратно…
— Как обратно?!
— А вы бы хотели остаться здесь навсегда?
— Нет, не хочу.
— Вот и радуйтесь!
Гарри сорвался, до сих пор он старался держать марку невозмутимого английского джентльмена, но тут его понесло. Он забегал по палате, выдавая малосвязанные реплики.
— Я целый год гоняюсь за тобой, и каждый раз стоит мне только приблизиться, как ты исчезаешь! Ты гвоздь в моем ботинке, заноза в заднице! И на все это я потратил год! Год своей жизни! И все только ради того, чтобы вышвырнуть тебя обратно, здорового и невредимого!
Гарри немного успокоился и постарался вернуться к прежней роли. Выждав паузу, я спросил.
— Так что все-таки происходит? И что с тем хронокатаклизмом, из-за которого меня сюда притащили?
— Ничего. Растворился, рассосался сам по себе. Яйцеголовые выдвинули теорию, что вы являетесь неким источником, действия которого дестабилизируют систему. Более того, последствия ваших действий сохраняются до тех пор, пока вы находитесь в системе. Стоит вас убрать и система сама их нивелирует.
— А ваше присутствие в этом времени к дестабилизации не приводит?
— Нет, не приводит. Мне такие случаи не известны. Мы действуем осторожно и продуманно, ни во что не вмешиваясь. Во всяком случае, направо и налево из пушек не палим, как некоторые. Да и не навечно мы здесь, когда эта война закончится — уйдем.
— Но источник дестабилизации можно убрать и по-другому.
— Это был бы самый худший вариант. Есть теория, что если вы умерли бы здесь, то стали частью информационного поля этой системы и все накопленные изменения тоже остались здесь и неизвестно, чем они отозвались в будущем. Поэтому вас просто отправят обратно. Кстати, вы не замечали, что система сама сохраняет вам жизнь? В теории, вы не можете умереть до своего рождения. Сколько раз вы попадали в переделки, из которых, казалось, не было выхода, но выбирались живым и здоровым? Рядом с вами гибли молодые и более опытные бойцы, а у вас ни царапины?
Я вспомнил: расчет Илизарова, Витек, попадание бомбы в огневую позицию, с которой я отлучился за полминуты до этого, чудесное спасение из камеры смертников в лагере под Орлом… И еще по мелочи набиралось только за последние полгода. Для одного человека, действительно, многовато. Или не выходит за пределы обычного везения? Да-а, наводит на размышления. Может, Гарри прав?
— Значит, я запросто могу на амбразуру лечь? Пулемет, по идее, должно заклинить?
— Попробуйте. Только не здесь. И не забудьте убедиться, что пулеметчик ушел на обед. Боюсь, такого издевательства над здравым смыслом никакая система не выдержит.
— Еще один вопрос. Как вы меня нашли?
— После того, как ваш корпус в марте попал в окружение, мы обратились к нашим немецким коллегам. Среди пленных вас не было, но пометка на ваших данных осталась. Мы прошерстили вышедших из окружения — никто ничего не мог о вас вспомнить. Тогда предположили самое худшее, но тут вы опять всплыли уже в другой части. Стоило только послать за вами людей, как опять пропали. Машину потом нашли, даже труп водителя идентифицировали. И вдруг неожиданно ваша фамилия всплывает в дулаге под Орлом да еще с пометкой «расстрелян при эвакуации лагеря». Но я не верил, нет, не верил, что вас можно просто так расстрелять. И как видите, не зря. Система сработала второй раз уже здесь в Германии. Но скоро мы с вами распрощаемся, надеюсь, навсегда.
— Быстрее бы.
— Быстрее? Да вы себя в зеркале давно видели? У вас же такой вид, будто только что из концлагеря сбежали.
— Пошутил, да? Тебя, козла, туда хотя бы на пару дней! Гнида, ты, натуральная.
— Хорошо, признаю — шутка была неудачной. Но извиняться не собираюсь.
— Засунь свои извинения себе…
Минуты через две поток моего красноречия иссяк и Джеймс, наконец, продолжил.
— Для начала, за месяц вас подлечим, откормим. Вот тогда можно и назад возвращаться. А пока отдыхайте и набирайтесь сил. Не буду вам мешать.
Потянулись однообразные больничные дни. В принципе, ничего такого, что могло приковать к больничной койке, у меня не было. Слишком мало времени я провел в плену, а на ремонте железнодорожных путей некоторые пленные работали уже не первый год и помирать пока не собирались, хотя некоторые и не выдерживали. Стерегли меня строго, за дверью всегда находилась пара охранников. В туалет, в душ, только в сопровождении и так, чтобы все время был на глазах. Каждый день на два часа выводили на прогулку. Почетный эскорт следовал в трех метрах позади, готовый действовать в любую минуту.
Кроме охранников со мной общались доктор и медсестра. Доктор осматривал меня раза два в неделю, ничего, естественно, не находил. Нормальный такой доктор, эсэсовский: приказали — лечит, прикажут — вколет воздух в вену. Никаких эмоций. Медсестра — белокурая фройляйн, лет двадцати. Мечта истинного арийца: губки бантиком, носик чуть вздернут, глазки голубенькие-голубенькие, тупенькие такие, просто прелесть. И подержаться есть за что, во всех местах. Трижды в день она приносила пищу из госпитальной кухни и уносила грязную посуду. Стоило ей перешагнуть порог моей камеры-палаты, как глазки ее леденели, губки брезгливо поджимались. Понимаю, тяжело ей, истинной арийке, за славянской свиньей ухаживать. Не иначе накосячила где-то и сюда ее сослали в наказание.
Зато как она щебетала с охранниками у двери! Я, естественно, ничего не понимал, но слушал, скучно потому что. Самому-то поговорить не с кем, ни врач, ни медсестра, ни, тем более охранники, по-русски ни слова не знали, да и я в немецком недалеко продвинулся. И еще одного я никак не мог понять: лагерные вахманы все сплошь из выздоравливающих, всех, кто с двумя руками, ногами и глазами гонят на восточный фронт, а меня постоянно охраняют два здоровенных лба. Но они же еще и меняются! Итого четверо на меня одного, вроде как при деле. При том, что бежать я не собираюсь. Нет, конечно, ни Германию, ни Гитлера, эта четверка спасти не может, но… А сколько таких еще по тылам кого-то охраняют? Тенденция, как говорится, налицо. Ничего, и двух лет не пройдет, как до всех доберутся.
Спустя месяц, я уже привыкать к такой жизни стал, меня опять посетил сэр Джеймс. Когда он вошел, я в первое мгновение его не узнал. Сэр как-то осунулся, потух и постарел лет на десять, похоже, у него большие проблемы.
— Вы за мной?
— Да, собирайтесь. Ах, да, — спохватился он, — у вас же нечего собирать. — Сейчас вам сделают укол снотворного, отвезут на нашу здешнюю базу и отправят в свое время.
— У вас проблемы? Они связаны со мной?
— Нет, нет у меня никаких проблем. Вообще никаких.
Врет. Сразу видно, что врет. И проблемы его именно из-за меня. Сэр Джеймс направился к выходу, но дверях задержался и, обернувшись, спросил.
— А что бы вы сделали с человеком, открывшим возможность путешествия по времени?
— Убил!
Это слово сорвалось с моего языка еще до того, как я успел дослушать вопрос до конца. И сейчас это было правдой — убил бы. Пристрелил не задумываясь, нож всадил в гада в тот же миг, как только представилась возможность, душил бы и чувствовал утекающую между пальцев чужую жизнь не испытывая ни малейших угрызений совести.
Стоявший в дверях постаревший сэр разглядывал меня пристальным немигающим взглядом так, будто увидел впервые.
— Что вы так на меня уставились? Или у меня третий глаз на лбу появился?
Англичанин проигнорировал мой вопрос, похоже, он глубоко ушел в свои мысли, потом задумчиво повторил.
— Убил…
Джеймс слегка тряхнул головой и вернулся обратно из своих размышлений, взгляд его опять стал живым и осмысленным, видимо, он принял какое-то решение. Уже поворачиваясь, чтобы уйти он обронил.
— А ведь всего через месяц после вашего возвращения он защитит диссертацию на физфаке университета. И поторопитесь, у вас будет не больше двух месяцев.
Щелкнул замок, и теперь была моя очередь замереть с полуоткрытым ртом — только что, Джеймс сдал мне ключевую фигуру во всей этой истории и прозрачно намекнул, что с ним нужно сделать. И в какие сроки.
Очнулся я в темноте, но сразу понял, что лежу у себя в гараже между стеной и машиной. Выбравшись из этой щели, толкнул ворота — не заперты. Несколько минут постоял, вдыхая прохладный осенний воздух, голова понемногу начала проясняться. С возвращением Гар…, хрен с ним, пусть будет Джеймс, не соврал. Но что он имел в виду, когда говорил о двух месяцах? Через два месяца неведомый пока гений-злодей свалит из зоны досягаемости или эти два месяца отведены мне? Непонятно, но в любом случае за месяц надо успеть. А про какой университет он мне говорил? По стране их… Нет он не полный идиот, был бы какой-нибудь Новосибирский — так бы и сказал. Будем исходить из того, что университет местный, возможно, Московский. Если это так — найду.
Кстати, а с чего бы это Джеймс на такое пошел? Ведь понимает, чем все это может закончиться, и для него лично тоже. Значит, альтернатива его не устраивает еще больше. Предположим, только предположим, что после защиты наш местный гений эмигрировал в Англию. Могли его пригласить после защиты диссертации? Вполне. Хорошо, идем дальше. Там он случайно или закономерно делает свое открытие. Но для продолжения исследований ему нужны деньги и он обращается к Джеймсу. Или к кому-то из его знакомых, а уже тот к Джеймсу. Неважно. Он стоит у истоков, на тот момент он один из главных. Но дело растет, развивается, требует новых финансовых вливаний и на сцене появляются парни из-за океана. Джеймса оттирают и ссылают в Москву прошлого века. А тут еще масса косяков со мной… В такую организацию вход рубль, выход — два. В случае чего не соскочишь, а все деньги в деле. Джеймс больше не нужен, более того — опасен. Тут не то, что за соломинку, за меня ухватишься. А чем он рискует в случае удачи? Да ничем, он ведь уже живет, а не будет этого открытия — вложит деньги во что-нибудь другое. Это мои фантазии, конечно, но правдоподобно. Вот и будем из этого исходить.
Приняв решение, я похлопал себя по карманам — пусто. Ни денег, ни документов, ни ключей. Сам же и закопал все это. Что там от всего этого за семьдесят лет осталось? Даже гараж не запереть. Ну и хрен с ним, главное — машина закрыта. И дома уже, наверное, волнуются. Прикрыв ворота, я отправился домой. Странное дело, еще несколько часов… Или дней? Или семьдесят лет назад? Но ведь они были, и лагерь, и немецкий госпиталь… А сейчас я здесь, домой иду. А завтра… Нет, на работу я завтра не пойду, завтра я начинаю спасение мира. И задницы одного седого джентльмена. Если получится.
В диссертационном совете нашего университета намечалась защита двух диссертаций. Одна никакого отношения к перемещению во времени иметь не могла. Вторая… Вот тут я засомневался. Сверхвысокочастотные электромагнитные поля высокой напряженности. Мне удалось добыть не только автореферат, но и текст самой диссертации. Хвала современным информационным технологиям! Прочитал. Вроде и близкая тема, а ничего непонятно. Пришлось обратиться к специалистам.
— Что скажете профессор? Вы что-нибудь поняли?
Прежде чем ответить, профессор снял очки и, прикрыв глаза, двумя пальцами потер переносицу. Затем сделав правой рукой полунедоуменный, полуизвиняющийся жест выдал заключение.
— Он или идиот, или гений. Скорее второе.
Профессор взял паузу, я промолчал и он продолжил.
— Кое-что я, конечно, понял, но именно только кое-что. Хотя задача поставлена интересная, очень интересная. И перспективная. Но методы решения…
— А что методы? — удивился я.
— Сделанные в работе выводы нужно подтверждать. Опыты нужны, эксперименты. Здесь-то и кроется слабость его диссертации: у него только голая теория. Да такая, что я просто не могу уследить за полетом мысли автора, и понять, как он пришел к таким заключениям. Исходные предпосылки взяты верные, это я вижу, а вот выводы… Нужно экспериментальное подтверждение. А у нас его не получить, вы же понимаете.
— Понимаю, — кивнул я. — А где его можно получить?
— В Америке, то есть в США.
— Или в Англии?
Профессор на секунду задумался.
— Можно и в Англии. Там финансирование похуже американского будет, но, например, в Оксфорде есть прекрасно оснащенная лаборатория соответствующего профиля.
— Понятно.
Чуть помедлив, я рискнул задать главный вопрос.
— А эта работа может иметь какое-либо отношение к перемещению материи в пространстве или во времени?
Профессор посмотрел на меня как дошкольника, случайно попавшего к нему на лекцию и рискнувшего задать самый дурацкий вопрос из всех возможных. Он уже открыл рот для того, чтобы дать мне отповедь, но потом закрыл его. Опять открыл и опять закрыл, так ничего и не сказав. Задумался. Надолго. Я не стал мешать ему — пусть подумает. Наконец он заговорил.
— Мне даже в голову не пришло рассматривать работу в таком аспекте. Это, конечно, абсолютно не научно, это какая-то фантастика. Но, почему нет? Извините, но большего я вам сказать не могу.
— И на этом спасибо, профессор.
Итак, будем считать, что клиент известен. Пора переходить к основной фазе операции.
— Павел Николаевич, не уделите мне несколько минут?
В свои двадцать пять Павел Николаевич выглядит лет на восемнадцать. Для женщины это хорошо, а вот для мужчины… Короче аспирант оказался типичным, просто классическим, ботаном-очкариком. Неожиданно встретившись в темном переулке с субъектом на голову выше и вдвое тяжелее, пусть и почти вдвое старше, он, похоже, малость струхнул. Но приличный костюм при белой рубашке и галстуке его успокоил.
— А мы разве знакомы?
Да как сказать. Сейчас я про него знаю все, или почти все, что можно извлечь из официальных бумажек и электронных баз данных. Типичная семья старых русских, уже неполная. Отец аспиранта трудился в уже несуществующем ящике. Женился довольно поздно на сотруднице того же ящика, тоже не девочке. Так что был он поздним ребенком, единственным и, вероятно, долгожданным и очень любимым. Но вскоре после его рождения, Союз развалился, ящик приватизировали и прикрыли, родители Павла Николаевича остались без работы. Мать пристроилась учительницей в школу, а отец скоропостижно умер — больное сердце не выдержало реалий новой жизни. Поэтому вырос он на скромную учительскую зарплату и телосложение его, результат не только генетики, но и плохого питания в детстве. Да и сейчас они не жируют, хотя парень старается, подрабатывает, где может, но все равно ходит в потрепанных штанах, с женским полом не общается, все семейное богатство — хрущевка, оставшаяся от родителей отца. Кстати, по месту жительства почти мой сосед, всего то пара километров.
— Нет, но у меня к вам есть разговор. Серьёзный и долгий. Да вы не волнуйтесь, ничего страшного не произошло и, надеюсь, не произойдет. Может, в кафе зайдем, там все и обсудим?
— А я и не волнуюсь…
На лице очкарика лежит печать сомнения, стоит ли со мной куда-то идти.
— Вот и хорошо.
Я взял аспиранта за плечо и буквально потащил к о входу в кафе, сделав вид, что не замечаю его сопротивления. Быстро убедившись в бесполезности своих усилий доход сдался и позволил затащить себя внутрь. Кафе — одно название, грязная, заплеванная и прокуренная забегаловка с непонятного происхождения бурдой, гордо именуемой здесь «кофе». Выбрав стол подальше от орущих колонок, я усадил за него аспиранта, а сам отошел к стойке. Вернулся с парой чашек. Потенциальный собеседник дождался-таки меня, не сбежал, воспользовавшись возможностью. Плюхнувшись напротив я хотел хлебнуть черного пойла из чашки, но передумал. Сколько ни готовился к этому разговору, а в самый ответственный момент все вылетело из головы, поэтому начал традиционно.
— Павел Николаевич, вы только не подумайте, что я сумасшедший…
Наш разговор, а точнее мой монолог длился минут пять. Пока я говорил, то видел: чем дальше — тем с большим скепсисом он воспринимает мои слова. Но стоило мне перейти к конечному предложению, как он взорвался.
— Нет, я не буду откладывать защиту! Это мой шанс! Это для меня все! А то, что вы рассказали это полный бред! Слышите меня?! Бред! И не суйтесь больше ко мне со своими бреднями!
С грохотом отбросив стул, взбешенный аспирант, выскочил из зала. Храбрый заяц. На происходящее никто не обратил внимания, посуда и мебель целы, остальное тут никого не касается. Да-а, недооценил я его. И разговор неправильно построил. Вряд ли теперь его можно будет переубедить, придется действовать по худшему варианту. Не хотел я этого, не хотел. Это тогда я Джеймсу сгоряча ляпнул, а сейчас уже успел перегореть. Но, похоже, другого выхода нет, только надо сначала решить несколько проблем. Решу, некоторое время у меня еще есть, но и затягивать не стоит. Не притронувшись к стоящей на столе бурде, я вышел в свежесть позднего осеннего вечера.
— Девушка! Не подскажите, где тут у вас цветы можно купить?
Пухленькая шатенка в мини дальшенекуда стрельнула в мою сторону глазками. Нет, клеить тебя я не собираюсь. Мне действительно нужны цветы.
— Здесь направо, дальше прямо. Там увидите.
— Спасибо!
Жужжание стеклоподъемника отрезало кондиционированную атмосферу салона от осенней свежести города. Вот я и опять за рулем. Не буду говорить чего, а точнее сколько, мне это стоило, но водительское удостоверение и свидетельство о регистрации я восстановил очень быстро. С паспортом сложнее, но он пока и не очень нужен, обойдусь справкой об утере. Пейзаж за стеклом плавно тронулся с места. После поворота направо, палатка с вывеской «Цветы» отыскалась довольно быстро, даже второй раз спрашивать не пришлось.
— Какие вам?
Вопрос симпатичной блондинки поставил меня в тупик. А, в самом деле, какие? Розы? Вроде, не соответствуют моменту. Гвоздики? Скромно, дешево и не подходит.
— Это у вас что?
— Лилии.
— Вот их и давайте.
— Сколько?
— Десять. Нет, лучше — двенадцать.
Чем лучше? Не знаю, но пусть будет двенадцать. Дежурная улыбка девушки увяла сообразно назначению покупки.
— Пару этих веточек добавьте и упакуйте, пожалуйста.
Блондинка шуршала прозрачной пленкой. Я следил, как ее ловкие пальчики привычно справляются с желто-красной ленточкой и думал, что неожиданно принятое решение свернуть с МКАДа не на М4, а на М5, в общем, правильное. В моем положении, один день ничего не значит — время у меня пока есть, а когда удастся сюда выбраться еще раз — неизвестно. Да и удастся ли вообще? Дело мне предстоит мерзкое, грязное и опасное.
— Спасибо. Сколько с меня?
Расплатившись, выхожу на улицу и замираю, подставив лицо еще теплому осеннему солнцу. Хорошая в этом году осень — солнечная и дождей немного. Однако, пора. Буквально через пару минут подъезжаю к набережной и поворачиваю направо. После войны здешний рельеф изменился неузнаваемо. Ниже по течению построили плотину, и река разлилась, в некоторых местах, больше, чем на километр. Да и берег, видимо, тоже отсыпали. О зданиях я и не говорю — левобережной части города раньше практически не было. Вода и песок скрыли пойму реки с остатками огневых позиций батареи. Братские могилы бойцов, писали, перенесли на незатопляемую часть, но, подозреваю, не все. Да и точного номера я все равно не знаю. Поэтому пусть будет так.
Единственный ориентир, оставшийся неизменным — железнодорожные мосты, по ним и ищу место. Вроде здесь. Бросаю машину на парковке возле панельной многоэтажки и дальше иду пешком. До воды отсюда меньше сотни метров, спуск довольно крутой. Несколько минут стоял, разглядывая правый берег, с которого едва убрался шестьдесят девять лет назад. Или всего год? Совсем я запутался. Торопливо нагнулся и положил лилии в зеленоватую, холодную воду. Я не знаю, один Сашка здесь остался или кто-то еще, но прощения прошу у всех, поименно.
Справа слышен звук шагов, поворачиваюсь и ловлю удивленный взгляд мужичка с удочкой — стоит у воды немолодой уже мужик, бормочет что-то, цветы вон в воду бросил. Присутствие постороннего человека меня смущает, я торопливо взбираюсь наверх и спешу к машине, не оглядываясь. Не могу обернуться.
К вечеру я уже был в Рязани. Там переночевал и рано утром отправился дальше. В Рязанской глубинке изменений намного меньше, чем в городской части Воронежа, но нужное место удается найти далеко не сразу — прошлогодние лесные пожары постарались. От приметной раздвоенной березы осталась большая обугленная рогатка, но нужная, ничем не приметная низинка, никуда не делась.
Низинка, низинкой, а надо было в свое время какой-нибудь надежный ориентир оставить. А так… К полудню я вырыл посередине большую яму глубиной сантиметров семьдесят. Устал, как собака, и ничего не нашел. Хоть бы закопал на меньшей глубине! К тому же каждый проведенный здесь час увеличивал опасность того, что кто-нибудь заинтересуется стоящей на обочине машиной и тем, что ее хозяин делает в лесу. Тем более, что машина у меня приметная, особенно для такой глухой провинции.
Когда я почти отчаялся что-либо найти и уже подумывал бросить это занятие, как лопата вывернула вместе с землей кусок брезента. Есть! Тут он, никуда не делся! Полминуты спустя я уже держал в руках килограммовый сверток. Под брезентом оказалась упаковка из плотно свернутой и туго перевязанной автомобильной камеры. Разворачивать не стал, внутри все в солидоле. Сунул находку в полиэтиленовый пакет и, прихватив лопату, заспешил к машине. Подушку заднего сиденья я открутил заранее, оставалось только подложить под нее пакет и прикрутить обратно. Сквозь подушку пакет не прощупывался и при беглом обыске его не найти. Мотор успел остыть, но я не стал ждать, пока он прогреется, нажал на газ.
К Питеру подъезжал уже за полночь, устал, но в Тосно ушел с трассы налево и через час добрался до дачи. Дачный сезон уже закончился и никто не должен помешать мне. К концу дороги глаза уже слипались, в ворота еле вписался. Плюнул на все и пошел спать, все дела завтра, завтра, завтра…
С утра притащил из гаража бутыль с керосином и осторожно развернул резину. С виду все в порядке, ни пятнышка ржавчины — времени и солидола во время консервации я не пожалел, но как дело обстоит на самом деле еще предстояло проверить, особенно патроны. Собрал, лишних деталей, вроде, не осталось. Предохранитель — работает, потянул пуговки взвода затвора и отпустил — нормально, нажал на спуск — ударник послушно щелкнул. Порядок! Ах, да… Вставил пустой магазин и опять потянул пуговки, затвор, как положено, встал на задержку. Опустил предохранитель, затвор со щелчком ушел вперед, спуск ходит свободно. Теперь предохранитель вверх, спуск, щелчок ударника. Ажур.
Теперь самое главное. Решил, что для проверки прицела и работы автоматики, двух патронов мне хватит. Ушел в лес на пару километров, народ сюда обычно не ходит. И охотничий сезон еще не закончился, если даже услышит кто-то, то наверняка решит, что охотники. В качестве мишени приколол к стволу обычный лист формата А4. Еще раз удивился жесткости пружины магазина, патроны приходится вставлять, прилагая серьезное усилие. Один, второй, магазин становится в рукоятку как влитой. Отхожу от мишени на пятнадцать шагов, загоняю патрон в ствол и целюсь в центр листа. Бах! Неожиданно легкий спуск для такого серьезного пистолета. И еще раз, бах! Синеватый дымок поднимается из ствола и рассеивается в холодном осеннем воздухе. Я бы не удивился отсечке, семьдесят лет, как-никак, но сработали оба. А что у нас с мишенью? Неплохо, обе дырки чуть ниже и левее центра. Рука не дрожит, и глаза не бегают, значит, с десяти шагов в дом не промажу. Итак, все готово, осталось только выбрать время и место.
Место я нашел просто идеальное — узкий и темный проход, которым практически никто не пользовался, но кратчайший путь от остановки трамвая до дома аспиранта проходил мимо него и он ежедневно ходил именно этим маршрутом. Уличный фонарь, горевший над тротуаром у угла дома, отбрасывал в проход такую тень, что с трех метров невозможно было различить стоящего в проходе человека. А идущий мимо, попадал в световое пятно, проходя буквально в пяти-шести метрах от стрелка. Захочешь — не промажешь. Еще бы глушитель… Но где сегодня найдешь глушитель на «парабеллум»? Придется так.
Со временем тоже определился быстро. Домой аспирант возвращался обычно поздно, засиживался на кафедре, ведь своего компьютера у него не было. Разброс по времени возвращения — около получаса, осталось позаботиться только об алиби. В тот день я взял билет на десятичасовой сеанс в ближайшем кинотеатре. На входе поскандалил с контролершей, чтобы запомнила. Место мое было с краю, поблизости от выхода. Убедившись, что контролерша во время сеанса ослабила бдительность и отвлеклась, незаметно выскользнул из зала. Билет, естественно, сохранил. Связь между нами вряд ли возможно отследить, но мало ли.
Без двадцати одиннадцать я уже занял позицию в темном проходе. Появится сегодня или нет? Пройдет, не пройдет? Где-то в глубине души, я надеялся, что он уже вернулся домой, и стрелять мне не придется. По крайней мере, сегодня. Но «парабеллум» продолжал оттягивать карман ветровки своей неприятной тяжестью, напоминая о неизбежности. Патрон в ствол был дослан заранее, чтобы не спугнуть жертву достаточно громким сдвоенным щелчком. Минутная стрелка часов подобралась к предпоследней риске. Без пяти.
За последние пятнадцать минут через очерченное фонарем пятно прошли молодая пара, компания припозднившихся тинейджеров и пожилой мужчина, выгуливающий какую-то микроскопическую собачонку. Никто, кроме зловредного гнидодава, меня не заметил. А эта тварь с противным тявканьем устремилась в сторону моего укрытия. К счастью, коротенькие ножки не позволили преодолеть разделявшее нас расстояние быстрее, чем ушедший вперед хозяин отозвал своего «защитника». Собачонка тявкнула в последний раз и затрусила обратно.
Еще кто-то идет. В свете фонаря возникла тщедушная фигурка — он! Я торопливо выхватил из кармана пистолет, поймал его в прорезь прицела. Парень шел привычной дорогой, не глядя по сторонам, заметить меня в темном углу он не мог, но и мне прицелится, в таких условиях, оказалось непросто. Хрен с ним, тут всего метров десять. Палец попытался выбрать холостой ход спускового крючка, но тот поддался слишком легко. Предохранитель! Секунда потребовалась на его выключение, расстояние между нами сократилось еще больше, даже целиться уже не надо, можно так, навскидку. Щелк! Что за черт? Осечка?! Двойной щелчок затвора и патрон с негромким звоном прыгает по асфальту. А парень, по-прежнему ничего не замечая, идет дальше, теперь он удаляется от меня, стрелять придется в спину. Прорезь, мушка, выбрать холостой ход. Спуск слегка упирается, и жизнь человека повисает на каком-то миллиметре хода, оставшегося до схода ударника с шептала.
Силуэт парня растворился в темноте позднего осеннего вечера, я так и не смог дожать спуск. Нет, я — не убийца. Одно дело в прущего на тебя фрица, и совсем другое в спину человеку, который ничего плохого тебе не сделал. Или сделал? Или еще сделает? Запутался я в этих хронологических последовательностях. Большой палец опустил предохранитель, пистолет исчез в кармане ветровки и ноги вынесли меня в парк. На мостике я притормозил. Здесь я собирался избавиться от запачканного в крови оружия. Крови сегодня не было, но зачем мне сейчас пистолет, если я все равно не смог им воспользоваться? Тяжелая кривулина исчезла из виду, отозвавшись громким бульком откуда-то из темноты.
Я повернулся, чтобы пойти домой, но тут мне в глаза ударил яркий свет мощного фонаря.
— Эй, что делать не хрен!
Глаза уже были прикрыты ладонью, но на несколько секунд я ослеп.
— Сейчас мы посмотрим, кому тут делать не хрен! Что, до урны донести не мог?
Патруль! Откуда они тут взялись? Пэпээсники приблизились и старший грозно потребовал.
— Документы!
Я протянул ему паспорт. Паспорт у меня в обложке из натуральной пупырчатой кожи, в паспорт вложена визитка. Мен… Полицейский не оставил ее без внимания. Правильно, это тебе не бомжей гонять и не на местных алкашах отрываться. Однако фасон надо держать, придав голосу соответствующей моменту строгости, старший из пэпэсников спросил.
— Оружие или наркотики есть?
— Что вы, откуда?
— Посмотри, — бросает старший младшему.
Тот лезет хлопать меня по карманам. Висящий на шее автомат мешает ему. Каких либо неприятностей от меня они не ждут, поэтому ведут себя соответствующе.
— Нет ничего, — сообщает младший.
— А что это вы так поздно здесь делаете?
— Время еще детское, а я из этого возраста уже давно вышел. А сейчас из кино домой иду. Вот у меня и билет остался.
На билет полицейские не обратили никакого внимания. Когда формальные поводы были исчерпаны, старший все-таки решил пристыдить меня.
— Солидный человек, в возрасте, а бутылку до урны донести не можете.
— Извините, больше не повториться.
Полиционеры пошли дальше, подсвечивая фонариками свой путь. Когда они удалились метров на десять я, наконец, выдохнул — пронесло. Появись они парой минут раньше, и я влип бы по полной программе. А, если бы грохнул аспиранта, то примчался прямо к ним в объятия. Выходит эта осечка спасла не только его, но и меня. Все, хватит. Товарищ Сталин, конечно, был большим ученым, но и он нередко ошибался, бывало, что по-крупному. Надо идти своим путем, более привычным. Сработать тоньше, изящнее, а самое главное, надежнее и без всякого криминала. Приняв решение, я направился обратно к панельным многоэтажкам, так короче дойти до трамвайной остановки.
Проходя промежуток между домами, который покинул буквально десять минут назад, я заметил блеснувший в свете фонаря золотистый цилиндрик. Взять? Не взять? На кой он нужен? На память о неудавшейся операции. Я поднял патрон с земли. На капсюле отметина от бойка — механизм пистолета сработал как нужно, дефектным оказался сам капсюль. Ничего удивительного после стольких лет, проведенных в земле. Опустив патрон в карман, я поспешил покинуть место не состоявшегося преступления.
Поставленный на восемь будильник мобильного телефона выдал бодрую песенку в исполнении импортной певички, довольно популярной пару лет назад. Каждый раз, как ее слышу, собираюсь сменить мелодию, и каждый раз потом забываю. Продрав глаза, я сполз с кровати и едва вписавшись спросонья в дверной проем, сунулся сначала в туалет, а потом в ванную комнату. Из зеркала на меня глядела небритая, слегка опухшая, красноглазая и лысая физиономия. Плеснул на нее водой, и сразу стало полегче. Денек вчера выдался — не приведи господи! И поспать удалось всего часа четыре, полночи с этим говнюком провозился!
Вечером, на заседании диссертационного совета, его диссертация провалилась. Не скажу, что с треском, всего двух голосов не хватило, но суть от этого не меняется — дело было сделано. В любом совете всегда найдется, как минимум, пара соперничающих группировок. Поэтому, успешная защита, чаще всего, есть результат компромисса между ними. А если одну из группировок соответствующим образом простимулировать, да еще подкинуть несколько отрицательных отзывов на реферат, подписанных известными, уважаемыми людьми… Да и сам подзащитный тоже хорош — оставил в работе массу белых пятен, которые не смог или не захотел пояснить. И с экспериментальным подтверждением у него проблемы. Понимаю, что здесь условий нет, а в Штаты или Британию его теперь вряд ли позовут, но я, собственно, именно этого и добивался.
Однако пора переходить к завершающему этапу операции. Я натянул штаны и рубашку, сунул ноги в домашние шлепанцы и отправился в кухню. Там залез в холодильник и вытащил из него литровую банку с прозрачной жидкостью. Взболтал. Со дна поднялся небольшой осадок — сойдет. Для этого разговора, клиент мне нужен малость обалдевший, но все-таки хоть немного соображающий.
— Батарея, подъем!
На мой вопль никакой реакции не последовало. Еще бы, считай четверть того, что было приготовлено для банкета он с горя в одну харю выжрал. Пришлось буквально тащить его на себе, предварительно проблевав в университетском туалете. Таксист, гад, за ночное время и нетрезвого клиента две тонны содрал. Ну да и черт с ними, сейчас другие дела творятся, гораздо более серьёзные. Придется основательно потрясти спящего. О, шевелится начал, а глаза еще не открыл.
— М-м-м.
— На вот, выпей рассольчика. Это тебе не магазинная бурда, хороший рассол, домашний.
Стуча зубами о край банки, бывший аспирант сделал несколько глотков, закашлялся и, наконец, открыл глаза. Узнал.
— Вы?
— Да я, я. И защиту твою я провалил.
— Вы?
— Вы, вы. Заладил. Да мы. Ну чего уставился? Рога у меня еще не выросли. И копыта с хвостом тоже.
— Н-но з-зачем?
— За тем. Во-первых, чтобы в следующий раз думал прежде, чем класть из-под хвоста на то, что говорят тебе умные люди. Во-вторых… Ты помнишь, что именно я тебе говорил?
— Но этого же не может быть! Это бред, бред…
— Бред, говоришь?
Правая сама сжалась на горле бывшего аспиранта. Я увидел его расширяющиеся от ужаса глаза, но остановиться уже не мог.
— Не веришь, значит! Тебе доказательства нужны?! Доказательства?! Да я…
А что я? Что я? Я с трудом остановился и выпустил шею полузадушенного парня. Он упал обратно на диван, машинально прикрыв горло двумя руками.
— Извини, не удержался. Нет у меня никаких доказательств. Да и какие могут быть доказательства в этой истории? Хотя…
Я подошел к мебельной стенке, выдвинул нижний ящик и нашел в нем блестящий цилиндрик. Вернувшись к дивану, вложил патрон в руку бывшего аспиранта.
— Знаешь, что это такое?
— П-патрон.
— Это не просто патрон. Это — твой патрон. Да ты на капсюль взгляни. Взгляни, не бойся, он уже не кусается. Видишь?
Он только кивнул.
— Я тогда только-только оттуда вернулся и на все готов был. Если бы не эта осечка, с тобой сейчас не я беседовал, а апостол Петр. Дошло?
— Н-неужели это правда?
— Нет, это я от не хрен делать тебе сказки рассказываю.
Похоже, действительно, дошло.
— Да я вам верю, верю. И-и что дальше будет?
— Да ничего. Мне и нужно-то было твою защиту сорвать, и я это сделал. Сменишь название, пару страниц перепишешь, и через год защитишься. В конце концов, в России не один совет по этой специальности.
— Но ведь без степени меня на кафедру не возьмут.
— Не возьмут сейчас, возьмут через год. А пока я тебя к делу пристрою. На хлеб заработаешь, и для себя, и для мамы. Даже с маслом. И с экспериментами попробую помочь. У нас здесь, конечно, не Оксфорд, да и я не Джордж Сорос, но кое-что все же имеется. А про Штаты с Англией — забудь, даже не думай! Ну что, согласен?
Парень, наконец, смог сесть, одной рукой продолжая потирать горло. Выглядел он ошарашенным — за несколько минут его сначала чуть не придушили, и тут же предложили сладкую морковку. Я впился в него взглядом. Согласится или нет? Как я успел понять, он не упертый фанат. Наука для него, в конечном итоге, лишь средство, с помощью которого он хотел выбраться из нищеты. Может, он и гений, но ему тоже хочется, чтобы на него, задохлика, девочки внимание обращали.
— А если я откажусь?
— Выпей рассольчика и подумай еще раз. Если не согласен, тогда катись на все четыре стороны. Учителем физики куда-нибудь пристроишься. Только поосторожнее там — современные школьнички за двойку могут и по морде дать.
— Хорошо, я согласен.
Ну вот и отлично. Плохо все было или хорошо, но это наша история и не надо ковыряться в ней с риском не в лучшую сторону изменить настоящее. Надеюсь, что после его согласия никто уже никто не будет шарить закромам истории, пусть все остается, как и было. Впрочем, почему надеюсь? Есть же проверочный тест.
Эпилог
Кажется это здесь. Деревья нависали над узкой грунтовой дорогой, образуя почти полную арку, их ветки оставляли свободными всего чуть больше двух метров свободного пространства. Грунтовка была полностью засыпана снегом. Снегопады начались неделю назад, значит, как минимум неделю, по ней никто не ездил. И не ходил. Хотя никакого «кирпича» на въезде не было. Я тоже не рискнул проехать дальше — мало ли какие сюрпризы могут таиться под пушистым ровным покрывалом.
Осторожно ступая по хрустящему снегу я пробирался через тоннель, образованный ветвями разросшихся деревьев. Одно неосторожное движение — и сверху летит небольшой сугроб, рассыпающийся по пути на отдельные снежинки, так и норовящие попасть за шиворот. Дорога все также плавно изгибалась, ограничивая видимость. Когда впереди появился просвет, я удвоил осторожность, но буквально через десять метров выпрямился и на открытое место вышел не таясь.
Я сразу узнал его. Несмотря на проваленную в нескольких местах шиферную крышу, пустые глазницы окон и висящую на одной петле входную дверь. Над всем этим парило ощущение безлюдья и запустения. Этим объектом не пользовались, по крайней мере, несколько лет, а скорее несколько десятков лет. Только труба котельной по-прежнему стояла прямо и несокрушимо, да ржавая колючая проволока еще свисала с кое-где уцелевших столбов забора. Был бы поблизости населенный пункт — растащили на кирпичи, народ у нас хозяйственный, а так никому не нужные здания продолжают стоять, постепенно ветшая и понемногу разваливаясь.
Нечего здесь искать. С минуту постояв, я отправился обратно, стараясь ступать по своим же следам. Больше меня никто не беспокоил. Никогда. Порой мне кажется, что ничего и не было, что это был сон, бред, игра воображения. Тем более, что от всего произошедшего остались одни только воспоминания. Да еще патрон от «парабеллума» с отметкой бойка на капсюле, но и его я отдал.
Ладно, пора от воспоминаний вернуться к делам, которые не ждут. Я уже потянулся к папке с бумагами, но тут запиликал телефон.
— Да! Что?! Высоковольтный стенд? Так спалил или почти спалил? Почти не считается. Хорошо, технику безопасности я ему объясню, и следующего раза не будет. И сколько одна секция стоит, тоже расскажу. Все, пока.
Опять аспирант-переучка что-то нахимичил, точнее нафизичил. Надо будет поинтересоваться, что именно, а то, не дай бог, второй раз то же самое получится. Дотянувшись до папки, я вытащил из нее документы и углубился в чтение. Минут через пять, до меня дошло, что я так и держу перед собой один лист, но не могу прочитать ни слова.
Они проходили передо мной, по отдельности и целыми расчетами, взводами батареями, молодые и уже не очень, в шинелях и довоенных гимнастерках, ватниках и полушубках, в лагерных робах. Я искал, и их, и себя. Себя не нашел, не осталось в архивах никаких следов, разве что в германских, но туда я не совался. Обращался с запросами о судьбе Костромитина, Петровича, Рамиля, Аникушина, Хватова. Да много еще кого, но все впустую. А вот судьбу Руденко узнать удалось. Он не дошел, как мечтал, до родной Одессы, даже на правый берег Днепра не попал — навсегда остался на левом после налета немецкой авиации осенью сорок третьего. После него комбатом стал Сладков. Он сдержал свое слово и вернулся в свою батарею и с ней дошел до Берлина. Умер он уже в девяностые, и я мог бы с ним встретиться, если бы знал. Если бы только я тогда уже знал…


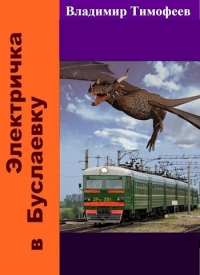










Комментарии к книге «Гвардии Зенитчик. Огневая позиция «попаданца»», Вадим Васильевич Полищук
Всего 0 комментариев