Robert Silverberg. Sundance (1967). Пер. – Д. Вознякевич. – _
Сегодня вы уничтожили в секторе А тысяч пятьдесят поедателей, и теперь ты не можешь уснуть. С рассветом Хэрндон и ты полетели на восток, зелено-золотистое солнце всходило у вас за спиной, и рассеяли нервнопоражающие гранулы почти над тысячей гектаров вдоль Разветвленной реки. Потом приземлились в прерии за рекой, где поедатели уже истреблены, улеглись на мягкой траве, на территории, где будет первый поселок, перекусили. Хэрндон сорвал несколько дурманных цветов, и вы с полчаса подремали. А когда пошли к коптеру, чтобы снова рассеивать гранулы, Хэрндон ни с того ни с сего сказал:
– Том, как бы ты отнесся к тому, что мы делаем, окажись поедатели вовсе не вредными животными, а гуманоидами, со своим языком, обрядами, историей и всем прочим?
Тебе вспомнилось, как в давние времена расправлялись с твоим народом.
– Это не гуманоиды, – ответил ты.
– А вдруг оказались бы гуманоидами? А что, если поедатели…
– Это не гуманоиды. Оставь.
Хэрндон жесток по натуре, потому и задает подобные вопросы.
Развлекается тем, что бьет по больным местам. И теперь в голове у тебя всю ночь вертится его небрежное замечание. А что, если поедатели… А что, если поедатели… А вдруг… А вдруг…
Ты ненадолго заснул и во сне плыл по рекам крови.
Глупость. Возбужденное воображение. Ты знаешь, что скоро прибудут поселенцы, и поедателей необходимо истребить. Это животные, и притом не совсем безвредные; поедая растения-оксигенаторы, они нарушают экологическое равновесие, потому участь их предрешена. Часть особей оставлена для изучения. Остальные должны быть уничтожены. Старая-престарая история – искоренение нежелательных существ. Но давай не осложнять себе работу нравственными терзаниями, говоришь ты себе. Давай не видеть во сне кровавых рек.
Да у поедателей и крови нет, по крайней мере способной течь реками.
Вместо крови у них что-то вроде лимфы, которая питает все ткани тела.
Удаление из организма отработанных веществ происходит таким же образом, осмотически. Функционально – это аналог твоей системы кровообращения, только у них нет сосудов, сообщающихся с главным насосом. Жидкость просто сочится в их телах, как у амеб, губок и прочих низкофилумных форм жизни.
Однако нервная система, пищеварительный тракт, строение органов и конечностей у них определенно высокофилумные. Странно, думаешь ты. И говоришь себе, уже не в первый раз, что чужаки – это прежде всего чужаки.
Для тебя и твоих товарищей главное в том, что биология поедателей позволяет уничтожать их бесследно.
Ты летишь над их пастбищами и рассеиваешь нервнопоражающие гранулы.
Поедатели находят их и поглощают. Через час яд распространяется по всему телу. Жизнь прекращается, и происходит быстрый распад клеток. Поедатели в буквальном смысле разлагаются на молекулы; похожее на лимфу вещество действует подобно кислоте, растворяя не только плоть, но и хрящеподобные кости. Через два часа на земле остается лужа. Через четыре не остается ничего. Поедателей миллионы, какая удача, что их трупы самоуничтожаются!
Иначе в какую покойницкую превратилась бы эта планета!
А что, если поедатели…
Проклятый Хэрндон. У тебя даже появляется желание пройти наутро обработку памяти. Удалить эти нелепые мысли из головы. Но на обработку нужно решиться. Нужно решиться.
Наутро он не решается. Обработка памяти страшит его; надо как-то самому избавляться от этого внезапного чувства вины. Поедатели, уверяет он себя, бессмысленные травоядные, несчастные жертвы человеческой экспансии, но пылкой защиты они вовсе не заслуживают. Их ликвидация не трагична, просто очень неприятна. Однако если земляне хотят владеть этой планетой, поедатели должны исчезнуть. Есть же разница, говорит он себе, между изгнанием индейцев из американских прерий в девятнадцатом веке и уничтожением бизонов в тех же самых прериях. Да, немного грустно при мысли об уничтожении громадных стад; жаль, что миллионы бурых мохнатых животных были истреблены. Но когда подумаешь о том, что было сделано с индейцами сиу, испытываешь не грусть и не жалость, а негодование. Разница есть. И прибереги свой пыл для подходящего случая.
Он выходит из своего полусферического домика на краю лагеря и направляется к центру. Мощеная дорожка поблескивает от влаги. Утренний туман еще не поднялся, и все деревца согнулись под тяжестью росы, капли которой покрывают их длинные зубчатые листья. Он останавливается и, нагнувшись, разглядывает паучка, плетущего асимметричную паутину.
Неподалеку маленькая нежно-бирюзовая амфибия осторожно крадется по мшистой земле. Но все же он замечает крошечное существо, осторожно берет и сажает на тыльную сторону ладони. Жабры и бока амфибии трепещут от страха. Цвет ее медленно меняется, пока не становится таким же, как и медный загар руки. Мимикрия маленького существа совершенна. Он опускает руку, и амфибия поспешно спрыгивает в лужу. Он идет дальше.
Ему сорок лет, он пониже большинства членов экспедиции, у него широкие плечи, крепкая грудь, черные блестящие волосы и прямой широкий нос. Он биолог. Это третья его профессия – он не добился успеха как антрополог и не удался как строитель-подрядчик. Зовут его Том Две-Ленты. Он был дважды женат, но детей у него нет. Прадед его спился и умер, дед пристрастился к галлюциногенам, отец был вынужден посещать дешевые клиники обработки памяти. Том сознает, что нарушает родовую традицию, но своего способа саморазрушения пока не нашел.
В главном здании он находит Хэрндона, Джулию, Эллен, Шварца, Чанга, Майклсона и Николса. Они завтракают, остальные уже за работой. Эллен поднимается, подходит к нему и целует. Ее короткие волосы щекочут ему щеку.
– Я люблю тебя, – шепчет она.
Ночь Эллен провела в домике Майклсона.
– Я люблю тебя, – отвечает Том и в знак особой привязанности быстро проводит пальцем вертикальную черту меж ее грудей. Подмигивает Майклсону, тот кивает, подносит кончики пальцев к губам и шлет поцелуй. Мы все здесь друзья, думает Том Две-Ленты.
– Кто сегодня рассеивает гранулы? – спрашивает он.
– Майк с Чангом, – отвечает Джулия. – В секторе С.
– Еще одиннадцать дней, – говорит Шварц, – и весь полуостров будет очищен. Тогда можно двигаться на материк.
– Только бы хватило гранул, – замечает Чанг.
– Хорошо спал, Том? – спрашивает Хэрндон.
– Нет.
Том садится и, нажимая кнопки, заказывает себе завтрак. На западе туман начинает заволакивать горы. В затылке у Тома что-то пульсирует. За девять недель, проведенных им на этой планете, произошла единственная здесь смена времен года – кончилась сушь и начались туманы. Продержатся они еще много месяцев. Не успеют равнины пересохнуть снова, как поедатели будут уничтожены и начнут прибывать поселенцы. По лотку скользит завтрак. Том берет его. Подсаживается Эллен. Ей двадцать с небольшим, это ее первая экспедиция. Эллен ведет документацию, но умеет и обрабатывать память.
– Тебя что-то гнетет, – говорит она. – Могу я помочь?
– Нет. Спасибо.
– Не люблю, когда ты хмурый.
– Это расовая особенность, – говорит Том Две-Ленты.
– Весьма сомневаюсь.
– Наверно, восстановление моей личности кончается. Травма была слишком близка к поверхности. Я, знаешь ли, просто ходячая оболочка.
Эллен мелодично смеется. На ней только короткая спрейоновая накидка.
Кожа у нее влажная, на рассвете они с Майклсоном купались. По возвращении на Землю Том хочет сделать ей предложение. После крушения дела со строительным подрядом он стал холостяком. Врач предложил развод как одну из мер по восстановлению личности. Иногда Тому становится любопытно, где теперь живет Терри и с кем.
– По-моему, ты вполне стабилен, – говорит Эллен.
– Спасибо, – отвечает Том. Она молода. Ей не понять.
– Если это только мрачные воспоминания, могу удалить их в одну минуту.
– Нет, благодарю.
– Я и забыла. Тебе ненавистна обработка памяти.
– Мой отец…
– Продолжай.
– В пятьдесят лет он перестал быть собой. Его заставили забыть предков, традиции, религию, жену, сыновей и в конце концов имя. Потом он целыми днями сидел и улыбался. Нет, благодарю, никакой обработки.
– Где сегодня трудишься? – спрашивает Эллен.
– В загоне, провожу исследования.
– Составить компанию? До полудня я свободна.
– Нет-нет, спасибо, – слишком поспешно отвечает Том. Эллен строит обиженную гримасу. Он пытается исправить свою невольную грубость, легко касается ее руки и говорит:
– Может, во второй половине дня? Мне нужно немного пообщаться. Ладно?
– Ладно, – отвечает она, улыбается и шлет воздушный поцелуй.
Позавтракав, Том идет в загон. Территория его занимает тысячу гектаров к востоку от базы; по периметру через каждые восемьсот метров установлены прожекторы нервновоздействующего поля, этого достаточно, чтобы не разбрелись согнанные сюда двести поедателей. Их оставили для изучения, остальные будут уничтожены. В юго-западном углу загона находится лабораторный домик, там ведутся эксперименты – метаболического, психологического, физиологического, экологического характера. Загон по диагонали пересекает ручей. На восточном его берегу – небольшая гряда зеленых холмов. Кое-где густые луга сменяют рощицы тесно растущих деревьев с ланцетовидными листьями. В траве почти скрыты растения-оксигенаторы, выступают лишь их высокие, в три-четыре метра, фотосинтезирующие стебли и дыхательные органы, которые находятся на высоте груди; от выдыхаемых ими ароматных газов кружится голова. По лугам в беспорядке бродят поедатели, они объедают именно дыхательные органы.
Том Две-Ленты замечает стадо у ручья и направляется к нему. Спотыкается о скрытый в траве оксигенатор, но ловко сохраняет равновесие, подносит к лицу складчатое отверстие дыхательного органа и делает глубокий вдох.
Настроение его поднимается. Он подходит к поедателям. Это неуклюжие, медлительные животные сферической формы, покрытые густым, жестким оранжевым мехом. Похожие на блюдца глаза выкачены над узкими, будто резиновыми губами. Ноги тонкие, чешуйчатые, как у цыплят, короткие руки прилегают к телу. Поедатели разглядывают Тома без малейшего любопытства.
– Доброе утро, братья, – приветствует он их, и сам удивляется почему.
Сегодня я заметил нечто странное. Может, слишком надышался кислородом, может, поддался предположению Хэрндона, а может, дает себя знать наследственный мазохизм. Но когда я наблюдал за поедателями в загоне, мне впервые показалось, что они ведут себя осмысленно, действуют согласно какому-то ритуалу.
Я ходил за ними три часа. За это время они нашли полдюжины кустов-оксигенаторов. И в каждом случае совершали определенный обряд.
Окружали растение кольцом.
Глядели на солнце.
Глядели на соседей справа и слева. Только после этого издавали что-то похожее на ржанье.
Снова глядели на солнце.
Приближались к растению и ели.
Что это, как не благодарственная молитва перед едой? А если они духовно настолько развиты, чтобы возносить молитвы, не совершаем ли мы здесь геноцид? Разве шимпанзе молятся? Черт, да мы и не стали бы уничтожать их, как поедателей! Конечно, шимпанзе не трогают урожай на полях, и какое-то сосуществование было бы возможно, а с поедателями аграрии просто не могут жить на одной планете. Однако тут возникает нравственная проблема.
Уничтожение поедателей основано на предпосылке, что в умственном отношении они на уровне устрицы или в лучшем случае овцы. Наша совесть чиста – яд действует безболезненно и быстро, поедатели, умирая, разлагаются, избавляя нас от уничтожения множества трупов. Но если они молятся…
Остальным пока ничего не скажу. Нужно побольше данных, четких, объективных. Киносъемка, звукозапись, выкладки. Тогда поглядим. В конце концов нашему роду кое-что известно о геноциде, мы подвергались ему всего несколько веков назад. Вряд ли мне удастся остановить то, что происходит здесь. Но в самом крайнем случае я мог бы выйти из этой операции.
Вернуться на Землю и возбудить общественное негодование.
Надеюсь, мне это показалось.
Вовсе не показалось. Они образуют круг; глядят на солнце; ржут и молятся. Кажется, эти большие круглые глаза смотрят на меня обвиняюще.
Наше прирученное стадо знает, что происходит здесь: мы спустились со звезд для уничтожения их вида, только они и будут оставлены. Дать отпор или хотя бы выразить недовольство они не могут, но они знают. И ненавидят нас.
Черт возьми, мы убили уже два миллиона поедателей, и, образно выражаясь, я весь запятнан кровью, но что я сделаю? Что я могу сделать?
Нужно действовать очень осторожно, иначе меня усыпят и обработают память.
Нельзя показаться маньяком, хитрецом, агитатором.
Я не могу встать и разоблачить! Нужно найти союзников. Первый – Хэрндон. Несомненно, он знает истину; он навел меня на эту мысль в тот день, когда мы рассеивали гранулы. А я решил, что он по своему обыкновению просто злобствует.
Вечером поговорю с ним.
– Я думал о твоем предположении, – говорит Том. – Насчет поедателей.
Очевидно, наши психологические исследования были недостаточно глубокими. И если поедатели действительно разумны…
Хэрндон, рослый, густобородый, скуластый брюнет, хлопает глазами.
– Том, кто говорит, что они разумны?
– Ты. Сам же сказал на том берегу Разветвленной реки…
– Это было всего лишь предположение, никак не обоснованное. Чтобы завязать разговор.
– Я думаю, не только. Ты всерьез верил в это.
Хэрндон настораживается.
– Том, не знаю, что ты хочешь затеять, но лучше не затевай. Поверь я хоть на секунду, что мы уничтожаем разумных существ, тут же со всех ног помчался бы на обработку памяти.
– Тогда зачем же спрашивал об этом?
– Просто так.
– Развлекался, вызывая в другом чувство вины? Гад ты, Хэрндон. Это я всерьез.
– Послушай, Том, я не знал, что тебя так заденет необоснованное предположение… – Хэрндон трясет головой. – Поедатели не могут быть разумными существами. Это очевидно. Иначе бы нам не поручили ликвидировать их.
– Наверно, – соглашается Том Две-Ленты.
– Нет, я не знаю, что у Тома на уме, – говорит Эллен. – Но твердо уверена, что ему нужен отдых. После восстановления личности прошло всего полтора года, а у него был тяжелый срыв.
Майклсон разглядывает какой-то документ.
– Он трижды подряд отказывался рассеивать гранулы. Утверждает, что не может отрывать время от своих исследований. Черт, мы в состоянии подменить его, но меня беспокоит мысль, что он чурается этой работы.
– А что за исследования он проводит? – интересуется Николс.
– Только не биологические, – говорит Джулия. – Он все время торчит в загоне, но я не замечала, чтобы он делал какие-то анализы. Просто наблюдает за поедателями.
– И разговаривает с ними, – добавляет Чанг.
– Да, и разговаривает, – подтверждает Джулия.
– Кто узнает, в чем дело?
Все глядят на Эллен.
– Ты ближе всех к нему, – говорит Майклсон. – Можешь повлиять на него?
– Сперва нужно узнать, что с ним творится, – отвечает Эллен. – От него не добьешься ни слова.
Нужно быть очень осторожным – их много, и общая забота о твоем душевном равновесии может стать роковой. Они уже поняли, что ты обеспокоен, и Эллен начала искать причину беспокойства. Прошлой ночью ты лежал в ее объятиях, и она умело, исподволь расспрашивала тебя. Ты понял, что она хочет выяснить. Когда взошли луны, она предложила прогуляться по загону среди спящих поедателей. Ты отказался, но она понимает, что ты связан с этими существами.
Ты сам тоже провел зондирование – кажется, умело. И знаешь: поедателей тебе не спасти. Непоправимое свершится. Повторяется 1876 год; вот бизоны, вот индейцы сиу, и они должны быть уничтожены, потому что строится железная дорога. Если ты заговоришь здесь в открытую, твои друзья успокоят тебя, утихомирят и обработают тебе память, потому что они не видят того, что видишь ты. Если вернешься на Землю и начнешь протестовать, над тобой посмеются и порекомендуют повторное восстановление. Ты ничего не можешь поделать. Ничего.
Ты не можешь спасти, но, вероятно, можешь увековечить.
Отправляйся в прерию. Поживи с поедателями; подружись с ними, изучи их уклад жизни. И все запиши, сделай полный отчет об их культуре, чтобы не исчезло хотя бы это. Ты знаком с техникой антропологических исследований.
Сделай для поедателей то, что когда-то было сделано для твоего народа.
Он подходит к Майклсону.
– Можешь ты освободить меня на несколько недель?
– Освободить, Том? Что ты имеешь в виду?
– Мне нужно провести кое-какие исследования. Я хотел бы уйти с базы и поработать с поедателями на природе.
– Чем не устраивают тебя те, что в загоне?
– Майк, это последняя возможность поработать с ними в естественных условиях. Я должен уйти.
– Один или с Эллен?
– Один.
Майклсон неторопливо кивает.
– Ладно, Том. Как знаешь. Иди. Я тебя не удерживаю.
Я пляшу в прерии под золотисто-зеленым солнцем. Вокруг меня собираются поедатели. Я раздет; моя кожа блестит от пота, сердце колотится. Я разговариваю с ними пляской, и они понимают меня.
Понимают.
У них есть язык, состоящий из мягких звуков. У них есть бог. Они знают любовь, благоговение и восторг. У них есть обряды. У них есть имена. У них есть история. В этом я убежден.
Я пляшу на густой траве.
Как мне объясниться с ними? Ногами, руками, тяжелым дыханием, потом.
Они собираются вокруг меня сотнями, тысячами, и я пляшу. Останавливаться нельзя. Они теснятся вокруг и издают свои звуки. Я – потайной ход неизвестных сил. Видел бы меня сейчас прадед! Старик, пьющий на своем крыльце в Вайоминге огненную воду, отравляющий свой мозг, увидь меня!
Увидь пляску Тома Две-Ленты! Я говорю с этими чужаками пляской под солнцем совсем другого цвета. Я пляшу. Пляшу.
– Слушайте, – говорю я им. – Я ваш друг; мне, только мне одному вы можете доверять. Доверьтесь, поговорите со мной, просветите меня. Дайте мне сберечь ваш уклад жизни, потому что близится уничтожение.
Я пляшу, солнце поднимается, поедатели бормочут.
У них есть вождь. Я приближаюсь к нему, отступаю, снова приближаюсь, кланяюсь, указываю на солнце, изображаю существо, живущее в этом огненном шаре, имитирую звуки этого народа, опускаюсь на колени, встаю, пляшу. Том Две-Ленты пляшет для вас.
Я обретаю забытое мастерство своих предков. И чувствую, как в меня вливается сила. Я пляшу за Разветвленной рекой, как плясали мои предки во времена бизонов.
Пляшу, и поедатели тоже начинают плясать. Медленно, робко они движутся ко мне и раскачиваются, поднимая то одну, то другую ногу.
– Да, так, так! – кричу я. – Пляшите!
Когда солнце достигает полуденной высоты, мы пляшем вместе.
Взгляды их уже не обвиняют. Я вижу в них теплоту и родство. Я, пляшущий с ними, – их брат, их краснокожий соплеменник. Поедатели уже не кажутся неуклюжими. В их движениях есть какая-то тяжеловесная грация. Они пляшут.
Пляшут. Скачут вокруг меня. Ближе, ближе, ближе.
Мы пляшем в священном безумии.
Поедатели запевают невнятный гимн радости. Вытягивают руки, разжимают коготки. Раскачиваются в унисон, левая нога вперед, правая, левая, правая.
Пляшите, братья, пляшите, пляшите, пляшите! Они жмутся ко мне. Плоть их дрожит, издавая нежный запах. Меня мягко подталкивают туда, где трава высока и нетронута. Продолжая плясать, мы ищем в траве оксигенаторы и находим целые гроздья, поедатели совершают молитву и отделяют своими неловкими руками дыхательные органы от фотосинтезирующих стеблей. Растения испускают струи кислорода. У меня кружится голова. Я смеюсь и напеваю.
Поедатели сдирают зубами кожуру с шаров лимонного цвета и с черешков.
Протягивают сорванные шары мне. Я понимаю, что это религиозный обряд.
Прими от нас, ешь с нами, примкни к нам. Это плоть, это кровь; прими, ешь, примкни. Я кланяюсь и подношу ко рту шар, но не ем, а лишь сдираю кожуру, как они. Сок брызжет в рот, кислород вливается в ноздри. Поедатели поют осанну. Сейчас бы мне перья и полную раскраску моих предков, познакомиться с их религией в реалиях той, что должна была стать моей. Прими, ешь, примкни. Сок оксигенаторов струится в моих венах. Я обнимаю своих братьев.
Начинаю петь, и мой голос, едва срываясь с уст, превращается в арку, сверкающую, как свежеобработанная сталь. Я пою тише, и арка превращается в матовое серебро. Толпа поедателей смыкается. Запах их тел кажется мне огненно-красным. Их негромкие вскрики – клубами пара. Солнце очень жаркое, его лучи – это тончайший свист сморщенных звуков, близких к моему слуховому пределу – плинк! плинк! плинк! Густая трава под ногами напевает низко и звучно, ветерок несет по прерии язычки пламени. Я поглощаю второй шар, затем третий. Мои братья кричат и смеются. Рассказывают мне о своих богах – тепла, пищи, удовольствия, смерти, добра, зла. Перечисляют имена своих царей. Знакомят со своими священными ритуалами. Запоминай, говорю я себе, все это безвозвратно исчезнет. И продолжаю плясать. Они тоже. Прими, ешь, примкни. Они очень приветливы.
Внезапно слышится гудение коптера.
Он очень высоко. Я не могу разглядеть, кто в нем.
– Нет! – кричу я. – Не рассеивайте здесь гранулы! Не уничтожайте этих людей! Слушайте меня! Это Том Две-Ленты! Неужели вы не слышите? Я веду здесь исследования! Вы не имеете права!…
Мой голос создает спирали голубого мха, окаймленного красными искрами.
Они поднимаются вверх и рассеиваются ветром.
Я кричу, ору, рычу. Пляшу и потрясаю кулаками. В крыльях коптера открываются створки. Выдвигаются и начинают вращаться блестящие краны.
Гранулы нервного действия сыплются дождем, оставляя в небе сверкающий след. Шум коптера превращается в пушистый ковер, простертый до горизонта, и заглушает мой пронзительный голос.
Поедатели рассыпаются в поисках гранул, роются в траве, отыскивая их.
Не переставая плясать, я бросаюсь к ним, выбиваю гранулы у них из рук и швыряю в ручей, стираю в порошок. Поедатели ворчат на меня, отворачиваются и снова ищут гранулы. Коптер поворачивает и улетает, оставляя полосу густого маслянистого звука. Мои братья жадно поедают гранулы.
Помешать этому невозможно.
Радость охватывает их, они валятся и лежат неподвижно. Нет-нет у кого-то дернется рука или нога. Потом прекращаются и подергивания.
Поедатели начинают растворяться. Тысячи их тают в прерии, теряя свои сферические формы, расползаясь, впитываясь в землю. Связей между молекулами больше не существует. Это сумерки протоплазмы. Поедатели растекаются. Исчезают.
Я бреду по прерии несколько часов. То вдыхаю кислород, то ем шары лимонного цвета. Закат начинается звоном свинцовых колокольчиков. Черные тучи на востоке звучат бронзовыми трубами, а усиливающийся ветер представляет собой вихрь черной щетины. Наступает тишина. Спускается ночь.
Я пляшу. Я один.
Коптер появляется снова, тебя находят, и ты не сопротивляешься, когда тебя втаскивают. Испытывать горечь ты не в состоянии. Ты спокойно объясняешь, что сделал и узнал и почему нельзя уничтожать этих людей.
Описываешь растения, которые ел, их воздействие на твои чувства, рассказываешь о блаженном синтезе, текстуре ветра, звуках облаков и тембре солнечного света. Тебе кивают, улыбаются, говорят, чтобы ты успокоился, что скоро все будет хорошо, и прикасаются к предплечью чем-то таким холодным, что голова кружится и гудит, деинтоксикант вливается в вену, и вскоре восторг улетучивается, оставляя только изнеможение и горе.
– Мы совершенно неисправимы, – говорит он. – Творим свои злодеяния и на других планетах. Уничтожали армян, евреев, тасманцев, индейцев, уничтожали каждого, кто стоял на пути, а теперь прилетаем сюда и продолжаем эти проклятые убийства. Вас не было со мной. Вы не плясали с ними. Не видели, какая богатая, многослойная культура у поедателей. Взять хотя бы их племенную структуру. Она очень сложна: семь уровней брачных отношений и экзогамный фактор, требующий…
– Том, дорогой, никто не собирается причинять вред поедателям, ласково говорит Эллен.
– А религия? – продолжает он. – Девять богов, каждый представляет один аспект единого бога. Поедатели поклоняются добру и злу, у них есть теология. И мы, эмиссары бога зла…
– Мы их не уничтожаем, – говорит Майклсон. – Как ты не поймешь, Том?
Все это твоя фантазия. Ты был под воздействием транквилизаторов, но теперь мы очищаем твой организм. Скоро будешь опять видеть все в реальном свете.
– Фантазия? – говорит он с горечью. – Наркотический бред? Я был в прерии и видел, как вы разбрасывали гранулы. Видел, как поедатели умирали и распадались. Мне это не пригрезилось.
– Как нам убедить тебя? – серьезным тоном спрашивает Чанг. – Чему ты можешь поверить? Хочешь, пролетим вместе над страной поедателей, сам увидишь – их миллионы.
– А сколько миллионов уже уничтожено? – требовательно спрашивает он.
Все убеждают его, что он ошибается. Эллен снова говорит, что никто и никогда не собирался причинять вреда поедателям.
– Это научная экспедиция, Том. Мы изучаем их. Причинять вред разумным формам жизни – нарушение всех наших принципов.
– Вы признаете, что они разумны?
– Конечно. В этом никто не сомневался.
– Тогда для чего разбрасывать гранулы? Для чего уничтожать поедателей?
– Ничего подобного не было, Том, – говорит Эллен и берет его руку в свои прохладные ладони. – Поверь нам. Поверь.
– Если вам хочется убедить меня, – говорит он с горечью, – то возьмите машинку и обработайте мне память. Разуверить меня в том, что я видел своими глазами, вам не удастся.
– Ты же все время был под воздействием наркотика, – говорит Майклсон.
– Я никогда не принимал наркотиков! Кроме того, что съел во время пляски – а до этого видел, как массовое убийство продолжалось неделя за неделей. Скажите, это ретроактивный бред?
– Нет, Том, – говорит Шварц. – Это постоянный бред. Он – составная часть твоего лечения, восстановления личности. Ты прилетел сюда запрограммированным на него.
– Не может этого быть, – отвечает Том.
Эллен целует его в горячий лоб.
– Пойми, это сделано, чтобы примирить тебя с человечеством. Ты был ужасно возмущен изгнанием своего народа в девятнадцатом веке. Ты не мог простить индустриальному обществу изгнание сиу и был полон ненависти. Твой врач решил, что если ты примешь воображаемое участие в современной ликвидации, если увидишь в ней необходимую меру, то очистишься от своего возмущения и сможешь занять место в обществе…
Том отталкивает ее.
– Не говори ерунды! Если бы ты имела представление о восстановительной терапии, то знала бы, что ни один стоящий врач не может быть так ограничен. При восстановлении нет полной корреляции. Не прикасайся ко мне.
Оставь меня. Оставь!
Он не даст им убедить себя, что у него наркотический бред. Это не фантазия, говорит он, и не курс лечения. Поднимается и уходит. За ним никого.
Он садится в коптер и летит искать своих братьев.
Я снова пляшу. Сегодня солнце намного жарче. Поедателей гораздо больше.
Сегодня я раскрашен и убран перьями. Мое тело блестит от пота. Поедатели пляшут вместе со мной, охваченные таким неистовством, какого я раньше не видел. Мы топчем ногами утрамбованную лужайку. Тянемся руками к солнцу.
Поем, кричим, вопим. Мы будем плясать, пока не свалимся.
Это не фантазия. Эти существа реальны, они разумны, они обречены. Я это знаю.
Мы пляшем. Пляшем, несмотря на обреченность.
Появляется мой прадед и пляшет с нами. Он тоже реален. Нос у него орлиный, а не плоский, как у меня, на голове большой убор из перьев, мышцы под смуглой кожей напоминают канаты. Он поет, кричит, вопит.
К нам присоединяются и другие мои предки.
Мы едим оксигенаторы. Обнимаем поедателей. Мы все знаем, что такое быть дичью.
Облака издают музыку, ветер обретает текстуру, а солнечное тепло цвет.
Мы пляшем. Пляшем. Наши руки и ноги не знают усталости.
Солнце разрастается, заполняет собой все небо, и я уже не вижу поедателей, вокруг только мои предки за много веков, тысячи блестящих тел, тысячи орлиных носов, мы едим оксигенаторы, находим острые шипы и вонзаем себе в плоть, нежно пахнущая кровь течет и засыхает под лучами солнца, а мы пляшем и пляшем, прерия представляет собой море качающихся головных уборов, океан перьев, мы пляшем, сердце мое грохочет, колени расслабляются, солнечный огонь заливает меня, я пляшу и падаю, пляшу и падаю, падаю, падаю.
Тебя снова находят и привозят обратно. Делают холодный укол в руку, чтобы изгнать из крови кислородное опьянение, а потом впрыскивают что-то успокаивающее. Ты неподвижен и очень спокоен. Эллен целует тебя, ты гладишь ее нежную кожу, потом и остальные подходят поговорить с тобой, утешить тебя, но ты не слушаешь, потому что ищешь реальности. Это нелегкий поиск. Словно бы проваливаешься через множество люков в поисках той единственной комнаты, где пол не на петлях. Все, что происходит на этой планете, – твое лечение, говоришь ты себе, оно предназначено примирить озлобленного аборигена с завоеваниями белого человека; в действительности здесь никого не уничтожают. Ты отрицаешь это, проваливаешься и понимаешь, что это, должно быть, лечение твоих друзей; они несут бремя многовековой вины и прилетели сюда избавиться от него, а твоя задача – взять на себя их грехи и даровать прощение. Снова проваливаешься и понимаешь, что поедатели просто животные, они угрожают экологическому равновесию и должны быть уничтожены; их культура вымышлена тобой, это просто галлюцинация, возбужденная давними воспоминаниями. Пытаешься отвергнуть свои возражения против этой необходимости, но проваливаешься снова, сознавая, что никакой ликвидации нет, она существует лишь в твоем мозгу, возбужденном и расстроенном преступлением против твоих предков, приподнимаешься и садишься, хочешь принести извинения своим друзьям – ведь ты назвал убийцами этих ни в чем не повинных ученых, и проваливаешься…



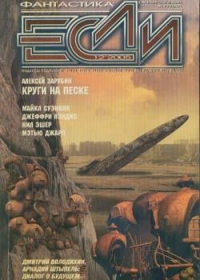

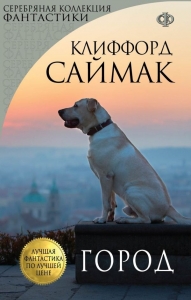

Комментарии к книге «Пляска», Роберт Силверберг
Всего 0 комментариев