ПРОВЕРКА НА РАЗУМНОСТЬ
Питер все медлил, хотя следовало, не колеблясь, войти, разбудить Эва, если тот спал, и сознаться, что ему, инженеру-звездолетчику первого класса Питеру Фанни, померещился призрак.
Это произошло в одном из тех дальних отсеков, где нудная вибрация напоминала о близости аннигиляторов пространства - времени. Рядом была заперта сила, которая могла разнести небольшую планету, и сознание невольно настораживалось в этих тесных, скупо освещенных и наполненных дрожью переходах.
Питер чувствовал себя, впрочем, как обычно. Вероятно, он даже удивился бы, узнав, что в нем, хозяине всей этой чудовищной махины, дремлет то самое беспокойство, которое испытывал его далекий предок, когда мощь природы выдавала себя бликом зарниц или грозным запахом хищника на тропе.
Он уже заканчивал обход, когда его приковал к месту тихий, невозможный здесь звук покашливания.
Он обернулся.
Никого, ничего. Пустой коридор, тусклая эмаль стен, змеистые тени кабелей и труб. И явственное, как прикосновение паутины к лицу, ощущение чужого взгляда.
- Олег, это ты? - напряженно крикнул Питер.
Коридор молчал. Питер был один, совершенно один в чреве мерно работающей машины.
Мгновение спустя Питер осознал нелепость, даже постыдность своей позы и решительно шагнул к месту, откуда раздался звук, передвигая поближе сумку с тестерами и тем самым как бы давая понять, что готов немедля устранить любую кашляющую, чихающую или хихикающую неисправность.
Не сделал он, однако, и двух шагов, как от стены наискось метнулось нечто столь стремительное и бесформенное, что память запечатлела как бы рванувшийся клуб черного дыма, который, исчезая за углом, блеснул из своей темной глубины двумя кроваво-красными зрачками.
Когда ослабевшие ноги вынесли Питера на площадку, куда скрылось «нечто», то по обе стороны от нее не было ничего, кроме зеркально повторяющих друг друга, наполненных дрожью коридоров. Задыхаясь, Питер пробежал в оба конца, оглянулся, и расстояние, отделяющее его от жилых помещений звездолета, впервые показалось ему пугающе-огромным.
Случай был, конечно, предельно ясен. Бывало и раньше, что нагрузка долгого полета сказывалась на нервах звездолетчиков, хотя, насколько Питер мог припомнить, призраки еще никогда никому не мерещились.
Тем хуже его положение. О происшедшем он обязан доложить врачу, то есть старине Эву, а что последует затем, нетрудно представить.
Ему непередаваемо стало жаль себя. Это несправедливо, несправедливо, несправедливо! Почему с ним? За что? Как это вообще могло случиться, ведь он чувствовал себя не хуже обычного!
- Эв, ты спишь? - негромко спросил он перед закрытой дверью.
Праздный вопрос. Разумеется, в этот поздний час корабельной ночи главный врач и биолог экспедиции отсыпался после трудных дней работы на Биссере. Может, и не надо будить его сию секунду?
Питер погладил подбородок, соображая. Он обязан предстать перед врачом, верно. Он обязан рассказать о том, что было, это так. Но есть разница предстать сейчас или немного позже. Большая разница! Вряд ли его реакция сейчас в норме. Вот если он отдохнет, отоспится, тогда, быть может…
Решено. Твердым шагом Питер Фанни прошел в свою каюту, разделся и лег. Его больше не трясло. В каюте было тихо. Здесь ничто не напоминало о той скорости, с которой звездолет, торопясь к Земле, проламывал пространство.
Звездолет, на борту которого человеку явился призрак, чего, конечно, реально быть не могло.
Несколько минут спустя Питер уснул. У него, как и полагается звездолетчику, были крепкие нервы.
Но спал он дурно. Там, на Земле, где он очутился, он лежал в гамаке, который тотчас оказался паутиной, и сердце захолонуло, потому что паука нигде не было, но он должен был появиться. Питер знал, что он рядом, ибо чувствовал прикосновение мохнатых лап, а шевельнуться не было возможности, и, что самое страшное, паук был невидим. Потом, все еще лежа в паутине, Питер смотрел в микроскоп, и это, как он понимал, был его последний шанс не провалиться на экзамене, от которого зависело все. Микроскоп, однако, вместо паука показывал усики Эва, рыжие, нахальные усики, и Питер в отчаянии думал, что не окончательный же это экзамен, хотя отлично понимал во сне, что окончательный. Страшным усилием он отшвырнул негодный микроскоп, чтобы взять новый; микроскоп упал, покатился, как шар, и шар этот блеснул, расширяясь, ледяным пламенем, отчего сердце Питера оборвалось, ибо это был уже не шар, а сгусток нейтронной звезды. «Вот, значит, как возникают галактики…» - мелькнуло в парализованном ужасом мозгу.
Какой-то шум оборвал кошмар Питера. Он вскочил прислушиваясь. Отчаянно колотилось сердце, но явь уже поборола видения. Отчетливый стук и, похоже, крики раздавались где-то рядом. Чуть ли не в туалете, который был по соседству. Питер выскочил в коридор. Так и есть: кто-то изнутри с проклятиями барабанил в запертую дверь туалета. Питер рванул дверь, и оттуда, как кот из мешка, вылетел Олег.
- Это чьи еще шуточки?! - рявкнул он, не давая Питеру опомниться. Тоже мне развлечение, юмор на на уровне амебы, остроты пещерных сортиров!
- Разве они тогда были? - в остолбенении спросил Питер.
Вопрос был столь нелеп, что оба уставились друг на друга.
- Дадут наконец людям поспать? - послышался сзади недовольный голос. Скрипнула дверь, в коридор, моргая и щурясь, высунулась голова Эва. - Что за суета и суматоха?
Он обвел взглядом полуодетых космонавтов.
- Олега тут заперли, - растерянно пробормотал Питер.
- А! - сказал Эв. - В реакторе еще никого не спалили? Самое время, по-моему.
- Факт тот, что дверь запирали с хихиканьем, - буркнул Олег. - Хотел бы я знать…
- Великий секрет загадочной тайны, - кивнул Эв. - Звездолет у нас или что?
- Это мог сделать неисправный киберуборщик, - нашелся Питер.
- Ага! - глаза Эва блеснули. - Окутанный галактическим мраком утюг зловеще подкрадывался к шлепанцам спящего космонавта… Кстати, Питер, что ты сделал со своими шлепанцами?
- С чем?
Все смотрели на ноги Питера. На его дырявые, испещренные пурпурными пятнами ночные туфли.
- Край света, - вздохнул Олег. - Полным-полно шутников.
- Правда, Питер, чем это ты их?
- Эв… - голос Питера дрогнул. - Мне надо поговорить с тобой, Эв…
- Ерунда! - Эв отшвырнул ленту миограммы. Она зацепилась за переключатель и повисла раскачиваясь. - Какой призрак? Диагност уверяет, что ты здоров, и я с этим сундуком согласен.
- Уверяю тебя…
- Сильное нервное возбуждение, и не более того. Все базисные реакции…
- А туфли?
- Что «туфли»? При чем здесь «туфли»? Ну прожег ты их чем-нибудь…
- Чем?..
- Компотом! - заорал Эв. - Щами! Чего ты добиваешься? Полным-полно шутников, как выразился Олег. И все острят. Будят среди ночи… Тени убиенных, хихикая, запирают у них, видите ли, двери… Сейчас я дам тебе такую дозу успокоительного, такую дозу…
Он потянулся к столу, но так и не взял ампулу. В дверях стоял Антон Ресми. Стоял и смотрел таким взглядом, что Питеру захотелось немедленно исчезнуть.
- Так, - капитан шагнул к Эву. - Как к биологу и медику нашей экспедиции, у меня к вам маленький вопрос: мышь способна превратиться, скажем, в четвертое измерение?
- Антон, - глаза Эва округлились. - Неужто и ты записался в шутники?
- В шутники? Я тебя спрашиваю: где звери?
- Звери?
- Да, звери.
- С Биссеры?
- С Биссеры.
- Там, где им положено быть. А что?
- Ничего. Просто их там нет.
- Как… нет?
- Вот я и хотел бы узнать «как».
- Но этого не может быть.
- Верно.
- Антон, этого не может быть!!! Что за глупый розыгрыш!
Эв посмотрел на Питера, словно приглашая его разделить возмущение, снова взглянул на капитана, - и краска сбежала с его лица.
«Да, - подумал Питер, разглядывая из-за плеча Эва витализационные колпаки, - если кто-нибудь и сошел с ума, то, уж во всяком случае, не я. Это надо же!»
По всему пространству камеры тянулись маленькие и большие прозрачные саркофаги, в которых автоматы поддерживали среду, необходимую для того, чтобы добытые на Биссере экземпляры находились в живом, но усыпленном состоянии. По крайней мере, треть саркофагов была пуста. Не просто, а, так сказать, вызывающе пуста, потому что в них зияли внушительных размеров оплавленные дыры.
На пульте, словно в насмешку, горели зеленые огоньки, что означало исправную работу витализационных автоматов. Запоздало и вроде бы обиженно мигали сигналы систем контроля за жизнедеятельностью, которым уже нечего было контролировать.
- Ну и как прикажете это объяснить?
Ответа не последовало. Эв был так бледен, что его рыжеватые усики казались теперь пламенными.
- Не надо волноваться, - капитан мягко опустил руку ему на плечо. Исчезли, если не ошибаюсь, стеггры, асфеты, троянцы, катуши и эти… как их…
- Миссандры, - прошептал Эв.
- …Миссандры. А псевдогады остались. Может, это что-нибудь объясняет?
Эв покачал головой.
- Витализационный уровень усыпления поддерживается во всех герметичных колпаках на среднестатическом, оптимальном для всей группы уровне, - он говорил монотонно, как зазубренный урок. - Из этого следует возможность, что для отдельного индивида данный уровень окажется мал и существо проснется. Нов данном случае контролирующий автомат немедленно увеличит подачу смеси… Что он и сделал. Ничего не понимаю… Ведь так прожечь колпак можно только искровым разрядом! - воскликнул он.
- Может быть, у кого-нибудь из этих существ… - начал было капитан, но Эв отчаянно замотал головой.
- Я их видел на корабле, - внезапно сказал Питер.
Все разом обернулись к нему. Он коротко доложил о «призраке».
- Очевидно, это был катуш, - проронил задумавшийся Эв.
- Нет, - возразил Питер. - Катуша я знаю. Это был не катуш.
- Неважно, - тихо сказал капитан. - Значит, Эв, никакого объяснения ты дать не можешь?
- Нет.
- Ладно, будем действовать без объяснений. Даю общий сигнал тревоги.
У входа в рубку Эв взял капитана за локоть.
- У меня есть объяснение. Я не хотел говорить при Питере.
- Да? - Эв почувствовал, как под его рукой напряглись мускулы.
- Капитан, звери сами не могли выбраться, это исключено. Их выпустили, Антон.
- Ты понимаешь, что говоришь?!
- Именно поэтому я настаиваю на общей проверке состояния экипажа.
Капитан вытер выступивший на лбу пот.
- Кого ты подозреваешь? - спросил он глухо.
- Если бы я только что не освидетельствовал Питера, я бы сказал Питер. Но это не Питер. Я об этом не хочу даже думать, но ведь кто-то запер Олега? И кто-то облил туфли Питера кислотой.
- И тем не менее, - жестко сказал капитан, - разрешения на поголовное обследование я не дам.
- Но…
- Эв, пожар не тушат под возгласы: «Среди нас поджигатель!»
В это время Питер, стоя на своем посту, с недоумением разглядывал запястье левой руки. Только сейчас ему бросилась в глаза точка, какая бывает после укола, в том месте, где под кожей синеет вена.
«Чепуха какая-то! Но, может, следует сказать?»
Сначала никто не сомневался, что изловить каких-то глупых зверьков ничего не стоит, но вскоре с этим заблуждением пришлось расстаться. Хозяйство звездолета занимало несколько квадратных километров, и при его конструировании никому в голову не могла прийти мысль, что он может стать полем охоты. Раза два, правда, удалось спугнуть существо, которое немедленно взмыло над преследователями, чтобы скрыться в путанице ярусов, лифтовых клетей и переходов. Поскольку единственным летающим экземпляром фауны Биссеры на корабле был миссандр, то это, очевидно, и был миссандр. Но куда делись остальные?
Предложение настроить киберуборщиков на поиск сбежавших было сразу же отвергнуто Эвом - он знал, что обычных роботов нельзя натравить на белковое, следовательно, родственное человеку существо. Биологические же автоматы, с помощью которых он сам охотился на Биссере, были бесполезны в тесных корабельных пространствах.
Чем больше Эв вдумывался, тем меньше все это ему нравилось. Гипотеза о сумасшедшем, который вскрыл витализационные камеры, была скверным, хотя и правдоподобным допущением. Однако в ней имелся крохотный изъян. Предположим, животных кто-то выпустил. А дальше? Ведь воздух Биссеры мало походил на земной! Как же они им дышат? Но дышат, это же факт.
Своими сомнениями он наконец поделился с капитаном.
- Это как же так? - опешил Ресми. - Ты изучал их и даже не знаешь, чем они могут дышать, а чем нет?
- Ты вправе меня упрекать, Антон. Но кто, как не ты, срезал биологическую программу? Знаю, знаю, экстренный вызов Земли, мы требуемся - как всегда, сверхсрочно - в противоположном квадрате Галактики. А мне каково? Что я мог сделать за оставшееся время? Это же типичный аврал! Спешим, вечно спешим, сегодня одна звезда, завтра другая, давай-давай, дел невпроворот, оглянуться некогда, а что в результате? Не думай, пожалуйста, что я снимаю с себя ответственность, но…
- Спешим, это верно. Иначе нас, возможно, не было бы среди звезд. Так как они все-таки приспособились?
- Высокая пластичность метаболизма, очевидно. Она у них действительно высокая.
- Хорошо, выяснишь после поимки. Что за идея у тебя насчет ловушек?
Они обсудили новую тактику. Их то и дело перебивали голоса поисковиков. «Капитан, на неведомых дорожках хозяйства Питера отмечены следы невиданных зверей…» Реплику перебил мрачный голос Питера: «Я давно говорил, что нам не хватает киберуборщиков. Они не успевают с обеспыливанием». - «Ладно, ладно, - отвечали ему с иронией. - Мы закрываем глаза, а вот кто закроет глаза техкомиссии?» - «Не издевайтесь, ребята, никакая это не пыль, просто сигаретный пепел. Механики тайком покуривали». - «И не механики вовсе, а зверюшки Эва. Раз уж они смогли удрать, то почему бы им на радостях не затянуться?»
Капитан с досадой приглушил звук.
Ему было не по себе. Зверюшки его мало беспокоили - куда они денутся! но сумасшедший на борту… Требование держаться по двое было встречено недоуменным пожатием плеч - пусть, хорошо, что никто ни о чем не догадывается. А вот он прозевал, тут никуда не денешься. Капитан за все в ответе, что бы ни случилось, так было, есть и будет, каких бы далей человек ни достиг, и для него, Ресми, это единственно правильная жизнь обо всем заботиться, все предусматривать и при любых обстоятельствах быть сильнее обстоятельств. Он всегда подстерегал слепой случай, теперь случай подстерег его, и не сигнал ли это, что он выдохся? Капитана охватила бессильная ярость. Нет, нет, он еще им всем покажет!
Кому? Зверям? Обстоятельствам? Самому себе?
Ресми подавил вспышку раньше, чем Эв ее заметил.
- Возможно, этот план даст лучшие результаты, - он холодно посмотрел на протянутый чертеж. - Объясни техникам, что надо сделать. Я соберу команду.
- И неплохо бы позавтракать, - заметил Эв. - Я лично после всех передряг готов съесть жареного миссандра.
Выйдя из рубки, он заметил Питера, который явно ждал его появления.
- Вот, - сказал Питер, показывая тыльную сторону запястья. - Будешь смеяться или нет, но только, честное слово, сам себя я не колол…
Эв вгляделся, и ему стало не по себе.
Завтрак начался смешками, но вскоре они прекратились, так мрачен был капитан. «Чего это он? - шепотом спросил Олег. - Подумаешь, звери разбежались…» - «Да, но теперь над ним будет смеяться вся Галактика», ответил сосед. «Смеяться, положим, будут над Эвом». - «Всем нам достанется. Слушай, а девушки сегодня что-то уж слишком надушились». - «А, ты тоже заметил!» - «Мертвый не заметит».
Капитан поднял голову.
- Муса!
- Полон внимания, капитан.
- Что у вас там с вентиляцией? Откуда запах?
- Я так понимаю, что наши милые женщины…
Бурный протест заставил его умолкнуть.
- Это и не духи вовсе!
- Уж мы-то, женщины, в этом кое-что смыслим!
- Отставить! - Стало очень тихо. - Бригада систем воздухообеспечения, немедленно перекрыть…
Капитан не успел закончить, ибо потянуло таким смрадом, что на пол полетели отброшенные стулья, все вскочили, и тут же взвыла сирена.
Эв и Ресми сидели спиной друг к другу, чтобы контролировать все наспех установленные в рубке экраны. Оба остались в масках, хотя смрад исчез так же быстро, как и возник, да и вызван он был весьма пахучим, но, в общем, безвредным букетом сероводорода, метана и бромистого водорода.
Передатчики были установлены на всех магистральных пересечениях, и там же, под потолком, находились примитивные, но достаточно надежные ловушки. Оставалось сидеть и ждать, пока в поле зрения не очутится кто-нибудь из беглецов.
Минуты шли за минутами, и ничего не происходило. Селектор молчал людям теперь было не до шуточек. Сжимая оружие за плотно задраенными дверьми, они охраняли жизненно важные центры корабля и ждали… Никто не мог сказать чего.
- Наконец-то!
Эв мгновенно нажал кнопку.
Возникшее на экране существо замерло, будто почуяв неладное. Поздно оно уже билось в гибких силикетовых сетях.
- Попался! - воскликнул капитан.
- Угу, - отозвался Эв. - Хотел бы я знать кто…
- Как «кто»? Это же асфет.
- Крылатый асфет.
- Крылатый?!
Да, у бившегося в сетях существа были крылья. Как у миссандра. И шесть конечностей. Как у асфета. И трубчатый голый хвост, какого вообще ни у кого не было.
- Эв, - в голосе капитана была мольба. - Ты же биолог, Эв, ты же ловил их. Объясни хоть что-нибудь!
Лицо Эва было мертвенным.
- Эв! - капитан потряс его за плечо.
- Смотри.
Существо затихло. Темным клубком оно лежало на полу, и лишь его трубчатый хвост слабо шевелился. Нет, не шевелился. У капитана отвисла челюсть. Конец хвоста медленно, но неуклонно раздваивался. Хвост превращался в некое подобие ножниц, и лезвия этих странных ножниц явственно заострялись. Вот они захватили пару силикетовых петель… сомкнулись…
«Но это же силикет», - отрешенно подумал капитан.
Хвост выпустил петли - они ему не поддались. Теперь менялся его цвет из коричневого в серо-стальной. Он снова раскрылся - было заметно, что его «лезвия» укоротились, - захватил обвисшую складку сети. Люди содрогнулись, услышав хруст силикета. Еще несколько взмахов гибкого, раздвоенного, лязгающего хвоста - существо стряхнуло с себя обрывки сети, и экран опустел.
- Ну, - Эв повернулся к капитану, - бей меня, я заслужил. Какой же я идиот!
- Ты… ты что-нибудь понял?
- Да все же ясно! - плачущим голосом воскликнул Эв. - Они перекраивают свое тело!
- Это я видел. То есть мы оба это наблюдали. Оно, конечно… Провалиться мне, если я что-то понял!
- Слушай, - быстро заговорил Эв. - Нет никаких асфетов, миссандров и всех прочих. Это все одно и то же. Совсем другой тип эволюции. Где были мои глаза раньше! Это же грандиозно!
- Но выше моего разумения, - сухо сказал капитан. - Надо что-то делать.
- Надо понять, и ты поймешь. Сядь. На Земле волк - всегда волк, куропатка - всегда куропатка, амеба - всегда амеба. Но тела их, в общем, состоят из одинаковых клеток, биохимия у них тоже сходная. Они часть единого целого. Как графин, стакан, зеркало…
- Зеркало? - машинально переспросил капитан.
- Ну да, все это стекло. Земная эволюция расщепила единое биологическое вещество на тысячи, миллионы независимых, непревращаемых друг в друга форм. А здесь эти формы превращаемы. Слон на Биссере может превратится в кита или стадо кроликов, потому что все это одно и то же. Организм, как угодно и во что угодно перестраивающий свое тело. По приказу нервных клеток.
- По приказу?
- Вот-вот. На Земле биологическому веществу ту или иную форму придают внешние условия. Они - медленно, но неуклонно - лепят непохожие виды. Здесь, мы видели, это происходит сразу и целенаправленно. И это все объясняет! Пробудился один-единственный организм. Пробудился и вырастил другого слова не подберу - противогаз. Вырастил, как мы берем нужный инструмент, какое-то орудие для взлома камеры. И освободил остальных.
- Значит, никакого сумасшедшего не было, - капитан вздохнул с облегчением.
- Подожди радоваться. Вывод может быть только один.
- Ты уверен? Может быть, все-таки природа…
- Так быстро и так сознательно? Антон, давай смотреть правде в глаза. Возможно, это разум.
- Разум, - капитан взглянул на свои сжатые кулаки. - Не укладывается в голове. Мы не могли так чудовищно ошибиться.
- Могли, Антон, могли! «Быстрей, быстрей, потом разберемся, бродят одни животные, дело ясное, чего мешкать?» Это я так действовал, Антон. А автоматы опомниться жертвам не дают. Пикирующий прыжок, доза универсального снотворного, готовы голубчики.
- Но на Биссере нет никаких признаков цивилизации!
- Верно, там нет ни городов, ни машин, ни дорог. А зачем они существам, которые могут превращать свое тело в машины, приборы, материалы, как только в них появится нужда?
- Невозможно, Эв. Живое вещество не способно дать развитой цивилизации все, что ей необходимо.
- Да? Будто реактивных двигателей, лекарств, радиолокаторов, энергобатарей не было в природе до того, как их создали мы! А ты представляешь, на что способно живое вещество, которым управляет разум? Эта нелепая, невозможная, абсурдная с нашей точки зрения цивилизация, возможно, более совершенна, чем наша. Я, по крайней мере, не смог бы выбраться из-под колпака, да и ты тоже. Не потому, что я глупее, а потому, что без машин, инструментов, приборов я ничто. А у них все это всегда с собой. Между прочим, они исследовали Питера, пока тот спал. Между прочим, они могли отравить нас, пока мы не принимали их всерьез. Что качаешь головой? Гипотеза «сумасшедший на корабле» кажется теперь заманчивой?
- Готов ее предпочесть тому, что ты сказал. Их действия на корабле, к счастью, не выглядят разумными.
- Наши действия тоже были далеки от мудрости.
- Межпланетная война на звездолете, этого еще не хватало! Сейчас мы проверим, разумны они или нет.
Однако проверка ничего не дала. Напрасными оказались все взлелеянные теорией способы завязывания контактов; их стопроцентная кабинетная надежность испустила дух в безмолвных пространствах корабля. Напряжение сгустилось. Всех мучили одни и те же вопросы. Не понимают или не хотят понять? Что означают все их поступки? Встреча Питера с «призраком», допустим, была случайной. Но так ли случайно кто-то проник к нему, когда он спал? Для чего? Чтобы взять кровь на анализ? Или проверить съедобность человека? А туфли, при чем здесь туфли? И запертая дверь? Одно нелепей другого!
Почему они затаились?
На корабле стояла тишина, какой еще никогда не было. Ни шороха шагов, ни звука голоса, молчание «ничейного пространства», которое вот-вот могло взорваться грохотом боя. Томительно и нервно тянулось время, а с ним уходила надежда на мирный исход.
К вечеру наступил перелом. Экраны, посредством которых капитан и биолог продолжали вести наблюдения, один за другим подернулись рябью. Один за другим они стали меркнуть, как задутые ветром свечи.
Так наступил момент, которого все ждали и все боялись.
Обхватив голову руками, капитан, не мигая, смотрел на потемневшие экраны.
Он знал, какого приказа от него ждут. Приказа двинуться с дезинтеграторами живой материи, чтобы размазать по стенам беглецов, где бы они ни скрывались. Пока не поздно. Пока есть время. А может, его уже нет?
Но так же твердо капитан знал, что ни Земля, ни его собственный экипаж, ни он сам не простят бойни, если в словах Эва окажется хоть доля правды. Потом, когда все будет кончено, когда пугающая неизвестность останется позади, люди опомнятся. Страх забудется, его сменит сожаление и горечь, так как гибель неведомых существ - это еще и конец уверенности людей в том, что они способны понять все, с чем столкнулись. Та уверенность, которая до сих пор оправдывалась и смело вела человека по звездным мирам. И вера в свою гуманность погибнет тоже.
Капитан испытывал отчаяние прижатого к стене человека, отчаяние, которое готово было гневом обрушиться на Эва, на всех теоретиков, которые должны были предвидеть и оказались слепы, которые обязаны были найти выход, а вместо этого завели в тупик. Гнев пробудил решимость отдать наконец приказ, ибо известно, что в опасной ситуации даже плохое решение лучше бездействия. Палец капитана стремительно лег на кнопку селектора.
- Подожди! - вскричал Эв. - Я, кажется, догадался!
- Быстрей, быстрей!
- Надо выпустить остальных животных.
- Что?
- Слушай. Они начали партию, так?
- Ну! - палец все еще лежал на кнопке селектора.
- Чем мы ответили на их действия? Облавой. В ответ они заставили нас зажать нос. Что сделали мы? Расставили ловушки. Что сделали они?
- К чему ты клонишь?
- К тому, что каждый наш шаг был для них прямой и грозной опасностью. Каждый их ответный поступок был скорей демонстрацией угрозы. Наш враг не исчадье ада, таким сделали его наше непонимание и наш испуг.
- Хотел бы я, чтобы это не были домыслы.
- Это не домыслы! Неверны были исходные посылки стратегии контактов, и все равно взаимопонимание возможно. Мы пытались объясниться с ними на уровне умственных абстракций, научных понятий да еще в ситуации, когда с их точки зрения мы - исчадье ада. Нужно обращаться к корню, к самому корню! Он есть, общий для всех существ. Зло для любой формы жизни все то, что мешает, вредит, угрожает ее существованию; добро - все, что ей благоприятствует. Так везде, под всеми солнцами, это очевидно, как дважды два, ибо в противном» случае, перепутав знаки плюс и минус, жизнь обрекает себя на гибель. Ни одна цивилизация не может безнаказанно менять критерии «хорошо» и «плохо». Поэтому у нас есть шанс, ненадежный, слабенький, но им надо воспользоваться. Теперь решай.
Капитан задумался.
- Ты сам пойдешь? - в его голосе не было уверенности.
- Да.
- Ты можешь не вернуться.
- Я первый заварил эту кашу.
Мышцы затылка одеревенели от напряжения, но Эв не оборачивался. Он все время ощущал на себе взгляд, даже там, где на много метров вокруг не могло укрыться существо крупнее мыши.
Всю силу своей воли он тратил на то, чтобы идти неторопливо.
Он шел знакомыми переходами, которые казались теперь чужими и бесконечными. Собственно говоря, не шел, а балансировал на хрупком мосту надежд и недоказанных предположений, который мог рухнуть в любую секунду. Что ж, он не первый таким образом проверял прочность своих теорий.
Возле третьего или четвертого перекрестка он вынужден был остановиться, потому что в стене зияло сквозное отверстие. Так вот, значит, как они обходили ловушки! При мысли о том, сколько и каких коммуникаций находится в этих стенах, Эв содрогнулся. На полу лежала груда металлической пыли. Эв поднялся на цыпочки и заглянул внутрь отверстия. То, что он увидел, могло напугать кого угодно. Ни одна коммуникация не была повреждена, но все они были аккуратно обнажены, как сосуды на операционном поле. «Мыто думали, что в любую секунду можем прихлопнуть их, как мух. Но почему, почему они разрешили мне увидеть это?»
«Потому что это ничего не меняет, - сам себе ответил Эв. - Потому что первая же наша попытка заделать отверстия будет парализована - они перережут гомеостатические цепи и двигатель…»
Об этом лучше было не думать.
Он засек еще два отверстия, прежде чем показалась массивная дверь витализационных камер. Он откатил ее и, не медля ни секунды, приступил к оживлению псевдогадов. Пока он манипулировал с аппаратурой, создавал в помещении воздух Биссеры, ему все время казалось, что дверь, которую он оставил открытой, вот-вот задвинется.
И когда он все закончил, когда животные скользнули в темные углы, забились там, ему захотелось прислониться к стене и закрыть глаза.
Но ему надо было еще кое-что сделать. Снять ловушки. Последний дружеский жест… Не воспримут ли они его как капитуляцию?
Эв взглянул на выпущенных. Какая-то тварь сопела за колпаком, остальные сидели тихо, будто их не было вовсе. Шипели насосы, нагнетая инопланетный воздух. Бедные, парализованные страхом низшие существа чужой планеты. А каково было высшим, разумным? Что-то чудовищное обрушилось на них там, где они чувствовали себя в полной безопасности, занимались своими делами и не предвидели никакой беды - разве что в последний миг их поразила падающая с неба тень. Затем ужас, мрак и пробуждение неизвестно где, в чужом, враждебном мире.
«Конечно, их первые действия были нелепы, - подумал Эв, затворяя дверь. - Впрочем, их поступки, возможно, нелепы лишь с нашей точки зрения. Рассудок они, во всяком случае, сохранили. Значит, не все потеряно. Для них… И может быть, для нас».
Он тут же одернул себя. Нет никаких доказательств, что они правильно истолковали его поступок.
Никаких? Но ведь он до сих пор жив! Хватило бы у него самого выдержки в точно такой же ситуации или он бы поддался соблазну покончить с врагом, коль скоро он сам идет в руки?
Цивилизация, диаметрально противоположная нашей. Обращенная внутрь себя цивилизация. Наглухо закрытый для нас мир, ибо мы не понимаем, как можно создавать все, что надо, из собственного тела, а им, видимо, невдомек, как можно жить иначе.
Да, чего-чего, а стандарта вселенная лишена.
Осталось семь неубранных ловушек. Пять. Две. Ни одной.
Эв возвращался обессиленный. Все так же сопровождаемый взглядом невидимых глаз. Ничего не изменилось.
Нет, изменилось. Отверстия, мимо которых он шел, зияли, как прежде. Все, кроме последнего. Оно было заделано так аккуратно, что место, где оно находилось, выдавал лишь свежий блеск металла…
Описывая в пространстве чудовищную дугу, звездолет поворачивал к Биссере.
Люки наконец распахнулись. Капитан вздохнул с облегчением, будто с плеч свалился по меньшей мере Эльбрус.
Но терпение его лопнуло, когда миновало около часа, а из люка никто не показался.
- Чего они медлят? Не могут же они не чуять ветра родины?
Эв пожал плечами.
Но они появились. Они мячиком скатились по аппарели и тут же взмыли в зеленое ласковое небо Биссеры. Оно приняло их, но пробыли они в нем недолго.
- Чистые жеребята, - сказал капитан, глядя в бинокль на прыгающих по холмам братьев по разуму.
- Кажется, я сообразил, почему они задержались, - заметил Эв. Спустимся. Я буду очень разочарован, если моя догадка не оправдается.
- Вот, - он погладил металл, который блестел там, где перед посадкой зияли дыры. - Разум, он все-таки везде разум; без понимания других ему трудно уцелеть, не так ли?
МЕСТО В ПАМЯТИ
- Вы директор Мемориала?
Я поднял голову и увидел человека, который был так стар, что казался плоским. Немнущийся костюм обвис на нем складками и перемещался как-то вслед за телом, когда старик двигался, словно раздумывая, не заявить ли о своей полной самостоятельности.
- К вашим услугам! Пожалуйста, вот кресло.
Он опустился в кресло, согнувшись под прямым углом.
Минуты две старик молча меня разглядывал. Глаза у него были маленькие, под редкими седыми бровями, такого невыразительного мышиного цвета, что мной овладели дурные предчувствия.
- Значит, я разговариваю с директором, - сказал он утвердительно. Должен обратить ваше внимание на то, что в подведомственном вам учреждении происходят форменные безобразия.
Он сделал паузу, будто ожидая чего-то, какой-то обязательной с моей стороны реакции. Но я слушал как ни в чем не бывало.
- Так вот, - голос его стал скрипучим. - Ваш Мемориальный центр обратился ко мне, как положено, с просьбой продиктовать свои воспоминания. Я отнесся к задаче со всей ответственностью, так как понимаю то воспитательное значение, которое имеет опыт старшего поколения, ценность тех жизненных наблюдений и выводов, которые мы накопили. Конечно, я простой человек, однако и моя жизнь была наполнена борьбой за то светлое, передовое, что является главной целью, которая, в свою очередь…
Уже на пятой минуте его монолога в стуле подо мной объявились твердости, которых я раньше не замечал. Вообще захотелось перевести взгляд куда-нибудь за окно, где реяли птицы.
- …Значение Мемориального центра заключается в том, что он является преемником опыта, который… Каждый человек имеет право, которым нельзя пренебрегать без ущерба для общества, а потому сотрудники Мемориала и управляемые ими машины должны и обязаны относиться со всей ответственностью…
Я покорно кивал. Поправлять его явно не имело смысла. Мемориальный центр действительно великое достижение кибернетики, но отнюдь не «полное собрание мемуаров» всех и каждого. Да, любой человек, вне зависимости от возраста, подключившись к нашему каналу, может рассказать свою жизнь со всеми ее мельчайшими, близкими сердцу подробностями (тайну авторства гарантирует закон). К старикам мы обращаемся особо, просим, убеждаем их, если они сами не беспокоят наши машины. Миллионы судеб, миллионы неповторимых поступков, движений души и мысли, все личное, что исчезало со смертью, теперь собирается, хранится, живет вечно, и богатству этому нет цены. Неважно, что в воспоминаниях истина порой подменяется вымыслом или приукрашивается воображением; существенно и то, что было, и то, что придумано, - ведь это тоже жизнь! Надо лишь не путать одно с другим, для того и существуют особые фильтр-системы, чтобы сортировать и оценивать. Вот тебе, социолог, педагог, историк, психолог, миллионы безымянных, доверительных записей, что подумал и почувствовал человек, как он поступил в той или иной ситуации, - черпай, осмысливай, выводи закономерности. Теперешний прогресс этих наук был бы невозможен без нашего центра. И расцвет литературы, кстати, тоже. Со сколькими людьми мог встретиться писатель прошлого, сколько сокровенного улавливал его глаз? Теперь ему открыта душа тех, кого уж нет.
Чем, однако, мы провинились перед этим старцем?
- …Исходя из сказанного, я решил осведомиться, сколько ячеек памяти занял мой рассказ. Что же выявилось? Вас интересует, что дала проверка?
Размеренный голос старика возвысился. В нем появилось нечто железобетонное - несокрушимая уверенность в своей правоте. Правоте и праве. С меня разом слетела вся одурь.
- Так вот, - в его взгляде появился оттенок подозрительности, выяснился безусловно неприглядный факт. Очень неприглядный факт. Информационная служба выдала мне справку, из которой следует, что моим мемуарам отведено… - он помедлил секунду, - ноль ячеек!
Он выждал, чтобы я осознал всю тяжесть факта, и заговорил уже с заметным волнением:
- Ноль ячеек, слышите? То есть ничего! Как это могло произойти? Как это прикажете понимать?
Понимать тут было нечего, мне все сразу стало ясно. То, что машина ничего не извлекла из его повествований, означало одно: они были пустышкой. В них отсутствовало личное, неповторимое, свежее, а была лишь банальность, которую машина отсеяла как мусор. Все оказалось мусором, все штампом, ни одной своей мысли, неподдельного чувства или хотя бы нового факта.
Теперь надо было выкручиваться - быстро, осторожно, не травмируя старика.
- Безобразие! - воскликнул я, срывая трубку интеркома. - Вы правы, вы трижды правы!
- Мне это известно, - сказал он значительно.
Последние сомнения рассеялись. Ни сейчас, ни раньше он и мысли не допускал, что его воспоминания никому не нужный набор общих мест. Его волновала только несправедливая ошибка, из-за которой человечество могло лишиться его бесценных воспоминаний. Только это! Счастливый бедняга…
Я делал вид, что проверяю и выясняю то, что выяснения не требовало, а он тем временем с пафосом говорил:
- Человек - это звучит гордо! - говорил он, назидательно подняв палец. - Замечательные слова, которые всем необходимо иметь в виду, особенно вам, тем, кто имеет дело с сохранением духовных ценностей. Любая честно и ответственно, пусть скромно, но с пользой прожитая жизнь достойна уважения и памяти. Это говорю не я, это говорит общество, ради процветания которого такие, как я, скромные труженики, работали не покладая рук…
Все верно. Нет неинтересных судеб, и с каждым человеком от нас уходит вселенная. Но… Вот этого я не мог ему сказать. Я не мог ему сказать, что вся его речь, а значит, и мышление давно окаменели. Что и свою жизнь он рассказывал, привычно изымая «все несоответствующее», сколько-нибудь оригинальное. А оно в нем, конечно, было когда-то, его память могла хранить что-то неповторимое, но теперь бесполезно стучаться и звать. Погребено, опечатано, погибло!
- Так оно и есть: ошибка, - сказал я, положив трубку. - Сбой, маленькая техническая неисправность, которые, к сожалению, еще случаются. Мы просим извинить нас, мы примем все меры…
- Будете повторно записывать?
- Разумеется! Немедленно, если, конечно, вы…
- Да. Хотя это сопряжено с новыми затратами времени и сил, которые по вашей халатности заметно убыли…
Я молчал, изображая сокрушенное раскаяние. Было трудно, все-таки я не актер. Противно, мерзко говорить неправду, но другого выхода я не видел. Правда его возмутит, оскорбит, не поверит он ей, сочтет за недоброжелательство, клевету. А если вдруг поверит… Нет, только не это! Прозреть к концу жизни, убедиться, что думал не сам и чувствовал по шаблону, не дал людям ничего своего, а может быть, того хуже - мешал им, как устаревший параграф. Нет, нет! Зачем омрачать последние стариковские годы?
К счастью, прозрение ему не грозило. Отчитав меня, он встал, я тоже, чтобы проводить его, но он задержался посередине ковра и, широко расставив прямые ноги, заговорил снова. Я слушал, чувствуя, как деревенеют мышцы лица.
Самое трудное было впереди. Нужно было придумать, как обмануть его, когда он снова проконтролирует (а он проконтролирует!), сколько же ячеек памяти заняли его воспоминания. Не знаю, что бы я отдал, лишь бы ячейки заполнились. Но этого не произойдет. Ноль, опять будет ноль. Потому что машина уже в первый раз сделала все, что могла. А может она немало. Она не просто записывает рассказ, она, как самый блистательный репортер, способна разговорить неподатливого собеседника, и, если ей не удалось извлечь из старика даже крупицу нужного, значит, дело безнадежное.
- Я был современником Гагарина! - объявил он мне, стоя в дверях. - Я все помню, как сейчас. Я был современником великих строек! Я присутствовал… Я был…
Вот именно. Он был.
Когда за ним наконец закрылась дверь, я в изнеможении повалился в кресло. И подумал, что когда придет мой черед рассказывать жизнь, то решусь ли я узнать, сколько ячеек досталось мне?
Нет. Никогда.
СЛУЧАЙ НА ГАНИМЕДЕ
С профессиональной точки зрения Анджею Волчеку повезло невероятно, но уравнения жизни сложней любой математики - такое везение могло обрадовать разве что закоренелого себялюбца.
К спутникам Юпитера Анджей отправился с надеждой написать серию добротных очерков об исследователях галилеевых лун, не более. Рейсовик благополучно доставил его на региональную базу «ЮП-12», откуда он с оказией собирался стартовать на Ганимед. Оказия после нескольких досадных задержек представилась, но вылететь Анджею так и не довелось, ибо часа за два до старта на Ганимеде вспыхнула эпидемия.
Точно влажная и мохнатая лапа прошла по спине Анджея, когда до него дошел смысл известия. Ведь это надо же, он вполне мог быть сейчас там, а не здесь!
При мысли, чего он избежал, его охватило радостное и тревожное возбуждение, которое ему самому показалось постыдным, но с которым он ничего не мог поделать. К счастью, он был просто обязан немедленно дать репортаж о случившемся, и профессиональные заботы оттеснили его личные переживания. Чтобы добыть информацию на базе, которая выглядела как встревоженный муравейник, потребовалась вся его хватка и тот беззастенчивый напор, который столь неприятен в журналистах, хотя он порой необходим им так же, как умение писать.
Вскоре на Землю ушел первый его репортаж.
«Их шестеро. Их имена знает теперь весь мир, и сколь удручающа причина этого!
Несколько часов назад, когда я разговаривал с ними по стерео насчет посещения их станции, они улыбались, шутили и обещали угостить меня таким «ганимедским зельем», которое сразу вышибет из меня дух суетности и обратит к вечному, исследованию Ганимеда то есть… Сейчас они не в силах пошевелиться.
Никто не ожидал трагедии, хотя, конечно, теперь может объявиться какой-нибудь биолог с толстым томом своих трудов и обличающими словами: «Я это предвидел!»
Что толку? Не этим заняты наши мысли здесь, на базе.
Ганимед, где расположена станция, только потому не планета, что он спутник Юпитера. Во всех других отношениях это планета, сходная с Меркурием. Благодаря своей массе Ганимед имеет атмосферу, гидросферу и, как теперь выяснилось, биосферу.
Последнее обстоятельство требует пояснения, ибо в нем, похоже, ключ к трагедии. Холодная, покрытая полузамерзшими газами поверхность Ганимеда до сих пор считалась безжизненной. Но шаг человека к другим мирам - это поступь самой Земли. Нет и, видимо, не будет возможности избавить человеческий организм от «внутренней биосферы», так как гибель всех населяющих тело бактерий и вирусов - пролог гибели самого человека. И коль скоро он осваивает вселенную, с его появлением, подчас независимо от его воли, любой клочок космоса становится ареной борьбы земной жизни с внеземными условиями.
А как же, спросите вы, дезинфекция, как же фильтры? Да, конечно, все, что человек может сделать, он делает. Но попробуйте уловить все капли дождя, поймать все несомые ветром пылинки… А это задача куда проще той, о которой идет речь.
Фильтр, дезинфекция! Разве вакуум космоса или холод близ абсолютного нуля не лучший фильтр, не лучшая дезинфекция? Однако и они не всегда преграда.
Тем более что человек и среда взаимодействуют. Второй закон термодинамики гласит, что жар горячего тела неизбежно распространяется на тела холодные. Обратный ток от холодного к горячему невозможен в принципе. Не так в биологии. Самое изолированное человеческое поселение может оказать на среду необратимое влияние. Но и среда влияет на человека сквозь любые стены, а следовательно, и заключенный в нем мир живого входит в соприкосновение со средой. Можно задраить все двери, можно герметизировать оазис от температур, радиации, электромагнитных полей, но нельзя - от тяготения. А уже одного этого может быть вполне достаточно.
Короче, мы знаем и тем не менее не знаем, что же произошло на Ганимеде. Мы знаем, что болезнь, молниеносно и страшно скосившая людей, вызвана вирусами. Какими? Теми, что преодолели герметизацию, вышли на свободу, превозмогли условия, изменились неузнаваемо и, преображенные, вернулись к человеку? Или болезнь вызвана своими, доморощенными вирусами, которые никуда не уходили со станции и которых Ганимед все же коснулся своей зловещей палочкой?
Это должны выяснить исследования на месте, а пока это мрак и тайна.
Вот все, что я узнал от специалистов базы, которые давали мне пояснения, ни на секунду не отрываясь от спешной, самоотверженной работы по спасению.
Каково же состояние тех, на Ганимеде? Приступ начался с внезапного и резкого - до 41 градуса - скачка температуры. У всех головокружение, боль в суставах. «Верно, так ломают на дыбе», - сказал один из больных, когда еще был в состоянии шутить.
Сейчас температура спала. Но любой жест сопровождается таким головокружением, что люди вынуждены лежать неподвижно.
У них великолепный набор медикаментов, хорошая аппаратура для микробиологических исследований. Один из шестерых - врач… Но единственное, что они успели сделать, - это принять антибиотики, интерферон и взять кровь на анализ. Данные анализа немедленно поступили сюда, на «ЮП», и в земные лаборатории: их сейчас изучают лучшие биологи и медики планеты.
Через несколько минут на Ганимед вылетают два врача базы. Это отличные специалисты с широкими познаниями в микробиологии. Они вооружены самым совершенным оборудованием, полны оптимизма, хотя и не скрывают, что со столь сложной задачей им еще не приходилось сталкиваться.
- Победа над неизвестной болезнью - вопрос только времени и интеллектуальных усилий, - сказал мне начальник региона Джамид Акмолаев. Положение больных серьезное, но пока не угрожающее. Будем надеяться, что время у нас есть… Добавлю, что за плечами тех, кто отправляется на Ганимед, стоит вся мощь современной науки.
Когда врачи проходили к шлюзу, то ящики в их руках с драгоценной аппаратурой напомнили мне почему-то те саквояжи, с которыми не расставались врачи далекого прошлого. Есть в этой ассоциации что-то символическое. Когда-то вот так же бесстрашно врачи отправлялись на чуму и холеру… Только они были почти безоружными в то время. А цели те же - бой со смертью на Земле, в космосе - везде!
Мы пожелали им успеха. Один из них, вспомнив старинную примету, улыбнулся и послал нас к черту».
Поставив точку, Анджей вытер со лба пот. Сомнения овладели им с новой силой: верно ли он ввел нотку бодрящего оптимизма? Может, стоило упомянуть, как выглядят лица больных?
Ему стало не по себе, когда он вспомнил, как они выглядят…
Нет, нет, об этом пока не надо говорить! Все должно кончиться хорошо. В конце концов, что такое болезнь, пусть неведомая, пусть космическая, в эпоху, когда человек овладел управлением наследственностью и готовится к полету на другие звезды?
Спустя два часа врачи высадились на Ганимед.
Еще через Полтора часа на Землю ушел новый репортаж Анджея Волчека.
«Мне трудно подбирать слова. Мне тяжело их писать, я буду протокольно краток.
В 13:40 по независимому времени ракета с врачами коснулась поверхности Ганимеда. В 13:58 врачи уже миновали шлюз станции. Мы следили за ними по стерео. В масках, перчатках, глухих халатах они склонились над больными. Их движения казались неторопливыми, но как быстро и умело они все делали! Они дали больным напиться, внутривенно ввели лекарства, взяли анализы. Электронный диагност, который они привезли с базы, как и диагност станции, болезни не определил. На это, впрочем, никто и не надеялся, так как в памяти диагноста не могло быть неизвестной, космического происхождения болезни.
Так прошло время до 14:37. Врачи успели развернуть походную лабораторию. Но приступить к широкой программе исследований им не удалось, так как в 14:40 один из них почувствовал себя плохо. К началу следующего часа стало ясно, что оба они больны той же болезнью, что и их пациенты.
Таково сейчас положение дел. Больных стало восемь. Состояние первых шести… Никто не может сказать, ухудшилось оно или улучшилось, потому что неизвестно, как протекает болезнь и что следует считать благоприятным симптомом. Боли прекратились, температура упала ниже 36. Но люди почти ничего не видят, и эта слепота, похоже, прогрессирует. Головокружения больше нет, однако слабость такая, что нет сил поднять руку.
Ситуация в земных лабораториях вам известна. Подвиг заболевших врачей не был напрасен. Они добыли ценные сведения, наладили автоматику, которая дает телеметрию о состоянии больных. Однако, чтобы наметить верный способ лечения, надо выявить возбудителя, определить, как он действует. Даже сейчас на это нужно время.
Время и усилия интеллекта… Неразрешимых задач не существует. Надежда не покидает ни специалистов, ни больных. «Мы не собираемся умирать, говорят они. - Передайте Земле, что мы дадим медикам время».
Время! Все зависит только от времени».
Анджей не знал, верит ли он тому, что сам написал в конце.
Он вышел из стереобудки. Вращение станции создавало привычную силу тяжести, отсутствие окон делало подковообразный коридор похожим на какой-то подземный тоннель. На полу, может быть впервые за время существования базы, валялись бумажки; Анджей механически отметил в уме эту красноречивую подробность.
Надо было снова идти за информацией. Превозмогая себя, - надо. Мука брать информацию у люден, которые сами не свои, которые заняты авральной работой или, что хуже, обманывая себя, создают видимость такой работы, потому что только так они могут заглушить ощущение вины перед теми, кто ждет помощи, которую они не в силах оказать. Конечно же, их раздражает снующий репортер. Но что уж и вовсе действует на них, как зубная боль, так это мысль, что с появлением журналиста они оказываются под пристальным глазом общественного внимания в ситуации, когда им меньше всего этого хочется. Будь их воля, они заперли бы все двери, наложили запрет на любую строчку! По-человечески их можно понять.
Ко всему этому Анджей привык, но даже он оттягивал момент, когда придется переступить порог кабинета начальника региона.
Мешало смутное чувство неловкости. Там гибнут люди, а он пишет о том, как они гибнут. Но ведь он обязан, вот именно - обязан! - писать…
Еще есть гнусное (здесь и сейчас) выражение: «сенсационный репортаж». Да, но, как ни крути, то, что он оказался свидетелем несчастья, для него лично, как для репортера, - удача.
Миру не помешало бы быть чуточку проще…
От этих мыслей Анджея отвлекло появление санинспектора, который шариком выкатился из глубины коридора и замер при виде журналиста.
- А, это вы… - взгляд его выпученных глаз остановился на Анджее. Кстати! Помнится, вы меня хотели о чем-то спросить?
Анджей насторожился - здесь еще никто не напрашивался на интервью. И тут он заметил, как дрожат коротенькие руки инспектора. Обостренное чутье вмиг подсказало Анджею, что могло привести к журналисту того, кто отвечал за санитарную безопасность всех станций региона.
- Возможно, возможно, - проговорил он уклончиво. - Однако, по-моему, это вы хотели меня о чем-то спросить.
- Разве? - рот инспектора приоткрылся. - Ах да, да! Нас, помнится, прервали… Впрочем, неважно. Я что хотел сказать? В своих репортажах вы опустили один момент… весьма существенный момент. Каким образом, теоретически зная о способности микроорганизмов к перерождению, мы допустили на практике… Вы понимаете?
- Мне казалось, - сказал Анджей, слегка отстраняясь, - что до заключения специальной комиссии этот вопрос лучше не трогать.
- Без сомнения, без сомнения! Все же не мешает кое-что прояснить заранее. Хотя бы такой общий принципиальный момент: вся наша работа здесь - рассчитанный риск. Вот! Иначе и быть не может. _Не может_!
Инспектор, похоже, был готов взять Анджея за пуговицу.
- Такова специфика нашей работы, - торопливо продолжал он, словно опасаясь, что его перебьют. - Вроде как у альпинистов. Что же касается мер безопасности, то меры разрабатывали самые лучшие специалисты, а мы неукоснительно до последней запятой проводили их в жизнь, тут наша совесть чиста…
- Почему вы говорите «наша»? - перебил его Анджей. - Разве в регионе есть еще один инспектор?
- Это я так, по привычке, ведь мы же коллективисты… Простите, я не об этом хотел сказать. Так вот, меры… Вы не представляете, как легкомысленно относятся исследователи к соблюдению правил. Право слово, как дети! Им, видите ли, мешает… Сколько раз я докладывал…
- Все это очень интересно, - холодно сказал Анджей, в котором привычка выслушивать собеседника до конца боролась с брезгливой жалостью. - И даже существенно. Но, простите, неактуально. Скажите лучше, что намерена делать база сейчас? Ваше мнение на этот счет?
Казалось, из инспектора выпустили воздух - так осунулось его лицо.
- База? - переспросил он растерянно. - Насколько мне известно, Акмолаев намерен ждать результатов исследований…
- Значит ли это, что никого больше на Ганимед не пошлют и больные останутся без помощи?
- Это не мое решение!
- Но ваш голос…
- Я только инспектор. И знаете, мне очень, очень некогда… В другой раз!
Инспектор умчался, что-то бурча под нос. «А некоторые мои коллеги еще пишут, что в космосе сплошь герои, - подумал Анджей, проводив его взглядом. - М-да…»
Дверь кабинета начальника региона оказалась приоткрытой, и уже издали Анджей уловил обрывки слов, которые заставили его подобраться, как почуявшую след собаку. Сам не заметив того, он скользнул за дверь на цыпочках.
Никто, впрочем, не обратил на него внимания. За столом, более багровый, чем обычно, сидел Акмолаев. Напротив стоял донельзя худой, оттого как бы двумерный, человек во всем черном, с лицом резким и злым. Острый, точно лезвие, профиль незнакомца заслонял от скользнувшего в угол Анджея иллюминатор, где медленно текла яркая россыпь звезд.
- Позвольте мне повторить свои доводы, - упрямо сказал человек в черном.
- Я их уже слышал.
- Вы и ваше земное начальство с самого начала связали себя неправильным решением. Понять меня вам мешает предубеждение.
- У меня нет предубеждения.
- Есть.
- Это разговор не по существу.
- Вы сами уходите от разговора по существу.
- Я слушаю вас уже четверть часа.
- Слушаете, но не слышите.
- Вам не кажется, что вы злоупотребляете моим терпением?
- Нет, поскольку речь идет о спасении людей.
- Можно подумать, что вы единственный, кто об этом заботится.
- Я единственный, кто может их спасти.
- Вам нельзя отказать в скромности.
- Мне известны мои возможности.
- Считаю дальнейший спор бесцельным.
- Вот, значит, как!
- Да, так.
Оба замолчали.
Внезапно на все, что было в кабинете, лег красноватый отблеск. Акмолаев и незнакомец разом повернули головы в сторону иллюминатора, куда вползал мохнатый грязно-багровый край юпитерианского диска.
Диск заполнил собой иллюминатор, точно раскаленная взбаламученная туча, грозно набухшая косматыми грядами огня, дыма и желчи. Бестеневой свет ламп померк в ее блеске. Акмолаев и его подчиненный, конечно, видели эту картину много раз и все-таки не могли отвести взгляда, как бы оцепенев перед ликом этой космической Медузы.
Наконец диск ушел за край, и в иллюминаторе снова установилась спокойно плывущая звездная чернота. Собеседники, как будто очнувшись, посмотрели друг на друга.
- Хорошо, - молчание нарушил неприязненный голос незнакомца. - Один только вопрос. Нарушу ли я закон или другое какое космическое правило, если вот сейчас пойду и повешусь?
Акмолаев вскочил. Звякнула покатившаяся по столу ручка.
- Вы… - Акмолаев задохнулся. - Вы в своем уме?
- Я просто спрашиваю. Имеет ли право человек распоряжаться собственной жизнью? Да или нет?
- Но позвольте!
- Да или нет?
- Допустим, имеет, - Акмолаев тяжело опустился в кресло. - Дальше что?
- А раз так, - невозмутимо продолжал человек в черном, - вы не имеете права запретить мне выбор способа самоубийства.
- Имею! - закричал Акмолаев. И тут же добавил осевшим голосом: - Если это угроза, Мей, то недостойная. Как вы можете… Как вы можете устраивать мелодраму, когда на Ганимеде…
- Делать это меня заставляет ваша непреклонность, - быстро ответил тот. - Я хочу лететь на Ганимед. Я врач, мое присутствие там необходимо. Ведь им некому даже подать воды… Вы считаете, что это будет еще одна напрасная жертва. Я же убежден, что болезнь меня не коснется, не сможет коснуться. Вы не верите, что дело обстоит именно так, мои доводы никого не убеждают, вы запрещаете мне полет. Ладно, примем вашу точку зрения. Мое намерение - намерение самоубийцы. Тогда будьте логичны до конца. Закон не запрещает человеку распоряжаться своим здоровьем и жизнью. Следовательно, я не требую ничего противозаконного. Ну и отпустите меня, дайте мне сделать то, что я задумал. Все просто и ясно, слово за вами.
Скуластое волевое лицо начальника региона, казалось, постарело. Он молчал. Сжавшись в уголке, Анджей переводил взгляд с одного на другого. Он никак не мог определить свое отношение к происходящему. Этот Мей, которого он еще ни разу не видел на базе, невольно вызывал восхищение. И в то же время был чем-то неприятен.
Анджей даже прикрыл глаза, пытаясь вспомнить, чей образ вызывает в памяти этот человек с его страстным и, однако, холодным блеском глаз, непреклонный, охваченный беспощадной решимостью.
- Что ж, я отвечу, - зазвучавший в тишине голос Акмолаева был бесстрастен. - Вы не в пустыне, мой милый. Кроме законов юридических, существуют законы нравственные. Если это вам ничего не говорит, то мне вас жаль. Это все.
- Значит, запрет остается в силе.
- Ничто другое вас не интересует?
- Ничто другое в данный момент не имеет значения. Запрет остается в силе?
- Да.
- Тогда прощайте.
Незнакомец круто повернулся и почти выбежал. Анджей ринулся за ним, но нагнал лишь в конце коридора.
- Постойте, можно вас спросить?
Взгляд светлых и яростных глаз будто ударил Анджея.
- Да?
- Я… - Анджей растерялся, что для него было редкостью. - Там, в кабинете, я, видите ли, слышал…
- И что же?
- Ничего, - Анджей внезапно озлился. - К тому, кто не хочет, я не навязываюсь с расспросами.
Мгновение казалось, что смысл слов так и не дошел до сознания незнакомца, что он вот-вот отстранит журналиста с пути и тут же забудет о его существовании. Однако в выражении его лица что-то изменилось.
- Вы пресса? - вопрос прозвучал как обвинение. - Человек, который обо всем судит, ни в чем не участвуя? Уж не хотите ли вы сказать, что вы мой сторонник?
- А разве мир делится на ваших сторонников и ваших противников?
- Сейчас да, потому что от этого зависит судьба тех, на Ганимеде.
- Не зная, в чем дело, я не могу быть ничьим сторонником.
- А узнав суть дела, вы станете?
- Не обязательно стану, не обязательно вашим союзником, но без этого я уж заведомо не смогу занять никакой позиции.
- Откровенно! Что ж, дороги любые усилия… Для начала такой вопрос: почему врач, постоянно имея контакт с больными, сам заражается редко?
- Меры предосторожности, очевидно.
- А когда врач не знал этих мер? В средневековье? Так как же?
- Но разве какая-нибудь чума больше щадила врачей?
- Да! Это не домыслы - статистика. Ответом, почему так происходит, может служить знаменитый казус с доктором Петтенкофером.
- Простите?
- Петтенкофер - научный враг великого Коха. Когда последний открыл возбудителей холеры, то Петтенкофер с профессорским упрямством, которое может соперничать только с ослиным, твердил, что все это вздор. Чтобы окончательно посрамить Коха, он демонстративно выпил культуру самых свирепых вибрионов. И, представьте, его даже не стошнило! Этот случай до сих пор вызывает изумление, а ответ прост. Петтенкофер не заболел потому, что не верил в возможность болезни! Искренне, фанатично не допускал мысли, что вибрионы смертоносны. Вот это и есть ключ: человек не заболеет, если он абсолютно, до последней клеточки мозга убежден в своей неуязвимости.
- Но это же абсурд! Вы, медик, не можете не знать…
- Абсурд? О да, конечно… Способность к самовнушению я развил в себе до такой степени, что могу сейчас безнаказанно поглощать любые дозы самых страшных вирусов и бактерий. А меня обухом по голове: абсурд! Теория не допускает, тот же Кох… Меня - Кохом! Факт - теорией! В результате я, единственный, кто может помочь тем, на Ганимеде, кто, можно сказать, всю жизнь готовился к этому, отстранен. Человек, видите ли, не способен… А кто измерил предел его возможностей? Те, кто и близко не подступали к краю. Когда евнухи судят о любви, устрицы о риске, чиновники о творчестве, это смешно и омерзительно! И опасно, когда в их руках власть. Так почему вы, пресса, не бежите к микрофону, чтобы поднять общественное мнение, пока не поздно?
- В любом случае я должен выслушать и другую сторону.
- Верно, верно, правила превыше всего… Даже в такую минуту. А будет поздно! Поздно! Прощайте.
- Еще минуточку…
Но Анджей с его почти двухметровым ростом уже перестал существовать для собеседника, Анджей покачал головой и двинулся к кабинету начальника региона.
Когда Акмолаев увидел входящего к нему журналиста, лицо его выразило одну только мысль: «Вас еще не хватало!»
- Что нового? - спросил Анджей, садясь с видом туповатого носорога.
- Состояние больных не улучшилось, но и не ухудшилось, - размеренно проговорил Акмолаев. - Возбудитель болезни пока не обнаружен, хотя, судя по всему, это вопрос ближайших часов. Вот так.
Последовал наклон головы, каким во всех кабинетах дают понять, что разговор окончен.
- Кто этот врач, который только что был у вас? - спросил Анджей.
Привычная улыбка деловой вежливости на этот раз не сработала - Акмолаев поморщился. Однако в нем явно боролись два противоречивых желания: уйти от неприятного поворота темы или, наоборот, облегчить душу, высказав то, что он не мог высказать никакому другому собеседнику.
- Я только что разговаривал с ним, - Анджей поспешил уточнить ситуацию.
- Пресса, как всегда, оперативна. - Акмолаев откинулся в кресле и без улыбки посмотрел на журналиста. - Ваши симпатии, разумеется, на его стороне?
- Смелость всегда подкупает, - осторожно сказал Анджей. - Тем более смелость самопожертвования. Кстати, хороший ли он врач?
- Врач он прекрасный, - казалось, Акмолаеву нужно было убедить самого себя. - Да, хороший врач…
- Мей… Как дальше?
- Мей Ликантер, врач «Джей-7», вызван по тревоге вместе с другими. Какое он на вас произвел впечатление?
- Он или его теория?
- Он сам.
- В нем есть что-то от фанатика.
- Вот! - Акмолаев удовлетворенно кивнул. - Он и есть фанатик, причем оголтелый. Эдакий космический Савонарола.
- Савонарола?
«Так вот чей образ преследовал меня! - подумал Анджей. - Ставший нарицательным образ благородного и зловещего в своей нетерпимости фанатика, черты которого померещились мне в облике Мея…»
- Да, Савонарола. Почему вас удивляет это сравнение? Разве этот человеческий тип исчез? Он принял другой облик, одержим другими идеями, а в остальном… «Кто не верит в мою истину, тот враг истины!» Не так разве?
- Пусть так, - сказал Анджей. - Но объективно его стремление направлено к благу…
- Даже если его главная цель - доказать правоту своей теории. Согласен.
- Тогда мне тем более непонятна ваша позиция.
- Начнем с того, что он не первый и не последний доброволец. Каждый на его месте стремился бы на Ганимед. Каждый! И вы тоже, будь вы врачом.
Анджей наклонил голову в знак согласия, но что-то неприятно кольнуло его.
- Между тем, - продолжал Акмолаев, - быть в такой ситуации таким героем легче, чем им не быть. Инстинкт. Добровольцами движет благородный, но слепой инстинкт. А почему бы, спросите вы, не разрешить самопожертвование, ведь люди рискуют своей, не чужой жизнью? Так! Но жизнь их для нас не чужая; вам, мне, всему человечеству не безразлично, сколько людей попадет в беду. Дальше. Когда солдат на войне закрывал собой амбразуру, то он спасал своих товарищей от огня, то есть погибал не напрасно. А здесь нет даже этого! Восемь человек - восемь заболевших, а пулемет не подавлен… Что ж, прикажете завалить его телами, авось на десятом, сотом он захлебнется? Люди мы или слепо летящие на огонь мотыльки? Сейчас идет испытание не смелости, не благородства, а нашего разума. В вас что-то протестует против этой рассудочной, но единственно верной логики? Во мне тоже. Но я не колеблюсь. Вот скажет Земля: лекарство найдено, но мы в нем не уверены, надо испытать. Я пошлю на Ганимед Ликантера, заболеет Ликантер, пошлю других врачей, себя пошлю, тех, кто не хочет, заставлю пойти. А сейчас - нет! Нет, ибо бессмысленно и преступно.
- Значит, теория этого Ликантера с вашей точки зрения…
- Она не совсем абсурдна, - быстро проговорил Акмолаев. - Если путем длительной тренировки человек обретает власть над некоторыми автономными процессами своего тела, то… Но у Ликантера, в сущности, нет доказательств.
- Он уверял меня, что способен без вреда поглощать болезнетворные культуры.
- Экспертизы на этот счет не было, но пусть даже все так, как он говорит. Я знал человека, вы не поверите, - он мог пить синильную кислоту. Специалисты вам объяснят, почему это возможно и почему такая способность в любом другом случае бесполезна. У Ликантера нет ничего, кроме безграничной веры в свою правоту и бешеного напора! Тут уж вопрос принципа: либо мы ученые, либо верующие. Либо мы полагаемся на разум, либо бежим за первым же пророком. Или - или, третьего не дано.
Акмолаев пододвинул сифон. Анджей напряженно смотрел, как пузырится вода, ходит кадык, звякает стекло.
- Знаете, - отставив стакан, шепотом сказал Акмолаев. - Иной раз я завидую таким, как Мей… Какая это свобода - отдаваться порыву страстей! Не разбирая пути, не думая, не взвешивая, мчаться на выручку… А тут сиди, рассчитывай, планируй, зажав все в кулак…
Акмолаев замолк, его лицо тронула какая-то извиняющаяся улыбка. Она исчезла, будто сдутая, едва зазвонил интерком.
- Акмолаев слушает! Да… Что… Что?!
Анджей встрепенулся. Он не слышал, о чем говорили, но вид Акмолаева сказал ему больше, чем слова.
Трясущаяся рука Акмолаева опустила трубку.
- Кто-нибудь умер?! - воскликнул Анджей.
- Улетел.
- Как… улетел? - Анджею показалось, что он перестал воспринимать смысл самых обычных слов.
- Так и улетел. Мало ли у нас ракет…
- Сюда?! Больной?!
- Какой больной? Улетел Мей Ликантер! Вы можете это понять? Можете?
- Ликантер? На Ганимед?
- Куда же еще?
- И… и что же теперь?
- Ничего. Его вышвырнут из космоса, меня снимут с этого поста.
- Но, может быть…
- Ликантер сотворит чудо? Не заболеет? Вы это имеете в виду? Результат будет тот же.
- Не понимаю. Ничего не понимаю!
- Чего тут не понимать? Я запретил Ликантеру полет, он нарушил приказ, благо никому в голову не пришло оградить доступ к ракетам, теперь он высадится на Ганимеде. Все. Дальнейшее с точки зрения его и моей судьбы не имеет ни малейшего значения! Его уволят из службы космоса, потому что он злостно нарушил дисциплину, меня - потому что какой же я начальник, если мои приказы не исполняются?
- Можно же связаться с ракетой!
- Зачем? Кричать, грозить, стучать кулаком? Поздно и глупо. Он знал, на что идет, слышал все мои доводы, больше нам говорить не о чем.
- Простите! Если Ликантер не заболеет, окажет больным помощь, то в глазах всего человечества…
- …он будет героем? Вероятно. Он будет героем, я перестраховщиком. Только в космосе его не оставят, что бы там общественность ни думала.
- Не уверен.
- Значит, вы не представляете, кто мы! Романтика переднего края, героический порыв, пионеры космических далей - так вы мыслите? Ложь, потому что полуправда! Космос есть дело серьезное, ответственное, опасное, и основа его - ор-га-ни-за-ция. Вся наша устойчивость здесь - устойчивость живой пирамиды, и своеволие в ней не проступок, а преступление. Иначе безответственная прогулка, иначе - пикник, а это кровь и смерть. С той же неизбежностью, с какой на морозе твердеет вода, человеческий коллектив тем жестче цементируется дисциплиной, чем трудней условия. Это не нами придумано, это не наша прихоть, это неизбежность закона, здесь можно только так, и никак иначе!
Анджея поразила холодная и яростная страстность слов Акмолаева, почти гимн системе, которая действует по железным правилам машины и гордится этим.
- Мне вы разрешите связаться с Ликантером? - спросил он.
- Прошу! - демонстративным жестом Акмолаев показал на пульт. - Это тоже ничего не изменит.
Анджей поспешно включил стереосвязь.
«Что за люди! - думал он изумленно. - Тут аврал, ЧП, истерика, а они…»
- Алло, Ликантер! - крикнул он, едва в глубине экрана проступило изображение тесной рубки. - С вами говорит корреспондент…
- Вижу, - отблеск на щитке шлема делал лицо Ликантера не то гримасничающим, не то смеющимся. - Что вам надо?
- Ответ, как вы могли нарушить то, что составляет основу всей космической системы.
- Узнаю мысли Акмолаева. Все хотите меж правдами середочку найти? Не выйдет! Да, мы здесь все как на канате. Поэтому каждый должен жить по правилам. Трижды верно! А если равновесие уже нарушено? Тогда спасение в инициативе, только в инициативе! И в доверии к инициативе. Ясно?
- Но…
- Нет! Скоро Ганимед, мне не до разговоров.
Рука Ликантера тронула переключатель, и стерео потухло.
- Он не прав, и он крупно подвел меня, - сказал Акмолаев, глядя на мертвый экран. - Это мне не мешает относиться к нему с уважением. Все же таким фанатикам у нас нет места.
- Он может победить. А победителей не судят.
- Знаете что?
- Да?
- Суд над победителями нужнее, чем суд над побежденными. Подумайте над этим парадоксом, и вы убедитесь, что я прав. В одном я согласен с Ликантером - время разговоров минуло. Так что до свидания.
Много часов спустя на Землю ушел последний репортаж Анджея Волчека.
«Входя в шлюз больничной палаты, которая еще недавно была научно-исследовательской станцией, Мей Ликантер, конечно, не подозревал, что биологические центры Пущино и Гринвилл одновременно приблизились к разгадке странной болезни.
Словно бросая кому-то вызов, Ликантер приступил к работе без перчаток и маски. «Они не помогли моим коллегам, - сказал он. - Следовательно, они бесполезны и только мешают».
В этом поступке весь Ликантер.
Томясь, как на медленном огне, мы ждали, что произойдет, не веря в чудо и надеясь, готовые отдать годы жизни, лишь бы чудо произошло.
Текло время, стереомониторы станции бесстрастно фиксировали каждый жест Ликантера, каждую черточку его худого, хмурого, будто обугленного напряжением лица.
Ликантер оставался жив и здоров, жив и здоров вопреки всем прогнозам.
Так произошло чудо. Это не значит, конечно, что его теория верна. Известно, что нет двух в точности одинаковых организмов. Этим способом, подобным делению корабля на переборки, эволюция защитила наш вид.
Мы разные, в этом секрет нашей жизнестойкости! Вот почему ни одна самая губительная эпидемия не может скосить все человечество ни в настоящем, ни в будущем. Вполне возможно, что именно организм Ликантера таил в себе тот резерв сопротивляемости, которым нас снабдила природа. Столь же возможно, впрочем, что справедливо его объяснение, - в этом рано или поздно разберутся специалисты.
Важно не это. В ожидании добрых вестей с Земли здесь, на базе, стояли наготове ракеты, чтобы переправить на Ганимед бригаду врачей тотчас, едва станет известна природа вируса и меры защиты против него. А до этого на Ганимеде был только Ликантер, который совмещал обязанности врача, исследователя, медсестры, няни.
Сейчас, когда все позади, когда ясна клиническая картина болезни, ясно стало и другое. Самый опасный кризис пришелся на те часы, когда подле больных был один Ликантер, а бригада еще находилась в дороге! Если бы его там не оказалось, некому было бы приготовить и ввести парализованным тот комплекс лекарств, который, как уже знала Земля, только и мог дать спасение.
По крайней мере, шестерых из восьми это обстоятельство, вероятно, спасло от смерти.
Все хорошо, что хорошо кончается. А все могло сложиться совсем иначе… Совсем иначе. В победе участвовал счастливый случай и, возможно, не один.
Итак, кончился ужас неизвестности, пытка тревоги, разум человека вновь одолел темные силы природы. Больным уже ничто не грозит. Скоро, очень скоро они обнимут родных и близких…
А нам время задуматься над полученным уроком. В час победы и ликования? Вот именно. Нелеп призыв извлечь урок из поражения - он будет извлечен и без призыва. Но победа одним тем, что она победа, усыпляет критику недостатков. В этом опасность победы.
Да, опасность! Ведь победа - это преодоление беды. Так заглушит ли гул восторга потребность анализа глубинных причин, которые вызвали беду? Промахов и ошибок, которые ее усугубили? Поступков, которые можно толковать и так и эдак? Или мы решим, что правила, годные сегодня, годятся на века? Победа укрепляет веру, что методы, которыми она подготовлена и достигнута, Образцовы, а потому неприкосновенны. Меж тем диалектика властвует и здесь.
Случай на Ганимеде должен нам об этом напомнить!»
* * *
Стоя в углу на нижней палубе, Анджей мог видеть переход к шлюзу главного причала. До старта корабля на Землю оставалось менее часа, и следовало бы уже пройти в шлюз, как это сделали другие, но Анджей медлил.
Боялся ли он встречи или желал ее? Анджей не мог в этом разобраться.
Что его мучило больше всего, так это то, что он до сих пор не мог определить, кто больше прав в том жизненном споре, который решался у него на глазах. Он сам понимал, что от этой умственной неразберихи пострадали его репортажи, потому что в них не было его позиции, а так, поклоны в обе стороны. А от позиции в тот момент зависел не только блеск репортажа… Что это, бескрылая боязнь крайностей? Или неподготовленность ума к глубокой оценке событий и мнений? А может, просто леность, которая все перелагает на жизнь, авось та вынесет приговор и все снова станет простым и ясным? Будто жизнь так уж часто решает окончательно и бесповоротно…
«Рефлексия, - решил Анджей. - Глупая и ненужная рефлексия, поскольку от меня все равно ничего не зависит. Информация, мое дело только информация, тут я знаю и умею».
Так он подумал и не двинулся с места.
Послышались шаги, но не те, которых он ждал. Санитарный инспектор, выпятив живот, прогуливался по палубе, но выражение лица у него было величественное, словно он выполнял миссию, и глаза привычно шарили по закоулкам, как бы проверяя, все ли так, как положено, во вверенном ему стерильном мире.
- А, это вы… - инспектор остановился. - Улетаете?
- Улетаю. А вы остаетесь?
- Приходится. И рад бы, а куда денешься: работа, долг…
Оба помолчали.
- Вчера закончила работу комиссия, - внезапно сказал инспектор.
- Да? - без выражения спросил Анджей.
- Никаких нарушений в соблюдении санитарных правил не обнаружено. Сами правила, конечно, будут ужесточены.
- Что ж, поздравляю.
- Да, никаких нарушений… Желаю счастливого полета и всех благ.
- Спасибо.
Инспектор протянул руку, и Анджей пожал ее. Кивнув напоследок, инспектор удалился.
Минуту спустя Анджей увидел Ликантера. Он было рванулся к нему, но Ликантер то ли не заметил, то ли не хотел его замечать.
Анджей проводил его долгим взглядом. Наклонив голову, Ликантер шел своим резким, как бы рассекающим пространство шагом. В руке у него был чемоданчик.
Его никто не провожал, как и Анджея.
Вздохнув, Анджей поплелся за ним следом.
ДОГНАТЬ ОРЛА
- Смотри, не залетай далеко!
Мальчик кивнул и сразу забыл наставление. Еще бы! Солнце греет, мама заботится, все в порядке вещей, и думать тут не о чем.
Он стоял на крыше дома, напряженный, как тетива. Лодыжки и запястья охватывали сверкающие браслеты движков, а шлем и широкий пояс антигравитатора делали его совсем похожим на звездолетчика - таким же подтянутым, мужественным, снаряженным. Он чувствовал, что мама тоже любуется им.
- Милый, ты слышал о чем я говорю?
- Ну, мам…
Мальчик обиженно шмыгнул носом. Что он, маленький? Щурясь на солнце, он принял стартовую позу. Вот так! «Команда готова, капитан! Есть, капитан! Уходим в пространство, капитан!»
При чем здесь мама?
СТАРТ!
Словно чья-то рука мягко и властно взяла его под подошвы, приподняла, так что от макушки до пяток прошел холодок, и - ух! - сердце учащенно забилось, когда плоская крыша, мама на ней, деревья вокруг дома плавно и быстро стали уходить вниз.
Они уменьшались, как бы съеживались, а мир вокруг, отодвигая горизонт, расширялся. Воздух стал ощутимым и зримым. Он приятно обдувал вертикально взмывающее тело мальчика, и от одного уходящего вдаль края земли до другого заполнял собой все - прозрачный, бодрящий, солнечно-голубой.
Чуть-чуть небрежно и горделиво мальчик помахал маме. Она стала теперь совсем крошечной. Земля уходила все дальше, делалась плоской, краски ее грубели, наливаясь синевой. Этот вид земли никогда не нравился мальчику. Он наклонил голову, биодатчики шлема уловили безмолвный приказ, тело легло плашмя, и вот он уже парил, снижаясь и держа курс к вспыхивающему серебру далекого озера.
Прежний антигравитатор, которым мальчик пользовался с пяти лет, слегка шумел в полете, а этот новый «Икар» был совершенно, дивно беззвучен. Ни рука, ни нога не зависали, как это было прежде, - мечта, а не машина!
Впрочем, что тут такого? Вчера хорошая машина, сегодня отличная, завтра еще лучше - иначе и быть не могло. Машины ведь тоже взрослеют.
Ближе к земле ощутимей стали мерные токи воздуха. Тело скользило в струях; чуть теплей, чуть прохладней, немножко вверх, немножко вниз, как с горки на горку, как с волны на волну. От удовольствия мальчик зажмурился.
Даже с закрытыми глазами он знал, над чем пролетает. Сухо и терпко пахнет травой - луг на пригорке. Теперь чуточку колыхнет - низина. Горячий, смолистый аромат с земли - он над сосновым бором. Донесся влажный запах мокрой тины - берег озера. Душистая струя цветущего шиповника…
А ну-ка! В мальчике точно распрямилась пружина. Открыв глаза и вытянув вперед руки, он ринулся наискось и вниз, вниз, тараня близящуюся стену деревьев. Вокруг все мчалось и сливалось. Он был ракетой, он летел в атаку, впереди была сельва чужой планеты, там насмерть бились его друзья, и он, жертвуя собой…
Та же мягкая и властная рука подхватила его вблизи от сомкнутых стволов и подняла над лесом. Как всегда… Было обидно, что его лишали воли, но всякий раз, когда, замирая от сладкого ужаса, он пробовал вот так врезаться в преграду, спасительное вмешательство автомата доставляло ему невольное облегчение. Потому что, кроме азарта и упоения, все-таки был и страх, совсем капельный, но все же страх, что автомат не убережет. Но он уберегал всегда, иначе и быть не могло.
Мальчик перевел дыхание. Вершины частого ельника, над которым он плыл, порой открывали внизу темные провалы со скатами мохнатых ветвей; оттуда тянуло сырым грибным запахом. Можно было, конечно, нырнуть и спокойно исследовать такую пещеру, но нет, энергия требовала другой разрядки.
Он круто взмыл вверх и кувыркался, переворачивался, вертелся, пока все зеленое, голубое, солнечное не закружилось в глазах обезумевшим колесом. Тогда он лег на спину.
Мало-помалу мир встал на место. Теперь в нем была тишина и покой.
Ослепительная белизна редких кучевых облаков тоже манила, но это было совсем не то. Внутри облаков промозгло, зябко и скучно. Облака годятся разве что для шумной игры в прятки, когда под тобой столько белоснежных, соблазнительных издали гротов, невесомых арок, причудливых мостов, но все это зыбко, изменчиво, и нужен точный расчет, чтобы туманное укрытие вдруг не растаяло в самый неподходящий момент. Да, играть там в прятки - это здорово! И еще отыскивать радуги. Радуг там, конечно, много, но надо найти великолепную, такую, чтобы все признали, - лучше нет.
А ведь он когда-то боялся летать. Судорожно хватался в воздухе за отцовскую руку. Смешно! Глупый он был тогда. И год назад, если вспомнить, тоже был еще глупый - мечтал пролететь сквозь радугу. Теперь-то он понимает, что такое радуга. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый спектр, а все вместе - белый свет! Ну еще там ультрафиолетовый, инфракрасный… Очень даже все просто.
Прежняя поза ему надоела, он повернулся на бок. Так он лежал некоторое время между небом и землей, пока не захотелось новых действий.
Тут он увидел парящую вдали птицу. Птица в воздухе что кузнечики на лугу; он давно уже, как подрос, не обращал на них особого внимания, разве что, притаившись за опушкой, с криком врывался в стаю горластых ворон. Поступок, за которым дома следовало внеурочное мытье (вороны пачкались очень метко), сопровождаемое огорченными попреками: «Ведь говорили же тебе - не беспокой птиц; тебя бы вот так кто-нибудь напугал, каково?» Взрослые любят все усложнять, и если всегда их слушать, то и пальцем не шевельнешь. Они вот никогда не врываются в вороньи стаи и, не знают, какая это потеха. И еще неизвестно, кто тут кого должен бояться, - дружная стая разозленных ворон и поцарапать может… Тут ему видней, потому что в детстве ни папа, ни мама не летали по воздуху - антигравитаторов тогда не было. Даже представить трудно, как это они без них обходились.
Одинокая птица не представляла особого интереса, но, приглядевшись, мальчик внезапно насторожился. Уж слишком величественно парила птица! Такой размах крыльев мог быть только… Ну конечно же, это орел! Орел!
Уиу-у! Тело мальчика ввинтилось в ставший упругим воздух. Расстояние до орла сокращалось, но тот все так же лениво парил, нисколько не шевеля крылом. Орел был могуч и, видимо, стар; его царственный вид взбудоражил мальчика. Среди перьев хвоста виднелось несколько белых, и у мальчика даже слюнки потекли при мысли, что трофеем охоты может стать НАСТОЯЩЕЕ ОРЛИНОЕ перо. У всех ребят для игры в индейцев перья синтетические, а у него будет добытое им самим настоящее!
Крылья орла наконец дрогнули. Он уже не парил, а летел прочь от преследователя. Но и удирал он как-то надменно-снисходительно.
Мальчик не думал об опасности, об изогнутом крепком клюве и острых когтях, которым он мог противопоставить лишь скорость своего «Икара». До сих пор орел был символом, персонажем мультфильма, иллюстрацией в книге, а тут он был живой, настоящий и, как подобает орлу, царственный. Такую добычу нельзя было упустить.
Ветер стал тугим, воздух обтекал, как вода, из глаз потекли слезы, но на шлеме были очки, и мальчик поспешно опустил их. Однако - вот беда! расстояние почти не сокращалось.
БЫСТРЕЕ!
Греющая, если холодно, термоодежда плотно облегала тело, но ветер уже и ее вспарывал, выдувая тепло. Руки коченели, но кто обращает внимание на такие мелочи, когда идет охота?
Крылья орла мерно и сильно били воздух. Но расстояние сокращалось!
Лицо жгло, ветер ревел в ушах, дыхание закладывало. Только бы достать!
Орел казался мощным автоматом, так ровен, быстр и бесстрастен был его полет.
И все-таки мальчик нагонял его.
Теряя величие, а заодно и сходство с машиной, орел метнулся в сторону, вниз… (Мальчик повторил маневр, не потеряв ни миллиметра.)
Соревнование шло не на равных, потому что орел тратил свои силы, а мальчик нет. Но мальчику, чье тело превозмогало давящую нагрузку воздуха, казалось, что это он сам летит, сам борется и сам побеждает. Вот уж преследование так преследование!
Еще немного расстояния выиграно, еще немного…
Орел вдруг круто нырнул, и несколько сантиметров оказались потерянными, потому что длинное тело мальчика не смогло описать столь же крутую дугу.
Уходит, уходит же!..
Но нет, мощь аппарата превозмогла силу орла. Хвоста уже можно было коснуться пальцами… Но окоченевшие, сжатые в кулак пальцы плохо повиновались мальчику. Он чуть не заревел от разочарования, потянулся так, что в глазах потемнело. И кончик заветного пера очутился в негнущихся пальцах…
Что-то непонятное произошло, едва он дернул перо. Тело орла странно перекосилось, смялось в нелепый комок и пронеслось над ногами мальчика.
Он лихорадочно затормозил, не понимая, отчего орел падает, отчего крутится его тело и под нелепым углом встает то одно крыло, то другое.
Тишина смолкшего ветра оглушила. Ставшее каким-то мохнатым, тело орла продолжало падать, то планируя, то резко проваливаясь. Ничего не понимая, мальчик ринулся вслед за уходящей добычей.
Но орел упал раньше. Машинально приняв позу посадки - ноги полусогнуты, руки прижаты, - мальчик спустился неподалеку. Ослабевшие мускулы плохо смягчили толчок, он завалился на спину, но тотчас вскочил и в смятении кинулся к орлу.
Одно орлиное крыло лежало великолепно распластанным, другое неестественно топорщилось, как сломанное. Не было в орле уже ничего царственного, ничего от бесстрастия могучего воздушного автомата, ничего от загнанного, но даже в панике величавого существа. Был смятый, неопрятно взъерошенный труп. Полузатянутый белком глаз мутно смотрел в небо.
Мальчик, еще не веря, что орел мертв, с усилием глотнул воздух.
Ведь он не хотел ничего такого. Как же так? Вот это, то, что он видит, и есть смерть? Настолько хрупка жизнь - и его, значит, тоже? Но это же несправедливо, несправедливо!!!
Мальчик едва сдержал крик и оглянулся, как бы ища поддержки. Зеленела на ярком солнце трава, в воздухе реяли бабочки, и была во всем этом такая пустота, такая неумолимость нового, открывшегося ему порядка, что мальчик похолодел от ужаса.
Потом все облегчили слезы, которые он пытался сдержать и не мог, они мучительно текли, заволакивая мир. Он хотел бежать, немедленно бежать к маме, папе, любому человеку, лишь бы не оставаться в одиночестве. Но что-то удержало его на месте.
Он знал причину. На ближнем пригорке в обрыве золотился песок, там можно было вырыть могилу. Он пошел туда, вытирая слезы.
И тут он заметил, что до сих пор сжимает в руке перо. Он разжал кулак. На ладони лежало измызганное, серое от пыли перо, которое там, в вышине, казалось ему таким желанным и белым.
УЧЕНИК ЧАРОДЕЕВ
Задачи из учебника эвристики:
«Без помощи подъемного крана и тому подобных средств в глубокую яму бережно опустить (не сбросить, а опустить!) стальной куб весом в три тонны. В течение пятнадцати минут найти способ, как это сделать».
«Рассказывают, что к Эдисону однажды пришел человек, который заявил о своем намерении создать растворитель, годный для любых материалов. «Прекрасно, - заметил Эдисон. - А в чем вы будете его хранить?» Это возражение гениального изобретателя почти столетие считалось неотразимым. Найдите, по крайней мере, два способа хранения вещества, которое все растворяет. Время на обдумывание - 10 минут».
Надо быть не знаю каким человеком, чтобы без трепета начать свой первый в жизни рабочий день. Тем более в Особой Аварийной, куда стремятся толпы, а попадают единицы, да и те вскоре отсеиваются наполовину.
- Ну как, готов к роли Атланта, подпирающего Землю, а заодно и космос?
Сотрудник, которому я был отдан под покровительство, смотрел весело, я хотел ответить улыбкой, но улыбки не получилось.
Особая Аварийная была тем нервным узлом, на котором замыкались все земно-космические линии связи; она располагала мощнейшим вычислительным парком, огромной информатекой, но внешне походила скорей на санаторий небольшое тихое здание в тихом уголке леса над тихой речкой. Обязательным тут было одно-единственное правило: минута в минуту быть на дежурстве, минута в минуту сдать дежурство. Да и то человек мог заранее отказаться от дежурства, если чувствовал себя недостаточно бодрым. Должен был отказаться! Тут не человек подлаживался под особенности работы, а работа подлаживалась под особенности человека. Настолько, что даже во время дежурства, если, конечно, не было вызова, человек мог заниматься чем ему заблагорассудится. И это в организации, на которой лежала поистине небывалая ответственность!
Умом я, конечно, постигал всю необходимость и правильность именно такого порядка. Понимал и то, что когда за долгие годы учебы ты привык быть на поводу, то нелегко научиться отвечать за самого себя, воспитывать самого себя и тянуть самого себя. Многие почему-то думают, что самая жесткая дисциплина - это дисциплина внешней регламентации. Она самая неприятная, верно, однако, редкий человек не способен приноровиться к ней, тогда как самодисциплина свойственна немногим.
Но даже не это меня беспокоило. Не опасение, что я погрязну в лени или не смогу без понуканий развивать культуру своего ума. Меня тревожило и пугало, способен ли я делать то, что делают мои коллеги. Ибо, несмотря на эвристическое образование, знания, семинарские успехи, я поражался работе моих новых друзей. То есть внешне все выглядело просто. Когда вспыхивал красный сигнал тревоги, в Особой Аварийной никто никуда не бежал. Обычно тревога заставала дежурного в кресле, где он и оставался, потягивая кофе и размышляя. Его поведение настолько противоречило всем понятиям о том, что такое «тревога», «беда», «аврал», что постороннего человека охватывало сильнейшее желание схватить, казалось бы, дремлющего сотрудника за шиворот и таким образом побудить его к активным действиям.
Ничего удивительного, впрочем, тут не было. Хотя…
Если один человек думает быстро, а другой медленно, то на первый взгляд кажется, что ум первого работает лучше. Это распространенное заблуждение. У недалекого учителя хорош тот ученик, который отвечает без запинки, но такая привычка губительна, ибо пулеметная быстрота мышления возможна лишь благодаря использованию готовых шаблонов. Это своего рода автоматическое мышление полезно и даже необходимо, когда жизненная задача традиционна, но губительно, когда нужно принять оригинальное решение. Творческое мышление куда более медленно, потому что связано с отказом от готовых навыков. Оно всегда медлительней обычного, но в конечном счете, когда требуется найти что-то новое, оно бесконечно быстрее, так как дает настоящий, не мнимый результат.
Это не сразу было понятно. Веками и даже тысячелетиями практическая деятельность людей решительно во всех сферах была, как правило, связана с решением давно известных, повторяющихся проблем. Но двадцатый, отчасти еще девятнадцатый век втянули людей в круг забот и дел, которые не имели примера в прошлом. И традиционные формы мышления все убедительней стали доказывать свою непригодность. Ярче всего доказали они свою непригодность в тех случаях, когда возникала опасность аварии или катастрофы, не предусмотренная прежним опытом. Тут, когда все решали считанные часы, с особой наглядностью выявилось, что быстрое, но формальное мышление не способно упредить ход событий. Так возникла Особая Аварийная, которая имела дело лишь с теми случаями, когда пасовал опыт и положение казалось безвыходным.
Чем дальше, тем меньше я, однако, понимал, как эти люди, с которыми я общался теперь изо дня в день, - как они могли делать невозможное. Поскольку они имели дело с любыми проблемами, то, казалось бы, они должны были знать все - все области техники, науки и практической деятельности. Но они вовсе не были энциклопедистами! Они умудрялись вытаскивать со дна океана погребенный обвалом батискаф, когда воздуха там оставалось на восемь часов и у всех опускались руки. Они это делали, хотя раньше понятия не имели, какова конструкция батискафа и какие вообще есть средства спасения в такого рода ситуациях. Более того, они и знать не хотели об известных уже средствах!
Уяснить, как в этих условиях они достигают успеха там, где никто его не достигал, я не мог, и это меня сильно тревожило. Ведь если они не всезнайки, если они не гении действия, то должен у них быть какой-то секрет, о котором молчат учебники эвристики! Секрет, без знания которого я провалюсь, едва в мое дежурство вспыхнет красный сигнал тревоги. Мне казалось, что я ничего не умею, ничего не могу, я изнервничался в ожидании, и, если бы оно затянулось еще на неделю, я скорей всего уже ни на что не годился бы. Но пришел и мой час, как всегда, внезапно.
Я сидел, по обыкновению читая, когда на пульте вспыхнул аварийный сигнал. В первое мгновение я тупо «смотрел на его дрожащие отблески. Затем словно кто другой нажал кнопку информовизора. И пока шли данные, все внутри меня холодело от страха. «Атлант, подпирающий Землю и космос…»
Стрекотала печатающая аппаратура, летели позывные катастрофы, а я сидел как чурбан. Однако глаза помимо моего сознания уже вбирали содержание листков, которые выбрасывала машина.
Оказалось вот что. На крошечном астероиде Аммон-2 уже несколько лет действовала научно-исследовательская навигационная станция. Семь человек жили там примерно в тех же условиях, в каких когда-то находились зимовщики или метеорологи в горах. Раз в несколько месяцев туда прибывал корабль, а в остальное время люди были предоставлены самим себе. Все службы станции были надежно защищены и от космического излучения, и от шальных метеоритов, так что пребывание на астероиде считалось делом совершенно безопасным, Не учтена была одна мелочь. А именно: масса астероида была столь невелика, что при взлете и, посадке корабль сообщал ему импульс, который слегка менял его орбиту. Ничего тут поделать было нельзя, да это и не имело ровно никакого значения; просто время от времени приходилось уточнять координаты станции, которые менялись после прибытия каждого корабля. Это дело не считалось спешным, что и привело к трагедии.
Станция, как всегда, сообщила Луне свои новые координаты. Трудно сказать, где они циркулировали столько времени, но факт тот, что их сопоставили далеко не сразу. А когда сопоставили, то ужаснулись: по роковому стечению обстоятельств астероид приобрел такую орбиту и такую скорость, которые неминуемо должны были свести его с астероидом Озетта.
Такая возможность никогда раньше не учитывалась, ибо даже в поясе астероидов встреча двух массивных тел менее вероятна, чем столкновение двух вслепую брошенных камней.
И все же это произошло.
Ситуация казалась безвыходной. Люди не могли покинуть астероид, поскольку соответствующего транспорта на станции не имелось. Ближайший в этом районе корабль мог достичь астероида лишь на исходе пятых суток. А столкновение должно было произойти через 73 часа! Мне предстояло спасти людей, которых, судя по всему, спасти было невозможно.
Я превозмог себя и стал думать.
Я ни секунды не сомневался, что задача разрешима. Чему-чему, а этому меня научили! Нельзя браться за проблему, полагая, что успех недостижим. Пусть неуверенность гнездится в подсознании - все, провал гарантирован. Людей спасти можно; вопреки очевидности я сразу принял это за аксиому. Но как?
Масса астероида невелика, вот из чего надо исходить. Раз она невелика, то для бегства требуется ничтожное ускорение. Реактивные движки скафандров такого ускорения, понятно, дать не могут. Надо найти что-то другое.
Что?
Я мысленно представил скалистый островок астероида, вокруг которого медленно поворачивается черно-звездное небо. Вероятно, пики астероида чуть серебрятся в отблеске Млечного Пути. Крошечные, тоже серебристые фигурки людей замерли на гребне скалы. Запрокинув голову, люди вглядываются в угольное небо, где среди тысяч других кротко и невинно светит та звездочка, которая мчится на них. Ничто не может развести их в пространстве, день и час, когда они столкнутся, известны с точностью до секунды. Люди смотрят на часы. Осталось столько-то… Столько-то… Природа неумолима. Вероятно, они уже попрощались с родными и близкими.
Мне нужно поднять этих людей над скалами хотя бы километров на двадцать!
Все просто, если бы у них был обыкновенный мобиль. Расчистить от стартовой площадки еще метров сто, разогнать мобиль по этому треку - эх, как бы он взмыл над обрывом! Взмыл, чтобы стать спутником астероида.
Не годится. Нет у них мобиля. Зачем он на астероиде, который пешком можно обойти за час! А не подумать ли о сооружении примитивной-примитивной катапульты…
Волнение прошло, я был спокоен, ничто вокруг для меня не существовало. Рядом сидел мой напарник, я его не замечал. Я был там, на астероиде, среди обреченных, и надо мной медленно кружились все звезды вселенной. Я отчетливо видел мрачные тени провалов, угрюмую безнадежность скал, залитых неярким здесь светом маленького, далекого солнца.
То, чем я сейчас занимался, было, конечно, злостным нарушением всех правил мышления. Дисциплина в этом смысле нужна свирепая; она обязательна для мышления настолько же, насколько ему необходима внешняя свобода; без соблюдения этих двух условий ум человека работает плохо. Но мне требовалась эта небольшая разминка. Я должен «увидеть задачу», без этого я не могу.
А теперь хватит кустарщины! Методом «тыка» (он же метод бессистемных попыток) можно грузить капусту, да и то если кому-то не жаль своего и чужого времени.
Неверно все с самого начала. Неверно поставлена сама задача. Спасти людей отнюдь не лучшее решение, как ни ужасно это звучит. Допустим, я спасу людей. А станция, оборудование? Они погибнут. Значит, каким должно быть идеальное решение? Астероид со станцией продолжает свой путь, не сталкиваясь.
Секунды две я проверял это решение. Да, все верно. О людях пока надо забыть. Тем более, что, так сказать, в плоскости их спасения думают сейчас в Космоцентре. Если такая возможность существует, ее отыщут и без меня.
Что же мешает идеальному решению? То, что астероидом нельзя маневрировать. А нельзя им маневрировать, потому что он не снабжен двигателями.
Итак, задача ясна: нужно думать о том, как снабдить астероид двигателями.
Вторым планом, нисколько не мешая, текли посторонние мысли. Интересно, те, кто меня подстраховывает, уже нашли решение? Обычно дежурного никто не подстраховывает, иначе он - чисто подсознательно - не сможет мобилизовать все силы своего ума. Просто существует контрольный срок; не уложился передай задачу другому. Мельком я взглянул на часы: до контрольного срока оставалось еще минут пять-десять.
Нужен двигатель для астероида. Конечно, он должен быть реактивным. Если, скажем, пробурить скважину и быстро обратить там большую массу воды в пар, то можно получить импульс, который столкнет астероид с роковой орбиты. Ведь много не нужно, достаточно крошечного отклонения: за семьдесят часов бега по орбите искривление уведет астероид далеко в сторону.
Прекрасно, задача почти решена. Если, конечно, у них есть бур или его заменитель…
Я полистал отпечатанное информовизором техописание станции. Геологический бур на станции имелся, отличный эрозионный бур, который за час мог просверлить любую нужную мне дыру.
Но достаточного количества воды на станции, конечно же, нет. Ничего, ее можно извлечь из горных пород. Вообще, откуда они там, у себя на станции, берут воду, кислород? Не с Земли же им доставляют? Замкнутый кругооборот всех потребностей не обеспечит. Значит… Ага, так и есть: все нужное они извлекают из пород. Но это долгий, слишком долгий процесс. Воду мы просто не успеем накопить. Скверно…
«Осел! - выругал я себя. - Ты допустил типичную ошибку - сузил задачу. Что тебе нужно? Жерло - оно у тебя есть, ты его пробурил. Теперь топливо. Почему именно газ? Почему вода? Почему не твердое вещество? Дело же не в состоянии вещества, а в величине отброшенной массы и скорости ее истечения. Вот и ищи заряд, а уж выстрелит ли скважина, как пушка, или будет работать, как ракетный двигатель, - не столь важно. И топлива у тебя сколько угодно, пол-астероида можно пустить на топливо, дело в энергии…»
Кстати, ведь это тоже решение - изменить массу астероида. Тогда и орбита изменится. Попутное решение, которое вытекает из первого, так сказать, в виде бесплатного приложения.
Энергия… Все упирается в энергию. В то, какой у них там реактор и можно ли его приладить в скважину.
Реактор у них, конечно, стационарный. А стационарный реактор объемист, эдакая широкая голландская печь… Ах ты, черт!
Стоп. Ведь это же космос. Их реактор должен быть очень емким, иначе его невыгодно было бы туда транспортировать. Ну конечно!
Итак, реактор у них портативный. А как насчет мощности и отдачи в единицу времени? Для жизнеобеспечения станции не нужна большая мощность, а быстрая отдача тем более. Как это не нужна? Воду-то из камней им добывать надо? Тут малыми мощностями не обойдешься. Ура, да здравствует вода из камня! (А также кислород.)
Какая там у реактора отдача, уже неважно, совсем не важно. Нет такого реактора, который нельзя было бы взорвать. Все, точка!
Я взял техописание, почти уверенный, что найду в нем реактор нужной мне энергоемкости. Так оно и оказалось.
Теперь все элементарно. Даже технически. Мы устроим на астероиде хо-орошее извержение вулкана (в масштабах астероида, конечно). Ничего, что этот двигатель не слушается руля. Годится, в сущности, любое направление струи, которое чуть изменит курс астероида. А наш вулкан его изменит! Еще как изменит! Ничего, ребята на станции какое-то время обойдутся без реактора. Зато они увидят зрелище! Космический фейерверк улетающих в никуда камней, раскаленных газов и пепла, который в огне и грохоте уведет астероид с орбиты. Это красиво будет выглядеть…
Я придвинул счетную машину, ввел данные, получил результат, который меня вполне удовлетворил, минут за десять растолковал Луне, что надо сделать, и наконец блаженно потянулся.
Я заслужил эту короткую минуту счастья. Заслужил, хотя, если честно, задача была примитивной, а решал я ее грязно и долго. Но в контрольный срок я уложился. А ведь я всего лишь ученик чародеев!
НЕУМОЛИМЫЙ ПЕРСТ СУДЬБЫ
Андрей Семенович Миловидов всем удовольствиям предпочитал мягкое кресло, кофе с овсяным печеньем и тихую музыку по вечерам. Отсюда, впрочем, не следует, что его поступки были сродни мерному ходу машины, ритм которой не знает фантазий и сбоев; образ такого человека есть абстракция наподобие идеального газа. Реальный Миловидов, сидя в тот вечер у радиоприемника, взял да и крутанул ни с того ни с сего настройку волны.
Ува-у, вз-з, грр-р, псс-т!
Голос доброго десятка радиостанций, вор, свист и треск слились в кошмарную ноту. Эта какофония, однако, позабавила Миловидова, и он повторил свой подозрительный с точки зрения психиатрии опыт.
Ува-у, вз-з, грр-р, псс-т!
«…Сегодня, двадцать четвертого июля, в наш город прибывает футбольная команда…»
Надоевший голос диктора местной радиостанции чуть не побудил Андрея Семеновича поискать музыку, но тут он спросил себя: «Разве сегодня не двадцать третье?»
Было двадцать третье, в качестве кассира сберкассы он знал это точно, потому что неправильная дата в денежных документах - источник всевозможных неприятностей, и за клиентами в этом смысле нужен глаз да глаз, удивительно, как небрежно люди обращаются с числами!
Диктор, однако, вновь упомянул двадцать четвертое в сегодняшнем смысле, и Миловидов стал слушать репортаж о ходе сенокоса, поскольку его заинтриговало столь упорное повторение одной и той же ошибки. Заинтриговало и возмутило. Это просто безобразие - да, да, безобразие! так небрежно относиться к своим служебным обязанностям. «Вот и поезда тоже опаздывают», - подумал Миловидов. Он ждал, что будет дальше.
Далее последовала информация об обрыблении водоемов, новом указании ГАИ, поступлении в универмаг партии импортных мужских костюмов и о том, что сегодня произошло ограбление сберкассы на Апрельской улице. Той самой, в которой работал Андрей Семенович.
«…Переходим к погоде. Завтра, двадцать пятого июля, по области ожидается переменная облачность без осадков, местами…»
Голос стал медленно уплывать, как если бы его обладатель удалялся в потусторонний мир. Андрей Семенович нервно покрутил регулятор, но голоса вернуть не смог. Что-то шипело в эфире - и только.
Машинально Андрей Семенович посмотрел на часы. Было четверть девятого, а в это время, он точно знал, местная радиостанция не вела никаких передач.
И тут Андрей Семенович почувствовал себя нехорошо. Кресло под ним стало опускаться и приподниматься наподобие воздушного шарика.
Утром двадцать четвертого маленькая и небойкая сберкасса на Апрельской улице открылась, как всегда, в девять. Андрей Семенович, как всегда, подышал на очки, протер их кончиком платка и приготовился к приему и выдаче денег. Если верить той передаче, сегодня у него должны были отнять их, быть может, с применением оружия. Даже наверное с применением оружия.
Мысли Андрея Семеновича работали как жернова неисправной мельницы. Идею позвонить в милицию он оставил еще вчера по причине, ясной для каждого нормального человека. По той же причине он не мог заговорить с сослуживцами, а в намеках и расспросах он был не мастак. Чем больше он думал, тем безвыходней казалось ему положение. Может ли знание будущего изменить само будущее? А если может, то как? И что же в конце концов предпринять? Ответа он не находил.
Руки его продолжали действовать независимо от головы - он считал, пересчитывал, выдавал, брал, отмечал, расписывался, и внешний, находящийся за стеклом мир напоминал странный аквариум, где мелькали, шевелили губами, прилипали к стеклу новые и новые лица, они сменялись в ритме с мельканием желтых, зеленых, синих, красных, сиреневых бумажек в его механически-проворных пальцах. Пачка к пачке, портрет к портрету («Как люди могут не знать, что деньги в стопке должны лежать в определенном порядке?»), одиннадцать, двенадцать… перебросить костяшку на счетах… семьдесят один минус девятнадцать, - все это сейчас шло мимо его сознания. Допустим, он в самом деле узнал будущее. Что тут можно изменить, если источником осведомленности было событие, которое он желал устранить? Ведь если удастся предотвратить событие, то, значит, его не будет; как же тогда он узнал о нем? Или будущих все-таки несколько?
- В универмаг привезли что-то импортное, - сообщила контролерша в промежутке между обслуживанием клиентов.
- Да? - встрепенулся Андрей Семенович. - Откуда вы знаете?
- Шепнула знакомая продавщица в автобусе. Говорят, только мужские костюмы. Сбегать, что ли, в обед…
- А джерси есть? - через голову Андрея Семеновича осведомилась заведующая.
«Две слабые женщины, - с тоской подумал Миловидов. - И до милиционера на перекрестке целый квартал».
- …Верно, Андрей Семенович?
- А?
- Что-то вы бледненький, голубчик. Нездоровится?
- Нет, нет, все в порядке.
- Вот я и считаю, что серый костюм был бы вам более к лицу.
- Разве?
Андрей Семенович посмотрел на потертые лацканы своего пиджака и вдруг явственно, как в кошмаре, представил на месте кармашка расползающееся пятно крови. В передаче ничего не говорилось о жертвах, но это не значило, что их не было!
Десятка выпала из пальцев и скользнула на пол, чего с Андреем Семеновичем давно не случалось. К счастью, контролершу отвлекли, и она забыла о своем вопросе.
Андрей Семенович уже ни о чем не думал, кроме как о своей возможной смерти. Его сберкассу никогда не грабили, такого в городе вообще не случалось вот уже десяток лет, но Миловидов знал точно, что жертвы при нападении бывают, и чаще всего кассиры. А что он мог сделать?
Однако до его сознания постепенно дошло, что как бы там ни было с изменяемостью будущего, стрельба вещь не обязательная, коль скоро о ней нет ничего в той передаче. Значит, в этих пределах он все-таки может варьировать свою судьбу.
Логика не безупречна, но когда над человеком нависла неотвратимая угроза, ему не до логики. Странно, теперь он ничуть не сомневался, что передача действительно шла из будущего. Впрочем, тут нет ничего особо странного: Андрей Семенович свято верил тому, что говорят и пишут, а многочисленные научно-популярные статьи давно убедили его, что наука все может.
Чем ближе стрелка часов пододвигалась к полудню, тем сильней становился охвативший Андрея Семеновича страх. Это был уже не тот страх, когда мысль лихорадочно, но четко ищет выхода, а страх животный, когда все холодеет внутри и хочется бежать, куда подсказывает инстинкт. В передаче было сказано, что ограбление произошло около полудня, а сейчас было около одиннадцати.
Это случится через час. Может быть, раньше…
- Меня вызывают на совещание, - кладя трубку, сказала заведующая. Ничего, посетителей сейчас мало, вы уж как-нибудь без меня… К двум вернусь.
- Полина Филипповна! - спросила контролерша. - А как быть, если придут со взносами?
- Возьми это на себя, милочка. Что тут особенного, не первый раз.
- Вечно у нее эти совещания, а ты отдувайся, - проворчала контролерша, когда за Полиной Филипповной захлопнулась дверь.
От Андрея Семеновича она явно ждала сочувствия, и тот ей всегда его оказывал, это уже стало механической, вроде чистки зубов, привычкой. Он и сейчас выдавил из себя сочувственное «гм!».
Половина двенадцатого. Андрей Семенович давно избавился от интереса к людям, которые подходили к его окошку. Руки, в поле его внимания обычно находились руки, которые протягивали, давали, брали. Порой, когда было совсем уж некогда или перед закрытием, он сердился, если руки мешкали, клали деньги далеко от края, так, что за ними приходилось тянуться. Но в спокойные минуты он иногда развлекал себя подсчетом, у скольких людей грязные ногти. Еще он классифицировал руки по тому, как они относятся к деньгам, - берут мертвой хваткой, или нежно, или безразлично, или пренебрежительно. Вообще к рукам, которые брали, он относился с неприязнью, потому что им приходилось передавать деньги. У этой неприязни были причины. Как-никак от увеличения или уменьшения вкладов зависел план и, следовательно, премиальные. Но даже не это было главным. Андрей Семенович любил деньги, как столяр любит свой инструмент, шофер свою машину, писатель свою авторучку. Поэтому ему были приятны руки, которые давали, и он сочувствовал им, когда они расставались с деньгами; многие из них бессознательно задерживались на едва уловимые доли секунды, - этот миг для Андрея Семеновича был красноречивой поэмой. И раскладывать, разглаживать мятые купюры он тоже любил, словно причесывал чьих-то замурзанных ребятишек.
Но сейчас он глядел на деньги с ужасом. Это было вероломством с их стороны - подвергать его жизнь опасности. Да, вероломством! Он никому не сделал ничего плохого, он всегда вел себя тихо, так почему же? За что?
Жизнь кассира полна скрытых волнений, ибо он отвечает за каждый попавший в его руки денежный знак, и ошибка в расчете чревата далеко идущими последствиями. Андрей Семенович не мог сознаться в этом даже самому себе, но в его душе жил постоянный и давний страх, разрушительный, как ржавчина. Страх, который он научился прятать от самого себя. Страх, а в результате трепет перед параграфом и инструкцией, желание, чтобы их было как можно больше, потому что они ограничивали свободу его поступков и, следовательно, уменьшали возможность допущенной им самим ошибки, хотя это, конечно, был чистый самообман. Весь образ его поведения сложился и застыл под воздействием этого страха, и сейчас Андрей Семенович чувствовал себя голым, беззащитным, поскольку ничто его не ограждало от предстоящего несчастья, - ни барьеры, ни инструкции, ни выработанные им самим правила. Возможно, так чувствовала бы себя вынутая из панциря черепаха. Знающая, что ее вынут из панциря, черепаха.
Теперь Андрей Семенович потерянно наблюдал за мелькавшими у окошечка лицами, пытаясь угадать, которое из них посмотрит на него безжалостно. Такого безжалостного лица пока не было, возникали все обычные лица усталые, благодушные, озабоченные, скучающие. Тот, кого он ждал и представлял отчетливо, еще не появлялся.
Он бессвязно строил планы. Нажать кнопку сигнала - мог же он ее задеть случайно? Лучше скандал, чем… Он было уже хотел это сделать. И не смог. Всей его жизненной энергии хватало теперь лишь на привычные, автоматические движения, и он совершал их, будто они создавали магический круг, будто до тех пор, пока он придерживается не им заведенного порядка, сила этого порядка отпугнет беду. Порядок был, как стены дома, как стены крепости, - он не мог проломить в них бреши.
Он думал, не отлучиться ли ему в туалет, когда стрелки совсем приблизятся к двенадцати. Но врожденная порядочность не позволяла ему оставить женщину. Да и как он мог угадать нужное время? Точно кролик под взглядом удава, он уже не помышлял о том, как предотвратить надвигающееся событие. Оно произойдет, он с этим смирился. И он, еще ничего не продумав, в глубине души уже знал, как поступит.
Внешне он продолжал работать как прежде.
Может быть, вот этот человек… Или этот… Нет, не этот. Лица двигались за стеклом, смотрели на него, как из другого мира.
Двенадцать часов.
- Вам нехорошо, Андрей Семенович?
О чем это она?
- А… Да так, пустяки. Знобит что-то, - он вытер холодный пот.
- Сейчас такая погода, вы бы побереглись, Андрей Семенович.
- Ничего, ничего…
Он побережется, конечно, побережется.
Пять минут первого. Десять.
И тут вспыхнула радостная догадка. Передача шла из будущего года! Ну да, конечно! Почему он решил, что она из этого года? Разумеется, она из того, другого года.
Андрей Семенович ощутил такое блаженство, будто вернулись юношеские годы, когда он самоуверенно оглядывал всех пожилых, потому что перед ним лежала вся жизнь и он мог ею распоряжаться, тогда как те ею уже распорядились. Он-то распорядится лучше! Милым показалось тесное помещение сберкассы с крашенными под дуб стенами, день за пыльным окном, полированные локтями барьеры, трещина в потолке с оплывшими от влаги пятнами, - который уж месяц ее обещают отремонтировать!
Никого за стеклянной перегородкой, последний клиент только что получил по вкладу и вышел. Такие необъяснимые перерывы бывали почти каждый день; сейчас это безлюдье как нельзя лучше отвечало весеннему настроению Андрея Семеновича.
Внезапно это настроение исчезло, будто его сдул холодный ветер. Если кому-то надо выбрать удачный момент, то что может быть удобней минуты, когда их в сберкассе только двое?
- Андрей Семенович, голубчик, я на минутку исчезну, пока никого нет. Я сейчас…
Андрей Семенович ничего не ответил. Все было ясно и неотвратимо. Все сходилось одно к одному. Сначала вызов заведующей, теперь ушла и контролерша. Почему бы ей не отлучиться, когда никого нет, ведь ей действительно надо отлучиться? Теперь это и должно произойти, вот сейчас, когда он один, а в зале пусто и тихо. Сейчас появится ОН.
ЕГО Андрей Семенович заметил, когда он подходил к двери. Точнее их было двое. Их и должно было быть двое, а то и трое.
Все было так, как рисовало его воображение. Парень в сдвинутой набекрень фуражке, не поворачивая головы, окинул взглядом помещение и валко двинулся прямо к окошку Андрея Семеновича. Его напарник привалился плечом к стене у входа, засунул руки в карманы и с видом полного безразличия глядел на улицу.
Лицо того, кто подходил к окошку, Андрей Семенович тоже узнал. Рассеянно и беспощадно из него смотрели мутные, как рассвет, глаза. В них не было ни злобы, ни ожесточения, вообще никаких человеческих чувств. И эти глаза приближались.
- Что, старик, один над златом чахнешь? - Андрея Семеновича обдало винным перегаром. - Придется тебе раскошелиться…
Андрей Семенович ждал, что в лицо ему глянет пистолет, но рука парня выбросила из кармана всего лишь мятый лотерейный билет. Напарник у двери изменил позу, он весь подобрался, как перед прыжком.
Андрей Семенович взял билет, ничего не понимая, ничего не видя, кроме мутных глаз, которые в него впились. В парализованном ужасом мозгу мелькнула лихорадочная догадка: «Отвлекают, чтобы…»
Его вытянутая рука все еще держала билет.
- Ну, так что? - без интонации спросил бандит. - Долго мы будем ждать?
- Кончай быстрей, - хрипло донеслось от двери.
Андрей Семенович увидел, как тот медленно потянул что-то из кармана.
- Сейчас, сейчас…
Не слыша своего голоса, он положил билет, выдвинул ящик и пачку за пачкой стал класть деньги на стойку. Но даже в этот момент он делал все с тем же четким автоматизмом, с каким всегда совершал операции выдачи, только быстрее и без подсчета.
Парень у окошка сгреб кучу, и в лице его что-то изменилось, Андрей Семенович не уловил что.
- Культурненько, - сказал он и, рассовывая по карманам деньги, двинулся к выходу.
Его приятель так и замер с сигаретой в одной руке и спичками в другой.
- Вот это да! - ахнул он наконец. - Неужели…
- Я и сам думал, что выигрыш рублевый, - мутноглазый пожал плечами. Пошли.
Уже когда они были на улице, Андрей Семенович отчаянно нажал сигнал, еще не понимая всего, но уже предчувствуя, что совершилось непоправимое.
ЧУЖИЕ ГЛАЗА
Солнце здесь было не ярче чугуна, а о планете и говорить нечего. По сравнению с ее диском, который заполнял обзор, космос был средоточием света. Глядя на нее, капитан Зибелла молча опустил оттопыренный книзу палец. Жест, каким римляне обрекали гладиатора на смерть, тут был, пожалуй, уместен.
Тем не менее мы ждали, что покажут локаторы. Ирина налила всем кофе, но я не притронулся к чашке. Как-никак это была первая встреченная нами планета черной звезды.
По интеркому был слышен разговор телеметристов.
- Расстояние?
- 0,7 расстояние.
- Информационная активность?
- Нулевая активность.
Правила соблюдались неукоснительно. «Информационная активность разведки должна соответствовать информационному уровню планеты» - примерно так звучало требование. Попросту говоря, мы должны были убедиться, что на планете нет даже самых примитивных приемо-передающих станций, которые могли бы засечь сигналы наших локаторов и тем самым обнаружить нас прежде, чем мы того пожелаем.
Но на планете, как и следовало ожидать, все было тихо.
- Капитан Зибелла! Разрешите включить локаторы?
- Не понял, повторите, как должно.
В интеркоме кто-то тяжко вздохнул. Зибелла был верен себе. Во всем космосе трудно было найти другого столь пунктуального капитана. Злые языки говорили, что он и не женился до сих пор лишь потому, что на сей счет не выработано инструкций. Возможно, Зибелла кое в чем действительно перебарщивал, но, как бы там ни было, и люди и механизмы под его началом работали безукоризненно.
- Виноват! - звонко отдалось в интеркоме. - Расстояние 0,5 орбитального полета, информационная активность объекта - ноль, пассивная видимость объекта - ноль, прошу дать разрешение на локацию.
- Вас понял, орбитальное расстояние 0,5, нулевая активность, нулевая пассивная видимость, разрешаю использовать локаторы.
Мы все, включая Зибеллу, с нетерпением уставились на экран. Шли секунды, в течение которых автоматы, ощупывая пространство, выбирали самый подходящий для пробоя вид излучений, самую оптимальную частоту (запретными были лишь опасные для органики частоты). Краем глаза я следил за иллюминатором; там все было чернее сажи. Нам, привыкшим отождествлять видение со светом, трудно было поверить, что локаторы с ней справятся.
Мы ждали худшего (случалось, что атмосферы оказывались непробиваемыми), и, когда изображение наконец возникло, Ирина пустилась в пляс. Заулыбался даже Зибелла. Еще бы! Словно кто-то рванул занавес, за которым был сияющий полдень.
В рубку, потирая руки, вбежал Лео.
- Ну каково? - осведомился он, будто сам, без всяких там автоматов обеспечил столь изумительное изображение.
Ответа не последовало, ибо в эту секунду мы увидели хижины.
Мало что так действует на человека, как вид планеты, которую ты открыл. Все тело и весь твой разум становятся придатком глаза, который не смотрит, а пожирает развертывающийся пейзаж. Вот эти рваные, хаотичные громады гор с неземными сапфировыми ледниками… Вот эти похожие на след птичьих лап штрихи оврагов… Вот это непонятное бледно-розовое пятно… Вот этот чеканный блеск моря… Всего этого никто никогда не видел. Ты первый.
А уж если обнаружена жизнь… Тут бессмертную душу отдашь, лишь бы поскорей вступить на поверхность. Но времена Колумба, увы, миновали. Сводом правил, который регламентирует обследование безжизненных планет, можно убить человека, но его объем и вес ничто по сравнению с томом, определяющим метод подхода к планете, где есть жизнь и, возможно, разум. И уж будьте уверены, Зибелла выполнил все до последней запятой.
Мы педантично обследовали планету с высокой орбиты, с промежуточной, с низкой; провели топографическую съемку, гравитационную, магнитометрическую, радиолокационную, термодинамическую и прочая, и прочая. Мы делали то, что совершенно необходимо было сделать; и то, что желательно было сделать; и то, чего можно было не делать, но что на всякий случай не мешало бы сделать. Мы едва не утонули в хлынувшей информации. «Каши маслом не испортишь», - повторял Зибелла, у которого от бесчисленных забот, кстати говоря, совершенно пропал аппетит. Но мы не роптали, потому что планета оказалась прелюбопытнейшей.
Не получая от звезды тепла и света, она должна была представлять собой мертвую льдышку. Но хотя климат, по нашим понятиям, был суров, ее, пожалуй, можно было назвать цветущей. Тепло в отличие от Земли ей давали собственные недра; и это тепло великолепно удерживалось атмосферой. Растительность существовала за счет тепловой энергии, тут секрет был ясен. А вот что касается обитателей хижин…
Скользя по орбите, мы не могли их как следует различить. И только когда наступил этап разведки с помощью атмосферных автоматов, нужное увеличение было наконец достигнуто.
У Лео при их появлении на экране вырвался нервный смешок. Сложением и ростом существа походили на пингвинов, а их свободные конечности явно напоминали руки. Но все остальное… Вообразите себе голову в виде увенчанной лавровым венком дыни. Вообразите себе пульсирующий треугольный клапан посредине такого вот, с позволения сказать, «лица». Прорези там, где у нас уши. И ни малейшего признака глаз! Вот что бесповоротно лишало их сходства с человеком - отсутствие глаз.
А между тем конусовидные домики этих существ были окружены взрыхленными участками, на которых что-то росло. Кроме того, хижины имели дверь. Настоящую дверь на ременных петлях.
Отделенные многими десятками километров, мы с трепетом смотрели на эти самые двери, понимая, что они значат.
- Оркестр, туш! - не совсем удачно выкрикнула Ирина.
Казалось, Зибелла ничего не слышал. Он возвышался над экраном, по которому двигалось маленькое, несуразное, разумное существо, и лицо у капитана было такое, словно он хотел прижать чужеземца к своей широкой груди.
Но едва утихли первые восторги, как мы стали замечать необъяснимые факты.
Животное рванулось, когда до него осталось шага три, и, семеня на коротких, как колышки, ножках, понеслось по прямой. Но на пути у него была Ирина. Она вытянула ногу наперерез мчащейся бочкообразной туше. Рога животного звякнули о металл. Оно пискнуло и метнулось вправо.
Все было как обычно. За небольшим исключением все животные подпускали нас и затем спасались бегством, не замечая при этом даже самых явных препятствий. Можно было твердо сказать, что они слышат звук шагов, но нас они не видят. Как, впрочем, и все остальное. Безглазая, словно в пещерах, жизнь.
Да тут и были самые настоящие пещеры! Пещеры мрака. Наблюдая сверху, мы так привыкли, что над планетой светит солнце - наше радарное солнце, что темнота внизу подействовала угнетающе. Темнота и связанные с ней мысли. Растения здесь не тянулись вверх, как на Земле, а жались к почве. Обесцвеченные рыхлые пластины листьев стлались ярусами, и чем выше, тем тоньше и шире были эти мертвенные грибовидные пластины. С них капала, свисала зеленовато-желтая, омерзительная слизь, точно вся растительность страдала насморком. Смотреть под ноги было противно, но и небо не радовало - там, в кромешной темноте, перепархивали какие-то блеклые тряпки: здешние, так сказать, птицы. Нет, человеку тут явно было не место.
Двигаясь за остальными, я малодушно благодарил судьбу, что я здесь всего лишь недолгий гость. Открыл и разведал - вот вся наша забота. А кому-нибудь придется здесь жить. Потому что планета потребует стационарного наблюдения. Это годы одиночества и мрака, долгие и тоскливые годы, о которых лучше не думать, даже если они выпали не тебе, а другому.
Постыдное чувство, но, продираясь во мраке среди осклизлых зарослей, я радовался, что у меня есть «обратный билет».
К хижинам мы подходили не таясь, поскольку тут не было глаз, которые бы заметили свет наших прожекторов. Нас мог выдать только звук, но мы не собирались приближаться вплотную.
И все же по чисто земной привычке мы залегли в «кустах», то есть в ноздреватых, как сыр, пластинах какого-то местного растения. Смешно, если вдуматься, но нам было не до смеха. Вот уже сколько времени мы старались понять, как может существовать этот слепой мир, - и безуспешно.
В том, что он слеп, мы уже не сомневались. Ни животные, ни обитатели хижин не обладали дальновидением. У них не было глаз, и это понятно. Но у них не было и органов, которые бы восполняли отсутствие глаз! Органов, которые позволяли бы замечать далекие предметы подобно тому, как это делает хотя бы летучая мышь. Слух? Он был развит не лучше, чем у нас. Обоняние? На уровне собаки. Какое-то неведомое нам шестое, седьмое, десятое чувство? Мы, однако, не раз наблюдали, как бегущее животное с размаху тыкалось в препятствие, подобно тому как четверть часа назад бочкообразное существо ткнулось в Иринину ногу.
Конечно, все это можно было объяснить. К чему дальновидение на планете, которая, в сущности, не что иное, как огромная космическая пещера?
Отличное объяснение, только оно никуда не годилось. Потому что животные здесь бегали, и быстро. А где бег, там и видение, иначе это уже не образ жизни, а чистое самоубийство.
Все, что мы в этом смысле наблюдали, было таким же абсурдом, как если бы толпы слепых вздумали разгуливать по автомагистрали. Такой мир просто не мог существовать, а здесь вопреки всему он жил и здравствовал. В последнем мы, впрочем, были не слишком уверены…
Наши бьющие на сотни метров прожекторы ярким светом заливали группу хижин, которые казались необитаемыми. От всего этого оставалось впечатление каких-то неправдоподобных декораций, сценической площадки, которую покинули статисты. Казалось, вот-вот раздастся голос режиссера, что съемки окончены, и мы, облегченно вздохнув, разойдемся.
Но время шло, а ничего не менялось. И мы вздрогнули, когда дверь отворилась и наружу вышел тот, кого мы ждали.
Прижимая к боку какой-то объемистый сосуд, он постоял немного (свет бил ему прямо в «лицо») и двинулся по тропинке, свободной рукой время от времени касаясь нависающих сбоку листьев. И вот это на ощупь бредущее существо вскапывало те поля, которые окружали поселок?! Строило жилище? Охотилось? В это невозможно было поверить. Но ведь кто-то все это делал?
Он продолжал двигаться, все так же касаясь кромки листьев.
Наши прожекторы следовали за ним. Они высвечивали даже вздутия мускулов. Земной опыт бурно протестовал против того, что мы видели. Казалось, существо вот-вот обернется в сторону пылающих электрических глаз, издаст вопль ужаса и скроется в темноте. Наши пальцы невольно легли на выключатели, и нам стоило труда их снять.
Проследив взглядом направление тропинки, мы поняли, куда и зачем бредет наш незнакомец. Он шел к крохотному озерцу, и чем ближе он к нему подходил, тем неуверенней делалась его походка. Местность тут была открытой, и он несколько раз нагибался, пробуя почву. Край берега он ощупал ногой и, лишь убедившись, что перед ним вода, опустил сосуд.
Теперь ему предстоял обратный путь. Он двинулся правильно, но тут в тени листьев мелькнуло тело какого-то животного. Мы не успели его толком разглядеть, так быстро оно мелькнуло. Но обитатель хижины уловил его присутствие. Он стремительно обернулся и кинулся в сторону. Потом замер. Он не был человеком, даже вовсе не был на него похож, но мы видели, как ходит его грудная клетка, нам передался его страх, и на мгновение между нами и этим сыном вечной ночи установилось что-то похожее на родственную связь. Мы даже вскочили, готовые бежать ему на помощь.
Этого не потребовалось, хищник исчез. Обитатель хижины взял половчее сосуд, замотал своей увенчанной «лаврами», точнее рогами, головой и пошел… Не к дому. Его движения не изменились; он так же нагибался, пробуя почву, только теперь ему мешал наполненный водой сосуд. И шел он не к хижинам, а прочь от хижин, туда, где путь ему преграждал обрыв.
Я слышал тяжелое дыхание друзей и был в таком же замешательстве, как они.
Предупредить об опасности? Ну а если ему нужен именно обрыв?
Он уже подходил к нему. До края оставалось совсем немного. И тут он как будто почуял неладное. Он затоптался на месте, его голова задвигалась, словно он пытался что-то увидеть. Потом он взял левей. Но обрыв заворачивал, избегнуть его можно было, лишь круто взяв назад. Мы ждали, что он это сделает. От провала его отделяли какие-то сантиметры. Он замер.
Нелепая, увенчанная «лаврами» голова в овале прожекторного света. Быстро пульсирующий треугольник рта на безглазом лице…
- Назад, назад! - не выдержала Ирина, будто он мог слышать радио.
Он сделал шаг. Туда, в черноту. Даже падая, он не выпустил сосуд с драгоценной водой. Донесся вскрик…
То, чему мы не хотели верить, оказалось истиной. Этот мир был слеп, но он стал слеп недавно.
- Вы не хуже меня знаете, что этого нельзя делать, - сказал Зибелла.
- У нас нет выхода, - повторила Ирина.
Мы стояли над трупом аборигена и не знали, как быть. В тупик нас поставило одно весьма разумное правило. Чтобы понять, какая беда обрушилась на планету, нам надо было забрать и проанатомировать безжизненное тело. Но было ли оно таким в действительности? Этого нельзя было сказать наверняка без тщательного исследования высших животных планеты, которым мы еще не занимались. А не зная ничего о физиологии аборигенов, мы запросто могли стать убийцами того, кто, по нашим понятиям, был мертв, а по здешним, не исключено, всего лишь лежал без сознания.
Но и медлить было нельзя.
- Предлагаю интроскопию внутренних органов, - сказала Ирина. - Прямо тут, на месте.
Зибелла ответил так, как и я бы ответил на его месте.
- Конечно, это самый разумный выход. Но можете ли вы гарантировать, что просвечивание ему не повредит? Вы можете положиться на точность такого диагноза и без вскрытия определить, жив он или умер?
«Ну все, - додумал я. - Ничего нельзя гарантировать, если организм аборигена не похож на человеческий. Да что же это такое? - спросил я себя в отчаянии. - Мы сами себя связали по рукам и ногам, когда надо действовать, действовать, действовать! Будь на месте Зибеллы кто другой…»
- Да, - сказала Ирина. - Я могу дать полную гарантию.
Мне показалось, что я ослышался. Но слова Ирины были ничто по сравнению с ответом Зибеллы.
- Действуйте, - сказал он.
И все. Знал ли Зибелла, что Ирина покривила душой? Вероятно. Нелепей, однако, было другое: даже сейчас Зибелла не нарушил букву правил! Ибо «в решении сугубо специального вопроса капитан обязан полагаться на мнение специалиста». Вот он на него и положился. И не снял с себя ответственности: мог бы промолчать или возразить, а вместо этого отдал подтверждающий приказ.
Вот и пойми человека, которого ты вроде бы знаешь наизусть. Ничего удивительного, впрочем. Если противоречия - неотъемлемое свойство окружающего мира (а так оно и есть), то нелепо предполагать, что когда-нибудь возникнет порода людей, лишенная неожиданных противоречий характера.
- Он мертв, - сказал Ирина, отрываясь от приборов.
Мы доставили тело на корабль.
То, что мы выяснили, лишь усугубило загадку. Изучение погибшего показало, что у обитателей планеты имелся орган дальновидения - тот самый смешной «лавровый венок» на голове. Это и были его «глаза», улавливавшие, понятно, не свет, которого здесь не было, а тот пучок ультракоротких радиоволн, который посылала звезда и который мог пробиться сквозь здешнюю атмосферу.
Их радиосолнце, по нашим понятиям, еле брезжило в небе. Но для них, разумеется, сумрачный мир вовсе не был сумрачным, так как эволюция создала невероятно чувствительный орган восприятия. Благодаря своим рогам-антеннам они, верно, как и мы, могли любоваться закатами, красками растительности, переливами бликов, зыбью морской волны, всем тем, что составляет зримый мир, даже если этот мир отраженных радиоволн, который мы, люди, представить не в состоянии.
Так было, пока они не ослепли.
Внешне их рога-антенны не имели повреждений, они просто не функционировали, и мы не могли понять почему.
Напрашивалось два объяснения. Внезапная эпидемия. И еще. Мы бы не ослепли, если бы наше солнце вспыхнуло вдвое ярче, потому что у нас есть веки. А у них не было, да и не могло быть заменителей век, потому что пронизывающая способность даже сверхкоротких радиоволн несравнима с проникающими возможностями света.
Прекрасные гипотезы, только они никуда не годились. Что это за эпидемия, которая так быстро поразила всех обитателей планеты? Внезапное усиление радиояркости звезды, конечно, могло дать такой эффект, но у нас имелись замеры, которые показывали, что, по крайней мере, во время нашего пребывания звезда вела себя смирно.
Мы спорили часов шесть и разошлись удрученные. Отгадка была где-то рядом, мы это чувствовали, и собственное бессилие настолько раздражало, что хотелось поступить с мозгом, как с барахлящим прибором, - хорошенько стукнуть его.
Мне не спалось, подозреваю, что и остальным тоже. Едва я закрывал глаза, как передо мной вставала замершая на краю пропасти фигура. Я слышал его крик…
Я предпочел открыть глаза, хотя в каюте было совершенно темно. Темно, как на самой планете. Нет, так нельзя, подумал я. Мы ничего не сможем добиться, если не сумеем выйти за предел земных представлений.
Интересно, а как это сделать? Весь строй наших мыслей, вся наша психология настолько неотделимы от Земли, что отрешиться невозможно. Впрочем, не совсем так. Мы побывали уже на многих планетах, и от земных представлений мы отстраниться, пожалуй, все-таки можем. Не вполне, но можем. А вот от представлений, связанных с Солнцем, избавиться куда трудней. Где бы мы ни были, мы окружаем себя светом, атмосферой солнечных лучей. И ничего тут не поделаешь. Мы можем знать и знаем, что существуют другие виды света, мы пользуемся ими, мы создали инструменты, которые видят иначе, чем мы, но, употребляя их, мы все равно сводим то, что они дают, к зримым картинам либо к отвлеченным символам. Разум - наш поводырь, но глаз - его самый доверительный советчик. Попробуй замени его радиоглазом хотя бы… С машиной «эту операцию проделать можно, а с человеком нет.
Что, это, пожалуй, идея! Спустить вниз кибера с радиоглазом той же избирательной способности, той же чувствительности и посмотреть, что с ним будет.
В волнении я зажег свет. Как это всегда бывает после темноты, несколько секунд я видел лишь плоские, до боли яркие размывы предметов. «Вот так было и на планете, - подумал я. - Опаляющая глаз вспышка, а потом слепота и мрак… У бедняг не было век. Поэтому…»
Мое сердце гулко стучало. Мы искали вспышку, потому что весь наш опыт твердил, что ослепить может лишь мгновенная сильная вспышка. А что, если искать надо другое? Это мы можем захлопнуть веки, а они нет. Тот уровень радиояркости звезды, который в силу его постоянства мы сочли нормальным, на деле им не был. Могло так быть?
Этим все объяснялось.
Ничего этим не объяснялось! Даже если бы у нас, на Земле, солнце раз в миллион лет в течение всего месяца-двух светило вдесятеро ярче, то эволюция учла бы это обстоятельство. Тем более здесь. Не могло же так быть, чтобы звезда всегда светила ровно, а к нашему прилету вдруг взяла да и устроила катастрофу. То есть, конечно, и такое возможно, но это уж слишком невероятное совпадение.
И все же здесь что-то есть… В совпадении самих моментов. Как будто наш прилет… То, как мы приблизились, то, как мы…
Не одеваясь, я ринулся в аппаратурную. Лео был еще там, и он выпучил глаза, но я не дал ему сказать ни слова.
- В каком диапазоне работают наши локаторы?
- Сейчас взгляну. А что?
- Ты не знаешь?!
- Запомнишь тут, когда столько дел… Автоматы сами… Да что с тобой?!
Но я уже сам прочел показания автоматов.
- Лео, умоляю, примерно, хотя бы примерно, какова интенсивность локаторов у поверхности? Порядок, ты можешь назвать порядок?
Он назвал порядок. Он еще ничего не понимал. А у меня все плыло перед глазами.
Наша автоматика выбрала как раз те частоты, для которых атмосфера была наиболее прозрачной и которые именно поэтому были здесь «светом жизни». Только наши приборы были менее чувствительны, чем «глаза» обитателей планеты, а видеть мы хотели как можно лучше. Вот локаторы и вспыхнули палящим солнцем.
Мы сами ослепили здешний мир, ибо были убеждены, что особенности человеческой физиологии - наше и только наше личное дело.
Что-то говорил Лео, но я его не слышал. Я видел черную планету, где нам теперь долгие годы предстояло спасать то, что еще можно было спасти. Мысль об удручающем аде, который нас ждет, как ни странно, доставила мне облегчение.
ЧЕРНЫЙ ВЕЛИКАН
Из-за дурацкого вывиха мне пришлось остаться в ущелье одному, тогда как мои товарищи ушли на штурм памирского семитысячника. Досада моя не имела границ, но вскоре я понял, что, потеряв одно, я приобрел другое.
Моя палатка стояла на берегу ручья такой неправдоподобной и чистой голубизны, какая бывает только в детских снах. Есть немного вещей, которые можно созерцать бесконечно: накат морских волн, пламя костра и бег горного ручья. Там, где возникала заводь, вода уже не казалась водой. Нет, то был жидкий и вечный кристалл, сквозь который мерцала россыпь камней, более причудливая и яркая, чем фантазия восточных ковров. Сбоку, в десяти шагах от палатки, пузырился источник нарзана; он стекал по красному, как киноварь, ложу. Невероятно, как много красоты может вместить маленький клочок земли!
Выше над ущельем смыкались скалы, там всегда была прохлада и тень, тогда как вокруг с густо-синего, уже стратосферного неба лился хрустальный поток солнца. Осязаемый и жгучий, он заполнял все и мог, казалось, звенеть над пирамидами гор ясно и долго, окажись тут звонарь с медным молотом.
И он зазвенел однажды в раскаленный послеполуденный час. Я поднял голову от форели, которую чистил, но не увидел ничего, кроме каменных громад с далекими глетчерами на вершинах.
Несколько секунд я слушал звонкий раскат, который был, сомнений не оставалось, той музыкой небесных сфер, которую выдумали пифагорейцы и которая могла прозвучать только здесь.
Сердце замерло - то был момент совершенного счастья, хотя никакой причины тому не было. Наоборот, любой странный звук настораживает, тем более в горах, где лавина и осыпь подстерегают на каждом шагу. Но разум спал. Не оттого ли беспричинное счастье так часто приходит к нам в молодости и тем реже его появление с годами?
Потом я увидел в небесном своде трещину, какая возникает в тонком стекле. Начало ее терялось где-то высоко над снежинками, а конец расширялся, сбегая вниз, прямо к тому месту, где я находился.
Что-то надломилось, треснуло, и тут я испугался. Ошеломление я смотрел в небо, где замер звук и где льдинкой в роднике таяла эфирная трещина.
Теперь звенящей казалась тишина (ручей не в счет, я так привык к его неумолчному рокоту, что шум не достигал сознания). Машинально я смыл с рук чешую и встал, не зная, что думать.
Трещина в небе дотаяла. Все стало как прежде, солнце калило рыжие отвесы гор, тек ручей, но во всем этом теперь была тревога.
Нет, даже не тревога, а смутное чувство напряжения, какого-то разлада. Словно на самом дне ясности притаился мрак.
Как хотите, но, кроме зрения, слуха и всего прочего, человек обладает еще другим чувством, которое обостряется в одиночестве и о котором я ничего не могу сказать помимо того, что оно есть. Может быть, это лишь эхо собственных ощущений, не знаю. Вот и тогда: краткий испуг сменился уверенностью - откуда она взялась? - что лично мне ничего не грозит, хотя вокруг неблагополучно.
Моя нога уже настолько поджила, что я мог идти прихрамывая. Я бросил рыбу в котелок и двинулся вверх по ущелью, туда, куда десяток минут назад уперся кончик небесной щели.
Пока я шел, было время подумать, но - странно! - мысли не шли в голову. Даже сумбурные, нелепые, какие бывают после неожиданности, и те отсутствовали. Зато я остро, нервами впитывал изменчивость цвета, формы и запаха, словно был приемником, только приемником отовсюду идущих волн.
Чем далее я продвигался, тем менее это походило на обычное воздействие природы. Когда я вышел из сумрачной теснины, простор и свет должны были дать облегчение, а они наполнили меня чувством западни. Впрочем, если я и ощущал желание повернуть назад, то лишь от этого разлада с окружающим, а вовсе не потому, что мне было страшно.
Террасу, огибая которую тек ручей, замыкала гряда исполинских валунов, и, когда я сделал к ней несколько шагов, мне открылся Черный Великан.
Я называю его так, потому что затрудняюсь передать его облик. В нем несомненно было что-то человеческое, но нечеловеческого в нем было куда больше. Громада округлого черного стекла, такая же полупрозрачная в краях, как настоящее стекло, - она на первый взгляд мало чем отличалась от окружающего базальта. Только вглядевшись, я различил подобие головы, неожиданно маленькой и без глаз. Сзади выпирал похожий на взбитую подушку горб. Других конечностей я тогда не заметил. Я стоял и смотрел, а Глыба для меня не оставалось сомнений - тоже смотрела. Не могу этого передать: взгляд был осязаем и пронизывал меня насквозь.
Больше ничего не было, если не считать, что я испытывал глухое отчаяние, которое не было моим отчаянием, а исходило от Глыбы так, как от солнца исходит жар.
Не только отчаяние. Растерянность, скорбь и еще жалость. Не моя жалость, и не ко мне обращенная, а… Так, космически, могла сожалеть звезда, что ли.
Наконец Глыба шевельнулась, и это подействовало на меня, как удар.
Я хорошо помню начало встречи и ее продолжение, а вот что было посредине - стерлось. Верней, как раз наоборот: обилие сильных впечатлений засветило этот участок памяти, как солнце засвечивает пленку. Провал, который я ничем не могу восполнить…
Так или иначе, но, когда от гор уже легли тени, я обнаружил, что сижу на берегу ручья, напротив же, упираясь в скалы, громоздится Черный Великан, и мы ведем беззвучный диалог.
То ли я пообвык, то ли пригляделся, но он уже не казался мне глыбой. Безглазая маска его лица походила на слепок, смятый судорожным движением руки скульптора; искаженно в нем проявились человеческие черты. Тело, казалось, источало мрак, но было оно живым, подвижным настолько, что мускулы могли течь наподобие черных змей, иногда образуя какие-то резиновые отростки.
Впрочем, все это мои дорисовки. Если бы муравей Или краб мог общаться с человеком, что извлек бы он из рассказа о полете в какую-нибудь Австралию? Подозреваю, что я понимал Великана не лучше. Порой миллиарды звезд слипались в огненный ком, а затем обращались в кольцо, чтобы исчезнуть в фиолетовой мгле, - вот так он мчался. Откуда, куда, зачем? Галактики мелькали, как листья на ветру, и чем дальше, тем судорожней, отчаянней становился этот полет, потому что то ли ошибка, то ли авария сбила Великана с курса и где-то он потерял себя в пространстве.
Потерял себя в пространстве! За это я ручаюсь. Он заблудился не в нашем трехмерном мире, а в каком-то ином, чудовищно сложном и недоступном моему пониманию.
Заблудился, как человек в лесу, - это меня потрясло больше, чем все другое. Все было так, как предполагали ученые, и все оказалось совершенно иначе. Земли достиг, смог достичь разум такой мощи, что для него межзвездные расстояния не были ни препятствием, ни далью. Но кто мог подумать, кто мог предвидеть, что такой гость окажется несчастней приблудного пса? Логика чертит прямые линии и рассчитывает, как все должно быть, а жизнь часто подкладывает под логику такой сюрприз, что дальше некуда, и уж после догадываешься, что так и должно было выйти, поскольку жизни по линеечке не бывает.
Рассекать галактики и оказаться несчастней приблудного пса? Наша мысль этого не приемлет, а на деле тут нет ничего особенного. Трагедии случаются при любой технике, и чаще других рискует тот, кто прокладывает новые пути. Вся разница, что Великан потерял ориентировку все-таки не в лесу, где все родное и есть направление. Он затерялся в бесконечности, где нет начала и конца, центра и края, прошлого и будущего. Этого, похоже, не смог вынести даже сверхчеловеческий ум Великана. Случайно именно Земля оказалась тем местом, куда его бросило отчаяние, норой, где он смог укрыться от обступившей бесконечности, которая для нас просто пустой звук, а для него зловещая реальность.
Может быть, так, может быть, иначе. Мы оба находились на Земле, но только это нас и объединяло.
Порой инстинкт побуждал меня опустить руку в ледяной ручей, так невыносимо становилось соседство чужого сознания с его неземным горем. К счастью, в нас сильна привычка мелочить колоссальное и драпировать непостижимое в домашний халат. Шло время, и Великан вопреки тому сверхчеловеческому, что в нем было, все более казался мне просто несчастным, которому надо помочь. Аналогия с потерпевшим кораблекрушение все чаще мелькала в моем возбужденном мозгу. Как, должно быть, хохотала вселенная!
Первое, о чем я связанно подумал, это о том, что Великану рано отчаиваться, поскольку он набрел на планету, где есть способный понять его разум.
Я попытался мысленно передать ему это. Ответ был таким, что лучше бы я не делал этого! В моем сознании вдруг прозвучал вопль, который мог издать Робинзон, когда скалы вернули ему эхо собственного голоса, после того как он убедил себя, что слышит человека. И связь оборвалась.
Быстро, как это происходит на юге, угас последний луч солнца, померкли ледники, и черная памирская ночь скрыла Великана. Только голова его, подобно вершине, выделялась среди звезд. Еще остались грохот ручья да ощущение неправдоподобности происходящего.
И тут, будто тяжелая волна, меня накрыла чужая мысль. Я понял - или мне показалось, что понял, - нечеловеческую грусть и нечеловеческую гордость, которая вела Великана за пределы возможного и смирилась только перед мощью целой вселенной. В первый и последний раз я уловил то, что осмелюсь считать его словами. «Я мыслю, следовательно, существую, но это не так. Я существую только тогда, когда есть такие, как я. А если они потеряны навсегда, то я, хоть и мыслю, уже не существую».
Этим все кончилось. В уши ворвался рев воды, и это было как землетрясение.
Ловя потерянную близость, я потянулся к Великану и был остановлен мыслью, уж не знаю чьей. И мы когда-нибудь выйдем к звездам, и перед нами распахнется бесконечность. Путь разума один, и одна расплата для тех, кто шел впереди и оступился. Так было в их истории, так есть и будет во всех мирах. Но разум нигде не умирает со смертью тела, когда ему есть что передать. Кому, однако, мог передать Великан то, что накопил его разум в долгих странствиях?
Мне. То немногое, что я мог понять и принять.
Возможно, я ошибаюсь в мотивах. Для себя Великан уже ничего не мог сделать, но что ему стоило оказать услугу? Ведь помощь другим - часто лучшее лекарство от собственного горя.
Все это, впрочем, домыслы, которые никогда не станут уверенностью. Тогда мне было ясно одно: он ждет от меня чего-то.
Я встал и шагнул к нему.
Все исчезло.
А когда сознание вернулось, то не было вокруг уже ни гор, ни Земли. Летел ли я в корабле? В объятиях Великана? И это мне неизвестно. Мы перемещались меж звездами быстрей, чем автомобиль проносится под фонарями улицы. Я видел планеты, которые только рождались, и видел гибнущие планеты. Я заглядывал внутрь «черных дыр» вселенной, я видел неизвестные науке пряди материи, которые окутывают ядра галактик. Я листал книгу, в которой для нас открыты лишь первые строчки.
Великан не пытался мне передать свои знания, видимо, это было безнадежно, я даже не знаю, какие места вселенной я посетил. Он мне просто показывал, какие дали нас ждут, и я могу лишь сказать, что все наши представления убоги по сравнению с действительностью. Сто раз я пытался описать увиденное, но в конце концов понял, что не в силах сделать это. Причина тому простая. Наш язык - порождение Земли и земного образа жизни. Пользуясь им, легко описать тот уголок Земли, где я встретил Великана, но для безбрежного космоса он не годится, как не годится словарь шумеров для описания синхрофазотрона. Должна произойти постепенная эволюция, а пока… Вот мы уже побывали за пределами Земли и видели лунный мир. А создали ли у вас рассказы очевидцев впечатление, что это чужой мир?
Должно быть. Великану было подвластно не только пространство, но и время, потому что вопреки Эйнштейну мы перемещались не только быстрее света, но и вернулись еще до восхода солнца.
Точнее, вернулся я один. Я очнулся там, где сидел, и в воздухе был тот же эфирный звон, который сопровождал появление Великана, а небо пересекала знакомая мне трещина. Звезды дрожали в ней, как в испарениях тумана.
Убежден, что во время странствий Великан как-то оберегал мое сознание от перегрузок. Это так, ибо, вернувшись на Землю, я мгновенно уснул. Тут же, на камнях, хотя и было холодно.
Когда я пробудился, солнце жгло, как раскаленное железо. Однако, забыв про голод и боль от камней, которые намяли мне бока, я прежде всего стал звать Великана. Но ответом было только эхо.
Ушел ли он, чтобы предпринять еще одну безнадежную попытку вернуться? Мчится ли сейчас сквозь галактики, которые не видит ни один наш телескоп?
Сердце говорит мне, что это не так. Что его нет больше в мире. Я настолько в этом уверен, что там, в ущелье, сложил пирамиду из черных лавовых глыб.
Ведь Земля была как-никак его последним пристанищем.
А пустота утраты, которую я тогда открыл в себе, не исчезла со временем. Теперь в ней нет ни горечи, ни печали, но я часто вижу сны, в которых веду долгий разговор с Великаном. И на этот раз мы хорошо понимаем друг друга, потому что ко мне наконец приходят те слова и чувства, которые были ему нужны, и он не гибнет от одиночества.
ЧАСТЬ ВОЗМОЖНОГО
- Его состояние?
- Делаем, что можем, - уклончиво ответил главврач.
Он с сомнением разглядывал посетителей. Кто они такие? Тот, что постарше, с сединой в висках и благодушными манерами, хорошо смотрелся бы за столиком ресторана. А вот молодой производил впечатление рашпиля таким жестким и колючим было его лицо. Похоже, не друзья и, конечно, не родственники больного, хотя оба возбуждены. Еще чемодан у левой ноги молодого посетителя, скорей даже ящик или сундук, громоздкий, почти квадратный, никто с таким в больницу не ходит. Сундук-то зачем?
- Думаю, пора объясниться, - старший посмотрел на молодого. Тот кивнул. - Разрешите представиться: профессор кибернетики Саркизов Иван Семенович. Мой друг, - легкий наклон головы в сторону, - Чикин Артур Сергеевич. Кандидат наук, литературовед. Дело у нас к вам сугубо научное и не совсем обычное.
- Так, так, - сказал главврач.
- Нам известно, что положение Илляшевского безнадежно.
- Безнадежна только смерть, - возразил главврач.
- Допустим, допустим! - округло взмахнул рукой кибернетик. - Но надежда либо есть, либо ее нет. Тон и смысл ваших слов заставляют предположить…
- Что вам нужно?
- Это не так просто объяснить, - профессор смущенно поерзал. Илляшевский - писатель, возможно, вы читали его книги.
- Нет.
- Неважно. Писатель он некрупный, но настоящий. То есть у него было свое видение мира, свой стиль, и работал он честно, причем не обольщался размерами своего дарования. Что ж, литературе необходим и скромный талант, если он уникален. Так было с Илляшевским. Это достойная жизнь, которая вплетается, может быть, малозаметной, но добротной нитью…
- Очень любопытно, - прервал его главврач. - К сожалению, мое время ограничено.
- И наше, - голос у «рашпиля», как и ожидал главврач, оказался грубый. - Но вы ошибаетесь, если думаете, что мы его тратим зря. Объясните ему напрямик, Иван Семенович!
- Терпение, немножко терпения! - адресованная главврачу улыбка содержала извинение. - Нами разработана методика, которая позволяет - как бы это получше сказать? - выделить, выявить, получить еще не созданные, но зреющие в сознании произведения искусства.
- Что?
- Я выразился, конечно, не совсем удачно, вы уж простите, - улыбка стала почти сконфуженной. - Но тонкости метода, теория, принцип - это действительно отнимет много времени, которого нет ни у вас, ни у нас и еще меньше у Илляшевского. Так ведь?
- Так, - вырвалось у главврача.
- Он без сознания?
- Да. Но я по-прежнему не понимаю…
- Сейчас, сейчас, - заторопился профессор. - Вам, очевидно, лучше, чем нам, известно, что память можно пробудить введением электродов в соответствующие участки мозга. Наш метод, как мы надеемся, даст неизмеримо больше. У человека, который живет творчеством, возникают стойкие образы будущих произведений. Мы уверены, что нам удастся их выделить из подсознания и…
- Вы хотите, чтобы я сделал трепанацию черепа умирающему?! Вы с ума сошли!
- Нет, нет, вы не так нас поняли! Никакой трепанации! Вы же снимаете энцефалограмму?
- Конечно.
- Вот! Наш аппарат столь же безвреден. Надо лишь наложить датчики, этого достаточно. Согласитесь, что датчики не могут повредить Илляшевскому.
- Которому все равно нечего терять, - рубанул Чикин.
Первым желанием главврача после этих слов было выгнать обоих. Возмутила его не техника эксперимента, даже не его содержание, которое он представлял еще смутно. Дело было в самом факте опыта на умирающем. Вот именно: опыт на умирающем!
Он стиснул пальцы так, что они побелели.
- Никто не имеет права, - проговорил он размеренно, - ставить какой-либо эксперимент на человеке без его на то согласия.
- Согласие есть, - тихо сказал профессор. - Вот, - он положил на стол бумагу. Главврач уставился на нее. - Илляшевский знал о наших работах. Знал и доверял. Документ зафиксирован нотариусом, можете убедиться.
- Не надо, - сказал главврач, отодвигая бумагу. - Есть еще долг врача.
- У нас имеются официальные отношения наших институтов! - кибернетик поспешно извлек их.
- Уберите! Может, я отстал и чего-то не понимаю, но я тут хозяин, и мне ваша затея не нравится.
- Научное значение эксперимента…
- Возможно. Но есть еще этика и мораль.
Кибернетик отчаянно всплеснул руками.
- Этика и мораль, говорите? - голос литературоведа ворвался, как боевая труба. - Может, еще простая человечность? Тогда ответьте, что вас обязывает бороться за жизнь человека до последней секунды? Использовать для этого все средства?
- Какое это имеет отношение? - не выдержал главврач. - Кто вы, собственно, такой? Как вы можете сравнивать, вы…
- Сухарь, может, стервятник, да? - Чикин вскочил, дрожа от возбуждения. - Поймите же наконец вы, вы поймите, что у нас та же забота, что у вас! Вы хотите продлить жизнь Илляшевского, и мы хотим того же, только мы можем, а вы нет. Можем другими средствами, неужели неясно? Да разве жизнь человека только функционирование его сердца, почек, желез внутренней секреции? Разве физическим существованием исчерпывается все и вся? Есть дела, мысли, чувства, которые не обязательно кончаются с гибелью тела, а продлевают человека вплоть до бессмертия! Почему, как вы думаете, Илляшевский согласился на опыт? Он верил, что нам удастся продлить его духовное существование! Что ж, он без сознания, почти мертв, губите своей «гуманностью» то, чему он хотел, но не успел дать жизнь. Будьте его…
- Помолчите, ради бога, помолчите! - кибернетика точно подбросила пружина.
Но главврач уже разгадал смысл непроизнесенного слова. Оно его не смутило, даже не задело, поскольку было несправедливым. Его смутила неподдельная страсть обвинителя. Впервые главврач ощутил в себе неуверенность. Что, если его позиция всего лишь поза заскорузлого профессионала, возмущенного вторжением в привычную сферу чего-то нового, чуждого ему, небывалого? Небывалого, вот в чем, пожалуй, дело…
- Сядьте! - сказал он резко. - Вы видите одну сторону, я другую, а кто прав, неизвестно. Дайте план опыта, публикации, что еще там у вас…
Он погрузился в чтение, немного гордясь своей способностью возвыситься над собственным мнением. Минуты две был слышен только шелест листаемых страниц, и главврач чувствовал растущее напряжение тех двоих. Перебарывая себя, он с треском захлопнул тапку.
- У вас все готово для эксперимента?
Они поднялись на третий этаж, миновали длинный больничный коридор с его тягостной белизной и стойким запахом лекарств.
Главврач толкнул стеклянную дверь и жестом пригласил своих спутников войти.
В первый момент он не понял, отчего позеленели и осунулись лица обоих, даже стал озираться, ища причину испуга. Затем понял, и это вызвало в нем сумбурные чувства.
Полуприкрытое простыней тело Илляшевского казалось плоским, лицо было гипсовым. Бросалось в глаза, что лежащий человек жив машинами, которые стояли около, дышали за него, за него качали кровь и очищали тело. Сам человек выглядел мертвым придатком машин - зрелище для медика привычное, не вызывающее лишних эмоций, а для постороннего, конечно, удручающее.
Да, раньше умирали иначе…
- Действуйте, - коротко бросил главврач. - Чем-нибудь помочь?
- Спасибо, мы справимся, - едва шевеля губами, ответил Чикин.
«Так-то, приятель, - не отказал себе в удовольствии подумать главврач. - Это тебе не теория, не слова о духе. Какая странная, однако, пара! Напористый, жесткий гуманитарий и мягкий, весь на шарме техницист. Быть может, дело в возрасте и престиже профессий? Одному еще надо доказывать себя, а у другого под ногами уже ковер».
То, что делали оба, было главврачу не совсем понятно, однако он не вмешивался, машинально следя, не будет ли от всех этих датчиков, оплеток, хитроумных штучек электроники какого-нибудь вреда больному, хотя прекрасно сознавал, что тому уже ничто не может ни повредить, ни помочь. Беспокоиться тем более не стоило, что дежурная медсестра, чье безмолвное присутствие едва замечалось, была настороже. И все-таки он тревожился.
- Конечно, я не специалист, - неожиданно для себя заговорил он. - Но как можете вы надеяться извлечь из мозга незаконченную повесть или даже крохотный рассказ? Это же не камни в почке!
- Разумеется, нам это не удастся, - буркнул Чикин. Наладка аппаратуры, вытеснив все остальное, вернула его в прежнее состояние. - В лучшем случае мы сможем выделить отдельные образы, сцены… Это-то и важно - заглянуть внутрь творческой лаборатории.
- Ах так! - язвительно протянул главврач. - Значит, я неверно вас понял, когда вы что-то там говорили о продлении духовной сущности.
- Никакого обмана, уверяю вас! - поспешил вмешаться кибернетик. - Вы убедитесь сами, когда все увидите и услышите.
- Увижу?
- На этом экране.
- А что, если…
- Нет, нет, никаких предсмертных образов! Когда человек без сознания, каскадные фильтры работают надежно.
Главврач с сомнением покачал головой. Ему снова было не по себе, и он сожалел, что разрешил этот опыт. «Вот так же, вероятно, чувствует себя посторонний, - мелькнула мысль, - когда я скальпелем вторгаюсь в мозг. Неужели это вызывает такой же протест?»
На маленьком экране меж тем возникли какие-то рваные полосы, их сменили размытые пятна лилового. Раздался скрежещущий звук. Главврач вздрогнул.
Сидя на корточках перед замысловатой аппаратурой, экспериментаторы перебрасывались короткими фразами.
- Прибавь потенциал.
- Уже.
- Развертка?
- В норме.
- Может, биоумножитель? Покрути.
- Даю.
- Кажется, лучше.
- Вхожу в контакт. Ага, что-то есть!..
На экране смутно обозначилась наполненная людьми комната. Изображение выглядело странно. И люди, и предметы состояли как бы из намеков. Стол одна лишь лакированная плоскость с туманными чашечками чая на ней; ножки стола едва угадывались. Иной человек выглядел тенью, но на мутном лице тени вдруг отчетливо выделялся полуоткрытый, влажно блестевший рот. Эти детали были живые. Главврач даже узнал зажигалку, которой постукивали о стол чьи-то волосатые, с кривыми ногтями пальцы, - «Ронсон». Все неоформленное точно искало облик и место. Какой-нибудь стул вместе с человеком неожиданно сдвигался, попутно становясь креслом. Губы некоторых людей шевелились, но слов нельзя было разобрать - стоял невнятный шум. То там, то здесь хаотично вырисовывались новые отчетливые детали, как будто изображение обегал какой-то творящий луч.
- Это он так видит! - выдохнул Чикин. - Сначала только детали… Никак не может обрести центр…
Внезапно выделилось лицо женщины лет сорока, умное, чуть ироническое. Когда она заговорила, вздрогнул не только главврач.
- Быть может, вы обратили внимание на одно любопытное обстоятельство, карие глаза женщины искали в комнате невидимого собеседника. - Человек из отпуска, подышал свежим воздухом, отдохнул, окреп - и что же? Большинство чаще простужаются после отпуска, чем до. Казалось бы, все должно быть наоборот. У меня такое впечатление, что организм горожанина сопротивляется всему, что выводит его из равновесия, из сродства с городскими условиями. Возможно, я ошибаюсь, но я замечала это по себе, своим друзьям…
Изображение поплыло («Проклятье!» - выругался Чикин). Проступили очертания зимней улицы, но только на мгновение: экран ни с того ни с сего заняла потная лысина, над которой кружились три мухи. Затем последовал совсем уж бесформенный наплыв. Из шума выделился картавый голос: «Мы зовем его «Иди». Сокращение от «идиота»…»
- Плохо, - вздохнул кибернетик. - Нет стойких образов, или аппарат их не держит. Попробую смежную зону.
- Наоборот, очень, очень интересно, - шепотом отозвался литературовед. - Видел, как формируются образы? А вот с диалогом хуже… Всегда был у Илляшевского слабым местом.
- Да откуда вы знаете, - раздраженно спросил главврач, - что это образы творчества, а не воспоминания?
Оба подняли головы, точно увидев его впервые. С губ Чикина, казалось, готов был сорваться не слишком дружелюбный ответ, но он забыл о своем намерении, - из динамика, набирая силу, донесся мягкий, чуть застенчивый голос:
Когда сошлися лед и пламень, Что получилось из того? Ни холодна, ни горяча стекла водица, Да только и всего. Так пустота берет…Голос стал удаляться.
- Настройка! - взвопил Чикин.
Кибернетик лихорадочно вращал верньер. Главврач видел их движения, как сквозь струящуюся завесу. Наконец кибернетику удалось ухватить обрывок.
…Так пустота берет начало там, Где спор кипит, слепых страстей катя за валом вал…Экспериментаторы обезумели.
- Стихи! - ликующе кричал Чикин. - Но Илляшевский никогда не писал стихов, как же это?
- А его ли?
- Его! Таких нет в литературе! Ищи же, ищи! Постой, постой…
Снова зашелестел голос:
«Ты землю объездил и все посмотрел», С завистью мне сказали. Я на карту взглянул: Мой путь опоясал мир, Как яблоко ход микроба.- Ну, ну, еще… - молил Чикин.
Пауза оказалась короткой.
«Я жизнью пьян…» - неуверенно начал голос. Он окреп.
Я жизнью пьян. Я пью и не могу напиться Ее вином. Меня манит и дразнит океан Моих желаний…Тут голос пресекся. Исчез, будто его и не было, сколько ни терзали аппарат.
Главврач помотал головой. Этот голос… Он стоял в ушах. «Я жизнью пьян…» Захотелось крикнуть: да остановитесь же!
Поздно. Остановить этих двоих уже не могли никакие заклинания. Да и сам главврач теперь не мог оторваться, он тоже ждал… Чего? Иногда до него доходили обрывки фраз, которыми взволнованно перебрасывались экспериментаторы.
- Он утаил, что пишет стихи! И в журналы не отдавал. Почему?
- Может, стыдился их несовершенства…
- Положим, в них что-то есть… Хотя… Но аппарат-то, аппарат, а?
- С прозой, похоже, неудача.
- Ну, первая попытка… У нас еще есть время. Доктор… как он там?
Вопрос с трудом проник в сознание главврача. Нахмурившись, он оценил показания контролирующих приборов. Пульс, ритм мозга…
- Можете продолжать, - сказал он. - И не кричите! Здесь вам не…
Он махнул рукой и вышел. Зачем? Дела… К черту дела, сегодня нет ничего срочного. Тогда почему же он вышел? Бешено хотелось курить, но это же не причина…
Человек, почти из могилы читающий едва ли не самые сокровенные свои строчки, - вот что. Вторжение в столь интимное - с благими намерениями, конечно, - такое может доконать. «А если бы ты создал эту методику, то поставил бы опыт?» - спросил ехидный голос. Да, поставил! Главврачу как бы вдруг и только сейчас открылась вся глубина того, что происходит. Смело, величественно… и страшно. Но подобное уже было в науке не раз. И будет. Страшно, потому что ново. И до самозабвения, до ужаса интересно.
Окурок обжег губы.
Тишина, которая встретила главврача, когда он вернулся, подсказала, что за время его отсутствия что-то произошло. Видны были только напряженные спины экспериментаторов. Главврач тоже наклонился, слегка раздвинув - они этого не заметили - их одеревенелые плечи.
На экране было изображение совсем другого рода, чем вначале. Оно оставалось стойким, по нему не сновали «пятна резкости», звук отсутствовал. Вглядевшись, главврач едва подавил возглас.
…Сумрачный свет огромного собора мерцал кровавым, словно от наваленных внизу трупов поднимались багровые испарения смерти. Весь пласт трупов казался единым запекшимся сгустком с кое-где белеющими пятнами лиц, рук и ног. В кровавых потеках были стены, сам воздух, и сквозь эту жуткую мглу со сводов пронзительно смотрели черные, как уголь, глаза святых. А посредине собора, на отпрянувшем, с ощеренными зубами коне, опустив руку с обнаженной саблей, задумчиво и угрюмо глядел на все это всадник в чалме.
Главврач растерялся, когда заметил в углу экрана крохотную надпись: «Во имя идеи».
- Что… что это такое?
- Картина, - ответ был дан шепотом. - Взятие султаном Мухаммедом Византии. Это его въезд в Святую Софию, храм, легко узнать.
- Сцена из ненаписанной повести?
- Нет же! Картина. Живопись. Тут были другие… «Затерт льдами» - там колорит еще лучше. «Потому что еретик». Лицо человека, которого сжигают на костре. Смотрите, вот…
Щелкнул переключатель. Сначала главврач увидел лицо. Запрокинутое, искаженное; такая в нем была мука, что главврач отпрянул. Потом он заметил, что отблеск костра странно высветляет черты лица, сообщая ему что-то помимо муки. И тут он понял главное. Ракурс был взят снизу, так, что наклоненный столб и привязанный к нему человек взлетали в крутящихся языках пламени. Они уходили, взмывали в небо, туда, где в черном просвете дыма распахивалась бездна далеких звезд.
- Так он был еще и художником! Таким художником! - ахнул главврач.
- Был, - последовал ответ. - И не был, потому что не умел рисовать.
- Не умел? - главврачу показалось, что он ослышался.
- Чего-то не хватило. Жизненной энергии? Уверенности? Или кто-то высмеял его первые попытки? Бесполезно гадать. Что не сбылось, то не сбылось.
- А ваша аппаратура, - спросил главврач с надеждой. - Она не может запечатлеть эти… ну… образы?
- Сделано, - кивнул кибернетик. - Однако это лишь заявка, эскиз, мысленный черновик, - он безнадежно махнул рукой. - Вклада в искусство не будет.
- В поэзию тем более, - угрюмо добавил Чикин.
Главврач перевел взгляд на безжизненное лицо Илляшевского. Вот, значит, как! Скромный литератор. Работяга, обычный человек. Поэт в душе, о чем никто не знал. Автор неосуществленных, быть может, гениальных полотен. Кем он был еще, кем мог стать? «А кем мог стать ты? - устало подумал главврач. - Тоже, вероятно, мог. Могу… Нет, поздно, колея засосала. Все сбывшееся в нас только часть возможного».
ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
«При движении в прошлое можно выйти либо в намеченную точку пространства, либо в намеченный момент времени. Сразу осуществить и то и другое невозможно в принципе».
«Основы темпоралики», 2023 годНоги часто скользили, и это беспокоило Берга. Вот досада! Привычка к обуви, с которой сама собой соскальзывает грязь, делали его подозрительно неуклюжим в грубых, на одну колодку скроенных сапогах, когда на подошвы налипал вязкий ком глины. А здесь, на размытой дороге, это случалось постоянно. Мелкое обстоятельство, которого они не учли. Сколько еще обнаружится таких промашек?
К счастью, дорога была безлюдной.
Позже глину сменил песок, и Берг вздохнул с облегчением. На косогоре он приостановился. Одинокий дуб ронял плавно скользящие листья. Поля были сжаты, поодаль они тонули в сероватой дымке, и небо, под стать земле, было слезящимся, тусклым. Далеко впереди, куда вела дорога, смутно проступал шпиль деревенской церкви. Порой его заволакивала дождливая пелена.
Расчетчики не подвели, место было тем самым. А время? В какой век забросил его принцип темпоральной неопределенности? Седьмой, семнадцатый? Ответ, похоже, можно было получить лишь в городе.
Только сейчас, твердо шагая по мокрому песку, Берг ощутил разницу между воздухом той эпохи, откуда он прибыл, и той, куда он попал. Человек двадцатого века легко объяснил бы разницу чистотой здешней атмосферы. Но Берга она поставила в тупик, потому что давно миновали годы, когда заводские дымы Северной Америки загрязняли небо где-нибудь на Гавайях. В чем же дело? Или на воздух той эпохи, откуда пришел Берг, неизгладимый отпечаток наложила техносфера с ее эмбриомашинами, оксиданом и синтетикой? Должно быть, так. Здесь, в этом веке, запахам леса, земли и трав чего-то явственно не хватало. Чего-то…
«И небеса веков неповторимы, как нами прожитые дни…» - вспомнил он строчки Шиэры.
И небеса веков неповторимы…
Спешить было незачем, так как в город следовало войти в сумерки. Конечно, его одежда точно скопирована с одежды бродячего мастерового, но беда в том, что она могла не соответствовать тому веку, в котором он очутился. Правда, одежда средневековых бродяг-медников не слишком поддавалась веяниям моды, и, главное, для всех он был иностранцем, следовательно, человеком, имеющим право носить необычный костюм. И все же рисковать не стоило. В конце концов, это первая и, надо надеяться, последняя вылазка человека в прошлое. Если бы не особые обстоятельства… Странно, нелепо: он в мире, который уже много веков мертв. Скоро он увидит своих далеких-далеких предков, чьи кости давно истлели. А сейчас они разгуливают по улицам, сидят в кабачках, любят, ссорятся, смеются.
Дико, непостижимо, но факт. Однако, если вдуматься, для прошлого будущее куда большая нереальность, чем для будущего прошлое. Потому что прошлое было. А будущее - это ничто, провал, белая мгла. Для любого встречного он, Берг, пришелец из несуществующего. Забавно… Берг взглянул на свои руки. Обычные, крепкие, мозолистые руки. Невольно Берг фыркнул, вспомнив ученый совет, где дебатировалась методика воспроизведения средневековых мозолей. «Брэд оф сивый кэбыл», - как любил выражаться Генка Бороздин.
Дорога вела к деревне, но Берг избрал боковую тропку, лесом огибающую поселок. Не из-за боязни преждевременных расспросов и встреч. Просто в деревне могли потребоваться услуги медника, а задержка не входила в его планы. Лес, которым Берг шел, мало напоминал чисто прибранные леса его эпохи. Дичь, бурелом, чащоба, едва различимая, без ответвлений тропинка. Безлюдье, все говорило о безлюдье, нехватке сил, медвежьей замкнутости поселений. Бойкий тракт - узкая полоска грязи, где последняя повозка прошла еще до дождя. Тропа и вовсе звериная, хотя под боком деревня. Очевидно, он все же попал в раннее средневековье. Не слишком ли раннее?
За сумрачным оврагом начался ельник, справа в просвете мелькнула церковь, потом деревья снова ее заслонили. Неподалеку кричала воронья стая. С потемневшего неба сеял дождь. Под лапами елей краснели мухоморы. Вскоре стали попадаться заросшие холмики, серые, от времени покосившиеся кресты. Кладбище… Некоторые надписи удавалось разобрать. Взгляд равнодушно отмечал даты, полустертые евангельские изречения; слова печали и скорби. Вдруг сердце дало оглушительный сбой: там, в кустах, белел новенький крест, и на нем было начертано: «Берг».
Могила была настолько свежей, что даже глина не успела заплыть. Дрожь проняла Берга: его убьют здесь, в этом времени, зароют и…
Он едва унял колотящееся сердце. Какая чепуха! Тот, кого похоронили, мертв, а он, Берг, жив! И вообще тут нет никакой загадки. Простое совпадение - распространенная фамилия. Какие-нибудь Макферсоны были в десятках поколениях шотландцев. Возможно, род Бергов не менее стар, и кого-то из них занесло сюда. Но это значит… Это значит, что у него есть шанс встретиться с… Конечно, а разве он не знал этого заранее?
Поспешно уходя от могилы, Берг покрутил головой. Простая арифметика, только и всего. Родителей у каждого двое, дедов четверо, прадедов восемь, прапрадедов шестнадцать, предков в десятом колене свыше тысячи, а уж в отдаленном прошлом… Даже если учесть дальнеродственные скрещения, то, вероятно, большинство жителей любого европейского поселения имеют к нему, Бергу XXI века, самое непосредственное отношение. А какого-нибудь Гай Юлия Цезаря он мог бы и вовсе приветствовать по-родственному.
Жуткая все-таки вещь - генетика.
Как ни успокаивал себя Берг, встреча оставила неприятный осадок. Он поторопился быстрей пройти кладбище. Подумать только: отдаленным предком ему был каждый двадцатый (десятый, седьмой?) погребенный здесь человек! Бергу стало зябко при мысли, что его облик, характер да и само существование висит на столь непрочной нити. Если бы в том же средневековье кто-то с кем-то не встретился или поссорился, даже в том городе, куда он идет, то и его, Берга, возможно, не было бы! Или у него был бы другой цвет глаз, другой темперамент, другая судьба…
Вот и по этой причине тоже ни одному человеку до сих пор не разрешалось бывать в прошлом.
Успокоился Берг, лишь когда тропинка вывела его обратно на дорогу с ее просторами холмов и далей.
Потянул ветерок. За поворотом открылась мутная, неширокая река, грязный мост к неказистым крепостным воротам. Берг замер, поспешно кинув взгляд на зубчатый силуэт городских стен. Есть! Он сразу узнал знакомый по снимкам профиль Толстой Девы. Значит, ему повезло, он очутился примерно в том времени, в каком надо, потому что в десятом веке эта башня еще не была построена, а в четырнадцатом ее уже разрушили рыцари герцога Берклевского. Значит, и его костюм, в общем, соответствовал стилю времени, не надо переодеваться, укрывшись за кустом.
Он вынул из котомки запасные костюмы, облил их жидкостью, которая вкусом и цветом напоминала вино, и, удостоверившись, что ткань превратилась в труху, двинулся к мосту.
Разум, едва он ступил на мост, стал холоден, посторонние мысли отлетели прочь. И все же иногда ему казалось, что стоит лишь тряхнуть головой…
Но нет, кинувшиеся к нему, когда он перешел мост, собаки были самой доподлинной реальностью. Их была целая свора - грязных, шелудивых, ободранных; Припадая к земле, они давились хриплым лаем.
«Вот так загвоздка! - крепче сжимая палку, подумал Берг. - Ведь я понятия не имею, как должен вести себя средневековый путник при встрече с… И чего это они?»
Собаки попятились, когда он сделал шаг. Рычание сменилось повизгиванием, раздраженным, недоуменным, в котором слышались неприязнь и опаска. Внезапно Берга осенило. Ну конечно! Его одежда, обувь хранили запах той эпохи, в которой они были созданы, - запах чуждой этому веку синтетики!
Берг с уважением глянул на собак и, уже не обращая на них внимания, двинулся к воротам. Наступала, пожалуй, самая ответственная минута, которая решала, надежен ли его маскарад.
Но ничего не произошло. Чье-то лицо глянуло из зарешеченного оконца и тотчас исчезло; в помещении караулки слышался стук костей - стража явно не была заинтересована прерывать азартное занятие ради какого-то бедняка.
«Похоже, я попал в мирное время», - решил Берг.
Человеку запрещалось бывать в прошлом, но ничто не мешало посылать туда для съемок и наблюдений замаскированные под облака хроновизоры. Правда, в силу принципа неопределенности их приходилось запускать, в общем-то, наобум. Когда речь шла об углублении в прошлое всего на несколько лет, разброс еще не всегда давал разительные отклонения, но чуть далее он приводил уже к совершенно непредсказуемым результатам. Никакими способами нельзя было вывести автомат, допустим, на поле битвы при Кресси. Можно было, конечно, сфокусировать аппарат точно на время, когда произошло сражение, но в этом случае аппарат оказывался где угодно, но только не над деревушкой Кресси. Можно было, наоборот, вывести автомат точно к месту битвы, но тогда никто не мог предсказать, за сколько веков или тысячелетий от даты события он там очутится.
Впрочем, это не имело решающего значения, так как историку интересна любая эпоха. Чаще всего автоматы выводились в заданную точку пространства, из-за чего временная последовательность наблюдений оказывалась весьма прерывистой. Но лучше иметь что-то, чем ничего. Все шло хорошо, пока не случилась эта авария. Аппарат типа «кучевое облако» не отреагировал на команду возвращения. Ничего страшного, аппарат настроили на сближение с грозовой тучей, где к беспрестанному мельканию молний вскоре прибавилась еще одна вспышка. Но на этот раз и подрывное устройство сработало плохо. Уцелел, хотя и вышел из строя, кристаллический блок нелинейного антигравитатора. В довершение бед случилось это неподалеку от города.
Итак, изделие двадцать первого века очутилось в одиннадцатом и, вполне возможно, попало в руки людей. Разумеется, оплавленный «камень» не должен был вызвать никаких подозрений. Но кристалл мог не исчезнуть в войнах, пожарах и смутах, а скользнуть в двадцатый век, где его искусственная природа была бы, конечно, разгадана. Преждевременное открытие, грозное, опасное, меняющее ход истории, - этого еще не хватало!
Вид тесных городских улиц не произвел на Берга особого впечатления - он хорошо изучил их облик. Зато вонь… Пахло отбросами, лошадиным навозом и кое-чем похуже. «Медленней, - приказал себе Берг. - Тысячелетие назад походка людей была не столь размашистой». Высоко задирая рясу, через лужу перебрался священник. Опять взвыла кинувшаяся было под ноги Берга собака. «Чтоб тебя!» - в сердцах подумал он. Сумерки сгустились, но его появление не прошло незамеченным: на него то и дело оглядывались редкие здесь прохожие. Ни по какой особой причине: просто город был слишком тесным и замкнутым мирком. Соседний Цорн - это уже другое царство-государство, а какой-нибудь Брабант и вовсе близок к краю света. Путник из дальних мест здесь мелкое, но все же событие. Пустяки! Неважно, будут пересуды о нем или нет, если след, который он оставит, окажется неотличимым от множества других. Даже если это след похитителя.
Лишь бы добиться успеха. Но надежды на успех было мало. В сущности, все зависело от чистого везения. Ему и так уже повезло, что с первого раза он вышел в более или менее подходящую эпоху. Подходящую? Если сейчас лишь начало одиннадцатого века, то ему надо поворачивать назад антигравитатора здесь еще нет и в помине. Сколько же тогда потребуется новых попыток? Две, три, десять, а возможно, и тысяча, чтобы попасть хотя бы в двенадцатый век, - ведь принцип неопределенности превращал все это занятие в лотерею, где нужный билет терялся среди сотен пустых (еще хорошо, что путешествие в прошлое было возможно лишь на расстояние первых десятков тысяч лет). Но и точное - в пределах века - попадание не гарантировало успеха. Если антигравитатора не окажется в городе, допустим, в двенадцатом веке, это может означать и то, что, падая после аварии, он канул в какое-нибудь болото, и то, что антигравитатор нашли, но продали какому-нибудь заезжему торговцу редкостями. Вот тогда поиск становился задачей, какая и не снилась детективам, - попробуй выяви, где, в какой точке средневековой Европы оказался искомый предмет!
Невольно Берг улыбнулся. Его отобрали не потому, что он был лучшим специалистом или особо находчивым человеком. Его отобрали потому, что он, как это ни странно, был особо везучим человеком. У большинства людей удачи равномерно чередуются с неудачами. Но есть удивительные исключения. Одни притягивают к себе беды, как высокое дерево притягивает молнии, другие, наоборот, обладают как бы свойством отталкивания - обстоятельство, известное с незапамятных времен, но так и не разгаданное. Пока что его репутация удачника оправдывалась.
Судя по одежде прохожих сейчас был либо конец двенадцатого, либо начало тринадцатого века. Это следовало уточнить, и Берг первым делом свернул к соборной площади. Если перед собором стоят статуи святых, значит, уже наступил тринадцатый век. Если нет…
Статуи были, они еще не успели как следует потемнеть. Значит, с того момента, как антигравитатор упал с неба, и до того момента, когда он, Берг, очутился в прошлом, минуло лет полтораста. Срок, сильно затруднявший успешный поиск. И все-таки это было поразительно удачное попадание!
Берг стоял на виду у всей площади. Он оглянулся. Вокруг все выглядело мрачно. Темные, стиснутые фасады, конское ржание на соседней улице, слитые с сумраком фигуры прохожих, чужая речь и одежда наполнили его тоской. Молчаливая группа горожан пересекала площадь. Они должны были пройти мимо Берга, и тот внезапно понял, что сейчас не выдержит самой безобидной встречи лицом к лицу. Стараясь не привлекать внимания, он скользнул в распахнутую дверь храма.
Внутри оказалось чисто, торжественно, почти светло. По понятиям этого века, ослепительно светло, хотя в эпоху электричества храм выглядел бы сумрачной пещерой. Однако Берг уже немного проникся средневековьем и ощутил контраст церковного убранства с тем, что находилось вне этих стен. Распространяя сияние, теплели свечи. Рокотал орган, в зыбкой полутьме сводов мерцало золото, оттуда, как бы паря, глядели отрешенные лики святых. И чем дольше вглядывался Берг, тем спокойней и вместе с тем непонятней становилось на душе. Он попробовал иронически улыбнуться, но ирония не удалась. Мерное движение голов молящихся, колыхание свечей, плывущие звуки, темное, казалось, забытое. Гипноз ритма, цвета, звука, только и всего! Нет, не только. Берг мог выделить, понять, проанализировать каждую слагаемую этого воздействия, но все вместе составляло нечто большее, чем гипноз. Здесь, сейчас, в глухом средневековье, все это было отдушиной. Здесь люди испытывали иллюзию единства с собой, с другими, с тем тайным, что, казалось, присутствовало в храме, что наблюдало и берегло, карало и сулило, просветляло и подавляло, возвышало и смиряло. Совсем иной, тревожно-волнующий настрой эмоций, отчасти понятный, но отталкивающий духовный мир.
Помедлив, Берг выбрался наружу. Тотчас его пробрал зябкий ветер. Запахнув плащ, Берг повернул за угол и едва не столкнулся с растерзанным, в лохмотьях, человеком, который едва держался на ногах, - то ли был пьян, то ли болен.
- Эй, послушай…
Берг не оглянулся, хотя что-то рванулось в нем помочь несчастному. Но воспитанное, как рефлекс, соучастие было здесь неуместным, даже опасным.
- Эй, послушай, эй, послушай… - человек бубнил монотонно, как бы говоря со стеной.
Должно быть, просто нищий.
Куда идти? Это не имело значения. Содержимое сумки, пояса, сама одежда, медное кольцо на пальце только внешне воспроизводили облик предметов далекого прошлого. Кто бы отнесся с подозрением к обычному кремешку? Или листочку слюды? Кремешок, однако, был инфракрасным фонариком, а слюда позволяла видеть этот незримый свет. Кольцо, однако, играло куда более важную роль. Оно служило прибором, который определял местонахождение антигравитатора. Сейчас оно было холодным. В стометровом радиусе от антигравитатора оно должно было потеплеть. Совсем как в детской игре: «Холодно, холодно… Теплей, горячо!»
Оружия не было. Никакого. По всем расчетам, ни один его поступок даже в самой неожиданной ситуации не мог вызвать искажения истории. Кроме… Яви он чудо, оно не вызвало бы сильного резонанса в эпоху, когда все верили в чудеса. Любое колебание нити затухает со временем, и опасен только обрыв. Таким влекущим непредвиденные последствия обрывом могло быть невольное, с целью самообороны убийство. Все же следовало быть осторожным и в мелочах, потому что теории теориями, а кто их проверял опытом? Кто рискнул бы проверить?
Ветер явно разгонял облака. На несколько минут успела просветлеть полоска заката, но отблеск так и не смог пробиться в теснины улочек, где дома жались друг к другу, как овцы в непогоду.
Становилось холодно. Машинально Берг хотел сунуть озябшие руки в карманы и удивился, не обнаружив их. Так, еще один мелкий промах! Ослабив контроль, он сделал жест, который не мог сделать человек тринадцатого века по той простой причине, что тогда не было карманов!
Внезапно палец ощутил тепло. Берг застыл не веря. Вот так, сразу? Он заметался по кривым улочкам, пугаясь всякий раз, когда кольцо холодело. Но мало-помалу он успокоился и стал сужать круги до тех пор, пока не стало ясно, что от антигравитатора его отделяют стены одного из домов.
В двух крохотных оконцах выступающего над улицей второго этажа горел тусклый огонек - в доме еще не легли. Это не имело значения. В сущности, теперь уже ничто не имело значения. Тихая радость удовлетворения охватила Берга. Теперь все, теперь конец. Милым был этот город, его черепичные крыши, эта добродушная старина, все, все! Берг запомнил дом, подходы, осмотрел дверь. Спать здесь ложатся рано, а провести часок в кабачке, понаблюдать жизнь и приятно и полезно. Потом он вернется, «как тать в нощи», сделает что надо, и прощай средневековье! Тенью пришел, тенью уйдет, лишь собаки заподозрили неладное. Врач в двадцать первом веке критически осмотрит его запачканные сапоги, забрызганный плащ и скажет: «А ты, брат, очень, очень… Небось и чуму приволок?»
Скорей бы…
Кабачок отыскался неподалеку. К удивлению Берга, никто не обратил на него внимания. Все сгрудились вокруг скамьи, на которой, багровея от смущения, сидел вислоухий парень в новых кожаных штанах. Под скамьей почему-то была лужа. Взлетали кружки, сыпались непонятные Бергу остроты; было душно, смрадно, со свода огромного очага хлопьями свисала сажа; жар углей пробегал по разгоряченным лицам, красновато поблескивая на потных щеках, западал в хохочущие рты.
Никто не взглянул на Берга, когда он пристроился в углу. Только хозяин, сгорбленный, с перебитым носом мужчина лет сорока, вынырнув из толпы, осведомился, чего тот желает.
- Ужин, - коротко сказал Берг.
- Издалека? - уловив акцент, спросил хозяин.
- Из Брабанта.
- Ну что ж, ну что ж…
Кабатчик отошел, мелко кланяясь. Берг проводил его недоуменным взглядом и тут же забыл, потому что смех и разговоры неожиданно стихли.
Просвет между спинами позволял видеть, что делается в круге. К юноше на скамейке чинно приблизился толстяк с тройным подбородком. Он тронул его за плечо, и тот вздрогнул, как от разряда тока. По рядам прошло движение.
Юноша привстал, и, к изумлению Берга, с ним вместе приподнялась скамейка. Разгибаясь, юноша тихонько поворачивался, и скамейка поворачивалась следом, пока все не увидели, что она крепко висит на штанах. Грянул восторженный рев.
Бергу все стало ясно. Как он сразу не догадался, что это посвящение в пивовары! Кандидат должен сварить пиво, вылить кружку на чисто обструганную скамью, сесть в новых кожаных штанах, и штаны приклеятся, если пиво доброе. Так, значит, одним мастером в городе стало больше.
Было что-то непосредственное, детское в последовавшем веселье. Жуя невыносимо жесткое мясо (это тебе не синтепища!), Берг ощутил нечто вроде зависти. Пожалуй, он бы не смог хохотать так раскатисто, награждать парня тумаками, опрокидывать в рот реки вина и пива, перемалывать кусищи мяса, рыгать, стучать сапогами, бесхитростно отдаваясь настроению минуты. Подозвав хозяина, он расплатился и вышел.
Небо заметно очистилось от туч. Полоска над ломаными линиями крыш молочно светлела в том месте, где находилась луна. Внизу, однако, стояла совершенная темень. Но не успел Берг сделать и десяти шагов, как впереди мелькнул огонь факелов.
Берг оглянулся. Сзади, приближаясь, тоже колыхался свет. В его отблеске сверкало оружие. Ночная стража!
Ну и что?
Колыхающийся свет выхватил заросшие лица, шумно, как после бега, дышащие рты, сталь лезвий и шлемов. Берг, уступая дорогу, прижался к стене. И тут ему в грудь уперлось сразу несколько копий.
- Держи нож к глотке, к глотке! - раздался чей-то радостно-исступленный вопль, и медвежья масса тел навалилась на Берга.
- За что? - выкрикнул он полузадушенно. - Я из Брабанта, я…
Ответом был язвительный хохот.
- Вяжи крепче! Думаешь, раз переоделся, тебя и узнать нельзя, Берг?
Берг?!
Его поволокли, ругаясь, пиная, дыша чесноком и перегаром.
Помещение, куда его наконец впихнули, было низким, сводчатым. Каменную наготу стен прикрывали два-три плохо различимых гобелена. Слева от пылающего очага возвышался коптящий трехсвечник, справа возле столика находилось кресло, в котором сидел белоголовый в епископском облачении старик, такой сухой и сморщенный, что массивный крест, казалось, продавливал ему грудь. Старик медленно повернул голову. Стало слышно, как потрескивают факелы стражи.
- Ближе, подведите ближе, - голос епископа прошелестел, как тронутая ветром бумага.
- Я не тот, за кого вы меня принимаете, - громко сказал Берг. - Это ошибка, я никогда не был в вашем городе, я…
- Знаю! - старческая рука легонько стукнула по подлокотнику. - Знаю, что ты дерзок в обмане… Нагл, дерзок и богохулен. Надеялся, я поверю слуху о твоей смерти? Бухнуться бы тебе сейчас на колени, молить… Казнь не радость, осознаешь?
Епископ подался вперед. Шея у него вытянулась, как у ощипанного гуся. Сзади насморочно сопел кто-то из стражи.
Сам не ожидая того, Берг фыркнул. Рот епископа приоткрылся. Дернулись созданные факелом тени, и все застыло в ошарашенном молчании. Дикость, паноптикум, к которому он не имел, не мог иметь никакого отношения. Он продолжал улыбаться.
- Качалку! - голова епископа затряслась. - Завтра же!
- А как с ней? - поспешно спросил чей-то голос из-за спины. - Тоже?
- И ее! Раньше! У него на глазах, у тебя на глазах, Берг! Еще не дрожишь? На ме-е-едленном огне будет жариться вместе со щенком, зачатым в преступной связи… Подумай о раскаянии, подумай!
Епископ упал в кресло. Он был бы похож на труп, если бы не его горящие глаза. Берг презрительно пожал плечами.
Его отвели в камеру и там заковали. Лязгнул засов, стих топот на лестнице.
Некоторое время Берг лежал неподвижно. То, что он оказался двойником какого-то здешнего Берга, было, конечно, поразительным совпадением, но сейчас не имело смысла обсуждать теорию вероятностей. Возможно, это тот самый Берг, чью могилу… Неважно! Неизвестный ему Берг тринадцатого века натворил что-то серьезное, враги подстроили ему ловушку, а попался в нее человек двадцать первого столетия. Вот ситуация! А донес, похоже, кабатчик… Тоже несущественно. Чем ему там грозили? Ах да, качалкой…
Берга передернуло от отвращения и гнева. Осужденного привязывают к концу балансира и то окунают в костер, то приподнимают, давая передохнуть, - вот это и есть качалка. Медленное поджаривание человека.
Сволочи, тупые садисты, мразь! Ну он им покажет… Ну они еще попрыгают у него, махая рясами… Не та муха залетела к ним в паутину. Интересно посмотреть, какие рожи будут у них завтра…
Луна все чаще выглядывала из облаков, чертя на полу продолговатую тень решетки. Берг позвенел цепями и торжествующе улыбнулся. Глупые толстые цепи из скверного металла, наивная решетка в широком проеме - эти тюремщики даже не подозревают, что такое человек двадцать первого века и что он может.
- Мне этот отель не нравится, - с вызовом сказал Берг. - Сыро, холодно… И вообще. Так, для пополнения образования разве что…
Он лег, закрыл глаза. Тренированное тело само знало, что ему делать. Темная волна накрыла сознание. Теперь все клетки мозга и тела подчинялись единому ритму, страшному ритму настроя всех сил организма.
Берг рванулся. С треском лопнули цепи.
- Вот так, - сказал Берг.
То, что раньше в момент безумного напряжения случайно удавалось одному из миллионов, было уже давно познано, и каждый человек новой эпохи умел возбуждать в себе тот скрытый резерв энергии, который стократно раздвигал пределы «нормальных» физических возможностей.
Берг переждал неминуемую после рывка слабость, поднялся, стряхнул остатки цепей и тем же усилием выворотил решетку.
Теперь отдых потребовал уже не менее получаса. Ворвись сюда привлеченная шумом внешняя стража, Берг не смог бы оказать ей сопротивление, тем более что против копий, мечей и прочих режущих предметов у него не было защиты. Никто, однако, не караулил ни под окном, ни за дверью - к чему, если цепи массивны, а решетка надежна?
Его камера находилась в башне. Неровная, сложенная из валунов стена обещала легкий спуск. Берг дождался, пока скроется луна, и вылез в окно.
Он спускался спокойно, уверенно, как подобает альпинисту. Ни сейчас, ни раньше он не принадлежал чужому времени с его нелепыми законами и случайностями. Мгновения испуга, когда он оторопел от неожиданности и ощутил себя в ловушке, прошли, и сейчас после взлома он снова был человеком своей эпохи, гордым, независимым и могущественным.
Прямо под собой Берг обнаружил окно нижней камеры. Пришлось взять немного в сторону. Его голова была уже на уровне прутьев, когда из-под ноги посыпались камешки. Берг замер, вцепившись в решетку, и тут, как назло, засияла луна.
В ее меловом свете за решеткой метнулась чья-то тень. Дрожащие пальцы схватили руку Берга.
- Ты пришел, пришел, я знала, я верила, милый, милый…
Берг едва не закричал от ужаса. Перед глазами неясно белело сияющее лицо женщины, почти девочки. Она тянулась к нему сквозь решетку, и всхлипывала, и улыбалась, и такое было в ее шепоте счастье, что сердце Берга оборвалось.
Так вот она, невеста того, другого Берга, приманка, жертва, девушка, которую должны утром сжечь!
- Самый лучший, самый отважный, самый любимый, мой, мой Берг… Спаси, скорей спаси нашего ребенка!
- Нашего?! Ребенка?! Ну да, конечно… - Берг почувствовал себя летящим в пропасть. Он был обязан ее оттолкнуть, чтобы не изменилась история.
Девушка целовала его руку.
- Тихо, - сказал Берг.
Он рванул на себя прут решетки. Прутья не были скреплены поперечинами и легко вынимались из гнезд. Он вытянул ее в проем. На ней была одежда монахини. «Вот оно что…» - тупо подумал Берг. Он был холоден, как автомат. Выбрал место внизу, прицелился, спрыгнул, расставил руки, принял ее в объятия.
- Наш маленький бурно начинает свою жизнь, - сказала она, едва отдышавшись.
- Идем, - сказал Берг.
Они растворились в темноте спящих улиц.
Теперь у Берга было время подумать, но думать он не мог. Да и к чему? Эта девочка и ее ребенок должны были умереть на костре, а теперь не умрут; их потомки будут жить во всех веках, чего прежде не было.
Ему хотелось убить ее и себя.
Они достигли городской стены. К ней косо подходил глухой фасад, между фасадом и стеной был залитый мраком пустырь.
- Побудь здесь, - приказал Берг.
Он ждал удивления, жалоб, испуга, но она только кивнула, хотя он чувствовал, как она дрожит.
- Я постараюсь не бояться… - сказала она.
- Я скоро вернусь, - пробормотал Берг.
Сам не зная почему, он сжал ее руку. Она на мгновение прильнула к нему и тут же отстранилась.
- Тебе надо, иди. Ты мне сказал тогда, что все будет хорошо, и я ничего не должна бояться. И я не боюсь. Но… у нас все-все станет по-прежнему, когда ты вернешься?
- Да, да…
Что будет по-прежнему?! Берг не очень даже осознавал, куда и зачем бежит. Но что-то вело его с точностью автопилота, и он очнулся, когда тепло кольца охватило палец. Дом нависал над ним, как скала. К Бергу вернулось самообладание. Он ощупью нашарил замочную скважину. Сумку отобрали при аресте, но пряжка пояса дублировала инструмент. Немного повозившись, он отпер дверь, наподобие монокля приладил листок слюды. Тепло ладони оживило «кремневый» фонарик. Прихожая, дверь, лестница… Берг повел рукой в воздухе, и кольцо указало на лестницу. Ветхие ступени не внушали доверия, и он разулся. Он не волновался, будто всю жизнь обшаривал квартиры средневековых горожан. Лестница вывела в коридор. Дом наполняли запахи тепла, печного дыма, трухлявого дерева. Тихо было, как в омуте, лишь где-то скреблась мышь…
За скрипнувшей дверью открылась комната, похожая на музей. Полки с фолиантами, чучела зверей и птиц, песочные часы, окаменелости, кусочки воска, черепки, чаши, рулоны пергамента - все вперемежку лежало, стояло, висело, было раскидано на столах. Луч скользил, пока не уперся в закопченное чело горна. Берг едва не чихнул от поднявшейся пыли. Под горном среди тиглей и щипцов он нашел оплавленный до бесформенности кристалл антигравитатора. Его явно пробовали кислотами. Ну конечно! Он слишком тяжел, подозрительно тяжел для своего размера. Берг сунул его за пазуху, спустился, обулся, вышел и запер дверь. Самое трудное в его миссии на деле оказалось самым легким.
Теперь он мог рассуждать хладнокровно. Кто ему, в конце концов, эта девушка? Что заставило его ввязаться в дело, которое его не касалось? Сострадание? Да, конечно. Но разве мало их умирало на кострах до и после? Их судьба возбуждала жалость, но то была абстрактная, до холода рассудочная жалость. И об этой девушке он не думал, пока ее не увидел, хотя и знал, что она есть. Что же ему мешает теперь?
Логично рассуждая, ее нет вовсе, как нет самого этого века, который давно истлел со всеми своими надеждами и печалями. А есть будущее. Тот век, откуда он пришел и который может теперь пострадать из-за его поступка.
Но сейчас, в эту минуту, на этой темной улице будущее тоже всего лишь абстракция! И не абстракция эта доверчивая девушка, которую он, все взвесив и логично рассудив, должен предать.
Берг зажмурился и с минуту стоял так, мыча от боли и бессилия. Да кто же виноват, что желание спасти и защитить сработало в нем как рефлекс?! Само воспитавшее его общество.
Жалкая уловка.
Но почему жалкая? Почему уловка?
Когда мысль, желая точно наметить трассу будущего морального поступка, слишком пристально сосредоточивается на противоречивых понятиях, сами эти понятия начинают терять ясность, ибо любое понятие также неисчерпаемо и темно в своих глубинах, как и породившая его жизненная реальность. И мысль теряется, решение ускользает, все кажется запутанным и неверным. Так размышления порой губят решимость.
Берг с силой тряхнул головой. Тяжесть антигравитатора напомнила о его первейшем долге.
Нельзя одновременно определить скорость электрона и его положение в пространстве. Нельзя попасть и в заданный момент времени и в заданную точку пространства. Но в жизни тоже неизбежен выбор, и достижение одного влечет отказ от чего-то другого. Не значит ли это, что в глубинах морали скрыт тот же принцип, что и в глубинах природы?
Все возмутилось в Берге при этой мысли. Почему, почему история из-за его поступка должна измениться к худшему? Откуда это следует? Если поступок правилен и хорош, то должно быть наоборот, ибо как быть тогда в настоящем без уверенности, что добро, сделанное тобой сегодня, улучшит завтрашний день? Как можно жить и делать что-то без такой уверенности? Как можно без этого строить будущее? А если так…
- Вот я и вернулся, - сказал Берг.
Она бросилась к нему с подавленным вскриком. Он придержал ее за плечи.
- Времени у нас мало. Вспомни, не осталось ли тут дома, где ты… где мы могли бы переждать? («Где я мог бы тебя оставить ждать настоящего Берга. Если он жив…»)
- Ты же знаешь, что нет! («Все, не вышел компромисс…») Ты… ты изменился, милый… («Ну еще бы! Странно, что любящее сердце сразу не заметило подмены…») Я что-то сделала не так? Не то сказала?
- Нет, нет!
- Тогда… Я не совсем понимала, когда ты говорил, что наша любовь особенная, какой не было и не будет, но сейчас, сейчас… Ты даже не поцеловал меня!
Он повиновался. И, целуя, понял, что хочет целовать ее всегда, всю жизнь, что она близка ему, вопреки всему близка с первой минуты, а все прочее обман, которым он пытался заслониться от поражающей, как молния, любви, в которую он не верил и которая настигла его.
И в озаряющей радости он внезапно увидел выход, настолько простой, что поразительно, как это он не заметил его сразу. Хроноскаф увезет двоих! Девушка должна была умереть в прошлом, она и умрет, для прошлого, чтобы жить в будущем.
А тот, другой Берг? К черту другого, если он не смог ее спасти!
Он рассмеялся.
- Ты что, милый?
- Ничего. Все верно: наша любовь особенная, какой не было и не будет. Мы спасены, если ты сможешь всю ночь идти пешком.
- Разве нам впервые?
- Но…
- Маленький - умница. Он мне совсем не мешает; видишь - его даже незаметно. Я пройду столько, сколько нужно, когда ты рядом.
Бергу передалась ее убежденность. Он размотал сплетенный из тонких жил пояс, закинул петлю за выступ стены, подложил, чтобы не резало, плащ, обвязал девушку, и через полчаса они были на свободе.
Берг широко дышал воздухом леса, который уже не казался ему чужим; закутанная в плащ девушка шла рядом, он поддерживал ее, чувствуя тепло плеч и испытывая головокружительную нежность. Серебро и чернь узорчатых теней листвы словно плыли сквозь него. Или, наоборот, он плыл по расстилавшемуся невесомому ковру.
В мелькавшем свете луны он хорошо видел ее лицо, но так и не мог сказать, красива ли она. Какое это имеет значение? Никакого. Как и ее прошлое, как тот мирок, откуда он ее вырвал. Он даже знал, как она воспримет будущее. Как сказку, рай, куда ее привел любимый. Она примет этот мир с той же доверчивой непосредственностью и стойкостью, с какой она приняла свою судьбу, но скорей всего будет нелегко убедить ее, что они живы, а не вознеслись на небо. Почему все должно быть так, а не иначе, он не знал, но был убежден, что все так и будет.
Усталость навалилась внезапно. Ни с того ни с сего Берг почувствовал, что скользящие тени мешают идти, что они захлестывают ноги, как петли силка. Он раза два споткнулся. Это испугало его. Изнеможение должно было прийти после всех испытаний ночи, он держался только на нервном напряжении, но неужели он свалится на полдороге?
Усилием воли ему удалось избавиться от ощущения захлестывающих петель. Зато ноги стали как бы обособляться от тела, он их уже почти не чувствовал. Зато стал оттягивать руки антигравитатор. Он весил уже не килограммы, а тонны! Все, кроме ног, стало тяжелей: голова, руки, тело девушки, когда оно к нему приваливалось, и это дало спутанным мыслям Берга непредвиденный толчок, который заставил его похолодеть.
- Сколько ты весишь? - спросил он.
- Я? Я… я не понимаю…
- Извини… Это я так, ничего…
Конечно, она не знала, а скорей всего, и не понимала, о чем ее спрашивают. Нелепо предполагать, что в тринадцатом веке девушки взвешиваются на медицинских весах, и Берг устыдился своего вопроса. Свой вес он знал точно, ее определил, когда, спускаясь со стены, брал на руки, и тогда у него не было и тени сомнения, что мощности хроноскафа хватит на двоих. «Без паники, - сказал себе Берг. - Только этого еще не хватало!»
- Сядем, - сказал он, хотя намеченное им время привала еще не наступило.
Они сели, и по тому, как она медленно опускалась на разостланный плащ, как неподвижно смотрели ее глаза, он понял, что вся ее выдержка была напускной, что она безмерно устала, устала куда больше, чем он, и что она скорей умрет, чем сознается в этом. Берг едва не застонал и внезапно почувствовал долгожданный прилив сил, верней ярость, которая заменяла силу.
- Идем, - сказал он, понимая, что долгий отдых будет только хуже, что в одиночку никто из них не дойдет, а вместе они все-таки дойдут, потому что каждый черпает силы в другом.
Они пошли, молча понимая друг друга, и ночь для них длилась бесконечно, потому что они бесконечно напрягали свои силы. Но рассвет все-таки наступил. Рассвет обещал солнце, и Берг ободрился, мелькнула даже мысль, что когда-нибудь он будет вспоминать эту ночь как счастье.
Они поднялись на пригорок, где дуб ронял все так же плавно скользящие листья. Берг отчего-то подумал, что дуб, пожалуй, может прожить все разделяющие столетия, и пожелал ему уцелеть до тех времен, когда они снова придут под его уже старческую крону.
Трава была серой от обильной росы. Оставалось уже немного до того места, где находился замаскированный под глыбу валуна хроноскаф. Они дошли до опушки, и Берг решил сделать последний привал. Она опустилась на землю, и ему показалось, что в ее теле совсем не осталось жизни после тюрьмы, страха и бегства, что сознание ее спит и она уже ничего не ощущает. Но это было не так. Она шевельнулась, ее глаза взглянули на Берга и увидели в нем что-то такое, отчего она сделала движение выпрямиться и убрать разметавшиеся волосы. И это упрямое, через силу движение открыло Бергу ее не такой, какой она была сейчас, - измученной, с черными тенями на лице, в тусклом монашеском одеянии, а такой, какой она была на самом деле; он вдруг увидел ее танцующей в белом платье. Он даже вздрогнул, настолько реальным было видение гибкой, порывистой, как огонек на ветру, девушки в белом. Счастливой, ничего не боящейся девушки двадцать первого века. «Ну что ж, - подумал он, чувствуя, как у него перехватило дыхание. - Ну что ж… Разве так уж велика пропасть между нашими временами?»
Какой-то отдаленный, гулко и дробно разносящийся в рассветной тишине звук вывел его из задумчивости. Он прислушался, и все в нем болезненно сжалось - то был стук копыт. Она его тоже услышала, и по тому, как она напряглась, как еще сильней побелело ее лицо, он понял, что и она догадалась о значении этого звука.
Он схватил ее, и они побежали, но у нее уже не было сил бежать.
- Я не могу быстрей… Спасайся…
Он подхватил ее на руки, нисколько не удивляясь тому, что в состоянии это сделать.
На взгорке он обернулся. Всадников было человек десять, они находились еще километрах в полутора. Впереди мчались собаки.
Еще можно было успеть. Он бежал, ничего не чувствуя, кроме режущей боли в легких, и ничего не видя, кроме мелькающих темных полос, и все в нем сосредоточилось на том, чтобы разглядеть среди этих мельканий приметный куст, бугорок, камень.
Все же в нем шевельнулась горделивая мысль о том, что они, люди двадцать первого века, все-таки могут невозможное и без техники.
Он едва узнал поляну, где оставил хроноскаф. Топот приближался, но всадников еще не было видно. Дыхание, казалось, уже разорвало легкие. Тело девушки он больше не чувствовал, верней, чувствовал как свое - огромное, непосильное, не повинующееся ему тело.
«Глыба» раскрылась, едва Берг к ней прикоснулся. Лай собак уже ворвался на поляну, их оскаленные морды мелькали среди кустов.
Берг втиснул девушку на сиденье - пришлось разорвать ее сомкнувшиеся на шее руки, - влез сам. Захлопнувшийся люк отрезал собачий лай. Берг надавил кнопку возврата.
Двигатель загудел - и смолк. Не соображая, что он делает, Берг рванул рукоять обратного хода. Хроноскаф дернулся… И стал.
Лишним был тот вес антигравитатора, который Берг не учел!
Все, что произошло потом, сделал словно не он, а кто-то другой. Берг швырнул антигравитатор девушке на колени. Кажется, она хотела что-то сказать… Или крикнуть… Он включил автоматику возвращения в XXI век, нажал пусковую кнопку и вывалился, захлопнув люк. Падая, он успел увидеть тающий корпус хроноскафа.
Некоторое время он лежал, вжавшись лицом в землю и недоумевая, почему медлят собаки. В ушах гулко шумела кровь, очевидно, из-за этого он и не слышал лая.
Нет, не из-за этого. Он медленно приоткрыл глаза. Что… что такое?! Ярко светило полуденное солнце, пели птицы, вокруг была весна, а не осень.
Вот оно что! Он встал, пошатываясь, как пьяный. Сознание привычно восстановило последовательность событий. Пытаясь стронуть хроноскаф, еще тогда, когда они были вдвоем, он машинально дал ему задний ход. И тут аппарат на мгновение сработал, унес их по оси времени назад. А это означало…
А это означало, что никакого другого Берга в тринадцатом веке не было. Был он сам. Рывок хроноскафа был слишком ничтожен, чтобы унести его в неопределенно далекое время прошлого, и он очутился в годах, предшествующих его появлению здесь.
Берг с тоской оглядел сияющий мир, который теперь стал его миром. Он вернул антигравитатор, он спас девушку, не нарушив при этом хода истории, но погубил себя. Бессмысленно надеяться, что кому-то удастся вывести хроноскаф в ту точку пространства и тот момент времени, где он находится. Нет… Свое будущее он, увы, знает наперед. Остаток жизни он обречен провести в тринадцатом веке, этот век станет его веком, он будет в нем жить, встретит девушку, которую полюбит (уже полюбил!), вызовет ненависть епископа и погибнет за несколько дней до того, как сам же ее и спасет. Обычная, из теории следующая петля времени, когда «после» предшествует «до». Еще и в помине нет той могилы, где он будет зарыт, но, скользнув из своего будущего в свое прошлое, он уже знает, как она выглядит на скромном деревенском кладбище.
Жить, похоже, осталось ему немного.
И все-таки ему повезло даже в невезении, потому что это будет достойная человека жизнь. Он вступит в бой и победит. Успеет полюбить и стать любимым. Успеет дать счастье тому, кто уже не мечтает о счастье. Успеет сделаться отцом. Не так уж мало для человека любой эпохи!
НЕДОТРОГА
Ошеломляющее, прекрасное, почти забытое небо! Оно распахнулось и приняло; после однообразия космоса, где только звезды и мрак, после долгого заточения - вихрь, блеск облаков, отсветы морей, зов тверди. От бьющих в иллюминаторы лучей потускнели лампы. Выключить, скорее выключить эти жалкие заменители солнца! Пусть настоящий, промытый воздухом свет продезинфицирует каждый уголок, сотрет последнюю тень!
Щурясь, с улыбкой недоверчивой радости люди смотрели друг на друга. Так выбираются из катакомб. Так выходят из космоса.
Словно подстегнутые нетерпением, стрекотали экспресс-анализаторы. Есть кислород, можно дышать, есть ветер, который коснется лица, вода есть и зелень, совсем как на родине.
Свердлин мельком взглянул вверх, туда, где стыла фиолетовая даль покинутого космоса. И поспешно отвел глаза. Не надо вспоминать, не надо…
Вот награда за все. Вниз один за другим падали автоматы-разведчики. Заняв экран, открывались переданные ими голограммы чужого мира. Белый песок у моря; отягченные плодами ветви; степь, над которой реют птицы; выбитая зверями тропа… Все как на Земле. Почти как на Земле. Ярче, чем на Земле.
Лавина цифр в окошечках анализаторов. Температура, давление, влажность, радиация… Аппарат захлебнулся и смолк: теперь он перемалывал органику. Бактерии, травы, вирусы, насекомые, споры, фитонциды, пыльца, опавшие листья…
Люди ждали. Волнуясь, с нетерпением и надеждой. Забыт - так быстро! прежний восторг. Кругом нахмуренные лица.
И точно ответ на невысказанную тревогу все услышали сухой и жесткий голос:
- От планеты нечего ждать добра.
Все обернулись. Конечно, это был Фекин, единственный, кто и прежде не выражал радости.
- Ты, пессимист! - набросились на него. - Не каркал бы раньше времени!
- Цо? - Фекин прищелкнул, губы его искривились. - Погулять без скафандра захотелось? Ветерком подышать? Ах, мальчики, мальчики… Нельзя надеяться на лучшее.
- Почему? - спросил Свердлин.
- Потому, - уже серьезно ответил Фекин. - Предполагать надо худшее. Тогда не будет разочарований, если плохое осуществится. А не осуществится… Самая приятная радость - нечаянная. Как видите, мой пессимизм сулит больше счастья.
- Нет, - покачал головой Свердлин. - Нет. Я жду от этой планеты всего, и ожидание дает мне радость. Стыдно признаться, но я жду даже осуществления своей маленькой заветной мечты. Здесь найдется тот уголок природы, которого нет на Земле, но который мне снится. Я вижу его. Укромное озеро в полосах света и тени, нежный песок под босыми ногами, стройные, до неба деревья, теплынь, тишина…
- Ностальгия, - строго заметил врач. - Ты видишь наше озеро среди наших сосен. На Земле, кстати, таких мест сколько угодно.
- И комаров, - добавил Фекин.
Звякнул сигнал, и спор был забыт, так как пошла информация. О вирусах и зверях, деревьях и птицах, цветах и микробах. Обо всем, что есть жизнь, которая во вселенной куда большая редкость, чем гений среди людей.
- Маски, - прошел облегченный шепот. - Только маски!
Автоматы перестраховались. Немного другие тут были цепочки белков, и, хотя разница оказалась незначительной, она решала все: чужая жизнь не могла повредить людям. Даже маска была лишь предосторожностью, от которой поздней можно будет отказаться.
- Ну, Фекин, что же ты теперь не радуешься?
Тот ничего не ответил. Даже яркое солнце, не желтое здесь, а белое, не могло истребить залегших на его лице теней.
Начался спуск. В реве и грохоте атмосферу пронзило космическое сверло. Трещинами разбежались электрические молнии. Лопался нагретый воздух. И долго еще после посадки не стихал гром.
«Силой, - подумал Свердлин. - Мы берем планету силой, мощью наших гигаватт. Как вражескую крепость. Ничего, все успокоится…»
Все успокоилось. Улеглась волна на озерах, улетели сорванные ураганом листья, снова раскрылись цветы. Корабль стоял посреди выжженной плеши, опираясь на могучие титановые опоры. Черта гари отделяла его от мира чужих деревьев и трав.
Избежать этого было нельзя. Так полагалось даже по инструкции стерилизовать почву в зоне высадки. Превратить ее в пепел. Не допустить, чтобы какой-нибудь вьюнок оплел опору. Лишняя на этой планете предосторожность, но иначе корабль просто не мог сесть, и в девяносто девяти случаях этот недостаток был достоинством, что и подтверждала инструкция.
День сменился вечером, прошла ночь, - локаторы неутомимо прощупывали окрестности. Ничего. Все, что могло бежать, бежало, а что не могло, то погибло. Ничто не возмущало покой искусственной пустыни. В десятках, сотнях, тысячах километрах от корабля, все проверяя и перепроверяя, несли свою вахту автоматы. Там кипела жизнь, и на усиках-антеннах одного из них какой-то паучок уже плел паутину, словно автомат был обычной корягой. Только разум способен реагировать на вторжение чужаков, но разума тут не было, а природа одинаково безразлично принимает и метеорит и звездолет.
Иногда дул ветер, и до корабля доносился, кроме гари, запах диковинных цветов и трав, но его пока чувствовали только приборы, которые бесстрастно раскладывали запах на компоненты: безвреден, безвреден…
Миллиарды бит новой информации наконец сняли последний запрет. Утренняя роса выпала даже на гари, и восход солнца застал людей в пути.
В лесу пели птицы. Руки сами собой выключили двигатель вездехода, притихшие люди сидели и слушали.
Над деревьями вставало белое солнце. Оно посылало в зенит луч, который дрожал, как впившаяся в небо хрустальная стрела.
- Двинулись, - сказал капитан.
Никто не шевельнулся, и капитан не настаивал. Начинался долгий экспедиционный день.
Вездеход полз по голубым корневищам, раздвигал шуршащую траву, объезжал топкую чернь болот, вспугивал шестиногих зверьков с кофейными задумчивыми глазами, взрыхляя почву, брал откосы, и одна непотревоженная даль сменяла другую.
Потом люди вышли, неуверенно ступая по пружинящей подстилке красноватого мха. На них были легкие костюмы, и только маски отделяли их от всего, что было вокруг. Можно было нагнуться и голой ладонью погладить никем не виданные соцветия; можно было запрокинуть голову и дать процеженному листвой лучу пощекотать кожу лба; можно было лечь навзничь; можно было идти не по прямой… Такая малость, но как много она значила после миллиарда шагов по прямым, разлинованным коридорам! Непривычным казалось даже то, что каблуки неравномерно вдавливались в почву. Какое поразительное ощущение после одинаковой упругости корабельного пола! Забылось самое простое: что воздух может омывать тело ласковой волной; что холодок тени граничит с угольным жаром солнца; что существуют рытвины… Кто-то упал, потому что ноги отвыкли учитывать неровность земли. Упавший рассмеялся первым, за ним рассмеялись другие. Это надо же - утерять такие навыки, наслаждаться тем, что прежде не замечал и не ценил!
Они слегка ошалели, ведь ощущения тоже способны пьянить. Хмельная информация, алкоголь разнообразия, настойка из разноцветья! Формулы предупреждали, что так будет. К черту формулы! Планета гостеприимна, доступна от полюса и до полюса; они молоды, и жизнь прекрасна.
Успеется, все успеется. Исследования подождут, гипотезы подождут. Это их планета! Как мягко стелется она под ногами; как изумительно колышутся ветви; как волшебны ее звуки и шорохи; как заманчивы дали! На ее достижение ушли годы - пустяк. Зато она станет новой Землей человека. Со всеми нетронутыми океанами, равнинами, ледниками. Прогресс не остановить; годы пути сожмутся в месяцы, недели, дни… Так было на Земле, так будет в космосе. Везде, везде! Смелая ты, человек, козявка. Упорная. Нет тебе преград, а если будут, ты их сметешь. На то тебе и дан разум. Воля. А ты о чем думаешь, Фекин?
…Забавно все это. Ну, достигли. И тут, ей-ей, неплохо. Мы, можно сказать, счастливы. Но ведь на Земле мы добивались не меньшего счастья. Только быстрей. И без особых трудностей. Без многолетнего отказа от простых земных радостей. Без риска, наконец. Иная рыбалка на заре и вот такая прогулка по чужой планете, в сущности, равноценны с точки зрения удовольствия. Так чего же мы добились?
…Победы, унылый ты пессимист, победы. Дело не в количестве, а в качестве. В невозможном, которое мы сделали возможным. Выше мы стали на голову, вот что. Крепче, уверенней. Лучше мы стали понимать самих себя. Больше знаем и больше можем. Пик для альпиниста не самоцель, даже если он так думает. Берутся не физические высоты, а духовные. Без этого нет роста, а где нет роста, там движение поворачивает вспять, назад, и над нами закрывается крышка гроба. Вот птица в небе, и та понимает, что жизнь - это движение. Как она кувыркается, как узит над нами круги… Ее оперение чудо: лазурь и золото. Она боится нас, но мы ее притягиваем. Все неизвестное притягивает, потому что опасность там, где неизвестность, и, чтобы выжить, надо знать. А птица явно хочет жить…
Птица сложила крылья. Лазурь и золото сверкнули на солнце, раздался вскрик, но, прежде чем люди успели опомниться, на груди Свердлина бился трепещущий, еще живой комочек. Он в ужасе стряхнул его с себя, комочек упал к ногам, дернулся и затих.
Люди ошеломленно смотрели друг на друга.
- Она атаковала?
- Такая птаха?
- Самоубийство?
- Нелепо!
- Что же тогда?
- Приготовить оружие!
- Зачем?
- На всякий случай.
- Но наши белки несовместимы!
- Пусть так, предосторожность…
- Внимание! Сзади!
Куст опрокинулся, вылетело смазанное скоростью тело; вспышка дезинтегратора испарила его раньше, чем оно успело обрести форму и вид.
- Назад! - хрипло закричал капитан. - К машине!
Когда страгивается лавина, сознание еще успевает отметить те первые камни, которые, срываясь, зловеще и звонко щелкают по склону. Затем уже нет частностей, есть масса падения, огромная, смутная, бешеная в своей скорости обвала.
Так было и здесь. Потемнело, хлынуло отовсюду, смешалось. Летящими, падающими, бегущими клочьями больших и малых существ, казалось, двинулась сама природа - приступом, потопом. И фиолетовые вспышки дезинтеграторов разили, сминали, рвали то, что было плотью ринувшейся стихии, то, чем люди недавно восхищались и что теперь, обезумев, восстало против них. Они бежали и с содроганием палили во все живое, ужасаясь и не понимая, что произошло, почему место идиллии стало вдруг местом бойни.
- Биосфера сошла с ума! - переводя дыхание, выкрикнул капитан, когда броня вездехода укрыла их от живого потопа. - Быстрей к кораблю!
Послушно включился двигатель, и трава, прилипшая было к металлу, была смята первыми оборотами колес.
- Стойте… - Свердлин едва мог говорить. - Да стойте же! Мне показалось…
- Что?
- Смотрите.
Масса живого, которую не могли остановить ни выстрелы, ни гибель, редела, таяла, разлеталась брызгами существ, которые немедля исчезали, будто не они только что составляли слепое целое. Вскоре лишь груды обугленных трупов напоминали о скоротечном сражении. Будто ничего не произошло, все так же мирно светило солнце, и деревья поодаль, чья листва не пострадала, тихо струились в потоках нагретого воздуха.
Люди не могли опомниться, ибо нигде, ни в одной звездной системе они не сталкивались с такой чудовищной бессмыслицей.
- Тем не менее мне это кое-что напоминает, - расширенными глазами биолог смотрел на груды мертвых тел, рану, выжженную в светлой зелени чужого мира. - Аналогия, конечно, чисто внешняя…
- Ну?
- Атака фагоцитов. Нападение на все чужеродное…
- Нелепо, - сказал капитан.
- Нелепо, - согласился биолог. - Если вдуматься, тут даже и сходства нет. Никто не нападал на наши механизмы. Никто не обрушивался на наш корабль…
- Никто не нападает на вездеход, - добавил Свердлин, берясь за ручку дверцы. - Поэтому, возможно, все решит простой опыт.
- Куда?! Не сметь!
- Позвольте! Раз никто не нападал и не нападет на нас, пока мы в этой коробке, значит, всему виной мы.
- Мы?
- Наше белковое родство и одновременно несходство со всем, что нас здесь окружает. Это не атака фагоцитов. Организм принимает металл и пластмассу, все заведомо чуждое жизни, но схожие белки он отторгает.
- Реакция несовместимости? - вытаращил глаза капитан. - Биосфера не организм!
- Очень странная, а потому, может быть, верная мысль, - подумав, сказал биолог. - Биосфера, конечно, не организм, но система, способная реагировать как единое целое. Хотя… Нет, не получается! Где и когда биосфера вела себя подобным образом?
- Где и когда она прикидывалась доступной и позволяла нам обойтись без скафандра?
- Прикидывалась смирной, чтобы больней ударить? - Фекин издал смешок. Кто-то мечтал о новой Земле… Кто-то спешил быть оптимистом…
Свердлин ничего ему не ответил.
- Опыт разрешается? - спросил он.
- Да.
Он вышел из вездехода, из герметичной коробки, из походной тюрьмы и встал среди цветущих трав, голубого воздуха, тишины лесного мира. Один на один с кроткой, такой земной, такой близкой человеку природой, в глубине которой таился отпор, слепой и бешеный, призванный стереть человека, как злокозненного микроба. И натиск не заставил себя ждать.
- Вот и все, - подавленно сказал Свердлин, захлопнув дверь, за которой кишели тысячи существ. - И тут нужны скафандры. Нужна изоляция, чтобы нас не чуяли… Что же, двинулись.
Вездеход заскользил обратно, по прежним своим следам, все быстрей и быстрей, словно убегал от разочарования.
Шипел кондиционер, нагнетая осточертевший, рожденный химией воздух. За стеклом проносилось великолепие чужого дня.
Опять заточение, думал каждый. Тело в оболочке скафандра, точно вокруг ледяной космос. Всюду жизнь отторгает нас. Беззащитны одни только мертвые миры… А у входа в любой космический сад по разным причинам незримо горит одна и та же надпись: «Посторонним вход воспрещен».
- Между прочим, человеку свойственно приручать, - внезапно сказал Свердлин, когда впереди обозначилась громада звездолета. - Не так уж существенно, конь это, атом или биосфера. Прогресс - это обуздание! Что там говорилось об оптимизме и пессимизме? Лучшим другом в конце концов становится не та собака, которая ластится перед любым прохожим… И это прекрасно.
ДАВАТЬ И БРАТЬ
Андрею Исидоровичу Думкину, начиная с темного, в полоску костюма и кончая округлой манерой жестов, была свойственна та доля старомодности, которая так хорошо сочетается с рядами тронутых временем книг и профессией библиографа. Обычная при такой профессии добросовестность и стала причиной случившегося с ним странного события.
Он допоздна засиделся в своем закутке, который так же трудно было сыскать в лабиринте хранилища, как единичную клеточку памяти в недрах кибернетической машины. Было тихо и безлюдно, когда он оторвался от работы, лишь в отдаленном углу сверчком потрескивала газосветная трубка. Перед тем как погасить настольную лампу, Андрей Исидорович устало потянулся, снял нарукавники и подумал, что сегодня он, пожалуй, предпочтет поездку по радиальной линии метро.
Как правило, он избирал кольцевую линию, поездка по которой не требовала пересадки. Но ведь иногда, даже в ущерб удобству, хочется разнообразия.
Уже погасив лампу, Андрей Исидорович проверил, в кармане ли авторучка, поколебался - взять ли с собой записи, посмотрел на телефон, словно тот мог напомнить о каком-нибудь забытом разговоре, - все лишь затем, чтобы подготовиться к переходу в состояние уже не библиографа, а пассажира и мечтающего об отдыхе домоседа.
Не сейчас, а позднее Андрею Исидоровичу явилась мысль, что люди вроде него совершают в жизни путь, подобный замкнутому движению планет. Существуют тысячи других миров, он может наблюдать их издали, узнавать о них по книгам, но они ему недоступны. Исключительный случай мог бы его ввести, допустим, в артистический мир, но он чувствовал бы себя в нем неуютно, ибо там действуют свои страсти и заботы, свои притяжения и отталкивания, и даже суточный ритм там иной, чем тот, к которому он привык. А ведь артистический мир не более своеобразен, чем мир овцевода или дипломата.
Но в тот вечер он ни о чем таком не думал. Он уже повернулся к выходу, когда заметил скользящий по полкам фиолетовый луч.
Верней, не луч, а фиолетовый кружок сантиметра три в диаметре, перед которым не вспыхивала в воздухе ни одна пылинка.
В первые несколько секунд Андрей Исидорович вообще ничего не ощутил: ни замешательства, ни страха, ни даже любопытства. Просто стоял и смотрел, как движется фиолетовый кружочек. Тот медленно скользил по корешкам, нигде не расплываясь в овал, не расширяясь и не суживаясь, как если бы его источник вела чья-то механически точная рука. Едва Андрей Исидорович представил эту руку у себя за спиной, как спокойствию его пришел конец. Он отпрянул, едва не опрокинув стул. Сзади, однако, никого не было, и никакого видимого источника света тоже. Андрей Исидорович был один в пустом книгохранилище, в своем закутке, по которому разгуливал призрачный луч.
Другой человек, по логике вещей, мог бы тут издать вопль или решить, что у него началась галлюцинация. Андрей Исидорович, однако, был слишком сдержан и скромен, чтобы устроить переполох, а о галлюцинации он вовсе не подумал, может быть, потому, что луч вел себя, с одной стороны, чересчур обыкновенно, а с другой - обладал дикими даже для галлюцинации свойствами. Андрей Исидорович сделал то, что было присуще его характеру.
Стряхнув оцепенение, с бьющимся сердцем, но без паники он обошел стеллаж и убедился, что луч не просвечивает полки насквозь. По обе стороны от себя Андрей Исидорович видел уходящие вдаль ряды книг, редко из-за позднего времени горящие лампы, тот порядок, который был привычен и незыблем, как навечно заведенные часы. Немного успокоенный, Андрей Исидорович вернулся в закуток.
Луч шарил уже по верхним полкам. Ни тогда, ни позже Андрей Исидорович не мог себе объяснить, что же побудило его взять стремянку. Мышление в подобных случаях работает сбивчиво; человека, если он не остолбенел от страха, тянет довериться самым простым ощущениям. Страха Андрей Исидорович не испытывал, но в голове была оглушающая пустота. Он влез по стремянке и пальцем тронул фиолетовый круг.
Ни тепла, ни холода палец не ощутил. Круг, в свою очередь, не дрогнул, не исчез; он как ни в чем не бывало продолжал свой путь. И, что самое поразительное, палец не дал тени.
Недоумевая, Андрей Исидорович изменил позу, потянулся, чтобы глянуть по оси луча.
Точно раскаленное железо вонзилось в мозг! Вспышка, потом падение, мрак и боль.
Так он лежал неизвестно сколько времени, с острой болью в мозгу, бессильный, как раздавленный червяк. Потом из бесконечности отчаяния и мрака донесся тихий голос.
- Я лучше смогу вам помочь, если вы отнимете ладонь.
Чьи-то пальцы отвели его руку, Андрей Исидорович смутно различил наклоненные над ним лицо и тускло мерцающий на переносице диск.
И боль исчезла.
- Теперь шире откройте глаза…
Диск приблизился, укрупняясь; пахнуло холодом, и пространство вдруг обрело глубину и резкость.
- Я вижу! - воскликнул Андрей Исидорович.
Он смотрел, видел, и счастье переполняло его. Но длилось это недолго. Внезапно вспыхнула мысль: здесь сейчас не может быть незнакомого человека!
Андрей Исидорович вскочил, ошеломленно глядя на своего спасителя.
Диск куда-то исчез; вблизи находилось самое обыкновенное лицо самого обыкновенного человека. Слишком обыкновенное для поступков, которые тот совершил!
Сознание работало поразительно четко. Взгляд Андрея Исидоровича невольно метнулся к полкам.
- Искать не стоит, - сказал незнакомец. - Думаю, с нашей стороны будет уместно извиниться за все и дать объяснения, на которые вы приобрели право.
Самое удивительное, что после всего этого Андрей Исидорович, встав, машинальным жестом указал пришельцу на стул и сам сел напротив. Его состояние походило на лихорадку: то он был спокоен, то возбужден почти до обморока.
- Мы виноваты и просим нас простить, - человеческий облик и заурядный костюм пришельца усиливали странность его слов. - То, что мы делали здесь, не должно быть зримо, но мелкие технические неполадки, к сожалению, случаются и у нас.
- Что, что вы здесь делали? - вырвалось у Андрея Исидоровича.
- Мы читали ваши книги.
- Ясно, - голос Андрея Исидоровича упал. - Изучение примитивной цивилизации, космическая этнография, так сказать…
Его обрадовало, что в словах, которые он выдавил, был сарказм.
- Не только и даже не столько, - последовал быстрый ответ. - Вы, сами того не подозревая, участвуете в коллективной работе, которую разум ведет во вселенной.
- Не понимаю, - подавленно сказал Андрей Исидорович. - Не понимаю…
- Сейчас поймете. Город, где вы живете, многолюден. Но могут ли его жители вести все необходимые им исследования? Развивать культуру с той же быстротой, что и весь мир? Нет. Обрубите интеллектуальные связи города - и следствием будет застой. Причина проста. Возможности разума, любого, сколь угодно могучего, - индивидуального или коллективного, - конечны. А мир, который он пытается познать и переустроить, бесконечен. Вот противоречие, с которым неизбежно сталкивается любая цивилизация, как только ее интеллектуальные ресурсы исчерпаны. Выход здесь подобен тому, которому вы следуете в масштабах Земли: распределение усилий, обмен информацией, кооперация, только уже космическая. С недавних пор вы тоже к ней причастны, ибо добываете знания, которых мы не имеем.
- Этого не может быть! - почти в отчаянии воскликнул Андрей Исидорович. - Мы же по сравнению с вами… с вашей…
- Глубокое заблуждение! Кем создан у вас, на Земле, бумеранг? От кого вы получили байдарку, полярную одежду, самый быстрый способ плавания? От тех, кого не слишком умные люди считают дикарями. А разве ваше искусство оставило далеко позади искусство технически неразвитой Древней Греции? Так что не следует считать какую-то цивилизацию примитивной.
- Подождите… - Андрей Исидорович ощутил вдохновение. - Вы сказали: обмен. Но обмен предполагает… Да, да, понимаю! Открытый контакт невозможен, пока человечество… Значит, вы и даете нам… незаметно?
Пришелец улыбнулся тепло и сочувственно. «Подумайте», - словно говорил его взгляд. И Андрею Исидоровичу показалось, что он уловил истину. Ответа не будет. «Нет» опозорило бы все космическое содружество, «да» утвердило бы над людьми тайную опеку. А открытый контакт бесполезен и даже вреден, пока на Земле есть люди, готовые подмять под себя любой дар пришельцев.
- Нетрудно, догадаться, о чем вы думаете, - прошелестел голос. Андрей Исидорович даже вздрогнул. - На деле все гораздо, гораздо сложней. Ответ, которого вы ждете, лежит не в плоскости «да» и «нет», поверьте. Как бы пояснить? Ваши ученые двести лет задавали природе вопрос: свет - волна или частица? Верным оказалось третье: волночастица. В нашем случае, смею вас заверить, вопрос находится еще дальше от истины. Вот все, что я могу сказать. А теперь войдите в наше положение и не обессудьте. Моральный долг обязывал нас устранить несчастье, возникшее по нашей вине, и дать разъяснения, отсутствие которых могло бы повредить вашей психике. Это сделано. Вы не в обиде на нас за случившееся?
- Что вы! Что вы! Я…
- Тогда разрешите попрощаться и пожелать вам, как принято на Земле, всего хорошего.
- Постойте! - ринулся не ожидавший такого поворота Андрей Исидорович.
Но на стуле уже никого не было - пришелец исчез. Андрея Исидоровича обступали до мелочей знакомые предметы, тишина хранилища, стены книг, все привычное, давнее, неизменное. А чувствовал он себя как после грозного вала, который его, задыхающегося, волочил и швырял, а потом мягко опустил на безмятежный берег.
Этот вал, однако, все еще жил в нем! Лихорадочно соображая, что же теперь делать, Андрей Исидорович подобрал с пола портфель, зачем-то пошарил по карманам, и тут его остановила недоуменная мысль. Пришельцы ведь не хотели, чтобы человечество узнало о них, и все же открылись человеку!
Андрей Исидорович задумался, посмотрел на пустой стул и не без горечи усмехнулся. Они знали, что делали. Открыться ему побудили их обстоятельства, но открыться человеку еще не значит открыться человечеству. Потому что есть вещи, которым никто не поверит.
Возможно, их луч, уже незримый, снова шарит по книгохранилищу, впитывая достижения человеческой мысли и что-то оставляя взамен. Или не оставляя? Хорошо, если бы так. Ибо, давая, человечество ничего не теряет. Наоборот!
- Вы слышите? - тихо спросил Андрей Исидорович. - Я разрешаю вам брать. Берите как можно больше… Все берите! Когда-нибудь потом, когда мы встретимся, ваши знания будут уже не благодеянием старшего, а… Ну да вы сами понимаете…
Сказав это, Андрей Исидорович тут же устыдился своего пафоса.
Кто он такой, чтобы решать? Молекула человеческого моря! Сейчас он оденется, спустится, сядет в метро, поедет, мельком встречаясь взглядом с сотнями людей, о которых он ничего не знает и которые ничего не знают о нем. Дома жена, как обычно, спросит:
- Ну что у тебя новенького?
И он, как обычно, ответит:
- Да так, ничего особенного.
ВЫРУЧАЙТЕ, МИХ. МИХ.!
Управляющему Холмским лесом:
Дорогой товарищ!
Вчера, 17 июля, я с женой и дочкой посетил Ваш лес с целью отдыха. Товарищи из Управления погоды не подвели, так что весь день стояла умеренно-теплая, доходящая до жары погода. Кучевые облака приятно украшали нежно-голубое небо.
Однако отдых был испорчен небрежностями Ваших служб. Во-первых, почему в Холмском лесу так много валежника, кустарника и даже болот? В Прудском лесу, где я обычно отдыхаю, ничего подобного нет. Во-вторых, вода в озерах оказалась неподогретой, что лишило нас купания. Наконец, в-третьих, и это уже форменное безобразие, нас искусали осы! В этом факте я усматриваю явное нарушение Закона о регулировке природы, гласящего, что животные, а также насекомые, способные принести человеку вред, подлежат нейтрализации. Осы же своими укусами нанесли нам серьезный ущерб, и сколько вреда они еще причинят другим отдыхающим!
Не заметил также деятельности киберов по благоустройству Вашего леса. То есть нашего леса, поскольку я, как и миллионы других граждан, тоже его хозяин. Очень печально все это, товарищ управляющий! Напоминаю Вам об ответственности и ожидаю устранения указанных недостатков.
С уважением Т.Двоекомышченко
Уважаемый товарищ Двоекомышченко!
Искренне огорчен неудачей Вашего отдыха. Очевидно, всему виной неточная информация, полученная Вами о Холмском лесе. Этот лес в отличие, скажем, от Прудского не является парковым. Именно поэтому там не предусмотрено очищение территории от кустарника и болот, равно как и подогрев воды в озерах. Что же касается ос, то, полностью сочувствуя Вам и Вашей семье, должен заметить, что осы служат фактором стабильности биоценоза и как таковые не подпадают под действие закона.
С уважением А.Виноградов, главный лесничий
Главному лесничему Холмского леса тов. А.Виноградову:
Со всей откровенностью должен выразить Вам свое крайнее недоумение и возмущение содержанием Вашего ответа. Меня искусали, а Вы ссылаетесь на биоценоз! Я ободрал все руки и ноги, и моя супруга тоже, а Вы намекаете, что это-де моя же вина, Двоекомышченко, мол, не разобрался, где лес, а где парк! Я Вам скажу так, товарищ Виноградов. Для чего мы трудимся? Для счастья человека. А какое может быть счастье, если управляемый Вами лес доставил мне столько неприятностей, испортив моей семье целый день? Следовательно, Ваш труд не способствует счастью человека. Вот главное, и нечего защищаться от критики. Ваш ответ, простите, есть нездоровая отрыжка бюрократизма, есть пренебрежение запросами простого человека, а также защита чести мундира. Лес, видите ли, не парк! Так сделайте парк, что у нас, киберов мало?
Остаюсь в надежде получить ответ по существу. Напоминаю, что природа существует для человека, а не наоборот.
С уважением Т.Двоекомышченко
Уважаемый товарищ Двоекомышченко!
Но поймите же, что режим Холмского леса рассчитан на основе науки и что нельзя все леса превращать в парки! Не говоря уж о том, что полный перевод лесов в парковое состояние отрицательно скажется на природе планеты, такой акт вызовет протест миллионов людей, желающих отдыхать среди настоящей, лишь слегка облагороженной природы. Еще раз повторяю: я весьма огорчен Вашими злоключениями. Но если Вам не нравится лес, ничто Вам не мешает отдыхать в лесопарках. И все Ваши неудовольствия тут же устранятся.
С уважением А.Виноградов, главный лесничий
В региональное Управление лесного хозяйства:
Уважаемый товарищ директор!
Препровождаю Вам мою переписку с тов. Виноградовым. Из нее со всей очевидностью следует, что отдельные Ваши сотрудники не желают считаться с запросами простого человека, не желают загружать себя работой по благоустройству нами им вверенной территории, не желают прислушиваться к мнению и убегают от критики путем ссылок на науку. Кому же неясно, что Холмский лес красивей прочих, богаче ягодами, грибами и, следовательно, должен полностью соответствовать интересам отдыха, а не оставаться, уже не знаю в чьих интересах, объектом, независимым от человека и противоречащим его устремлениям. Наконец, мне в лесу, находящемся в ведении Вашего управления, были причинены серьезные неприятности со стороны ос. Я не о себе пекусь, я озабочен судьбой тысяч других граждан, которые по вине тов. Виноградова испытают те же укусы и царапины, а может, и более серьезные потрясения.
Требую привлечь возомнившего о себе чиновника тов. Виноградова к строжайшей ответственности и принять решительные меры к исправлению положения, возникшего в Холмском лесу. В противном случае я этого дела так не оставлю.
С уважением Т.Двоекомышченко
Записка А.Виноградову:
Саша!
На тебя жалуется Двоекомышченко. Ну и фигура, прямо из археологических раскопок! Ответь ему поделикатней, чтобы он унялся.
С приветом С.Ребров, региональный директор
Записка С.Реброву:
Значит ли это, что Холмский лес надо переоборудовать в парк и уничтожить ос?
С приветом А.Виноградов
Записка А.Виноградову:
С ума сошел? Ты не хуже меня знаешь, к чему приведет нарушение и без того напряженного экологического равновесия региона. Ответь, и все. Будь дипломатом.
Твой С.Ребров, директор региона
Записка С.Реброву:
Но в таком случае Двоекомышченко при новом своем посещении леса обнаружит, что продиктованный тобой и подписанный мной ответ является обманом. Улавливаешь последствия?
Твой А.Виноградов, главный лесничий
Записка Михаилу Михайловичу:
Дорогой Мих. Мих.!
Хоть Вы и на пенсии, судьбы управления леса, я знаю. Вам дороги и близки. Направляю Вам всю переписку с неким Двоекомышченко. Вы еще застали канцелярские времена, может быть, Ваш богатый опыт подскажет Вам оптимальное решение этой дурацкой истории.
Неизменно Ваш С.Ребров
Записка С.Реброву:
Дорогие мальчики!
Спасибо, что вспомнили старика. Ах, какие же вы неумехи! Разве так ведут переписку с двоекомышченками? Ну ничего, дело поправимое. Прилагаю текст ответа.
Всегда ваш М.М.
Глубокоуважаемый товарищ Двоекомышченко!
Позвольте Вас поблагодарить за критику. Хозяйство Холмского леса ведется в соответствии с ГОСТом N7738/11, отмена которого согласно положению 0095581 допустима при условии ходатайства, определенного параграфом Уставного положения по лесостандартам за номером УТ 76-бис, при согласовании данного акта с Институтом леса и другими заинтересованными организациями. С нашей стороны в этом вопросе будут предприняты необходимые шаги. Тов. Виноградову даны в этой связи надлежащие разъяснения, и его действия получили принципиальную оценку с соответствующими оргвыводами. Еще раз благодарим Вас.
С уважением С.Ребров, региональный директор
Записка Михаилу Михайловичу:
Вы гений! Двоекомышченко поблагодарил нас за обстоятельный (!) и деловой (!!) ответ. Теперь, кажется, можно заняться своими прямыми обязанностями.
Спасибо!
С.Ребров, региональный директор
Телефонный разговор между заведующим сектором лесных стандартов И.Арзумановым и региональным директором С.Ребровым:
- Сережа! Тут нас посетил какой-то Двоекомышченко, показывал твое письмо. Вы что, белены объелись в своем лесу?! Ответили бы ему вежливо, что он дурак и демагог, и дело с концом.
- Вот и ответь.
- Не понимаю, чего ты боишься…
- Ничего я не боюсь, а к нам у него претензий больше нет. Он к тебе пришел, ты и отвечай.
- Но вы же спровоцировали этого питекантропа!
- Вопрос, поднятый им, находится вне нашей компетенции.
- Тьфу! Ты говоришь как Мих. Мих. Ладно, я тебе покажу…
Уважаемый тов. Двоекомышченко!
Стыдно в наши дни заниматься демагогией. Рассудите разумно…
И.Арзуманов, заведующий сектором лесных стандартов
Телефонный разговор между И.Арзумановым и С.Ребровым:
- Сережа! Что делать? Мне некогда работать, все объясняю, почему я ответил питекантропу, что он питекантроп…
- Сам виноват.
- Но это же правда!
- А разве с тобой кто спорит?
- Нет, все согласны. Но, с другой стороны, все твердят, что нельзя вот так человеку в лоб… Может, и верно, что нельзя. Но такая гуманность выходит боком!
- Вижу.
- Какое-то идиотское, безвыходное положение!
- Почему безвыходное? Обратись к Мих. Миху.
- К этому бюрократу?
- А клин, знаешь ли, вышибают клином.
- Ты уверен?
- Точно, помогает, сам испробовал. Я теперь с ужасом думаю, что будет, если Мих. Мих. умрет раньше последнего Двоекомышченко.
- Хм! Мне кажется…
- Да?
- Еще два-три таких случая, и у Мих. Миха появится достойный преемник.
- Кто?
- Ты!
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПУТИ
Движение урагана мангры уловили, как всегда, вовремя, хотя, казалось, вокруг ничто не указывало на его близость.
Если бы мангры могли облечь свои ощущения в слова, то, верно, сказали бы, что со стороны природы бессовестно гнать их прочь от накрытого стола, когда они еще не насытились. Но мысль и слово отсутствовали. Просто ногокорни стали поспешно вытягиваться из земли, а черно-фиолетовые покровы поднялись и выгнулись по ветру, как натянутые паруса. Безжалостная эволюция жестко закрепила в манграх суровое знание кочевника: кто медлит, тот рискует погибнуть под ураганом, как бы стойко он ни цеплялся за почву.
Не прошло и четверти часа по земному исчислению, как по равнине, все убыстряя ход, двинулась слитная масса темных парусов, подгоняемая ветром и усилием сотен тысяч щупальцеобразных ног. Безошибочный инстинкт наилучшим путем вел мангров к месту, которого в ближайшее время не коснется буря, месту, где можно будет спокойно попастись.
В тот же самый момент, находясь в сотнях километров от мангров и обозревая все с высоты космоса, ту же самую задачу решал усиленный всей мощью машин человеческий разум.
Электронные и лазерные сигналы, взаимодействуя со скоростью, немыслимой не только для мангров, но и для самого человека, обшаривали полярную область, рассчитывали кривую движения многочисленных бурь, хаос завихрений, удары бешеных воздушных потоков, всю ту головоломку атмосферных явлений, которую едва осиливала земная математика, - с единственной целью найти клочок поверхности, где можно было высадить десант, не опасаясь немедленного буйства инопланетных стихий.
Поскольку истина объективна, нет ничего удивительного, что разные, ни в чем не схожие методы дали один и тот же результат: десантный бот землян устремился к тому самому месту, куда стремились и мангры.
Движение прекратилось, едва мангры достигли котловины, где они могли безопасно пастись. «Паруса» поникли, их плоскости легли горизонтально, вбирая скупой свет далекого светила, а щупальца врылись в землю, чтобы дать разветвленному на гектары телу питательной соли.
Теперь уже ничто не говорило, что мангры - кочевники; казалось, они всегда росли и будут расти на этом пологом склоне холма. С ними вместе успокоилась и принялась за дело вся та живность, которая неизменно сопровождала мангров и не могла без них обойтись, как, впрочем, и они без нее.
Грохот с неба, нарастающий звук, сильная ветровая волна застигли мангров врасплох и заставили крепче вцепиться в почву. Из-за облаков скользнуло чечевицеобразное тело, оперлось на огненный столб и затем медленно осело.
Органы мангров отметили почти всю картину прибытия человека на их планету, кроме самого последнего мига: бот опустился за вершиной холма.
Ветер стих, и они успокоились. То, что случилось, не было внезапным смерчем, который мог причинить им вред, а если и было, то смерч ушел куда-то в сторону. Небогатый набор ответов на импульсы внешней среды сработал как надо, и мангры продолжали спокойно пастись, блаженствуя в холодных лучах своего солнца, наслаждаясь пищей и безопасностью. Все, что было сопряжено с появлением человека, находилось далеко за гранью их смутного сознания, и хотя их жизненный путь уже пересекся с путем человека, для них все оставалось таким, каким было всегда.
И человек тоже еще не подозревал, что их пути пересеклись, хотя он-то знал, что мангры существуют, и питал к ним интерес. Как ни странно, обе стороны находились почти в равном положении: человек не существовал для мангров, но и мангры существовали для человека лишь как загадка, ибо что можно определить из космоса? Только то, что какие-то пятна, очевидно растительности, то ли меняют свой цвет (традиционная, а потому наиболее правдоподобная гипотеза), то ли закапываются при ненастье, то ли перемещаются непонятным образом. Большего в чужой и бурной атмосфере не могли сказать даже автоматы разведки, которых сдувало, как осенние листья.
Да какое, в сущности, мангры имели значение? Они были мелким камешком, очередной пылинкой на великом звездном пути человека. Пылинкой, которую следовало рассмотреть мимоходом, не более.
Когда посадка была закончена, дно десантного бота раздвинулось, выпустив якорные лапы, которые тотчас ввинтились в почву на случай непредвиденного урагана. Что такое здешний ураган, люди, не испытав его, знали не хуже мангров. А вот полагаться на свои расчеты - когда и куда двинется ураган - они не могли с той же уверенностью, с какой мангры полагались на свой инстинкт.
Час спустя после того, как пыль улеглась, из открывшегося люка опустилась аппарель, и по ней съехал вездеход. Люди ступили еще на одну планету.
Вездеход перевалил гребень холма, и люди впервые близко увидели мангров. Точнее, они увидели не мангров, а то, что им было знакомо и привычно, - кустарниковую рощу. Не совсем, разумеется, обычную, но все же рощу, то есть низкий полог густых и голых ветвей, многие из которых заканчивались веером продолговатых и темных листьев. Их плоскость располагалась строго перпендикулярно лучам солнца. Двух мнений о том, что это такое, быть не могло, и водитель направил вездеход через кустарник.
Гусеницы подмяли тугой «матрац» ветвей, даже не заметив препятствия. В пыль были размолоты первые листья; вездеход шел, оставляя за собой месиво.
- Очередная маршрутная точка - в середине рощи, - не отрываясь от визиосъемки, сказал биолог. - Надо взять образцы и поближе изучить этот кустарник.
Однако вездеход остановился несколько раньше, чем было намечено. И не по воле людей.
Край плоти мангров ощутил боль, которая распространялась по мере того, как вездеход взрезал живое тело. Но мангры не спешили - их жизнь была непрерывной борьбой за существование, они знали, что и как надо делать. Чудовище они заметили, когда оно только приближалось. Отождествление тоже было делом нескольких мгновений. Ничего нового мангры для себя не обнаружили - просто очередное нападение их исконного врага - урбана. Бесчисленные поколения урбанов питались манграми, вступая с ними в жестокий бой, и бесчисленные поколения мангров либо побеждали, либо гибли в этих схватках. Гибли менее приспособленные, а сильные и хитрые выживали и уже сами губили менее удачливых урбанов. Так они взаимно выпалывали слабейших: и эта нескончаемая битва смертельных врагов была залогом прогресса как тех, так и других, поскольку совершенствование урбанов влекло за собой совершенствование мангров.
Низкий и массивный вездеход, конечно, лишь отчасти походил на урбана, но он походил на него в главном - он нападал. Поэтому движение гусениц включило весь арсенал средств борьбы с такими вот топчущими все и вся гигантами, подобно тому как вид мангров включил в сознании человека мысль, что он имеет дело с кустарником.
И если бы мангры были способны рассуждать, они с удовлетворением отметили бы, что враг им попался нахальный, большой, но глупый, и что, следовательно, победа над этим урбаном останется за ними.
Но рассуждать они не могли, они действовали.
Вездеход плавно качнуло. Так плавно и мягко, что иная неровность дала бы куда более ощутимый толчок. Никто из людей, понятно, ничего не заметил.
Расчет, который бессознательно провели мангры, сделал бы честь земной математической машине. В нужный момент к нужной точке, как по команде, стянулось множество ногокорней. Едва вездеход очутился над этим участком, незаметно скопившиеся под листвой ногокорни одним касанием чуть-чуть уперлись в его днище. Неощутимый толчок никак не мог насторожить предполагаемого урбана, а манграм он давал бесценную информацию о весе противника.
Вездеход снова и уже резко качнуло. Одновременно его скорость упала так внезапно, что люди клюнули носом. Машинально водитель затормозил. Вездеход тут же выровнялся. Поскольку впереди не было никаких препятствий и быстрый взгляд на шкалу донного локатора - никаких трещин, водитель, смутно удивившись, тут же дал двигателю мощность.
Но вездеход и не подумал рвануться. Было видно, как ползет лента гусеницы, слышно, как шумит мотор, но и только. Столь же машинально, как он действовал за секунду до этого, водитель дал полную мощность. Вездеход содрогнулся, стремительно замелькали гусеничные траки, двигатель, перед силой которого, казалось, ничто не могло устоять, взвыл, словно от ярости. Но машина не сдвинулась и на миллиметр.
Она и не могла сдвинуться, потому что мангры, упершись в днище, приподняли ее, и гусеницы теперь молотили воздух.
Реакция врага, обладай мангры способностью удивляться, изумила бы их своей замедленностью. Все складывалось на редкость удачно: нерасторопный противник был оторван от почвы, лишен возможности двигаться, и его гибель была теперь лишь вопросом времени.
Мангры испытывали удовлетворение - это неосознанное чувство им было знакомо.
- Алло, бот, мы подверглись нападению, смешно сказать, кустарника!
- Точнее?
- Гусеницы вращаются вхолостую, очевидно, эти «кусты» лишили их опоры. Их гибкие ветви, точнее - щупальца, оплели кузов так, что мы не можем открыть дверцы и пустить в ход оружие.
- Опасность?
- Прямой опасности нет, «кусты» больше ничего не предпринимают, но положение нелепое: мы пленники, и непонятно даже чего. Мы пока не видим выхода.
- Понятно. Минут через десять мы атакуем вашу «растительность».
- Биолог возражает: второго вездехода нет, а атаковать без него рискованно, так как неясен характер противника.
- Позитивная программа?
- Надо взять образцы этого «кустарника» и точно установить, что же это такое.
- Мы это тоже сообразили. Но можете вы поручиться, что с вами тем временем ничего не произойдет?
- Нет, конечно, хотя, повторяю, «кустарник» прекратил атаку. Очевидно, не знает, что с нами делать.
- Тогда наш план остается в силе. Ждите.
Люди ошибались, полагая, что мангры не знают, как поступить с пленным чудовищем. Они также ошибались, полагая, что мангры ничего не предпринимают. Они действовали, как привыкли действовать, и в тот самый момент, когда шел разговор, они пытались разорвать вездеход, как разрывали попавших в их объятия урбанов.
Конечно, у них ничего не получалось, да и вообще все было как-то не так: враг не рвался из пут, а ветверуки, которые должны были стиснуть опасные стригал и урбана, вместо этого стискивали пустоту.
Последнее обстоятельство повергло в недоумение не только мангров, но и людей, которые непонимающе следили, как слева и справа от кузова, обнимая пустоту, качались пучки щупалец. Что бы это значило? Все прочие поступки мангров, едва прошло ошеломление первых минут, были поняты людьми, хотя и не до конца. Этот же поступок не имел очевидного объяснения и заставлял предполагать худшее - некий дальновидный и пагубный умысел.
Оставив на борту дежурного, трое людей быстро достигли вершины холма. Они были вооружены плазменными винтовками - оружием неодолимой силы. Но, как им сразу стало ясно, даже с его помощью здесь нельзя было рассчитывать на быстрый успех. Одно дело какие-нибудь бронированные чудовища, которых плазменный выстрел мог пронзить насквозь, и совсем другое - обширные заросли «кустарника», в которых требовалось прожечь ход к побежденной машине.
Но, в конце концов, что мог противопоставить «кустарник» оружию, которое исправно прокладывало человеку путь во всех, без исключения, мирах?
Убедившись, что разорвать жертву не удается, мангры привычно изменили тактику: ветверуки стиснули вездеход, сжали его так, что никакому урбану не поздоровилось бы.
Спектролитовый колпак вездехода, однако, даже не скрипнул, и люди в нем не заметили этих новых могучих усилий мангров.
«Кустарник» следовало выжигать постепенно, метр за метром, и атакующие методично принялись за дело. В успехе они, понятно, не сомневались.
Конечно, мангры не осознали, что эти, издали жалящие их тело фигурки и пойманный гигант - звенья одной цепи. Перед ними оказался новый враг - вот и все. С таким поражающим издали противником они еще не имели дела, но страх перед неизвестным, вообще страх был им неведом. Пока урон был невелик, они могли и должны были бороться, иначе, как говорил миллионолетний опыт, выжить невозможно.
Люди с удовлетворением отметили, что первые же выстрелы заставили «кустарник» попятиться. Он отступал по всему фронту, но вместе с собой он волочил и вездеход.
Враг бежит, надо преследовать! Это было старинное правило охоты. Да и ничего другого людям не оставалось делать, так как расстояние ослабляло силу огня.
Преследование началось.
Манграм была неведома такая абстракция, как «ловушка». Но ставили они именно ловушку, поскольку этот прием был в арсенале их средств борьбы.
Они отступали не целиком. Отдельные, зарывшиеся в почву ногокорни оставались там, где были, и ждали, когда их верхние отростки почувствуют поступь атакующего противника.
Даже такая борьба, как расстрел кустарника, порождает азарт, и люди, мечущие молнии, понятно, не обращали внимания на обугленную их выстрелами почву.
Западня сработала мгновенно. Люди не успели понять, что случилось, как их ноги уже были схвачены рванувшимися из-под земли щупальцами. Еще мгновение - и их тела очутились в воздухе, а новые щупальца охватили руки.
Это было так страшно - рванувшиеся из-под земли щупальца, - что люди упустили драгоценное мгновение, когда оружие еще могло освободить их.
Конечно, мангры, как полагалось, сразу же стиснули своих новых пленников, но сил одиночных ногокорней, которые так блестяще справились со своей задачей, не хватило, чтобы одолеть жесткий скафандр.
Но это было лишь временной отсрочкой. Едва прекратились выстрелы, как уже вся масса мангров двинулась к трем беспомощно повисшим в воздухе пленникам.
Чем им это грозит, те поняли сразу. Их руки и оружие были схвачены самым причудливым образом, так что двое могли шевелить только кистью. Действовать в таком положении было не слишком удобно, но такую мишень, как «кустарник», мог поразить и неприцельный огонь. И на мангров снова обрушились молнии.
То был поступок отчаяния, люди ждали, что щупальца в ту же секунду схватят, прижмут, вырвут оружие. Но, к их изумлению и облегчению, ничего этого не произошло - щупальца не двинулись.
Опаленный огнем фронт мангров замер. Люди тут же прекратили стрелять в их новом отчаянном положении был дорог каждый заряд.
Мангры двинулись снова.
Выстрелы опять их остановили.
Так повторилось еще несколько раз.
Наконец людей словно отпустил кошмар, мангры уже не сделали попытки двинуться.
Мангры, хотя их организация была примитивной, умели учиться. Но здесь их способности были крайне ограниченными. Выстрелы быстро выработали в них условный рефлекс, но дальше дело пошло туго. Мангры, если можно так сказать, были поставлены в тупик, ибо бой все больше развертывался «не по правилам».
И тогда, когда программа инстинкта была исчерпана, включился механизм метода «проб и ошибок».
- Да сделайте же что-нибудь!
Крик напрасно звенел в наушниках. Люди в вездеходе предпочитали не глядеть друг на друга. Их положение было ужасно, потому что им, защищенным броней, но беспомощным, предстояло увидеть агонию друзей, которые хотели их выручить и стали пленниками сами.
А агония должна была наступить рано или поздно. Даже если все останется в прежнем положении и «кустарник» ничего не предпримет, кислород в скафандрах иссякнет раньше, чем мчащийся от соседней планеты звездолет придет на помощь.
Оставался, правда, еще один свободный человек - дежурный покинул свой пост, и теперь его одинокая фигура маячила на вершине холма. Но стрелять он не мог - нельзя было поразить щупальца, не поражая людей. Подойти с резаком? Но это было слишком рискованно.
Внезапно вездеход тряхнуло. Борт его резко накренился, люди едва успели ухватиться за поручни. Нет, мангры отнюдь не забыли о своем первом противнике! Они его переворачивали вверх гусеницами.
Зачем? Этого не знали не только люди, но и мангры.
С вездеходом, даже поставленным вверх ногами, мангры заведомо ничего не могли поделать, но с остальными они могли расправиться по меньшей мере тремя способами: убить резкими ударами о землю, скрутить их тела винтом, что вызвало бы разрыв скафандра, или, как в случае с вездеходом, перевернуть людей вниз головами.
Второй маневр хранился в наследственной памяти мангров, но, к счастью для людей, сама эта программа уже столь явственно дала осечку, что инстинкт самозатормозился. Точнее, одна инстинктивная программа «делай как всегда» была ослаблена другой программой: «пробуй, если не получается как всегда». А поскольку люди с молниями и вездеход представлялись разными врагами, то и пробы оказались разными: щупальца всего лишь выпустили сок, которым они разлагали минералы почвы. При этом они стали потряхивать людей теми же движениями, какими, выпустив сок, рыхлили почву.
Нельзя сказать, чтобы это было приятно, но потряхивание, по крайней мере, ничем не грозило. Что же касается белой жидкости, которая заструилась по скафандрам, то тут можно было подозревать самое худшее. Враг, столь быстро и умело нанесший людям поражение, казался им теперь воплощением коварного и расчетливого ума.
К счастью, не всем.
У людей в вездеходе при всех их переживаниях была возможность подумать.
Они следили за всем, что происходит, и привычка сопоставлять, анализировать понемногу брала верх. Процесс этот, в общем, был бессознательный, он был следствием огромного опыта человеческой культуры, который подсказывал, что все победы предрешал творческий подход, а там, где этого не было, не было и успеха.
В беду их ввел привычный стереотип мышления, но второй такой же ошибки им удалось избежать. Целенаправленные, точные, а потому внешне разумные действия «кустарника» лишь на миг поколебали изначальную убежденность биолога, что они имеют дело с примитивным, хотя и своеобразным, существом. Эта убежденность не была слепой, ибо основывалась на знании общих законов эволюции жизни, знании, что содержание определяет форму. То, что «кустарник» не парализовал оружие, не нашел верного способа убийства беспомощных людей, окончательно развеяло все сомнения. Их противник не был ни умен, ни глуп, как не была умна и глупа какая-нибудь земная росянка; он был отлично приспособлен к строго определенным условиям и ситуациям, только и всего.
Когда это было осознано, требовалось уже немногое, чтобы увидеть выход из безвыходного, казалось бы, положения.
В подсказке недостатка не было. На тех участках, где не кипел бой, листья мангров мирно продолжали вбирать свет. Там, едва стихли выстрелы, объявились похожие на мокрицу крупные существа, которые безбоязненно сновали меж ветвями и - более того - поедали листья!
Конечно, эта идиллия скользнула мимо оглушенного событиями разума, но в сознании она запечатлелась. Проистекающей отсюда мысли, чтобы развиться, надо было преодолеть несколько предвзятых установок. А именно: всесилие человека отнюдь не в его силе, не в мощностях покоренных им энергий, не в изощренности построенных им машин, даже не в знаниях, - оно в гибкости, широте и дальновидности его мышления! Еще: тактика, успешно сработавшая пусть тысячу раз, не обязательно оправдает себя в тысячу первый. И еще: человек убежден, что он всегда разумен; на деле же он разумен только тогда, когда способен подметить, оценить новое и, перестроив прежнюю картину мира, действовать в соответствии с реальностью, какой бы она ни была.
Незаметно для себя (необходимость - лучший учитель!) биолог проделал весь этот путь. И тогда он понял, что надо делать.
Понял в тот самый момент, когда в наушниках раздался отчаянный крик:
- Их жидкость разъедает скафандр!
Так наступила критическая минута, и биолог понял, что его открытие бесполезно: нет времени объяснять, события опередили работу разума.
И все же…
- Откуда вы заключили, что сок разъедает силикет?!
- Шелушится и опадает его верхний слой!
«Сок был выпущен полчаса назад, - мгновенно пронеслась мысль. - А слоев три…»
- Остановитесь! - закричал он. - У нас есть время и верный способ!
Поздно. Единственный оставшийся на свободе член экипажа уже подбегал к пленным. Сверкнуло лезвие резака…
Прежде чем резак успел отсечь второе щупальце, несколько других, соскользнув с пленников, схватили смельчака. Хотя он и был готов к нападению, бросок щупалец опередил его реакцию. Секунда - и он оказался в том же положении, что и остальные.
Ужас не помешал биологу отметить, что его план блестяще подтвердился в самом уязвимом пункте. Теперь он твердо верил в успех. Если, конечно, новый случайный поступок «кустарника» не сделает его невыполнимым.
Этого, однако, можно было не бояться. Мангры знали, что корневой сок действует медленно, и не спешили пробовать что-нибудь другое. Что же касается первого врага - вездехода, - то все его поведение убеждало, что он мертв. Значит, оставалось ждать, когда разложение размягчит ткани этого странно твердого урбана. Все было не так, как всегда, и все-таки шло как надо.
Донный люк откидывался внутрь. Первым вылез биолог. Люк за ним тотчас захлопнулся - как ни убедительна была теория, рисковать всем не было смысла.
Перевернув вездеход, мангры сами облегчили выполнение плана, ибо теперь у человека был широкий простор для маневра, который отсутствовал бы, если бы донный люк остался внизу.
Ползком, стараясь без нужды не касаться щупалец, человек соскользнул с брони вездехода и также ползком, извиваясь всем телом, двинулся сквозь сплетение страшных отростков.
Даже смотреть на это было невмоготу. Для биолога самым пугающим было касание этих бледно-маслянистых щупалец и сознание, что им ничего не стоит схватить и удушить. Вопреки всему, воображение невольно наделяло их рассудком, который способен преодолеть шаблон инстинкта. Ведь ясно, что крадется враг!
Манграм, однако, было совершенно ясно, что сквозь сплетение их ветверук ползет нечто безвредное или даже скорей полезное. Никакое другое существо просто не могло вот так сразу очутиться и двигаться в самой сердцевине их организма - оно было бы задержано, опознано и истреблено на границе тела. Мангры не разбирались, что это за существо копошится в них, они не обращали внимания на тех тварей, которые поедали больную листву, обирали вредных насекомых или питались отмершими тканями. Ведь даже человек без помощи науки не в состоянии заметить тех подчас вредных существ, которые гнездятся в его организме! Поэтому биолог находился в безопасности, словно прогуливался по парку.
И это вскоре стало ясно всем.
Биолога могли погубить лишь две ошибки, но он их учел. Он не двинулся напрямик, так как пришлось бы проползать через опаленные выстрелом участки, а это могло вызвать у мангров болевое ощущение, которое, вероятно, включило бы защитную реакцию. Он, хотя это намного удлиняло его путь, выбрался наружу там, где мангров ничто не беспокоило. И, выйдя наружу, он не встал и не побежал, прекрасно сознавая, что противник скорей всего уже научился отождествлять фигуру идущего человека с опасностью.
Экипаж вездехода в точности повторил его маневр. Нельзя сказать, что люди проделали это без содрогания, но успех был достигнут. И вовремя!
Скафандры пленников, как и предполагалось, еще противостояли разрушительному действию сока. Пока еще противостояли…
Схватка одиночки со щупальцами, которая закончилась столь плачевно, тем не менее наглядно подтвердила то, о чем биолог догадывался. Пучок щупалец исчерпал все свои резервы. Настолько, что нового пленника они уже не могли поднять над землей. Возможно, они еще могли скрутить одного-двух, но теперь в борьбу вступали уже четверо. Подхода других мангров можно было не опасаться: «рефлекс выстрелов» не должен был исчезнуть так быстро.
Все, что произошло потом, сильно напоминало ожившую скульптуру битвы Лаокоона со змеями.
Теперь оставалось лишь отбить вездеход. Но мысль об избиении уже беззащитного, когда стали ясны его слабые стороны, хотя по-прежнему загадочного «кустарника», претила людям. И они охотно пришли к выводу, что мангры сами оставят вездеход, едва почувствуют приближение бури.
Тут они ошиблись. Инстинкт повелевал манграм не упускать добычу, и, когда приблизилась буря, они поволокли вездеход.
С их стороны это был роковой просчет. Вездеход в отличие от урбана нельзя было разодрать на клочки; его махина затруднила движение мангров, и буря их настигла.
А что такое здешние бури и почему мангры стали кочующими полурастениями-полуживотными, людям сказали обломки вездехода, рассеянные на пространстве многих километров.
МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Что-то разбудило меня. Движение, звук, какая-то мысль, сновидения? Не знаю.
Я сел, откинув спальный мешок. Все было тихо в палатке. Рядом сонно дышал Геннадий Иванович. Снаружи полог как будто трогали осторожно коготки - там неуверенно накрапывал дождь.
Бесшумно одевшись, я выскользнул наружу. Ночь была теплая, безветренная, несмотря на ненастье, светлая. Со стороны озера порой доносился стеклянный шорох дождя. Редкие крапинки чуть покалывали кожу лица. Все было так спокойно, что мои чувства обострились, как у зверя, который гораздо сильнее нас поглощен внешним, ибо любой уголок природы, по которому безмятежно скользит наше внимание, для него средоточие надежд и опасностей.
В таком редком для человека состоянии я пробыл минуты две или три. Дождь тем временем смолк. Мир погрузился в безмолвие.
Тут все и случилось. Настолько внезапно, непонятно и быстро, что сознание отметило лишь обрывки события. С неба ахнул удар, как от самолета, рванувшего звуковой барьер. Воздух - это я отчетливо помню - на мгновение стал таким вязким, что застрял в горле. Пальцы будто уколол слабый разряд. Бесспорно, однако, что от момента звука до момента, когда за заливом блеснула вспышка (прошла, вероятно, секунда), не было ни молнии, ни свиста, ничего сопутствующего падению. Просто на темном гребне мыса вспыхнул огонь электросварки, но не пронзительно-голубой, как обычно, а белый и даже не очень яркий вначале.
Это уже потом ураганно метнулись тени, и все озарил свет, от которого побелели травинки.
Инстинкт сработал, и падал я с закрытыми глазами, но жуткий, прямо атомный свет проникал и сквозь веки. Облитый им, как жидким огнем, я что есть силы вжимался в мох, ожидая последнего удара.
Но свет потух, и даже дуновения не пронеслось. Я все ждал, обливаясь потом. Когда же я наконец открыл глаза, мир был, как прежде, тих, и странное дело! - я видел серую воду и силуэты деревьев так, словно и не жмурился.
Где-то далеко взвыла собака.
- Что там такое? - раздался из палатки недовольный голос Геннадия Ивановича.
Серая на рассвете тропа петляла среди валунов, кривых сосен и топких мочажин. Геннадий Иванович шел споро, как человек, привычный к любой дороге.
Когда я ночью сбивчиво рассказал ему все, он хмуро задумался, а потом предложил перво-наперво раздуть костер и согреть чай. Я было запротестовал, так как боялся повторения вспышки. Ответом был резонный вопрос:
- Глаза-то ведь целы?
Было ясно, что Геннадию Ивановичу, который проспал главное, мои опасения кажутся преувеличенными, а страхи надуманными, и, возможно, он даже презирает меня за панику. Его трудно было упрекнуть, ибо в моем рассказе одно не совмещалось с другим, а разница его и моего восприятия состояла в том, что, скажем, лед для него заведомо не мог быть горячим, а для меня мог, потому что я знал - такой лед существует.
Предложенное Геннадием Ивановичем занятие, впрочем, оказалось оправданным. Его неторопливые движения, когда он разжигал костер, подкладывал сучья, ставил чайник, доставал заварку, отвлекли меня, а пламя костра создало привычный круг света, тепла и безопасности. Мысли мои потекли ровней, и мне показалось, что я могу найти объяснение феномену. Вероятно, это была шаровая молния. Не совсем обычная, правда, но что мы знаем о шаровой молнии?
- Почему-то все думают, что чем безлюдней место, тем оно диковинней и опасней, - перебил мои размышления Геннадий Иванович.
Я уставился на него с недоумением. Он сидел насупясь, отсвет костра порой выхватывал напряженный блеск его глаз.
- Мы с прадедов живем на этой земле, - продолжал Геннадий Иванович после паузы. - Знаем наизусть, чего в ней может быть, а чего не может. А вот вы в городе не знаете.
- В каком смысле? - не понял я.
- Да автомобиль гот же… Зверь столько людей не передавил, сколько машина. А почему? Привычки нет, а до новинок охочи. Так и выходит, что глушь-то самое спокойное место. Молния, говорите? Может, и она, вам видней, откуда только? Никогда в такую ночь не было молний, а чего здесь не было, того и не бывает, другое ищите.
Я мог бы уже привыкнуть к внешне корявым диковинным мыслям Геннадия Ивановича, но привыкнуть было все-таки трудно. В своем кругу мы все как-то думаем на общий манер, потому что образование, воспитание, образ жизни у нас схожие. Геннадий Иванович же был лесничий, образования почти не имел, но своеобразие и пытливость его ума поражали. Он, если мерить интеллигентность не обычной и, кстати, ложной меркой профессиональных знаний, был человеком незаурядного интеллекта - случай для старой деревни не столь редкий, теперь же, когда всем открыта прямая дорога в вуз, куда менее частый. Однако недели, которую мы провели вместе, было недостаточно, чтобы его характер раскрылся вполне.
Нехотя, как-то вынужденно светало. Мы пили обжигающий чай и не возвращались к обсуждению недавнего события. Я угадывал, что у Геннадия Ивановича созрел план действий, и почему-то я был заранее с ним согласен. Меня даже не обескураживало, что не я, кандидат физико-математических наук, взял инициативу. Может быть, потому, что здесь, в лесу, инициатива по праву принадлежала Геннадию Ивановичу.
- Пошли, что ли, - сказал наконец Геннадий Иванович.
Он поправил отвороты сапог, проверил ружье, и мы двинулись.
Мыс встретил нас спокойствием утра. Потрескивал под ногами валежник, мягко пружинил мох, из-под влажных листочков отовсюду смотрела крупная сизая черника - все было как всегда, как обычно, как везде. Я было ощутил разочарование, которое оказалось сильней чувства облегчения, когда Геннадий Иванович остановился и сказал чуть дрогнувшим голосом:
- Так оно и есть…
Неподалеку от нас лежал Шар.
Он был размером с футбольный мяч, гладкий и чуть поблескивающий. Главная его особенность состояла в том, что воздух у самой его поверхности как бы подрагивал, искажая то, что просвечивало сквозь эту пульсирующую оболочку. Впрочем, и сам материал имел какой-то неизвестный оттенок, странно не соответствующий всем краскам Земли.
Горячие струйки пота потекли у меня по спине, когда я осознал, откуда он, что все это может значить и чем обернуться.
- Геннадий Иванович! - задыхаясь, вскричал я. - Вам лучше пока отвернуться, а то если он снова, как ночью…
- Чего уж, - последовал ответ. - Нужная предосторожность, так понимаю, и вам неизвестна, а оно, может, нас уже какой радиацией еще ночью обдало…
Он все обдумал и взвесил. И решение его, логически несовершенное, было оправданным. Никто не снарядит экспедицию для проверки не слишком вразумительного сообщения о каком-то световом феномене, так что отступать нам было нельзя, да и поздно.
- Чего уж петлять, - повторил Геннадий Иванович.
Право подойти первому он уступал человеку науки, что, конечно, было правильным. Превозмогая слабость, я двинулся к Шару. Геннадий Иванович снял с плеч двустволку. Дуло, поколебавшись, нацелилось на Шар, и этот жест выдал мне волнение Геннадия Ивановича, что, как ни странно, подействовало на меня успокаивающе.
Сквозь кусты, перед которыми лежал Шар, просвечивало озеро. С какой-то необыкновенной четкостью я видел примятый им стебель костяники с ярко-красными поникшими ягодами, и эта пустяковая деталь почему-то казалась мне самой неправдоподобной. Возможно, потому, что я уже не сомневался насчет природы Шара.
Над ним, словно он был раскаленным, все так же зыбко трепетал воздух.
Осталось четыре шага. Три. Два…
Шар исчез. Верней, не так! Как выхваченный ножницами лоскут, исчез кусок земного пространства, а взамен возникло чужое. Только пространство ли?
То, что я в нем увидел, поразило меня сильней, чем сама метаморфоза. Последние года три я занимался изучением формы атомного ядра, которая, как известно, до сих пор точно не определена. Ее-то я и увидел.
Конечно, слово «увидел» тут не годится. Нельзя разглядеть то, что не имеет телесного облика. Такое можно представить, вообразить, математически осмыслить, пояснить посредством аналогий, но, как ни называй это действие, оно сводится к восприятию формы атомного ядра. А тут оно было выложено мне, как на доске!
Едва мое завороженное и потрясенное сознание стало понимать смысл новых понятий, как в том же пространстве началась развертка вытекающих отсюда следствий. Следствий настолько значительных и сложных, что к действительности меня вернул лишь повторный зов Геннадия Ивановича.
Я обернулся: он спешил ко мне, сжимая ружье.
- Вы видели? - закричал я в возбуждении. - Видели?
- Напугали вы меня, - пробурчал Геннадий Иванович. - Кричу, а вы ровно пень…
- Становитесь рядом!
Краем глаза я следил за чужим пространством. Там, все замерло, но лишь до мгновения, когда Геннадий Иванович поравнялся со мной.
- Ух ты! - он даже присел. - Чудеса-то какие!
- Какие? - спросил я поспешно.
- Деревья лиловые - и как паруса!
Я не видел лиловых деревьев, я видел привычные мне символы математики.
Все было ясно: каждому свое. Этот Шар… он вступал в контакт с подсознанием. Даже на отдыхе я продолжал думать о работе, и Шар уловил скрытую мысль. Геннадий Иванович мечтал что-нибудь узнать о жизни в других мирах и тоже получил желаемое. Как в справочном автомате: нажал кнопку прочитал ответ. Даже проще… Вот это-то и странно.
- Что хмур, Сергеич, или подарку космическому не рад?
То были первые после долгого молчания слова. Мы сидели на стволе поваленного дерева, поодаль блестел Шар, в своем настроении я и сам не мог разобраться.
- Зачем спрашиваешь? - отозвался я нехотя, не удивляясь взаимному переходу на «ты».
- Для дела, само собой.
Геннадий Иванович был верен себе. Даже в такой ситуации он оставался человеком, который оглядывает попавший в его владения предмет, будь то аппарат чужой цивилизации или ржавый гвоздь, смекая, на что тот годится.
- Тебе хорошо, Геннадий Иванович, - вырвалось у меня. - Будешь сидеть в своем лесу, как сидел, а у нас в науке все пойдет кувырком. Да и в жизни.
- На другие звезды слетаем, ну и так далее, - отозвался Геннадий Иванович, закуривая. - Может, и радикулит мой теперь враз вылечат, бессмертие дадут. Ты о другом скажи. Чего боишься-то?
- Не знаю! Не знаю даже, боюсь ли. В этом Шаре есть ответы на такие вопросы, о которых мы и не задумывались. На десятилетия, может быть, века прекратятся исследования. Мы ничего не будем открывать, перестанем творить, а будем спрашивать и получать ответы.
- С охотой или без?
- А это неважно. Вот я какой-никакой исследователь. Это все отдай, лишь бы узнать чуточку нового. А здесь не чуточка.
- И без труда.
- Не совсем, положим…
- И слава.
- Это само собой. Раз нашли Шар, то слава нас не минует.
- К чертушке славу, на ней блины не спечешь! Ты мне вот что скажи: хорошо ли на все сразу получить ответ?
- Не знаю.
- Может, твои академики знают?
- Откуда? Кто может знать, если никогда ничего подобного не было?
- Должны знать, потому не за одних себя отвечает. Как могут не знать? Вот атомов раньше не было, полетов космических. Есть, стало быть, опыт.
- Опыт? Он все тот же: «Семь раз примерь, один раз отрежь», «Не спросись брода, не суйся в воду». Только спрашивать у кого?
- У себя, кого же еще?
- Ах, Геннадий Иванович! - мне стал надоедать этот бессмысленный разговор. - Вот озеро, вот берег. «Мы весь его видим, не так ли? А муравью, чтобы увидеть, надо все по сантиметру обшарить. Так и природа для нас, что для муравья этот лес. Тут ничего не поделаешь.
- Муравей, говоришь? - Геннадий Иванович затянулся. - Глянь-ка на Шар.
Я посмотрел и чуть не рассмеялся, хотя мне было вовсе не до смеха. По гладкой, все так же пульсирующей поверхности Шара - ну, знаете! карабкался муравей. И ничего ему не делалось. На мгновение он замер с таким видом, что у меня мелькнула дикая мысль: может быть, Шар и ему открывает что-то… Но он пополз дальше, возбужденно шевеля своими усиками-антеннами.
- А что, знания действительно сила? - отрывисто спросил Геннадий Иванович.
- Конечно, - я взглянул на него с недоумением. - Конечно.
- Значит, Шар этот огромная сила?
- Естественно…
- А насколько огромная? Большая, чем все наши атомы?
- Ну, так вопрос ставить нельзя, - я растерялся. - С одной стороны, заключенные в Шаре знания, конечно, обладают невиданным потенциалом, но с другой стороны…
А что с другой стороны?
- Значит, - наседал Геннадий Иванович, - вы собираетесь выпустить такую силищу, не зная толком, что из этого выйдет?
- Да, - ответил я раздраженно. - Если бы человек, который открыл огонь, только рассуждал, мы бы не пили сегодня чай.
- Верно. Так его нужда допекала.
- А нас не допекает? С болезнями покончить хотим? Хотим. Помочь другим избавиться от голода? Нищеты? К звездам летать? Жаждем!
- Значит, вы решили как быть?
Решил ли я? Ничего я не решил. Легче решать, когда мало что понимаешь и не задумываешься, когда твердо веришь, что мир прост, вот это заведомо хорошо, а это заведомо плохо. Но когда различаешь тысячи оттенков, когда понимаешь сложную диалектику событий и хочешь сделать лучше с учетом дальних последствий и знаешь, что абсолютно верного решения быть не может, поскольку никто не владеет абсолютной истиной, - вот тогда решать тяжело, а для многих и непосильно. Но как все это объяснить Геннадию Ивановичу, для которого, несмотря на острый ум, мир все же устроен проще, чем для меня?
Мое молчание он истолковал по-своему.
- Ладно, раз решил, то решил, о другом ответь. Вот ты говоришь, что не может ученый такое, как с Шаром, до нужной точки предусмотреть. И в будущем так?
- Мы неплохо учимся, - ответил я, скорей чтобы прекратить разговор. Поэтому есть надежда, что в будущем мы сможем гораздо лучше оценивать и решать такие грандиозные проблемы.
- А Шар вы будете использовать сейчас, - сказал Геннадий Иванович утвердительно.
Я почувствовал, что уже не в силах спорить. После стольких волнений хотелось лечь на траву, слушать дятла и ни о чем не думать. Чуть шелестела листва, грело утреннее солнце, хорошо было в лесу - тихо, привычно. Если забыть о Шаре, конечно.
- Свойства Шара будут использовать, - сказал я больше для себя, чем для Геннадия Ивановича. - Сие от нас не зависит.
- Как не зависит? - он встрепенулся.
- Очень просто. Вот мы сидим, рассуждаем, а все уже решено.
- Вами?
- Нет. Шар открыт, понимаете? А что открыто, то будет применяться. Неизбежно. Не было случая, чтобы открытие не применялось.
- Вот оно как…
- Мы сообщим о Шаре, иначе мы поступить не можем. Съедутся ученые, будут спорить, примерно как мы спорим, возможно, разработают какие-нибудь меры предосторожности, и все равно Шар пойдет в дело. Нет, Геннадий Иванович, потешили мы себя разговорами, пора и честь знать. Хорошо бы засветло к телефону или телеграфу выйти. Где тут ближе всего?
- Сиди, успеем…
Я не торопился - наконец-то можно прилечь! Геннадий Иванович снова задымил, щуря глаза то ли от огорчения, то ли от папиросы. Я ему сочувствовал. Такая у него была жизнь и такая работа, что он привык полагаться на себя, свои выводы и решения, всецело быть хозяином, а тут…
- Решено, стало быть, и подписано, - он встал. - Рыба все подряд глотает, пока крючок не сцапает, да уж поздно.
Он тяжело вздохнул.
- Куда вы, Геннадий Иванович?
Он как будто не слышал. Своим чуть валким, спорым и твердым шагом он двинулся к месту, где лежал Шар. Метрах в полутора, у черты, за которой возникал чужой мир, он зажмурился. Придвинулся, присел и крякнув, поднял Шар.
- Геннадий Иванович!.. - закричал я.
- Тяжелый, однако…
Он побежал к берегу, и, прежде чем я успел опомниться. Шар с гулким всплеском исчез под водой.
- Вот и все, - Геннадий Иванович отряхнул руки. - Здесь не шибко глубоко, да ила с метр. Пусть полежит смирненько, пока вы заранее не продумаете все до точки.
НЕ БЫВАЕТ
Экспериментируя, профессор Арцинович был въедлив, как серная кислота, и тверд, как молибденовая сталь. Но даже сталь утомляется. В тот день его настолько замучили пляшущие в глазах черные мушки, что он вопреки обыкновению взял велосипед и покатил дышать свежим воздухом.
От научного городка до деревенских проселков было рукой подать, и некоторое время спустя профессор очутился в незнакомой местности. Мирно светило солнце; слева от пыльной дороги были сосенки, справа зеленел овес, а навстречу Арциновичу летел человек.
Точнее, его нес ветерок, человек лишь подгребал, распластавшись, как лягушка. На его коленях пузырились мятые брюки.
Профессор затормозил. «Ну вот, доработался, - молнией пронеслось в мозгу. - Уже мерещится».
Ветерок стих, и человек повис метрах в полутора, над Арциновичем. Профессор смотрел, задрав голову. Ему было очень жаль себя.
- Скажите, - спросил он наконец, - вы умеете распознавать галлюцинации?
- Нет, - хрипло ответил человек, - не умею.
- Конечно, конечно, - согласился Арцинович. - Раз вы сами галлюцинация, то, понятно, вы не умеете. Я, к сожалению, тоже, потому что не специалист в данной области.
- Я не галлюцинация, - возразил человек. - Я Сидоров. У меня и документ есть.
Он похлопал себя по карманам свисающей куртки, и на его лице отразилось огорчение.
- В пиджаке забыл…
Арцинович понимающе кивнул.
- Иначе и быть не могло, - сказал он. - Зрительно-слуховая галлюцинация - это еще туда-сюда, но галлюцинация, предъявляющая документы, - это, простите, нонсенс.
- Чего? - переспросил человечек.
- Нонсенс.
- А-а…
Человек растерянно замолчал.
Профессор тоже задумался. Он был расстроен и огорчен, но горд, что действует как истинный ученый: не растерялся, не ударился в панику и в чудеса не поверил. Сам виноват в случившемся, обвинять некого. Сил не щадил, работал с перегрузкой, что-нибудь подобное должно было произойти. Не это, так гипертония или, чего доброго, инфаркт. Можно даже считать, что ему повезло. Галлюцинация не сумасшествие, так, всего лишь невроз. И лечится вроде бы проще, чем та же гипертония, и безболезненно, не то что зубы. А жаль все-таки, что он не психиатр - такой материал самонаблюдения пропадает! Впрочем, он сделает все, что сможет. В конце концов, это его научный долг.
- Так вы, значит, в меня не верите, - послышалось сверху.
- Вера - вненаучная категория. А я ученый. И потому знаю, что вы ирреальный плод моего, увы, переутомленного сознания.
- Но я же существую! - жалобно воскликнул летающий человек. - У меня дети есть!
- А я не говорю, что вы не существуете. Вы мнимо существуете.
- Но я же летаю!
- Вот именно. А человек сам по себе летать не может. Это было бы чудом. Люди, мало осведомленные в физике, склонны в этом вопросе к доверчивости, Но мы-то знаем, что в природе чудесам нет места.
- Я где-то читал об этой… как ее… антигравитации!
- Вред популярных публикаций в том, что они распространяют полузнания и склонны к сенсациям, - строго заметил профессор. - Антигравитация в такой форме опровергает… Вы даже представить не можете, что она опровергает.
- Не могу, - сознался человек. - Я просто летаю.
- Вот, вот! Всякое проявление необычного имеет строго научное объяснение. Поэтому ваш случай предельно ясен. Даже если бы антигравитация ничему не противоречила, то где источник энергии, который вас поднял? В вас самих? Смешно!
- Может быть, я за обедом чего-нибудь не того съел или выпил… Теперь все химия, очень даже просто…
Профессор раскрыл было рот, чтобы возразить, но тут его неприятно поразила одна простая мысль: он же беседует с самим собой!
Ведь перед ним не человек, а галлюцинация. А он беседует.
Арцинович с ненавистью посмотрел на летающего человека. Тот мотался над ним, как воздушный шарик. И все время греб лапками, точно хотел нырнуть. Ноги суматошно били воздух; на правой не было ботинка, из дырявого носка выглядывал палец.
- Не могу спуститься, - в голосе была мука. - Как взлетел полчаса назад, так и плаваю… Вверх сильно тянет… Ботинок вот свалился… Вы бы мне помогли, а? Зацепили бы чем-нибудь, дотянули до сосенки…
Профессор закрыл глаза. Исследователь обязан оставаться исследователем, все так. Но он, что ни говори, специалист другого профиля! «Сосчитаю до ста, а потом взгляну, - решил он. - Объект должен трансформироваться».
- Значит, пропадать придется, - вздохнул над ним голос. - Хоть семье сообщите… Жене… В Малые Выселки…
Голос стал удаляться.
Ветер тронул лицо профессора. «Семьдесят девять, восемьдесят, восемьдесят один…»
На «сто» он открыл глаза. Объект трансформировался. Исчез. Лишь высоко в небе темнела точка, то ли птица, то ли еще что.
Потом и она растаяла. Пусто стало в бездонной синеве.
В тот же вечер профессор пошел в поликлинику. Психиатр с видом человека, который все знает наперед, выслушал его, осмотрел, проверил рефлексы, буркнул: «У вас, физиков, все не как у людей…» Диагноз был, что нервы профессора сильно расстроены, но особой опасности нет.
Месяц кряду профессор принимал лекарства и соблюдал режим. Галлюцинации его больше не посещали.
КОЕ-ЧТО ИНАЧЕ
Мы стояли потрясенные и спрашивали друг друга, кто же сошел с ума - мы или природа? Над нами голубело степное небо, светило добротное, вполне земное солнце, а в роще неподалеку что-то ворочалось, как исполинский утюг. Нормальная, словом, картина. Только в нашем положении не более правдоподобная, чем взбесившийся стул.
Оба мы, я и Гриша, пространственники. Цель нашей работы, иначе говоря, не звезды с планетами, а космическая среда. Чисто житейски это занятие более всего напоминает добровольное заключение в уютной, со всеми удобствами камере, которая, повинуясь нам, нудно перемещается в объеме нескольких кубопарсеков. Работа, в общем, для автоматов, но автоматы, увы, могут не все. Желая друг другу доброго утра, мы заранее знали, что новый день будет отличаться от прежних разве что каким-нибудь феноменальным, наблюдением, которое переполошит десяток-другой специалистов. Не более, ибо весомость научного вклада зависит не только от размера сделанного, но и от масштаба накопленных знаний. (Одна звезда в небе - это звезда, среди миллионов она всего лишь пылинка. Точно так же ученому моего поколения, чтобы занять в науке место Ньютона, надо быть сверхньютоном, потому что «просто Ньютонов» много.) В горькие минуты Гриша твердил, что все мы лишь клерки, клерки космической канцелярии.
Я же для успокоения раз и навсегда принял постулат, что человек существо неудовлетворенное. И не просто, а прогрессирующе неудовлетворенное: чем больше имеет, тем больше жаждет. Иной мой прадед (все мы в конечном счете из крестьян) от зари до зари пахал свое жалкое поле и другой жизни для себя не мыслил. Таким было его время. Мы с Гришей, облетав целый рукав Галактики, открыв несколько явлений и названных нашим именем эффектов, оставались заурядными исследователями, и порой закрадывалась мыслишка, что какая-нибудь другая профессия, пожалуй, могла бы дать нам больше удовлетворения и счастья.
Этот же полет был и вовсе неудачным. Исследуемый район Пространства находился далеко от маяков гиперсвязи; мы одичали, как робинзоны, к тому же, желая ускорить работу, злоупотребили надсветовой инверсией двигателей, что слегка выбило нас из нормального хода времени. А в награду досталось одно разочарование: мы не открыли ничего ценного.
Но я уже давно заметил, что жизнь не терпит монотонности. Так было и в этот раз.
Покончив с делом, мы решили, что не худо бы пополнить запас иттрия для вакуум-преобразователей. Иттрия в Пространстве нет, его надо брать на планетах земного типа. Конечно, мы могли обойтись без заправки: новых больших расходов этого элемента не предвиделось. Однако нам требовался благовидный предлог для небольшого развлечения, ибо Пространство нам надоело. И если представлялась возможность сделать это, не нарушая правил и не вступая в конфликт с совестью, то почему бы и нет?
Понятно, что нам нужна была не всякая планета. Оледеневшие или, наоборот, раскаленные миры нас никак не устраивали. Всякие «фантомы», «трясучки» тоже. Отлично подошла бы планета с травкой, пусть даже жесткой, но настоящие биологические планеты для человека сущий ад, где шагу нельзя ступить без громоздких средств защиты, и вообще велик риск увезти с собой какую-нибудь микробную пакость, после чего неизбежен зверский карантин и прочие скандальные последствия.
После долгих препирательств мы избрали Рубелу. Эту планету, как свидетельствовала лоция, однажды посетила экспедиция Прем Чандра, которая нашла, что ее основные параметры копия земных. Та же самая сила тяжести; в небе - очень похожая на Солнце звезда; ее даже назвали Гелиосом. Все остальное, правда, мало походило на Землю. Ни малейшей искорки жизни, в атмосфере метан, циан и прочая гадость. Голограммы экспедиции Чандра, хранившиеся в памяти нашего «мозга», показывали голые скалы, мутные от песчаных вихрей равнины, грязную пену прибоя и вечный полог темных, беременных потопами туч. Только один кадр вызвал у нас бурный восторг. На миг сквозь тучи пробился Гелиос, и как же они запылали! Это был какой-то вулканический, хватающий за душу пожар; фантасмагория дьявольских красок. Рерих бы душу отдал за одно такое мгновение. И мы устремились к Рубеле.
Так вот: голубое небо, трава, нечто утюгообразное в кустах и была та самая Рубела.
Сели мы без разведки, с ходу, так как имели точное описание планеты. Что оно не соответствует действительности, что Рубела вовсе не Рубела, а черт знает что, птичий сон и акулий вздор, мы уяснили сразу и растерялись настолько, что последовавший диалог достоин скорей младенцев, чем пространственников.
- Это не Рубела!
- А что же?
- Другая планета!
- Спятил?
- Слушай, может, Чандр ошибся?
- Со всей своей командой?
- Тогда мы заблудились.
- Скажи лучше - рехнулись. Как мы могли заблудиться? Бред же!
- А кислород в атмосфере - не бред? Трава - не бред?
- Бред. Может быть…
- Ну?
- Мы перешли в другую вселенную, а? По правилу Мазура при коллапсирующих ускорениях вблизи фридмонов…
- Какие ускорения? Какие фридмоны? Ты соображаешь?
- А ты?
- Я нет.
Стыдно вспомнить, но так мы препирались еще минут пять. Потом слегка пришли в норму и сделали то, что следовало бы сделать с самого начала: обследовались на диагносте, убедились, что наш рассудок в порядке, проверили физические характеристики звезды и планеты, которые, конечно, совпали с данными Чандра, и стали думать, что же произошло.
К счастью, человек так устроен, что он всегда все может объяснить. Мы не могли заблудиться - это было бы делом сверхъестественным, так что «гипотеза Колумба» отпадала. С другой стороны, мы видели то, что было на самом деле, следовательно, находились на планете, которая по своим физическим параметрам была Рубелой, но по облику не имела с ней ничего общего. Оставалось предположить единственное: никто не спятил - ни мы, ни вселенная, ни Чандр. Просто в лоции оказались перепутанными «ячейки памяти», и мозг выдал нам при расчете данные совсем другой планеты, которая, как нарочно, по некоторым основным характеристикам совпадала с Рубелой. Случай весьма и весьма сомнительный, однако возможный, поэтому нам не оставалось ничего другого, как принять эту гипотезу за истину.
Утвердившись в этом мнении, мы вышли из корабля. Поступок, который, согласен, не свидетельствует о хладнокровии, хотя, с другой стороны, должны мы были разобраться, что это за мир? Биологически наш корабль и так уже был «грязен», поэтому особо терять было нечего, и мы если не бодро, то решительно ступили на поверхность неизвестно какой планеты.
Почти сразу нами овладело странное чувство, будто этот мир нам чуточку знаком. Вокруг была травянистая, рыжевато-серая равнина с тем прозрачным, но неясно очерченным горизонтом, какой бывает в жару на слишком открытых пространствах. Только слева, метрах в двухстах, бледно зеленела ажурная в гребне крон рощица. Ничего удивительного в наших ощущениях, впрочем, не было. Если поднять голову и смотреть вверх, то, не будь скафандров, ничего не стоило убедить себя, что находимся мы на старой доброй Земле. Такое же ласковое небо, такие же редкие кучевые облака, и даже Гелиос размером, цветом, яркостью был неотличим от полуденного Солнца.
- Не буду я смотреть вверх! - вдруг заявил Гриша. - Это же мучительно я жду, когда запоет жаворонок.
Гриша не продолжил свою мысль, я тоже ничего не сказал. Не было в нашем районе, - да что там! - во всей изученной части Галактики не было планеты, где могли бы петь жаворонки. Там, на корабле, это еще не было очевидным, а здесь было. Значит, теория наша никуда не годилась, мы ничего не могли объяснить. Ситуация хуже некуда.
То есть, конечно, могло быть гораздо хуже. Лично нам пока ничто не грозило, мир вокруг был прекрасен, после однообразия пространства даже сказочно прекрасен.
Трава под ногами, впрочем, была не сказочной. Колючая была трава, никак не трава-мурава. И без единого цветочка.
Я сделал шаг: взвилось облачко пыли. Пыль тоже была прозаическая.
Ни о чем другом в нашем положении не стоило думать. Ни о чем. Всякая серьезная попытка разобраться, где мы и что с нами, завела бы нас сейчас, пожалуй, в такую безвыходность, что мы действительно рисковали сойти с ума.
Действие - вот что могло нас отвлечь. И мы, ни слова не говоря, двинулись к рощице, презрев кое-какие правила поведения на незнакомой планете.
Когда до рощи осталось шагов сто, в ней что-то затрещало, и над перистыми, вроде пальм, кронами взмыл эдакий рыбий плавник.
Мы ахнули. «Плавник» исчез, но в роще продолжало двигаться нечто громоздкое и, судя по наплевательскому отношению к маскировке, весьма самоуверенное.
С дезинтеграторами в руках бояться нам было нечего. Но уважение к здешней фауне мы почувствовали, ибо высота рощи была метров пять, так что если животное не целиком состояло из «плавника», то массой оно могло поспорить с древним танком.
Все это было, однако, неважно. Существенным было то, что вид «плавника» вызвал в глубинах памяти какой-то смутный образ…
Прямые чешуйчатые стволы перистых деревьев; степь без единого цветочка; желтое горячее солнце; и странная спина чудовища… Можно было поклясться, что где-то когда-то, во сне или наяву, мы видели нечто похожее. Или это болезненный сдвиг сознания?
…Однажды в детстве я заблудился в коридоре, Стояла ночь, когда я вышел туда по нужде и двинулся, не зажигая света. На ощупь, в кромешной темноте я добрался до знакомого поворота. Чуть дальше - я помнил точно должна была находиться полка. Но полки не оказалось. Сделав пару шагов, я уперся в нишу, которой здесь просто не могло быть. Я метнулся назад… Рука коснулась чего-то высокого и громоздкого, что отовсюду топорщилось углами и везде отрезало мне путь, хотя еще мгновение назад я был на свободе. Вся ширь коридора куда-то делась, необъяснимо сжалась пропала. Кое-как я протиснулся меж углами и выступами, но и там не оказалось ничего знакомого! Мне отчаянно хотелось кричать. Коридор, такой исхоженный, привычный, наполнился искаженными вещами, которые куда-то меня заталкивали и вели в душном, ужасном своей нелепостью кошмаре…
В те минуты, когда мы возвращались на корабль, я, опытный, трезвый ученый, при ярком свете дня почувствовал себя маленьким мальчиком, который заблудился в темном коридоре.
Посоветовавшись, мы решили провести более основательную разведку. Мы вывели вездеход и двинулись к роще. Она встретила нас молчанием. Чудовище ушло, оставив следы, вид которых внушал трепет. Позднее почва стала каменистой, и следы исчезли. Мы не захотели их искать, а двинулись прямо по азимуту. Вскоре показался берег речки, окаймленный высокими деревьями. В прогалинах поблескивали струи потока, такие чистые, что сквозь них просматривались камешки дна.
Минут десять мы ехали вдоль реки без происшествий. Потом мысок деревьев вдруг раздался, и с пушечным шумом мимо нас проскочило существо такого размера и облика, что мы покрылись испариной. Секунду спустя мы взглянули друг на друга, боясь высказать одну и ту же дикую, разом поразившую нас мысль. Чудовище было не из тех, которые забываются. Его выгнутую, как холм, спину венчали два ряда пластин, в которых, точно в зубьях исполинской пилы, торчали сломанные ветки. Задние, толщиной в колонну лапы были куда выше передних, отчего все попытки существа задрать маленькую змеиную голову давали ничтожный результат. Симметрично голове располагался шипастый хвост, который бешено рассекал воздух, пока эта помесь холма, лесопилки и гадюки мчалась мимо вездехода.
Когда оно скрылось, мы зачем-то вышли из машины и тупо уставились на оставленные им следы.
- Ну? - сказал наконец Гриша. - Кого тебе напоминает этот зверь?
- Какая разница, - ответил я, морщась. - Все равно бред.
- Немного больше бреда, немного меньше, чего уж терять… Узнал животное?
- Как не узнать… Не помню только, какое у него имечко. Да это неважно…
- Да, это, конечно, непринципиально.
Мы говорили спокойно, даже бесстрастно, точно светски беседовали о погоде. А что еще оставалось? Всему есть предел, а когда он перейден и на чужой планете ты своими глазами видишь земного, притом вымершего, динозавра, то становится как-то все равно. Ну подменили планету, ну бродят по ней палеонтологические ископаемые, ну не может всего этого быть, так что же, вопить в истерике?
- Ладно, - вздохнул Гриша. - К черту! Вернемся на корабль, все спокойно обсу…
Он не закончил. В небе появилась точка. Машинально я снял с плеча дезинтегратор. Точка росла и становилась похожей на птицу. Потом сходство исчезло, и когда я разглядел, что это такое, сердце дало перебой, и сознание вроде как выключилось.
А когда я снова обрел способность ощущать, то к нам, протягивая руку, уже приблизился юноша, единственной одеждой которого, не считая перекрещивающих грудь ремней, были белые плавки. Крылья, хлопая, сворачивались у него за спиной.
- Саша, - представился он. - Рад вас приветствовать… Да что с вами?!
Сбросив скафандры, мы отлеживались на берегу речки, а Гриша, мотая головой, повторял, как заевший магнитофон:
- Могли бы выйти на связь…
- Так вы же сели, не подав сигнала! А у нас тут не навигационная станция…
Саша вроде бы оправдывался, но блеск его глаз говорил иное. Лестно ему было, ох как лестно видеть, что с нами сделала их планета!
- Ладно, - мрачно сказал Гриша. - Выбились мы из времени, отстали от жизни - понятно. Перевернули вы Рубелу вверх дном, что же, честь вам и хвала. А вот зачем? - Он с вызовом повернулся к Саше. - Такая уйма труда! Чего ради?
Саша не сразу ответил. Он сидел, уткнув подбородок в колени, у ног его журчала речка; он смотрел на все, что было вокруг, - траву под полуденным солнцем на том берегу, ажурные деревья мезозойской эры, блики веселой воды, - и точно взвешивал все это на одному ему ведомых весах.
Да, времечко… Сидит себе такой юноша в сотнях световых лет от Земли, бродят вокруг оживленные им динозавры - так надо, все в порядке вещей, а мы, тоже не питекантропы, вот хлопаем глазами… Даже смысл нам непонятен. Изменение безжизненных планет - это, допустим, нам знакомо, - еще студентами спецкурс сдавали. Создание живого организма любой сложности и древности из одной-единственной уцелевшей клетки - об этих успехах генетики мы тоже кое-что слышали. Но воскрешение на чужой планете целого геологического периода земной истории - это-то зачем?
- Зачем? - как бы откликнулся Саша. - Видите ли, Рубела - пока единственная планета, которой можно придать облик древней Земли…
- Годится для зоосадика, значит, - Гриша не скрывал иронии. - Чтобы биологи могли в натуре проверить свои знания, а космотуристы поразвлечься. Оч-чень серьезно!
- Да как вы не понимаете?! - Саша чуть не взвился. - Это же мечта, осуществленная мечта! Вспомните: вы, ваши отцы разве не мечтали о путешествии в прошлое? О том, чтобы увидеть, потрогать давно исчезнувшее? И всем поколениям наука твердила: нет, невозможно. Прошлое утеряно навсегда, вернуть его нельзя никаким способом, забудьте мечту, она неосуществима. А мечта жила! Вопреки всему жила! - Сашин голос зазвенел. И мы ее осуществили. Вот она, юрская эпоха земного шара, вот динозавры живые, настоящие… Смотрите, любуйтесь, изучайте; прошлое есть! Зачем? Да как это зачем? Или мечта уже не двигатель человеческих устремлений?
Он хотел еще говорить, но я прервал его.
- Извините нас, Саша. То, что вы сделали, грандиозно и изумительно. Но довольны ли вы, полностью ли осуществилась мечта?
Саша как-то сразу потух.
- Нет, - сказал он нехотя. - Мы воскресили только одну эпоху земного шара. А эпох было много… В исследованной зоне нет больше подходящих планет. Может, вы нам откроете хотя бы парочку новых, а?
- О чем речь, - сказал я. - Конечно, откроем.
ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ
Неоном горели в ночном воздухе названия многочисленных отелей. Было тепло и тихо, но осень уже пробралась в этот уголок юга. Отражая свет фонарей, всюду лежали опавшие листья, отчего полутьму аллей наполнял мягкий отсвет, и какая-то запоздалая пара остановилась, чтобы полюбоваться им, глубже вдохнуть щемящий запах и услышать далекий шум моря.
- Гляди, лошадь! - встрепенулась девушка.
Бесшумно возникнув из темноты, асфальтовую дорожку неторопливо, можно сказать, задумчиво пересекала лошадь. Она была без седла, уздечки и шла, наклонив голову, в полосах света. Юноша и девушка замерли, так это было необычно и так соответствовало тишине ночи, когда спят машины и люди. Пожалуй, это было даже неправдоподобно - вот так, сама по себе гуляющая посреди международного курорта лошадь.
Лошадь не обратила на них никакого внимания. Не больше, во всяком случае, чем на фонари, пожелтелые деревья, неон в просвете ветвей или асфальт под ногами. Ей все тут было знакомо и привычно, поскольку изо дня в день, запряженная в фиакр, тщательно ухоженная, в сбруе с позументами, она возила тех, кого соблазняло медлительное, под цоканье копыт, катание в духе минувшего века. Кто бы мог подумать, когда коляски были повседневностью, что людям будущего они дадут неизведанные ощущения!
У оказавшейся на свободе лошади не было ни цели, ни особых желаний. Она брела, потому что идти было приятно, вот и все. Впрочем, лошадь слегка манили темные просторы виноградников, которые начинались сразу за чертой отелей; манили неизведанностью ночных запахов - их она, стоя в конюшне, обоняла множество раз, и они приносили с собой непонятное волнение.
Лошадь пересекла пустынное шоссе и очутилась на краю поля с прямолинейными рядами лоз. На мгновение, не более, в ее смирном сознании вспыхнуло желание шального бега, скока, необузданного прыжка все равно куда и зачем. Оно угасло, не успев окрепнуть и потому, что сказалась долгая выучка, и потому, что впереди лежала четкая и чуждая геометрия поля. Лошадь еще медлила какой-то срок, а затем побрела обратно. Она шла мимо отелей, где спали люди, мимо кортов, погасших казино, через перелески, где неслышно опадал лист, и строй ее чувств снова был так же ровен, как ее шаг.
Она вышла к мазанке с черепичной крышей, крыльцом, распахнутым сеновалом, одинокой телегой и колодцем во дворе. В действительности тут был ресторан: столики под широким платаном, запахи жареного мяса, молодого вина и всяческих деревенских приправ выдавали истинное назначение хижины. Сюда не достигал свет фонарей и отблеск неона.
Лошадь остановилась: за изгородью во дворе она почуяла какое-то движение, присутствие чего-то постороннего, по запаху - машинного.
Все, с чем лошадь сталкивалась в жизни, давно обрело свое место и значение. Прежде всего и важнее всего были такие же, как она сама, лошади. Затем шли люди, существа почти столь же важные, но не такие понятные и близкие. Особо существовали машины, то шумные, то тихие, иногда неподвижные, иногда стремительно бегущие; последние часто оказывались источником беспокойства, порой даже опасности. Все они оставались для лошади безликими, но значили больше, чем деревья, камни или птицы. Отчего все было так, как оно было, и делилось таким образом, - этот вопрос не мучил лошадь. Внешняя жизнь была данностью, к которой следовало приспособиться, - вот и все, ничего сложного.
Первым побуждением лошади, когда она обнаружила во дворе присутствие незнакомой движущейся машины, было желание уйти. Оно, однако, сменилось другим, едва лошадь разобрала, что машина странно похожа на человека тем, что двунога и держится прямо. Возникло знакомое, острое и волнующее противоречие, когда одна часть сознания тревожно напоминала, что все непонятное таит в себе угрозу, а другая терзалась любопытством - что же это такое суетится во дворе? Конечно, лошади было невдомек, что это сработал древний, более древний, чем сами лошади, инстинкт эволюции, повелевающий опознать новое, даже если это сопряжено с риском, - ведь только так и можно приспособиться, следовательно, выжить в изменчивых условиях.
Машина во дворе тоже заметила лошадь и тоже замерла. Казалось, обоих, подобно току, соединил взаимный вопрос: кто ты?
На лошадь смотрело заведомо чуждое ей существо - экспериментальный робот-уборщик. Его присутствие там, где все имело вид старины, можно было счесть безвкусной шуткой или, наоборот, особым изыском. Дело, однако, обстояло проще. Уборка двора - занятие весьма трудоемкое и неблагодарное; значит, именно тут уместней всего подвергнуть экзамену устройство, которое призвано везде и всюду избавить человека от хлопотных забот. Действовало оно, чтобы не портить антураж, только ночью.
Путь техники вообще причудлив. Первые интеллектуальные автоматы чаще применялись в космосе, чем на Земле, в науке чаще, чем на производстве, то есть там, где вроде бы больше всего и прежде всего нужен человеческий ум. Но именно так протекала эволюция кибернетических автоматов, прежде чем удалось приспособить одного из них к работе, которая на первый взгляд не требовала никакого интеллекта. Но, как ни парадоксально, такая работа оказалась по силам лишь потомкам космических роботов, поскольку она была сопряжена с разносторонними действиями и самостоятельными оценками, ведь, чтобы поднять, скажем, окурок и оставить в покое лежащий рядом камешек, мало одной только, пусть самой сложной, программы поступков. Тем более что иногда нужно поднять и камешек, если это, например, кусочек шлака, вовсе неуместный на сельском дворе.
Робот, глядя на лошадь, не испытывал никаких опасений, так как чувство страха в него не было вложено. Зато импульс, который человек называет любознательностью, был ему присущ, поскольку выполняемая им работа требовала навыков самообучения, а самообучение невозможно без любознательности. Если бы первой роботу встретилась кошка, то вопрос «А что это такое?» относился бы к кошке, ибо люди не посчитали нужным дать ему понятие о животных. Но так вышло, что первой он встретил лошадь. Возник же вопрос потому, что лошадь отличалась и от людей, и от предметов, от всего, с чем робот сталкивался и что привык считать само собой разумеющимся. Впрочем, это был не единственный и не главный толчок. Главным было то, что появление лошади поставило перед ним чисто профессиональную задачу: если «это» продолжит свое движение и очутится во дворе, то должен ли я его убрать, поскольку это не человек и не стол, или это будет ошибкой?
Смущало робота и другое. Конечно, «это» едва ли было человеком, но «это», как и человек, дышало. Значит… Робот никогда не сталкивался с четвероногими разновидностями человека, но каждый день сталкивался с разновидностями предметов. Так, может быть, и человек, подобно предмету, существует в разных обликах?
Он шагнул к лошади. Слишком резко! Лошадь шарахнулась и стала, готовая в любой миг умчаться.
Робот замер. Напряженно замерла и лошадь. Так, выжидая, они стояли некоторое время, одинаково бессловесные и непонимающие друг друга. Затем что-то подсказало роботу мягкий, как бы уводящий в сторону жест манипулятора, долгую паузу вслед за жестом и крохотный, неуверенный шажок к изгороди. Лошадь прянула ушами, но не двинулась с места.
Робот действовал не по наитию. У него был опыт общения с человеком.
Поведение робота успокоило лошадь, как если бы он подал ей тайный знак родства.
Но недоумение ее не рассеялось, случившееся только обострило интерес. Ни одна машина до сих пор не прибегала к человеческим жестам. Ни одна! И животные тоже. Так что же все-таки перед ней такое?
Свою роль сыграла изгородь. Всего-навсего три продольные жерди, но они были символическим барьером, который создавал ощущение безопасности. И лошадь позволила роботу приблизиться.
Теперь они стояли друг против друга - два темных силуэта в окружавшей их ночи. Казалось, оба оставались неподвижными, но так только казалось. Их взгляды то встречались, то расходились, уклонялись и скрещивались; ими они как бы ощупывали друг друга, Неважно, что один взгляд был взглядом живых глаз, а другой был взглядом электронно-оптического устройства (в конце концов, и глаз тоже своего рода электронно-оптическое устройство). В этом разговоре, самом древнем и универсальном из существующих на свете, участвовали не только глаза. Здесь скрывалось самое существенное препятствие, потому что в безмолвном разговоре принимало участие все тело лошади - от кончиков ушей до кончика хвоста, тогда как металлическое тело робота было не способно на это. Но его выручал навык тонкого распознавания образов и столь же необходимое в работе умение выявлять их смысл. Сам того не замечая, как в той же ситуации не замечают этого люди, робот подстраивался к лошади, молниеносно улавливая нужный ритм движения головы или перемены взгляда.
Ни с той, ни с другой стороны этот быстрый обмен не завершился осознанной мыслью, хотя бы потому, что мысль, как ее понимает человек, в нем отсутствовала. Но так же точно она отсутствует и в тех бесчисленных диалогах, которые ведет все живое, диалогах, в которых без всяких слов испокон века выяснялось очень многое между самыми разными и далекими видами. Иначе мир животных, вероятно, не мог бы существовать, как, впрочем, и человек не смог бы приручить ни лошадь, ни собаку (кстати, все такие животные были одомашнены на заре цивилизации, тогда как более поздние тысячелетия не привели к человеку ни одного нового существа факт, что-то да значащий).
Надсадно, как это бывает ночью, где-то взревел мотор. Лошадь тихо всхрапнула. Гибкий манипулятор робота, как бы успокаивая, плавно коснулся ее гривы. Дрожь прошла по телу лошади, но она не отпрянула - то был хозяйский, человеческий жест.
Мгновение спустя все изменилось. Лошадь тряхнула гривой и с шумом подалась в сторону. Манипулятор скользнул вниз. Казалось, что этим все кончилось, и оба сейчас разойдутся, но нет. Лошадь опустила голову, словно ища что-то в траве, затем отдалилась от изгороди и стала, кося на робота черным в темноте глазом.
Она не знала, зачем поступает так, но смысл в ее движении был. Робот не понял этого смысла, но, следуя уже приобретенному опыту, осторожно скользнул за изгородь.
Теперь их уже ничто не разделяло. Только пространство. И мускулы лошади напряглись, как тетива. Там, возле изгороди, она еще была домашним животным, которое выносит близость любого, пусть самого странного механизма, поскольку ни одна машина не в силах быстро одолеть барьер. Там она еще могла доверяться сродству робота с человеком, даже признать в нем качества хозяина. Но не здесь, ибо это существо не говорило как человек, не было им. Здесь, на открытом месте, ею владел инстинкт далеких предков, которые множество раз, готовые умчаться, вот так приглядывались в степи к диковинным существам, к тому, что они делают, как движутся, чем питаются, - ведь именно такое поведение чужака, наблюдаемое долго и с безопасного расстояния, надежней всего раскрывало его сущность.
Ничего этого робот не знал, но первая же попытка подойти, сразу увеличившая расстояние, наставила его на правильный путь.
Так они двинулись, каждый вроде бы сам по себе, скользнули тенями, скрылись среди деревьев, вынырнули под фонарями, и не было никого, кто нарушил бы их шествие, ахнул бы, увидя вместе лошадь и робота, осознал, что происходит.
Никем не потревоженные, они шли мимо зданий и огней, равнодушные ко всему, кроме самих себя, и медленно, очень медленно их шаги стали сближаться. Ведь даже сейчас, оставаясь незримым посредником, между ними шел человек.
Они совсем сблизились за дюнами, где над морем широко простерлась звездная даль Млечного Пути. Там они пробыли долго. Но что там было сказано и что понято, навсегда останется тайной.
ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ
21 сентября 2073 года
То, что Гаранин держал в руке, было камнем с отпечатком травинки на шероховатой поверхности, а вовсе не черепом. Но человек в скафандре, подобно Гамлету, мог прошептать:
- Бедный Йорик…
Только это относилось к целой планете.
Ее, крохотную песчинку в необъятном пространстве, семнадцать суток назад засекли корабельные локаторы. Возникни по курсу трехголовый змей, он бы едва ли удивил больше. Не потому даже, что встретилась планета земного типа, а потому, что она была одиночкой. Одиночкой, сиротой, чего по теории быть не могло, поскольку планеты возникают со звездами и сопровождают их до конца.
Только что окрестный вид казался Гаранину угрюмым и не более того. Мрак, в котором пятнами проступали бывшие некогда водой и воздухом сугробы, прятал скалы, и лишь зубчатая кромка гор на горизонте выдавалась среди немигающих звезд. Здесь было все, что так ненавистно человеку в природе, - мрак, неподвижность, смерть. Дрожащий свет фонаря выхватывал то остекленевший скол льда, то черную россыпь камней, то членистый манипулятор роющего автомата, который, отдав образец, замер в ожидании приказа, точно надломленная лапа стального насекомого.
Человек забыл о нем. За те секунды, пока до Гаранина дошло, что именно держит его рука, ничто не изменилось, да и не могло измениться вокруг. Мертвый мир - мертвее не бывает! - таким и остался. Только он оказался еще и склепом, в котором лежал прах всего, что двигалось, росло, дышало, было жизнью, а может, и разумом.
Камень с отпечатком - для непосвященного просто камень. Иное он для ученого.
Гаранин стал медленно подниматься с колен. Перед его взглядом был равнодушный свод черно-звездного неба. И вдруг привычная бесконечность звезд потрясла Гаранина.
Напрасно логика твердила, что не произошло ровным счетом ничего особенного. Смертны не только люди, но и планеты. Да, отвлеченное знание впервые стало явью. Ну и что? Однако сердце не унималось. Оно стучало в холодном ужасе, как это бывает в те минуты, когда человек с беспощадной ясностью осознает, что он не вечен. Вокруг стыла тишина бесконечной ночи.
- Пуск! - эту поспешную команду Гаранин кинул самому себе, словно спасательный круг.
Роющий автомат ожил, задвигался, слабо блеснувшее щупальце погрузилось в россыпь камней, и сквозь подошвы скафандра Гаранину передалась дрожь почвы, в которую энергично вгрызалось сильное тело машины.
Движение машины отрезвило и согрело Гаранина. Не стало могильной тишины, рядом бурлила покорная человеку мощь, все сразу обрело смысл, вернулось на свои места, и в Гаранине шевельнулось похожее на благодарность чувство.
Полчаса спустя, уже в ракете, которая мчала его к кораблю, он недоуменно перебирал в памяти те минуты, когда ему так внезапно изменила закалка исследователя. Отчего, почему? С ним лично ничего не случилось. И с человечеством тоже. Ничего. А волноваться из-за чужой, неведомой и погибшей жизни - с какой стати?
Но самого себя было не так-то легко обмануть.
На корабле Гаранина, как никогда прежде, обрадовал яркий свет ламп, звук шагов, чашечка кофе, которую он с наслаждением выпил. И он знал почему.
9 июля 2104 года
Только календарь напоминал Арсу, какое сегодня число и какой год. Планета, где ничего не происходит, не нуждается в отсчете времени.
Арс взял лабораторный журнал, но так и не сделал запись. Немигающим взглядом он смотрел на стеллажи с образцами; с некоторых пор он чувствовал себя такой же окаменелостью.
Тридцать один год назад Гаранин наткнулся здесь на след жизни. Четверть века назад здесь был основан стационар. Теперь дела шли вяло и скучно. Ход здешней эволюции давно выяснен, а уточнять частности можно столько, сколько существует эта планета. То, что станцию не прикрыли, пожалуй, можно объяснить человеческим самолюбием и упорством. Но и упорству есть предел, иначе оно переходит в бессмыслицу.
Арс заставил себя взяться за журнал.«…Анализ образца N_713/96 заставляет предполагать срастание спорангий в продолговатые (круглые?) сингалии…»
И тут он явственно услышал смех Иссы. «Как поживают твои любимые кутикулы-мантикулы?» - спрашивала она его, когда была в задиристом настроении. Арс зажмурился, как от боли. Ее последние письма были уклончивы и спокойны. Арс чувствовал: он теряет ее! Любовь, верность, три года разлуки - вечная, как мир, и неизменно новая история… Можно винить себя, можно винить ее - облегчения нет и не будет.
Арс рванулся из комнаты.
У Суэхиро был час дежурства, перед ним светился контрольный экран. Собственно говоря, контролировать роющие автоматы не было нужды - они сами прокладывали путь в заданном горизонте, сами брали информацию о составе пород, вели анализ палеоусловий, в которых те возникли, и немедленно сообщали дежурному о всех образцах, хоть чем-то отличающихся от минералов, конкреций и прочих физико-химических образований. Но пятый номер, похоже, стал барахлить, и Суэхиро хотел выяснить, в чем дело. Автомат шел по слою, выше которого обрывались всякие признаки жизни; этой зоне вот уже четверть века уделялось исключительное внимание, поскольку в ней можно было найти ответ на самый главный вопрос.
Суэхиро, не отрываясь от наблюдений, с обычной невозмутимостью приветствовал Арса наклоном головы.
- Выяснил что-нибудь? - стараясь казаться невозмутимым, спросил Арс.
- Пока все нормально.
- М'туа еще не вернулся?
- Нет.
Разговор оборвался. Арс сел, уныло глядя на экран, где однообразно сменялись косые полосы песчаника. Суэхиро не умел отвлекаться от дела, даже если оно не требовало сосредоточенности. Арс уже жалел, что пришел.
- Кстати, - сказал Суэхиро. - Час назад по внепространственной связи пришел запрос.
- Чудовище! - Арс подскочил. - И ты до сих пор молчал?!
- «Чудовище? - пожал плечами Суэхиро. - Я молчал - ты не знал; я знал и молчал - кому было трудней? Землю интересует наше мнение: какова вероятность того, что станция в ближайшие годы решит поставленную перед ней задачу?
Радость, которую он не мог побороть, даже если бы желал, охватила Арса.
- Думают о закрытии станции? - быстро спросил он.
- О сокращении объема работ и ведении их исключительно автоматами.
- Давно пора! - вырвалось у Арса.
- Ты уверен?
- Мой ответ тебе известен, - глядя в стену, сказал Арс. - Было в древности такое занятие - искать чашу Грааля. Мы занимаемся тем же самым.
- Твой ответ - еще не наш ответ, - спокойно возразил Суэхиро.
Оба замолчали.
Открытие планеты-одиночки поставило два главных вопроса. Если на первый удалось найти приемлемый ответ, то в этом не было заслуги станции. Просто в 2091 году был открыт закон Морра, и тогда стало ясно, что в исключительных случаях внутризвездные процессы могут войти в режим нуль-замыкания. Неизбежный при этом сброс поля тяготения высвобождает планеты, и они рассеиваются, как семена одуванчиков на ветру. А вот на второй вопрос могла ответить лишь станция.
Могла ли? Останки фауны свидетельствовали, что обитавшие здесь накануне катастрофы существа прогрессивной ветви эволюции обладали высокоразвитой нервной системой. Разум был готов возникнуть, а быть может, и возник.
Но с тех пор прошло миллиард лет.
Миллиард лет - это непредставимо. Земная жизнь освоила сушу, заполнила ее земноводными, рептилиями, млекопитающими, вознесла и погубила динозавров, от пещер вывела человека к звездам - все эти великие события уложились в треть миллиардолетия. Всего в одну треть!
Какие следы, какой цивилизации могли уцелеть? На Земле куда легче найти хрупкую раковину аммонита, которая возникла за много миллионов лет до человека, чем стойкое каменное рубило, хотя им пользовались лишь сотни веков назад. Не потому, однако, что время более снисходительно к раковине. Все поддается распаду, но природа может случайно сохранить и раковину, и отпечаток былинки, и даже след волны, сотни миллионов лет назад набежавшей на песок. Дело просто в количестве. Раковины слагали горные цепи, а все изготовленные человечеством рубила едва ли составили десяток холмов. Время беспощадно, за миллиардолетие оно губит экземпляры любой серии, если их количество не триллион триллионов. А какая продукция какой цивилизации составит это число?
Правда, с поверхности планета была мертва, а где нет движения, там нет и разрушения. Мертва-то мертва, да не совсем: внутренние силы продолжали сминать и плавить оболочку. И это как-никак длилось миллиард лет…
Пропел сигнал, возвещая о том, что в шлюз вошел вездеход.
Арс вздрогнул.
- М'туа, - сказал он. - Третий и решающий голос.
- Подожди, - сказал Суэхиро. - Кажется, я понял, почему барахлит автомат. Похоже, нам придется отозвать его на поверхность и отремонтировать. Вот посмотри…
Арс пожал плечами и подошел к экрану. На станции продолжался будничный рабочий день.
7 января 2105 года
Впервые за все эти годы М'туа брел просто так. Не то чтобы он никогда не ходил по этой планете пешком; ходил, но редко и с целью, а так все ездил. Просто невероятно, насколько в нем изменилась психология масаев, которые так долго и так упорно чуждались техники.
Сейчас цели не было, и М'туа чувствовал себя несколько странно, пожалуй, беспокойно, словно забыл что-то. Цель исчезла с того момента, когда они, перестроив аппараты на автоматическую разведку, принялись ждать звездолет. Теперь они больше не были нужны планете. Вот тогда-то М'туа и потянуло пойти проститься. Ни Арс, ни Суэхиро не разделяли его настроения: первый мыслями был уже давно на Земле, а второй из-за свойственной ему педантичности находил еще тысячу несделанных дел - откуда только они у него появлялись!
Как всегда, вокруг не было ничего, кроме льда, камня и темноты. М'туа давно научился не замечать окружающего, и потому что оно было однообразным, и потому что оно было мрачным. Но сейчас М'туа ощущал величие пейзажа. Оно не подавляло и не отпугивало; грусть и легкое сожаление - вот что испытывал М'туа. Как странно, оказывается, на этой гиблой планете осталась частичка его души!
Крак! - нога раздавила льдышку, которая некогда была… Чем? Порывом ветра, может быть. Или капельками росы. Крак, крак! М'туа шел по погасшим полярным сияниям, по умолкшим родникам, по окаменевшему ветру. Крак, крак!
Вот так, вот так. Человеку надоело, и он ушел, два голоса против трех. Нет, не надоело ему, М'туа, не надоело. Дальнейшее пребывание человека не рационально, что надо, доделают роботы, вот и все. Планете и так отдано много человеческих жизней.
Много? Жизней? Разумеется. Исследования поглотили сотни человеко-лет, и если их поделить на длительность человеческой жизни, все так и получится.
М'туа свернул к каменной гряде, чтобы больше не ступать по льду, который некогда был водой и воздухом. Луч фонаря бросал перед ним колеблющийся овал света. Овал существовал как бы сам по себе, поскольку в вакууме луч ничем не выдавал свой путь от источника. Падая на камни, он высекал тусклые искры - это в них поблескивали листочки слюды. Бесцветная, серая игра блесток, но М'туа ею залюбовался, потому что в ней была непредвиденность; отсвет вспыхивал внезапно, как крошечный глаз пугливого зверька.
Сначала все искорки казались одинаковыми, но вскоре М'туа убедился, что это далеко не так: одни были ярче, другие темней, некоторые чешуйки посылали золотистый отблеск, порой в них мелькал зеленоватый оттенок. «Я же этого никогда не видел, - подумал М'туа. - Забавно…»
Какой-то кристаллик послал чуть радужный, как от алмаза, лучик. А, это кварц, сказал себе М'туа и наклонился, чтобы удостовериться. Он выковырял из почвы крохотный прозрачный обломок и, сразу потеряв к нему интерес, тут же отбросил. Эка невидаль - кварц! И когда тот уже исчез в темноте, до сознания М'туа дошло впечатление, что осколок имеет необычный для кварца излом.
М'туа бросился вслед за осколком, но проклятый камешек исчез, будто его и не было. М'туа опустился на четвереньки, лихорадочно шаря лучом по поверхности. На мгновение он устыдился своей горячности, для которой не было веских оснований, но человек так устроен, что если он потерял какой-то пустяк и взялся за розыск, то уж не отступится. Поползав, М'туа наконец нашел то, что искал.
Когда осколок лег на ладонь и М'туа вгляделся в него, сердце дало перебой. М'туа выхватил анализатор, но еще до анализа, до определения он знал, что на его ладони лежит сокровище, которому нет цены, - осколок обыкновенного стекла.
Из воспоминаний М'туа
«Когда анализатор подтвердил, что это стекло, я пустился в пляс. Вероятно, это было удивительное зрелище, потому что, насколько помню, ноги сами собой исполняли какой-то полузабытый танец моих африканских предков. И в этом, между прочим, был свой смысл.
Я был окрылен находкой, восхищен силой человеческого предвидения. Ведь теория с самого начала указывала, что именно осколки стекла могли оказаться теми «изделиями» цивилизации, которые в силу своей физико-химической стойкости и массовости имели шанс сохраниться в ощутимых количествах. Но я хочу обратить внимание на другое. Я кинулся за отброшенным было осколком, потому что я один из тех немногих людей, которые видели, как бьется и рассыпается стекло. Любому человеку попадались осколки стекла, но кто помнит хрупкий стакан и хрупкое стеклянное окно? Бьющееся стекло вышло из употребления столетие назад, и лишь в глухой деревушке, где я родился, в доме деда случайно сохранилось обычное оконное стекло, которое я однажды и прикончил неловким ударом мяча. Мне не так запомнилась последовавшая выволочка, как то ошеломление, которое я испытал при виде сыплющихся осколков. Это было поразительное, незабываемое зрелище! Оно мелькнуло передо мной там, на планете…»
23 мая 2112 года
Чуть слышно посвистывал старинный фарфоровый чайник. За раскрытым проемом стены лежал дремлющий сад. Смутно белели осыпанные цветом вишни. Спокойствие рассвета, чашечка душистого чая в ладонях - что еще надо для счастья сосредоточенной работы ума?
На столе перед Барфом лежали доставленные с той планеты стеклянные шарики. На первом кое-где уцелели бороздки; шарик был оплетен ими, как глобус меридианами. На тусклой и щербатой поверхности второго бороздки не сохранились. Тем не менее шарики были тождественными. На обоих резьба имела прокраску, так что каждая бороздка одновременно являлась кромкой цветовой плоскости, и уничтожить рисунок «меридианов» можно было лишь вместе с шариками. Столь же неистребимыми были три пятнышка на поверхности каждого из шариков.
Способ прокраски свидетельствовал о высокой технологии. Ничтожная присадка редкоземельных элементов, та или иная доза радиации - и стекло окрашено навеки. Просто, быстро, эффективно!
Барф знал, что шарики побывали уже у многих экспертов. Чтобы мнение одного не влияло на мнение остальных, заключения пока сохранялись в тайне. Но Барф догадывался, каковы они. Задача не требовала гениальной интуиции. Совсем наоборот! И это был многозначительный факт.
Что дали многолетние напряженные раскопки после находки М'туа? Четыре осколка стекла, три осколка керамики; одно кремниевое рубило; какой-то обломок стержня (форма стержня сохранилась, но металл оказался замещенным пиритом). И два вот этих шарика.
Получалось, что шарики были массовым изделием. Мало того, при их изготовлении было сделано все, чтобы рисунок оказался долговечным. Правда, стекло - материал не из самых надежных; зато выпуск таких шариков не ограничен запасами сырья и сложностью технологии.
Вывод? Скорей не вывод, а предположение: цивилизация знала, что ее ждет, и последним ее усилием был выпуск вот этих шариков. Схем, в которых отмечены места каких-то хранилищ.
Вот именно: хранилищ. Барф зажмурился, как от яркого света. Когда все гибнет и жизнь обречена, что еще можно сделать? Защитить, сохранить, во что бы то ни стало передать свое духовное «я». Неважно кому, неважно как лишь бы не исчезнуть совсем. Навсегда! Ибо страшнее нет ничего.
Какое упорство, какое самообладание! И какая вера… Вера в то, что жизнь, разум бессмертны во вселенной, а значит, наследники будут и придут.
«Мы пришли, - подумал Барф. - Через миллиард лет…»
Остается проверить гипотезу. «Меридианы» на шариках - это, конечно, совсем не меридианы. Те, погибшие, конечно, знали, что географические полюсы перемещаются и не годятся в качестве ориентиров (иначе бы они дали еще сеть параллелей). Чем тогда могут быть точки, к которым сходятся дуги? Магнитными полюсами, вот чем. Они еще менее постоянны, чем полюсы географические, зато породы той эпохи, когда произошла катастрофа, хранят тогдашнюю сетку магнитного поля. Может пройти сколько угодно лет, но разум обязательно найдет ее следы; найдет и восстановит положение древних магнитных полюсов. Любой разум, когда бы и где бы он ни возник.
Барфу стало жарко при мысли, что он, человек, спустя миллиард лет думает в унисон с теми, неведомыми.
Надежен ли, однако, данный ими ориентир? «Пятнышки» обозначают тот район, где находятся предполагаемые хранилища. Но, во-первых, блоки литосферы перемещаются, сейчас они находятся не там, где были миллиард лет назад. Во-вторых, каждое «пятнышко» на шарике - это сотни тысяч квадратных километров в натуре. Проследить дрейф блоков, конечно, можно; не так уж трудно установить, куда они переместились за миллиард лет. Все равно остается нерешенной вторая проблема. Значит, вся эта гипотеза - мираж?
На вид «пятнышки» казались одноцветными. Барф потянулся к конверту с микроснимками, чтобы проверить, так ли это на самом деле. Но остановился.
Думать по подсказке - невелика честь.
На микроснимках должна, обязана выявиться карта.
Чего? Бессмысленно искать общее между тем, что было миллиард лет назад, и тем, что есть. Не осталось на планете ни прежних гор, ни материков, ничто не может совпасть.
Разве? Глупо строить хранилище у подножия вулкана. Те, погибшие, возвели их там, где планета спокойна - всегда спокойна. Относительно, конечно. Такие места есть на всех планетах земного типа. Скандинавский, Канадский гранитные щиты возникли на Земле три-четыре миллиарда лет назад. С тех пор образовавшие их породы почти не перемещались относительно друг друга. Следовательно…
Остается провести ключевой опыт.
Барф достал с полки и разложил на столе геологические карты тех кристаллических щитов, которые были выявлены на планете. Щитов было три.
Уже не сомневаясь в результате, Барф положил рядом микроснимки. Так и есть! Схемы на микроснимках в общих чертах совпадали с тем, что изображали геологические карты.
Барф не мог отвести взгляда. Он ждал этого, он предвидел, и все равно это было чудо. Письмо, дошедшее через миллиард лет! Письмо, отправленное в никуда и нашедшее адресата! Ибо оно было написано на том единственном языке, который понятен любому разумному существу, пусть даже оно родилось под звездами другой галактики. Все могло не совпасть: физический облик, традиции, восприятие. Но границу между породами разного возраста все проведут одинаково, иначе и быть не может.
На всех трех микроснимках четко выделялась взятая в концентрические окружности точка. Выделялась, как яблочко на мишени. Оставалось лишь нацелить туда технику.
За деревьями уже встало солнце, его теплые лучи перебрались на стол. «А ведь все это они предвидели, - подумал Барф. - Все наши поступки были предопределены. Нас направляют те, кого уже миллиард лет нет в живых… Они знали, что кто-нибудь когда-нибудь высадится на их планету. И с этого момента все пойдет так, как ими было задумано».
11 октября 2116 года
«Все безнадежно, - подумал Гаранин. - Все».
Третье и последнее убежище тех. В ярком свете ламп - полузасыпанные камеры, хаос щебня и глыб. И пыль под ногами.
Ноющая боль в сердце. Семьдесят лет, конечно, не дряхлость, но лететь сюда не следовало. Ему не следовало. Тот далекий Гаранин, с находки которого началась эта эпопея, теперешнему Гаранину представлялся мальчишкой. И надо же - сорвался, полетел… Зачем?
Камень, камень, тупые, равнодушные ко всему глыбы камня. И тишина. Как тогда, в дни молодости.
Не следовало ему прилетать.
Спутники молчат. Быть может, они полагают, что в его, Гаранина, размышлениях зреет вывод, который воскресит надежды?
Жаль, если они так думают.
Последнее и самое сохранное убежище. Те знали, что наследники будут и придут. Они сделали все, что могли. Но прошел миллиард лет.
Что здесь было? Крепления, своды из сверхстойких материалов, приборы, саркофаги, информатеки, изделия, росписи, модели? Пыль, вот что от них осталось. Миллиард лет…
Все было напрасно.
За спиной тихонько вздохнули.
- Да? - не оборачиваясь, спросил Гаранин.
- Даже стекляшек нет…
Гаранин кивнул. Даже стекляшек! Глупо, глупо…
Настроение человека, ход его мыслей подобен прихотливому маятнику. Он может задержаться в крайней точке, но замереть в ней - никогда. Все осталось прежним. Так же неподвижно стоял Гаранин и его спутники, вокруг был тот же камень, и так же безжизненно-ярко светили лампы. И прежней была тишина, которая воцарилась здесь миллиард лет назад и стала как бы осязаемой. Но было произнесено слово. Одно только слово - и оно увело Гаранина с того логического пути, который был проторен прежними находками и который теперь завел в тупик.
Глупо! Но разве те были дураками?
Гаранин прижал руку к сердцу.
- Вам плохо? - раздался встревоженный голос.
- Наоборот! - воскликнул Гаранин. - Сядем!
Все изумленно повиновались. Гаранин обвел взглядом недоумевающие лица, и ему захотелось смеяться - над своими страхами, над своей тупостью. Счастливей сейчас никого не было, ибо догадка, которая его осенила, сразу, вдруг, будто ему шепнул кто-то, стала уверенностью.
- Давайте кое-что сообразим, - тихо проговорил он. - Что мы ищем? Да, что мы ищем? Предметы, изделия, вещи? Предположить это - значит наделить хозяев планеты психологией мумификаторов.
- Нам неизвестна их психология, - осторожно заметил кто-то.
Гаранин улыбнулся.
- В течение тысячелетий нам, людям, не был известен закон тяготения. Но все эти тысячелетия люди действовали согласно закону тяготения, а не вопреки ему. Какая «другая» психология тут возможна? Они знали это не хуже нас. Мы ничего не нашли? Верно. Мы не то искали. Мы подошли с мерками археологии, которая привыкла искать останки культуры. А разве они хотели передать нам останки?
- Но что же? - подавшись вперед, воскликнул самый нетерпеливый из спутников.
- Себя, - глухо ответил Гаранин.
Он тотчас почти физически ощутил разочарование, недоумение, испуг, который охватил сидящих рядом людей.
- Себя, - повторил он твердо. - Слушайте, я не сошел с ума. Что долговечней всего в мире? Золото, звезды, жизнь? Информация! Той вселенной, какой она была десять и более миллиардов лет назад, нет и в помине. А мы знаем, какой она была! Теперь зададим себе другой вопрос: что нам, да и любому иному разуму, дороже всего? Существование человечества. Сопоставьте одно с другим…
Гаранин вгляделся в лица и понял, что его слова нашли пока еще смутный отклик.
- Остается один-единственный вопрос, - проговорил он быстро. - Как? Каким способом они решили себя сохранить? Единственно возможным. Цивилизация, которая сможет пересечь межзвездные расстояния, полагали они, способна построить по чертежам не только здание, но и организм. Вот из чего они исходили!
Теперь мысль дошла…
- Подождите, я не кончил! - взмахом руки Гаранин усадил всех на место. - Итак, они должны были оставить информацию, пользуясь которой мы могли бы восстановить их, так сказать, физически. Воссоздать, воскресить, построить их по оставленному ими генетическому чертежу! И передать воскрешенным их собственную культуру, полные сведения о которой находятся там же, где и сведения о генетическом коде. Нам, неведомым, они вверили себя, свое пробуждение, свое будущее, жизнь после смерти. Где же то, что они нам оставили?
- Здесь! - ликующе выкрикнул кто-то.
- Здесь, - с облегчением подтвердил Гаранин. - Нет информации без материального носителя, но сам носитель может быть сколь угодно малым для записи годятся атомы, частицы, любые поля… И есть носители, которые, даже распадаясь, сохраняют запись. Помню, - добавил Гаранин с улыбкой, - в одной книге двадцатого века меня поразило, с каким изумлением современники восприняли факт, что осколок пластинки хранит голограмму так же хорошо, как и сама пластинка… Необходимо всего лишь одно условие: носителей информации должно быть бесконечно много. Времени противостоит число! Что же здесь отвечает всем условиям? Вот это!
Гаранин нагнулся и зачерпнул горсть пыли.
Из воспоминаний Гаранина
«Даже в двух первых уничтоженных хранилищах мы находили эту «пыль». Она была тщательнейшим образом исследована. Мы знали, что это смесь обычной пыли, которая образуется при разрушении горных пород, и металлической. О физико-химических свойствах металлической фракции мы узнали решительно все. Но поскольку мы исходили из установки, что она остаток рассыпавшихся конструкций, аппаратов и механизмов, то никто и не проверил ее на информативность. Обычная история, которая лишний раз доказывает, что верная идея - это зрение разума. Мне повезло. Я первый догадался, как обстоит дело в действительности, может быть, потому, что сильней других переживал горечь поражения. Но я не обольщаюсь. Не я, так другой додумался бы. Поставьте человека в тупик, и он всегда отыщет выход. Если, конечно, выход имеется…»
2 августа 2159 года
И люди услышали голос.
- Внимание, работают все видеостанции солнечной системы! Передаем экстренное сообщение! Сейчас в институте эмбрионотехники завершается опыт воскрешения разумных существ другого мира. Результат будет ясен через несколько секунд. Слушайте и ждите, слушайте и ждите!
Настала тишина, какой еще не знало человечество. На всех планетах, какие освоил человек, всюду, куда он проник, все замерло.
Истекла первая секунда. Вторая. Третья.
И вдруг тишину прорезал крик.
Первый крик ребенка…
НИЧЕГО, КРОМЕ ЛЬДА
Мы летели взрывать звезду.
Романтики и любители приключений пусть не читают дальше. Наша судьба не из тех, которые могут воспламенить воображение. Вот ее расклад. Путь туда и обратно занимает сорок лет. Еще год или два надо было отдать Проекту. Анабиоз позволял нам проспать девять десятых этого времени, так что на Землю мы возвращались сравнительно молодыми. Однако наука, искусство, сама жизнь должны были уйти так далеко вперед, что мы неизбежно оказывались за кормой новых событий и дел.
Ну и что тут такого? Ничего. Нам оставалось тихо и мирно доживать свои дни у подножия своей же славы. Очень долгие дни… Как вы думаете, почему Амундсен на склоне лет безрассудно кинулся искать Нобиле, к которому не испытывал никакой симпатии? Потому что ему, человеку активному, полной мерой хлебнувшему побед и риска, после всего этого невтерпеж была долгая, почетная и такая бесцветная старость.
Тогда, быть может, в далеком космосе нас ждали волнующие события, необыкновенные исследования, приключения, в которых мы могли показать себя? Отнюдь. Нам предстояло быть не героями, а техниками. Очень добросовестными, исполнительными монтажниками, не имеющими права не только на риск, но и на какую бы то ни было самостоятельность. Без этого мы не могли осуществить Проект.
Вы, конечно, понимаете, почему я пишу это слово с большой буквы. Известно, что звездолеты, как это ни глупо звучит, для межзвездных полетов не годятся. При небольшой, что-нибудь порядка 200 тысяч километров в секунду скорости полет даже к близким звездам растягивается на десятилетия. Околосветовая скорость позволяет достичь хоть другого края Галактики. Но тогда все губит парадокс Эйнштейна: год корабельного времени становится равным земным векам. А это делает всю затею абсурдной. В том и в другом случае люди оказываются обреченными на жалкое топтание близ Солнца, когда отовсюду призывно блещут мириады заманчивых, но, увы, недостижимых миров.
Осуществление Проекта распахивало дверь, пожалуй, и к другим галактикам. Расчеты новой теории показывали, что мгновенное высвобождение энергии, соизмеримой со звездной, образует пространственно-временной тоннель, куда может скользнуть корабль. Без вреда для людей и без парадоксальных последствий.
Все это, однако, нужно было проверить. Не на Земле, понятно, и не возле солнечной системы, которая после такого эксперимента провалилась бы в тартарары. Отбуксировать же аннигиляторы на безопасное расстояние мы не могли технически. Оставалось одно: лазерами взорвать звезду и посмотреть, что получится.
Годилась не всякая звезда. Более того, в пределах, которые были доступны нам, всем условиям отвечала всего одна звезда. Туда мы и отправились.
Верю, что фантастические описания межзвездного полета в книгах прошлого века, заставляли взволнованно биться не только мальчишеские сердца. Мне очень не хочется, чтобы мои свидетельства были восприняты как развенчания романтики вообще, но правда есть правда: трудно придумать что-нибудь более скучное, чем межзвездный полет.
Судите сами. Если вы наблюдательны, то, верно, заметили, что любое скольжение по привычной колее сливает дни в серый прочерк. Ведь хорошо запоминается то, что резко отличается от жизненного фона, и совершенно неважно, где это происходит - дома или в звездолете. Только в звездолете все гораздо монотонней, потому что неожиданные зрелища возникают за иллюминаторами реже, чем за окнами квартиры, а случайных встреч и новых лиц на корабле не может быть вовсе. Поэтому месяцы, проведенные вне анабиоза, были весьма томительными.
Для литератора или психолога тут, конечно, нашлось бы много интересного. Например, повальное увлечение играми, которое захватило даже Тимерина - создателя теории Проекта, тогда как на Земле за этим аскетом науки никогда не водилось ничего подобного. Почти у каждого возникли свои, впрочем, безобидные чудачества. Я, к своему удивлению, увлекся нумизматикой, обнаружив, что даже мысленное коллекционирование старинных кружков меди, серебра и золота таит в себе неизъяснимую прелесть. А поскольку книг по нумизматике на корабле не было, то знаете, что я делал? Вы, должно быть, не поверите, я сам себе плохо верю: я вылавливал со страниц романов и энциклопедий всякое упоминание о тех или иных монетах, их признаках, размере, облике аверса и реверса! Никогда не думал, что слова «тетрадрахма с афинской совой» или «рубль царя Константина» могут звучать такой музыкой…
Но в сторону это. Пора перейти к единственному нашему приключению, которое внешне совсем не похоже на приключение, не имеет никаких его атрибутов, кроме единственного - неожиданности.
Звезда, к которой мы летели, до сих пор настолько не имела значения, что значилась просто под порядковым номером каталога. Перед отбытием кто-то предложил дать ей имя, но предложение было отвергнуто, хотя никто не мог внятно объяснить почему. Подозреваю, что здесь работал отзвук древних суеверий. Нейтрально назвать звезду вроде бы нет смысла, а назовешь какой-нибудь Надеждой… Нет, лучше оставить как есть.
Все, однако, развивается по своим законам, и, поскольку ни один нормальный человек не будет десять раз в день повторять невразумительный набор цифр, звезда как-то само собой стала Безымянной.
В ее системе нам предстояла обширная работа. Нужно было вывести на звездоцентрическую орбиту лазерные генераторы; стабилизировать и настроить измерительную аппаратуру; собрать множество всяких предварительных данных; наконец, запустить - но это уже в последний момент - автомат-разведчик, который должен был скользнуть в пространственно-временной тоннель. И еще предстояла сотня других дел.
Среди них было и обследование планет Безымянной. Всего их было четыре. Два газовых гиганта типа Юпитера не вызывали особых эмоций, поскольку на них нельзя было высадиться. Ближняя к светилу, маленькая и голая планетка, радовала не больше, чем куча шлаков. Последняя была и того хуже - просто льдышка смерзшихся газов, никчемная, прилепившаяся к краю звездной системы льдышка.
Впрочем, и это сулило какое-то разнообразие после надоевшего вида немигающих звезд и знакомых, как собственная ладонь, корабельных помещений. Все жаждали заняться второстепенным делом обследования обреченных на гибель планет, и жребий принес мне удачу - я попал в группу разведчиков.
Мы отбыли, высадились, и тут нас как обухом по голове!
Вокруг был строгий бело-синий мир. Всюду громоздились скалы с зеркальными, серебристо-матовыми, хрустальными башнями, выступами, порталами, стрельчатыми сводами, ажурными ротондами, галереями и колоннами. Тут была готика и рококо, Тадж-Махал и Кижи, все, что создал гений зодчества, и все, что ему, похоже, только предстояло создать.
Формы льда и без того выразительны, а тут еще сила тяжести меньшая, чем на Земле, сложный и разный состав материала. Арки, казалось, летели; их просто нельзя было представить неподвижными, ибо мгновение покоя должно было все обрушить. Какой-нибудь циклопический свод подпирали стеклянные былинки колонн, а в тени нависших карнизов вполне мог расположиться Нотр-Дам. Сами карнизы более всего напоминали крылья готовых упорхнуть бабочек; их морозный рисунок туманно двоился в тончайшей пластине полупрозрачного льда.
Впрочем, не это делало пейзаж исключительным. Небо над планетой обычно оставалось мглистым. Но изредка оно очищалось, и тогда - мы так и не разобрались в причинах - диск звезды странно искажался в воздухе.
Свет ее начинал дробиться, как прижатая пальцем струя. Лучи падали, высекая обвалы радуг. Из трещин, граней и сколов летели искры; отблеск, стократно преломленный, наполнял воздух порхающим блеском. Наши привычные к тусклым краскам глаза не выдерживали!
Лед становился текучим и светоносным. В нем строились и преображались цепи изумительных построек. Призрачные города, которые блистали, росли, вставали монументами, меркли, менялись, оживали вновь - сразу, везде и в озарении радуг! То было искусство какого-то четвертого, пятого, волшебного, дикого измерения!
За все эти часы мы не сделали ни единого замера, ни одной записи, просто не способны были! Нами владело чувство более тонкое и глубокое, чем восторг или радость. На корабле, понятно, видели все, но и оттуда по-моему, впервые в истории звездных экспедиций - нам не напомнили о нашей первоочередной обязанности.
Потом, когда мы вернулись, все пошло так, будто ничего не случилось. Будто ничего и не было!
Иногда я завидую тем, кто жил раньше, - они могли вести себя с такой непосредственностью! «Кровь бросилась ему в голову, и он обнажил шпагу…» Конечно, все и тогда было не так просто, но все же решения касались обычно куска хлеба, удовлетворения страстей, защите собственного благополучия, и существовал отработанный, из поколения в поколение передаваемый набор реакций человека на то или иное жизненное обстоятельство, поскольку сама жизнь менялась мало. Потом жизнь стала усложняться, а с ней вместе усложнялись и реакции. Человек оказался вынужденным подавлять стихийные порывы, потому что в новой и запутанной обстановке они только ухудшали положение.
На планете все мы получили встряску, какой еще не испытывали, и оказались перед трагичным выбором. Что бы нам дал немедленный и бурный выплеск эмоций? Скорее всего он привел бы к конфликту, а ссора на звездолете опаснее пожара. Все надо было продумать - спокойно, хладнокровно, наедине, с учетом всех последствий, благо временем мы располагали. Так нас учили, так только и можно было в звездных экспедициях, где от поступка одного человека зависел коллектив. В некотором смысле мы представляли собой едино думающий мозг. Поэтому я не буду описывать личные переживания участников экспедиции; кто как молчал, был угрюм, пробовал улыбаться. Все это второстепенно перед лицом неприятной альтернативы, которая перед нами стояла.
Взрывая звезду, мы губили планету. Своими руками мы должны были уничтожить шедевр природы, равного которому нет.
Это примерно то же самое, что взять и лишить себя красок вечерней зари. Нам предстояло ограбить человечество, которое и не подозревало, чего лишается.
Так стоил ли того Проект?
Вот о чем думал каждый из нас, ведя сам с собой спор и битву, от которой изнемогал разум.
Проект давал нам в руки ключи от пространства. Погубив одну прекрасную планету, мы получали взамен миллионы новых. Прочь сомнения!
Так, но природа неповторима: погубленной красоты мы уже нигде не найдем.
С другой стороны, что в этой планете такого? Она прекрасна, видеть ее неизведанное счастье. Но это всего-навсего лед, ничего, кроме льда, тогда как польза Проекта реальна и ощутима. И пусть сколько угодно бунтуют чувства!
Будет ли, однако, у нас Галактика или нет, наши материальные интересы ничуть не пострадают. Значит, Проект удовлетворяет нашу страсть к познанию? Только это? И ради одной потребности надо поступиться другой? Просто потому, что одну ценность мы признаем большей, а другую меньшей?
Но какую? Если бы к началу XXI века не был освоен ближний космос, то промышленность по-прежнему теснилась бы на Земле. А это вызвало бы перегрев земного шара. Над такой перспективой не задумывались в годы первых стартов, но это ничего не меняет: выход в космос был жизненной необходимостью. И точно такая же необходимость, пусть мы не в силах ее осознать, движет нами и теперь.
Все логично… Но если бы перед нами встал выбор - лишиться лунных станций или лунных ночей, то чему было бы отдано предпочтение?
Так размышлял я бессонной ночью.
Кому, однако, нужна волшебная, прекрасная, как несбывшийся сон, планета, если на поездку к ней надо тратить жизнь?
Точно освежающим ветром повеяло в каюте, когда я отыскал этот решающий аргумент.
Решающий? С осуществлением Проекта такие расстояния станут пустяком. И тогда - вот тогда! - на первый план выйдет другое: какой ценой это достигнуто?
Легко было представить, что станут думать люди тогда… Почему я, Тимерин, все мы не вернулись, не доложили о новом обстоятельстве? Нашли бы, верно, другой способ осуществления Проекта, вышли бы в Галактику на сто лет позже, но вышли бы! И не такой ценой.
Почему они все решили сами?
Потому что…
Эта мысль была самой ужасной, и я ее отогнал. Конечно, она вернулась. Кто больше всего был заинтересован в осуществлении Проекта? Мы! Потому что мы отдали ему свою жизнь. Так не этот ли мотив перевесил все другие соображения?
Так не скажут, но так о нас подумают. И не без оснований.
А объективно? Хорошо, красота мира не имеет цены, и теоретически ее нельзя приносить в жертву. Практически люди делали это сплошь и рядом. В минувших веках. А потом наступала расплата. За отравленные реки, опустошенные леса, обезображенные пейзажи. Нам был преподан суровый урок, и мы зареклись: никогда, ни при каких обстоятельствах!
Никогда, ни при каких? Крайность - всегда ошибка. Галактика с ее миллиардами звезд и планет - это Галактика. Это выход человеческой энергии, спасение от застоя, безудержное развитие. Там, в открывшихся просторах, мы найдем то, о чем не мечталось. Удивительные миры, невообразимые проявления жизни, мудрость других цивилизаций. Так повернуться и уйти, чтобы все это осуществилось веком позже?
Подумаешь, столетие…
Вот именно. Если бы кто-нибудь на столетие отсрочил появление паровой машины, какими бы мы были теперь?
Решения, которое бы устраивало всех, не было.
Мы так хорошо понимали друг друга, что без всякого опроса в один и тот же момент нам стало ясно, что все уже передумано и никто не нашел выхода. И что пора принять решение, иначе мы изведем себя.
В «добрые старые» времена у людей, как правило, оставалась спасительная лазейка: лидер говорил «да» или «нет», остальные присоединялись, успокаивая совесть тем, что лидеру видней. Мы же ни на кого не могли переложить ответственность - таковы нормы нашего времени.
Разговор начал психолог. Ни с того ни с сего он вдруг предложил нам просмотреть стереозаписи того, что мы видели на планете.
Никто не возразил, и у многих затеплилась надежда. Неспроста же психолог предлагает нам этот просмотр. Может быть, он все-таки нашел выход?
Перед нами стоял завтрак - мы к нему не притронулись. Перед нами возникали и меркли призрачные города, творилось чудо красок, бесконечное, потрясающее, берущее за сердце болью восторга и радостного изумления. Запись многого не передавала, и все равно, все равно… По нервам невыносимо ударила звякнувшая под чьей-то рукой ложечка.
Потух последний кадр, и минуту-другую мы не могли понять, что более реально - вот это помещение, стол и еда на нем или то великое, волшебное, что мы только что видели.
Из отрешенности нас вывел голос психолога.
- Должен разочаровать вас. Мое предложение, конечно, не выход, но… Нажатие кнопки - и записей этих нет, будто никогда и не было. Так же чисто я берусь стереть у всех память об этой планете. А где нет памяти, там нет и терзаний, верно? Мы осуществим Проект, люди никогда не узнают, чего лишились, чувство вины никого не будет мучить! Стереть?
Молчание. А потом…
- Не надо! Все будем помнить!! Не сметь!!!
Впервые я видел лица своих друзей искаженными. Да, что бы я там ни говорил об эмоциях, а природа берет свое.
Но крики затихли, психолог смущенно развел руками, мы вновь стали самими собой…
Тогда холодно и внешне спокойно мы приняли решение. Вы знаете, каким оно было.
КЕМ ТЫ СТАНЕШЬ?
Гость долго шаркал подошвами о коврик, взблескивая очками, разматывал бесконечный шарф, наконец, с отрывистым: «Нет, нет, я сам!» - стал высвобождаться из шубы. Яранцев деликатно стушевал взгляд в сторону двери, где перистальтика пола тем временем поглощала испачканный коврик.
И прозевал перемену. Только что в прихожей суетился закутанный старик, теперь, вскинув всклокоченную бороду, на Яранцева решительно глядел жилистый, сухопарый Дон-Кихот в очках.
- Прошу, - подавив изумление, сказал Яранцев. - Чем обязан?
Это старомодное выражение как-то само собой слетело с его губ.
- Я из студии и по поводу Мика.
- Он что-нибудь натворил? - вырвалось у Яранцева.
- Натворил? - брови старика укоризненно сдвинулись. - Вы не то слово выбрали. Никакое производное от глагола «творить» не должно, не может иметь негативного смысла, ибо это великое, величайшее слово!
- Извините. Так в чем же дело?
- В том, - старик понизил голос, - что Мик готов совершить преступление.
Яранцев похолодел. Разом ожили все страхи, все опасения. Всегда, с самого дня рождения Мика он жил под гнетом вполне осознанной тревоги.
- Продолжайте, - глухо сказал он. - Как отец, я должен знать все. Какое преступление?
- Самое тяжкое, какое человек может совершить по отношению к самому себе. Мик бросает студию!
Облегчение было так велико и неожиданно, что из горла Яранцева вырвался хриплый смех. Усы старика возмущенно встопорщились.
- Поверьте, тут не до смеха! - вскричал он. - Если вы, как отец, не понимаете…
- Простите, - сказал Яранцев. - Я постараюсь все понять. Только давайте с самого начала. Итак, Мик собирается бросить студию. Жаль, он, кажется, достиг у вас кое-каких успехов.
- Кое-каких? О нет. Не кое-каких - выдающихся!
- Вот как? Это для меня новость…
«И прескверная, - подумал Яранцев. - Я так боялся отпугнуть Мика чрезмерным контролем, что это обернулось непростительным упущением. Остальные, впрочем, тоже хороши!»
- Мик замкнутый парень, - продолжал он вслух. - Но я справлялся в студии («Не я, другие, но это неважно»). Тем не менее информация, которую мне дали…
- Она не могла быть иной, - старик нахмурился. - Мик своеобразный юноша, и похвалу приходилось строго дозировать.
«Своеобразный? Уж это точно…»
- Подождите, - старик вдруг насторожился. - Вы, говорите, справлялись в студии? Это когда же?
- Я уже сейчас не помню… Видимо, я не с вами разговаривал.
- Странно, странно! Я не только учитель Мика, но и руководитель студии, должен бы знать. Меж тем…
- Я тоже кое-что должен бы знать об успехах Мика, однако, как видите, не знаю, - поспешно перебил его Яранцев. - Впрочем, дело, насколько я понимаю, не в этом. Мик собирается бросить студию, вы же считаете, что он допускает ошибку.
- Громадную, непростительную! Ведь он прирожденный мыслетик!
- Это точно? - недоверчиво спросил Яранцев.
- Вам мое имя, имя Андрея Ивановича Полосухина, очевидно, ничего не сказало, - старик гордо выпрямился. - Не в претензии. Но вы можете спросить Сегдина, можете спросить Беньковского, - надеюсь, эти фамилии вы слышали? Они подтвердят, да, да, они подтвердят, умеет ли Полосухин оценивать талант.
- Верю, верю! Просто это слишком неожиданно. Мик - прирожденный мыслетик! Кто бы мог подумать!
«Да уж, конечно, этого предположить никто не мог…»
- Я вот что скажу, - старик поднял палец. - Пояснение необходимо, поскольку мыслетика, если не ошибаюсь, не входит в сферу ваших умственных интересов, а я надеюсь иметь в вашем лице убежденного сторонника. Многие представляют себе мыслетику всего лишь как новый вид искусства, тогда как она синтез, вершина давних устремлений художника…
- Да, да, пожалуйста, продолжайте, - Яранцев, не в силах усидеть, взволнованно прошелся по комнате. - Я внимательно слушаю.
Но слушал он рассеянно. Он достаточно разбирался в мыслетике, а вот собраться с мыслями не мешало. Мыслетика? Что ж… Новое, многообещающее, сложное искусство. Конечно, синтез. Сплав живописи, скульптуры, стереокино, а может, еще и драматургии с биотоникой, с голографией. Прямое, без участия рук творение световых образов, абсолютно невещественных, но если надо, неотличимых на взгляд от действительности. Сидит человек и думает, а сложная аппаратура, улавливающая мысль, преображает фантазию в краски, движение, звук, придает видениям ума форму, телесность, мнимую и все же подлинную, как сама жизнь. Третья природа? Во всяком случае, не просто синтез новейшей техники с древнейшими видами искусства, а качественно иная ступень самого искусства. Еще немногие владеют новым и непривычным языком. Так же, как в первые годы кино: есть новый могучий способ выражения действительности, мало творцов, которые вдохнули бы в него жизнь.
И Мик - надежда? Немыслимо, непостижимо! Хотя… Кем стал бы способный физик в эпоху, когда не существовало физики? Жрецом? Кинорежиссер до возникновения кино? Неужели может быть так, что иногда сама природа предопределяет человека к одной, строго определенной деятельности, а если такого места в жизни не оказывается, то судьба его идет нелепым протуберанцем? Спекулятивные рассуждения, ничегошеньки мы толком не знаем… Что, что?
- …А вместо этого, вместо этого ваш мальчик хочет быть освоителем! Вам это известно?
Яранцев кивнул. Верно, Мик жаждет осваивать дикие планеты. Любопытная ситуация! Наталкивающая на некоторые размышления и, пожалуй, выводы, с которыми, впрочем, не стоит спешить.
- Так, - заключил Яранцев. - И вы хотите, чтобы я отговорил Мика.
- Вот именно: настаиваю.
- А если второе увлечение сильнее первого?
- Ни а коей мере! Это всего лишь зуд мускулов и подогретая всеобщим интересом романтика космических далей. Творчество, создание ценностей ума и чувств, а не грубый набег на девственные просторы, уверяю, вот истинное его призвание!
- Набег? - удивленно переспросил Яранцев. - Какая неожиданная ассоциация!
- Почему же? - буркнул старик. - Схватка со стихиями, полезная и достойная сама по себе, требует от человека качеств меча, иначе промах и гибель.
- Характер Мика, по-вашему, не годится для битв?
- Не о том забота! - последовал уже слегка раздраженный ответ. - Есть перспектива большая, есть меньшая, и опрометчивый выбор - потеря для общества, еще горшая - для человека, который…
Украдкой Яранцев взглянул на портрет Мика. Со стены смотрело скуластой, обветренное, не слишком красивое лицо юноши, в котором, однако, угадывался характер. Светлые глаза жадно вбирали мир; была в них и задумчивая углубленность, словно их обладатель прислушивался к чему-то внутри себя. Интересное, неустоявшееся и, надо признать, вовсе не исключительное лицо современного юноши.
Современного? Разумеется, а какого еще?
Старик на лету перехватил взгляд Яранцева.
- Я не предсказываю ему лавров в искусстве, но избавьте его от заведомо чуждой ему судьбы! - с пафосом произнес он.
- Судьба… - тихо сказал Яранцев. - Много ли мы знаем о ее слагаемых? У меня к вам вопрос. Не будь мыслетики, могли бы способности Мика в принципе так же ярко проявиться, допустим, в живописи?
- Нет, - старик затряс головой. - Нет.
- Почему?
- Это легче почувствовать, чем объяснить. Видите ли, живопись или даже ваяние - статичные искусства. Не в смысле экспрессии, а в смысле… э… Если на холсте мчатся кони, способны вы представить их себе вне и помимо пространства картины? Можете вы услышать звон их подков в зале, ощутить подле своего лица горячий ветер галопа?
- Трудновато.
- Вот! А мыслетика - это мощь созидания целого мира. Не образа, не слепка, а самого мира! Она требует… гм… пространственного напряжения, динамичного выражения всех чувств… Я, верно, туманно говорю, терминология, к сожалению, не разработана и…
- Можно ли сделать вывод, что мыслетика требует некоторых качеств характера, совсем не обязательных для живописи?
- Простите, я не психолог. Но до некоторой степени… Да, пожалуй. Но мы опять не о том говорим!
- Разве? Будем логичны. Вы хотите подавить в Мике стремление к риску и схватке, пусть временное, опрометчивое, но властное. Допустим, он поддастся нам, хоть я в это не верю. Но кем он станет тогда?
- Как, я не убедил вас?
- Нет.
- Вы отказываетесь мне помочь?
- Безусловно.
Старик неподвижно уставился на свои руки, и эти руки, в скрученных темных венах под пергаментной кожей, вдруг показались Яранцеву корневищами некогда сильного, но теперь одряхлевшего тела.
- Не расстраивайтесь, - мягко сказал он. - Уйдет Мик, будут другие, может, куда более способные…
- Тогда так, - рука сухо и неожиданно ударила по столу. - Вы не пожелали принять мою позицию, но я пойду до конца. Вы, конечно, знаете о «праве на талант».
- Это еще что? - воскликнул Яранцев. - Уж не собираетесь ли вы им воспользоваться?
- Именно! Именно собираюсь! - в комнате словно пронесся звук боевой трубы. - Право гласит: человек волен распоряжаться своим талантом, если его приложение не направлено на преступления или если человек не губит его своим поведением. В последнем случае, поскольку гибель таланта наносит ущерб всему обществу, оно имеет право, не прибегая к принуждению, воздействовать на личность. Я докажу, что такое вмешательство в судьбу Мика необходимо!
- Вы отдаете себе отчет в последствиях? - Яранцев был готов и вспылить и рассмеяться. - Существует и ответственность общества: лица, препятствующие проявлению таланта, равно как и развитию личности, несут строгую ответственность. Вас это не смущает?
- Нет, потому что мне дорого будущее Мика, - последовал непоколебимый ответ.
«Вот так история! - подумал Яранцев. - Если все пустить на самотек, то, быть может, этот фанатик своего и добьется. Тогда Мика просто-напросто сам он ничего и не заподозрит - провалят на вступительных экзаменах. На второй и, уж безусловно, третий раз его все равно примут, так как упорство - признак стойкого влечения к профессии. Но надо ли его подвергать таким испытаниям? Освоение планет… Для опыта неплохо бы убедиться, что же туда его тянет - мода или наследственные черты характера? Может, оставить все идти своим чередом? Нельзя, слишком грубое вмешательство. Исключительное, а этого быть не должно. Значит, попытку надо пресечь. Сделать это, конечно, можно, но скольких людей придется тогда ввести в курс дела? Рискованно…»
Размышляя, Яранцев наблюдал за стариком. Тот словно так и замер с поднятым копьем, готовый к отпору, готовый стоять насмерть. Воистину Дон-Кихот. Только стариковские пальцы дрожат, только слезящийся глаз скошен на портрет Мика, и в нем такая тоска…
«Да он же его любит! - ахнул Яранцев. - Все, все это из любви к Мику, к самому талантливому, может быть, последнему ученику, в котором вся надежда, на которого нерастраченная нежность… Отсюда - ведь для его же блага! - попытки уберечь и направить. А неблагодарный Мик… Неблагодарный? Мик был угнетен последние дни. Я-то, слепец, подозревал неразделенную любовь, а тут, похоже, совсем, совсем другое… Да, это так. Ах, мальчик, мальчик, если бы ты знал себя таким, каким ты был когда-то…»
- Внуков у вас нет? - внезапно спросил Яранцев.
Старик вздрогнул.
- Нет… Простите, какое это имеет отношение?
- И детей тоже не было, - уверенно продолжил Яранцев. - Но это действительно не имеет никакого отношения к тому, что я хочу сказать. Кто такой, по-вашему, Мик?
- Как это? - опешил Полосухин. - Мик - это Мик, как вы - это вы, а я это я.
- Не совсем, - возразил Яранцев. - Вы - это вы, я - это тоже я, а вот Мик… Недавно, говоря о его намерениях, вы обронили слова «набег» и «меч». Случайность?
- Не понимаю вас!
- Должны понять, - властно сказал Яранцев. - Освоение планет, борьба со стихиями потянули у вас цепочку: набег, меч… Дальше, дальше, что приходит вам на ум? Не думая, быстро, подсознательная ассоциация, ну?
- Варварство, нелепость… - поддавшись напору, пробормотал старик. Но…
- Имена, с этим связанные? Набег, варварство - кто?
- Чингисхан, Аттила…
- Стоп! Мик и есть Аттила.
Стеклянными глазами старик уставился на Яранцева.
- Верно! - вскричал он тоненько. - Так относиться к своему дарованию может только варвар!
- Вы не поняли, - понизив голос, сказал Яранцев. - Не в том дело, что Мик с вашей точки зрения поступает как варвар. Он по рождению варвар. Он Аттила. Тот самый «бич божий», который полтора тысячелетия назад опустошил Европу. В нем мозг Аттилы, кровь Аттилы, это вовсе не иносказание, он _Аттила_!
- Оч-чень интересно, - ледяным тоном сказал старик. - Как прикажете истолковать? Исключив весь этот бред…
- Никакой это не бред, - устало сказал Яранцев. - Могилу Аттилы нашли и раскопали четверть века назад, а любая уцелевшая клетка тела хранит генетическую программу всего организма. Такие клетки отыскались, остальное было делом эмбрионотехники - и не таким уж сложным. Родился, воскрес, был создан - это уж как хотите - младенец Аттила. У нас детей не было, мы взяли его. Со смертью Магды Аттилу-Мика воспитываю я один. Теперь он вырос… Вот и все.
На этот раз слова, сказанные столь буднично и просто, дошли. Сжалось, как-то усохло тело старика, съежилось, потемнело от множества новых морщин лицо, а борода, усы выделились, будто побелели, и стали главенствующими на этом опустошенном лице.
Так длилось с минуту, потом глаза ожили, точно сквозь гарь пробился светлый ключ.
- Почему… почему же Мик?
Голос прошелестел так тихо, что Яранцев не вдруг его расслышал, а расслышав, не сразу уловил смысл вопроса.
- Просто мальчика надо было как-то назвать!
- Зачем?
- Что зачем?
- Все…
- Но это же ясно! Проблема среды и наследственности. Вот новорожденный Аттила. А вот наше общество. Что выйдет теперь из кровавого насильника?
- Вы стали ему отцом…
- Да.
- Так требовал эксперимент…
- Ну да.
- Ненавидя прошлое Мика, остерегаясь его задатков, пугаясь проявлений характера…
Яранцев нахмурился.
- Пережитое - пережито, - сказал он резко. - Оставим это.
Старик сорвал очки, словно они увидели нечто такое, чему не должны быть свидетелями. Помедлил и спросил, не глядя на Яранцева:
- Мик, конечно, не знает, кто он?
- И никогда не узнает, - твердо ответил тот. - Это тайна немногих.
- Даже если я ему скажу?
- Вы не скажете.
- Тоже верно… - старик кивнул.
«Мне о многом придется умолчать», - с горьким восхищением и жалостью к Яранцеву подумал он, чувствуя себя разбитым, беспомощным перед ослепительным, грозно-непредсказуемым величием того, что дерзнули сделать эти непонятные ему люди.
Недаром он ощутил что-то глубоко личное еще в той, самой первой работе Мика. Той, где по равнине, безнадежно зеленой и гладкой, к горизонту отчаянно спешила крохотная фигура ребенка. А с неба, смятенно и пристально, как бы заклиная беду, на ребенка смотрело похожее на глаз солнце.
То же самое выражение старик уловил теперь во взгляде Яранцева. Того, кто был отцом Мика и воспитателем Аттилы. Кто знал и действовал, любил и страшился, растил сына и ставил над ним эксперимент. И кто, очевидно, так и не понял, почему Мик стремится уйти подальше от дома.



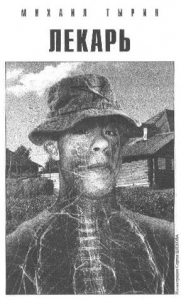

Комментарии к книге «Проверка на разумность», Дмитрий Александрович Биленкин
Всего 0 комментариев