Михаил ПЕРВУХИН
КОЛЫБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Что за люди были три траппера. — Нед Невилл, Макс Грубер и Падди. — Как мы забрались на край света. — Почтеннейший «Сурок» и его неудачное свадебное пиршество. — Дух «Сурка» изъявляет эскимосам свою волю. — «Белый дедушка» из моржовой кости, который тоже начинает разговаривать. — Исчезновение эскимосов. — Покинутые в ледяной пустыне. — Прибавление семейства: три траппера и «Находка». — Мы отправляемся в далекий путь.
Зовут меня Нед Невилл. Я — канадец родом. Образования я никакого не получил, но читать я умею: выучил меня, знаете ли, один чудак, с которым мы пробродили, должно быть, добрых три года по ледяным полям у мыса Ба-турст в качестве охотников на службе богатого агента «Пушной компании». Был этот мой товарищ немец, и был он офицером там, у себя на родине. Но что-то с ним случилось, и попал он к нам в Канаду, и сделался «лесным бродягой». Но, что бы он ни наделал у себя на родине, у нас этот Макс Грубер не позволял себе ни малейшей некорректности: чтобы он стащил у товарища пачку табака, тайком выпил бы припасенную другим бутылочку виски или, наконец, унес кем-нибудь добытую шкуру лисицы, соболя, бобра, ни Боже мой! Этого, по совести скажу, за Максом не водилось.
Одно было у него, но мы, трапперы, с этим мирились, потому что мы понимали: в самом деле, от той жизни, какую ведем мы, — от жизни, полной лишений, полной опасности, среди угрюмых лесов, подавляющих своим мертвым безлюдьем, в ледяных полях, под небом, таким скупым на солнечный свет, есть от чего самым здоровым мозгам потускнеть! Случилось что-то и с мозгами нашего приятеля.
Может быть, ничего серьезного тут не было: просто по временам у него мозги трогались с места.
И вот, когда на Макса Грубера находила «полоса», как мы говорили, он чудил.
Он начинал пить, пить без конца, пока не пропивал всего. И чем больше пил, тем веселее, тем разговорчивее становился, тем больше «заносился».
Ну и, конечно, городил при этом всяческие глупости.
Станет, например, на покрытом снегом в три метра толщины холме и кричит.:
— Да вы знаете ли, невежды, что здесь некогда пальмовые леса росли? Да вам известно ли, глупцы, что здесь, поблизости от полюса, земля была богаче, чем теперь на Сандвичевых островах, а жизнь пышнее жизни тропической? Да вы чувствуете ли, что, может быть, здесь вот, где теперь, кроме снега, ничего нет, — колыбель человечества была?
Ну, и, конечно, кто-нибудь из нас, охотников, слушая подобные глупости, бывало, не выдержит да и спросит немца:
— А она из дерева была, люлька-то эта самая? Или железная?
А Макс Грубер посмотрит на спрашивающего дикими глазами, за голову схватится, мотает. Словно, простите за выражение, блоха ему в ухо вскочила да выплясывает там, в ухе, «джигу», а от этого в ухе да и в мозгах у немца такой гул, словно весь гарнизон форта Гуд-Хоп на барабанах «зорю» выколачивать принялся.
— Дураки! — кричит. — Идиоты! Жалкие глупцы! Полудикари!
А мы, бывало, хохочем, заливаемся. Он вспылит: вот-вот, кажется, набросится на товарищей с кулаками… Голубые глаза блестят, грудь ходуном ходит… а потом успокоится так же быстро, как и вспыхнул, плюнет, засмеется, уйдет куда-нибудь, часа два никому на глаза не показывается, где-то бродит. Вернется же, как ни в чем не бывало. Только молчаливее обыкновенного.
Водились за Максом Грубером и странности кое-какие, но ничего серьезного. Вообще чудаком он был, уж это так.
Я не говорю, что наш чудной немец дураком был. Но что лгун он был отчаянный, ей Богу, голову на отсечение дам. Посмотрит, например, на какую-нибудь звезду и ляпает:
— А до этой звезды по прямой линии столько-то километров.
Право, так и говорит, как будто бы он сам ниточкой это расстояние измерял. И еще километры эти вычисляет какими-то квадрупедильонами, секстильонами или подобной чепухой.
Или вдруг возьмет да и ляпнет:
— Есть, — говорит, — пушки, которые ядро бросают за двенадцать километров. А есть и такие, что и за двадцать…
Ну, уж тут непременно кто-нибудь ему скажет:
— Ври, немец, да не завирайся. Если из самого лучшего карабина можно пулю на пятьсот, семьсот метров послать, то как же это мыслимо, чтобы из пушки — на двадцать километров? Явный вздор.
А он хохочет.
Ну-с, так вот, с этим самым чудаком и сочинителем всяческих сказок пришлось и мне пережить одно приключение. И, признаться, после я долго не мог опомниться. Товарищи, так те и сейчас думают, что я от немца его безумием заразился и мои мозги, как и его, перевернулись. А когда я им рассказывал про то, что я видел собственными глазами, джентльмены, так они со смеху покатывались. Вот поэтому-то, джентльмены, я очень-очень неохотно и рассказываю эту историю.
Одного только человека я знаю, который, выслушав меня, не моргал глазами, не улыбался, а, напротив, очень заинтересовался. Все выспрашивал: да как, да что, да почему?
И даже заставлял меня рисовать ту штуку, о которой будет впереди речь. А на другую весну, когда я пришел в форт Гуд-Хоп за порохом, так он вытащил мне книгу, ей-Богу, самую настоящую, печатную книгу, и показал мне картинку. А на этой картинке, как две капли воды, был тот самый зверь, с которым мы тогда встретились на островах. Я ужасно удивился и спрашиваю: это вы, доктор, намазали?
А он мне тычет в глаза надпись на книге:
— Допотопные чудовища. Лекции профессора Гетчинсона.
И издана эта книжка тогда, когда мы с Максом Грубером и в глаза наших островов не видели. За много лет назад.
— Значит, — говорю, — и в других местах эта штука водится, доктор Максвелл?
А он только рассмеялся:
— Водилась, — говорит. — До потопа!
Конечно, шутник, и больше ничего: кто же не знает, что потопа в наших местах никогда не было? Был потоп, это я сам знаю, это там, где праотец Ной жил. А где он жил? Если не в Мексике, то в Индии. Я эти два места всегда путаю.
На этом, собственно говоря, и был наш разговор покончен. А когда на следующую весну я пришел в форт Гуд-Хоп, то доктора Максвелла не застал: соскучился он в нашей глуши, вышел в отставку и поехал в Аляску, на золотые прииски.
А с майором Гордоном и лейтенантом Гримом я разговаривать подробно побоялся: они — гордые офицеры, и на простого траппера смотрят так, как белка с верхушки кедра на крота смотрит. Кроме того, история, в самом деле, таки довольно странная. Расскажи мне ее кто-нибудь из трапперов, я, признаться, и сам едва ли бы поверил.
Но, знаете, лучше я расскажу всю эту историю по порядку. Вы можете, если хотите, написать все, что я расскажу, и даже послать в газеты. Только предупреждаю: будьте осторожны. Пожалуйста, будьте осторожны! А то люди вам не поверят, и будут думать, что вы все это просто-напросто выдумали, и больше ничего. Так-то.
* * *
Итак, было нас трое: Нед Невилл, то есть я, потом немец, Макс Грубер, и еще ирландец. Вот, хоть убей, не знаю, каково было его настоящее имя. Но мы его звали просто Падди.
Однажды весной, это было добрых лет семь назад, забрались мы так далеко на север, как никогда раньше. Уж очень благоприятно сложились для нас обстоятельства: попали мы в становище эскимосов в устьях Волчьей Реки, а племя собирается в кочевку, на рыбную ловлю, на острова. Встретили они нас не очень радушно: чуть не приняли в копья. Да ничего, все обошлось хорошо, сладилось. К этому племени мы и примазались, думаем, может, попадем таким образом туда, где зверь непуганый, птица, человека никогда не видавшая, водится. И кто знает? Ведь волка ноги кормят… А в тех местах, где мы охотились раньше, дичь достаточно напугана. О хороших экземплярах, например, соболя, горностая, голубой лисицы как о великой редкости говорят… А на островах, может, и на нашу долю подвернется под выстрел этакая штучка, за одну пушистую шкурку которой можно полтораста, двести долларов цапнуть. Долго рассказывать об этом не стану: что интересного для таких джентльменов, как вы, в жизни трапперов или хотя бы эскимосов? Скитания по пустыням, лишения, опасности на каждом шагу, — вот и все.
Ставишь себе силки и капканы на зверя или гонишься за ним на лыжах, в челноках, ползком по снеговому насту, стараешься перехитрить хитрого, пересилить сильного, обогнать скорого… Что же тут особо интересного?
Правда, будь я, джентльмены, не с вами, а в своей компании, с трапперами, которые любят иной раз распустить языки, сидя где-нибудь у костра, и я нашел бы, о чем рассказывать, потому что, слава Богу, поглядел я на мир, пережил немало. Охотился на белого медведя и на тюленей, уложил не один десяток мускусных быков и не одну сотню волков. Естественно, что и пережил при этом немало. Но повторяю: это может быть интересно для трапперов же, а не для таких образованных горожан, как вы, и потому, уж если рассказывать вам что-нибудь, то пусть это будет именно та история, о которой вы допрашиваетесь, а не болтовня о схватках с медведями, погоне на лыжах за лосем или что-нибудь подобное…
Ну-с, так вот, значит, бродили мы, трое трапперов, Макс Грубер, Падди и я, по ледяным пустыням Северной Канады в поисках пушного зверя с одним племенем эскимосов, обитавшим раньше в устьях Волчьей реки, а потом пустившимся в странствования.
Ничего себе люди, эти эскимосы. Конечно, не то, что настоящий белый человек или хотя бы метис. Но душа, думаю, и у них есть. Может быть, маленькая, так сказать, неполная, но все же душа. Да, между прочим, я, знаете, думаю, что совершенно напрасно некоторые молодцы полагают, будто у животных души нет: я, например, наблюдая, как живут, ну, хотя бы бобры, — какие хитроумные штуки они устраивают, какие постройки возводят, думаю, что у этих зверьков, пожалуй, души побольше, чем у какого-нибудь парня, который умеет только жевать табак, хвастать да божиться…
Но это, повторяю, я говорю только так, между прочим. А к сути дела относится только то, что мы, трое трапперов, свели, как я сказал раньше, большую дружбу с одним эскимосским племенем, сжились с этими людишками, делили с ними не только кусок хлеба, но и их радости и их горе. Да так, с этими эскимосами, мы и пространствовали тогда три года, от острова к острову. Где можно — на санях. Знаете, — запрягут штук двадцать собак длинноухих в санки легкие, и катай, валяй. Где приходится через какой-нибудь морской рукав пробраться, у эскимосов каюки-лодочки налицо. А кое-где приходится и просто на своих на двоих странствовать, да еще сани за собой тащить десятки миль.
Так побывали мы на островах святого Патрика, а потом по льду добрались и до острова Перри.
Ну, а тут и началось: немец наш, в сущности, и был причиною всего. Я его не виню. Но его проклятые штуки втянули нас в историю, в которую нам не следовало бы мешаться. А, надо вам заметить, на эскимосов он оказывал огромное влияние, и слушали они его как… ну, как древние евреи, когда они, знаете, переселялись на Дальний Запад и шли по пампасам, слушали своего Авраама. И этим влиянием Макс пользовался без особых стеснений, заставляя все племя странствовать, забираться все дальше на дальний север, куда сами эскимосы ни за что не проникли бы. А теперь они шли, и мы с ними. Дело, видите ли, в том, что наш Макс приобрел славу первоклассного шамана.
Правда, он лечил эскимосов. Ну, там разные компрессы или настойки из ягелей и мхов, да еще была у него в запасе хина. А, главное, очень уж он ловко умел зашивать раны. Вот, например, мне как-то пришлось напороться на мускусного быка, который мне ударом крутого рога живот распорол, кишки выпустил.
Что вы думаете?
Макс промыл рану морской водой, кишки опять собрал и аккуратно на место положил. Только, не знаю, собственно, зачем, нитку в морской же воде вымочил, а иголку все на огне нагревал. Но, так или иначе, дырку-то он мне зашил, и отлично срослось все. А теперь имеется только рубец. Ну, да трапперу за этим не гоняться, знаете ли… Вот этими фокусами по части заживления ран приобрел он среди эскимосов большую популярность. Совсем стал «меди-цин-мэн». Но если бы не проделал он одной штуки, все же, думаю, закончилась бы наша дружба с эскимосами тем, что, побродив, племя вместе с нами вернулось бы на берега Волчьей реки и ничего особенного мы не видели бы, не пережили бы. Но тут вышла одна закавыка.
У этих эскимосов и посейчас так бывает: если их меди-цин-мэн выходит больного или раненого, — отлично. Получает он там какое-то вознаграждение. А если залечит его до смерти, то смотри в оба: как бы родственники умершего не запустили тебе в печенку стрелу или не пощупали твоих кишок острием гарпуна. Поэтому, признаться, мы с Падди но очень-то благосклонно смотрели на медицинские подвиги нашего компаньона: хорошо, пока все идет удачно, пока врачеванье идет гладко. Но, вообще, это штука очень тонкая, и порядочному трапперу связываться с такими вещами нет никакого резона, тем больше, когда имеешь дело с эскимосами. С ними самое лучшее держаться в стороне.
А то забьют себе в головы какую-нибудь ерунду, и тогда пиши пропало.
Народ они угрюмый, злопамятный. А уж насчет их суеверности и говорить не стоит: в головах доброй дюжины совсем выживших из ума канадских белых женщин или трех индейских «сквоу» вы не наберете того количества предрассудков, которое сидит в душе самого умного, самого, кажется, здравомыслящего эскимоса.
Вот поэтому-то и говорю: дружить с эскимосами нашему брату, трапперу, конечно, можно. Но особенно сближаться, а, главное, целиком доверять, нет, не следует.
Макс Грубер смотрел на это иначе, все сближался с эскимосами, искал случая и возможности вмешиваться в их дела, в их жизнь, когда, по моему мнению, этого совсем делать не следовало. На этом мы и нагрелись, если можно так выразиться.
Была, знаете, одна семья эскимосская.
Главу этой семьи звали «Сурок», потому что он спать любил. Правду сказать, старикашка был препротивный. Толстый, с гноящимися глазами, с раздувшимся носом, а изо рта волчьи клыки торчат. Была у него застарелая цинга, и она то как будто покидала его, то возвращалась, словно играя с ним. Но славился он у соплеменников своей силой, ловкостью на охоте и своим богатством. А богатство это было тоже весьма своеобразно. Нашел это «Сурок» во время охотничьей экспедиции замерзших одиннадцать человек. По всем признакам, экипаж какого-нибудь затертого льдами китоловного судна. Ну и, конечно, обобрал «Сурок» трупы этих несчастных до ниточки, и хоть кроме жалких лохмотьев почти ничего не было у них, зато привез с собой «Сурок» в эскимосский поселок медную штуку, которую ученые господа назвали бы секстаном. Вся, знаете, если ее почистить, она горит, как настоящее золото.
Ну, и еще притащил он несколько кусков железа, из которого потом выделывал рыболовные крючки. И так далее.
Словом, по эскимосским понятиям был он страшный богач.
И вздумалось этому богачу, на старости лет, обзавестись молодой женой, и выбрал он маленькую эскимосоч-ку. Было ей имя, по-эскимосски, А-на-ик. Кажется, это значит — «прибыль» или «находка», или что-то в этом роде. Но мы ее звали попросту Энни, потому что, знаете, так короче.
Купил «Сурок» эту девочку у отца или отчима, горчайшего пьяницы и нищего, за десять рыболовных крючков, шесть штук собак, матросскую фланелевую рубашку и старый карманный складной нож. Но молодке был он, должно быть, противен, как тысяча чертей, и она сбежала из его чума в самый час брачного пиршества, когда все родичи «Сурка» и соплеменники нажрались до отвала и напились настойки какого-то ядовитого гриба.
Девочку эту поймали, избили, связали. Собственный папаша ее или отчим усердно при этом помогал, как водится, и привезли опять в чум «Сурка», да и закатали опять повторение брачного пиршества. И что тут вышло, никто в точности не знает. Только утром старые ведьмы подняли страшный крик: лежит «Сурок» перед своим снеговым шалашом, не шевелясь, как пробывшая в воде три недели крыса, раздулся горой, а лицо почернело, и смотреть на него страшно. А девочки опять нет.
Ну, и решила вся эта компания, что она, Энни, отравила своего супруга каким-то ядовитым зельем, а сама удрала.
И, Боже ты мой, Господи, какая тут катавасия поднялась!
Опять за беглянкой погнались, нашли, привезли. И, значит, по суду Линча, что ли, приговорили ее к смерти. Но на суде-то этом и были только одни родичи покойного «Сурка», так что приговор несчастной девчонке можно было заранее знать.
Правду сказать, было уже очень противно это, как ее хотели зарезать, словно телушку, на наших глазах. И будь это при других условиях, я и сам бы поднялся на ее защиту. Но тут дело было безнадежно, и так бы девочке и пропасть.
Однако вышло не так.
Как сказали мы нашему Максу, в чем дело, тот совсем с ума спятил. Даже побелел весь.
— Я, — говорит, — хоть и выгнан со службы, но я — офицер. И честь моего мундира не позволяет мне допустить подобное варварство…
Подивился я: что эта за штука — честь мундира?
Во-первых, уж если на то, никакого подобия мундира на нашем приятеле никогда и никто из нас не видел.
Таскал он гарусную вязаную фуфайку, купил ее за доллар у одного солдата в форте Гуд-Хоп.
Затем была у него великолепная охотничья куртка из оленьей замши. Ну, когда бывало уж слишком холодно, то напяливал он на свои плечи еще эскимосскую «малицу», меховую рубашку с расшитыми рукавами. А мундир? Да его не было и в помине!
Но тут расходился наш «дутчмэн». Ходит петухом, усы закрутил кверху, глаза блестят:
— Не позволю! Не допущу!
Ну-с, чтобы долго не рассказывать, вышла тут такая история: задал наш Макс эскимосам вопрос, спрашивали ли они дух самого «Сурка», кто виновник его смерти.
Те глаза, извините, вылупили.
А «дутчмэн» на своем стоит:
— Да как же так? Да отчего же вы его не спросили?
— А как его спрашивать? Мы знаем, что лежит он, молчит. Вот и все. А чтобы еще его спрашивать, никому и в голову не приходило!
Ну, тут Макс в ответ:
— Пойдемте, я при всех вас его спрошу!
Переглянулись мы с Падди: что он, с ума сошел, что ли?
Но, однако, пошли всей компанией. Заинтересовала эта штука и меня.
А лежал «Сурок» на открытом месте: найдя его тогда утром у шалаша, сородичи по правилам положили труп на саночки, мальчишек да старух поставили сторожить, чтобы собаки его не слопали.
Приходим, окружили «Сурка» кольцом, «дутчмэн» положил свою руку на грудь трупа и спрашивает:
— Кто, о, великий охотник, могучий «Сурок», сын «Косого моржа», лучший из людей, в твоей смерти повинен? Кто послал твою душу туда, где почившие вечно сидят у огромных костров, пьют из кубков оленью кровь и едят китовый жир?
Три раза повторил он свой вопрос. А за третьим, вдруг, не то из-под земли, не то с неба, знаете, таким глухим, замогильным голосом, вдруг и отвечает наш приятель «Сурок»:
— Никто не повинен в смерти моей. Просто прискучила мне жизнь на земле, ушла моя душа в поля, где эскимосы гоняются за «Белым Оленем», где пьют его кровь и где едят китовое мясо.
И что тут было, вы себе представить не можете: как шарахнулись эскимосы от трупа заговорившего «Сурка» во все стороны, да с криком, да с гвалтом, да падая. Старуху какую-то придавили, она визжит, как поросенок. Мужчины, да не какие-нибудь подростки, а настоящие охотники, или пластом на снегу лежат, или улепетывают.
Один, «Волчий Клык» его звали, так тот полез в чужой шалаш, да застрял: голова и плечи пролезли, а дальше ни с места, ни взад ни вперед.
Другой в снеговом сугробе застрял, насилу потом вытащили. И собаки проклятые еще переполоха подбавили: перепугались ли они, что люди шумят, а может быть, и сами по себе что-нибудь неладное заметили, только стали они метаться по всему поселку да выть, да лаять…
Такой гвалт подняли, словно на ярмарке в форте Гуд-Хоп, когда с одной стороны целое индейское племя со своими «сквоу» прикочует, а с другой — трапперов сотни три соберется да покончат одним духом с несколькими бочонками виски…
Словом, столпотворение египетское…
Каюсь, и я, как услышал этот замогильный голос, тоже карабин из рук выронил, чувствую, шапка сама с головы валится. До тридцати лет дожил, многое видел, многое пережил. Но чтобы мертвый, ей Богу, совсем мертвый человек с живыми разговаривал, — как хотите, это вещь совсем не простая. Без колдовства тут не обойтись.
Однако на этом не покончили: решил совет эскимосских старейшин, что ли, что от смертной казни, значит, «Находка» или Энни — свободна. Но родичи «Сурка» поставили ультиматум.
— Пусть отец или отчим Энни вернет родичам «Сурка» весь тот выкуп, который был за Энни заплачен, потому что, понимаете вы, Энни-то женой для «Сурка» не была. А пока не вернет, то Энни остается в семье старшего в роде «Сурка».
И всем нам стало понятно: загрызут девку. Ей-Богу. Там эти эскимосские бабы, чуть только молодость промелькнет, в формениых ведьм превращаются. Если при такой бабе крикнуть невзначай, хлопнуть ее, подкравшись, по плечу или выстрелить, с ней начинается припадок. Она крутится, как червяк на крючке, визжит, лает, хохочет. А то, испугавшись, может начать бросаться на окружающих с ножом, не разбирая щенка от собственного младенца, камня от живого человека.
Ну, и некоторые бабы отлично умеют пользоваться тем обстоятельством, что такая «одержимая духом» признается невменяемой. Ее нельзя судить, ее нельзя наказывать.
И вот, когда такая баба хочет сжить другую со света, ничего нет проще: притворится полоумной, да хоть собственными зубами соперницу загрызет, или копьем в нее шарахнет, или кипятком обварит, а сама тут же хлоп на снег, и пошла крутиться, как бесноватая, и никто ее тронуть не смеет. Иной раз, я это видел, и так бывает, что боятся даже помощь убиваемой оказать: твердят, что это какой-то дух потребовал себе жертву. Значит, нельзя мешать. А то, говорят, если вмешаться, то, знаете ли, какой-нибудь джентльмен Вельзевул, Люцифер или как их там еще называли древние ацтеки, разгневается, и на того, кто раненой оказывает помощь, накинется, живьем утащит его в преисподнюю. Может быть, вам, джентльмены, покажется все это очень странным: я про это невежество, про эту темноту эскимосскую говорю.
Но, джентльмены, не судите эскимосов очень строго! Лучше подумайте, при каких условиях они, бедняки, живут. Вспомните, что, не говоря уже о разных переживаемых опасностях, приходится им обитать в том самом краю, где бывает долгомесячная полярная ночь.
Счастлив ваш Бог, что вы-то с этой штукой не знакомы. Разве только по книжкам.
Упаси меня Боже говорить что-нибудь о книжках дурное: я хоть и простой «лесной бродяга», но я отлично понимаю, что книжка — великое дело. Но одно дело — слышать рассказ, хотя бы и самый ловкий, а совсем иное дело — на своей шкуре испытывать то, о чем в книжках говорится. Вы вот про полярную ночь прочтете в пять, много десять минут, да и баста. А не угодно ли вам пять или шесть месяцев пробыть, не видя солнышка?
В первый раз, как испытал я это удовольствие, верите, думал — не вынесу. Лучше руки на себя наложить. Лучше в какой-нибудь проруби утопиться, или, знаете, зарядить, как следует, карабин, разуть правую ногу, чтобы можно было приловчиться и большим пальцем ноги дернуть за собачку, спустить курок…
В этот первый раз застряли мы — целая партия трапперов — на берегах Баффиновой земли. И был с нами мой двоюродный брат, тоже Невилл, только его звали Пьером. Был он старше меня, опытнее, и я из его повиновения никогда не выходил. Увидел он, что творится со мной, и взял он с меня клятву, что я с собою не покончу самоубийством. Так, верите, я иногда перед ним по полчаса ползал, ноги ему целовал, все просил, чтобы он клятву с меня снял. И молил его я, и проклинал, и упрашивал, чтобы он своими руками меня прирезал, что ли. Лишь бы уйти мне от этой проклятой полярной ночи!
Вот до чего, джентльмены, доходит человек, которому приходится жить у нас, на краю света!
Но ведь мы-то, белые, большей частью только случайно надолго попадаем в те области, где полярная ночь царит и, испытав это удовольствие, возвращаемся на юг. А эскимосы живут там. Поймите это: живут там, где ночь полгода тянется!
Так можно ли строго судить этих пасынков природы? Можно ли от них требовать, чтобы они фокусов не устраивали, глупостей не делали?
Словом, судите сами.
Ну-с, так вот, дело находилось в таком положении: папаша или отчим Энни давным-давно промотал выкуп, полученный от покойного «Сурка» за девочку. Значит, возвратить его не может родичам Энни. Значит, Энни остается в семье «Сурка» на положении не то пленницы-заложницы, не то рабыни.
А у «Сурка» есть сестрицы, есть почтеннейшая мамаша.
Я, надо вам заметить, к леди всех сортов привык относиться с уважением. Вы можете спросить в форте Гуд-Хоп кого угодно, все вам в одно слово скажут, что Нед Невилл, охотник, даже здорово подвыпив, никогда не позволит себе в присутствии леди сделать какое-либо неприличие, будь эта леди не то что супруга майора Гордона, а хотя бы маркитантка Бесси, с которой, вы это сами, должно быть, знаете, у солдат форта постоянные истории бывают. Но при всем моем уважении к леди вообще, — эту милую роденьку блаженной памяти почившего на лоне фараона «Сурка» я никак не могу назвать иным словом, как сверхъестественная… ну, скажем мягко — дрянь. Ведьма на ведьме, и ведьмой ведьму погоняет.
Вот и представьте себе: что будет из Энни, если ее оставить в распоряжении этой компании?
Ясное дело — загрызут!
А то и сама, не выдержав каторги, затосковав, попросту удавится девка…
Узнавши про такое решение, то есть про то, что до обратного получения выкупа Энни должна оставаться заложницей, мы переглянулись.
Знаете, человек я, надо признаться, таки достаточно черствый, ведь всю жизнь проводил я в пустыне. И жил я чем? Надо сказать прямо: убийством. Или, правильнее, — систематическими убийствами.
Потому что хоть убивал я не людей, конечно, но ведь и лисица, и бобр, и соболь, и горностайка — ведь это же живые существа. А наш брат, охотник, только и делает, что уничтожает их жизнь.
Ну-с, я хотел этим сказать только, что эта охотничья жизнь, эта привычка к уничтожению живых существ, волей-неволей делает сердце человека почти каменным.
Столько крови проливаешь, столько смертей кругом себя видишь, что, право же, ко всему начинаешь относиться равнодушно.
Но и при этих условиях, когда подумал я об участи, которая ждала Энни, — защемило в сердце…
Вы, конечно, люди, живущие в городах, где и то, и се, и светло, и удобно, вы относитесь к эскимосам с высоты своего величия. А на эскимосскую женщину вы смотрите исключительно, как на нечто среднее между моржом и черепахой.
Правда, красоты в этих эскимосских леди мало. Против этого никто спорить не будет.
Лицо как лепешка. Скулы широкие. Глазки крошечные. Рот до ушей. Ноги кривульки. Кожа, словно дубленая.
Но, джентльмены, нет правила без исключений. И видал я среди эскимосов немало таких девушек, что глянешь на нее, и невольно подумаешь: должно быть, эскимосы-то эти что цыгане. Знаете, которые зачем-то крадут всегда детей лордов или графов и выстраивают с ними всяческие богомерзкие штуки.
Вот такова была и наша Энни: лицо не темное, а светлое, куда светлее, чем моя собственная шкура.
Глаза не оловянные, а голубые и ясные и светлые.
И хоть уж очень безобразен эскимосский женский костюм, знаете ли, но девочка-то эта ухитрялась как-то так носить его, что, ей-Богу, я для нее ничего лучшего и не придумал бы: словно хорошенький мальчишка, юркий, стройный, сильный…
А больше всего, знаете ли, нравился мне голосок Энни: такой звонкий, серебристый.
Словом, с какой стороны ни посмотри, — а жаль отдавать девку этим осатаневшим бабам, родственницам почтеннейшего «Сурка»: положительно, не лежит душа.
Но опять-таки, и силой ничего не сделаешь.
Все-таки, как хотите, с одной стороны мы гости племени, а гостю не следует в семейные дела мешаться. Второе, мы находимся в полной зависимости от эскимосов, ссориться с ними нет расчета.
Так вот, стоим мы да переглядываемся.
Только, вижу, на губах у Макса Грубера проклятая улыбочка то мелькнет, то спрячется. Не смеется человек во все горло, а так, улыбнется да и сожмет губы. А я эту улыбку хорошо знал: всегда ею улыбался немец, когда кого-нибудь в дураках оставить хотел…
— Пойдем, — говорит он тут нам с Падди, — поговорим еще с эскимосами. Может, что-нибудь выйдет…
Ну, действительно, пошли мы. Залезли в тот шалаш, где совещание об участи Энни шло. Сидим, болтаем: тары, бары. Как будто совсем без дела пришли, просто поболтать со знакомцами. Правду сказать, уж очень тянуло меня уйти из этого шалаша: набралось тут, в шалаше, человек двадцать, дышать буквально нечем. Огонек вечно горящей плошки, и тот словно задыхается, чуть не гаснет. Но Макс сидит, значит, надо сидеть и мне, ждать, что из всего этого будет.
И, вдруг, слышим мы… Господи ты Боже мой! Что это? Откуда? «Бум-бум-бум!»
Все подняли головы вверх: как будто там, у дырки, куда дым выходить, кто-то сел сверху на шалаш и колотит рукой по крыше, по барабану: «Бум-бум-бум!..»
Кто-то из эскимосов выполз на карачках из шалаша посмотреть, что там такое. Кричит — никого нет. А мы ясно слышим: «Бум-бум-бум!..»
Лица у всех побелели, губы трясутся. Только один наш «дутчмэн» сидит, как ни в чем не бывало. Губы крепко сжал, не шелохнется.
Кто-то и говорит:
— Должно быть, дух!
А другой поддержал:
— Душа «Сурка», великого ловца!
А тут, словно в ответ, из угла, где всякие тряпки свалены были, как запищит:
— Да, это я, душа великого ловца! Я, я, я!.. Хочу говорить с вами. Не трогайтесь с места, а то покараю вас великим гневом моим!
Храбрее всех оказался тут наш немец.
Спрашивает он духа:
— Где ты прячешься? Покажись!
— В теле «белого деда», — отвечает дух.
А надо вам заметить, что в редкой эскимосской семье тех областей нет своего рода божков. Делают они истукан-чики, и довольно, иной раз, ловко, по большей части вырезая из моржовой кости или из обломков дерева. И славился род «Сурка» тем, что обладал этот род фигуркой белого медведя из великолепной кости. Считался «белый дедушка» или еще «старый господин льда» покровителем рода. И, бывало, ни на одну охоту «Сурок» покойный не отправится, не принеся предварительно «белому дедушке» жертвы. Но и то бывало, если говорить правду, что ежели охота окажется малоудачной, то вернувшись с нее, «Сурок» добрый час костит «великого господина льда» на чем свет стоит, и пушит его так, что уши вянут. Грозит, бывало:
— Я тебя, подлеца этакого, собакам скормлю! Разрублю на части, на мороз выброшу, в воду ледяную кину! Я, — говорит, — тебе постоянно жертвы приношу, а ты лживый, фальшивый, трусливый, поганый!
Ну-с, так вот, значит, открылось, благодаря, конечно, Максу, что дух «Сурка» в тело «Белого дедушки» вселился и говорить со своими сородичами хочет.
Правду сказать, было мне тогда довольно жутко, джентльмены: говорю же, никогда раньше за всю мою жизнь этого не было, чтобы покойник вдруг в разговоры пустился.
Но я себя скоро успокоил: во-первых, подумал, что у Макса нет-нет да и покажется его ядовитая улыбочка на устах. Это что-нибудь да значит. А во-вторых, я ведь никакого отношения к «Сурку» не имею. Он — язычник, а я — христианин. Хотя, правду сказать, при нашей жизни какого-нибудь патера реже увидишь, чем буйвола в посудной лавке…
Но, словом, заставил я себя подумать: все это — дела семейные, эскимосские. Я тут сторона. Значит, господин «Сурок» со мною и связываться не станет…
А дальше вышло вот что: говорит этот таинственный го лос из угла, чтобы, значит, Макс Грубер взял истуканчика «белого дедушки» в свои руки. Тогда, дескать, дух будет умилостивлен и все откроет.
Вижу я, идет себе Макс в угол, роется в лохмотьях, вытаскивает «великого господина льда», безбоязненно берет его в руки. Только зачем-то, должно быть, из предосторожности, обматывает его какой-то полоской меха так, что видна присутствующим только самая голова истуканчика.
А надо вам заметить, тот эскимосский искусник, который этого истуканчика соорудил, не напрасно над ним потрудился: голова белого медведя вышла как живая. Глазки из бисеринок вставлены в глазные впадины. Блестят, словно живые глаза. Ноздри и широко разинутая пасть кровью моржа вымазаны. Клыки видны. Словом, штучка — хоть куда.
Вот, как взял ее в руки Макс, опять слышно где-то, но уже не с потолка, а из-под пола:
— Бум-бум-бум! Молчите! Внимайте!
А потом и пошел катать «белый дедушка»:
— Я, — говорит, — прогоню от становища вашего всех моржей. Я выловлю всю рыбу и пожру ее. Я, — говорит, перегрызу своими зубами все тетивы луков. Я нашлю «черную смерть» на детей ваших и на собак ваших…
Словом, такого страха нагнал «великий господин льда», что у эскимосов, и без того перепуганных, душа не только в пятки ушла, но и дальше еще на полкилометра…
Потом Макс и спрашивает:
— Да чего же ты желаешь, о, дух великого ловца моржей?
— Желаю, — отвечает тот, — чтобы дана была полная свобода возлюбленной жене моей, имя же ей А-на-ик. И еще желаю, чтобы отдали ей все ее пожитки. И пусть она поступает, как хочет.
— А еще каковы будут твои распоряжения, о, великий и гневный дух «Сурка»?
— А еще хочу: пусть белым охотникам, гостям племени моего, будет отдана «золотая корона», — великий талисман. Ибо узнал я от великого духа, что талисман этот грозит племени моему страшными бедами. Бум-бум-бум!..
Ну, на этом и покончилось. Сколько ни заговаривал после этого Макс с «белым дедушкой», молчит тот, как убитый.
И вот, готов поклясться я, джентльмены: когда истукан-чик отвечал на вопросы Макса, ей-Богу, казалось мне, разевает эта проклятая костяная штука свою окровавленную пасть, чуть ли зубами не щелкает. А окончилось собеседование, осмелел я и, хоть не взял в руки фигурку, но пристально поглядел на нее: фигурка, как фигурка. Ни-ни-ни… Ни капельки жизни в ней. А то была как живая.
Ну, вышли мы после всего этого на свежий воздух. А Падди вдруг как заржет… как хлопнет Макса по плечу:
— Ах ты, — говорит, — шут полосатый! Ах ты фокусник! Откуда, — говорит, — ты чревовещательству научился?
И сам Макс смеется.
Только и сказал:
— Тише ты, дурень! Не порти игры!
А потом добавил:
— А ведь правда, недурно спектакль сошел? Смотри: у нашего Неда и до сих пор зубы стучат…
Это они оба, понимаете, вздумали одурачить меня: вздумали убедить, что будто бы Макс чревовещателем был.
Но я не дурак, знаете ли, и таких шуток не допускаю. Что я видел, то видел. Что слышал, то слышал.
Сталь я на них кричать, конечно, не очень громко, чтобы эскимосов не переполошить. А они словно обезумели: оба по снегу катаются, за животы хватаются.
Хотел я, знаете, проучить если не Макса, то хоть проклятого ирландца. Схватил его за ногу. И только что было потянул его за эту ногу, чтобы ткнуть Падди головой в снежную кучу, охладить его веселье неуместное, а у меня из-под рук, ей-Богу, как запищит сапог… Поймите: самый обыкновенный сапог — человеческим голосом:
— Ой, боюсь! Ой, помогите мне! Ой, укусит меня глупый канадец. Хи-хи-хи…
Так я, знаете ли, отскочил от катавшегося по снегу Падди, как ужаленный.
Уж ежели не только что истуканы костяные разговаривать начинают, а даже сапоги из моржовой кожи…
А, да будьте вы все трижды прокляты, а я в ваши грязные дела не мешаюсь!..
Но, должен признаться, джентльмены, весь этот вечер Макс и Падди за мной наперебой ухаживали. Падди мне полпачки хорошего табачку подарил, Макс дал глоточек рома, который он берег, как зеницу ока. Но на том мы только и помирились, что, во избежание ссоры со мной не на живот, а на смерть, Макс раз навсегда эти свои проклятые штуки с вызыванием духов бросит, будет держаться, как подобает христианину, хотя бы и не католику, а лютеранину.
Ну-с, улеглись мы спать, знаете ли, наговорившись досыта.
Ночью, сквозь сон, слышу я: что за дьявольщина? Как будто голоса слышны около нашего шалаша, как будто собаки по временам лают и словно полозья саней по снегу скрипят.
Но так я и проспал часов девять подряд.
Просыпаюсь, стоит надо мною Макс, теребить меня:
— Вставай, — говорит, — Нед. А знаешь ты новость?
— Какую? — спрашиваю. — «Сурок» ожил, что ли?
— Хуже! — говорит. — Эскимосов черти взяли!
Я, знаете, понял это в прямом смысле. Так-таки и представил себе картину, как треснула земля, высунулся из земли некий субъектец с рогами и хвостом, высунул из кровавой пасти язычок так километра в полтора длиной, и давай этим языком несчастных эскимосов из их шалашей вылавливать, точь-в-точь так, как, знаете ли, муравьед муравьев из их муравейников вылизывает, словно лакомство…
Но тут же мне самому смешно стало этой дикой абсурдной мысли.
А Макс стоял надо мной, и скоро мой смех замер: я увидел, что у него страшно бледно лицо и как будто дрожат руки.
— Понимаешь? — говорил он. — Никого! Ни единой души! Люди, собаки, сани — все исчезло!
Тут, признаюсь, и меня-таки дернуло, потрясло:
— Быть не может! Врешь ты! — закричал я.
Он, не отвечая, присел возле меня и упавшим голосом твердил:
— Все. Люди, сани, собаки… Все, все!
И потом добавил:
— Может быть, они отправились на охоту? Но тайком, ночью? Нет, это не то, не то! Они попросту бежали отсюда. Бежали от нас.
— Энни осталась! — прервал его зловещий шепот Падди.
Макс досадливо пожал плечами:
— Знаю. Еще не говорил с нею. Но видел. Может быть, она объяснит, что это все значить. Но боюсь, что…
Не договорив, он выбрался из нашего шалаша. Через каких-нибудь пять минут он вернулся вместе с эскимосской девушкой.
— Ну да, я был прав! — сказал он глухим голосом. — И, кажется, это моя вина. Эта штука с чревовещанием нагнала на них такой страх, что они удрали без оглядки, даже побросав часть запасов. Энни говорит, что они были, как сумасшедшие. Ошалели. Но что будем делать мы, ей-Богу, ума не приложу!
— Эй, «дутчмэн»! Чего голову вешаешь? — отозвался сидевший в углу Падди. — Что делать, что делать? По снегу голым бегать! Что мы, маленькие, что ли? Дети-несмышленыши? Трусы? Бабы истеричные? Три таких парня, как мы, и вдруг распустили нюни только потому, что какие-то эскимосы сочли за нужное от нас отделаться… Разве они украли наши верные ружья? Или стибрили порох и свинец? Или подрезали нам жилы на ногах? К черту, Макс! Не пропадем! Выберемся!
— Зимой? Когда до появления солнца осталось еще почти три месяца? Без саней? Без собак?
— А, дьявол! — рассердился не на шутку Падди. — Можно подумать, что ты в обморок упасть собираешься. Барышня! Не принести ли вам стаканчик водички, если вы себя чувствуете дурно?
— Ты не понимаешь…
— Лучше тебя, ангел мой. Но я понимаю еще кое-что: Фрэнк Уитстон добрался зимою, один-одинехонек, от пролива Виктории до форта Гуд-Хоп, да еще без лыж. Прошел тысячу двести километров по пустыне. Последние шесть дней съел только сырьем какую-то крысу да изжевал отрезанную от сапог кожу. Помнишь, Фил и Фред Дигби вдвоем перезимовали в пещере на Бэнкс-лэнде и летом вернулись?
— А, да что ты мне ими в глаза тычешь? — раздражительно отозвался Макс Грубер. — Фрэнк, Фил, Фред… Три человека. А сколько трапперов, застигнутых далеко от жилья надвинувшейся зимой, погибло бесследно? Партию Гревса, одноглазого Гревса, ты помнишь? Там было не трое, как у нас, а девять человек. Кто из них вернулся? А Дугласа помнишь?
— Помню, всех помню! — закричал, вскакивая на ноги, ирландец. — Может, еще лучше тебя помню, немецкий ты офицер! Да только и то помню, что кто духом падает в этой ледяной пустыне, — пусть не суется сюда, вот что! А кто не струсит, как ты…
— Я? Трушу?
— Нет, ты храбришься! Только с такими храбрецами, лопни мои глаза, я никогда больше связываться не стану!
Еще миг и, кажется, они бросились бы друг на друга: оба стояли, сжимая нервно кулаки, глядели друг другу в глаза пылающими очами, дрожали всем телом.
Но все кончилось благополучно: прислушиваясь к спору, Энни кинулась к врагам, схватила Макса за шею, и Макс, потеряв равновесие, плюхнулся на кучу мехов, лежавшую в утлу шалаша. В свою очередь, я, машинально подражая девушке, толкнул разъяренного ирландца сзади под коленки прикладом карабина, и Падди изобразил из своей длинной фигуры подобие складного ножа, шлепнувшись в другой угол. Потом все трое мы стали хохотать, как безумные, а Энни глядела на нас своими чудесными лучезарными глазками и тоже улыбалась. Тем и закончилась словесная схватка этого дня. Потом, когда мы несколько поуспокоились, огляделись, сообразили, как и что, начали выдвигаться один план за другим.
Например, Падди предлагал выискать следы удравших от нас эскимосов, отправиться по этим следам и свалиться, как снег на голову, на наших коварных приятелей.
— Заставь, Макс, опять говорить с ними дух «Сурка», — твердил ирландец. — Пригрози ты им, что даже от самого святого отца в Риме им не удастся получить индульгенцию, если они опять вздумают сыграть с нами какую-нибудь такую штуку нелепую. Право! Пугни их, что никогда ни один в царствие небесное не попадет. Ты ведь мастер на выдумки…
Но Макс возражал, что, во-первых, эскимосы не ирландцы, им до папы римского и его индульгенций ровно столько же дела, как нам до декретов китайского богдыхана, а во-вторых, не так просто отыскать след ушедших: пять или шесть часов подряд бушует метель, занося снегом горы и долы. И будет еще бушевать Бог один знает сколько времени. Очень может быть, что и сами эскимосы теперь раскаиваются, попав в разгар бури под открытое небо… Да поздно, не вернешься!
Словом, этот план спасения никуда не годился. Надо было придумывать что-нибудь другое. Но что именно?
Может быть, возможно отыскать другое эскимосское племя, приютиться у них на время, до весны?
Но и на это получился малоутешительный ответ: в этом царстве полярной ночи, в этой ледяной пустыне можно пространствовать не то что недели, а даже месяцы, не натыкаясь на живую душу, если только эта душа не ходит на четырех лапах и не покрыта медвежьей шерстью….
— Но что же делать? Надо искать какой-нибудь выход! — стоял на своем Макс. — Оставаться в покинутом поселке полный абсурд: нет топлива, нет припасов в достаточном количестве. Близится голод. Придется покидать поселок, все равно. Так лучше сделать это теперь, пока можно взять с собой провизии хоть на несколько дней пути. Куда идти? Понятно, на юг, на юг. Благо, компас есть, да еще и секстан, ориентироваться сумеем.
Однако прошло несколько суток, пока, в самом деле, мы рискнули приступить к этому более чем сомнительному предприятию: во-первых, за бушевавшими часов около ста подряд метелями ударил свирепый мороз, редкий и под этими близкими в полюсу широтами, так что следовало переждать. Во-вторых, отправляться в путь по ледяной пустыне, как на какую-то увеселительную прогулку, не приходилось: надо было кое-что устроить. А именно, надо было организовать перевозку запасной провизии.
В самом деле, пускаясь по вечным льдам и будучи предоставленными только самим себе, не имея возможности рассчитывать на чью-либо помощь, мы должны были постараться захватить с собой как можно больше провизии на тот случай, если не будут попадаться на пути следования звери, за которыми можно охотиться хотя бы ради их тощего мяса.
Но нести на плечах груз, когда бродишь по льдам и снегам, — это, конечно, абсурд: и так, ради холода, навьючиваешь на себя в виде меховой одежды такую тяжесть, что еле ноги волочишь…
Таким образом, когда Макс предложил воспользоваться оставшимися в поселке эскимосов материалами и соорудить хоть небольшие саночки, на которые могли бы мы положить провизию, собранные нами меха, часть оружия, мы все с жаром ухватились за эту идею, и работа закипела.
Расчет был прост.
Правда, уйди мы из поселка без санок, мы могли пробегать в день на наших лыжах добрых шестьдесят километров. Но с той провизией, которую мы могли нести, нам оставались обеспеченными не больше десяти суток странствования, то есть путь в шестьсот, скажем, километров.
Таща или волоча с собой сани, мы могли рассчитывать делать не более тридцати километров, но зато нам был обеспечен путь в течение тридцати суток, то есть почти тысяча километров. Наконец, когда припасы должны были приходить к концу, ничто не мешало нам бросить сани, забрать провизию и пожитки на плечи и катай, валяй на лыжах…
И вот, несколько суток спустя после бегства эскимосов, и мы тронулись в путь, волоча за собой довольно-таки, признаться, тяжелые саночки. Но утешались мы тем, что ведь день ото дня они будут становиться легче и легче…
Я, поглядывая на наш драгоценный груз, все прикидывал в уме, удастся ли нам спасти хоть полсотни наилучших мехов. Ведь из-за этих проклятых блестящих шкурок мы и забрели Бог весть в какую даль от добрых людей, на самый край света. И обидно было бы побросать эти шкурки, спасая собственную, извините, шкуру…
Не скажу, чтобы у меня было уж очень легко на душе, когда, волоча сани, мы выбрались из поселка и поплелись к югу, ориентируясь по звездам. И не раз я украдкой тоскливо оглядывался назад, думая, но не смея высказаться:
— А, может, лучше было бы все же остаться в поселке? Может, эскимосы-то опомнятся и вернутся?
И, признаюсь, ничуть-таки не утешало меня то обстоятельство, что в нашем багаже имелся маленький бочоночек с ромом: хорошо, утомившись, пробродив часов десять по ледяным полям, отогреть застывшую душу глотком рома, нечего и говорить… Но… Но как-то жутко было при мысли о том, куда мы, всеми покинутые, всеми забытые, бредем. Впереди и позади — мгла полярной ночи, кругом застывшая мертвая земля или скованное ледяной броней море. А тут, как на грех, Макс по целым часам только и делает, что каркает: ей Богу, у этого человека вся его квадратная башка была битком набита историями о полярных путешествиях, одна другой страшнее, одна другой ужаснее. Идем, а он так и сыплет, так и сыплет именами, датами, подробностями. И всех-то, всех, погибших во льдах, он знает.
Знаете ли вы, джентльмены, про знаменитого Франклина, погибшего со всеми своими матросами? Так рассказы Макса об участи этой экспедиции мне до того в зубах навязли, что я теперь имени Франклина равнодушно слышать не могу. Может, и почтеннейший человек он был, особенно его леди, миссис Франклин, которая, знаете, все корабли посылала на поиски явно погибшего мужа чуть ли не двадцать лет… но когда вам прожужжат все уши рассказами про Франклина, то… Слуга покорный!
Поневоле, знаете, иду я да сквозь зубы бормочу:
— А, да будь вы все трижды прокляты!
II
В путь-дорогу по вечным льдам. — Дни скитаний. — Голоса ледяной пустыни. — Кошмар Неда Невилла. — Кого видел во мгле Падди. — Призрак смерти — Сани брошены. — На краю гибели. — Огонь в ледяном аду.
Итак, гонимые ужасом одиночества, предоставленные только собственным своим силам, всем чужды, мы тронулись из становища бежавших эскимосов, держа путь на юго-запад, пробираясь по ледяным полям, через проливы между многочисленными, совершенно неисследованными островами.
Обыкновенно мы с Падди, как более выносливые, впрягались впереди. Макс Грубер подталкивал саночки с нашими припасами сзади. По общему уговору, Энни могла идти свободной и только в крайних случаях, когда приходилось перебираться через какую-нибудь опасную трещину или втаскивать саночки на крутизну, должна была помогать нам, мужчинам. На самом же деле девочка вела себя, как заправский траппер, и все время подталкивала саночки, идя рядом с Максом. Как-то так само собой вышло, что Макс стал общепринятым ее покровителем, и где был немец, там была и эскимосочка. Тащить саночки, конечно, было далеко не легко. Но мы утешались тем, что ведь по мере передвижения груз их таял, саночки становились все более легкими. И мы бодрились. И нам улыбалась надежда выбраться из этого ада, вернуться к своим.
Так шли мы по ледяной пустыне первые десять дней без особенных приключений: зверья не видно, следа человеческого — то же самое. И даже не знаешь: по земле ли ты бредешь, или по морю.
Потому что все кругом покрыто снегом, завалено обломками льда, а, главное, ведь ночь стоит. Правда, воздух чист и прозрачен, на небе горят звезды, большие, яркие. Над самой почти головой Полярная звезда сияет. Так что тьмы в полном смысле этого слова нет, кое-что, хоть смутно, но все же видно. Но это не день, это не определенная дорога, а блуждание.
Только и соображаешь, где ты, если наткнешься на какую-нибудь гору, да разглядишь, чистый ли это лед, или камень, кое-где прикрытый льдом. А больше соображаешь, на море ли ты, или на суше, по общему характеру местности.
На одиннадцатый день пути подвернулся под наши пули средней величины белый медведь. Вынырнул он тенью, словно из-под земли, в полудесятке шагов. Должно быть, и сам не ожидал встречи с людьми, испугался. А может быть, и не испугался, уж больно этот зверь смел, когда его кишки голод терзает. Во всяком случае, он стал как-то бочком уходить от нас, правда, не очень торопясь. Наши пули оказались немножко быстрее, чем его ноги, и «белый дедушка» или «великий господин льдов», как кличут белого Мишку эскимосы, растянулся бездыханным тут же, получив добрый десяток пуль в грудь и голову во мгновение ока.
Само по себе разумеется, что мы использовали эту добычу самым старательным образом: ели мы, все вчетвером, его порядочно-таки жестковатое мясо, потому что худ был он, как щепка, и ели мы его, не сходя с места, целые сутки: десять дней тяжелого пути уже успели утомить нас, а потому на том самом месте, где уложили мы медведя, устроилась дневка: вырыли мы в снегу, у подножья холма, яму, собственно говоря, целую снеговую каморку, в которой было, правда, достаточно тесно, но зато и достаточно тепло, и только и делали, что или спали, тесно прижавшись друг к другу или, проспавшись, стругали ножами замерзшее мясо белого приятеля и жевали эти стружки, наедаясь, как говорится, на целую неделю, пока мясо это нам не опротивело. Но мы все же не были так глупы, чтобы его выбросить: два окорока и грудинку, уцелевшие от нашего каннибальского пиршества, мы забрали с собой про запас, пополнив таким образом нашу провизию в санках до первоначального объема. И скажу по совести: если оставленный нами в снегу труп медведя был после нашего ухода отыскан оплакивавшими горестную утрату его почтенными родственниками, — не очень много мясца досталось участникам похоронной тризны нашей невинной четвероногой жертвы…
Но, должно быть, убитый нами медведь успел-таки перед смертью сотворить какое-нибудь заклятие на наши головы: по крайней мере, с этого дня нас начали преследовать разные неудачи.
Началось с того, что я как-то оступился и вывихнул правую ступню. Боль, разумеется, была адская, но это еще пустяки: Макс, как настоящий «медицин-мэн», отлично вправил мне ногу. Но ступня распухла настолько, что я больше трех суток не мог ступать. Останавливаться из-за меня было немыслимо. Бросить меня товарищи не захотели. Пришлось мне расположиться барином в саночках, а мои спутники с усердием, достойным лучшей участи, изображали ретивых коней. Дошло до того, что Энни, которая, по нашему общему соглашению, как я сказад, была избавлена раньше от обязанности тянуть сани и только в экстренных случаях принималась помогать, когда мы поднимались на крутой холм или переправлялись через зияющую трещину во льду, теперь взялась за постромки и работала, наравне с другими, изо всех сил.
Признаюсь, я в первое время чувствовал себя препоря-дочной скотиной: ведь, в самом же деле, хоть Энни — только маленькая язычница, без роду без племени, эскимосоч-ка, но все же, по существу, мисс, женщина. И, знаете, как-то неловко, когда такую дылду, как я, чуть ли не в два метра ростом и весом в 250 фунтов, считая с сапогами и меховой шапкой, усаживают на саночки, а девчоночка с ясными голубыми глазенками и алым ротиком тянет эти самые саночки… Ей-Богу, это так!
Но, представьте, недаром говорится, что человек — животное особенное: ко всему привыкает. Скоро привык и я, утешая себя только одним соображением: твердо решился, как только моя нога поправится, запрягусь я в сани, а девочку, хочет она или не хочет, возьму в охапку, да усажу в саночки, да закутаю мехами, как куколку. Пусть себе си-дить, посвистывает, на нас покрикивает. А я буду настоящего ломового изображать, благо силушкой меня Бог Господь не обидел.
А если вздумает эскимосочка брыкаться, то… Ей-Богу, скручу и веревочками к грузу саней привяжу…
Вторым нашим несчастьем было то, что опять несколько суток бушевала метель.
Вы, люди, сидящие в хорошо выстроенных блокгаузах, может быть, даже из камня, настоящих домах, — вот как у майора Гордона в форте Гуд-Хоп, где и лампы масляные горят, и печи железные топятся, и то, и се, — вы не можете себе представить, что это за удовольствие в ледяной пустыне наблюдать, как гонится за тобой, многогрешным, ведьма-вьюга, как она крутится вокруг тебя, плюет тебе в лицо, слепит очи, засыпая их снегом, хватается за тебя, пытаясь свалить тебя на землю, засыпать тебя снегом. И она свищет, хохочет, плачет, поет на тысячу голосов.
Знаю я: ветер, снег, и больше ничего. Но когда в эти дни нашего странствования по ледяной пустыне часами целыми лежали мы, тесно прижавшись друг к другу, молча, тоскливо, поднимаясь лишь ради того, чтобы хоть несколько разгрести засыпающий нас вместе с санями снег, право, по временам черт знает что чудилось мне.
…Кажется, мы потонули. Вот, так, все четверо, и вместе с саночками. И лежим мы теперь, все рядышком, на самом дне моря. А над нами бушуют волны, хлещут, крутятся, сшибаются. И мчатся струи, пытаясь оторвать нас от дна и унести куда-то, в другие бездны, к каким-то ожидающим нас чудищам, и мелькают мимо огнистые искорки, выплясывая какой-то «танец смерти». А там, над нашими головами, — там плывут себе корабли. Там, может быть, тепло, светло…
А то лежишь, и чудится: целый рой призраков с воем вьется над тобой. Какие-то фантастические существа с бес-форменнымп телами, с безобразными головами. И тянутся они к тебе бесконечно длинными, липкими, скользкими, холодными, костлявыми лапами, пытаясь схватить тебя за горло, и воют и хохочут…
Вон покойный «Сурок» мечется, размахивая призрачным копьем. У него только закрыты глаза, а все лицо черное и напоминает какую-то бугроватую подушку багрового цвета. Не видит он нас. Чует, что мы здесь, притаились, не шевелимся, не дышим, а все же не видит, потому что веки сомкнуты, глаза слепы.
Ударил бы он копьем, поразил бы насмерть одного за другим. Да нет, не видит!
И мечется он, и скрипит зубами, и тяжело дышит, и стонет, и воет…
Нет, ей-Богу, от таких мыслей с ума сойти, и то недолго!
Заснешь, думаешь, забудешься хоть во сне от всего этого. Нет, куда! И во сне грезится что-то дикое, кошмарное, чудятся фантастические образы.
Помню, один раз такое мне приснилось, что я стал кричать, как сумасшедший и, проснувшись, долго не мог опомниться.
Снилось мне, знаете, что я на лыжах гонюсь с карабином за плечами за огромным волком, удирающим от меня во все лопатки. Мчимся мы через долы и горы; по лесам и пустыням. И вот, настиг я его, даже не стреляя: ударил по башке шестом, сразу уложил. И будто так я голоден, так мне хочется есть что, не перерезав даже волку глотку, попросту принялся я будто готовить себе обед: сижу над ним и кромсаю один кусок мяса за другим, пока от всей нижней половины волка только голый остов, окровавленные кости остались. И вдруг под рукой у меня кости эти зашевелились. Я отскакиваю. Смотрю. Господи ты Боже мой! Что же это такое?
А на снегу передо мной лежит уже не волк, а мой родной брат, Том Невилл, тот, который без вести пропал в окрестностях Медвежьего озера.
И, собственно, не лежит он, а, опираясь руками о снег, волоча за собой ноги, тащится за мной, глядя мне в глаза полным муки, боли и укора взором. И шепчет мне:
— За что? Что я тебе сделал? За что ты убил меня? Зачем отрезал от костей моих тело мое? Неужели ты так голоден, что будешь есть тело родного брата? Брат, брат!..
Вот, знаете, я бегу от него, закрыв руками уши, чтобы не слышать его стонов, зажмурив глаза, чтобы не встречаться с его взором, бегу, задыхаясь, чувствуя, что вот-вот не выдержит сердце и лопнет. Останавливаюсь перевести дыхание, оглядываюсь, а он, этот человек с ногами скелета — тут, он опять ползет, корчась, извиваясь по окровавленному снегу, ко мне…
Ну, тут и сну моему был конец, говорю: проснулся я с диким криком, вскочил и, как безумный, побежал от нашего логовища, от переполошившихся товарищей, которые подумали, что я с ума сошел… Они кричат, они зовут, а я, ошалелый, во все лопатки убегаю от них. Едва не заблудился. Да Энни нагнала меня, вернула.
А кончились метели, установилась более или менее ровная погода, поплелись мы, волоча сани, опять в путь, и тут подошла, подкралась к нам такая беда, самой возможности которой мы не подозревали.
Я и раньше замечал, что с Максом Грубером, нашим «проспектором» или разведчиком, как мы его шутя называли, делается что-то неладное.
Видел я не раз: идет он, идет, как будто и ничего. А потом вдруг остановится да и хватается руками за глаза, трет их. Возьмет снег, прикладывает, словно горят у него очи.
Дальше — чаще, чаще.
И вот однажды вдруг на полном ходу остановились мы, а Макс и спрашивает:
— Вьюга, что ли, будет? Небо-то тучами покрылось черными!
А я в ответ:
— Протри глаза. Заспался ты, что ли? Ни единой тучки нету. Звезд сколько угодно. Хоть в мешок собирай…
— Ярко светятся? — спрашивает Макс странно изменившимся голосом.
— Чего лучше?! — отвечает Падди, смеясь. — Ни дать ни взять, как новехонькие доллары серебряные…
— А я… я… я ничего не вижу! — вдруг сказал Макс.
И повалился он, знаете ли, ничком на снег, и уткнулся лицом в сугроб, и только стонет:
— Ничего, ничего не вижу!..
Тут оборвался смех Падди, и у меня замерло сердце, а в висках кровь словно молотками застучала.
А Макс все катается-катается по земле, роет снег руками да кричит:
— Убейте меня! Добейте меня! Ослепну я… Уже дней шесть, как по временам целыми часами почти ничего не вижу. Как будто перед глазами сетка стоит или вода льется. И… и вел я вас наугад. А теперь слеп я, совсем слеп. И куда идти, где наше спасение, я не знаю. Погубил я вас, погубил. Убейте же, убейте меня!
А мы, слушая эти вопли и стоны нашего несчастного товарища, стояли, не смея пошевельнуться, около него в угрюмом молчании. Только Энни не выдержала: упала на снег рядом с Максом, охватила его своими руками, прильнула лицом к его лицу и говорила ему полным ласки голосом:
— Не плачь, не тоскуй. Ты потерял свет глаз? Но это — чары зимней ночи. Когда уйдет мгла, когда выкатится из-за горизонта ясное солнце, отогреет твою застывшую кровь, ты опять будешь видеть мир.
— Но я теперь слеп! — стонал Макс.
— Мои глаза будут твоими глазами, — говорила девушка. — Я все вижу, и я буду направлять твои шаги. Не плачь же, не тоскуй!
Вы можете думать, джентльмены, что хотите. Дело ваше! Но у меня переворачивалась душа от тоски и жалости, когда я слышал утешающий Макса голос девушки. И грезилось что-то далекое, бесконечно далекое от этих проклятых ледяных полей, и звучала в моих ушах какая-то неземная музыка…
— Не бойся, милый! — тем временем шептала Энни, но шептала так, что нам был слышен каждый звук.
— Не бойся! Если ты устанешь, я понесу тебя. Где твой дом, где твой очаг, там мой дом, мой очаг. Где твоя могила, там моя могила. Если твои друзья уйдут, я останусь с тобой. Я буду защищать тебя своими руками от хищных волков и от «белого господина льдов», я своим телом спасу тебя от леденящего дыхания северного ветра. Не бойся, не тоскуй!..
Макс, немного погодя, успокоился, поднялся, присел на санях. Потом мы опять тронулись в путь.
Вперед, вперед!
А в эти мгновенья на небе творилось что-то чудесное: вдруг появились на нем светлые тучи, словно плывущие в бесконечной выси и снизу освещаемые далеким, нам невидимым солнцем, потянулись лучезарные полосы, воздвиглись световые колонны, перекинулись гигантские арки. Вот с неба на землю словно спускается, колышась и переливаясь, огнистая завеса с бахромчатыми краями. Вот свивается она упругими складками. Бледнеет, тускнеет… Опять разгорается… и опять тускнеет.
Это было северное сияние, такое могучее, такое великолепное, каких я ни до этого, ни после никогда не видел.
И мы стояли почти час на пригорке, глядя на это зрелище, и была полна моя душа мистическим благоговением, и трепетала она…
Прошло еще несколько часов. Давно догорели фантастические огни северного сияния, давно мгла охватила нас, и мы сделали немало километров нашего пути, когда выяснилось одно обстоятельство, как громом поразившее нас всех: Макс хватился компаса, по которому мы направляли наши шаги, и обнаружил, что компас исчез. Должно быть, он обронил его там, на том месте, где мы узнали о грозящей постигнуть нашего несчастного друга слепоте.
Возвращаться туда, искать потерянный компас?
Это было все равно, что в стоге сена искать крошечную булавку. Ведь кругом нас был лед, испещренный трещинами, и был снег, в котором тонуло все. И была мгла…
Собственно говоря, только в этот момент я почувствовал дыханье близкой смерти. Это она заглянула мне в глаза пустыми впадинами голого черепа и оскалила насмешливо желтые зубы, и засмеялась, и заплясала в воздухе, прищелкивая беззвучно костяшками пальцев.
А в мозгу словно сотня кузнецов молотками выколачивали монотонную песенку из одного единственного проклятого слова:
— Гибель, гибель, гибель!..
Не было дня и не было ночи, была только мгла. И бежали, бежали с неумолимой быстротой часы, десятки, многие десятки часов. Мы то останавливались, изнемож-женные, отупевшие, готовые свалиться тут же, на месте, в готовую могилу — в сугробы снега, сидели или лежали молча, не глядя друг на друга, не произнося ни единого слова, то поднимались, брались за лямки наших саней и тащились вперед. Довольно стыдно мне, как видите, такому здоровому и сильному парню, охотнику и бродяге по профессии, признаться в этом, но что правда, то правда, джентльмены: из всех нас четверых единственный, кто не падал духом, единственный, кто подбадривал других и, скажу больше, единственный, кто заставлял нас идти вперед, это была эскимосская девушка, Энни. Она была нашим вождем, и она же была нашим ангелом-хранителем, потому что, не будь ее с нами, мы способны были лечь в первый попавшийся сугроб и предоставить сыплющемуся с неба снегу хоронить наши остывшие тела.
На Макса Грубера напало какое-то тупое равнодушие: он показывал лишь слабые признаки оживления, когда Энни отходила от него. Тогда он тревожился и слабым, жалобным, молящим голосом звал девушку, умоляя ее не покидать его.
— Энни, моя Энни! — кричал он, простирая вперед руки. — Где ты, Энни? Ради Бога, не уходи, не покидай меня, Энни!
Падди одно время словно онемел. Но потом, под конец этого кошмарного путешествия, с ним начало делаться что-то совсем неладное: то же, что находило и на меня, но у меня это бывало только изредка, в моменты, когда бушевала буря и выла вьюга, а у него, раз начавшись, пошло и пошло развиваться.
А началось это так, джентльмены.
Как-то раз, когда мы брели, волоча сани, наш ирландец вдруг сбросил с плеч лямку, отскочил в сторону, словно желая спрятаться за меня, схватился рукой за мое плечо.
— Что ты? — невольно вскрикнул я.
— Там… там… вон, на холме… Видишь, видишь? — бормотал он, дрожа всем телом.
Я посмотрел по указанному им направлению, но, кроме снежных бугров, ей-Богу, ничего не увидел. Да и бугры-то эти при неверном призрачном свете мерцавших звезд были еле-еле видны.
А Падди стоял, трясясь, и все бормотал:
— Проклятый, проклятый!
— Медведя, что ли, заметил? — воззрился я, хватаясь за ружье.
А надо вам заметить, джентльмены, что к этому времени наши запасы здорово-таки подобрались, и уже шла речь о том, что еще через пару-другую суток, если мы не увидим какой-нибудь дичины, надо будет взвалить остаток припасов па плечи и бросить сани, ибо нет никакого смысла тащить их. Так что в эти дни все мы с особым вниманием глядели на окрестности, стараясь выследить хоть какую-нибудь живность, хоть тощего волка, что ли. И естественно, что мои мысли были направлены в эту сторону. Но меня удивляло, что Падди, наш Падди, так струсил.
Вы, джентльмены, не знали его. Но, может быть, вам приходилось-таки кое-что о нем слышать: по совести, это был отчаянный парень. Он и на охоте лез в самую явную опасность, очертя голову, он и на всяческик рискованные предприятия шел первым. И, по правде сказать, когда, бывало, пробродив несколько месяцев по тундрам и дебрям, партия звероло вов добиралась до какого-нибудь поселка, фактории, форта, где можно было пображничать, Падди делался нестерпимым. Он был-таки забиякой и задирой, и беда — пойти с ним в кабачок: непременно затронет кого-нибудь, заведет драку. И уж тут лезет, словно слепой, один хоть против двадцати. Заревет, как бык, прижмет кулаки к груди, наклонит голову бараном, да как стрела эскимоса — в гущу неприятеля. И прокладывает себе дорогу среди них именно своей дубовой ирландской головой, покуда на него не навалятся и скрутят его арканами по ногам и рукам.
Через это самое я, собственно говоря, терпеть не мог кутить в компании с ирландцем: всякий кутеж с ним непременно заканчивался побоищем. А я хоть от перспективы подраться с кем-нибудь не падаю в обморок, но предпочитаю другие развлечения.
Словом, если кто вам скажет, что Падди был трусом, можете попросту плюнуть тому в глаза, потому что это было бы наглой ложью.
Но, говорю, в тот момент, о котором я рассказываю, с Падди что-то случилось непонятное: он дрожал всем телом, он не попадал зуб на зуб и явно прятался за меня.
Все это было столь необычайно для Падди, для «Отчаянного ирландца», как звали нашего приятеля, что поневоле и меня охватило жуткое чувство, словно ожидание чего-то ужасного.
— Что там такое? — забеспокоился и Макс.
А Падди стоит на месте, вытаращив глаза, да бормо-четь:
— Тим… Тим Фиц-Руперт…
Потом схватился за карабин и выстрелил. Но при свете выстрела я ясно увидел там, куда стрелял Падди, не было ровным счетом ничего, кроме какого-то снегового горбика. Хоть бы ствол дерева, обломок скалы, фигура животного — ничего ровнешенько.
Должно быть, грохот выстрела заставил и самого ирландца опомниться. По крайней мере, он, словно проснувшись, стал протирать себе глаза.
— Что это я? — как будто засмеялся он, но смех его звучал фальшиво, а голос по-прежнему был неверен и взор блуждал. — Почудится же такое в этом проклятом краю, право!
— Да что почудилось-то тебе? — заинтересовался я.
— Нет, так, ничего! — уклонился он. — Просто, знаешь, Нед, тоска заедает. Ну, в голову разные дурацкие мысли лезут.
— А кто был этот Тим, как его? Фиц-Руперт?
Тут Падди осатанел: кажись, еще момент, кинулся бы на меня зверем.
— Молчи! — кричит. — Ни слова, ни звука. А то…
— А то? — засмеялся я, следя зорко за каждым движением товарища, чтобы успеть, знаете ли, предупредить его, если он вздумает какую-нибудь глупую штуку выкинуть, ну, например, нож вытащит, или в меня стрелять станет, как сейчас только в воздух стрелял.
— Молчи, молчи! А то я с тобою то же сделаю, что с нею и с Фиц-Рупертом. Убью! Истерзаю, крови твоей напьюсь!.. А-а-а!..
И тут с Падди случилось то, что мы называем «черным припадком»: не знаю, бывает ли эта штука у вас, в больших городах, джентльмены, и от какой собственно причины она приключается, но у нас, в пустынях на краю света, этой болезнью больны многие из бродяг и звероловов. Нет, не подумайте, что это от пьянства. Какое там?! Я видел людей, которые капли в рот спирта не брали, даже в самые жестокие холода, а этой болезни были подвержены.
Знаете, очень похоже это на то, что с эскимосскими бабами бывает. Только тем надо толчок дать, испугать их, что ли, или очень огорчить. А с нашим братом это неведомо почему приключается: идет себе, идет человек, все ничего. Только лицо краснее обыкновенного сделается, да походка неверная, да говорит он странным скрипучим голосом. И вдруг вскрикнет, как подстреленная птица, или как кричит лось, когда ему охотничий нож горло перерезает, подпрыгнет, перевернется вокруг себя, согнувшись в дугу, шлепнется грузно на землю и роет землю ногами, и скребется судорожно руками, а если заглянуть ему в лицо, увидишь, что глаза так закатились, одни только белки страшно сверкают, а изо рта — пена, а в горле клокочет что-то.
Таких людей, когда они лежат, самое лучшее не трогать. Говорят, надо накрыть черным чем-нибудь лицо. Но это, может быть, и вздор. А важно не трогать: он отлежится, потом встанет и, как ни в чем не бывало, идет дальше.
Но от себя добавлю, я лично с такими джентльменами в какую-нибудь охотничью экспедицию отправляюсь очень неохотно: один из них своим этим припадочным криком спугнул однажды великолепнейшую голубую лисицу, какую когда-либо доставляли охотники Гудзоновой компании, и проклятый зверь улепетнул от моей пули.
Но, повторяю, с Падди таких припадков раньше никогда не было. И это вышло в первый раз, так что мы невольно растерялись. Однако дали ему отлежаться там же, на снегу, где он упал.
И пока он лежал в забытье, Макс рассказал мне в коротких словах, что значили слова Падди о «ней» и каком-то Фиц-Руперте.
История это невеселая, и я охотно промолчал бы о ней, джентльмены, но приходится сказать, потому что это касается дальнейших наших приключений.
— У него, у Падди, была невеста в форте Черчилль, — рассказывал Макс. — Такая же ирландка, как и наш Падди, молодая и пригожая девушка. Слово она дала Падди не очень охотно: боялась его буйного нрава. А тут, как на грех, когда Падди отправился в одну экспедицию, во-первых, разнесся слух, что Падди потонул, охотясь на моржей, а во-вторых, в форт Черчилль пришел один молодой охотник, этот самый Тим Фиц-Руперт. И был он парень веселый, как котенок, певун, плясун, шутник, сорвиголова.
Ну, и кончилось тем, чем должно было окончиться: Нелли О’Гара стала миссис Нелли Фиц-Руперт, и оба они ушли в лес, где Тим выстроил блокгауз.
Прошло полгода, вдруг является в форт Черчилль «покойник» Падди. Оказывается, тонул, да не потонул, эскимосы вытащили, выходили. Узнав о том, что Нелли вышла замуж, потемнел. И начал он тут пьянствовать. Но так, как еще никогда: пропил все, даже карабин. Буйствовал, скандалил, пока комендант форта не выслал его.
Прошло еще около года, слышат в форте, блокгауз Тима сожжен, Тим и его жена убиты. Да мало того, что убиты, на трупе Тима, привязанном к столбу, следы таких зверских пыток, какие применяли в старые годы только мерзав-цы-гуроны.
Ну, и всполошились все вокруг: стали твердить, что это дело рук каких-то «красных змей», то есть индейцев. А потом и затихло, забылось все это.
— Значит, не индейцы, а… а Падди… распорядился так с несчастными? — задал я вопрос Максу, искоса поглядывая на все еще неистово храпящего на снегу ирландца.
Макс в ответ только пожал плечами:
— Кто знает? Может быть, и не он!
— Но ты слышал, что он тут кричал?
Макс опять пожал плечами.
— Мы — не судьи. Он всегда был верным товарищем. И, наконец, вы тут, в Канаде, все полудикари. У вас свой кодекс, свои понятия о чести. Если бы на моей родине со мной случилось бы то, что с Падди, то есть, если бы кто-нибудь отнял мою невесту, я, понятно, домов не поджигал бы, женщин не убивал бы.
— А что бы ты сделал?
Макс гордо поднял голову.
— Я — офицер! — сказал он твердым голосом. — Я отправил бы к нему двух секундантов с вызовом на дуэль. И мы дрались бы, как полагается по правилам, в присутствии свидетелей.
— На ножах, что ли? Или на кулачках? — заинтересовался я.
— Ты — дикарь! — засмеялся Макс. — На дуэлях дерутся, стреляя из пистолетов или на саблях, на эспадроиах.
На этом покончился наш разговор: тут Падди очнулся, поднялся, шатаясь, как пьяный. Дав ему немного передохнуть, мы опять тронулись в путь.
Дня через два или три с Падди повторилась та же история: на этот раз он кричал благим матом, что Тим Фиц-Руперт, стоя в стороне, смеется, кривляется, грозит.
— Да где ты видишь Тима? — задал я ему вопрос.
— Сажен двадцать от нас! — отозвался Падди, скрипя зубами.
— В каком виде?
— Ах, святой Патрик! Слепнешь и ты, как Макс, что ли? Или глаза у тебя вылезли, что ты не видишь Тима? Вон он, в виде скелета с косой!
Я невольно присвистнул: скелет с косой — это штука скверная. Тим или не Тим, это безразлично. Но я знал нескольких охотников, которые такую же штуку видели. И тогда каждый из них начинал готовиться к смерти. Кто любил выпить, тот начинал пить без просыпу, чтобы насладиться хоть напоследок. А кто был посерьезнее, тот обыкновенно распоряжался своим имуществом, чтобы, например, любимый карабин не попал в руки такого парня, который и зарядить-то его не сумеет. А один траппер, увидав ночью скелет с косой, сталь хныкать да каяться, да вспоминать все пакости, которые он когда-либо сделал. Все, бывало, колотит себя в грудь да вопиет:
— Окаянный я! Проклята душа моя!
А покончил тем, что взял хороший ремень из оленьей кожи и повесился.
Словом, я должен сказать, джентльмены, по нашим, охотничьим приметам, кто видит, хотя бы с пьяных глаз, скелет с косой, пиши завещание. Проживешь не дольше месяца!
Подумал я это, когда перепуганный Падди протягивал руку по тому направленно, где он будто бы видел скелет, а Падди, как нарочно, оборачивается ко мне да говорит:
— Тридцать полных суток дает мне сроку Тим. Через месяц умру я, товарищи!
Ну, я на него прикрикнул:
— Через месяц, может, и наши кости волки растащат. А только выть из-за этого нечего!
Падди как будто притих. И, предоставьте, долго он не заговаривал ни о Тиме, ни о смерти. Но я кое-что видел, да, видел!
Нет, не подумайте, что и мне примерещился скелет: если бы я его тогда увидел, то теперь не рассказывал бы вам всю эту фантастическую историю.
А видел я, так сказать, словно сквозь Падди: бывало, бредем мы, бредем пустыней. Сани тогда мы уже покинули, потому что припасов почти не было, и весь груз мы распределили между собой. Идем, молчим. И вдруг Падди останавливается, дико смотрит остеклевшим взором куда-нибудь в сторону. Постоит-постоит, махнет рукой, опять шагает.
А я знаю: это он опять своего приятеля, Тима, увидел в образе скелета.
Идет он после этого и шепчет:
— Двадцать дней. Двадцать дней. Три недели осталось…
Одно, скажу, меня удивляло: ясное дело, нам грозила гибель. И, по моему мнению, ни о каких тут неделях и разговора быть не могло: всего, может, несколько дней, потому что уже с недели полторы, как вынуждены мы были, чтобы растянуть провизию, довольствоваться полупорцией. А эта полупорция — ей ребенка, да и того, поди, не накормишь, потому что тут всего на все — одна галета, сухарь да горсточка пеммикана. А от нашего рома давно уже и капельки не осталось И той провизии, что у нас была, могло хватить самое большее на три-четыре дня. А там — конец.
Прошли и эти три-четыре дня. И еще и еще. И вот мы побрели по ледяной пустыне, по ледяному аду, уже не имея ни крошки хлеба, пеммикана или мороженой рыбы. Я уже второй день грыз клочок оленьей шкуры. Макс и Энни следовали моему примеру. А Падди, отощавший до последней возможности, сам обратившийся в скелет, все ведет счет оставшимся будто бы ему жить дням:
— Шестнадцать дней! Шестнадцать дней! Только шестнадцать дней!
Знаете, джентльмены, ей-Богу, по временам мне неудержимо хотелось покончить его мучения, прекратить этот ужас ожидания смерти, всадить в голову ему пулю из моего карабина. По крайней мере, умрет сразу. И не раз я ловил себя на том, что уже поднимал карабин, готовясь выстрелить…
На четвертый день нашего полного воздержания от пищи, когда стало ясно, что мы уже погибли, случилось то, о чем я и теперь, столько лет спустя, вспоминаю, как о каком-то странном, сказочном сне.
Мы брели по ледяному аду, изнеможенные, по существу уже мертвые, потому что даже жажда жизни угасла, даже муки голода стихли. Если мы еще шли, то это было по инерции. И стоило подняться малейшему ветру, он свалил бы любого из нас. И стоило пойти снегу, он засыпал бы нас поочередно, каждого на том месте, где застал.
Но воздух словно застыл, с неба сверкали, изливая трепетный свет, звезды, и холод был сравнительно невелик. Словом, казалось, сама природа, разжалобившись при виде перенесенных уже нами мучений, смилостивилась и хотела доставить нам тихий конец, и участливо стерегла тот момент, когда ей будет можно, не пугая нас, послать к нам тихую и жалостливую смерть…
И вот я, идя последним, вдруг услышал пронизавший все мое существо яркой радостью, доходившей до боли, крик Энни, которая прокладывала дорогу, идя впереди вместе с ослепшим Максом:
— Огонь! Огонь! — кричала девушка.
— Огонь! — как эхом откликнулся, останавливаясь, Падди.
И тут же, повернувшись бледным лицом в сторону, пробормотал изменившимся голосом;
— Опять ты, Тим? Что? Пятнадцать дней, говоришь, осталось? Хорошо, хорошо! Только… только уйди, ради всего святого на свете.
Не обращая внимания на стоявшего и беседовавшего с привидением ирландца, я рванулся, напрягая все свои силы, вперед.
В этот час мы брели у подножья холма с пологими боками. Шли мы именно по этим бокам, потому что внизу снег оказывался слишком рыхлым и ноги тонули в нем, а тут все же попадались целые полосы с оледеневшим верхним слоем, так что идти было сравнительно легко. И Энни, когда она кричала, находилась шагах в двадцати от меня, почти на самой вершинке холма. Вот туда-то и ринулся я, оттолкнув в сторону Падди.
III
Призрачный город. — Город мертвых. — Первые Люди. — «Люди силы». — Нас показывают почтенной публике. — Странный инцидент с босоногой леди. — «Семь мудрых». — Допрос с пристрастием. — «Закон земский». — Приговор откладывается.
Итак, поднимаясь на холм, я услышал крик Энни «огонь»!
С самого начала восхождения на холм я был убежден, что в наших, в сущности, слепых и совершенно бесцельных скитаниях мы набрели на какую-то землю, поднялись по пологим берегам постепенно и незаметно на известного рода возвышенность. А в тот момент, когда я услышал-этот словно молнией пронизавший мглу крик «огонь» и побежал к вершине холма, я ясно видел голые бока каменистой скалы. Мы были на каком-то из бесчисленных островов таинственного архипелага, в котором человечество столько столетий искало свободных вод северо-западного прохода. Мы были на суше.
Помню, как сейчас, те мысли, которыми была полна душа моя в этот момент.
Огонь? Что значит, что может значить огонь здесь, в этих широтах? Огонь значит прежде всего «люди».
Может быть, это пылает костер, разложенный затертым в вечных льдах экипажем какого-нибудь китоловного судна. Или партия охотников-эскимосов, раздобыв тушу мертвого кита, празднует свою оргию, вытапливая сало гиганта. Или, наконец, это идет, прокладывая многотрудный путь к полюсу или от полюса, какая-нибудь экспедиция.
Первое, второе или третье, но, во всяком случае, — это люди. И мы так близки к ним, и у них мы, измученные, погибающие от холода и голода, найдем помощь, они дадут нам приют, они спасут нас…
И на бегу я твердил то же заветное слово, криком вырвавшееся из груди Энни:
— Огонь, огонь, огонь!..
И чувствовал, как на сердце становится тепло и как в груди накипают радостные слезы.
Но еще миг, я стою рядом с Энни и Максом на самой вершине холма, я гляжу во все глаза вперед, и я не верю себе, и я невольно протираю глаза, словно инстинктивно стараясь отогнать чары причудливого, фантастического сна, навеявшего на мою душу пестрые грезы.
Но нет!..
Виденье не исчезает, как дым. Оно не меняет своих очертаний, оно не уходит, оно даже не тускнеет…
Центральным пунктом, приковывавшим к себе наши взоры, был, разумеется, огонь.
Впрочем, вернее сказать, это был не огонь, это было целое огненное пятно, изливавшее массу лучей на окрестность. Мы ясно видели: там, в каких-нибудь полутора или двух километрах от нас, на гордой вершине поднимавшейся уступами скалы, над обрывом, высилось какое-то величественное здание, словно слепленное из множества отдельных сооружений. Здесь и там ярко светились разноцветными огнями многочисленные узкие, но высокие окна, словно ножом прорезанные в темных стенах щели. Но их свет казался бледным и слабым и жалким по сравнению со светом, венчавшим всю группу: там возвышался огромный купол яйцеобразной формы, и весь этот купол светился, словно наполненный огнем.
Но и этого было мало: глядя, словно зачарованные, на группу освещенных зданий на вершине холма, на огнистый гигантский купол, мы в то же время мельком, мимоходом, но все же видели, что положительно все пространство между нами и холмом — расположенная амфитеатром, открытая, должно быть, на юг долинка — это было целое море, целый хаос зданий.
Правда, ни в одном из них не блестели огни. Но света огней с холма было достаточно, чтобы перед нами обрисовались причудливые очертания каких-то зданий: стены, башни, купола, ряды колонн, опять стены, местами груды камней, полузанесенных снегом. И все это капризной рукой феи холода убрано зубчатыми фестонами льда, прикрыто фатой снегов; все это так странно, так причудливо…
И опять я невольно протер глаза, но видение не исчезало.
— Что это? Что это? — бормотал я.
— Город «людей света»! — прозвучали в ответ мне слова, произнесенные, как вздох, дрожащими устами Энни.
— Что? — переспроси л я.
— Но я видела, я видела это! — словно со стоном вырвалось из груди девушки.
— Люди света! Люди света! — твердила она, простирая руки вперед, к сиявшему куполу.
— Жены с золотистыми, как лучи солнца, длинными волосами, голубыми, как весеннее небо, очами… Мужи в белых длинных одеждах со «знаком огня» на челе… кроваво-красным знаком огня… Залы с пышными колоннами из белого камня… Громадные фигуры… Свет, много, много света. Я видела, я видела все это! Я была там. И меня ласкала женщина с голубыми глазами, и на мое лицо падали горячие слезы из прекрасных очей, и я слышала звуки песен, звон струн…
В этот миг огнистый купол вдруг исчез. Признаюсь, что в моем мозгу мелькнула мысль:
«Начинается! Всколыхнулся туман, рисовавший мираж, и будет исчезать одна деталь волшебной грезы вечной ночи, одна за другой…»
Но и через минуту, и через четверть часа, и через час по-прежнему светились другие, мелкие огни, по-прежнему, хотя несколько смутнее, рисовались очертания группы зданий на холме и стен, башен, холмов, колонн у наших ног, в долине.
А мы все еще не трогались с места.
Нет, это не была усталость, изнеможение!
Правда, голод давно уже выпил кровь из наших жил и отнял наши силы. Но теперь, когда мы увидели свет, символ жизни, символ спасения, каждый из нас чувствовал, как силы возвращались в усталый, измученный организм, как бурно бежала по жилам разогретая надеждой кровь и как вновь забилось сердце.
И, тем не менее, мы сидели в сугробах на краю обрыва и глядели вперед, не смея пошевельнуться, словно боясь, что при первом движении волшебная картина рассеется в воздухе.
По временам одна группа огней потухала, но вспыхивали отдельные огоньки в других местах. Однажды на несколько мгновений на темном фоне вдруг вырисовался опять светящийся контур гигантского купола, но через мгновение опять погрузился в мрак.
— Там люди! — прервал наше молчание голос Падди.
— Я пойду к ним.
— Не торопитесь! — оборвал его я. — Мы все пойдем к ним.
— Да, все пойдем! — отозвался Макс Грубер.
— Я только что видел скелет Тима Фиц-Руперта. Его череп скалил зубы и смеялся надо мной, и грозил мне рукой, и звал к себе; но я пойду к людям: я не хочу умирать! — говорил, поднимаясь, Падди.
Молча поднялись и мы, молча пошли, куда шел он, гонимый призраком смерти, брели, то проваливаясь почти по пояс в сугробы снега, то скользя по оледенелому покрову, падая, поднимаясь. Вот мы спустились с холма к его подножию; вот мы бредем по долине, среди колоссальных стен, башен, колонн.
Мимо, мимо…
Одного беглого взгляда довольно для нас, чтобы убедиться: если это — город, то город мертвых, мертвый город, ибо только издали стены, башни, колонны могли казаться стоящими более или менее в порядке. По мере же приближения к ним мы убеждались, что это — только развалины. Гигантские, колоссальные, но только развалины.
Стены во многих местах рухнули и лежали грудой безобразных обломков, загораживавших проход. В зданиях зияли черными и безобразными дырами пустые окна, двери. Колонны частью рухнули, частью стояли среди обломков тех зданий, может быть, тех храмов, которые они были предназначены украшать.
Глядя на эти развалины, полуослепший Макс Грубер шептал:
— Форум! Форум Рима!
Я знаю, что такое Рим: это город, где живет святой отец папа. Это самый, понятно, большой город в мире, и там столько же церквей, сколько домов, а, может быть, и больше. Я слышал, есть такие церкви, в которых может поместиться сразу триста человек. Но это, должно быть, сказка: какой же человек в здравом уме и полной памяти может поверить, чтобы, в самом деле, можно было построить такое огромное здание, в котором помещалось бы сразу больше сотни человек? Явно, вздор!
Но когда я глядел на развалины, мимо которых мы проходили по улицам и площадям «города мертвых», я невольно начинал верить в то, что, может быть, и в самом деле… Словом, джентльмены, я в своей жизни ни единого раза не видел блокгаузов и вигвамов таких огромных размеров, как в этом проклятом «городе мертвых», хотя, могу похвастать, побродил-таки па своем веку не мало…
Итак, шаг за шагом мы подвигались по этому городу развалин, направляясь к тому самому холму, на вершине которого сверкали огни. И вот мы у его подножия, мы поднимаемся.
В это время я впервые увидел людей.
Да, это были люди, хотя их фигуры положительно утопали в мехах всех сортов, но это были люди. И они втаскивали к вершине холма нечто схожее с эскимосскими санями с каким-то грузом. Должно быть, груз был достаточно тяжел: сани поднимали медленно, очень медленно, а между тем их волочил, напрягая все усилия, добрый десяток высокорослых молодцов. При этом они словно в такт шагам подпевали что-то, но отдельных слов я разобрать не мог.
При виде людей нас пронизала такая радость, в наши измученные тела потоком хлынули такие силы, что мы словно перелетели пространство, отделявшее нас от саней. Мы кричали, мы махали руками, а Падди, тот, словно сойдя с ума, приплясывал и пел:
— Ла-ла-ла, тра-ла-ла! Я уйду от тебя, Тим, я уйду!
Нас увидели, когда мы были еще довольно далеко.
Тащившие сани люди остановились, как-то сгрудились, словно опасаясь, что мы предпринимаем разбойничье нападение на их сокровище, лежащее в санях. Я заметил, что некоторые из них даже угрожающе выставили вперед короткие копья с тускло и жадно блестевшими при слабом свете, льющемся из окон, металлическими наконечниками.
Но на все это мы не обращали ни малейшего внимания: неприязненно, враждебно отнестись к нам могли ведь только какие-нибудь загнанные судьбой на край света дикари, жалкие эскимосы. Но эскимосы не строят дворцов с сияющими куполами.
А раз это были культурные люди, то они должны были принять нас, как братьев.
И в нас все пело, все ликовало…
Но копья скоро опустились: люди видели, что мы не только не высказываем каких-либо враждебных намерений по отношению к ним, но, наоборот, сами ошалели от радости.
— Кто вы? — кричал, теребя за рукав первого попавшегося нам навстречу человека, Падди, говоря по-английски.
Тот ответил что-то, но не по-английски.
Тогда я подумал, что, может быть, это мои соотечественники, французы: ведь мы, канадцы, на три четверти французского происхождения, и французский язык на всем пространстве Канады в большем употреблении, чем английский.
Опять какие-то звуки. Но ничего понять нет возможности.
Тогда вмешался Макс: он задал этим странным людям тот же вопрос по-немецки. Потом по-итальянски, потом по-гречески — результата тот же: нас не понимали, и, в свою очередь, мы не понимали ни слова из того, что говорилось нам в ответ.
— Может быть, это русские? — высказал я Максу догадку. — Макс! Ведь, кажется, русские и немцы — это одно и то же? И ты должен уметь говорить по-русски. Попробуй!
Макс слабо улыбнулся.
— Положим, — сказал он, — русские и немцы — это далеко не один и тот же народ, и языки эти совершенно различны, и я еле-еле могу слепить пару фраз по-русски, хотя в Академии я считался одним из лучших знатоков его…
Но и на вопрос, предложенный по-русски, ответом было только недоуменное покачивание голов, да переглядывание, да какое-то бормотание скороговоркой.
Прислушиваясь к этому бормотанию, Макс, казалось, улавливает некоторые слова.
— Стойте, стойте! — замахал он на незнакомцев обеими руками.
Те смолкли, потом опять заговорили.
И тогда Макс с просветленным лицом вдруг закричал:
— Да ведь это же санскрит! Ей-Богу, это чистейший санскрит!
Не знаю, что он хотел этим сказать, но через мгновение и он, правда, явно путаясь, запинаясь, напрягая всю свою память, заговорил на каком-то тарабарском языке, но по лицам незнакомцев я видел, что теперь они понимают слова Макса.
Макс сыпал вопросами, как горохом из мешка. Должно быть, ему давали полные и обстоятельные ответы. И, в свою очередь, задавали вопросы ему. В общем, все это ужасно походило на то, как к стае ворон, сидящей на ветвях, вдруг прилетит разведчица, принесшая будоражащие все воронье царство новости, и стая, взволновавшись, принимается галдеть на все голоса.
Мы с Падди стояли, словно ошалевшие: преглупое, в самом деле, положение, когда кругом тебя стрекочут, а ты не понимаешь ни единого слова…
— На каком языке они болтают? — шепнул я Падди.
— На языческом! — ответил тот.
Знаете, хотя Падди и был часто шальным парнем, но у него была-таки башка на плечах, и не раз он как-то вдруг, словно по наитию, угадывал очень сложные штуки в самый раз…
Но мне скоро надоело стоять болваном и хлопать глазами. Я дернул за руку Макса и сказал ему:
— Слушай, «дутчмэн!» О чем это вы тут разглагольствуете?
— Ты не поймешь! — взволнованным голосом ответил немец, отмахиваясь от меня рукой, как бизон отмахивается от слепня хвостом.
— Как это не пойму? — обиделся я.
— Ах, да пойми же ты, Нед! — обратился, отрываясь от разговора с незнакомцами, Грубер. — Тут решается страшно важный для науки мировой вопрос. Открывается величайшая тайна, разрешается такая загадка, что…
— К черту тайны, загадки, науку! — не выдержал я. — Мы с голода подыхаем, и плевать мне на тайны, загадки ученых! Ты спроси, примут ли они нас? Накормят ли? Скажут ли, как нам из этой западни домой добраться? Дадут ли нам припасов? Вот что для нас с тобой поважнее всяческих тайн и загадок! Я эту дичь, мой милый, предоставляю стрелять тем, кто видел пушки в полкилометра длиной…
Макс Грубер перемолвился со встречными. Те как будто посовещались, потом дали ответ.
— Они говорят, — обратился к нам Макс, — что, конечно, принимают. Но это — простые… Ну, охотники, что ли. Они называют себя «мужами силы». Не понимаю этого термина. По-видимому, у них есть какое-то разделение на касты, что ли. Потому что они говорят еще: о нас будет доложено «мужам меча». Те донесут «мужам огня». Словом, что-то очень сложное, и странное, и загадочное, и малопонятное. У меня голова кругом идет.
— Оно и видно. Ты совсем ошалел! — не удержался я, кольнул приятеля.
Но на него моя колкость подействовала так, как подействовало бы на кита, если бы кто ткнул его в кончик хвоста соломинкой. Мой Макс опять застрекотал на своем проклятом языческом языке и только по временам, оборачиваясь к нам, бормотал:
— Но это невероятно! Это сказочно! Это чудесно!.. Осколок первобытного человечества… Может быть, сохранившие свою культуру допотопного периода люди… И где же? У северного полюса, среди вечных льдов!
Тем временем весь кортеж тронулся в путь, в гору.
Мы прошли мимо ряда зданий, во многих из которых светились огни, добрались до огромного здания с рядом колонн по переднему фасаду и остановились в тени этих колонн.
За время пути наши провожатые встречали одиноких путников, обменивались с ними короткими фразами. Услышав их слова, встречные обыкновенно, не подходя к нам, бросались бежать куда-то, словно они торопились передать другим, остающимся под защитой стен жилищ, сенсационную новость, известие о нашем появлении.
Были ли это мужчины или женщины, я сказать затрудняюсь: хотя на снежный полог улицы ложились местами яркие полосы света из окон, но все же было не так светло, чтобы можно было хорошо разбираться, а все фигуры окружавших нас людей были до последних пределов вероятия закутаны меховыми одеждами. Собственно говоря, с большим трудом можно было различать только лица. И тут я видел, что наш конвой — это бородачи и усачи с орлиными носами и сверкающими глазами.
Должно быть, мы стояли под колоннами минут пять. От времени до времени все один и тот же из наших провожатых подходил к огромным дверям и прижимал какую-то торчавшую из дверей большую пуговку, вот, ей Богу, не лгу, джентльмены, там, за дверью, раздавался громкий серебристый звон.
— Они находятся на высокой ступени культуры! — шепнул нам Макс. — Им, очевидно, известно многое из того, что нам удалось узнать только за последнее столетие. Например, электричество. Я спрашивал, когда они ввели в употребление электрические звонки. Они отвечают: так было всегда… Следовательно…
Не знаю, что именно хотел сказать Макс этим, и что за штука электрический звонок. Должно быть, какая-нибудь механика. Я никогда не видел этого хитрого зверя и мне нет до него ни малейшего дела. Но в тот момент, когда я хотел сказать это Максу, дверь распахнулась, и мы невольно отступили в сторону, ослепленные ударившими нам в лицо потоками ослепительно-яркого света. Окружавшие нас «люди меча» ловко подтолкнули нас и мы очутились в какой-то комнате, покое, назовите, как хотите. Но тут был черт знает какой высокий потолок, подпертый рядом тонких колонн из никогда мною не виденного белого камня, который Макс называл мрамором. Одной стенки у этой комнаты не было: она, комната, открывалась в другую. И вот, когда нас протолкнули в эту последнюю, я буквально ахнул.
Я много слышал от трапперов, побывавших на юге, о знаменитой пещере в Коннектикуте. Если эти трапперы не врали, а врать им большой надобности не было, то в этой пещере сотни зал, переходов, балконов. И есть такие залы, в которых, чтобы разглядеть потолок, надо задрать голову с риском свернуть себе шею. Ну, и вот, я думаю, тот покой, куда доставили нас «мужи силы», был не меньше коннектикутской пещеры. Ей-Богу!
И хотя Макс Грубер все твердил: «Какая постройка! Какое искусство!» но, признаюсь, я и теперь не верю, что это была постройка, то есть дело рук человеческих. Просто-напросто это была игра природы, или как такие вещи называются. Словом, натуральнейшая пещера в скале, но, разумеется, человек сумел выгладить ее стены, покрыть их узорами, вырубить разные там ниши, поставить фигуры… А, главное, человек ухитрился прикрыть выход из этой пещеры наверху удивительно, признаюсь, ловко сделанным колпаком из стекла, еле-еле скрепленного железом. И было тут светло, как днем: по стенам висели такие, знаете, белые пузыри, словно налитые светом. И тепло было ужасно, так что я даже неладно себя почувствовал. Зал этот был пуст. Но через несколько секунд он вдруг стал наполняться людьми в странных белых одеждах с чудными белыми же круглыми шапками на головах. Помню, Макс назвал эти шапки тюрбанами. Пусть будет так, хотя, держу пари, он здорово зазнался и все время хотел показаться нам всеведущим.
Итак, зал оказался переполненным людьми. И откуда, собственно говоря, они появлялись, убей Бог, не понимаю: я до того был ошеломлен этим странным зрелищем, что плохо соображал происходящее. Но как ни был я растерян, все же я успел разглядеть, что эти джентльмены в каких-то ночных рубашках или халатах, не обращая никакого внимания на нас, первым делом направлялись в один из углов залы и падали ниц перед огромной фигурой, изображавшей очень мало стесняющуюся в выборе для себя костюма молодую даму: фигура была полунагая.
По-видимому, это было нечто вроде богослужения, хотя проделывалось все молча.
Когда церемония эта закончилась, вся толпа продефилировала обратно мимо нас, но на этот раз каждый буквально впивался в нас взором. И тут я различил среди мужчин немало женщин. Они шли с непокрытыми головами, и я вспомнил загадочные слова Энни, сказанные там, на холме:
— Женщины с волосами, словно сотканными из лучей солнца, с очами голубыми, как весеннее небо, с алыми устами.
Да, действительно, у оглядывавших нас тревожным и вместе любопытным взором женщин были золотистые волосы и, должно быть, голубые глаза. Во всяком случае, это в большинстве были удивительно прелестные леди и мисс, хотя о костюме их можно было бы сказать многое, ибо, между нами, весь этот костюм, кажется, состоял из одного куска полотна, ловко наброшенного на тело, но ничуть не скрывающего, а как будто даже подчеркивающего формы этого тела. При этом поголовно у всех этот белый плащ совсем не закрывал правую руку, правое плечо и часть груди. И я видел, что на обнаженных руках были браслеты, у иных даже не только у кисти, как я видел у некоторых женщин в форте Гуд-Хоп. Мало того, этому бы я никогда не поверил, если бы мне кто-нибудь вздумал рассказывать, но я видел это собственными глазами, и отсохни мой язык, если я скажу хоть одно слово неправды, у многих, может быть, у всех женщин, дефилировавших мимо нас, были массивные блестящие браслеты на ногах.
Надо вам заметить, что шли все эти леди и мисс на довольно близком расстоянии от нас, и меня поразили странные звуки, сопровождавшие их шаги: словно, знаете ли, идет не человек, а какой-нибудь пони, хозяин которого украсил любимую лошадку наборной сбруей с бубенчиками, колокольчиками, стальными колечками, и на ходу вся эта амуниция позванивает, выпевает какую-то песенку.
Но тут вышло нечто такое, что вызвало некоторого рода маленький переполох и внесло замешательство в ряды торжественного шествия: одна женщина, должно быть, уже не первой молодости, но еще стройная и красивая, вперила свой горящий взор в лицо несколько выдвинувшейся вперед Энни-эскимосочки.
Она, эта странная босоногая леди с золотистыми волосами, рассыпавшимися волнами по плечам и спине, замедлила шаги, остановилась. И, наконец, словно не владея собой, рванулась к Энни, простирая вперед к нашей спутнице прекрасные, нежные, белые руки, до самых плечей покрытые браслетами.
Что-то, какие-то слова она крикнула. Но я не разобрал и не запомнил, тем более, что в то же мгновенье десятки рук потянулись к этой женщине, и через мгновение толпа скрыла ее от наших взоров. Я поглядел на Энни. Девушка стояла, широко раскрыв глаза, рассеянно и болезненно улыбаясь. По временам она подносила руку ко лбу и шептала:
— Я это знала. Я это видела…
Потом зал опустел или почти опустел: осталось всего несколько субъектов с прямыми саблями в руках и стальными шапками на головах. Это, должно быть, были те самые «люди меча», о которых говорили Максу наши первые знакомцы. Кроме них, на ступенях помоста, на котором воздвигалась бронзово-красная фигура улыбающейся леди в очень недостаточном с точки зрения христианина костюме, находилась еще группа из семи пожилых джентльменов. Все важные, солидные, все седобородые, со степенными, медленными движениями, с тихой неторопливой речью.
Нас всех четырех подвели к этим господам, и что мне бросилось в глаза, — это было то обстоятельство, что на лбу каждого из них красовался странный огненно-красный знак, словно лезвие копья, обращенное острием вверх или, правильнее, словно пламя сальной свечи, огненный язычок.
И опять я вспомнил, как Макс бормотал о каких-то «мужах огня».
Несколько минут эти джентльмены оглядывали нас, словно, прости Господи, никогда невиданных зверей. Признаюсь, я испытывал очень странное впечатление, стоя под этими пронизывающими, проникающими в самую душу взорами. И мне страшно хотелось, чтобы осмотр кончился возможно скорее.
Наконец один из седобородых, сделав плавный жест рукой, заговорил. Разумеется, мы не понимали ни слова, то есть я, Падди и Энни. Но Макс понимал все, почти до последнего слова, и он переводил нам остальным, что говорилось. Для того, чтобы не путать рассказ, я предпочту впредь все переговоры, которые велись от нашего имени с Максом, передавать так, как будто бы я сам понимал, сам отвечал: ведь это не имеет значения, а между тем я ведь, признаться, начинаю уже уставать. Ведь, поди, рассказываю я вам нашу историю добрых три или четыре часа, и меня начинает сламывать усталость. Знаете, мы, звероловы, слоняющиеся по целым месяцам и годам в ледяных пустынях, как-то разучаемся и говорить по-человечески. Так что, когда попадешь, например, как я сегодня, в поселок, факторию или форт, видишь себя окруженным несметной толпой людей в несколько десятков человек, то как-то жутко себя чувствуешь. Кругом говорят, говорят, говорят. А ты сидишь и думаешь: и как это у людей языки не распухнут?
Но это так, между прочим. Итак, значит, между нами и седобородыми джентльменами начались переговоры. Я видел, как два из опрашивавших нас записывали почти каждое наше слово.
— Кто вы? — спрашивали нас.
— Мы — люди, канадские охотники. Один немец, другой ирландец, третий чистокровный канадец.
— Что за женщина с вами?
— Эскимосская девушка. Моя невеста! — ответил Макс.
— Зачем вы пришли сюда?
— Мы пришли случайно. Никто в мире не подозревает о том, что так далеко на севере, почти у полюса, существует большое поселение, культурный город.
Дальше Макс бегло рассказал, как, собственно, мы попали сюда, и так как вам, джентльмены, вся предшествующая история уже известна, то я считаю лишним повторять ее.
Замечу только, что рассказ Макса был выслушан с большим вниманием и, насколько я понял, с столь же большим недоверием.
— Почему эти люди, — задал <вопрос> допросчик, обращаясь к нам и поочередно касаясь правого плеча каждого из нас, включая и Энни, — почему эти люди молчат?
— Потому что, — ответил Макс, — они не знают того языка, на котором говорите вы.
— Ты этим хочешь сказать, что будто бы существуют какие-то другие языки, кроме «речи людей света»?
— Да. Их очень много.
— Это — ложь!
— Это — правда!
— Это — наглая ложь! — уже угрожающим тоном повторил допросчик. — Все отлично знают, что люди все люди мира говорят на нашем языке. Те существа, которые не владеют нашей речью, это не люди.
— А кто же они?
Допрашивающий нас старик как будто смутился, он бросил несколько беглых слов скороговоркой к остальным членам этой почтеннейшей компании, те, в свою очередь, переглянулись смущенно.
— Оставим этот вопрос! — сказал допросчик. — Что ты лжешь, ясно из того: ты — товарищ пришедших с тобою существ, такой же, как они. Но ты, однако, говоришь по-нашему, хотя и с ошибками, тогда как они не говорят. Но оставим этот вопрос! Совет семи, священного числа, спрашивает тебя: как ты, «вернувшийся из ушедших в безумии», решился преступить вечный, неизменный «закон земли», закон «первых семи»?
— Я не знаю «закона земли». Я в первый раз слышу о «законе семи», — ответил смущенно Макс.
— Ты опять лжешь! — гневно воскликнул допросчик.
— Все знают этот закон, потому что каждый, кто говорит на языке «людей света», достигнув семи лет, будь он мужеского пола или женского, подвергается испытанию в знаний основных законов мира, и если он этих законов не знает, его постигает смерть.
— Я не подвергался испытанно. Я не знаю ваших зако-нов. И было бы несправедливо упрекать или наказывать меня за это. Не забывайте, я — чужеземец!
— Ты — один из ушедших, обещавших не возвращаться, и ты вернулся.
— Не понимаю!
— Скажи ему «закон земли» и «закон семи»! — прозвучал из прислушивавшейся к переговорам группы чей-то глухой голос.
Допросчик приостановился, сосредоточился. Потом стал произносить, как будто читая по невидимому списку, нараспев:
— На камне, на металле, на дереве, в сердцах, в душах всякого разумного существа, младенца и старца, девы и мужа, сильного и мудрого, воина, рабочего, жреца.
В громе молнии, рассекающей завесу туч, в рокоте волн, в молчании земли.
Когда лучезарное солнце ходит по небу и шесть месяцев длится один день, и когда умирает солнце и шесть месяцев длится ночь.
Отныне и до скончания века и раньше, когда не было холода, и земля была пышным садом.
Вечный, неизменный «закон земли».
Кто глаголет, что есть другие страны, кроме земель «людей света», грешен и подлежит смертной казни. Смерть!
Кто подговаривает других покинуть землю «людей света», тот дважды грешен и подлежит казни. Смерть!
Кто покинул землю «детей света» и увел с собою близких своих, и рабов своих, и домашних животных своих, проклятье на главе его, проклятье на главах потомков его, и гибель всем близким, всем чадам и домочадцам, всем рабам его, всему имуществу его. Проклятие!
Кто, соблазненный первым грешником Ту-Валом, зачарованный льстивыми и лживыми речами его, ушел из страны нашей, страны света, и потом, убоясь трудности пути и поняв безумие свое, вернулся в землю «людей света», тот трижды грешен, и тому смерть. Таковы законы «закон земли», «закон первых семи», закон жизни, закон смерти. Так ли я сказал, о, старшие братья, о, мудрые, число которых — священное число — семь?
Остальные седобородые джентльмены, как автоматы, склонились до земли одновременно, коснулись вытянутыми пальцами каменной плиты у ног статуи и ответили хором:
— Таков закон земли, закон семи, закон жизни, закон смерти!
Страшно волновавшийся Макс почти закричал:
— Я не уходил. Это вздор! Вы не понимаете ничего, но я заставлю вас понять. Слышите вы? Я — «муж меча», как вы это называете. Офицер службы его величества, короля Пруссии, императора Германии. Я не уходил, я не возвратился к вам. Слышите вы это? И вы не имеете права судить меня. Да! И меня и моих спутников, потому что мы не имели представления о ваших идиотских законах. И мы думали, что мы идем к цивилизованным, к культурным людям, а не к каким-то дикарям, какими являетесь вы, хотя вы знаете у потребление электричества и один Бог ведает еще каких вещей…
— Совет семи «мужей огня» решит по справедливости вашу участь! — отозвался допросчик. — Теперь скажите, чего вы хотите?
— Мы умираем от истощения. Мы голодны. Кровь почти застыла в наших жилах! — ответил Макс. — Дайте нам кров.
— Да будет! — отозвался хор из семи «мужей огня».
— Накормите нас! — продолжал Макс.
— Да будет! — ответил хор.
Макс хотел сказать еще что-то, но «мужи меча» уже окружили нас и повели куда-то. Я оглянулся и увидел, что «мужи огня» распростерлись ниц на холодном каменном полу перед своею каменной богиней, глядевшей на них и на нас узкими и раскосыми мертвыми очами с загадочной улыбкой на чувственных устах.
Было бы весьма естественным, если бы переговоры Макса Грубера с «советом семи», принимавшие явно неблагоприятный для нас характер, взволновали нас до глубины души. Но на самом деле этого не было: сказать по совести, все пережитое нами до этого момента — усталость, голод, внезапно вспыхнувшая надежда на спасение, само чудесное видение фантастического города, наконец то, что мы наблюдали в храме, — все это было, как говорится, сверх человеческих сил. Как-то не укладывалось оно в душе утомленной, заполненной предшествующими впечатлениями.
Я лично, например, умом сознавал, что как ни верти, как ни крути, а ведь эти самые седобородые джентльмены довольно ясно высказали, что они считают нас всех, включая и Макса, за существа, подлежащие уничтожению.
Но это я, говорю, понимал умом. А душа этого не воспринимала, не чувствовала. И в общем я смотрел на всю эту историю точно так, как смотришь, например, на россказни какого-нибудь болтуна-траппера, во время лагерных стоянок где-нибудь у костра потешающего и развлекающего товарищей повествованиями о вампирах, оборотнях, «мудрых женщинах», то есть, извините, ведьмах, и о подобной нечисти. Слушаешь, сознаешь, что слова человеческие. Но все же ведь это — выдумка.
Вот догорит костер, поспеет похлебка, изжарится оленье седло или грудинка, и все трапперы, позабыв о запугивающей человека нечисти, примутся с удвоенным аппетитом уплетать свои немудрые припасы…
Так точно казалось все, происходящее вокруг меня, и теперь единственным реальным фактом было то, что мы живы, что нам тепло, кругом светло и кругом люди. А то, что эти люди совещаются, на какой манер нас зарезать, это казалось какой-то нелепой сказкой, ни малейшего отношения к нашей жизни не имеющей.
Позволю себе пояснить, каким образом было возможно подобное состояние, рассказав маленький пример.
Жаль, вы не знаете Сэма Маркузе, одноногого Сэма, как мы, звероловы, зовем его, потому что, видите ли, у него одна нога как нога, а вместо другой — деревяшка.
А потерял эту ногу Сэм очень курьезным образом: охотясь в Скалистых горах, имел он неосторожность полезть в какую-то трущобу за тушею убитой лани, не захватив с собой карабина. Ну, и когда наткнулся он в чаще на «гризли» — чудовище Скалистых гор, порядочной величины свирепого медведя, пришлось удирать во все лопатки. А медведь погнался и нагнал Сэма в тот момент, когда охотнику удалось взобраться на крошечную скалистую площадку, и схватил «гризли» Сэма за правую ногу и своими страшными когтями сорвал с этой ноги не только сапог, но и всю кожу, да и мясу Сэма досталось.
Понятно, Сэм кричал, как полоумный, и на его счастье другие трапперы, услышав эти крики, подоспели к нему на помощь и уложили «гризли». Но вот в чем штука: все время, пока медведь когтями обдирал ногу, Сэм не чувствовал ни малейшей боли. Понимаете? Словно медведь драл не кожу живую, не мясо, а деревяшку.
Ну-с, не буду долго рассказывать, как Сэма вылечили, но скажу только одно: пришлось ему ногу отрезать выше колена, и ковыляет он на деревяшке. И вот тут-то происходит что-то совсем дикое: перед дождем, а то иногда и так, наш Сэм вдруг начинает чувствовать, как у него пухнут и наливаются болью все пять пальцев на этой самой правой ноге. Иной раз до того, что не выдерживает, зубами скрипит от боли. Понимаете вы в этом что-нибудь, джентльмены? Ведь ноги-то нету, а боль в этой несуществующей ноге чувствуется.
Я откровенно говорю: я ничего не понимаю. Знаю, что это так, и больше ничего. А как объяснить, не знаю. Пусть объясняют другие.
Добавлю только, что Сэм обращался к разным докторам, но ни один помочь не мог. То есть, один и помог, но… Но хоть вы смейтесь, а я скажу: и этот один был не белый, а самый настоящий краснокожий, и был он «медицин-мэ-ном» или колдуном у племени гуронов. И лечил он нашего Сэма окуриваниями, заклинаниями, а еще хлестал он Сэма по… спине, скажем, толстой веревкой. Говорил, что только таким путем и можно изгнать боль из мертвой ноги. Но и гуронскому медицин-мэну удалось только облегчить страдания Сама, но не избавить его от болей раз навсегда…
Зачем я рассказал вам эту историю?
А для того, чтобы дать вам понять, как могло быть, что мы отнеслись совсем, кажется, равнодушно к переговорам Макса Грубера с седобородыми джентльменами.
Кстати, нам и не приходилось особенно задумываться над этим вопросом: было некогда.
Дело в том, что нас отвели в какой-то довольно просторный покой со стенами, сплошь покрытыми странными рисунками, вырезанными на камне. Там нам дали поесть: это было какое-то месиво из зелени, странной на вкус, кусочков мяса, может быть, муки. Но дали нам буквально микроскопическую дозу, так, только раздразнили аппетит. Однако и этого оказалось достаточным, чтобы мы значительно окрепли. А то ведь мы еле держались на ногах.
Мы, конечно, требовали еды еще и еще, но Макс, который вел все разговоры, объяснил, что эти чудаки настаивают на своем: все дадут, все устроят, но требуют, чтобы раньше мы «очистились водой». В конце концов это свелось попросту к горячей бане. Энни подверглась той же самой операции, но, понятно, отдельно от нас: ее забрали две молодые женщины, а нас — целый конвой усатых и голубоглазых молодцов.
Да мало того, что нас выпарили, ей Богу, эти сумасшедшие устроили какую-то чертовщину и со всей нашей одеждой, с нашим бельем. Сначала я думал, они попросту сожгут все наши лохмотья: забрали, да и сунули в какую-то огромную, напоминающую железный шкап печку. Но продержав в ней вещи полчаса, достали обратно, и хотя нам не вручили, по отнесли в нашу же камеру.
— Что они мудрят? — дивился я.
— Производят по всем правилам науки дезинфекцию перегретым паром! — пояснил мне Макс.
— Да зачем?
— Опасаются занесения нами какой-нибудь инфекции.
— А что такое инфекция? На двух лапках или на четырех? С хвостиком? Или с плавниками? С легкими или с жабрами?
Но тут Макс рассердился. И как начал сыпать страшными словами: микроскоп, бактерия, бесполовое размножение, эхинококки, палочки, запятая, колбочки…
Словом, ахинея, которую можно равнодушно слушать только в пьяном виде.
Ну-с, выпаривши нас в такой горячей воде, что я пре-серьезно боялся свариться заживо, и выпарив всех этих многочленистых эхинококков или других им подобных мле-копитающихся из нашего тряпья, «люди света» опять отвели нас в нашу камеру. Но по дороге мы хохотали, как безумные.
Еще бы!
Представьте меня, Неда Невилла, чистокровного канадца родом, траппера, в каком-то маскарадном костюме, с этакой белоснежной кисейной штукой на голове, которая называется почему-то тюрбаном, в каких-то кисейных панталонах и рубашке и с тонкими сафьяновыми сапожками на ногах.
Говорят, есть такой народ, который зимой и летом в подобных одеждах щеголяет. Они называются турки, и все, даже женщины, даже дети, — страстные курильщики. Сидят, поджавши ноги, и курят.
Но зачем седобородым джентльменам понадобилось нас троих, наконец, меня, Неда Невилла, переряживать в подобные чучела — убей Бог, и сейчас не понимаю.
А как взгляну на длинноногого Падди или на рыжеусого и круглолицего Макса, обряженных точь-в-точь так, как и я, ей Богу, хохочу, кишки порваться могут…
А в камере ждал нас еще сюрприз, да такой, что у меня и в глазах помутилось. И, по правде сказать, как увидел я его, то и смех мой оборвался, и язык прилип к гортани, и попятился я, знаете, как мальчишка, который с разгона вдруг вскочит в крут сидящих у костра, о чем-то важном рассуждающих взрослых.
Вышло это так: вошли мы в камеру, а посредине стоит мисс. Вся словно прекрасный цветок, словно водяная лилия.
Стройное молодое тело закутано каким-то облачком тончайших одежд, ничуть не связывающих движений и не скрывающих красоты форм. На обнаженных до плеча нежных и вместе сильных руках — массивные золотые браслеты. На ножках в красных туфельках — то же самое. А пышные золотистые волосы разметались волнами по плечам. И в этой золотой рамке — прелестное личико с ясными голубыми глазками, со смеющимися алыми устами и орлиным носиком. И в глазах этих лукавое веселье, и каждая черточка личика дрожит от еле сдерживаемого смеха. И что-то страшно знакомое, близкое в этом девичьем лице.
Каюсь, подумал: не во сне ли когда-нибудь видел таких мисс?
А она как захохочет:
— Не узнали? Да это я, Энни!
— Энни? Ах, чтоб тебя!.. Наша же эскимосочка, Энни. Та самая, которая едва не стала супругой достопочтенного «бурка»…
Ей-Богу, было от чего с ума сойти.
Оказывается, что и ее одежды подвергли этой самой… эхиненции или дезинококкии, что ли, а ее обрядили, как ходят все женщины этого странного племени «людей света» или «Мэру».
Ну-с, однако, долго обмениваться впечатлениями нам не пришлось: сейчас же нам натащили целую кучу разной провизии и каких-то напитков. Должно быть, ох, большие мастера эти самые «дети света» по части стола и выпивки!.. По крайней мере, никогда в жизни я не ел таких вещей, какими был уставлен стол в нашей камере.
А заседали мы за столом на монументальных… постелях. Ей-Богу, не вру: для каждого была подана такая, знаете, длинная металлическая койка со спинкой и множеством подушек из удивительно мягкого, должно быть, гагачьего пуха. Я решительно не понимал, как это можно забраться на подобное великолепие, но «Мэру» показали пример. Оказывается, несколько, правда, неудобно есть полулежа, опираясь одним локтем на подушки, но в общем приспособиться возможно.
Что, собственно говоря, мы ели, что мы пили, что говорили, если, конечно, только говорили, отсохни мой язык, если я помню. Все это казалось как во сне, как в сказке.
Откуда-то словно наплывал розовый туман и колыхались стены, и звенели серебристые голоса, и блестели чьи-то лучезарные глаза. Сладкая истома сковывала движения, заполняла сердце, усыпляла мозг. И…
И мы, не выдержав неравной борьбы с смертельной усталостью, погрузились в глубочайший сон, длившийся, должно быть, добрых двадцать, если не тридцать часов…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Город-муравейник. — Визит к «великому единому», он же — «хранитель тайн». — «Люди света» оставшиеся и ушедшие. — Знак огня на плече нашей Энни. — Кладбище во льду. — История. — Накануне дня счета.
Каждый честный человек имел бы полное право без церемоний плюнуть мне в лицо, джентльмены, если бы я стал уверять, что «дети света» обращались с нами скверно.
Да, мы были в некотором роде пленными. Но что это значит? Нас не выпускали за пределы города на холме, и только.
В пределах же города мы могли бродить по целым дням, заглядывая в любой угол, и никто нам не говорил ни слова. Но, правда, как только мы покидали нашу камеру, сейчас же около нас оказывалось несколько человек, явно приставленных следить, чтобы мы не натворили бед. Но это делалось без малейшей навязчивости и очень походило на то, что нам давали просто-напросто провожатых, которые любезно показывали и объясняли все.
А и показать и объяснить было что.
В сущности, этот город на холме — это был какой-то колоссальный муравейник. Отдельных, самостоятельных зданий в нем не было: все они группировались около центрального здания с куполом, того самого, где мы в первый раз объяснялись с «советом семи». И не было такой каморки, такого закоулка, из которого нельзя было бы пробраться ходами, переходами, залами и коридорами к центральной зале совета, ни на шаг не выходя из-под общей кровли.
Зато сколько было там отдельных помещений, больших и малых, я вам сказать не могу. Очень возможно, что мы видели только двадцатую или пятидесятую часть их. Но и то, что мы видели, производило ошеломляющее впечатление.
Не лучше меня чувствовал себя и Падди.
Только Макс Грубер и Энни не растерялись, и Макс даже пытался уверить меня, будто в его родине есть какой-то город Берлин, в котором помещается четыре секстильона человек. Но я боюсь, что это название перепутал: может быть, он говорил не о секстильонах, а о миллионах. Знаете, это такое число: если взять тысячу жестянок для дроби и в каждую жестянку положить ровно по тысяче дробинок, то во всех жестянках и выйдет этот самый квадрапильон или квадрупедильон. Но при чем тут «четыре ноги», этого я решительно не понимаю.
Но оставим эту пустую болтовню.
Итак, комнат, камер, коридоров было бесконечное количество. Обитателей в них было тоже немало: считая мужчин, женщин и детей, около полутора тысяч душ.
Оговариваюсь: хотя я всюду ходил, все рассматривал с самым полным вниманием, но, по совести, сам-то я понимал очень мало, ибо был, как глухой, не зная языка «детей света», — этого самого санто-скритто. Все же, что я вам тут передаю, это я запомнил со слов Макса Грубера, уверявшего, что он понимает все, до последней буквы. Таким образом, если будет какая-нибудь путаница, то вина не моя, а вина Макса Грубера. Я же лично ручаюсь только за то, что сам комар носу не подточит, ни единой крупинки неправды никто не отыщет в том, что я рассказываю, как о виденном мной лично, как бы маловероятным это виденное ни казалось с первого взгляда.
Итак, вот что рассказывал нам Макс:
Во-первых, на полторы тысячи человек всего населения «города света» было свыше тысячи двухсот «людей силы», то есть попросту рабочих. Затем имелось приблизительно около полутораста или двухсот «людей меча», мужчин и женщин. Эти господа не делали ни малейшей черной работы, но зато вечно совещались о чем-то, надзирали за работами других, покрикивали, командовали. Они одни имели право в пределах города носить оружие, а знаком их достоинства служили прямые длинные мечи, покрытые позолотой от рукоятки до кончика и капризными, причудливыми узорами. Они же носили пресмешные металлические шапки на головах, а некоторые, сверх того, таскали еще блестящие, словно чешуя невиданной рыбы, рубашки из мельчайших стальных колечек.
Затем имелись «мужи совета» или «семеро мудрейших». Это все были седобородые джентльмены, но очень бодрые. Это были, так сказать, сверхкомандиры. Выбирались они из «людей меча», причем, помимо соблюдения разных других условий, «мужем совета» мог сделаться только тот, чья жизнь насчитывала семьдесят пять «дней бога Индры» и столько же ночей «бога Имани».
По словам Макса, «день бога Индры» — это попросту шесть летних месяцев полярного года, а «ночь Имани» — шесть зимних. А в общем, значит, говоря человеческим языком, в «мужи совета» могли попасть только семидесятипятилетние старички. Вот и все.
Затем имелся еще «великий единый».
Какова, собственно, была его роль, ни я, ни даже Макс не могли понять.
Могу сказать только одно, что мы видели этого «великого единого», и я до смерти не забуду того мгновения, когда это было. Он жил всего в двух шагах от центрального зала, и дверь, которая вела в его покой, скрывалась в тени той самой странной статуи, которой поклонялись «дети света» в храме.
Как-то нас попросту повели туда, всех четырех, вероятно, показать «великому единому».
Его камера была невелика по сравнению с центральным залом и даже многими жилыми помещениями, но все же значительно больше, например, любой комнаты блокгауза коменданта форта Гуд-Хоп. Там был овальный потолок, выкрашенный темно-синей краской, а на потолке, должно быть, несколько сот маленьких лампочек различного размера и различной степени яркости. Иные чуть мерцали, другие горели ярко, как маленькие солнца. И я сразу заметил, что эти лампочки были распределены точь-в-точь так, как в период полярной зимы расположены на небе звезды, все вокруг Полярной звездочки.
Других ламп в комнате «великого единого» не было, но света «звезд» было вполне достаточно, чтобы различать украшавшие стены рисунки и самого «великого единого», казавшегося не живым человеком, а какой-то фантастической древней статуей.
Должно быть, он был неимоверно, сказочно стар. Про себя я подумал, что он еще старше, чем знаменитый «Го-ку-ру», сахем племени гуронов, о котором говорили, что ему полтораста лет. У «великого единого» была уже не белая, а желтоватая борода в добрый метр длиной, которая волнистыми прядями лежала на его коленях, закрывая от взоров тонкую морщинистую шею и грудь.
Были бескровны тощие, костлявые руки с длинными пальцами, и ни единой кровинки не было в пергаментном лице. Но зато буквально сверкали, как звезды, его очи. Казалось, вся жизнь этого организма сосредоточилась в этих глазах.
Поглядев на нас поочередно, он сделал рукой какой-то знак, и моментально из комнаты исчез приведший нас сюда эскорт.
Тогда «великий единый» заговорил, обращаясь к Максу. И странен был его словно из-за могилы звучавший голос.
— Мне сказали, — говорил он, — что ты говоришь на языке «детей света». Может быть, ты посланец «тех, которые ушли, и хотят, но не смеют вернуться?» Открой мне твою тайну. У этих стен нет ушей, и с этого свода глядят не людские очи, а вечные звезды, и то, что ты скажешь, не будет знать никто.
«Они — те, которые ушли на юг, покинули «колыбель человечества», поняли свою роковую ошибку, поняли, что их ввели в соблазн и заблуждение? Они вернулись бы сюда, но боятся, что их постигнет суровый приговор по «закону вечного огня»? Говори же!
— Я плохо понимаю, что, собственно, ты, о, мудрый, хочешь узнать от меня! — ответил Макс. — Очевидно, между нами происходит какое-то недоразумение. Я отвечу на все твои вопросы, не утаивая ничего. Но раньше ты сам должен посвятить меня в кое-какие тайны.
Начнем с того, кого это вы, «Мэру», крестите именем ушедших? Когда, почему они ушли? Что с ними сталось? Где они находятся? Почему ты думаешь, что мы их посланцы или их соглядатаи?
Старик поник в раздумье своей седой головой, потом поднял скорбный взор на Макса.
— Мне трудно говорить, — отозвался он. — Застыла кровь в жилах моих, но не от холода, а от дряхлости. Почти не бьется мое дряхлое сердце. Мысли в мозгу не рождаются такими ясными и светлыми, как в былые годы… И… и я почти забыл язык людей, потому что я уже все сказал в жизни…
Но я попытаюсь говорить, а ты слушай внимательно, чтобы не утруждать меня излишними вопросами.
Кто «люди света»? Потомки «первого», созданного из тени бога Индры и мысли бога Индры. Прямые потомки, кровь которых никогда не смешивалась с кровью существ, похожих на человека, но покрытых шерстью, могущих ходить на четырех ногах или руках. Ты знаешь, о ком я говорю?
— Догадываюсь: об обезьянах.
— Да, о тех, которых родила тень бога мрака Имани и его черная мысль в насмешку над богом Индрой, и которые перестали существовать на земле, когда на страну «детей света» нахлынули волны холода и надвинулись вечные льды.
— Как это перестали существовать? — не выдержал Макс.
— Или мы попросту не понимаем друг друга, или… Да, ты ведь не можешь этого знать. Но те, кого, по-твоему, сотворил бог Имани, они существуют и теперь. Их не так много, как людей, но все же…
— И они по-прежнему ведут войну с человеком?
— Н-ну, этого нельзя сказать, мудрый. Видишь, трудно тебе объяснить. Но я скажу: в немногих дебрях земного шара…
— Земля не шар, а походит на блюдце.
— Не будем спорить. Итак, в иных дебрях земли еще водится свирепый орангутанг…
— У-танг. Так звали древние вождей племени четвероруких, своих врагов.
— Да. Но с каждым годом эта опасная порода, загнанная в глушь, вымирает, и близок день, когда она прекратит свое существование.
— Есть и другие породы «детей Имани»?
— Много. От больших, как собаки, до крошечных, как… Как мой кулак, что ли.
— Значит, живо племя, появившееся от нечистого союза женщин племени четвероруких с самцами племени «ночного голоса» — волками. Но говори дальше.
— Нет, мудрый: очередь за тобою! — отозвался Макс.
«Единый великий», помолчав, заговорил:
— Итак, «дети света» обитали там, где была колыбель рода человеческого. То есть здесь. Но тогда эта страна была раем земным. Тогда здесь текли теплые воды, и кишели они рыбами, и высились могучие леса, и полны они были зверьем. А по воздуху носились разные птицы, но не те птицы, которых знаем мы, потомки «детей света», потомки «первого» и его подруги, Ады, а страшные чудовища: птица с зубами, птица-лягушка, птица-ящерица…
Много тысячелетий жили на земле, здесь, в теперешнем краю холода, бывшем тогда «страной тепла», потомки «первого». Но настал момент, когда изменились здесь первобытные условия жизни, покрылась земля покровом снегов и льдов, погибли леса, исчезли звери. И наступил тогда период «великого голода». Но потомки «первого» знали, что это временное испытание, временная победа Ар-Има-ни над Индрой, светозарным, и что кару неба надо переносить безропотно.
Однако в их же среде Ар-Имани сеял ядовитое семя греха гордости, непокорности. И вот известная часть соблазненных ушла из этих краев.
Ты видел, сын мой, развалины города у подножья холмов?
— Видел, — кивнул головой внимательно слушавший речь «великого единого» Макс Грубер.
— Но ты не видел других мертвых городов нашей земли, а их десятки, сотни… Мы в центре архипелага больших и малых островов. И только на трех из них сохранилась жизнь: там, где уцелели жалкие, вырождающиеся потомки отверженцев, те, среди которых одна женщина является женой всех братьев первого своего супруга…
— Полиандрия? — удивился Макс Грубер. — Она сохранилась у некоторых горных племен там, далеко отсюда, в дебрях Индии.
— Значит, «мужья одной жены» не погибли в дни странствования… — задумчиво сказал старик. — Они тоже ушли с теми, мятежными…
Но дальше. И вот на другом острове живет изнеженное племя тех, среди которых один муж имеет семь и больше жен.
— Полигамия. В Индии, да и везде, где царит ислам, многоженство — обычный институт и теперь.
— Слушай дальше. Я устал. Мне тяжело говорить. Итак, нашлись мятежные. Сначала их было мало, и их постигала «смерть от земного огня» по приговору «семи мудрых». Но потом мятеж зажег огнем сердца почти всех, и верные закону отцов потонули в море мятежных, и многих верных постигла смерть от вечного огня, хотя праведны были их души и чисты их сердца.
— Но чем же закончилось?
— Погоди, не перебивай течения моих мыслей, пришелец! Чем кончилось? Тем, что мятежные покинули нашу землю, испугавшись холода, ушли. Куда? Они говорили — туда, где нет «дня Индры» и нет «ночи Ар-Имани» и где нет «небесных колес», вращающихся около оси, которую держит в руках могучий Индра…
— Круговое вращение созвездий вокруг звезды Альфа из созвездия Дракона! — чуть не закричал Макс. — Это — то, о чем твердит ученым индус Тилак, давая научное объяснение Ведам и Зенд-Авесте… Дальше, старик!
— И они взяли с собою жен, детей, домашних животных, и они покинули, они покинули родную землю! — чуть не рыдая, промолвил «великий единый».
— И вы, «Мэру», не знаете, что сталось с ними? — задал вопрос Макс.
— Мы думали, их постигла заслуженная участь: они погибли. Но были и сомнения, да, были сомнения. Были явления, который указывали, что где-то, за доступными нам пределами, все же существуют однородные с нами существа.
— Кто-нибудь приходил сюда? Объяснялся с вами? Го-воил вам о другой жизни? Говори же, старик!
— Ты — первый. Ты — единственный на протяжении двадцати тысяч лет! — шепотом сказал старец.
Наступило молчание. Макс Грубер дышал тяжело и неровно. Дыхания старика не было слышно, и глаза его померкли. Казалось, догорел огонь жизни и погасла последняя искорка пламени, оживлявшего это дряхлое тело…
Но несколько минут спустя «великий единый» заговорил снова:
— Когда они, мятежные, ищущие, грешные, покидали край, где была колыбель человечества, все, кто оставался тут, верные заветам богов, поклялись:
— Кто ушел, тому нет возврата. Кто вернется, тому смерть, дважды, трижды смерть.
— Это жестоко!
— Но это справедливо. Те, которые ушли и потом вернулись, что они могли принести с собой, скажи, о, пришелец?
Пусть они раскаялись, пришли к нашему порогу, как приходит «домашний волк», собака, лизать руку разгневанного хозяина. Но «совет мудрых» давно выяснил, что оставшийся в нашем распоряжении край может прокормить лишь определенное количество людей. И разве мы должны отдавать детям грешных тот хлеб, который нужен нашим потомкам, детям оставшихся верными этой святой земле?
Этого мало: где были, что узнали, что видели ушедшие? Мы не знаем. Может быть, они забыли Индру, они поклоняются другим богам, ложным богам, и, может быть, их приведет сюда Ар-Имани, чтобы навлечь гнев Индры на последних потомков «первого», еще сохранивших во всей чистоте веру отцов? И, может быть, эти пришедшие, рассказывая о виденном, об узнанном ими, о том, что в уши их нашептал Ар-Имани, вновь произведут соблазн в среде верных?
Поэтому «закон вечного огня земли» гласит:
— Кто ушел и вернулся, тот подлежит смерти во имя Ин-дры.
— Но почему же тогда ты задаешь мне вопросы об этих ваших предполагаемых сородичах? — спросил Макс старика. — Или ты не боишься соблазна?
Старик улыбнулся слабой, бледной улыбкой, удивительно скрасившей его холодные черты пергаментного лица.
— Я на пороге вечности. Сочтены не годы, не дни, сочтены короткие мгновения огня моей жизни, — сказал он.
— Мне не страшны никакие соблазны, как не страшны они и «семи мудрым», из среды которых, когда моя душа сольется с вечностью, будет избран мой заместитель, новый «великий единый», тот, кому доверены все тайны «детей света», все знания древних…
Вот почему всем прочим обитателям нашего города запрещено разговаривать с вами, и вот почему все переговоры ведут «семь мудрых», а самое важное узнаю только я…
Итак, расскажи: те, которые ушли, они еще не стерты с лица земли? Они сохранили хоть осколки веры своих отцов?
Макс задумался.
— Я не всеведущ, — сказал он. — Я скажу только то, что знаю. Людей, говорящих в обыденной жизни вашим языком, насколько я знаю, нет. Живой язык умер.
— Но ты же знаешь нашу речь?
— Да. И знают многие. Это священный язык древних книг племени индусов, это язык богослужения некоторых индусских религиозных сект, может быть. Во всяком случае, это язык мертвых.
При этих словах взор старика блеснул радостно.
— Суд богов — гибель душе грешного, нечистого, соблазненного. Да будет вечно так!
— Ваша религия? — продолжал Макс. — Я мало знаком с нею. Но на твоем челе я вижу огненный знак. И сейчас в той же Индии, где стоят храмы в честь Индры, существуют племена, поклоняющиеся вечному огню и не признающие никаких других богов, и люди, принадлежащие к этим племенам, отмечены таким же огненным знаком на челе. Они есть в другой стране, в Персии, но их мало, и религия огня умирает. Ее сменяет другая религия, или, правильнее, другие религии.
Ты не раз упоминал о боге Ар-Имани. Я не знаю, но, кажется, этому имени соответствует имя Аримана, бога тьмы, бога зла — по учению древней, уже умершей религии персов, «детей Ирана».
В твоем жилище я видел разные изображения богов, я видел статуи их в «зале совета» и в других местах. Они, эти изображения, очень сходны с изображениями тех богов, которым и сейчас поклоняются сотни миллионов людей в Индии. Словом, потомки тех, которые ушли от вас, они живы, и живо их духовное достояние. Но мир не стоит на одном месте: все перерождается, все изменяется. Только вы, отрезанные от остального человечества, закрытые от мира ледяными стенами, могли, сумели сохранить и древний язык и, может быть, древнюю веру…
— Каким богам молишься ты? — спросил после минутного раздумья старик.
— Ты не поймешь, — отозвался глухо Макс. — И надо было бы очень много говорить, а ты утомлен.
«Великий единый» поник устало головой и сделал слабое движение рукой, как будто отпуская нас.
Но Макс заговорил снова:
— Что будет с нами? — спросил он. — Неужели и нам грозит смерть? Ведь, надеюсь, ты не считаешь нас ни за лазутчиков от ваших мифических «мятежников», ни за раскаявшихся. Ваш закон к нам относиться не может. Нако-ниц, с нами женщина, Энни. Это — дитя еще, на нее не может падать ответственность за чужие грехи.
Старик поднял голову, глаза его оживились.
— Жизнь дает великие, трудно разрешимые загадки. Ум человека, ум самых мудрых людей — слаб. Иногда приходится ждать ответа от самих бессмертных богов. Ваше дело именно таково, что «семь мудрых», не будучи в состоянии решить вопрос, как поступить с вами, решились обеспокоить меня, чем, вероятно, ускорят мою кончину, но и мой ум слаб, и я нахожусь в затруднении.
Ты назвал имя женщины? Но ведь она-то больше вас всех, а, может быть, меньше всех, подходить под силу закона вечного огня.
Кто ушел и возвратился, подлежит смерти.
— Почему? — вскрикнул Макс, сжимая руки.
— Больше всех вас, потому что она «ушла, и потом вернулась». Она была дочерью «детей света», она родилась здесь, она ушла отсюда.
— Этого быть не может.
— Нет, это так. На ее правом плече — знак огня, сделанный огнем и железом. Вот он.
Невольно при этих словах «единого» мы поглядели на Энни. И мы увидели, что, действительно, на ее прекрасном атласном плече ясно выделяется рубец в форме острия копья или языка огня, но белого цвета. Такие рубцы появляются на теле человека от ожогов.
— Когда она прожила первых семь суток, — сказал «единый», — и та, которая дала ей жизнь, принесла ее «семи мудрым», и «мудрые» нашли, что девочка сильна, крепка, что она не хрома, не слепа, не глуха, — ее отметили «знаком огня», приложив к ее детскому плечу раскаленное тавро.
— Если ты говоришь, мы должны верить, но…
— Подожди. Я сейчас кончаю.
Но потом, когда ей было семь лет, и настал день Чисел жизни и смерти, на ее долю пало «черное число смерти». И она ушла.
— Ничего не понимаю! — схватился за голову Макс. — Семилетний ребенок не мог уйти. Он должен был погибнуть на первом же шагу в ледяной пустыне.
— Дни счета бывают тогда, когда исчезает лед, сковывающий берега нашей страны, и уплывают в неведомые дали ледяные горы. Это бывает периодически, но приблизительно через каждые шесть-семь лет. И вот тогда тех, кому досталось «черное число», оставляют на плывущей мимо наших берегов льдине. Им закон велит оставить оружие — нож и копье и припасов на семь дней. И они плывут навстречу своей судьбе.
— Но они могут быть опять принесены обратно к острову?
— До сих пор было несколько случаев этого рода, но приплывали льдины уже не с живыми существами, а с трупами… И твоя невеста первая, которая ушла и вернулась.
Но я сказал, что она меньше вас подпадает силе закона смерти: это потому, что на ней не лежит печать проклятия, как на потомках ушедших в древности добровольно, и она вернулась случайно, ее вела, быть может, воля Индры.
— Что же вы решили? — спросил Макс.
Не отвечая прямо на вопрос, старик продолжал:
— Ее признала ее мать. Она из касты «людей меча». И она требует, чтобы дочь осталась среди нас, как посланная Индрой. Но «семь мудрых» еще не решили ее участи. Однако, я устал. Идите…
— На секунду! — остановил его Макс. — Я хочу спросить у тебя объяснения еще одной твоей фразы. Ты сказал «живыми ушедшие не возвращались». Что это значит? Не приходится ли понимать так, что некоторые «возвращались» мертвыми и помимо отданных на волю волн детей?
— Я устал, я устал! — еле слышным голосом пробормотал «единый» — «великий хранитель тайн». — Может быть, идет смерть… Что ты хочешь знать? Да, о тех, что вернулись бездыханными? Да?
Скажи кому-нибудь из «семи мудрых». Пусть вам… покажут тех… вернувшихся…
Старец совсем смолк, и мне даже показалось, что он скончался. Но через минуту он пошевельнул рукой, прикоснулся ею до ручки кресла, на котором покоилось его тело, за дверью раздался серебристый звон, двери бесшумно распахнулись, и появился в полном составе наш конвой. Нас увели.
Надо признаться, что я был-таки порядочно ошеломлен всем узнанным. Главное, видите ли, у меня буквально закружилась голова: я никогда не предполагал, что мир, наш мир, так сложен, так велик. Ну, я знаю: есть ученые, которые в одно мгновение, например, скажут, не считая по пальцам, сколько будет всего оленей в двадцати стайках, если в каждой — по двадцати голов. Есть и такие, которые умеют делать еще более хитрые штуки. Но что же значат все их знания в сравнены с тем океаном тайн, о которых мы только что слушали?
Слышали ли вы, чтобы была птица с зубами? А Макс и не поморщился, услышав о такой диковинке от старого джентльмена. И какие-то «иезиды» будто бы живут в какой-то Индии или Персии и есть «язык мертвых», этот самый санто-скритто или санскрит… Ей-Богу, на мгновение я уверовал во всю эту чушь и стал смотреть на Макса с боязнью. А черт его знает, может быть, и впрямь он нечто вроде индийских колдунов?
Но потом я стряхнул с себя эту слабость. К черту! Почему же он всегда делает больше промахов, стреляя, чем я? Ну-с, и вот я не испытывал ни малейшего желания больше шляться по этому проклятому муравейнику, где люди с легким сердцем ляпают про какие-то «священные числа», про «черное число смерти», про всякую ахинею с их богами и богинями, будто бы вертящими звезды вокруг какой-то оси.
Положим, Макс — протестант. Всем протестантам, это вы, джентльмены, конечно, и без меня знаете, не видать царствия небесного, как своих собственных ушей, именно потому, что они протестанты. Но я-то — верный сын еди-носпасающей римско-католической церкви, и к черту все, от чего колдовством пахнет!
Конечно, я только простой, грубый, невежественный зверолов, который по целым годам ни единого патера не видит, и все такое. Но когда я прихожу в форт Гуд-Хоп, — спросите, разве я не ставлю перед статуей бедняжки Мадонны парочки восковых свечечек? Разве я не заказал патеру отцу Онезиму сорок месс за упокой души моих родителей и брата Тома, хотя мне пришлось отказаться почти от всего оставшегося после отца имущества, лишь бы заплатить за мессы?..
Но если кому нравится гореть в геенне огненной — прошу покорно! Я же не испытываю ни малейшего желания попасть, простите, к мистеру дьяволу на рога… К черту!
Словом, когда этот самый Макс, словно полоумный, побежал к «семи мудрым» требовать у них объяснений и просить показать «тех, которые ушли живыми, а вернулись бездыханными», я решительно отказался идти с ним.
Но что вы поделаете?
Во-первых, этот Макс умеет уговорить хоть самого упрямого четвероногого осла, не то что разумного человека, а, во-вторых, какая-то тревога не давала мне покоя, гнала меня из пустой комнаты туда, куда уходили другие.
Ну, и кончилось тем, что мы-таки пошли.
Но, ей Богу, мы насмотрелись таких вещей, что теперь сам я не знаю: было ли и впрямь это? Полно! Уж не приснилось ли мне? Знаете, когда ляжешь спать с полным желудком, иногда снятся преотвратительные вещи… Такие, что во сне орешь, как зарезанный. Да вы помните, я же вам часа два назад рассказывал об одном таком кошмаре. Ну, когда я видел моего брата Тома полуживым до пояса, полускелетом от пояса до пяток…
Что мы видели?
Хорошо, я расскажу.
Но, представьте, Макс Грубер, увидав это, словно с ума спятил. Не от испуга. Не от отвращения. Куда?! Ей-Богу, он ошалел от радости, от какой-то чудовищной, величайшей на земле.
Он даже свою Энни позабыл, хотя она и жалась, как испуганная птичка, к нему.
Ходит, машет руками, кричит. Прямо — сумасшедший.
Но я лучше расскажу по порядку.
Началось с того, что нас заставили напялить на себя меховые одежды. Даже Энни вновь превратилась в прехорошенького мальчугашку.
Потом нас вывели, разумеется, под конвоем, из жилища на воздух, привели к какой-то отдельно, в стороне стоявшей башне. Там оказалась довольно крутая лестница со ступенями, вырубленными в камне. От нечего делать, я считал эти ступени. Их было две сотни, и еще сорок, и еще три.
Потом мы пошли коридором. И вот тут-то я удивился Бог знает как: сначала стены были из камня, а потом из чистейшего, прозрачного, как слеза, льда.
Лед тот не таял, потому что в коридоре было-таки пре-порядочно холодно: градусов на двадцать ниже нуля.
Закончился коридор выходом в большой зал, потолок которого опирался на толстые ледяные колонны. А стены этого зала образовывали отдельные ниши. Заглянул я в одну из них и отшатнулся.
Знаете, человек я не робкий. Вы спросите кого угодно, хоть из офицеров форта, хоть из нашей братии, трапперов. Но смотреть на мертвых я, признаться, не нахожу приятным. А в нише, как книжки на полочке, лежало рядом несколько трупов. И все с почерневшими лицами, как бывает всегда у тех, кто умирает, замерзая. Вы знаете: холод жжет, как и огонь.
А Макс не только смотрел на трупы, — он касался их, он касался руками их лиц, ощупывал их черепа, он разглядывал их оскаленные зубы, щупал материю и меха их одежды.
Словом, обращался с покойниками, как, прости, Господи, обращаются детишки гуронов с куклами из глины, а эскимосские малютки с куклами из тряпок и костей.
Я ему говорю:
— Брось! Уйдем отсюда! Ведь это же просто-напросто кладбище.
А он чуть не кричит на меня:
— Жалкий невежда! Ты не понимаешь, что это великие исторические тайны открываются. Вот перед нашими глазами лежит труп человека, как будто умершего вчера. А это единственный сохранившийся до наших дней труп великих мореплавателей древности, гениальных финикийцев, это — какой-нибудь герой из Тира или Сидона. Он плавал на своем утлом судне к берегам Англии за оловом, за медью, и бури угнали его корабль в страну вечного льда, и те-чениямн занесло мертвый корабль и мертвого мореплавателя к этим «детям света» две-три тысячи лет назад… А этот! Ты видел таких людей?
Он приподнял своими сильными руками труп человека с бритой головой и орлиным носом.
— Это — сын знойного Египта. Ты это понимаешь?
— Негр, и больше ничего.
— Идиот, и больше ничего! А что ты скажешь об этом?
Он показал на один труп, облаченный в блестящие доспехи. Лица не было видно: его закрывала странная металлическая сетка, спущенная из-под стальной шапки с широкими полями. На гребне этой шапки красовалась золотая птица с распростертыми крыльями.
— Ну, солдат какой-то…
— Солдат? Это — воин! Слышишь? Это — один из тех воинов, которые с Цезарем, с Каем Юлием Цезарем переплыли Ламанш, прорубились в сердце Англии… А этого ты знаешь?
Он подбежал к другой нише. Там лежал человек огромного роста, тоже весь закованный в блестящие доспехи, но со светлыми, как лен, волосами и длинными непомерно усами.
— Это — берсеркер. Варяжский викинг, «ужас морей», пенитель волн… Нет, ты понимаешь, что мы видим?
— Мертвых людей, — угрюмо ответил я.
— Историю! — закричал он. — Но твоим узким мозгам не понять, не вместить этого…
— А ты не ругайся! — сказал я, таки порядком рассердившись. — Мне на всяческие истории в высокой степени наплевать. Если тебе нравится роль гробокопателя на этом ледяном кладбище…
Но я не успел закончить: Макс, давно уже воззрившийся на трупы людей, лежавших в соседней нише, освещенной специальной висячей лампочкой, вскрикнул, как ужаленный.
— Боже великий! Что это? Кто это?
Я посмотрел туда, куда глядел он, и удивился: трупы, как трупы, как другие, которых мы тут видели, ей-Богу, предостаточное количество. И чего ради в такой азарт приходить, понять невозможно.
А он, Макс, стоит перед этими трупами, глядит, и у него из глаз слезы катятся.
Надо вам заметить, что почти в каждой нише, около каждого трупа мы находили всяческие предметы, по-видимому, найденные «людьми света» одновременно и сохраненные, ну, скажем, в качестве вещественных доказательств, что ли. Это, я так думаю, делалось на тот случай, чтобы облегчить возможность опознания, определения покойников.
Так, около финикийцев лежало несколько слитков олова и медных чушек и какие-то узкогорлые коричневатые сосуды с черными фигурами. Около египтянина — какие-то ткани. Рядом с двумя или тремя римскими воинами — целый арсенал оружия. Сразу было видно, что это люди, которым их карабины и ножи дороже всяких цацек. Но, впрочем, это я так только выразился: карабинов около римлян не было, а было только холодное оружие. Ружья воины Цезаря, должно быть, потеряли. Во всяком случае, повторяю, ружей ни около них, ни около финикийцев и египтян я не видел. Луки, стрелы точь-в-точь такие, как у гуронов и даже эскимосов, этого добра было предостаточно, так что, в конце кондов, я начал, признаться, подумывать: а может быть, все эти знаменитые финикийцы, римляне и прочие самые что ни на есть настоящие дикари, которые боялись огнестрельное оружие и в руки взять?
Ну-с, так вот, около тех трупов, около которых стоял теперь со слезами на глазах Макс, лежала старая-престарая книга в кожаном переплете. Я сначала подумал, что это — молитвенник. Ан нет: оказалось, не печатано там, а писано. А Макс эту самую книжку или тетрадку чуть ли не целует.
В нише лежали, образуя странную группу, трое. Посредине полусидел, словно отдыхая, высокий статный старик с седой бородой. Смерть не испугала его: казалось, он видел ее приближение, он смотрел безбоязненно ей в глаза, нахмурив пушистые брови над орлиным носом. И так и застыл его безбоязненный взор, и так и смотрел этот грозный старик теперь на нас своими мертвыми, но по-прежнему грозными очами.
У его ног, словно прильнув к коленям, задремав в истоме, лежал русоволосый паренек лет пятнадцати. Его лица не было видно: паренек прятал это лицо в коленях старика. И немного поодаль от этих двух трупов помещался третий, простого, должно быть, матроса, такого, каких десятками увидишь на любом китоловном судне. В общем же трупы, как трупы, и ничего больше. А наш «дутчмэн» смотрит на них, как будто родного отца и брата отыскал…
— Да в чем дело? — спросил я его, невольно понижая голос, словно боясь потревожить покой мертвых.
— Сними шапку, — сказал он повелительно. — Мы у могилы одного из величайших путешественников мира. Эта книга — это дневник знаменитого Генриха Гудзона. Того самого, который открыл Гудзонов залив.
— А сам-то он как же сюда попал?
— Кто знает? — пожал плечами Макс. — Ведь мир не знает, как погиб Гудзон. В июне или июле 1611 года, почти триста лет назад, экипаж корабля, которым Гудзон командовал, совершая путешествие в надежде открыть северозападный проход, возмутился против командира, посад л его в лодку, дал немного припасов и оставил лодку в море на произвол волн вместе с капитаном Гудзоном, его сыном и несколькими оставшимися верным командиру матросами. Вот все, что до сих пор знает мир о последних днях жизни великого мореплавателя, открывшего, между прочим, для европейцев доступ к Гудзоновой реке, к острову Мангат-тану, на котором теперь высится один из величайших городов мира, Нью-Йорк.
Теперь, благодаря нам, мир узнает, где покоятся останки Гудзона… И нет никакого сомнения, Северо-Американ-ские Соединенные Штаты перевернут землю и небо, но явятся сюда, хотя бы это стоило миллионов, чтобы взять останки Гудзона и его спутников и отвезти их под сень какого-либо из храмов Нью-Йорка…
— А откуда янки узнают про нашу находку? — задал я скептический вопрос расходившемуся, размечтавшемуся не в меру Максу.
— Мы скажем, когда…
— Когда вернемся? — засмеялся я. — Да? А мне кажется, дружище, что как бы не вышло по-иному. По крайней мере, сам ты недавно убедился из разговоров с «хранителем тайн», что, пожалуй, в одной из пустых ниш этого ледяного кладбища скоро прибавятся новые квартиранты. Понял?
Макс хотел что-то ответить, но потом махнул рукой, потупился и, положив дневник Гудзона рядом с его трупом, отошел в сторону.
— Пойдем… назад! — сказал он хриплым голосом через минуту.
И мы в самом деле выбрались, сопровождаемые нашим конвоем, на поверхность земли, а потом в нашу камеру.
Когда мы брели по снегу, покрывавшему улицу — подступ к «городу на холме», я случайно поглядел в ту сторону, где виднелись в смутном, призрачном свете руины «города мертвых».
И невольно вскрикнул:
— Свет! Свет!
В самом деле, на краю горизонта виднелась узенькая полоска чуть брезжившего света. Только мой истосковавшийся взор привычного бродяги по ледяным пустыням, в царстве полярной ночи, мог увидеть этот слабый свет.
Следом за мной и Макс, глубоко взволнованный, повторял трепетным голосом:
— Свет, да, свет!
— Близится «день светозарного бога Индры», — сказал, как бы давая ответ на чей-то вопрос, один из наших провожатых.
— Завтра «день счета», — поддержал его другой.
— «День красных» и «день черных чисел», — отозвался третий.
— Я уже слышу: звенит сталь, ударяясь о сталь, металл жадно пьет алую кровь «детей света». Души «тех, которые не нужны», мчатся навстречу огненной колеснице Индры, светозарного, победоносного, приветствовать его возвращение.
— Я вижу, плывут, плывут по волнам льдины, и с них несутся песни девичьих голосов, поющих гимн смерти! — закончил четвертый.
— Что это все значит? — спросил я Макса, когда он перевел мне слова спутников.
— Почем же я-то знаю? — пожал он плечами. — Надо будет расспросить!
II
Тим Фиц-Руперт опять на сцене. — Аудиенция Макса у «великого единого». — Чем «люди света» решили нашу участь. — «День счета». — Бой на арене. — На плывущих льдинах. — Побег.
Когда мы вошли в нашу камеру, мы увидели Падди. По-видимому, в наше отсутствие на ирландца нашел его стих: Падди сидел, забившись в угол, скаля зубы, глядя вокруг сверкающими глазами, и его лицо было бледно, как полотно, и он дрожал всем телом.
— Что случилось? — окликнул я его.
— Я… опять… видел… Тима Фиц-Руперта! — простонал Падди. — Он пришел сказать мне, что осталось только десять суток… Но он лжет, он лжет. Я не умру. Я не хочу умирать!
Падди упал, и длинное тело его забилось, извиваясь в судорогах, по полу нашей комнаты. Мы стояли около несчастного и глядели на него угрюмыми глазами. И в душе каждого из нас шевелилась та же роковая мысль о близкой гибели…
Несколько часов спустя Макса позвал один из конвойных. Переговорив с ним, немец исчез куда-то, воспретив следовать за собой Энни. Вернулся он через полчаса, озабоченный, но вместе как будто несколько успокоенный.
— Меня звал «хранитель тайн», — сказал он.
— Старый седобородый джентльмен?
— Ну да. Он сказал очень многое. Во-первых, он предполагает умереть завтра.
— Гм! Похороны по первому разряду? — засмеялся Падди, уже оправившийся от своего испуга, но смех его звучал фальшиво, и голос был хриплым, как голос голодного волка.
— Затем, — продолжал Макс, не обращая внимания на неуместную шутку ирландца, — затем старик предупредил: завтра у них очень странное торжество, этот самый «день счета». Я, в сущности, не совсем понял, в чем дело. Но будешь нечто вроде воинских игр, в которых примут участие до пятидесяти подростков-мальчиков.
— Люблю бокс! — опять замолвил Падди. — Ежели, конечно, констебли и шерифы не испортят игры.
— Не перебивай, Падди! — оборвал его Макс. — Есть нечто новое по отношению к нам. «Великий единый» или «хранитель тайн» сказал дословно следующее — «совет семи мудрых» склоняется к тому, чтобы к трем из четырех пришельцев, мужчинам, применить во всей строгости «закон огня», обрекающий вернувшихся на смерть. Но покуда я жив, приговор этот не будет исполнен. Когда я умру, «хранителем тайн» станет Ту-Ваи, он же говорит: смерть.
— Черт знает что такое! — заволновался Падди.
— Да подожди ты. Пусть Макс договорит до конца! — одернул его я.
— Дальше, — продолжал Макс, взвешивая каждое слово, — дальше «хранитель тайн» сказал следующее: Энни признана не вернувшейся самовольно, а возвращенной самим Индрой, стоящей под его покровительством. Энни, которую уже признала ее мать, одна из касты «людей меча», остается неприкосновенной. Завтра для нее будет избран муж из этой самой касты.
— Для меня? — воскликнула девушка гневно и страстно. — Я не хочу. Я не подчинюсь. Я избрала себе мужем тебя, и только смерть отнимет тебя от меня. Где ты, там я, где твоя душа, там моя душа, и где твоя гибель, там моя гибель.
Макс с нежной лаской обнял девушку и поцеловал ее.
— Не торопись, дитя! — сказал он грустно. — Я знаю, ты любишь меня, и я, видит Бог, люблю тебя больше жизни. Но ведь мы осуждены на смерть. Ты это слышала?
— Я умру вместе с тобой! — сказала Энни решительно.
— Подожди же! — слегка отстранил ее Макс. — Дай докончить!
Итак, «хранитель тайн» сказал еще следующее: «Я не хочу гибели пришельцев, ибо убедился, что они не те, которые ушли, раскаялись, вернулись, и не посланцы мятежных ренегатов, а существа другой, особой, может быть, низшей породы».
— Покорно благодарю! — пробормотал Падди.
— «Я, — говорит «хранитель тайн», — пошлю в должный час к вам того, кто будет знать «тайну скалы», и вы последуете за моим посланным без замедления, ибо путь его — путь ко спасению».
— Темно, но, кажется, обещает старикашка помочь нам улизнуть отсюда! — возликовал Падди.
— Похоже на то! — отозвался и я.
— Не представляю себе, как это все будет, — сказал озабоченно Макс. — Но, во всяком случае, нам, значит, надо быть готовыми к бегству. Пожалуйста, друзья, осмотрите наше оружие, потому что так или иначе оно нам очень скоро понадобится. Затем, я думаю, было бы абсурдом бежать по ледяной пустыне в этих кисейных тряпках. Нечего и говорить, они были хороши тут, где так тепло, что женщины разгуливают с обнаженными руками. Но в пустыне…
— Наши лохмотья целехоньки. Они в этой нише, за колонной! — отозвался Падди.
— Одно меня смущает, — продолжал Макс. — Где мы возьмем припасы?
— Когда нам дадут сегодня трапезу, можем захватить кое-что! — сказал Падди.
— Что можно взять? Хлеба на полтора два дня, и только…
— Да лишь бы удрать отсюда! — вскинулся Падди. — Я сыт по горло всем этим. Я думал, здесь — спасение. А здесь кровавое гнездо какое-то. Не люди, а призраки, кровожадные вампиры. И, я глубоко уверен, колдуны самой чистой или, вернее, самой грязной воды. Это они подсылают ко мне призрак Тима Фиц-Руперта. Но я надую и их, я надую и Тима. А если придется схватиться, то, будь я трижды проклят, пусть идет моя бедненькая душенька в ад, если уж этому суждено быть, то, голубчики, я, Патрик Донохью, клянусь всеми святыми, я в одиночку не отправлюсь в преисподнюю. Я приведу с собой столько вашей братии, что у мистера Черного не хватит котлов с кипящей смолой для их принятия. Вот что!
Наш разговор по вопросу о бегстве продолжался, разумеется, и после этого, — но ничего серьезного в этом не было, так что я не буду передавать подробностей. Лучше я расскажу историю того, что мы видели несколько часов спустя — этот самый «день чисел».
Помню, мы порядочно-таки выпили за трапезой и заснули на своих обычных местах. Только Энни, которая никогда не пила ни единой капли, словно и впрямь была барышней из хорошего дома, сидела у изголовья задремавшего Макса, поглаживая его кудри белой ручкой и напевая какую-то заунывную, но красивую песенку вполголоса. Я видел красивую девушку как сквозь туман. Я словно издали слышал ее пенье. И мне казалось, что вернулись далекие, блаженные годы золотого детства, что я — ребенок, малютка, и что моя мама в нашем блокгаузе убаюкивает меня своими песенками в часы без конца тянущейся зимней ночи, а за окном бушует вьюга, плачет ветер, стонут ели, ложатся на землю сугробы снега.
— Эй, Нед! Вставай! Пожалуйте на парад, господин полковник! — услышал я голос Падди и вскочил, как встрепанный.
Оказалось, что мы преблагополучно проспали часов десять и доспали таким образом до самого начала пресловутого празднества «дня чисел».
Торопливо одевшись, мы последовали за ожидавшим нас конвоем. На этот раз нас повели по какому-то коридору, по переходам, которых я еще ни разу не видел и, наконец, поместили на широких каменных ступенях расположенного амфитеатром круглого здания, центр которого составляла площадка, должно быть, метров сто в диаметре. Пол этой площадки был покрыт ярко-желтым крупным песком. Посредине стояло нечто вроде амвона или жертвенника: такой трехногий стол на тонких металлических ножках, причудливо изогнутых и схваченных блестящими, должно быть, золотыми цепями. Ножки поддерживали странной формы сосуд, словно жаровню, и от пылающих углей в этом сосуде поднимался колыхающимся столбом сизоватый дымок. Должно быть, господа «дети света» подмешали к углям какую-нибудь медицину: дым этот наполнял все помещение волнами странного, одуряющего аромата. Вдыхая полной грудью этот воздух, я с каждым новым вздохом начинал чувствовать себя необычайно легко и свободно. Я забывал все, я смеялся над угнетавшей меня еще пять минуть назад мыслью о нашем почти безвыходном положении, о бегстве и так далее. Мне хотелось плясать и плакать, и петь, и кричать. И мне казалось, что у меня за спиной вырастают крылья. Вот-вот они станут такими большими, такими мощными, что стоить мне взмахнуть ими, и я поднимусь на воздух, как легкокрылая чайка, помчусь, куда хочу…
Я глядел на товарищей и видел, что и они находятся под влиянием чар той же самой проклятой медицины: Падди оживился, ерзал, хохотал, как пьяный, блестя глазами, кричал:
— Время! Пора! Начинайте! Режиссер! Поднимай, черт бы тебя побрал, занавес! Галерка, тише!
А Макс, обняв прильнувшую к нему Энни, заглядывал ей в глаза и что-то шептал ей и целовал ее золотые кудри.
Я поглядел вокруг, все скамьи были заняты «людьми света» — мужчинами и женщинами, стариками и малолетними. И вся эта тысячная толпа словно пила сладкий яд, и пела, и смеялась, и ликовала.
— Смотрите. Старикашка тоже тут. Браво, старый джентльмен! — кричал Падди, показывая без церемоний пальцем в ту сторону, где в отдельной ложе, убранной пурпурной материей с золотой бахромой, заседал наш приятель, «хранитель тайн».
Но старый джентльмен, должно быть, не слыхал крика Падди и не видел нас. Он один не поддавался чарам ароматных курений, он один сидел неподвижно, как истукан, и его пергаментное лицо казалось мне еще более бледным, чем прежде, а глаза блестели, словно два алмаза.
Немного погодя, у жертвенника появилась вся честная компания — все «семь мудрых» — не в белых обычных одеждах, а в каких-то ризах. Что они там выстраивали, эти джентльмены, я смутно помню: кажется, взявшись за руки, ходили кругом жертвенника, что-то пели хриплыми и нестройными голосами. Потом упали на колени, а в то же мгновенье из груды дотлевавших углей на жертвеннике вдруг вырвалось, поднявшись до потолка, фиолетовое пламя и раздался удар грома.
— Индра! Лучезарный! Светодавец! — вскрикнула вся толпа и стихла.
Потом выступил на арену один из «семи мудрых», остальные, видите ли, куда-то скрылись, словно провалились сквозь землю. И этот оставшийся был тот самый, который несколько дней назад вел переговоры с нами.
— Ту-Ваи! — сказал Макс. — Кандидат на пост «единого великого».
— Наш злейший враг. Но это ничего! — почему-то рассмеялся я. — В сущности, они премилые люди, право…
— Тс! Помолчи, Нед! — отозвался Макс, улыбаясь пьяной улыбкой. — Он начинает говорить.
— «Дети света», дети Индры, — говорил Ту-Ваи певучим голосом, — настал снова светлый день исполнения «закона древних». Ликуя, приветствуем мы этот радостный, этот святой день.
Семь лет мы ждали его, и еще семь лет, и еще семь, как велит святой закон, закон «первых, которые остались».
Мы помним этот закон. Мы знаем: семь лет, и еще семь, и еще сем лет пусть размножается беспрепятственно племя «людей света». А когда придет «красный день Индры», пусть сочтут «люди света» себя и увидят, на сколько человек стало больше племя против «святого числа», — числа «первых, которые остались».
И пусть тогда бросят они жребий лет и раньше, за предшествующие семь лет, за три седьмицы лет, среди юных мужей и юниц-дев, чтобы узнать, на чью долю выпала счастливая доля полететь навстречу грядущему Индре с вестью, что дети его по-прежнему чтут его закон.
Мы только что бросили жребий, и выпал он на долю счастливейших семидесяти юношей, шестидесяти девяти девушек. Это — наши послы к Индре, это те голуби, белоснежные крылья которых донесут наше послание Индре.
Ликуйте те, к чьим семьям принадлежат избранные!
— Ликуйте! Ликуйте! — отозвалась толпа.
— Так гласит закон древних, — продолжал Ту-Ваи. — Муж должен и умирать всегда, как муж, в бою, с улыбкой на устах. Жены должны тихо засыпать. Сейчас очередь семидесяти юношей, и потому ликуйте, ликуйте!
Толпа отзывалась:
— Ликуйте, ликуйте!
А затем началось то ужасное, то невероятное, о чем я хотел бы промолчать, потому что… потому что мне стыдно.
Но, джентльмены, раз я обещал говорить, надо говорить правду. И притом я же сказал: этот проклятый жертвенник с его дьявольским куревом буквально одурял всех, а чем я лучше других? Теперь я сознаю всю гнусность этого, но тогда я был, как все, и я был пьян, я был безумен, и я ликовал.
Но слушайте же!
Вот опять взвилось на жертвеннике пламя, опять раздался оглушительный удар грома. Должно быть, эти самые «семь мудрых» были большие мастера по части всяких фокусов.
Затем исчез с арены и мистер Ту-Ваи. Зато словно кто швырнул на арену несколько десятков людей.
Все сплошь это были подростки, начиная с семи лет и кончая четырнадцатью-шестнадцатью годами. Все крепкие, мускулистые, сильные, с гибкими, как у змей, телами, с блестящими глазами и пьяной улыбкой на устах.
Они были наги с ног до головы, если не считать какой-то повязки по чреслам. И они были вооружены короткими копьями и мечами без клинка, прямыми, как палаши офицеров форта Гуд-Хоп и, кроме того, щитами. При этом бросалась в глаза сразу разница: у большинства щиты круглые, как большая тарелка, были посеребренные, у других — вызолоченные. И у последних, кроме того, пышные кудри сдерживались тоненьким золотым обручиком, тогда как у первых обручики эти были из серебра или вообще белого металла.
Несколько мгновений вся эта толпа словно в смятении металась по арене. Но потом как-то сразу разделилась на две группы, на два отряда, что ли. И потом…
Нет, это ужасно, ужасно!
Я — зверолов. Мое ремесло вы знаете. Я дрался с индейцами, я убивал людей, когда меня вынуждала к этому необходимость, защищал, извините, собственную шкуру. Но, говорю вам, я не пролил ни капли крови без крайней к тому надобности, и из борьбы, из битвы я никогда не делал забавы, игрушки. А тут семьдесят подростков, ребят, детей кидались друг на друга, как дикие звери.
Нет, это была не игра: столкнувшись грудь с грудью, они пронзали друг друга копьями, они рубились мечами, они нападали и защищались, они катались по земле, душа один другого, добивая ослабевших.
В один миг вся арена оказалась покрытой телами убитых или настолько сильно раненых, что они не могли подняться. И весь желтый песок напитался кровью.
Потом, по знаку сигнального рожка, бой прекратился; тела выволокли куда-то; уцелевшие после первых схваток опять построились в два равных численно отряда и опять с остервенением бросились друг на друга, и опять кололи и рубили, душили, убивая, падали, падая, убивали. И умирали, умирали, умирали…
И, знаете, не это было самым ужасным, не бой, не детская кровь. Нет!
Было ужасным то, как к этому относились все, наблюдавшие за этим кровавым зрелищем. Вы понимаете, что я хочу сказать? Все, до последнего, будь я проклят.
Потому что и Падди, и Макс с Энни, и я — мы все обезумели, мы в экстазе кричали, пели, мы взывали к умиравшим у наших ног детям:
— Ликуйте, ликуйте!
Все это — как сон.
Вот на арене осталось не больше десяти, держащихся на ногах. Они сшиблись. Осталось трое. Они схватились.
Один уцелел.
Это был красавец-мальчик лет тринадцати с бронзовым прекрасным телом, с целой гривой золотых волос и гордыми блестящими очами.
Его тело было покрыто массой ран. Кровь ручейками сбегала по груди, животу, спине, кровь окрашивала желтый песок арены. Но он был жив.
Мгновение он стоял в самом центре арены, сверкая глазами и салютуя зрителям окровавленным клинком своего меча.
Потом он вскрикнул:
— Индра! Ликуйте!
И упал, но упал на собственный меч, острие которого вошло в грудь и вышло ниже левой лопатки.
Это был последний из бойцов.
А толпа в безумном экстазе кричала:
— Индра, Индра! Ликуйте!
Потом она ринулась на арену. И каждый хватал напоенный теплой еще человеческой кровью песок и посыпал им свои волосы.
Этим закончилась первая часть программы.
За ней последовала вторая: толпа отправилась на воздух, под открытое небо. Нас повели туда же. Мы спустились мимо развалин «Города мертвых», и тут я увидел не глыбы, не горы льда у берега, а свободное море.
Оно тянулось в туманную даль, и только на самом горизонте смутно обрисовывались очертания ледяных гор, а может быть, каких-нибудь островов.
Знаю одно: море напоминало в этом месте реку: стремительно катились мимо берега короткие волны изумрудного цвета, и было видно, как течение несло бесчисленное множество льдин, увлекая их в неведомые дали.
И вот откуда-то вынырнули черные, напоминающие гробы челны. На каждом челне было около десяти гребцов и с ними до десятка девочек. Все они были в белых платьях, с непокрытыми головами. Все они были прекрасны, как вообще все дети этого странного и ужасного народа.
Тут, на свежем воздухе, понятно, уже не действовали чары ядовитого сладкого зелья, курившегося в амфитеатре на жертвеннике. Но, по-видимому, девочки, обреченные в жертву Индре, были предварительно опоены другим снадобьем: они весело перекликались звонкими голосами, они беззаботно хохотали или пели.
Выждав появление какой-нибудь большой льдины, гребцы цеплялись за нее баграми, и тогда обреченные на гибель дети с серебристым смехом покидали челн, вскакивали на льдину, схватывались за руки, становились в кружок, начинали плясать.
Светозарный бог наш, Индра! Мы плывем тебе навстречу. Мы идем к тебе с вестями. Что верны тебе доныне Дети Света, — племя Мэру!Они пели, эти несчастные, и по мере того, как льдина, увлекаемая бурным течением к востоку, удалялась от берега, все слабее и слабее доносился звук их голосов, замирала их песня.
А на берегу стояла тысячная толпа и следила за уплывающими в вечность существами…
Но довольно, джентльмены: я не могу больше говорить об этом…
Не помню, как и когда мы вернулись в нашу камеру. Должно быть, как реакция против действия жертвенного зелья, наступил глубокий сон.
Сколько часов длился он, я решительно не умею сказать, да это и не важно.
От сна этого меня разбудили весьма чувствительные толчки. Оказалось, это — Макс.
Взглянув на него, я поразился: Макс успел уже бросить усвоенный нами костюм «людей света» и оделся, как раньше, в меха, преобразившись в типичного зверолова ледяных полей. Таким же точно звероловом был уже одет и Падди.
— Скорее, скорее! — кричал на меня Макс. — Вот твои лохмотья. Одевайся моментально, иначе все погибло.
— В чем дело? — вскочил я.
— Старый «хранитель тайн» или «великий единый» уснул вечным сном. Его место занял Ту-Ваи. Завтра с нами будет то, что было сегодня с несчастными семьюдесятью мальчуганами: решено заставить нас драться друг с другом на потеху любителям кровавых зрелищ. У них разыгрался, по-видимому, аппетит. Но наш старый друг сдержал свое слово, предупредил. Его посол только что был тут. И знаешь, кто это? Никогда не догадаешься.
— Не стану ломать себе голову, — ответил я, торопливо одеваясь. — Важно улизнуть из ловушки, и только…
— Представь, это — мать Энни, та самая женщина, которая…
— Которая тогда в центральном зале кричала, увидев Энни?
— Ну, да. Энни, оказывается, тоже присуждена к смерти. Мать хочет избавить ее.
— Так что бежим все вместе?
— Разумеется. Но ты готов?
В это мгновение послышался осторожный стук в дверь, и в комнату вошла высокая, статная женщина в обычной одежде «детей света». Ее прекрасное лицо было бледно, под глазами ясно виднелись черные круги. Она вела, обняв за талию, Энни, тоже уже переодевшуюся из кисейных одежд в меховой костюм эскимосов.
— Иди, дитя! Иди. Может быть, в самом деле, Индра спасет тебя, — шептала мать Энни, целуя лицо плачущей девушки.
Потом мы пошли: мать Энни впереди, мы гуськом за нею.
На этот раз мы шли опять совершенно неведомыми мне закоулками: дело в том, что мать Энни, сделав два шага по коридору, с силой навалилась плечом на какую-то плиту. Плита сдвинулась в сторону, открыв темную, зияющую щель. Это и был тот самый тайный ход, о котором говорил умерший «хранитель тайн».
Мать Энни на ходу торопливо шептала Максу, а тот кратко передал нам ее слова:
— Надо спуститься в пропасть по веревке с узлами. Там вы найдете коридор, который выведет вас к подножию холма, на котором стоит город света. Там уже заготовлены сани с грузом припасов, складною палаткой, запасными одеждами. Море на юг еще не разбило своих ледяных оков, и путь труден, но свободен. Держитесь все время на юг, и только пройдя остров «Дымящейся горы», сворачивайте на юго-запад. Да спасет вас Индра! Больше я ничего для вас сделать не могу…
А мы шли или почти бежали по коридорам, освещая путь при помощи захваченного Энни маленького ручного фонарика, и часто мы слышали за стеной звуки песен, звон струн, клики пирующих: роковой «день чисел» и человеческих жертвоприношений заканчивался оргиями, и весь этот народ племени «детей света» отдавался буйному веселью, быть может, топя в вине злую тоску-кручину по погибшим такой ужасной смертью детям.
Но нам было теперь не до размышлений о «людях света» и их ужасных обычаях: через несколько минут мы достигли уже того места подземного коридора, где этот последний заканчивался вертикальным колодцем.
Надлежало спуститься туда. Для этого в нашем распоряжении оказывалось единственное средство — средней толщины канат, тщательно закрепленный за выступ камня. Конец каната терялся во мгле.
Первым принялся спускаться Падди, побуждаемый охватившим все его существо страхом гонящейся за ним по пятам смерти.
Он же захватил с собой и ручной фонарик.
Но торопливость Падди едва не повлекла за собой катастрофу: он, добравшись почти до конца каната, почему-то вообразил, что касается пола, и выпустил канат из рук. В результате он шлепнулся с высоты по меньшей мере двух сажен и расшибся настолько, что нам пришлось вытаскивать его из коридора, словно труп. Счастье еще, выпавший из его рук фонарик каким-то чудом уцелел от разрушения.
Новый горизонтальный коридор, без труда отысканный нами, имел протяжение всего в десяток или полтора метров.
Выход из него образовывал небольшую пещеру, почти занесенную снегом, и в этой пещере, к величайшей нашей радости, мы увидели совершенно снаряженные саночки, удивительно легкие на ходу. Беглый осмотр груза саночек показал, что наши неведомые друзья, а вернее, мать Энни и покойный «хранитель тайн», озаботились о всем: тут были пачки с сушеным мясом, какие-то консервы, бочонок с напитком, напоминавшим по вкусу лучший ром. Откуда эти «люди света» ухитряются добывать все это добро, мог бы вам сказать Макс: он ведь все время нашего пребывания в этом «городе света» только и делал, что шатался по мастерским, где «люди силы» работали над изготовлением всяческих предметов, где стояли никогда мной не виданные огромные машины с блестящими колесами, рычагами, трубами, извивающимися, словно змеи, с бегущими без конца пассами. Но я знаю только то, что, в сущности, больше всего интересовало меня: мы оказывались владельцами целого депо припасов, более богатыми, чем в тот момент, когда мы в недобрый час покинули поселок предателей-эскимосов, соплеменников «Сурка». И хотя дни нашего пребывания в «городе света» отнюдь не могли считаться самыми счастливыми в нашей жизни благодаря тому, что над нами все время висела угроза смерти, — висел какой-то дамоклов меч, по словам Макса, я этого меча ни разу не видел, думаю, что это одно воображение Макса, — тем не менее, мы ведь здорово отлежались, отоспались в тепле, а, главное, мы ели так, что скулы трещали, и теперь отправлялись в странствование с новым запасом сил.
Словом, когда мы, разгребя снег, несколько мешавший выходу из пещеры, вывезли свои саночки на простор и тронулись в путь, я вздохнул полной грудью и едва не закричал:
— Хип, хип! Ур-ра!
III
Снова в ледяной пустыне. — Странствования беглецов. — Острова, где живет «Гора мяса». — Странные следы. — Смерть Падди. — Катастрофа. — Документы К. К. Г. О.
Итак, сбежав от этих кровожадных «детей света», мы оказались на свободе, и на радостях я едва не заорал: «Хип! Хип! Ура!»
Но, к счастью, я вовремя вспомнил, что ведь мы-то беглецы. Не дай Бог, если кто-нибудь нас заметит, услышит. За нами непременно погонятся. И тогда…
Правда, мы были недурно вооружены: три карабина в руках таких привыкших обращаться с оружием людей, как мы, это чего-нибудь да стоит. Но глуп тот, кто накликает на себя без всякой нужды опасность.
И я не пикнул.
И далее, правду сказать, не удержался, чтобы не дать по загривку чересчур развеселившемуся Падди, когда тот стал прищелкивать пальцами и напевать:
Тра-ла-ла, тра-ла-ла! В Сарме девушка жила!— Замолчи, животное! — окрикнул я его. — За нами погоня…
Падди подпрыгнул, как подстреленный заяц, испуганно огляделся.
— Врешь ты, Нед! — сказал он.
Но больше уже не пел.
Мы шли по южному направлению кряду двенадцать часов: правда, под конец этого путешествия, или, правильнее сказать, перехода, мы уже не шли, а еле-еле брели, потому что не шутка тащить на лямке тяжело нагруженные саночки, да еще по ледяным полям, покрытым трещинами.
Рассказывать это все оказывается удивительно легко и просто. А попробуйте вы проделать эту штуку!
Но останавливаться, не отойдя далеко от проклятого острова Мэру, мы не хотели, мы не могли: нас гнал ужас, за нами по пятам ведь летела тень смерти. И так мы брели и брели, покуда не выбились из сил и повалились один около другого прямо в снег.
Так же было и на другой, и на третий, и на четвертый день.
По моим соображениям, за это время мы сделали не меньше полутораста километров.
Ориентируясь по компасу, данному Максу матерью Энни, мы без большого труда обошли остров «Дымящейся горы». Это был небольшой островок, собственно говоря, одна скала, конус которой уходил в небо. Я кое-что слышал о вулканах. Знаете, это такие горы, внутри которых горят первобытные леса, а потому из щели вырывается дым и огонь, а иногда, не знаю почему, вылетают камни. Ну и вот, я думал, что «Дымящаяся гора» — это нечто в таком же роде.
На самом деле, та гора, которую мы видели, была попросту окутана наверху туманным облаком, словно, знаете, макушка замерзла и кутается в такой самый тюрбан, как обитатели «города света».
Километрах в тридцати от этого места нам посчастливилось выследить и уложить ударами прикладов парочку моржей. Не очень вкусная штука мясо моржа. Но мы на это дело смотрели, как на большую удачу: опять оказались пополненными наши припасы, опять саночки стали точно так же тяжелы, как в день ухода от «детей света».
А тем временем вокруг нас совершалось великое таинство природы: приближалась полярная весна.
Реже и реже становились железные холода. Правда, иногда срывалась метель и плясала вокруг нас в сумбурной пляске, и выла, и стонала. Но у ведьмы-вьюги уже не было той силы, как раньше. А, главное, все длительнее становились промежутки, когда белел край горизонта на востоке. Близился ясно момент, когда мы, наконец, увидим солн-це и его живительные лучи отогреют душу.
Так прошли последующие дни странствования.
Даже наш Падди как будто избавился от угнетавшего его страха и начал подсмеиваться над самим собой, толковать, что это он попросту паясничал. Никогда, ни разу будто бы он не видел никаких призраков. Призраки — вздор, чепуха.
Просто-напросто ему хотелось посмотреть, какое впечатление его россказни о Тиме Фиц-Руперте произведут на нас. И больше ничего.
Припадки? Какие припадки? Да неужели же кто-нибудь был так глуп, что хоть на минуту поверил этим припадкам?
Просто он, Падди, ради шутки кривлялся.
Видел, как подвергаются подобным припадкам женщины эскимосов, и подражал им. Правда, ловко? Но, разумеется, это была простая глупая шутка.
Тра-ла-ла, тра-ла-ла! В Сарме девушка жила!Однако на девятый или на десятый день нашего странствования, хорошо не припомню, Падди запел иную песню. Дело в том, что он опять увидел призрак Тима, опять подвергся припадку. А когда очнулся, то сказал упавшим голосом:
— Нет, братцы, видно, мне не суждено добраться до христианских краев. Чувствую, идет моя смертушка. Пора расплачиваться за все. Вы-то переживете…
— Не болтай пустяков! — оборвал его Макс. — Кто может поручиться, что спасется? Вон сегодня только во льду образовалась колоссальная трещина, секунду спустя после того, как мы протащили через это место сани. Если бы на секунду раньше треснул лед, мы все ринулись бы в зияющую бездну. Каждый из нас — на волоске от смерти, и ты имеешь на спасете столько же шансов, как я, как Энни, как Нед.
— Нет, нет, братцы! — со слезами на глазах говорил ирландец. — Не утешайте. Вы, может быть, погибнете, может быть, и спасетесь. Мне же нету спасения. Приходится расплачиваться за то, что я сделал. Ведь Тима-то Фиц-Рупер-та и его женку я прикончил. Да еще как? Предательски, как зверь! За это и прокляло Небо меня, за это и посылает оно на меня гибель. Ведь я пришел в блокгауз Тима, как гость. Я ел данный мне Тимом хлеб, я спал под одной кровлей. Я притворялся другом им обоим. А потом выждал удобный момент и… Эх, пропадай все! Есть на небе Судия. Что же поделаешь!
— Не нюнить! Бодрись!
— Нет толку бодриться! — уныло ответил Падди. — Все равно, бодрись не бодрись, а завтра придется давать ответ за все, что я набедокурил. Так сказал мне сегодня Тим. Вот увидите!
— Прост, у тебя нервы шалят. Галлюцинации! — сказал Макс.
— Нервы? Откуда это у меня нервы? — удивился Падди.
— Галлюцинации? Это какая-то французская штука, а я — ирландец… Но завтра не за горами…
Утром следующего дня мы опять тронулись в путь. Падди угрюмо молчал и тянул безучастно лямку саночек, не глядя на нас.
Часа два спустя, по льду мы добрались до целого архипелага маленьких островков, словно рассыпанных кем-то, который нес их куда-нибудь да, пролетая над морем, вывернул карманы. Что это за острова, сказать вам я не могу. Знаю только, что эскимосы называют их очень длинным и сложным именем:
— Камни среди льдов, где живет «Гора мяса».
Что это за штука, я объясню несколько ниже.
На одном из этих островков мы сделали привал на полчаса. И вот тут-то началось это: отойдя в сторону от того места, где сидели около саночек мои товарищи, я по охотничьей привычке обратил внимание на странные следы на снегу, несколько в стороне от направления, по которому шли мы; я стоял на верхушке холма, и мне было ясно видно, что какое-то животное этой ночью, когда мы спали, проходило мимо нас по ледяным полям. Должно быть, оно было огромного размера, если судить по оставленным следам: каждый след — это была яма той или иной глубины, но каждая имела в диаметре два с половиной или три фута. И по всем признакам ножки малютки, делавшие в снегу такие дырки, несли тело непомерной тяжести, потому что иные ямы доходили до самой поверхности льда.
Заинтересовавшись этим странным явлением и ломая себе голову в раздумье, какое из знакомых мне животных может обладать такими чудовищно толстыми ногами, я тщательно обследовал один из следов и обнаружил на снегу прядь волос. Волосы эти были рыжевато-серого оттенка, длиной больше фута каждый, жесткие и грубые. Я знаю шерсть медведя, оленей, лосей, наконец, мускусного быка, не говоря уже о шерсти куниц, выдр, бобров, соболей и прочей мелочи. Но то, что я теперь держал в руках, не походило ни на что мне знакомое.
Дивясь, я окликнул Макса: хоть он и любить швырять учеными словечками и дурачить людей, которых считает глупее себя, рассказывая небылицы, но, скажу по совести, ведь и он отличный охотник и хороший товарищ. В данном случае я предпочитал иметь дело с ним, а не с Падди, которого я считал порядком-таки свихнувшимся из-за этого дурацкого призрака.
— Что тебе, Нед? — откликнулся Макс Грубер.
— Да иди сюда! Есть дело!
Он спустился следом за мной со скалы. За ним, как всегда, шла Энни, которая не покидала его ни на мгновение. Посмотрев на указанные мною странные следы, Макс нахмурился.
— Ничего не понимаю! — сказал он. — Если бы такой след я увидел где-нибудь в Африке или Азии, я сказал бы: здесь прошел огромный слои. Но в области вечных льдов… Нет, это что-то не то. Энни! Посмотри еще ты.
Девушка принялась осматривать снег и лед.
Потом она вскрикнула:
— Гора мяса!
— Что такое? — резко повернулся к ней Макс.
Торопясь и сбиваясь, она рассказала, что эскимосы племени «Сурка» несколько лет тому назад летом открыли на оттаявшем берегу островов у Баффиновой земли огромное животное. У этого животного было «два хвоста»: один покрытый волосами сзади, другой вместо носа, голый. И были огромные клыки, загнувшиеся кверху.
— Мамонт! — воскликнуть Макс.
— Племя, больше ста человек, ело мясо мертвого гиганта почти месяц, и все же еще оставалось много. На следующий год, когда эскимосы вернулись к этому месту, они не нашли уже туши найденного животного, которое они называют «горою мяса»: подмытый водами берег обвалился и засыпал тушу.
— Это — мамонт! — опять сказал Макс. — Таких гигантов найдено несколько штук в устьях Лены, в Сибири, на Ново-Сибирских островах, в тундрах… Но эти гиганты вымерли, должно быть, тогда, когда на нынешнюю приполярную область надвинулись льды, погубившие тогдашнее человечество. Пережить эту эпоху мамонты не могли. Это — травоядные животные, нуждающиеся для питания в колоссальном количестве растительной пищи. Здесь этой пищи нету, значить, и мамонтов быть не может.
— Находят же мускусные быки себе пищу, вырывая мхи и ягеля из-под снега копытами? — вмешался в разговор я.
— Почему же этот махмуд или мамут, или как его там называют, не может делать того же самого? Но, Макс, скажи мне, пожалуйста, что это за штука, у которой почему-то два хвоста? Один для будничного, другой для праздничного употребления, что ли? И если у какой-нибудь скотины имеются два хвоста, то, значить, должно иметься две головы, и всех прочих, по закону полагающихся частей тела по паре? Что за вздор, Макс!
Макс рассмеялся.
— Эх ты, канадская голова! Когда ты поумнеешь, брат? — сказал он.
На этом покончились наши разговоры об обнаруженных в нашей непосредственной близости следах.
В общем, конечно, мы ведь всегда держали ухо востро, и постоянно кто-нибудь с карабином в руках караулил, когда остальные спали. Этой привычке мы не изменяли и теперь. Проделав от этого места добрых двадцать пять километров к югу, все в лабиринте островов и островков, мы, наконец, устроили ночевку. На этот раз мы, как довольно часто за последние дни путешествия, спали в импровизированном шатре или чуме, или походной палатке, назовите, как хотите, — словом, в том переносном складном жилище из стальных шестов и оленьих шкур, которым нас снабдила мать Энни. Правда, эта палатка не очень-то оберегала нас от стужи, но зато ее поставить на место можно было буквально в три минуты, а это было огромным удобством, принимая во внимание, что до места ночевки мы добирались полумертвыми от усталости.
Перед рассветом очередь сторожить выпала на долю Падди, который сменил меня.
— Все благополучно? — осведомился он у меня.
Я, торопясь спрятаться от холода в палатку, где сладким сном спали Макс и Энни, ответил торопливо:
— Ну, разумеется!
И только укладываясь около Макса, подумал, что надо было бы предупредить Падди об одном: около полуночи, в первые часы моего дежурства, мне не раз казалось, что я слышу издали какие-то странные звуки. Словно кто-то ходит, ходит вокруг палатки, тяжело ступая по льду.
Но меня сваливала с ног усталость и потребность уснуть. Да притом же последние два часа я этих странных звуков не слышал и ничего подозрительного не видел.
Словом, я заснул, как убитый. И, должно быть, спал бы и еще, если бы меня не поднял на ноги звук ружейного выстрела, какой-то дикий рев, напоминавший звук огромной трубы, и затем нечеловеческий крик, прозвеневший отчаянно высокой ноткой и сразу оборвавшийся:
— А-а-ха!..
Не помню, как я вылетел из палатки, но у меня в руке все же оказался мой верный карабин. Следом за мной выскочил и Макс, а за ним Энни.
— Что случилось? Где Падди? Ты что-нибудь видел? Нет? А ты? Ничего, ничего? Где Падди? Что с ним?
Нам не пришлось долго искать нашего товарища: он лежал в двадцати шагах от палатки ничком, уткнувшись лицом в снег. Еще дымящийся разряженный карабин валялся тут же.
Когда при свете ручного фонаря я заглянул в лицо ирландца, я невольно отшатнулся: на этом мертвом лице был написан такой ужас, все черты были так искажены, в остеклевших глазах читалось выражение такого безумного страха, что я не мог смотреть без содрогания.
— Смотри, нет ли раны! — торопливо говорил мне Макс, возясь около Падди. — На него напал какой-то зверь!
Но одежда Падди была совершенно цела. Когда мы его раздели, на теле не было видно ни единой царапины, ничего похожего на рану. И, тем не менее, он был мертв.
— Кто убил его? Что убило его?
— Страх! — ответил грустно Макс. — Он опять галлюцинировал, и вот…
Но Макс не был прав: не призрак предательски убитого Тима Фиц-Руперта явился отнять жизнь у ирландца! Когда пришел рассвет и в первый раз после стольких месяцев ночи на краю горизонта блеснул краешек золотого солнца и поток золотых лучей брызнул на ледяные поля, посреди которых стояла наша палатка, я увидел, что снег вокруг палатки весь покрыть такими же самыми ямами, которые мы обнаружили вчера около островка. Какое-то животное бродило ночью вокруг нашего привала, это его тяжкие шаги слышал я, это его в предрассветной мгле увидел несчастный ирландец. И сердце Падди не выдержало: выстрелив по приближавшемуся к нему чудовищу, Падди умер, и мы слышали только его предсмертный вопль, да по выражению ужаса на искаженном лице и в застывших глазах могли судить о том, что Падди, действительно, видел нечто ужасное.
Не прошло и часа, как и мы трое увидели это нечто. И будь проклят тот день, когда наши взоры встретились с его взорами!
Убедившись, что Падди мертв, мы поторопились покинуть место его гибели. Труп Падди мы зарыли в снег, сами впряглись в постромки и потащили саночки с провизией, думая только об одном, как бы скорее уйти подальше отсюда.
На нашем пути был небольшой, скалистый, полузане-сенный снегом островок на расстоянии около пяти-шести километров. Добравшись до него, мы сделали привал. Я и Энни возились около выбранного для привала места, разводя костер, потому что нам посчастливилось подобрать несколько обломков Бог весть какими путями попавшей сюда доски. Макс с карабином в руках отошел шагов на пятьдесят, но нам была видна его фигура, и Энни, возясь с приготовлением похлебки в котелке, не спускала с Макса любящего и тревожного взора.
И вдруг я увидел, как Макс быстро обернулся и приложил ружье к плечу. В то же время я ясно услышал тяжкий топот, словно вблизи мчалось целое стадо мускусных быков, хриплый рев, как будто трубный звук, и выстрел Макса. Разумеется, через секунду я был на ногах и мчался на помощь к Максу, а за мной серной летела и Энни с карабином покойного Падди в руках.
Но наша помощь запоздала, и мы были только свидетелями ужасной катастрофы.
Я видел, как что-то огромное, с хороший дом величиной, какая-то рыжевато-серая туша на четырех огромных бревнообразных ногах, с выставленными вперед, загнутыми спиралью желтыми клыками и чудовищно длинным толстым змееобразным хоботом, надвинулась на Макса Грубера. Хобот опустился, обвился вокруг тела нашего товарища, вскинул это беспомощное, бессильное тело высоко в воздух.
Не помня себя, я выстрелил, целясь в сверкавший, словно раскаленный уголек, крошечный глаз зверя. Выстрелила и Энни. Ответом нам был не рев, а какой-то яростный вопль. И когда дым рассеялся, мы увидели чудовище, мчавшееся от нас по ледяным полям с высоко приподнятым хоботом.
Но где же был Макс?
Очи Энни, любящей женщины, отыскали Макса. Или, правильнее, то, что за секунду было Максом: это было тело, буквально раздробленное ударом о ледяной выступ. Это был изорванный мешок с костями, клочья окровавленного мяса.
Я не мог смотреть на это кровавое месиво. Я отвернулся и, шатаясь, побрел к нашему костру. И в то время, когда я в изнеможении опускался на снег у костра, там, на месте гибели Макса, прозвучал ружейный выстрел.
Я не обернулся. Я не поднял далее головы, чтобы посмотреть, что случилось. Ибо я знал.
Это умерла Энни.
Рассказывать ли дальше, джентльмены?
Вы видите, что я жив.
Как это случилось?
Меня подобрали эскимосы племени «Черной Гагары». Должно быть, я много дней скитался по ледяным полям, будучи охвачен безумием. Лично я решительно не помню ничего об этих днях скитаний. Но когда эскимосы нашли меня, со мной был мой верный карабин, немножко пороха и пуль и кое-что из припасов. Их «медицин-мэны» целый месяц изгоняли из меня «демонов безумия». Окуривали, колотили меня, купали в ледяной воде, прижигали лопатки раскаленным железом.
Конечно, они не могут отвечать за это: делали, что находили нужным, в полной уверенности, что это — единственное средство спасти меня.
Не знаю, благодаря ли этому уходу или вопреки всем стараниям «медицин-мэнов», но я, как видите, жив и здоров, и могу работать по-прежнему.
В поселок этих эскимосов забрела партия моих товари-щей-трапперов Гудзоновой компании. Они доставили меня в форт Гуд-Хоп, где я окончательно оправился и где я в первый раз рассказал начальству все мною пережитое.
Не знаю, но мне кажется, что и майор и капитан плохо поверили моим рассказам.
Но мне, в сущности, до всего этого нет никакого дела. Хотят — верят, не хотят — не надо.
И вам, джентльмены, я рассказываю все, до последней капли, вовсе не для того, чтобы заставить вас поверить.
Но, клянусь спасением моей души, я не придумал ни единого слова! Что было, то было. Конечно, у меня нет свидетелей, но кто знает Неда Невилла, тот поверит ему и на слово.
Все, что я рассказываю, очень странно. Знаю. Но… но, джентльмены, разве вы в жизни не встречали еще более странных, еще более чудесных вещей?
Вы говорили, что вы составите какой-то протокол? И вы хотите, чтобы я, Нед Невилл, подписался под этим вашим протоколом? Ладно. С превеликим удовольствием. Подписывать мою фамилию меня выучил все тот же самый Макс Грубер, да будет помилована Высшим Судией его душа, хотя она и заражена ересью протестантства. Но, может быть, Судия примет во внимание, что Макс был отличный охотник, верный, честный товарищ, и погиб такой ужасной смертью. Если хотите, я подпишусь и за Макса и за Энни. Не надо? Ладно! Как хотите. Где писать-то?
Господину президенту Канадского Королевского Географического общества, лорду Хью-Тэвистоку, в Монреале.
Ваша светлость! Мы, нижеподписавшиеся, исполняя поручение К. К. Г. О., при обследовании мыса Батурста, пребывая в форте Гуд-Хоп, в присутствии коменданта форта, майора Гордона, опросили траппера Эдуарда Невилла по делу о его странствованиях в приполярных областях, вызванные к тому слухами о странных рассказах означенного траппера.
Представляя для доклада, а буде понадобится, и для опубликования стенографический отчет рассказанного траппером Эдуардом (Недом) Христианом-Амели-Невиллом, мы, со своей стороны, присовокупляем следующее: означенный Нед Невилл с трудом читает, писать же не умеет, только может подписать фамилию. Образования он никакого не получил. Чиновники форта единогласно свидетельствуют, что это чрезвычайно прямой и искренний человек, славящийся своей правдивостью. Такой же отзыв дают и все трапперы-товарищи Неда Невилла. В их среде Невилл пользуется наилучшей репутацией.
Затем факт отправления Невилла, Макса Грубера, эскимосской девушки А-на-ик, или Энни, и ирландца Падди из поселения эскимосов племени «Сурка» установлен показаниями трех эскимосов означенного племени. Макс Грубер, Падди и Энни пропали без вести. Невилл, действительно, подобран эскимосами племени «Черной Гагары» в состоянии, близком к помешательству.
Затем сам рассказ его, — рассказ человека, который ни в коем случае не мог, будучи совершенно лишенным образования, придумать такие подробности, каковы детали его повествования, а, главное, отнюдь, понятно, не мог наполнить свои повествования, правда, искаженными, но все же, несомненно, научными сведениями, как-то: упоминанием о санскритском языке, указанием имен богов индусской и персидской древней мифологии, — все это указывает, по нашему мнению, на известную достоверность всех показаний Неда Невилла. Несколько подтверждает эти показания действительно распространенный среди эскимосов слух о существовании какого-то «города света» и развалин «каменных городов» к западу от островов Перри.
Но, с другой стороны, повествование Неда Невилла, до его проверки путем обследования на месте, кажется настолько фантастичным, что мы, нижеподписавшиеся, берем на себя смелость рекомендовать вашей светлости предложить пересылаемые нами документы секретному обсуждению специальной комиссии при К. К. Географическом об-бществе, дабы преждевременное опубликование столь важных сведений не вызвало волнения в обществе и возможных нареканий. Подлинный протокол подписали: капитан Генрих-Джон Уайзбук, начальник экспедиции. Доктор Эдуард Глен, медик-естествоиспытатель. Абрагам Брегет, препаратор и стенограф.
1900 г., июня 23 дня. Форт Гуд-Хоп.
Канада.
* * *
Наши читатели, вероятно, очень удивятся, что приведенный выше документ в течение почти десяти лет не был опубликован, а пролежал мирно в архивах монреальского географического общества. Но дело в том, что «специальная комиссия», в течение нескольких месяцев разбиравшая по косточкам повествование Неда Невилла, сочла необходимым потребовать от Неда дополнительных показаний и объяснений на некоторые возникшие вопросы. Комиссия забыла, что Нед — не какой-нибудь чиновник, а простой траппер, такой субъект, к которому по всей справедливости может быть применено выражение: «Волка ноги кормят».
Прошло полтора года, покуда начальству форта Гуд-Хоп удалось узнать местопребывание Неда Невилла и пригласить его в форт для переговоров.
Тем временем весь наличный составь офицеров форта оказался смененным в связи с открытием некоторых злоупотреблений, а новоназначенный комендант не имел ни малейшего понятия о том, зачем, собственно, вызван Нед Невилл.
Словом, история эта мало-помалу совершенно забылась, оказалась похороненной в пыли архивов.
Осенью 1909 года, когда весь культурный мир был взволнован известиями о том, что Кук и Пири открыли полюс, завязалась ожесточенная полемика сторонников того и другого из путешественников. В самый разгар этой полемики американские газеты опубликовали телеграмму небезызвестного полярного путешественника Бартлета, относящуюся к спору Кука с Пири. В этой телеграмме оказалась загадочная фраза Бартлета: «Открыл развалины нескольких городов».
Из-за этой фразы вновь возгорелся старый спор по вопросу о том, действитсльно ли ныне мертвые полярные области могли быть когда-нибудь обитаемы человеком. Не на полюсе ли, как вот уж десять лет уверяет, ссылаясь на Веды и Зенд-Авесту, талантливый лингвист и астроном, индус доктор Тилак, надо искать колыбель человечества?
Так как в наши руки случайно попал интереснейший документ экспедиции капитана Генри Уайзбука, могущий пролить свет на этот крайне интересный, но вместе страшно сложный научный вопрос, то мы и опубликовываем его.
Ввиду того, что опубликование секретного документа монреальского географического общества нами без разрешения дирекции означенного общества может навлечь на нас серьезные обвинения, настоящим заявляем: люди, которые оказались способными в течение десяти лет хранить этот документ в своих архивах, потеряли всякие права на него. Это — наш единственный ответ на все могущие возникнуть на нас нарекания.
Об авторе
Журналист и беллетрист Михаил Константинович Первухин родился 6 (18) сентября 1870 г. Харьков в дворянской семье помощника губернского землемера. Окончил Харьковское реальное училище, до 1899 г. служил в управлении Курско-Севастопольской железной дороги. Имеются свидетельства того, что в моло-досоти по причине революционных настроений был исключен из университета. Заболев чахоткой, с 1899 г. жил в Ялте, где познакомился с А. Чеховым и А. Куприным.
Публиковаться начал в 1895 г. Печатался в газетах Харьковские губернские ведомости, Приазовский край, Крымский курьер, Русское слово, Утро, журналах Природа и люди, Вокруг света, Современный мир, Мир приключений, Исторический вестник, На суше и на море.
В 1906 г. по приказу главноначальствующего Ялты ген. Дум-бадзе был выслан из Крыма как революционер и покинул Россию. Год жил в Берлине, затем в Венеции и на Капри, познакомившись с М. Горьким, с 1909 г. в Риме, став постоянным корреспондентом Русского слова. Продолжал публиковаться в русских газетах и журналах, переводил на русский произведения Э. Сальгари.
После революции публиковался в эмигрантских газетах и журналах, а также в итальянских газетах. В 1920-е гг. на почве резкого неприятия большевизма запятнал свое имя поддержкой фашизма в раннем итальянском варианте, который активно пропагандировал на страницах эмигрантской печати. Жил с женой и дочерью в большой бедности, умер в Риме 30 декабря 1928 г.
Особое место среди наследия Первухина занимают научнофантастические и приключенческие произведения, часто печатавшиеся до революции под различными псевдонимами — авантюрные и динамические произведения, нередко стилизованные под иностранные. В романах «Вторая жизнь Наполеона» (1917) и «Пугачев-победитель» (1924) Первухин выступил как один из первых русских фантастов, работавших в жанре «альтернативной истории».
Роман «Колыбель человечества», опубликованный под псевдонимом «М. Волохов», был впервые напечатан в журнале На суше и на море (кн. 2–3, 1911), затем в сборнике «Колыбель человечества: Рассказ М. Волохова и другие рассказы» (М., 1912). Публикуется по указанному сборнику с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации.

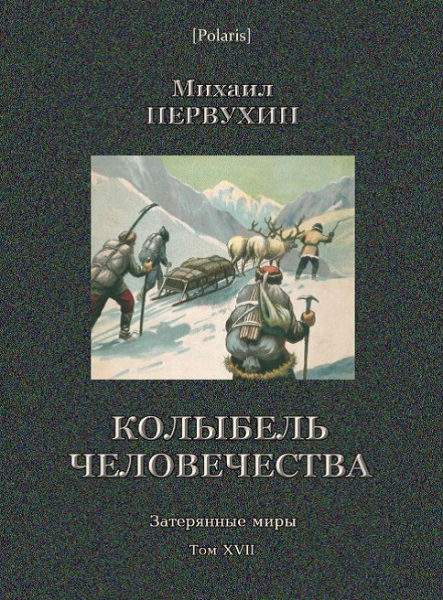

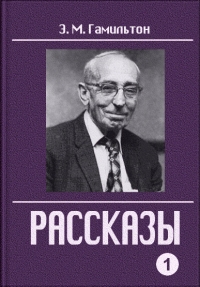


Комментарии к книге «Колыбель человечества», Михаил Константинович Первухин
Всего 0 комментариев