Святослав Логинов ФИЛОЛОГ
Глава 1
Здесь будет дом. Настоящий, бревенчатый, с красной крышей и высокой трубой, сквозь которую следует смотреть на звезды. Три окна по фасаду и четвертое круглое окошко на фронтоне; все повернуты в сторону моря. А из трубы, кроме того, можно пускать дым или пар — информация по этому поводу противоречива. Есть дымоход, но есть и пароход. На всякий случай можно сделать и то, и другое.
Чтобы дом был настоящим, его надо получить в наследство от деда или построить своими руками. Верис не знал, есть ли у него дед, и, честно говоря, побаивался узнавать. Значит, дом придется строить самому.
Береговая дюна с одной стороны круто спадала к воде, а пологий склон порос лесом. Чешуйчатые деревья, каких не бывало на родине Вериса, вздымали сквозные вершины в самое небо. Верис подошел, попытался обхватить чудовищный ствол. Вдвоем такое, может быть, и удалось бы, а одному — нет.
Верис вздохнул: «Привыкай быть один».
Дерево было удивительно красивым, очень не хотелось губить его, но без дома — тоже нельзя.
Дом из дерева назывался «изба». Из чего?.. — из ба. Легко сделать вывод, что дерево, идущее на постройку избы, называлось «ба». И неважно, что слово это ныне забыто; лингвистика — наука точная.
— Не сердись, ба, — сказал Верис, погладив ствол, — но мне очень нужен настоящий дом.
Сломать древесного гиганта, привыкшего противостоять морским ветрам, оказалось не так просто. Дерево упруго гнулось, вершина моталась из стороны в сторону, осыпая Вериса колючими ветками. Наконец оно рухнуло, круша соседей. Верис огорченно взирал на дело своих рук: ствол расщепился почти до половины и вряд ли годился в дело. Тем не менее Верис перетащил бревно на вершину дюны, где планировал поставить дом, и, как мог, уложил его в основание постройки. Самую верхушку ствола он обломил легко, а вот с корнями пришлось помучиться. Дерево он не сломил, а выдрал из земли, и теперь корни топорщились во все стороны, не позволяя бревну улечься как следует. Корни Верис пообрывал, но расщеп на бревне увеличился еще больше.
Сокрушенно вздохнув, Верис отправился за следующим бревном.
«Сила есть — ума не надо», — теперь эта максима не казалась самоочевидной. И как древние управлялись с такой работой?
Второе дерево он не выдирал, а перешиб у самого комля. Получилось лучше, хотя и здесь щепы торчали во все стороны, ничуть не напоминая ровный краешек бревен, из которых был сложен дом, изображенный на старинной гравюре. К тому же, если следующую пару бревен укладывать поперек первых двух, внизу образуется изрядная щель. Может быть, засыпать ее песком? Но это получится не по правилам; дом следует строить не из песка, а на песке. Из песка дозволяется сооружать только за́мки.
Верис представил за́мок, изображенный на старинной гравюре, и понял, что такое строительство в одиночку не осилит. Замки бывают не только песчаные, но и воздушные. Жить в них нельзя, ибо они всегда неприступны, а порой — зачарованы. Как приступить к за́мку, если он неприступен?
«За́мок за́мок на замо́к, чтобы за́мок не замо́к», — таинственная чистоговорка минувших эпох. Спрашивается, где глагол? А их — два. Крайние слова и есть глаголы. Что сделал? — за́мок. Следовало бы говорить «замкнул», но древние были мудры, они понимали, что красота важней грамматики.
Жить в за́мках нельзя, в крайнем случае там может обитать спящая красавица. Древние были не просто мудры, но и предусмотрительны. Они понимали, что красавица безопасна, только покуда спит зубами к стенке. Когда красавица не спит, ее полагается держать под замко́м, в тереме. Терем — слово однокоренное с тюрьмой. При этом в тюрьме темно, отчего возникло другое название — темница, а в тереме светло. Синоним терему — светлица. «В светлице там царевна тужит» — еще одно различие: в темнице сидят разбойники, а в светлице — красавицы. И тех, и других следует держать под замко́м. За́мок за́мок на замо́к. А вот загадка: «Сидит деви́ца в темнице, а коса на улице». Какой может быть ответ? — девушка-разбойник или до красавицы не дотянула? С какой стороны ни посмотри — негуманно получается. Мудрость с гуманностью коммутируют слабо. Представляешь опасность для окружающих — пожалуй в узилище. Решение не гуманное, но мудрое. А то в наш добродушный век красавицы шастают где ни попадя, отчего простым людям остается бежать куда глаза глядят и строить себе дом на песке, весьма напоминающий воздушный замок.
Верис встряхнулся, отгоняя несвоевременные, хотя и любопытные семантические мысли. Так или иначе, но первым делом надо строить дом. Делу время, а девушки — потом.
Как и предвидел Верис, под поперечным бревном образовалась здоровенная, голову просунуть можно, щель. И вообще, строение обещало быть решетчатым: наполовину — бревенчатая изба, наполовину — воздушный замок.
Разумеется, так быть не должно. Обычно дома строят плотники, а плотник, как явствует из названия, тот, кто делает плотно, без дыр. Кроме того, известно, что «кабы не клин, да не мох, то и плотник бы сдох». Масло масляное, объяснение одного неизвестного через другое, столь же неизвестное. О клиньях наука знает немногим больше, чем о плотниках. Клин выбивают клином, клинья подбивают, когда хотят познакомиться с красивой девушкой (читай: красавицей). Кроме того, существует вовсе невразумительная фраза: «Как ни кинь — все клин». Казалось бы, какую информацию можно извлечь из обветшалых слов? А между тем понимающий человек способен сделать из услышанного немало выводов. Прежде всего, клин оказывается орудием обратимого действия, он может не только заклинивать, но и расклинивать. Непонятно лишь, почему для расклинивания употребляются два разных термина: выбивать клинья в общем случае и подбивать, чтобы проникнуть в светлицу. Впрочем, подобными безумствами Верис заниматься не собирался. Клин будет использоваться им исключительно по прямому назначению. Тут, правда, оставалась неясность: клин это плотницкий инструмент или инструментарий? Предмет или метод? Выбить или подбить можно предмет, но когда свет сходится клином на ком-нибудь например, на красавице, которая вопреки древним рекомендациям не была заперта в светлице — эх, как ни кинь, все клин! Встречаешь девушку, и вроде бы и клиньев не подбивал, а свет клином сошелся, так что остается бессмысленно бежать от себя самого, искать спасения в доме, построенном своими руками. Именно руками, а не клиньями. Так что клин это все-таки инструментарий. Впрочем, разница невелика; оба слова: предмет и метод — имеют общий корень «мет» — метать, кидать. Итак, мы вновь вышли на таинственную поговорку: «Как ни кинь, все клин». Семиотика потому и наука, что выводы ее проверяются практикой.
Верис вздел обломок бревна на вытянутых руках и обрушил на два ранее уложенных дерева. Он ожидал, что излишне длинные концы обломятся и бревно намертво заклинит, красиво и плотно, так что комару будет негде поточить нос. Вместо этого бревно упруго сыграло от удара и, не отскочи Верис в сторону, могло бы и ушибить.
Подобная неудача озадачит кого угодно. Верис присел на незаклиненный ствол, потер лоб рукой.
Лингвистические игры долой, плевать, что «неудача» и «озадачивать» — однокоренные слова. Сейчас надо думать, почему ничего не получается с постройкой дома.
— Ага, вот он где!
Верис оглянулся и увидел Линду. Позади толпилась вся ее банда: Юлик, Ромик, Ружеточка с Миксом, еще кто-то, кого Верис не запомнил и не научился отличать. Разумеется, там же был и Томик, куда он денется
— Вы только посмотрите, — радостно воскликнула Линда. — Он от меня убежать хотел! Думал — не найду! Да я кого угодно в два счета отыскать могу! И нечего кукситься, давай показывай, что нового придумал.
— Вау! — возопил Юлик. — Вы гляньте, что он тут поналомал!
Юлик подскочил к поперечной деревине и ударом ладони перешиб ее пополам.
— Не надо! — крикнул Верис. — Не ломайте! Это будет дом! Я его своими руками строю.
— Па-адумаешь — ответил Юлик. — Щас поправим своими руками
В три прыжка он достиг рощи и протаранил ближайший ствол.
— Вау!.. — остальная команда ринулась следом.
Треск, грохот смех, хохот
Роща, обжившая дюну, не боялась соленых волн и шквалистого ветра, но противостоять людям она не могла. Один за другим падали древесные великаны, выдранные с корнем, перебитые ударом кулака, расщепленные ребром ладони.
Верис уже не пытался вмешиваться, просто сидел и смотрел на вакханалию разрушения. Он тоже ломал, но не просто так, а ради дела. И у каждого дерева просил прощения: «Не сердись, ба, мне нужен дом». А эти развлекаются, чисто малые дети.
«Чисто малые дети» — похвала или осуждение? Каждое слово по отдельности — хорошее. Маленький ребенок, да еще чисто вымытый, — это прекрасно! Но почему-то от всей фразы целиком веет неодобрением.
Сломленные деревья тащили к берегу, укладывали клеткой: два вдоль, два поперек. Работой заправляла Линда; от нее у Вериса нет секретов, и, конечно, она успела подсмотреть первый, несбыточный план дома.
— Строим дом! — командовала Линда.
— Все вверх дном! — подхватывали остальные.
Пожалуйста, вот уже и эти, совершенно посторонние, люди, не понимая, повторяют идиому, над происхождением которой бился Верис последнее время. Если выражение восходит к традиции чистого четверга, когда хозяйка устраивала генеральную уборку, и вся посуда сохла вверх дном, то почему ныне фраза относится не к наведению порядка, а к разгрому? Загадки, всюду загадки
Пять, десять, двадцать венцов — дурацкая пародия на дом вздымалась все выше, словно вавилонский столп, башня, ощетинившаяся неровно обломанными хлыстами. В шахматах башню называют турой — словом однокоренным с тюрьмою и теремом. Мой дом — моя крепость, но не башня, не терем и не тюрьма.
Шум, гам, тарарам сумятица и неразбериха.
Нелепое строение постепенно кренилось на сторону и, наконец, после очередного дурно уложенного ствола, все сооружение повалилось на бок.
— Йес!.. — восторгу работников не было предела.
«Что за бессмысленные выкрики? — отрешенно размышлял Верис. — Неужели они не могут говорить по-человечески?»
Изломанная груда бывших деревьев громоздилась на берегу почти у самого уреза воды. Здесь была свалена вся роща, по ту сторону дюны уцелело лишь несколько корявин, которыми побрезговали горе-строители. Самый большой ствол выдернули из-под завала и тут же вбили обратно, так что комель оказался намертво зажат (заклинен!) в развалинах, а основная часть косо нависла над океаном, словно удочка рыболова-великана.
Томик первым пробежал по стволу и ласточкой прыгнул в воду. Началось купание. Одна за другой смуглые легкие фигуры проносились по стволу, мелькали в воздухе и исчезали под водой. Казалось удивительным, что только что эти люди ударом кулака перешибали неохватные столбы. Хотя на самом деле человек может все, и одному Верису подобные вещи кажутся удивительными.
Удивительное — то, что человек увидел впервые или на что впервые обратил внимание. А Верис в прошлой жизни, почитай, ничего и не видел.
Линда, мокрая и запыхавшаяся, подошла к Верису, присела на обломок дерева.
— Класс! Верька, ты гений. Давно я так не оттягивалась.
Верис молча кивнул.
— Между прочим, там совсем мелко, а я не знала и по первому разу головой в песок вмазалась, аж искры из глаз! Ни фига себе — шуточка! Надо будет кому-нибудь подстроить, кто еще не знает.
«Могут ли под водой быть искры из глаз?» — подумал Верис.
— Могут, могут! — ответила Линда. — Слушай, а ты почему не купаешься?
— Одному можно плавать или нырять. А купаться можно только купно, то есть вместе с кем-нибудь.
— Вот и давай купно с нами.
— Мне почему-то не хочется. Я лучше пойду.
— Ну и уходи, — обиделась Линда. — Бегать за тобой не стану. Только учти, никуда ты от меня не денешься, как только соскучусь, я тебя в ту же минуту найду. Думаешь, от жетона избавился и сразу невидимкой стал? Хренушки!
— А в самом деле, как ты меня нашла?
— Так я тебе и сказала — отпарировала Линда, потом вдруг осеклась и переспросила: — А чего ты спрашиваешь? Мы же с тобой на одной волне, ты и сам можешь все узнать.
— Я не могу так просто читать твои мысли.
— Ах, какие сложности! Читай, читай, у меня от друзей секретов нет.
Верис и теперь бы не стал лезть в голову Линды, но та силком раскрылась перед ним и кинула мысль, которую только что не желала сказать вслух.
— Ты с ума сошла! — ужаснулся Верис. — Поиск через службу спасения! А если в эту минуту кто-то гибнет?
— Не делай мне смешно. Ты перечитался древних книг. Ну кто в наше время может погибнуть? За сто лет такое было? За тысячу — было? Кому нужна твоя служба спасения, если у каждого своя собственная система безопасности? С ней в вулкан можно прыгнуть, в айсберг вмерзнуть — и ничего!
— Как это — вмерзнуть? — не понял Верис.
— А есть такие чудики, они соревнования устраивают, кто вокруг себя больший кусок льда нарастит. Иные месяцами сидят не шелохнувшись, ждут, пока приличный торос намерзнет.
— Зачем?
— Для прикола. Хотя я их тоже не понимаю. Лед растает, что останется? Тупой у них прикол.
— Разве прикол бывает тупым? Он от слова «колоть», «прикалывать», что подразумевает остроту колющего предмета.
— Тупым может быть все, особенно некоторые молодые люди. Ну, как, купаться пойдешь или так и будешь нырять и плавать?
— Я к себе пойду, — сказал Верис.
* * *
Понятие «к себе» — очень непростое. Бывает, что человек не в себе, то есть ведет себя неадекватно. Потом он успокаивается и приходит в себя. В себя, но не к себе — разница в одну очень существенную букву. «К себе» подразумевает наличие дома. По отдельности — предлог и местоимение, а совокупно — новая сущность.
Еще недавно Верис полагал, что дом у него есть и что у него есть семья. Семья семь я — я, повторенный семикратно. Но ошибка состояла не в том; иногда достаточно одного близкого человека, чтобы семья состоялась. Когда я с тобою — семерых стою; одним махом семерых побивахом; один с сошкой, семеро с ложкой — примеров несть числа. Близкий человек — тот, кто рядом, то есть находится в одном ряду с тобой, рядовой, обыденный. Единственного человека, бывавшего поблизости, звали мамой. Она объявлялась всегда неожиданно — шумная, веселая, красивая, и жизнь расцветала праздником. Привычные занятия: учеба, игры, распорядок дня — все летело кувырком. Ничего обыденного в появлениях мамы не было. Вероятно оттого, что она была близким человеком реже, чем хотелось Верису. Чаще всего Верис жил один по собственной программе. Собственная программа его кормила, учила, нянчила и тетешкала. Но почему-то он больше любил маму. Возможно, оттого, что с мамой можно было разговаривать словами. Воз-можно — можно, да еще как! Приставка «воз» усиливает действие: воздыхать, возопить. Возбудиться — не просто проснуться, а пробудившись, немедленно начать прыгать. Возникать — не просто никнуть, а делать это чрезмерно. Когда Верис огорчался, что мама опять уходит, и начинал упрашивать, чтобы она побыла с ним подольше, мама всегда отвечала: «Не возникай!» — и Верис понимал, что перегнул палку.
Мыслями было бы невозможно сказать так ясно и необидно.
С мамой Верис предпочитал разговаривать словами, ибо в мыслях всегда оставалась какая-то недоговоренность. Какая — Верис понять не мог. Словно мама ждет от Вериса чего-то, но не говорит. Зато когда в ход шли слова, все получалось ясно и определенно.
Неудивительно, что Верис всем прочим занятиям предпочитал лингвистику, семиотику и тому подобные филологические науки. Предпочитал — читал прежде иных текстов.
Мама над Верисовой страстью посмеивалась, но необидно. Она вообще много смеялась, и Верис порой не мог понять, что ее смешит. Чужая душа — потемки, но и родная не всегда просвечена насквозь.
Приходилось заниматься и по общей программе. Сам Верис для этого никуда не приходил, все приходилось само по себе. Просто Верис вдруг обнаруживал, что знает и умеет множество вещей. Словно знания всегда сидели внутри Вериса, а потом взяли и вышли наружу. Таков изначальный смысл слова «обнаружить».
Биология не слишком интересовала Вериса, но однажды знания биологии обнаружились и вместо ответов принесли вопросы.
Сначала, как водится, был ответ на вопрос вовсе не заданный. В данном случае не заданный вопрос звучал так: «Как получаются дети?» Дети бывают клонированными и естественными. С клонированными все понятно, вопрос очевиден. Берем материнскую клетку и своими очами видим, как развивается будущий ребенок. А вот естественный путь… В этом слове, несомненно, просматривается дважды повторенный неправильный глагол «быть». В прошлом — быть, было — а в настоящем — есть. Ест-ест-венный — дважды «есть». У естественного ребенка есть мама, но есть и папа. И кто у них получится в итоге, посчитать практически невозможно. И если получился Верис, то где его папа?
Еще один родной человек, мысль эта засела в душе как заноза. Что такое «ноза», Верис не знал, и тем мучительнее была мысль. Ведь если бы он был клонирован, то родился бы, как и мама, девочкой.
С таким вопросом к маме не подойдешь, она очень не любила вопросы о других людях. Когда Верис касался запретной темы, мама обнимала его и тихонько произносила: «У тебя есть я. Нам с тобой никто не нужен. Правда?»
Прав, да! — только так и никак иначе.
Наконец Верис остановился на подходящей форме вопроса. Подошел, остановился и вопросил:
— Почему я мальчик?
— Потому что я хотела, чтобы у меня был мальчик.
— Но ведь мальчик не получится без папы.
— Вот еще! — мама презрительно фыркнула. — Это девочку нельзя получить без мамы, а парня сварганить дело нехитрое, так что обойдемся без рыжих.
Из общей программы Верис знал, что рыжеволосые люди — носители рецессивных генов. А благодаря своему увлечению слыхал, что древние считали рыжих агрессивными по отношению к старшим. Так что основания обходиться без рыжих у мамы были. А хромосомный набор у мальчиков попроще, чем у девчонок, так что и впрямь можно обойтись без папы. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь.
Желая поделать хоть что-нибудь, Верис принялся изучать себя самого. Хотелось узнать, чего он лишился, потеряв часть хромосомы, а что приобрел.
* * *
«Привет, Верька!
Честное слово, ты меня поставил в тупик. Вот видишь, сама признаю. Но ты нос прежде времени не задирай, я пока сдаваться не собираюсь. Или дотумкаю, как ты обманул службу спасения, или еще чего-нибудь придумаю. Мыслишки есть.
Жетон твой я отыскала как нефиг делать, и раз ты его не зафигачил куда подальше, а так аккуратненько прибрал, значит, он зачем-то тебе нужен. А я покуда стану на него информашку для тебя сбрасывать. Если ты туда заглядываешь, то прочтешь. Или потом, когда я тебя найду, вместе послушаем, поразвлекаемся. Как ты говорил? Развлечение — влечение на один раз. А у меня, как видишь, не на один.
Ну, все. Целую в щечку.
Навеки твоя. Линда».* * *
Люди. Много людей. Очень много. Тьма-тьмущая. Хотя нет, тьма это древнее числительное — десять тысяч. То есть тьма-тьмущая — ровно сто миллионов. Людей было много, но все-таки поменьше, чем тьма-тьмущая. Множество людей — тоже не подходит. Множество — понятие математическое, а математика со здравым смыслом не в ладах. Например, что такое пустое множество? Множество — значит, там чего-то много. А пустое — значит, там ничего нет. Вот тебе и математика, вот тебе и здравый смысл.
Точнее всего ощущения Вериса описывало словосочетание: «прорва народа». Только что не было никого, как в пустом множестве, и вдруг прорвало — люди, люди, люди. Появляются и исчезают, мелькают, спешат. Рядом, но не близкие, телом здесь, а мыслями далеко.
«Куча народа», — как сказала Линда, когда Верис поделился с ней своими впечатлениями.
Пришлось объяснять, что понятие «куча» подразумевает не только большое количество элементов, но и их взаимное расположение в виде конической фигуры. Вряд ли «куча» и «конус» родственные слова, но некая связь просматривается. Что касается идиоматического сочетания «куча народа», то оно произошло от древней, ныне забытой игры «Куча-мала», когда люди валили друг друга друг на друга, так что упавшие уже не могли встать самостоятельно.
Глаза у Линды азартно заблестели, и пока Верис размышлял о глубинном значении однокоренной пары «встать самостоятельно» (язык любит рефрены, но не терпит тавтологий), Линда начала действовать. Уже потом Верис узнал, как это делается. Она оповестила о новой идее своих приятелей, те — своих друзей и знакомых, и прямо в помещении Транспортного центра, где и без того было достаточно людно, начали возникать все новые человеческие фигуры. Несколько секунд они стояли неподвижно, вникая в правила незнакомой игры, потом кто-то толчком свалил с ног соседа, упавший дернул за ноги зачинщика, следом устремились остальные, и вскоре на полу копошилось чудовищное месиво ног, рук и голов упавших людей.
— Куча — мала! — завопила Линда и ринулась в гущу творящегося непотребства.
Верис попятился. Он понимал, что никто, даже оказавшись в самом низу шевелящейся кучи, не рискует переломать кости, но с непривычки его замутило. Прежде он не видал в реальности никого, кроме мамы, а тут людей было больше, чем можно представить, и все они слились в одну небывалую кучу. Почему-то вспомнилась древняя картина «Апофеоз войны» — гора человеческий черепов, сложенная неведомо зачем, и по аналогии родилось определение: «Апофеоз игры».
Второй раз в жизни Верису стало страшно.
Впрочем, на настоящий страх не хватило времени, его достало только на испуг. Вериса толкнули в спину, он упал, сверху навалился еще кто-то, и вскоре Верис оказался под толщей барахтающихся тел. Здесь уже не было места страху, а царил чистый животный ужас. «Ужас» — когда тебя ужали со всех сторон, и ты уже ничего не можешь. Ужас испытывает зверь, попавший в западню. Такой же ужас ощутил Верис внутри кучи-малы. Наверное, оттуда можно было телепортироваться куда-нибудь, но Верис не додумался до такого выхода. Он никогда прежде не телепортировался, помня, что телепортация предназначена для особых, аварийных случаев. Хотя, спрашивается, каким образом в зале Транспортного центра возникла вся эта куча народа?
Постепенно Верис пришел в себя, то есть ощутил собственное тело, осознал, что лежит на полу, и никто не наваливается на него сверху, стесняя движение и самую жизнь. Куча-мала постепенно расползалась. Потные встрепанные люди обменивались впечатлениями, а хорошо знакомые — и ощущениями. Кто-то еще пытался толкнуть соседа, но в целом азарт игры прошел.
К Верису подбежала Линда. Протянула руку, помогая встать.
— Супер! — произнесла она одно из своих любимых бессмысленных словечек. — Я в тебе не обманулась!
Трудно поверить, что все это случилось в первый день их знакомства.
Верис стоял в Транспортном центре, поражался количеству людей и не знал, куда ему направиться. Обнаружилось, что все знания, приобретенные самостоятельно и полученные от программы, не помогут тому, кто не знает, к чему себя применить.
«Применить» — слово почти идентичное глаголу «переменить». Пока не было перемен, то и вопрос: «Что делать?» — не возникал. Но грянули перемены, и человек, только что занятый важными вещами, не находит себе применения.
Неведомо, сколько бы времени Верис простоял бы с разинутым ртом, но его хлопнули по плечу, и Верис увидал Линду, еще совершенно ему незнакомую.
— Привет, — сказала она. — Меня зовут Линда. А ты что здесь делаешь?
— Да вот — Верис пожал плечами. — Смотрю.
— Давай смотреть вместе, — немедленно предложила Линда. — Показывай, куда глядеть.
— На людей. Я никогда не видел столько людей.
— Обычный трафик. Бывает и больше, — возразила Линда, но не ушла, продолжала смотреть и расспрашивать, пока дело не кончилось кучей-малой.
— Вот что значит свежая мысль! — восхищалась Линда. — Знаешь, сколько людей на нашу кучу-малу сбежалось? Больше десяти тысяч! То есть сбежалось меньше, но я еще несколько случайных прохожих туда втащила, чтобы добрать до красивого числа. Так что всего получилось десять тысяч два человека, я специально считала.
— Десять тысяч два, — повторил Верис. — Тьма и еще пара.
— Точно! Тьма — это они, а пара — мы с тобой.
После таких слов Верис простил Линде все неудобства, что она ему причинила. Раз причинила, значит, тому была причина.
Как-то само собой получилось, что из Транспортного центра они ушли вместе, чуть не за руки взявшись. Забавное слово «как-то» Оно означает, что поступку была причина, но не явная, а подумать и проанализировать ее у Вериса не было ни времени, ни желания. Потом неявная причина проявится, окажет себя, и тогда окажется. Что может оказаться в подобном случае, Верис как-то не подумал.
— Ты где обычно тусуешься? — спросила Линда.
Верис судорожно глотнул. Из контекста вопрос понятен, хотя глагол, употребленный Линдой, был Верису незнаком. И поскольку впрямую Верис ответить не мог, то, как за соломину, ухватился за незнакомое слово.
— Тусуешься — повторил он. — Приставка «ту» указывает место или направление: «туда, в ту сторону». А основа, вероятно, связана с глаголом «соваться» или «суетиться». При любом толковании исходник описывает бессмысленные или неосознанные движения с привязкой к определенному месту. Я прав?
— Аск! — восхищенно произнесла Линда. — Я такого и под наркозом загнуть не сумею. Ты жутко умный. И все-таки где ты обычно совершаешь свои неосознанные движения?
— В том-то и беда, — признался Верис, — что нигде. Суета есть, а места — нету.
— Что-то я не врубаюсь, — произнесла Линда на своем маловразумительном языке.
Верис затряс головой. Каждое слово слишком быстрой беседы ставило его в тупик. Надо отвечать на вопрос, но впервые в жизни у Вериса не находилось слов, чтобы рассказать, почему он стоит здесь, на скрещении путей, и никуда не идет. Как объяснить, что в мире нет для него места? Куда проще и приятнее строить гипотезы по поводу употребления в настоящем контексте глагола «врубаться». Постигать смысл, уничтожая его, разрубая на части.
Не дождавшись скорого ответа, Линда развернулась (вернулась разом!), обхватила ладонями голову Вериса и прижалась к нему лбом. Так можно войти в сознание другого человека, прочесть его мысли. Хотя что это даст: чувства, лишенные слов, неосознанные вопросы и сомнения, важное вперемешку с незначимым. Куча-мала в сравнении с ералашем, творящемся в голове, — образчик простоты и ясности. В подобном месиве и сам не вдруг разберешься, а сторонний человек вовсе ничего не поймет. Более того, он обманет сам себя, решив, будто что-то понял. Только слова умеют говорить правду, мысль неизреченная — есть ложь.
Но Линде хватило и того немногого, что она сумела прочитать в сознании Вериса.
— Что ж ты сразу не сказал, что тебе некуда идти? Пошли ко мне, а там разберемся с твоими проблемами.
* * *
Транспортный центр — место, где сходятся пути. Разумеется, не все, но подавляющее большинство. Новые пути тоже всего легче прокладываются отсюда. По сравнению с человеком и даже человечеством вселенная необъятна. Галактик в мире больше, чем людей, и в каждой галактике сотни миллионов звезд. Человечество не рассеялось в пространстве только потому, что людям свойственно тянуться друг к другу. Хотя правильнее было бы сказать, что человечество рассеялось, ибо семена разума разлетелись по миллионам миллионов прежде необитаемых миров. На некоторых планетах стояли города и жили тысячи людей, другие — и таких было больше — лишь изредка посещались гостями. Но больше всего оставалось миров, где человеческая нога прежде не ступала, и не потому, что миры эти плохи, а в силу причин арифметических: людей всего несколько сот миллиардов, а пригодных для жизни миров — неисчислимое множество. В результате множество это остается пустым.
Когда-то пробить внепространственный канал в систему соседней звезды казалось задачей непростой даже для всего человечества, а теперь с этим справляется один человек за пару часов. Самое сложное — выбрать, где именно тебе хотелось бы очутиться. Противоположности сходятся, слишком большой выбор сродни отсутствию выбора.
Внепространственный канал, однажды пробитый, далее существует сам по себе, не нуждаясь ни в какой поддержке. Люди умеют видеть их и с легкостью находят порталы, так что никаких особых отметок ставить не требуется. Лишь самые древние и самые популярные порталы оформлены в виде небольшого строения, дверь которого ведет к иным мирам.
Было бы красиво сказать, что из дому Верис уходил не оглянувшись. Жаль, что это не так. Уходя, Верис уже знал, что дома у него никогда не было. Было помещение, куда его поместили и где он пребывал. И хотя уходил, не испытывая ни малейших сомнений (сомнение рождается там, где сходятся два мнения), но, шагнув через условную дверь, он оглянулся и узнал, что покинутый им мир принадлежит Гэлле Гольц и что она просит не нарушать ее уединения.
Так Верис узнал, как зовут женщину, которую он привык звать мамой.
Мама очень не любила, если Верис тревожил ее, когда она бывала занята своими делами, но сейчас в голосе Вериса звучала такая тревога, что мама примчалась немедленно.
— Что там у тебя приключилось?
Верис даже не подумал, можно ли его открытие назвать приключением. Он просто, ничего не поясняя, показал маме результаты своих генетических исследований.
— Ну и что такого? — спросила мама.
Удивительная фраза — четыре слова и ни одного значимого. И у самого Вериса впервые не находилось слов, чтобы рассказать маме все. Он отчаянно искал эти слова, но они попрятались и не находились. Отчаявшись, Верис просто ткнул пальцем, указывая причину своего беспокойства.
— Ты это видела?
— Видела, — совершенно спокойно ответила мама.
— Но ведь это так легко было исправить раньше, пока я еще не родился.
— Зачем? — удивилась мама. — Так интереснее.
Главное, основное значение слова «интерес» — выгода, корысть, прибыль. Что может прибыть у мамы оттого, что убудет Верис?
— Так ты это специально сделала? — еще не веря, спросил Верис.
— Ну конечно! — мама улыбнулась родной, до мелочей знакомой улыбкой. — Да ты не переживай, до этого еще знаешь сколько времени ждать придется? Соскучиться успеешь, все на свете надоест. И главное, ведь я с тобой буду.
Главное — стоящее во главе. Глава по-латыни: «caput», а другое значение этого слова — капут, конец, гибель. Подтекст, глубинное значение слов часто можно выявить, обратившись к латыни — мертвому языку, на котором никто не говорит.
А мертвый язык, как и полагается мертвецу, говорит о смерти.
«Я с тобой буду», — сказала мама, но в тот же день исчезла, отправившись по своим делам. Разумеется, она ни словом не солгала, человек, который куда-то отправился, всегда прав. А в нужную минуту она, конечно же, будет рядом с Верисом, иначе не стоило и огород городить.
Обычно Верис упрашивал маму не уходить так быстро, ведь они еще не успели навидеться, но сегодняшняя встреча была из ряда вон. Верис нарушил обычай и ни о чем не просил. Наверное, чувствовал, еще не поняв, что не только встреча из ряда вон, но и мама вон из тех, кто рядом.
Понять он пытался совсем другое. Странные возвратные глаголы происходят от слова «видеть». Повидаться — словечко простенькое, не имеющее отношения к любви. Разок повидались — и дело с концом. Предлог «по» скользит по поверхности. Предлог «на» тоже не проникает в глубину, но он устойчивей, ближе к основам и несет больше подтекста. Не вдруг и скажешь, в чем тонкая разница между словами навидаться и навидеться. Прежде Верис ни о чем таком не думал, опрометчиво полагая, что успеет и то, и другое. Теперь знал, что это не так. А если с тем, кого любил, нельзя навидеться, то неизбежно начинаешь ненавидеть. Так повелось с тех начальных, мифических времен, когда еще не было слова.
Миф — слово древнегреческое, означает реальное происшествие, былину, то, что было на самом деле. Мифы повествуют о поре, когда люди не умели говорить, обмениваясь не словами, но мыслями, отчего происходила в умах неразбериха и непонимание. К тому же мыслями можно обмениваться только с близкими. Впоследствии отсюда родились два значения слова «близкий»: тот, кто находится на малом расстоянии от тебя, и тот, чью мысль слышишь, как бы далеко он ни отошел. Но таких людей может быть два-три, от силы — пяток, иначе собственное «я» начнет растворяться в душах близких. А хочется общаться со всеми, оставаясь собой.
И тогда явился культурный герой, научивший людей сообщать свои мысли тем, кто вдали. Как и полагается мифическому герою, у него было значащее имя — Даль. Даль придумал слова и составил словарь. Овладев словом, люди стали владеть миром. Другое имя Даля — Владимир.
К несчастью великий словарь сохранился не полностью, бо́льшая часть оказалась утеряна, отчего началась путаница и родились слова бессмысленные, дурные и попросту неприличные: гуд-бай, йес, о’кей, опрст, вау. Но там, где сохранился хотя бы фрагмент словаря, мир оказывается ясным и понятным. Взять хотя бы слово мама, о значении которого Верис прежде не задумывался, довольствуясь тем, что мама есть.
«Мама — маменька, мамонька, мамочка, матушка, родительница», — вот и все объяснения. И пример народной мудрости: «Уродила мама, что не примет яма». Следом несколько строк переносных значений: кормилица, нянька. И ни полсловечка о любви.
Есть дополнительный термин — «мать», вынесенный в отдельное языковое гнездо, хотя обычно подобные слова Даль объединял. «Мать — матерь, родительница, мама, ро́дная, родна́я». К тому еще один блестящий пример: «Эта кобыла — мать вашей лошади». И вновь переносные значения: Мать сыра земля — вот оно, почему яма не принимает(!); мать-настоятельница — кто знает, что она настаивает в своей сырости? Пустые холодные слова.
Владимир Даль знал, о чем говорит.
В тот же день Верис покинул планету, принадлежащую Гэлле Гольц.
* * *
Может ли слово иметь двоякий смысл? Разумеется, может, ведь существуют омонимы, и казуист умеет построить фразу, значение которой не определяется даже из контекста. «Пасется стадо у моста, быки стоят в реке» — вот и гадай, о каких быках идет речь.
Бывают и более тонкие различия, определяемые имплицитно и эксплицитно. Тут на помощь приходит контекст не фразы, а личного общения: интонация, взгляд. Когда девушка говорит: «Пойдем ко мне», — что она имеет в виду? Опытный человек поймет с полувзгляда. А тот, кто за свои семнадцать лет не видел никого, кроме мамы? — ему взгляд не поможет, и не поймет он ничего, пока вдруг не откроется истинный смысл приглашения.
— Верис, ты чудо, — говорила Линда. — У тебя, что, взаправду никогда не было женщины?
— Не было.
— Круть! И откуда ты такой взялся?
Задать вопрос проще, чем ответить на него. Когда Верис, бывало, спрашивал маму, где она была, откуда вернулась, мама всегда отвечала: «От верблюда», — так что Верис даже ревновал немножко к верблюду, с которым мама проводила больше времени, чем с ним.
Пока Верис пытался сформулировать правильный и при этом краткий ответ, Линда уже задала новый вопрос:
— Лет-то тебе сколько?
— Семнадцать.
— Ух, ты, совсем новенький! Мне даже стыдно, что я, мерзавка этакая, тебя совратила.
Совратить — заставить свернуть с выбранного пути. Но Верис в ту минуту, когда к нему подошла Линда, как раз стоял на перепутье, не зная, какой из бесчисленных путей выбрать. А это значит, что Линда наставила его на истинный путь.
— Ты не совратительница, — сказал Верис. — Ты путеводная звезда.
— Верька, ты прелесть! — Линда тихонько засмеялась, ткнувшись Верису под мышку. — Мне никогда никто так не говорил. Я в жизни не видала, чтобы кто-нибудь так разговаривал и вообще был похож на тебя. Ты ведь натурал?
Слово было неслыханное, но Верис понял.
— Я — модифицированный клон.
— Да ну, что я, модификатов не встречала? Такими вещами одни дураки занимаются: копируют себя любимого в улучшенном виде — нос делают попрямее, бицепс побугристей. Мозгов почему-то никто себе добавить не решается, а то дитятко вырастет и будет предка в лужу сажать.
— Мне тоже мозгов не добавлено, — сказал Верис. — Меня сделали с другой целью. Мне ничего не добавляли, только урезали.
— Ого! — Линда села на постели, зло сузив глаза, уставилась в стену. — Хотела бы я посмотреть на твоего папашу. Уж я бы ему все высказала.
— У меня нет отца. Я мамин клон.
— Такая глубокая модификация?! А на хрена?
Хрен — растение семейства бобовых, горькая огородная пряность, та, что редьки не слаще. И судьба Вериса тоже будет совсем не сладкой, а значит, пусть неявная, но связь с хреном имеется, хотя вопрос все же не очень понятен.
— Не знаю, — ответил Верис. — Она сказала, что сделала это для интереса. Быть может, ей захотелось горечи
— Думаешь — горечи? А по-моему, совсем другого. Ты же с ней в ментальной связи состоишь?
— И что это дает? При ментальном контакте передаются только чувства и ни единого слова.
— Ощущения передаются, ощущения!
Линда вскочила и забегала по комнате. Видно было, что она вне себя от бешенства и резкими движениями пытается или отыскать себя сбежавшую, или окончательно покинуть себя саму. Верис тоже вдруг осознал, не умом, а всем естеством, что разозлило Линду. Значит, целую ночь мама была здесь третьей, вместе с ним и Линдой. Пусть она ничего не слышала и не видела, но — сочувствовала?.. Наверное, так, другого слова не придумано; не говорить же: соощущала.
Потом пришло сомнение.
— Погоди, — сказал Верис, и Линда послушно остановилась. — Ведь с тобой она ни в каком контакте не состоит.
— И что? Ей не это надо, извращенке! Сексуальные соощущения между мужчиной и женщиной затруднены из-за разницы в физиологии. Но это в общем случае. А если мужчина — клон женщины, тогда как?
— Не знаю, — убито ответил Верис.
— И я не знаю. А ей захотелось узнать. Вот и весь интерес.
«Не весь», — хотел сказать Верис, но промолчал. Зачем зря расстраивать Линду? Вместо этого он сказал:
— Она не знает, что я ушел из дома. Так, может быть, ее сегодня тут и не было.
— А мы знаешь что сделаем? Тоже наладим ментальную связь. И если она попробует сунуться, когда мы вместе, я это на раз обнаружу.
Верис представил, как мама прячется внутри него, Вериса, а Линда обнаруживает ее, то есть находит и выводит наружу. Интересно, будет ли маме стыдно? Впрочем, глаза стыд не выест, а в остальном — пусть постыдится.
Верис подумал еще немножко и согласился. И не для того, чтобы выводить наружу любопытствующую маму, а просто потому, что Линда захотела быть с ним на одной волне. Обмен эмоциями и элементарными мыслями — это так мало, хотя а что — хотя? Простейшее деепричастие: что делая? — хотя. И раз любимая женщина хочет, мужчина должен соглашаться, то есть говорить с ней в унисон.
А мама объявилась в тот же день ближе к вечеру.
— Верик, что за дела? — услышал Верис мамин голос. — Почему тебя нет на месте?
Верис молчал. Да, у него дела, и почему-то совсем не хочется делиться ими с мамой. Его дела сами по себе, а ее дела и прежде были отдельно от Вериса. Отделиться — сделать так, чтобы твои дела от чужих дел были отдельно.
Однако отделиться еще не означает отделаться. Верис почувствовал, что мама привычно, по-хозяйски, входит в его душу. Прежде Верис с готовностью раскрывался навстречу, не оставляя ни единого тайного закоулка, словно собирался раствориться в маме, навеки став с ней единым целым. Именно так, «словно», то есть — воистину, хотя слов в эти мгновения как раз и не было.
Но теперь Верис не хотел делиться ни словами, ни даже чувствами. Он попытался закрыться от маминого хозяйничанья, но преуспел лишь в одном — понял, что мама и прежде никогда не бывала открыта перед ним полностью.
Всякую вещь можно понять и познать. Познать — постигнуть разумом, через знак, о чем сообщает корень «зн». Понять — постигнуть чувством, через обладание. Древний, еще дословесный корень «я». Понять (я) — составить мнение (мне). Понимать (им) — составить совместное мнение, то есть — сомнение.
Верис сумел понять маму, сомнений в том не было, но противостоять ей не мог. Мама с легкостью преодолела неумелую защиту, немедленно узнав все, что ей хотелось.
— Ну ты чудак! — воскликнула она. — Вздумал обижаться. На меня! Ну ты даешь!
Верис ничего не хотел давать Гэлле Гольц, но согласно кивнул. Слово не может солгать, и сейчас мама, сама того не желая, указала ему истину. Она недаром употребила слово «чудак». Чередующиеся согласные «д-ж» чудак — чужак. Верис и мама всегда были чужими друг другу, отныне Верис знал и понимал это, разумом и сердцем.
— Глупый ты, — сказала мама. — Думаешь, нашел себе девочку и стал самостоятельным? Все равно никого ближе меня нажить не сумеешь, потому что ты это я и есть. Так что можешь обижаться, а все равно никуда не денешься. Ну, бывай пока.
Вот так, просто и понятно. «Бывай пока» — оба слова указывают на временность Верисова бытия. Впрочем, на это же указывают и прекрасные слова, которые Верис и Линда говорили друг другу: «Навсегда навеки»
Прежде у людей были иные отношения со временем, и язык сохранил память о тех временах. Люди редко жили больше ста лет, но зато умели использовать это время на полную катушку. Время катилось, текло, проходило, а люди катались по отпущенному веку взад-вперед, и время терпело подобное обращение. Доказательства? Два значения слова «век» — сто лет и срок жизни. Да и вообще, если бы древние люди, современники Владимира Даля, жили неограниченно долго, они хотя бы изредка встречались в наши дни, а великий словарь не был бы утерян.
Что касается свойств времени и умения им управлять, они зафиксированы во множестве слов и устойчивых словосочетаний. Время можно ускорить: «Время, вперед!». Его можно замедлить хоть на целый год: «Погоди немного». Нетрудно и вовсе прекратить его течение: «Остановись, мгновенье!»
Некоторые сомнения вызывает способность времени расщепляться и идти вспять, но и тут языкознание приходит на помощь. «Навеки», — говорят люди, неосознанно поминая расщепленное, текущее параллельными потоками время, и «на века́» — когда имеют в виду последовательное чередование столетий. «О времена, о нравы!» — воскликнул мудрец. И хотя сам мудрец забыт, изроненное им слово живет, так что всякий, умеющий понимать, способен заключить, что время не едино, но поток его разбивается на множество рукавов, и в каждом времени свои нравы, чтобы живущему было из чего выбирать.
И, наконец, возможность обратного течения времени, темпорального реверса, как сказали бы специалисты, — скрыта в совсем уже древних пластах языка. «Когда, всегда, иногда», — всюду видим корень «гд», отвечающий на вопрос «где?» и относящийся не ко времени, а к пространству, где можно двигаться в любую сторону, хоть поперек.
Интересно было бы пожить немного поперек времени.
Наверное, это не те мысли, которым следовало бы предаваться семнадцатилетнему парню наутро после первого любовного свидания, но что делать, если внешний, привычный слой понятия «навсегда» недоступен модифицированному уроду, а хочется быть с любимой если не навсегда, то хотя бы навеки. Вот и остается утешаться филологией. В конце концов, мертвый корень «фил» тоже имеет отношение к любви.
* * *
Куда деваться человеку, когда он хочет скрыться, а его хотят найти?
Была когда-то такая игра — прятки. «Кто не спрятался — я не виноват!» Глагол «прятать» — исконное значение — закапывать в землю, хоронить. И у игры есть иное название: «хоронушки». Забытое за ненадобностью слово «опрятывать» — обряжать покойника перед похоронами. Опрятный — наряженный в смертное, готовый к похоронам. А если человек живет вечно и никогда не будет спрятан в землю? Тогда можно забыть ненужное слово и жить неопрятно. Что нам приличия, если лицо можно сменить во всякую минуту? Что мораль, если мора — смерть, не маячит впереди?
Через два дня Линда познакомила Вериса со своими приятелями. Приятель это тот, с кем приятно иметь дело, и таких людей у Линды оказалось видимо-невидимо. Впрочем, невидимость имелась только у Лели. Лелю (Верис так и не понял, он это или она) можно было разглядеть лишь в инфракрасных лучах, да и то в виде размытого пятна. Все остальные: Ружеточка, Бася, Томик, Юлик, Микс и Макс, Лека и — Верис запутался и перестал различать этих приятных Линде людей. Наверное, надо было включить дополнительную память, но Верис не догадался сделать это сразу, а потом было поздно.
Линде не терпелось похвастать удивительным человечком, которого она сумела раскопать (почему — раскопать, ведь Верис покуда жив и не закопан?).
— Это Верька, — представила Линда. — Он жутко умный и может растолковать любое слово. У меня башку перекосило, когда я его послушала.
— Что значит умный? — прозвучал из ниоткуда Лелин голос.
— Умный, — кротко пояснил Верис, — тот, кто умеет. Умный умеет поступить так, чтобы получить нужный результат.
— А кто не умеет, тот — неумный, — в невидимом голосе звучала нескрываемая издевка.
— Нет, тут возможны два варианта. Если человек не умеет, не хочет уметь и ничего не делает, то он — идиот. Слово греческое, означает гражданина, который не исполняет должности и не ходит на выборы. А если человек не умеет, но хватается делать, то он дурак. Происходит от слова дурь: неистовство, неукротимость. Возможно, родственно глаголам «дуть» и «трубить».
— Я тащусь, — объявила Ружеточка. — А слово «нога» что значит?
— Конечность с копытом на конце, — не задержавшись ни на мгновение, отстрелил Верис. — Однокоренное слову «ноготь». Баба-Яга, костяная нога — одна конечность человеческая, а другая — костяная, с копытом.
— У меня — никаких копыт, — Ружеточка продемонстрировала длинную загорелую ногу.
— Потому что у тебя не нога, а пех. Слово почти забытое, но кое-что осталось. Пешеход, пешка. Опять же, ходишь ты не ножком, а пешком.
— Я хожу ножками, — возразила Ружеточка, с удовольствием оглядывая свою лишенную копыта конечность. — А рука, получается, конечность с когтями.
— Вряд ли. Хотя настоящее название руки должно происходить от глагола «брать», а тут совершенно другой глагол.
— Рыть, — подсказал невидимый голос. — На самом деле рука это рыло.
— Нет, — возразил Верис, пытаясь подавить ощущение, что над ним смеются. — Рука — от глагола «рушить».
— Класс! — сказала Линда. — Завтра отращу когти и пойду рушить.
Завтрашнего дня для Вериса не было. Новенькая, не успевшая сложиться жизнь рухнула как от удара когтистой руки. С вечера Верис напрасно ждал Линду, она не появилась. А когда Верис осторожно попытался нащупать ее мысли, то сразу понял, где она, с кем и чем занята.
Линда не скрывала, что прежде Вериса у нее были мужчины. Напротив, она удивлялась, что Верис оказался невинным мальчиком. Тогда, всего сутки назад, Вериса ничуть не смущало прошлое Линды. Не пугало и то, что она много старше его. Когда живешь неограниченно долго, сотня-другая лет не играет никакой роли. Линда была прекрасна и не растеряла живого интереса к жизни. Что еще нужно человеку?
Все, что было до их встречи, можно считать не бывшим. Для двоих время начало течение в ту секунду, когда Верис услышал: «Привет! Меня зовут Линда. А ты что здесь делаешь?»
Теперь время развернулось и ударило наотмашь, доказав, что оно было прежде и будет впредь. Давно сказано, что время лечит. Но лечит оно жестокими хирургическими методами, безо всякой анестезии ампутируя детскую наивность, иллюзии, юношеский максимализм. И лишь потом, годы спустя, милосердно накладывает на раны обезболивающую повязку амнезии.
Внепространственный канал захлопнулся у Вериса за спиной, и на этот раз он не оглянулся посмотреть, где был. Зачем? Во многом знании — многие скорби.
Все дороги ведут через Транспортный центр. Внепространственный канал можно пробить и собственными силами, но это трудно и требует много времени. А бессмертные не любят напрасно ждать.
Верис тоже не стал тратить время. Едва сканирующий луч коснулся тверди, способной удержать выход канала, Верис послал подтверждающий сигнал и ушел по пробитой дороге, даже не полюбопытствовав, каково будет на новом месте.
Местечко оказалось неуютным. Карликовый планетоид с реденькой атмосферой, кружащий около чахлой звездочки. Здесь не было ничего, кроме пыльных туманов. При малейшем дуновении массы истертого в пудру песка поднимались в воздух и неделями висели грязной пеленой, прежде чем слабая гравитация заставляла пыль осесть. Углекислотная изморозь поскрипывала под ногами, отчего-то лишенными копыт. «Хрусть-хрусть — ну и пусть. Что заслужил, то и получил. Раз так стало, то так мне и надо».
Если бы не собственная система безопасности, Верис не прожил бы здесь и секунды. Лег бы на песок и смерзся бы в комок. «Знай сметку, помирай скорчась», — сказал народ устами Владимира Даля.
Хрусть-хрусть — ну и пусть. Пусть — это когда на душе пусто.
Всякая тектоника умерла здесь миллиард лет назад, и, не найдя ни единого выпирающего из земли камушка, Верис уселся прямо на песок и приготовился вмерзать в углекислоту. Через несколько часов здесь и нашла его Линда.
— Уф, вот он где! А я не могу понять, что приключилось. На таком расстоянии телепатия почти не берет, чувствую только, что тебе хреновенько, вот я и примчалась. Что у тебя приключилось? Мамаша какую-нибудь новенькую пенку выдала?
Верис молчал, не желая бессмысленно тратить слова.
Линда присела рядом, замерла, вслушиваясь в сумбур, царящий в голове Вериса, и громко расхохоталась.
— Так это ты из-за меня?.. Из-за того, что я с Томиком была? Ну ты юморист! Ты бы сказал, что тебе эту ночь непременно со мной надо быть, думаешь, я бы не поняла?
— Ты же говорила, что меня любишь, — мертвыми губами прошептал Верис.
— Ну, говорила, и что из того? По-твоему, я теперь должна только с тобой жить?
Верис молчал, лишь мысли медленно цедились, в безуспешных попытках понять смысл отзвучавших слов.
«Должна. Корень «долг» с чередующейся согласной «г-ж». Долг — это то, что надолго. Должна пусть не навеки, не навсегда, но не на два же дня! Но не на…»
— Ты ведь тоже говорил, что любишь меня, — напомнила Линда, — а если любишь другого, то радуешься, когда ему хорошо. А ты сбежал черт-те знает куда, заставил меня волноваться. Я решила, что тебя твоя мамаша похитила, и ринулась спасать.
«Похитить — взять хитростью. Если бы мама так умела, я бы и сейчас ничего не подозревал, думал — нелепая случайность, роковая ошибка. А слово «ошибка» наверняка родственно слову «ушиб». Один раз ошибся, и остаток жизни — лечи синяки».
— Да не молчи ты! — рассердилась Линда. — Что ты сидишь, как прыщ на совести? Ну, что я такого сделала, скажи на милость?
— Неужели любовь — это когда можно спать с любым? — медленно спросил Верис.
— Я же не с любым, — удивляясь самой себе, принялась оправдываться Линда. — Томик знаешь какой законный парень!
Закон — то, что находится за коном, то есть за пределом. Законность — синоним слову беспредел.
— Догадываюсь, — кивнул Верис.
— И что ты тогда дуешься, словно мышь на крупу?
— Я не дуюсь, — сказал Верис. — Я просто так не могу.
— Ахти, какие мы нежные! Погоди, лет за триста так друг другу успеем надоесть, упрашивать будешь, чтобы я кого-нибудь нашла.
Надоесть — императив «надо» и глагол «быть» в настоящем времени. Надо-есть А если в настоящем времени — «нет», то и надоесть не получится.
— Не буду упрашивать, — сказал Верис.
— Вот и ладушки. Пошли, нечего тут сидеть.
— Тебе сколько лет? — неожиданно спросил Верис.
— Двадцать восемь. Тоже, как видишь, немного. Но что будет через триста лет, все равно знаю. А вот Томику — больше восьмисот. Критический возраст, между прочим. У многих интерес к жизни пропадает, никакая игра уже не радует, сидят на песочке, вот вроде как ты, и носом сопят. Сами уже ничегошеньки придумать не могут, в лучшем случае ждут, когда я или ты им новую игрушку подкинут. Знаешь, сколько их, отупелых? Так что тебя я в покое не оставлю. Рано расселся.
Расселся — сел широко, заняв слишком много места, или, заняв место, на которое претендуют другие. Как ни крути, сказано не о нем.
— Я не расселся. Я компактно сижу и никому не мешаю.
— Мне ты мешаешь! Усек? Еще не хватало, чтобы меня из-за тебя совесть мучила! Сейчас встанешь и как миленький начнешь радоваться жизни.
Верис представил, как совесть хватает Линду и принимается ее мучить, то есть — размалывать в муку, мять и давить. Ему вовсе не хотелось, чтобы Линду давили, мяли и размалывали, но и радоваться жизни не получалось. Поэтому Верис спросил:
— Почему ты считаешь, что человек непременно должен веселиться?
— Кому на фиг нужна игра, если от нее одна скука?
— Еще можно делом заняться.
Занять себя, чтобы избежать скуки. Скука явилась, а я — занят, я бегаю по делам.
— Каким еще делом? Какое дело может быть у человека в наше время?
— Я, например, филологией занимаюсь.
— Тоже мне дело. Другие побрякушки на тот же колпак. Ты не думай, я ведь тоже кой-чему училась и знаю, что говорю.
Ведь — ведать, знать. Линда ведь училась и теперь ведает, что говорит. Верис не слишком вслушивался, но заранее был согласен, доверяя Линдиному ведению. Вот только изменит ли оно хоть что-то?
— Прежде люди вынуждены были заниматься делами, например, добывать пищу, чтобы не умереть с голоду. Нынче голодают только гурманы, чтобы получить больше наслаждения от особо изысканных кушаний, а тогда голодали многие, просто потому, что еды на всех не хватало.
Верис представил, как люди хватают еду, а некоторые не успевают ухватить и идут изыскивать особые кушанья. А изыскав, поедают с урчанием: «Урм! Урм!» И отсюда рождается звукоподражательное слово «гурман» — человек, которому не хватает обычной еды.
— Между прочим, умереть с голоду — вовсе не фигура речи, люди действительно были смертными и, прожив некоторое время, старились и умирали от какой-нибудь ничтожной причины
По инерции Верис еще воображал фигуру речи: когда некто произносит речь, но слов в ней нет, и вместо смысла слушатель видит фигу. Затем сознания достигла вторая часть фразы.
— Погоди, — сказал Верис, — но ведь ген старости так легко убирается в пренатальный период. Когда человек уже родился и осознал себя, генные модификации недопустимы, но в пренатальный-то период!..
— Не знаю. Может быть, они просто не умели исправлять собственный генофонд. Они очень многого не умели, и в мире не было ничего, что могло бы их научить. Учиться приходилось самому, без помощи программы, и это тоже было делом. Это сейчас мы учимся играючи, а прежде обучающих программ не было, до всего изволь доходить своей головой. Люди не владели телекинезом и не умели пробивать внепространственные туннели, а значит, в бесконечной вселенной им не хватало места. И, конечно же, им не хватало энергии и вообще всего на свете. Добывать жизненно-необходимые ресурсы и значило — заниматься делом. А то, чем занимаемся мы — игра, отдых, развлечение и просто маета. Еще было искусство — созидание лишнего при острой нехватке необходимого. Изо всех дел именно искусство продержалось дольше других, но в конце концов изныло и оно. То, что дается слишком легко — никому не нужно. То же самое — и любовь. Ты лучше меня знаешь, с какими словами она в родстве, но прежде любовь была наиважнейшим делом, а теперь это игра. Смешно сказать, но сексуальные отношения требовались не для удовольствия, а для продолжения рода. Других способов заводить детей люди просто не знали А без потомков они обойтись не могли, ведь люди были смертны, и если бы не появление новых детей, человечество очень скоро вымерло бы. Ты представить не можешь, что значит быть смертным
— Могу, — сказал Верис.
— Ой, не городи ерунды! Собственную смерть представить невозможно. Конечно, мы все конечны, но до сих пор еще никому не удалось покончить с собой. Во всяком случае за последнее тысячелетие, если кто и сумел такое сделать, остальные об этом не знают. Так что люди теряют интерес к жизни, но продолжают жить.
— Пожалуй, ты права, — запоздало согласился Верис. — Собственную смерть представить невозможно. Это не по силам даже смертному.
— Так вот, — не слушая, продолжала Линда. — Смертный человек обязан был родить и воспитать детей, иначе жизнь его теряла смысл. И для этого была нужна любовь. Не только любовь между мужчиной и женщиной, тут можно обойтись одной физиологией, но любовь родителей к детям и детей к родителям. Ты небось о такой и не слыхал.
— Да, не слыхал, — с горечью произнес Верис.
— Это было нужно для правильной смены поколений, а сейчас отмерло за ненадобностью. Какая смена поколений, если все бессмертны? Через тысячу лет разница в несколько десятилетий сотрется. К тому же любящие теперь не должны заботиться друг о друге — у всех есть все. А значит, нет любви в том виде, как ее понимали древние. Остались только постельные забавы, а это не та вещь, из-за которой стоит портить себе настроение. Так что улыбнись и пошли отсюда.
Верис кивнул и старательно выдавил улыбку. Только сейчас он заметил, что, слушая и даже отвечая Линде, он совершенно не анализировал значение слов. И, значит, вся Линдина речь могла быть понята неправильно и обратиться в фигуру речи.
— Пошли скорей, — торопила Линда.
— Я еще посижу, — сказал Верис. — Мне надо подумать.
— Давай, думай. Дело полезное. Но учти, как только я соскучусь, а это случится скоро, я тебя отыщу, и тогда ты так легко от меня не избавишься. Поэтому думай в ритме вальса.
* * *
Ах, эти пряталки, ах, эти хоронушки! Все, что было серьезного, теперь — игра, значит, былая игра стала делом серьезным. Уйти ото всех и жить одному, как и сколько получится, — мысль немудреная, но другой в ритме вальса не изобрести.
Изобрести бродить беспрестанно по одним и тем же местам и мыслям — и изобрести. Изобретение — дитя бездумного повторения нерешаемой задачи.
Покидая промерзший планетоид, Верис оглянулся и узнал, что этот мир принадлежит Верису Гольцу, и что он просит не нарушать его уединения. Одно дело — просить, совсем иное — получить просимое. Верис получил уже много непрошенного.
И еще. Казалось бы, очевидно, что у него та же фамилия, что и у мамы, но все же напоминание об этом неприятно резануло душу. Не хотелось иметь с Гэллой Гольц ничего общего.
Верис попытался понять происхождение странной фамилии. Гольц — голый, обнаженный, открытый для других. К нему это, может, и подходит, но мама всегда была закрыта для Вериса. Ее имя верней происходит от «голец» — одинокий камень в бурном русле реки, о который разбивается ведомая неопытным гребцом лодка.
Вроде бы все сходится, но не избавиться от ощущения ложной этимологии. Тянет от краткого сочетания звуков неизбывной чужеродностью.
Великий язык Владимира Даля один, второго быть не может. Это живой великорусский язык. Есть еще мертвые языки, на которых никто никогда не говорил: латынь, греческий, иврит и санскрит — странные артефакты, эгрегоры, измышленные филологами для обоснования особо причудливых теорий. Есть язык немецкий, самое название которого показывает, что это и вовсе не язык. Могут ли говорить немые? Верис предполагал, что это система мимических знаков, жестикуляции, возможно — графических знаков (есть гипотеза, что такие существовали когда-то, но были вытеснены устной речью). Во всяком случае немецкий — язык лишь по названию, ибо в настоящем языке важны звуки, издаваемые голосовыми связками. А у немых немцев именно с голосом и непорядок.
Наконец, порой можно услышать россказни об английском языке. С этим все понятно. Корень «гл» — гласить, глаголать — и отрицательная приставка «ан». Англ — то, что не глаголет, не говорит. Пародия на язык, куча бессмысленных выкриков, всевозможных «тип-топ», «йес» и «вау». И никак не избавиться от ощущения, что изражение «Верис Гольц» выползло из подобной свалки.
Верис стер предупреждение, чтобы всякий желающий мог, если захочет, безвозбранно сидеть на ледяном песке планетоида.
Теперь оставалось сделать так, чтобы Линда не смогла отыскать его, когда соскучится по забавам — постельным или общественно-развлекательным — не суть важно. Предстояло схорониться, словно тебя уже схоронили, и вопреки всему попытаться наладить жизнь. Построить своими руками дом
Мечты, мечты, где ваша сладость? Как глупо все кончилось!
* * *
Привет, Верька!
Ну ладно, все, сдаюсь. Не могу понять, куда ты задевался, и как тебя искать. Так что вылезай, а то не по правилам получается. Хочешь, я при всех признаюсь, что ты меня обошел? А ты будешь гордиться и никому своего секрета не раскрывать. Лады?
В самом деле, Верька, мне почему-то очень тебя не хватает, сама не знаю почему.
А Томика я отшила. Надоел он мне — сил нет. Да и ему полезно будет, пусть пострадает, а то и вовсе забудет, что такое человеческие чувства.
Я понимаю, Верька, мне, наверное, тоже полезно пострадать, но, может быть, уже хватит? Я вправду соскучилась.
Линда.Глава 2
Раб это тот, кто работает. Работник — тоже тот, кто работает. А работа, как явствует из курса физики, — сила, умноженная на расстояние. И если дело не двигается, то нет и работы. Упрись лбом в стену и хоть надсадись от натуги, работы в твоих стараниях ноль. Значит, и раб, и работник должны что-то двигать. Но при этом рабский труд непроизводителен; мала мощность, то есть количество работы в единицу времени. Такие выводы делаются из межпредметных связей, в данном случае между историей древнего мира и основами физики. А связывает их филология — лингвистическая цепочка: раб — работа — работник.
Человек, встретившийся Верису на берегу, вполне попадал под определение раба: производил некую деятельность и был очень маломощным. В руках он сжимал орудие, которым шуровал в воде, выволакивая на песок ломкие стебли водорослей.
Верис не мог понять, что за инструмент применяет в работе раб. Прежде достаточно было вглядеться в незнакомый предмет, и ты получал доступ к любой информации, касающейся этого предмета. Разумеется, первым среди информации было название. Но теперь приходилось полагаться только на собственную память. Такова плата за невидимость. Тебя не видит ни служба спасения, ни иные службы, но и ты не видишь никаких служб, в том числе — информационных. Решившись на такое, Верис выпал из состава человечества и был теперь просто биологической особью, единицей, стремящейся к нулю. Математика утверждает, что подобное невозможно, поскольку постоянная величина не может никуда стремиться. Впрочем, мало ли, что утверждает глупая математика. Уже древний мудрец знал: «Единица — ноль! Кому она нужна?» Верис был не очень нужен даже самому себе.
И все же, как называется рабский инструмент? В памяти всплыло слово «грабли», но Верис отверг его. Грабить — разбойным образом отнимать чужое добро, значит, грабли орудие нападения, а вовсе не мирного труда. Подобное толкование ничуть не противоречит Далю, у которого сказано, что «грабли — маленькая ручная борона». Борона — боронить, оборонять — несомненно, это орудие защиты от грабежа. Следовательно, с помощью граблей можно как нападать, так и защищаться от нападения. Но уж никак не выволакивать на сушу морскую траву.
Незнакомец сгребает водоросли. Так, может быть, у него в руках гребло? Или чем еще гребут? — весло?..
Верис хлопнул себя по лбу и рассмеялся. Он нашел нужное слово. Невод! Ведь сказано: «Пришел невод с травою морскою». И происхождение термина очевидно: не-вод. Забрасываем его в море и вытаскиваем оттуда все, кроме воды.
Верис внутренне собрался и пошел проверять свои предположения.
— Здравствуйте, добрый день, — сказал он.
Работник опустил свой невод и безо всякого выражения уставился на Вериса.
Пожалуй, это все же не работник, а раб. И дело даже не в том, что труд его малопроизводителен. Работник, по аналогии с охотником, — тот, кто работает по собственному желанию, с удовольствием. А этот остановился и стоит столбом.
— Простите, что помешал. Я хотел узнать, как называется ваш инструмент.
— А, — сказано так, что не понять, ответили Верису, переспросили, или просто несостоявшийся собеседник выдохнул воздух.
— Ведь это невод, правда?
Человек оперся о рукоять невода, приготовившись, судя по всему, стоять долго.
— Вы разговаривать умеете?
— А?..
Сомнений больше не было. Это не работник, а раб. Вспомнилась древняя речевка: «Мы не рабы! Рабы — немы!» Бедняга не умеет говорить, он нем, немец. Другое название немца — германец, тот, чей разум герметически замкнулся в себе из-за невозможности говорить с другими людьми.
И все же Верис не сдавался.
— Это что? — елико можно упростил он вопрос.
— Вот, — сказал немец.
Он перехватил рукоять поудобнее и вновь принялся грести.
Понимая, что делает недопустимое, Верис попытался войти с человеком в ментальный контакт. Неожиданно это получилось очень легко. Раб оказался привычно раскрыт для любого воздействия извне. Кажется, в нем не оставалось ничего собственного, даже ощущение натертой ноги и привычное чувство голода тонули в волнах радости и довольства.
— Ого! Ого-го! Ух, ты!.. — для передачи эмоций, захлестывающих душу раба, других слов не требовалось. И как называется его инструмент, он не знал: эта нувот — без пяти минут инглиш. Или — пиджин? — Верис не мог вспомнить, как жалкая пародия на язык называет сама себя.
Из-за прибрежного холма показался второй раб. Этот нес за плечами большой плетеный короб. Верис удовлетворенно улыбнулся. На этот раз он точно знал и наименование предмета, и его назначение. С полгода назад его внимание привлекла изящная идиома: «Наплести с три короба». Короба действительно плетутся из лозы, лучины или щепы. Но почему считается, что можно сплести два короба, но нельзя три? Вопрос этот задают лишь люди, потерявшие предлог. Неважно, что плетеный короб называется плетухой, сейчас речь идет не о том, что плетут сам короб, а что в нем находится нечто плетеное: плетушки, плетеницы, плети или переплеты. Такой короб можно взвалить на спину и отнести в потребное место. При желании второй короб можно нести на груди. Но ежели кто наплел с три короба, этого один человек вынести не может, третий короб, даже если он не тяжел, пристроить некуда.
А ведь плести можно не только плетни и плетки, но и слова. «Хитрости словоплетения» — так говорится о причудливых, запутанных, сказочных историях. «Суворов мне родня, а я плету стихи», — сказал величайший стихоплет былых времен. И когда рассказчик путается в извивах собственной истории, так что слушатель перестает верить, о таком тоже говорят: «наплел с три короба», — хотя плетеной коробки с лямками у завравшегося сказочника нет и в заводе.
Между тем (есть темы для размышления, а между этих тем еще и события происходят), так вот, между тем второй раб скинул короб, вытащил оттуда небольшой сверток, отдал товарищу (товарищ — тот, кто делает с тобой общую работу, производит один товар), а сам принялся упихивать в короб добытые из моря водоросли.
В воде росли водоросли, А вы гребли и выгребли.Верис с удовольствием продекламировал строки, что сами собой сплелись в мозгу, а потом пошел смотреть.
Первый раб сидел на песке и ел. Судя по тому, что совсем недавно наступил полдень, он полдничал.
Верис принюхался и скривился. Гадость страшенная! Такое не то что в рот засунуть — мимо пройти страшно.
Уже понимая, что ответа не получит, Верис сразу сунулся в ощущения бессловесной твари. Там царило прежнее благорастворение воздухов. Немцу чудилось, будто он сидит в удобном кресле под сенью дерева и вкушает нечто изумительное.
«Ух, ты! Ням-ням-ням!.. Вкуснотища! Кайф».
Вот оно, прямое доказательство, что мысли и даже ощущения лгут, а правдивы лишь слова.
— Почему? — выкрикнул Верис. — Это же неправда!
Наверное, не надо было этого делать, особенно находясь в ментальном контакте с рабом. Работяга разом ощутил, как свербят разъеденные соленой водой ноги, почувствовал тяжесть в усталых руках. Вместо аромата незнакомых яств на него пахнуло смрадом дрожжевой массы, которую он только что с таким аппетитом поедал. Несчастный вывалил свою пайку в песок и, спотыкаясь, захромал прочь. На ходу он громко хныкал и порой выкрикивал:
— Облом! Ой-е! Облом!
Второй раб даже не оглянулся. Он кончил набивать короб (почему — набивать? — он ничего не бил, а лишь упихивал водоросли плотнее), взвалил его на спину (опять же — почему взвалил? — короб никуда не валился) и бодрой рысцой последовал за товарищем.
«Оп-оп! Оп-оп! Ух, ты! Во, кайф!» — звучало в его мозгу.
Верис пожал плечами, подобрал брошенный инструмент и отправился следом за бежавшими рабами.
За холмом началась вполне обжитая местность. Кучились строения, ничуть не напоминавшие дом, но, несомненно, приспособленные для жилья. Остальная площадь была поделена на квадратики, и там зеленела какая-то растительность.
Верис потянул носом и направился к тому из бараков, который смердел менее прочих.
В эту самую минуту оттуда выскочили еще два человека. Уж эти-то точно не были рабами! Поздоровей были, поупитанней, можно бы сказать — помощней, но никакой осмысленной работы они не выполняли. Просто торопились к Верису, — Оп-оп! Оп-оп! — а собственные их мысли были весьма кровожадны. В руках оба сжимали предметы, которые Верис идентифицировал как стрелялки из детской виртуальной игры в войнушку. Вот только ни детством, ни виртуальностью здесь и не пахло. Разве что игрой самого дурного свойства.
— Стоять! — крикнул первый, направив стрелялку в живот Верису, а второй добавил непонятно, не иначе, по-английски:
— Хенде хох!
— Видишь же, стою, — сказал Верис тому стражнику, что, кажется, умел говорить, и уронил на землю маленькую ручную борону, чтобы страж не подумал, будто Верис собирается обороняться, и не нажал на спусковой крючок.
* * *
— Ты что делаешь? — спросил Верис.
— Читаю, — откликнулась Анита. Она перевела взгляд с пластиковых листов на Вериса и в свою очередь спросила: — А ты читать умеешь?
— Конечно, — ответил Верис.
Он ничуть не удивился. Если бывают люди, которые не умеют разговаривать, а значит — и мыслить, то могут быть и такие, что читать не умеют. В этом плане привычный ответ: «Конечно», — оказывается не вполне верным. Это прежде Верис полагал, что неумение читать является конечной стадией деградации. Теперь он знал, что можно не уметь говорить и при этом походить на человека. Впрочем, Анита немцев за людей не считала, называя их кучниками. Верис не любил неологизмов, но раз есть новое явление, значит, должен быть и неологизм.
— Ну-ка, прочти, что здесь написано, — предложила Анита, протянув Верису один из листов.
Совсем недавно Верису довелось видеть огромное количество подобных предметов, и он знал, что это архаический носитель информации. Тогда у него не нашлось времени остановиться и внимательней рассмотреть странные штучки, и теперь он впервые взглянул на листок вблизи, забыв, что у него нет больше доступа к информационным программам и, значит, до всего придется доходить собственным разумом.
«Придется доходить» — ходить вслепую, пока случайно не дойдешь. «Собственный разум» — тоже не тавтология, прежде ему помогал искусственный интеллект программы, а теперь — изволь управляться в одиночку с помощью того разума, что имеется в голове.
Ничто на листе не указывало, как можно запустить чтение. Обычный, тонкий лист пластика, покрытый маловразумительными значками. Если это пиктограммы, то примитивные, совершенно не указывающие, что следует делать с листом.
На одной стороне листа — рисунок: два человека странного вида стоят на берегу моря или озера. А неподалеку — крытая нора. Не изба, не дом, а несомненная нора, предназначенная для чего угодно, но не для жизни.
Смутно вспомнилось, что прежде для материальных носителей информации практиковалось сенсорное управление. Верис поелозил по листу пальцами, но и теперь ничего не включилось.
— Не знаю, как ее запустить, — признался Верис, возвращая лист.
Именно так: признал, что не знает. Незнание, таким образом, становится формой знания.
— Эх, ты! — усмехнулась Анита. — А говорил, читать умеешь. Вот, смотри
Анита повернула лист той стороной, где теснились значки, и, ведя пальцем по строкам, громко произнесла:
Жил старик со своею старухой У самого синего моря; Они жили в ветхой землянке Ровно тридцать лет и три года.— Так я это знаю! — воскликнул Верис. — Это русская народная сказка. Там дальше: «Старик ловил неводом рыбу». Я недавно вспоминал эту сказку, когда увидел настоящий невод.
— Точно! — подхватила Анита. — Вот и картинка: старик невод держит, рядом сидит старуха, а перед нею разбитое корыто.
Теперь Верис глянул на рисунок осмысленным взором. Прежде всего он понял, что предмет, с помощью которого трудился раб, он определил доне́льзя неверно; старик держал в руках нечто совсем другое. Затем столь же внимательно Верис принялся рассматривать фигуры. Прежде ему не приходила в голову простая мысль, что старик и старуха могут иметь вполне конкретный вид. В его представлении это были сказочные архетипы, такие же, как Иван-дурак, он же — Иван-царевич (царевич — это дурак, которому не надо добывать коня, добрый конь имеется у него изначально) или разнообразные волшебные помощники. Теперь припомнилось, что сказки, которые рассказывала программа, сопровождались движущимися картинками, куда можно было войти и даже переиначить сказку на свой лад. Но Верис очень рано постиг самоценность живого слова и поэтому, читая книги, всегда отключал изображение, слушая чистые голоса. Изображение мешало ему, тем более что все персонажи были на одно лицо, а вернее — на два: доброе и злое. Царя можно отличить по короне, царевича — тоже по короне, но меньших размеров, у дурака на голове красовался колпак, у Красной Шапочки — беретик, у старухи — платочек, а старика отличали белые волосы на подбородке. А в остальном он был такой же молодой и румяный, как и все прочие. Что касается людей, изображенных на картинке, они были согнуты, морщинисты и ничуть не жизнерадостны.
— Это и есть старик? — спросил Верис.
— Старик, — подтвердила Анита. — Видишь, какой дряхленький? — скоро помрет.
Помрет мереть мора. А если вместе с морой, то — смерть. Все правильно, народные сказки сочинялись в те баснословные времена, когда люди были смертными. Вот, значит, каков бывает человек незадолго до конца.
Последнее филологическое изыскание, которое провел Верис, пока имел доступ к информационным службам, касалось как раз этого вопроса. Замшелая, древняя информация, ненужная вечно юным людям. Но как много ее было! В память особо запала фраза: «Один умрет — как свечечка погаснет, а над иным смертынька так работает, инда смотреть больно». На старика и старуху было больно смотреть.
— Ты не молчи, — напомнила о себе Анита, — а признавайся, что соврал. Читать ты не умеешь.
— Хорошо, пусть не умею. Но все-таки как ее запускают?
— Зачем ее запускать? Берешь и читаешь. Вот, смотри, это буква «ж», она похожа на жука — ножки во все стороны. Ж-ж!.. Как видишь эту букву, сразу произносишь: «Ж!»
— А читает кто? — продолжал допытываться Верис.
— Ты сам и читаешь, — ответ Вериса не удовлетворил, но он покуда не стал допытываться полнее.
— Вот это — буква «и», — продолжила урок Анита. — Ну-ка, покажи, где тут еще буква «и»?
«Гласная И, — вспомнил Верис, — а ее, оказывается, можно не только возглашать, но и рисовать».
Идея рисованных слов потрясла Вериса. Безо всяких картинок, без чужого голоса, напрямую. Слово в чистом виде! Здесь, среди дикарей найти такое великое умение! А он-то, встречая прежде упоминания о знаковом письме, искренне полагал, что это примитив, не заслуживающий внимания!
— А если я сам нарисую букву? — спросил Верис.
— Не нарисую, а напишу. Вот, смотри, — Анита пальцем начертила на земляном полу несколько знаков. — Ну-ка, скажи, что здесь написано?
— Тут только одна буква знакомая, — сказал Верис. — Вот «и», как раз посредине.
— Правильно. Здесь написано: «Анита». Ты буквы-то запоминай. Как все запомнишь, так и читать научишься.
— Я их и так помню, только не знаю, как они пишутся.
— Чудно́, — заметила Анита, но возражать не стала. — Если знаешь, то называй буквы, а я буду их тебе писать.
— Буквы делятся на гласные и согласные, — начал Верис. — Согласные бывают губные, переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные. Есть еще увулярные, фарингальные и гортанные, но это не самостоятельные фонемы, а признак эмоционально окрашенной речи
— Ты чего-то очень умное говоришь, — перебила Анита, — а я просила буквы.
— Так я и говорю: губные: бэ, вэ, эм, пэ, эф; переднеязычные: дэ, зэ, эл, эн, эр, эс, тэ, це
— Хватит пока. Вот, смотри, это буква «тэ». Она — как две палки. Вот слово «ты», вот слово «тетя» — везде в начале буква «тэ».
— Как это? В слове «ты» буква твердая, переднеязычная, а в «тете» — мягкая и среднеязычная. Совершенно разные фонемы.
— Не знаю, какие уж там фонемы, а буква одна и та же.
Верис задумался. Буква одна, а фонемы и, значит, оттенки смысла, разные. Теперь становилась понятна одна из загадок языка. Словосочетание «буква закона» подразумевает абсолютно точное исполнение чего-либо, но совершенно не согласуется с поговоркой: «Закон что дышло, как повернешь, так и вышло». А на самом деле никакого противоречия нет. Буква закона неизменна, но прочесть ее можно по-разному: мягко или твердо, со свистом или придыханием. И нет ли в нежном, проникновенном придыхании связи с непонятным термином «дышло»? А что, «проникновенное дышло» — звучит неплохо.
— Опять уплыл? — спросила Анита. — Давай, на землю возвращайся.
— Задумался немного, — извиняющимся тоном проговорил Верис. Он окинул взглядом Анитины письмена и добавил: — Но ведь кто-нибудь пройдет и, не заметив, затопчет все, что ты написала.
— И что с того? Этих каракулей не жалко. Навозила, как кура лапой. Да и смысла в этих словах немного. Вот книги — иное дело, — Анита осторожно переложила плотные, покрытые рядами букв листы, — видишь, это и есть книги. Их в прежние времена делали, а сейчас так никто не умеет. Зато им и сноса нет. Настоящую старую книгу ни порвать нельзя, ни сжечь — ничто ее не берет. Их только потерять можно. Вот и растеряли почти все за тысячу лет. Теперь их берегут, а толку? Их так мало осталось.
Верис вспомнил бесконечное количество белых пластиковых листов, густо испещренных знаками, вглядеться в которые у него не было времени. Листы россыпью и собранные в тяжелые тома. Все это громоздилось кучами, толстым слоем устилало полы. Рисунки, диаграммы, графики и бесконечное количество слов, записанных буквами, о чем в ту пору Верис и не подозревал. Надо было остановиться, задуматься, спросить: «Что это?» — а его интересовало иное: «Что происходит?»
Транспортный центр, местами оживленный, местами пустынный, но всегда опрятный, теперь поражал невероятным беспорядком и разгромом. Обычно в библиотеке (именно так называлось книгохранилище) не бывало никого, и сам Верис впервые сунулся туда, вовсе не собираясь копаться в архаичной информации. Это оказалось место, куда десятилетиями не заходил никто, и два дня назад Верис спрятал там свой жетон.
Кстати, в словарях можно найти упоминание, что жетон — металлический кружок («кружок», вероятно, от слова «жесть»), используемый в каких-то играх или носимый в память о каком-то событии. Последнее время Верис начал плохо относиться к играм и с большой неохотой вспоминать о былом. Но жетон был спрятан не из-за истинного смысла слова, а только для того, чтобы никто не сумел связаться с Верисом и помешать ему строить дом.
Современный жетон — вовсе не кружок, и уж тем более не металлический. Это средство связи, дополнительная оперативная память и много чего еще. Собственная система безопасности дублирует все эти функции, но с жетоном — удобнее. Некоторые вживляют жетон под кожу, благо что истинные его размеры очень малы, другие оформляют в виде украшения или амулетика, а некоторые впрямую подключают к мозгу наподобие чипа. Подобных изысков Верис был чужд, его жетон был вмонтирован в медальон голубого металла размером с ноготь и висел на цепочке. Бывало, в задумчивости Верис грыз его, но голубой металл зубам не поддавался.
Решив уйти ото всех, Верис снял жетон, но так просто выкинуть не смог, а спрятал в библиотеке на одном из стеллажей, позади самой толстой книги. Место он выбрал потому, что, коснувшись двери, узнал, что в устаревшем хранилище информации последний посетитель был полтораста лет назад. Да и то, как догадывался Верис, никакой информации он здесь не искал, а просто шатался, сам не зная зачем.
Потерпев фиаско со строительством дома, Верис взялся за дело всерьез, а для этого вновь потребовался жетон.
По переходам Транспортного центра Верис шел, не замечая перемен, которые произошли за последние два дня. Прежде полированные стены — густо исцарапаны, вечная мебель в пустых залах — изломана. Однако признаки разрушения проходили мимо сознания, занятого куда более важными проблемами.
В словаре иностранных слов (слов иных и странных) написано, что фиаско (или фиаска) — двухлитровая стеклянная бутыль, но также и неуспех, неудача, провал. Вряд ли это омонимы, для странных слов омонимия не характерна. К тому же совсем недавно Верис разыскал посвященный этому слову анекдот, то есть — рассказ о реальном событии, живописующий нравы. Действие анекдота происходило в недавние времена, когда люди уже не имели дела и ждали, что кто-нибудь начнет их развлекать. Жил в ту пору некий паяц — человек, профессионально развлекающий других. Однажды он вышел на арену с фиаской в руках, объявил, что сейчас залезет в нее, и принялся представлять, как это можно сделать. Однако пантомима успеха не имела, никто не смеялся. Следовало смириться с неудачей и поскорей уйти, но клоун начал упорствовать и продолжал лезть в бутылку. Выступление закончилось крахом, а язык обогатился двумя идиоматическими выражениями: «потерпеть фиаско» и «лезть в бутылку».
Историю эту часть исследователей упорно связывает с гипотетическим существованием некоего итальянского языка. Мол, и фиаско, и паяц — слова итальянские. На самом деле прилагательное «итальянский» означает — принадлежащий Талии — музе комедии. Отдельного итальянского языка никогда не было, это часть русского языка, куда входят музыкальные и комедийные термины.
Проблема стеклянной бутылки фиаски как театрального термина достаточно интересна, Верис шагал, глубоко задумавшись, и лишь зайдя в библиотеку, остановился, пораженный царящим разгромом.
Из-за ближайшего стеллажа выскочил невиданный прежде человек. Хотя человек ли то был? Руки с огромными когтями, в пасти (ртом это назвать невозможно) — острейшие клыки. Больше всего он напоминал дьявола со старинной гравюры, видимо, в стародавние времена мода тоже выкидывала удивительные фортели, заставляя людей отращивать себе рога и копыта.
— Руки — чтобы рушить! — возопил незнакомец, — а пехи — чтобы пхать!
Он пхнул разом покосившийся стеллаж, выхватил из потока рушащихся книг первую попавшуюся, рванул когтями. Сверхпрочный пластик выдержал рывок. Ряженый дьявол зарычал, вцепился в книгу зубами и рванул вторично, разодрав все листы разом.
В иной ситуации Верис не преминул бы отметить, что разодрать можно только разом, в два приема можно двинуть, а в четыре — четвертовать. Но сейчас он лишь спросил:
— Зачем?
— А зубы — чтобы зубрить, — сообщил варвар.
Только теперь Верис сообразил, что это его недавняя лекция послужила толчком к вакханалии разрушения. Все-таки филология — могучая сила, но нам и впрямь не дано предугадать, чем наше слово отзовется.
Верис не стал рассказывать Аните о событиях, невольным виновником которых он стал, сказал лишь:
— Если очень постараться, то порвать книгу можно. Я такое видал. Только я не знал, что это книга, и не стал вмешиваться.
— А в результате целых книг почти не осталось, — в словах Аниты заметно ощущалась горечь, — все больше — отдельные листы. Вот и эта сказка обрывается на полуслове. Попросил старик у рыбки новую избу, а чем дело кончилось — никто не знает.
— Я знаю. Я эту сказку с детства наизусть помню.
— Правда? А рассказать можешь? Ты будешь рассказывать, а я — записывать.
— А потом кто-нибудь пройдет и затопчет всю сказку.
— Так я не на земле буду писать, а на куске кожи. Вороньим пером. Конечно, получится не настоящая книга, но все-таки немножко подержится. Знаешь, как говорят: «Что написано пером, не вырубишь топором».
— Знаю, — сказал Верис, — только прежде я толковал эту пословицу самым ошибочным образом. А сказка — вот она:
Жил старик со своею старухой у самого синего моря…* * *
Как можно найти человека, если он не хочет, чтобы его нашли?
Поначалу Верис полагал, что достаточно избавиться от жетона — и дело сделано, с ним будет невозможно связаться обычным образом. Ищи потеряшку среди миллиардов людей на триллионах галактик. Однако оказалось, что можно, воспользовавшись службой спасения, за несколько минут найти человека, лишенного обычных средств связи.
Значит, предстояло избавиться от опеки службы, о существовании которой Верис как бы знал, но не придавал ей никакого значения.
Вроде бы хорошее слово опека, тем не менее исконное значение выявляет истинный его смысл. «Опекать» — печь аккуратно, следя, чтобы продукт не подгорел и пропекался равномерно со всех сторон. Первым известным из мифологии опекуном была баба-Яга, пытавшаяся засунуть Ивашку в печь.
Неудивительно, что самый толерантный человек рано или поздно старается от опеки избавиться.
Чтобы обмануть программу, прежде всего надо узнать, как она действует. Верис пошел привычным путем, взявшись за историю вопроса.
Служба спасения создана в те времена, когда собственная система безопасности еще не существовала либо была настолько примитивной, что не могла гарантировать комфортное существование человека в любых, самых непредсказуемых ситуациях.
Какие опасности могли угрожать дикарям, не умеющим путешествовать среди звезд? Достаточно произнести слово «опасность» медленно и вдумчиво, чтобы язык сам собой выговорил: «опастность». Хищная звериная пасть — единственная угроза жизни человека в ту эпоху. Должно быть, первые системы безопасности создавали слабенькое силовое поле, предохраняющее охотника на мамонтов от зубов махайродов, гиенодонтов и иной вымершей фауны. Разумеется, подобное убожество не устраивало людей, вырвавшихся на просторы вселенной, но сразу создать систему, способную адекватно реагировать на неизвестные угрозы, люди не умели. Тогда и была создана служба спасения, аккумулировавшая невиданные по тем временам мощности. Собственной системе безопасности, попавшей в тяжкое положение, достаточно было послать сигнал бедствия и продержаться несколько секунд, после чего на помощь приходила вся мощь повзрослевшего человечества.
А если собственная система была сметена прежде, чем успевала попросить помощи, службу спасения мог вызвать любой человек, узнавший о катастрофе или заподозривший ее возможность. Тогда служба спасения осуществляла сканирование пространства в поисках остатков разрушенной системы безопасности и непременно их находила, поскольку бесследно ничто не исчезает, даже оказавшись в центре сверхновой. На внепространственное сканирование обитаемой вселенной уходило несколько секунд времени и количество энергии, достаточное, чтобы эту сверхновую пригасить.
Главное, что выяснил Верис в результате своих изысканий, что служба спасения ищет не человека, которого практически невозможно найти, а автономную систему безопасности.
Парадокс: достаточно стать уязвимым для внешнего воздействия, и тебя никто не станет спасать.
«Уязвимый» — тот, на ком образуются язвы. А если в душе — сплошная язва, стоит ли заботиться о неуязвимости тела?
С легкой душой Верис отдал приказ об отключении собственной системы безопасности — и получил отказ. Транспортный центр является зоной повышенного риска, система безопасности отключена быть не может.
Вновь и вновь Верис повторял свои попытки. В зонах отдыха и на планетах, где спокон века жили десятки тысяч людей. Всюду следовал отказ: космос — не то место, где хрупкий человеческий организм может чувствовать себя в безопасности. А вдруг споткнешься, а вдруг оцарапаешься, а вдруг нырнешь в теплое ласковое море и забудешь вынырнуть? Сто миллионов бед поджидает человека, вздумавшего разорвать невидимую связь со службой спасения. Программа лучше знает, как следует жить. И потому — отказ.
Отказ, приказ, указ — корень повсюду один, тот самый, что в слове «казаться». Человеку кажется, будто он хозяин положения, на самом деле его кормит, учит, нянчит и тетешкает раз и навсегда заданная программа. Под мудрым присмотром всякое дело становится игрой. Играй, малыш, в пределах дозволенного, сто, и тысячу, и сто тысяч лет. Вмерзай в айсберги, устраивай кучу-малу, отращивай когти и сталкивай галактики — это все игра. Впрочем, без присмотра спасительной программы тоже получится игра, только опасная, чреватая большой кровью и разрушениями. Руки даны людям, чтобы рушить, сами по себе они создавать не умеют, постройка дома — тому доказательство. Создавать может только программа, да и то без приказа она не станет делать ничего нового. Без приказа программа способна поддерживать порядок и чинить порушенное, да и то — до поры. А настанет пора, и все порушится; бессмертные играющие люди вдруг обнаружат себя голыми и беззащитными. Счастлив, кто не доживет до этой поры.
Но покуда ремонтные системы поправляли поломанное и наводили порядок в помещениях, по которым прокатилась волна когтистых и зубастых человеков. В библиотеке поднимались опрокинутые стеллажи, расставлялись по полкам разорванные вечные книги. Делалось все так, чтобы не мешать Верису. Если бы библиотечная система умела чувствовать, она была бы счастлива в эту минуту. Наконец-то пришел человек, не праздный зевака и не безмысленный вандал, а настоящий посетитель. Неважно, что он не коснулся ни единого тома, но он не болтается, ища, куда себя приткнуть, а посылает запросы, размышляет над полученной информацией, делом занимается, каким и следует заниматься в библиотеке. Недаром библиотека — часть справочной службы, пусть даже малая и устаревшая.
Справочная служба: если что-то в жизни неисправно — обращайся туда — и все справишь, как следует быть. Наверное, в справочниках имеются ответы не на все вопросы бытия, но очень на многие. Надо лишь уметь пользоваться справочником и точно формулировать суть проблемы. К сожалению, для абсолютного большинства частица «лишь» — синоним слову «лишнее».
Посылаем запрос: «Как отключить собственную систему безопасности?» Получаем ответ, содержащий последовательность действий. Совершаем действия в указанном порядке и получаем отказ. Разгромленная библиотека — зона повышенного риска, собственная система безопасности не позволяет себя отключить, блокируя неразумный приказ.
Тупик? Да, тупик, но только для тупого пользователя. Остроумный человек (имеющий острый ум) понимает, что проблема поставлена некорректно, и начинает искать обходные пути.
Запрос: «Каковы условия, в которых человек находится вне зоны риска?»
Ответ: «Человек находится в безопасности, только пребывая в естественной среде обитания. Естественной средой обитания человека является планета Земля. Все остальные места — потенциально опасны».
* * *
— Стоять! Хенде хох! — здоровенный дядька, зачем-то отрастивший на лице множество спутанных волос, стоял, с самым решительным видом направляя убийственную стрелялку в живот Верису.
— Видишь же, стою, — сказал Верис и добавил со вздохом: — Ничего себе естественная среда обитания — шагу нельзя шагнуть, чтобы кто-нибудь не попытался проткнуть тебя насквозь.
— Ты чо? — спросил бородатый, приопустив стрелялку. — Человек, что ли?
— Человек, конечно. Кто же еще? Или ты думал, я чудо-юдо морское?
В этимологических словарях сказано, что звукосочетание «юдо» — всего лишь рифмованное образование по образцу «чуда». С таким утверждением Верис был категорически не согласен. Это в английском псевдоязыке бытуют ублюдочные формы типа: «мумбо-юмбо», «тип-топ» или «чупа-чупс», великий и могучий русский язык к извращениям не склонен. И раз есть подобное сочетание, значит, у слова «юдо» должен быть смысл. При внимательном рассмотрении смысл и впрямь обнаруживается. Юдо оказывается производным от старорусского слова «уд», означавшего всякий удлиненный предмет, а применительно к живым существам — удлиненную часть тела, например, хвост. То есть чудо-юдо — это чудовище хвостатое. Под это определение подходит и чудо-юдо рыба-кит, и чудо-юдо царь морской, и даже сказочный змей-Горыныч, которого тоже порой называют чудом-юдом. Заодно становится понятно, почему бывает чудо-девица (без них — никуда) и не бывает чудо-юдо девицы. У Владимира Даля, правда, упомянуты чудо-юдо богатыри, явно лишенные хвостов, но тут, видимо, имеется в виду какая-нибудь другая удлиненная часть тела.
— Ты чо, уснул? — спросил бородач.
— Нет-нет, — спохватился Верис. — Просто задумался.
— Ты смотри, с этим делом аккуратнее. А то говоришь, как человек, а западаешь, словно кучник. А я ихнюю породу не выношу. Ну, пошли. Отведу тебя к старшим, пусть разбираются, кто ты таков и как сюда попал.
Что мог Верис сказать на это? Объяснить, кто он таков и как сюда попал? Тогда стрелялка будет немедленно пущена в ход. Для человека нет более опасного места, чем естественная среда обитания, в этом вопросе служба спасения ошибалась катастрофически. Чтобы выжить, Верису приходилось изворачиваться и не то чтобы лгать, но и правды не говорить. Совсем недавно Верис и помыслить не мог, что такое возможно. А теперь он произносил слова, но в результате получалась не истина, а заблуждение! Опытный филолог мог бы вскрыть подлинный смысл лукавых слов, но среди тех, кто встретился Верису за последние дни, филологов не было, люди принимали сказанное Верисом за чистую монету.
Странное словосочетание «чистая монета». Сохранившийся фрагмент великого словаря обрывается на слове «махавка», и о глубинном значении слова «монета» можно только догадываться, поскольку корня в этом слове нет. Префикс «моно» говорит о целостности (монолит) или о единичности (монолог), суффикс «-ет» сообщает о малости предмета (пистолет — маленькая пистоль, балет — маленький бал). В любом случае, «чистая монета» — цельная, беспримесная штучка. А в нынешних речах Вериса присутствовала некая примесь, не ложь, а, так сказать, лигатура. У этого слова, согласно Далю, два значения: дешевая примесь к драгоценному металлу и шелчинка для перевязки кровеносных, особенно боевых сосудов. В очередной раз жизнь доказала правоту творца русского языка: примесь недоговоренности к золоту слов оказалась средством, позволяющим Верису не истечь кровью.
Бородатый конвоир топал сзади и, не переставая, бубнил:
— Был бы ты кучник, я бы тебя на месте пристрелил, нечего кучникам у нас делать. Бац! — и лежи кучкой. А ты — не пойми кто, так что в отношении тебя у меня большое сомнение. Западаешь ты, право слово, а кто западает, тот уже не человек, а кукла бессловесная.
— Куклы бывают и говорящие, — заметил Верис.
— Вот и я о том же. Пристрелить тебя, что ли, от греха?..
— Не надо меня стрелять, столько уже прошли.
— Разве что, — согласился конвоир.
Когда Вериса конвоировали в прошлый раз, он пытался разговаривать с конвойными (кстати, в чем разница между конвойным и конвоиром?), но каждое сказанное слово вызывало в попрыгунчиках такое острое желание стрельнуть Верису в живот, что он почел за благо молчать. Вспомнилось озадачливое выражение: «Слово — серебро, молчание — золото». Здесь этот парадокс обретал несомненный смысл.
Единственное, что Верис знал, ступая на поверхность древней прародины, что если здесь имеются люди, им ни в коем случае нельзя говорить, откуда ты явился. Пришельцев на Земле не любят, и причины для того веские. Но оказалось, что еще больше земляне не любят друг друга, и тоже не без причины. Стражи-попрыгунчики, услыхав миролюбивые слова, с которыми обратился к ним Верис, немедля воспылали жаждой убийства точно так же, как неделю спустя бородатый стрелок исполнялся подозрительности, не слыша слов.
С попрыгунчиками удалось справиться просто. Верис по-хозяйски вломился в их распахнутые души, где собственного, почитай, не было ничего, и напомнил доблестным стражам, что приказ был не пристрелить, а найти и доставить. Внушать к себе симпатию или любовь Верис предусмотрительно не стал, понимая, что в девственном сознании немедленно произойдет запечатление, и двое со стрелялками начнут бродить за ним следом, взирать восторженными взглядами и хлюпать носами от умиления.
Как это может выглядеть, Верис неплохо представлял. На родной планете Вериса (мир принадлежал Гэлле Гольц, но и для Вериса он был родным, с этим ничего не поделаешь!) водились звери, которых малолетний Верис, только начавший постигать суть слов, назвал хавронами, за то, что, ужравшись, зверюги начинали дышать с присвистом: «Свин! Свин!» Были хавроны всеядными, но и хищничали с большим удовольствием. Увидав маленького человечка, хаврон издавал тягучий стон предвкушения и кидался на добычу. В детстве ему никто не объяснял, что делать этого не надо, потому что Вериса защищает программа и он совершенно неуязвим для клыков и огромных когтей, которыми одинаково удобно рвать живое мясо и выкапывать мучнистые корни. А вот Верис при желании может ударом кулачка вбить глупую хавронову башку в его же бездонный желудок.
Мочь — не обязательно хотеть. Давно сказано: «Хочу — половина могу», — обратное, вообще говоря, неверно. У системы безопасности достаточная мощность, вот Верис и может. А хочет он вне всякой зависимости от системы безопасности. Раз взглянув, как умирает убитый им зверь, Верис потерял охоту к кровавым забавам и развлекался другими способами. Например, внушал зверю самые нежные чувства к своей особе. Гора косматой плоти немедленно забывала о недавних намерениях, хаврон хвостиком таскался за пятилетним мальчуганом, утробно сопел, нежно взрыкивал, пытался лизнуть слюнявым языком и зловонно дышал в самое ухо. Неудивительно, что и это развлечение скоро прискучило, и повторять его в отношении двух безмозглых попрыгунчиков Верис не собирался.
Недолгий путь под конвоем закончился в строении, приспособленном для обитания. Иного определения Верис дать не мог. Бывают на свете озера, пруды и лужи, а бывают — безликие водоемы, которым иного поименования не положено. Это строение было столь же безликим, что и водоем, хотя, в отличие от хижин и казарм, мимо которых Вериса едва не проволокли, оно казалось вполне комфортабельным.
Комфорт — укрепленное место, крепость, твердыня — таково изначальное значение (как будто значение может быть не изначальным!). Человек чувствует себя комфортно, только когда знает, что никто не проделает в нем дыру при помощи стрелялки или другого протыкающего инструмента.
В такую комфортабельную твердыню и привели Вериса. Втолкнули в комнату резким пинком, так что Верис не удержался на ногах и растянулся перед человеком, сидящим в кресле. Судя по удовлетворению попрыгунчиков, именно так и следовало входить в эту комнату.
«Комната, камора, камера», — мысль Верис додумать не успел, почувствовав, как сидящий лезет в его голову, пытаясь понять, кого привели к нему. При этом он даже не потрудился спросить разрешения. Напор был так резок, что понадобилась вся сила воли, чтобы не раскрыться, подобно тому, как раскрывался он перед Гэллой Гольц.
Лежать ниц было неудобно, и хотя Верис чувствовал, что от него ждут покорного лежания, он поднял голову и спросил:
— Зачем?
— Поговори у меня! — проревел сидящий.
— Так я и говорю.
— Молчать! — это уже не человеческий голос, а словно зверь рявкнул. Верису было больно слушать издевательства над человеческой речью, и он, хотя и не любил этого, перешел на телепатическое общение. Беседовать телепатически — почти то же самое, что копаться в чужом сознании, но если не лезть куда не просят, можно не задавить собеседника, а обменяться с ним подобием информации.
«Зачем?» — вопросил Верис мысленно.
Очевидно, сидящий не ожидал мощного эмоционального посыла, потому что вскочил в смятении. Плед, покрывавший ноги был смят, и так же смят привычный настрой мысли. Это и называется — вскочить в смятении.
«Ты кто?» — вопрос задан скорей по инерции, ибо не этот набор эмоций предполагался изначально. Вместо гневных интонаций (мол, кто ты таков, что посмел?..) вопрос наполнился недоумением и испугом (кого это принесло на мою голову?..).
— Человек я, — произнес Верис вслух, добавив мысленный подтекст: «Успокойся, угрозы я не представляю».
Вот за что не любил Верис мысленную, «умную», как сказали бы древние, беседу. Произносим одно, думаем другое, а подразумеваем нечто третье. В данном случае подразумевалась забота о собственной брюшине, поскольку у Вериса стрелялки-протыкалки не было, а у его собеседника была, и не одна. Программа, с которой по преимуществу общался Верис, такого разнобоя не понимала и отвечала невпопад. Чистое слово проще, понятнее, точнее.
«Я здесь главный», — протелепатировал главный и уселся, демонстрируя собственную правоту. Один из попрыгунчиков кинулся укутывать ноги повелителя. О том, что здесь происходит поединок, он не догадывался, будучи слаб как в словах, так и ментально. А Верис чувствовал, что в сообщение вложено троякое намерение: напугать, если Верис все-таки тот, за кого был принят вначале, просто представиться и, наконец, готовность дать отчет, если Верис окажется главнее.
Главный — от слова «голова». Обязанность главного — думать и решать, неустанно заботиться. Заботиться можно только о других, о чем сообщает приставка «за». Ботаться, согласно Далю, — биться, мотаться туда и сюда, а этот сиднем сидит и ножки одеяльцем прикрыл. Думать можно и сидя, а можно ли сидя мотаться за других туда и сюда?
Все-таки главный был мощным телепатом. Разобрать весь набор Верисовых мыслей он не смог, но уловил сомнение в своем праве командовать.
«У меня порядок», — пришла мысль. Подтекстов в ней было немало, но Верис не стал вникать. Не дело филолога разбираться в том, что не выражено словами.
Как ни странно, оттенок пренебрежения, промелькнувший в мыслях Вериса, решил дело. К начальству может относиться с пренебрежением только высшее начальство, таково было абсолютное убеждение сидящего. Убеждение сомнительное, ведь начальство — это то, что в начале, а ни у какой вещи или явления не может быть двух начал: низшего и высшего. К тому же, как известно, в начале было слово и, значит, никакого иного начальства быть не может. Тем не менее сидящий телепат ничуть не сомневался в истинности своего заблуждения, поэтому безобиднейшая мысль: «Вот я и посмотрю, какой тут порядок», — была воспринята им архиневерно. Воистину, мысль, не высказанная словами, есть ложь и источник заблуждений.
Проверка!.. Ревизия!.. — ошибочный вывод был подобен озарению. Теперь главный уже не решался прощупывать мысли задержанного. Если это ревизор, то он главнее. А вышестоящему ничего внушать нельзя, с ним следует говорить словами. И уж никоим образом не тыркать его носом в пол.
— Да, конечно — произнес главный, и Верис с невольным злорадством почувствовал, что начальник, с которого он сбил спесь, боится запнуться и промямлить подобно рабу: «Это вот». Запинаться в устной речи недостойно главного, а отвыкший от слов язык готов споткнуться и сам собой произнести запретное «ну».
— И что бы вы хотели осмотреть? — сглотнув междометия, выговорил главный.
Вот это да! К нему обращались на «вы»! Архаичный, давно забытый обычай. Некогда люди, в одиночку беспомощные перед обстоятельствами и недругами, объединялись в племена и союзы, чтобы совместно противостоять трудностям. И когда вождь племени говорил с чужаками, он, желая подчеркнуть, что говорит не только от своего имени, употреблял местоимение «мы». И противники обращались к нему на «вы», показывая этим, что говорят не с одним человеком, а со всем народом. Кончилось тем, что на «вы» стали обращаться ко всякому малознакомому человеку, видимо, предполагая, что он глава государства или, по меньшей мере, банды. Нормальное обращение сохранилось лишь к самым близким людям или к тем, которые были недостойны уважения. Удивительно, но так было! И лишь когда люди избавились от необходимости сбиваться в стаи и коллективы, в разговор вернулось естественное обращение на «ты». Каждый сам за себя, одна программа за всех. А тут, значит, стайное обращение на «вы» сохранилось и процветает!
Таково было первое лингвистическое потрясение Вериса на старой Земле.
— Я собираюсь осматривать все, — твердо произнес Верис и, желая зарезервировать за собой право на неожиданные поступки, добавил: — И собираюсь всему удивляться.
— Только это, — квакнул начальник.
Верис демонстративно усмехнулся. Он давно уже стоял на ногах, пристально рассматривая бледное лицо сидящего.
— Я буду демонстрировать свое удивление только сюда.
Можно ли сказать «демонстрировать сюда»? Фраза звучит совершенно не по-русски. Но и разговаривать с применением телепатии — тоже не по-русски, так что приходится терпеть бредовые сочетания.
— С народом не должен случаться облом, — чуть успокоившись, произнес начальник.
Ага, из контекста ясно, что облом случается, когда вместо сладостного обмана человек обнаруживает горькую правду! Вот, значит, как называется то состояние, в котором пребывает Верис последние дни!
— Облома не будет, — пообещал Верис.
Начальник кивнул. К нему постепенно возвращалась уверенность, и он даже вновь рискнул неприметно прощупать подозрительного незнакомца. Верис тоже попытался проникнуть в сознание противника, но тот был открыт лишь на внешнем уровне, дальше таилась недосказанность. Однако Верис сумел понять, что допустил какой-то промах и тем самым заронил в душу главного сомнение, точно ли ревизор перед ним. Верис глянул на себя чужими глазами: ах, вот что! — главный сидит, а Верис стоит перед ним!
— Встань и говори все, — приказал Верис.
Обветшалый глагол «казать» давно уже не используется без приставок, необходимых, словно костыль для старика. Подсказать — помочь в достижении цели; заказать — пожелать, чтобы нечто было сделано; указать — то же самое, но с обозначение путей и способов достижения желаемого. А приказать — значит указать жестко, так что никакие обстоятельства и возражения не принимаются во внимание. Приказать может только тот, у кого есть на это право.
Начальник, не успевший собраться с духом, сдался, почувствовав сталь в голосе Вериса.
— Тут близко Ржавые болота.
— Дальше, — это уже не разговор, а допрос сломленного противника. Главный еще не договаривал, но готов был признаться в чем угодно.
— Там водятся глухие варвары.
«Говори до конца», — мысленно подстегнул главного Верис.
— Они опасны. Если проверяющий ненароком забредет туда, — сомнамбулически произносил самоубийственные слова начальник, — может случиться так, что все мои неприятности исчезнут сами собой
— Не исчезнут, — пообещал Верис. — Ничего со мной не случится.
— Сколько охраны дать вам? — голос начальника хрипл, он в ужасе, что так глупо сломался, и отчаянно надеется, что ему не вменят в вину силком вырванное признание.
— Нисколько. Я не боюсь ни глухих, ни слышащих варваров.
Варвар — тот, кто не умеет говорить, вернее, говорит по-английски, вместо слов произносит дурацкие звуки: «Вар-вар!..» Разумеется, человек, обладающий речью, не может бояться столь убогого существа.
Главный, сам недалеко ушедший от варвара, не понял ни слов, ни мыслей собеседника, но в нем вновь затеплилась надежда, на этот раз на таинственных глухих варваров, которые могли бы избавить его от Верисовой проверки. Пряча задавленную улыбку, он поклонился.
— Как вам будет угодно.
— Мне угодно узнать, где я мог бы поселиться на первое время.
Главный сумел постичь лишь часть вопроса. В его словарном запасе не было понятия «первое время», и он отчаянно пытался додуматься, что оно означает. Может быть, пришелец сам собирается занять место начальника и делит время на до и после исполнения намерения? Или в этих словах скрыто что-нибудь еще похуже?
Если бы начальник меньше копался в чужих мозгах и больше занимался лингвистикой, он легко сообразил бы, что имеет дело с новичком. Первые времена — эпоха, когда люди не владели речью и, соответственно, ничего не понимали в окружающем мире. И раз гость употребил подобное словосочетание, значит, он тоже плохо разбирается в происходящем, но надеется, когда первое время пройдет, понять, что происходит. Но главный был не способен на подобные выводы и снова испугался. Не человек, а маятник, ежесекундно его бросает от глупого страха к не менее глупой надежде. Такое состояние души и определяется словом «маяться».
— Ну значит это… — тянул он, уже не думая о приличиях.
— Так где я могу переночевать?
— Где угодно, — с готовностью отстрелил главный. — Можно здесь, у меня, а можно у чистых.
— У чистых, — решительно выбрал Верис, хотя тоже не понимал, что в данном контексте может означать этот термин. Слишком уж не хотелось оставаться рядом с главным и его попрыгунчиками.
* * *
«Добро пожаловать в музей-заповедник Старая Земля!»
Огромнейший портал был способен пропустить разом тысячи людей. И люди шли, пусть не тысячи, но заметный поток. Земля, колыбель человечества, привлекала многих, и каждый считал должным за свою бесконечную жизнь хотя бы раз припасть к корням, осмотреть пышные руины, наивные чудеса древности. Кое-кто постоянно жил на Земле, но таких было немного, и большая часть планеты мирно зеленела, забыв о веках перенаселения.
— Советуем начать осмотр с семи чудес античного мира, — зазвучал в ушах голос гида. — Древнеегипетские пирамиды, Храм Герострата в Эфесе, висячие сады вавилонской блудницы Семирамиды.
Недовольно поморщившись, Верис заставил гида умолкнуть. Ясно же, что здесь ни одной подлинной вещи, за десятки тысяч лет рассыплется все, особенно такой нестойкий предмет, как финансовая пирамида. О большинстве чудес и память сохранилась очень относительная. Взять хотя бы алтарь храма в Олимпии. Его украшает колоссальная статуя олимпийской чемпионки с веслом. А должен быть Зевс, причем вовсе не колоссальный; колосс Родосский — совсем другое чудо. Правда, историки до сих пор спорят, каков из себя этот Зевс. Бык, лебедь или мужчина? Спросили бы Вериса, он бы подсказал, что Зевс — это некто с большим зевом, пастью. Отцом Зевса было всепожирающее время — Кронос. Этот тоже наверняка имел немаленький ротик. А служили в храме Зевса жрецы. Тут и филологом не надо быть, чтобы понять, уж эти-то жрать умели. По всему судя, в храме процветал культ большой глотки. Спрашивается, при чем тут олимпийская чемпионка? Только оттого, что город прозывался Олимпией? А в Олимпии что, не едят?
Верис снисходительно усмехнулся. Легко критиковать других, когда истину не знает никто. Не исключено, что Зевс и его сотрапезники жрецы использовали весло вместо ложки. В конце концов, веселка — это лопатка или ложечка для сбивания масла. И девушка с веслом — на самом деле молочница, сбивающая масло на завтрак королю. Может оказаться что угодно, и даже филология не всегда способна помочь.
Верис свернул с туристической тропы и почти сразу оказался в одиночестве. Некоторое время он летел, рассекая чистый воздух, потом, выбрав безлюдный средневековый городок, опустился на землю.
Ступил на землю Земли.
Циклопический комплекс с чудесами света остался в стороне, только титановые башни, между которыми на неохватных тросах покачивались висячие сады, виднелись над горизонтом.
Место Верису понравилось. Конечно, тут заповедник, в этих краях нельзя ломать деревья, но он поселится в чужом доме и, может быть, тот когда-нибудь станет своим.
С легкой душой Верис послал приказ отключить систему безопасности и через мгновение получил ответ: «Музей-заповедник Старая Земля является зоной повышенного риска. Приказ блокирован».
* * *
Библиотека Транспортного центра, а в ней — миллионы книг и наверняка сохранившиеся технологии копирования. Верис представлял, как он приходит и небрежно, словно между делом, выкладывает перед Анитой принесенные книги.
Разумеется, небрежность будет напускная, только для вида. Истинная небрежность страшна, смысл ее можно понять, если внимательно вглядеться в слово. Небрежность — отсутствие бережности. Подарки можно делать только как бы небрежно. А иначе зачем стараться?
Ни в какой особой бережности Анита не нуждалась. Невысокая и плотная, с облупленным носом, загорелыми руками, исцарапанными жесткой травой и ивовыми ветками, она была своей на Ржавых болотах — все знала и не боялась ничего. Это она оберегала Вериса, который ужасно страдал от непривычной жизни.
Когда старики, а вернее, единственный старик, к которому привел Вериса бородатый конвоир, рассудил, что Верис человек и потому имеет право жить в селении, именно Анита взяла новичка под свое покровительство. Остальные жители поселка приняли нового члена общины без энтузиазма. Верис не умел делать ничего, потребного для жизни на болотах, а привычка «западать» в самые неподходящие моменты вызывала у многих подозрения, что он все-таки не совсем человек.
Последнее Аниту ничуть не смущало. Она и сама любила задуматься над чем-нибудь совершенно простым и никого не удивляющим.
— Смотри, какая красота! — говорила она, указывая на рыжий маслянистый туман, по утрам стелющийся над ближайшей топью.
Никто из поселковых не мог сказать о тумане добрых слов, а у Аниты они находились.
— Красота — то, что красит, — сообщал Верис. — Если бы оттуда люди выходили перекрашенными в рыжий цвет, это была бы красота.
— Ты туда сбегай. Так перекрасит — за неделю не отмоешься, — Анита замолкла на мгновение, запала, как сказали бы соседи, потом радостно подхватила Верисову мысль: — А ты здорово придумал: красивый — то, что красит в свой цвет. Охра — красивая, и ржавчина. Черника — тоже красивая — наешься, губы станут синими, язык синий. Ой, а почему она черника? Синика должна быть. Синика и голубика.
— Должно быть, раньше она красила в черный цвет, а потом промутировала, цвет изменился, а название осталось прежним. Точно, так и было! Даже стихи есть старинные:
Грибная пора отойти не успела, Гляди — уж чернехоньки губы у всех, Набили оскому: черница поспела! А там и малина, брусника, орех!— Бруснику я знаю, а малина и орех у нас не растут. Должно, повывелись. А стихи эти ты сам сочинил?
— Нет, конечно, я так не умею. Это стихи, а я только вирши могу плохонькие.
— Ну-ка, сочини.
Верис на минуту запал, даже прополку, которой они занимались, бросил, затем продекламировал:
Генерала гневный вид Генный гений генерит.— Здорово! — сказала Анита. — Непонятно, но здорово. И складно.
— Чего здорового? Пустое рифмачество.
— Ну тебя, хорошие стихи. И все на одну букву.
— Не все. Там слово «вид», оно на «в» начинается. Можно было бы заменить на «гит», есть какие-то гиты и швартовы, но никто не знает, что это такое, значения забыты. А можно следующее двустишие придумать на букву «в», но вставить одно слово на «г», тогда формальная стройность сохранится. Что-нибудь такое:
Вечный високосный год Верный вексель выдает,— Нет, совершеннейшая бредятина вышла. Заврался. Сходу даже вирши не получаются, не то что стихи.
— А не с ходу?
— Иногда получается, чаще — нет. Вот, например, я это давно сочинил, почти год назад. Тоже чепуха, но чистенькая:
Емеля ехал еле-еле, Елена есть ему, Емеле. Ему Елена — ерунда! Елико едкая еда! Ей, егозе, еще Емель? — Емеля — евнух! Ей-же-ей!— Никакая это не чепуха! Если это чепуха, что тогда стихи?
— В этих строчках ничего, кроме формы, а стихи — такое единство формы и содержания, в результате которого возникают дополнительные смыслы. Слушай настоящие стихи:
Я вас любил: любовь еще, быть может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем.Есть такой закон восприятия: если текст может быть понят превратно, его непременно превратно поймут. Здесь это невозможно, поэт сказал ясно, просто, понятно. Но под первым слоем восприятия таится второй. Смотри: «быть может» — казалось бы, мусорные слова, вставленные для рифмы и сохранения размера, но именно они создают настроение, рождая на подсознательном уровне сомнения и вопросы. Может ли быть такая любовь? И что она может? Разумом читатель не осознает этих вопросов, но он уже исполнен сомнений. «Пусть она вас больше не тревожит» — строка приносит успокоение, но и в ней живет второй смысл. Мы разучились слышать в слове «больше» исконное значение «боль», но оно есть, и душа это знает. Значит, любовь жива, не обратилась в свою противоположность, не стала безразличием. Само упоминание этого корня доказывает, что герой до сих пор боль чувствует и хочет уберечь хотя бы возлюбленную от тревоги, печали и боли. Так говорить может только поэт.
— Красиво, — произнесла Анита, забыв, что в таком случае Верисовы речи должны кого-то перекрашивать. — Я запишу потом эти стихи. На пергаменте еще местечко осталось.
— Хорошо, — сказал Верис, и это слово имело троякий смысл.
Некоторое время они занимались прополкой, в молчании двигаясь параллельно по разным сторонам огромной гряды.
Параллельно — когда люди работают в паре или живут парой. Совсем посторонние люди ничего делать параллельно не могут, их взаимодействие хаотично.
— Ты замечательно говорил о любви, которая угасла не совсем, — произнесла Анита как бы между прочим. — У тебя там, где ты прежде жил, была любимая девушка?
Руки Аниты продолжали споро сновать среди зелени, выдергивая сорную траву и оставляя нежные проростки фасоли. Они даже ускорили свое движение — Анита очень старалась показать, что вопрос задан между прочим. Например, между прополкой фасоли.
— Это у кучников? — как бы не понял вопроса Верис. — У них и понятия такого не осталось — любовь. Вслух они по преимуществу междометиями изъясняются.
— А еще раньше? Ты же не всегда у кучников жил?
— Еще раньше? — Верис поднял взгляд от фасоли. — Я не хочу вспоминать ту жизнь.
— И ту любовь тоже?
— Ту любовь — особенно.
— Поэтому ты оттуда ушел?
— Я оттуда сбежал.
— А от нас не сбежишь?
— Нет.
— Правильно. Отсюда бежать некуда. Здесь край мира.
Верис вспомнил просторы вселенной, бесконечные миры, от которых он отказался, сбежав сюда, но не стал поправлять Аниту, а спросил, переводя разговор на иное:
— Как ты думаешь, «полоть» — это обрабатывать поле или делать землю полой, пустой, свободной от ненужной травы? Конечно, мы в любом случае выходим на прилагательное «полый», ведь поле — это пустое место, не поросшее лесом, но генезис слова накладывает отпечаток на оттенки смысла.
— Откуда здесь поля возьмутся? У нас и огородишки сиротские, а поля все у кучников. Но они и сюда тянутся, выживают нас.
— Куда выживают? Ты же сама сказала, что отсюда некуда уходить.
— Совсем выживают, чтобы нас нигде не было.
Встречается такой лингвистический казус, когда слово в зависимости от контекста меняет значение на прямо противоположное. «Выживать кому» — оставаться живым, иметь возможность жить. «Выживать кого» — не давать жить вплоть до полного сживания со света. Жизнь и смерть в представлении древних неразрывны. И что делать, когда лингвистический казус оборачивается жизненной, а вернее, смертельной ситуацией?
— Слушай, — сказала Анита, уже обогнавшая Вериса на пару шагов, — ты сказал, никто не помнит, что такое гиты и эти, вторые. А что такое вексель? Я этого слова тоже не знаю.
— Вексель — это долговое обязательство, которое дается сроком на один век.
* * *
Музей-заповедник Старая Земля является зоной повышенного риска — отсюда мог быть только один вывод: это не настоящая Земля. Не только памятники фальшивы, фальшива вся планета. Значит, надо искать подлинную Землю, должна же она где-то быть, если, конечно, разыгравшиеся земляне не разнесли свою колыбель в мелкую щепу.
Спрашивается, могло ли такое случиться? Оказалось, ничего особо сложного в такой операции нет. На пробу Верис разнес вдребезги промерзший планетоид, и система безопасности не стала возражать против подобного развлечения. Теперь внепространственный канал ни с чем не соединялся и дрейфовал вслепую. Верис выяснил, есть ли еще такие, никуда не ведущие пути, и обнаружил их множество. Не пустое множество пустых путей.
Но ведь на Земле должны были оставаться люди. Позволит ли программа рушить обитаемую планету? Верис подготовил ко взрыву один из обитаемых миров, но до конца довести дело не решился. А ну как получится? Вдруг система безопасности не заблокирует идиотский приказ, что тогда? Люди, разумеется, не погибнут, их система как-нибудь спасет, но и без того как потом жить виновнику? У некоторых людей есть такое понятие: совесть — тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка.
Впоследствии Верис узнал, что было много способов отыскать прародину человечества, но он нащупал самый простой и верный путь — лингвистический. Раз невозможно найти Землю, Верис попытался сыскать Солнце, обозначив его с заглавной буквы, как имя собственное, и обнаружил его в ту же секунду: ничем не примечательную звездочку на краю одной из миллиардов галактик.
Верис немедленно попытался пробить канал к третьей планете, но получил отказ, которым остался очень доволен: «Ваши действия представляют угрозу для жизни других людей». Значит, никакую обитаемую планету ему не удалось бы расколоть. Кроме того, запрет косвенно подтверждал, что он обнаружил именно Землю. И неважно, что сходу туда не удалось попасть, хорошо, когда жизнь человека хоть чем-то стеснена, преграда дает точку опоры, позволяет чувствовать себя человеком, а не кутенком, подвешенным в невесомости. Движение вперед возможно только там, где есть препятствия.
Препятствие — то, что заставляет пятиться. Но когда человек сумел преодолеть препятствие, он может упереться в бывшую преграду пятой и двинуться вперед неудержимо.
Известно, что каким-то образом люди с Земли выбрались, не пешком же они ушли в звездам. Значит, должен быть канал или хотя бы его следы. Верис вызвал карту этой части галактики с обозначениями внепространственных туннелей и сразу увидел еще один способ найти Землю. Нигде во вселенной внепространственные пути не располагались так густо, захватывая едва ли не каждый достойный внимания объект. На Землю, если третья планета и впрямь была Землей, их вело не менее двух десятков.
К сожалению, ни в один из них Верис войти не сумел.
Не сумел — значит, не хватило ума. Филология тоже не всесильна.
Заперты оказались и пути, ведущие на другие планеты Солнечной системы. Создавалось впечатление, что кто-то специально скрыл Землю от излишнего внимания бывших землян. На карте пути обозначены, а пытаешься пройти — их нет. Ближайшие действующие проколы находились в нескольких световых годах от Земли. Для человека, привыкшего скакать по метагалактике, десяток световых лет — не расстояние. И лишь когда Верис ступил на поверхность первого инозвездного мира, освоенного людьми, он понял, что ни на шаг не стал ближе к своей цели. Солнце мерцало в ночном небе не слишком крупной звездой, и попасть туда не было никакой возможности. Телепортация, вопреки своему названию, действует на небольших расстояниях, между звезд нужно пробивать постоянный канал, что в окрестностях Солнца запрещено. Оставалось найти какую-нибудь допотопную колымагу или воссоздать ее по старым чертежам и надеяться, что она довезет к Земле за каких-нибудь триста лет. Занятие для любителей вмерзать в айсберги. Для Вериса этот путь неприемлем.
Планета оказалась непригодна к жизни, с бескислородной атмосферой и практически без воды, но это был первый мир за пределами родной системы, куда ступила нога человека, и люди обустраивались здесь всерьез. Станция, способная вместить несколько тысяч жителей, горные разработки, еще что-то, заброшенное и никому не нужное. Очевидно, когда создавалась станция, еще не существовало глобальной системы жизнеобеспечения, и станция сохраняла порядок за счет собственных иссякающих ресурсов. Когда-нибудь она рассыплется окончательно, и туннель будет выходить на поверхность среди развалин. А пока Верис шел по коридору в свете тусклых аварийных ламп, касаясь рукой осыпающегося пластика, и думал, что сейчас перед ним в уменьшенном виде проходит будущее человеческой цивилизации. Конечно, глобальная программа жизнеобеспечения обладает мощностью на много порядков большей, чем устаревшие системы заброшенной станции, но зато здесь никто ничего не ломал нарочно, все ветшало естественным порядком. К тому же никакое количество порядков не имеет значения по сравнению с вечностью. И когда-нибудь, когда вселенная войдет в иные циклы своего развития, а от нынешних бессмертных не останется и воспоминания, обитатели новой метагалактики, обнаружив ходы, ведущие из ниоткуда в никуда, будут пользоваться ими, словно мореплаватели ветрами и течениями, и гадать: проколы эти естественного происхождения, или была некогда цивилизация межгалактических червей, от которых ничего не осталось, кроме окаменелых ходов в придонном иле.
Очередная дверь не открылась, помещение за ней было разгерметизировано, и умирающая автоматика старалась уберечь человека, предупреждая об опасности. Подумать только, люди, построившие все это, еще не имели собственных охранных систем и были уязвимы для такой мелочи, как отсутствие годного для дыхания воздуха!
Можно выбить аварийные заслонки, разгерметизировав еще часть станции, можно исправить порушенное, воссоздав древний интерьер, а можно не делать ничего. С точки зрения будущего все три варианта равно бессмысленны.
Что он, собственно говоря, собирается найти здесь? За аварийными помещениями начинается один из проколов, в которые он не смог попасть из Транспортного центра. Возможно, здесь находится то, что не позволило ему совершить переход. На Землю ведет два десятка закрытых туннелей, и лишь один из Транспортного центра, остальные располагаются в ближайших к Солнцу системах. Верис решил обойти их все. Полуразрушенная станция была первой в списке.
Верис никогда не бывал ни на этой, ни на подобных станциях, но шел уверенно, ведомый собственной программой. Это потом, добившись своего и лишившись всемогущего опекуна, он начал тыркаться подобно слепому кутенку, сейчас он чувствовал себя хозяином. Программа знает устройство таких станций, значит, знает и Верис.
Значит, знает — двойное знание, свое и программы.
Казалось бы, удобнее всего выводить все порталы планеты в одну точку, что позволяет не тратить время на лишние переходы. К сожалению, это лишь кажется. Казаться — корень «каз-каж». Каждый — тот, кому кажется, будто он знает. Это в новейшее время возможность прокладывать внепространственные пути получил каждый, прежде этим занимались знающие люди. Они знали, что в районе портала не должно быть давки, к тому же в те времена, когда прокладывались первые межзвездные пути, это требовало колоссального напряжения сил и оказывалось сопряжено с риском, так что порталы располагались на безопасном расстоянии друг от друга.
Станция строилась вокруг самого первого портала, а дорога в Транспортный центр, по которой пришел Верис, выходила на модуль, отнесенный в сторону от основных помещений. И теперь автоматика, сама чуть живая, предупреждала, что проход между станцией и модулем закрыт, давняя авария разгерметизировала часть помещений.
Проще всего было бы телепортироваться прямо в нужное место, благо что расстояние невелико. Линда, да и вообще любой нормальный человек именно так и сделали бы.
Нормальный — не отклоняющийся от общепринятого ни в худую, ни в добрую сторону. Вериса трудно было назвать нормальным. Он потребовал от собственной программы восстановить проход, а по возможности и всю станцию, в первоначальном виде. Возможности были, хотя некоторое время пришлось ждать, пока проход откроется. Зато дальше Верис не ломился дуриком и не проносился бесплотным призраком, а шел, как полагается ходить хозяину.
Хозяин — древнерусское ходзя, тот, кто ничего не опасаясь, ходит по своей земле. И руки у хозяина не для того, чтобы рушить, а чтобы брать — бѣрука. И попробуйте доказать, что такого слова не было.
В самом конце дорогу перегораживала стена, которой вроде бы изначально не предполагалось. Когда Верис приблизился вплотную, в стене раскрылся незаметный прежде проход. Без тени сомнения Верис шагнул туда и оказался в небольшом зальце. Здесь горел яркий свет, и ничто не напоминало ветхости соседних помещений. За столом, повернувшись лицом к вошедшему, сидел человек. Внешне он не отличался от прочих людей, каких довелось повидать Верису, но была в его взгляде некая умудренность, начисто отсутствующая даже у восьмисотлетнего Томика.
— Наконец-то, — произнес человек. — А я уж думал, так никого и не дождусь. Заходи, побеседуем.
* * *
Ревизовать — рассматривать по праву порядок и законность дел, действий и расходов. Ревизор — поверщик, тот, кому поручена ревизия. Существует в древней литературе комедия под названием «Ревизор», ее Верис читал, но понял немногое, ибо за тысячелетия быт и нравы людей изменились достаточно сильно. А после того как Верис потерял дополнительную память, в голове осталось лишь общее представление о сюжете и фраза: «Сорок тысяч одних курьеров». Что такое курьер, Верису было известно: скоротеча, нарочный гонец. Но зачем нужны эти скоротечи, Верис понял только сейчас. Начальник сидел в своем обиталище безвылазно, а по всем надобностям посылал скоротеч-попрыгунчиков.
С античной пьесой совпадала и ситуация: Вериса тоже принимали за ревизора и боялись едва не до судорог. Хотя если у тебя все в порядке, зачем бояться проверки?
Проверку Верис начал и не потому, что возомнил себя ревизором, а для того, чтобы понять, отчего так сильно расходятся слова и мысли начальника. Прежде всего он попытался разобраться с чистыми, в обители которых его поселили. Судя по всему, общество делилось на чистых и грязных, и Верис догадывался, что грязные — это те, с кем он встретился поначалу. Неважно, рабы они или работники, но узнать у них хоть что-нибудь — проблематично. Оставалось надеяться, что чистые окажутся разговорчивее грязных. Вспомнилось слово «аристократия» — книжный синоним выражению «лучшие люди». Как ни относись к делению людей на классы, но аристократы в целом лучше образованы, чем подлый люд, и уж, всяко дело, лучше информированы. Значит, с них и спрос.
Тем не менее, в соседях у Вериса оказался человек ничуть не образованный и не информированный тоже. Утром Верис застал его на веранде, где потенциальный аристократ полулежал в плетеном кресле и сонно взирал на морскую гладь.
Верис тоже повернулся к морю, стараясь понять, что разглядывает сосед, но там не обнаружилось ничего, достойного внимания. Сидящий ничего не разглядывал, никуда не смотрел, он взирал. Взор, ни на чем не задерживаясь, бездумно скользил по воде. И такое же бездумное довольство царило в мозгу аристократа. На Верисово приветствие он не ответил, кажется, вообще не заметив, что рядом кто-то стоит.
Форсировать общение Верис не стал, памятуя, что обещал главному не устраивать облома. Оставалось ждать. Ведь не может же сосед сидеть в кресле круглосуточно!
Ждать пришлось около получаса, так что Верис успел вконец измаяться (шатался по веранде как маятник — и измаялся) и осознать простую истину: даже в новейшую эпоху время не течет равномерно, а ускоряется и замедляется в зависимости от восприятия. Во всяком случае в жизни Вериса еще не бывало столь долгого получаса.
Наконец (когда полчаса доползли до конца) на веранде появились два человека, занятые чем-то осмысленным. Перед аристократом поставили стол, принесли тарелки, бокал и графин с прозрачной жидкостью, кажется, фруктовым соком. Сидящий оживился, придвинул графин, понюхал и довольно заурчал.
Еще через пару минут служители вернулись с большим блюдом, над которым курился ароматный пар. Это была настоящая еда, не чета той полусъедобной массе, что запихивал в себя раб!
Вынырнув из нирваны (нырваны?), сидящий приступил к трапезе. Он чавкал, чмокал и довольно всхрюкивал, уминая незнакомое Верису кушанье. Со стороны вид жующего представлялся отвратительным (хотелось отвернуться), но при этом едок излучал мощнейшую волну счастья и довольства.
«Ням-ням! Ух, ты! Вкуснотища!.. Чаф-чаф. Во, кайф!»
Сидящий за столом оказался могучим телепатическим индуктором. Верис разом ощутил, как по всей округе тысячи людей жуют сейчас вонючие дрожжи, захлебывая тухлой водой, но каждому чудится, что он вкушает изысканные яства: «Ням-ням, чаф-чаф. Вкуснотища!»
Перед Верисом сидел вовсе не перекормленный бездельник, а жрец, жрущий от имени всех людей, человек, благодаря которому народ счастлив. «Чаф-чаф, во, кайф!» — а без жреца случится общий облом. Счастье — это когда можно чавкать совместно, — счавстье.
Верис подошел к служителю, ожидавшему возле дверей, и спросил:
— Где могу поесть я?
— Вы желаете кушать отдельно или вместе с остальными чистыми? — неожиданно разумно отозвался служитель.
— Вместе со всеми.
Вместе — там же, где и остальные, но вовсе необязательно то же самое или, например, из одной миски.
Завтрак у чистых уже заканчивался. Никто из собравшихся мужчин и женщин не обратил внимания на Вериса, да и друг на друга они не смотрели. Каждый был поглощен едой и поглощал еду, прислушиваясь лишь к ощущениям гурмана, чавкавшего на веранде. Очевидно, так было вкуснее.
Верис не стал подключаться к общему экстазу, ел, как придется, и исподтишка разглядывал семь пар чистых, к которым он отныне причтен. Властители рабских дум, каждый из них, несомненно, обладал талантом, умел гениально наслаждаться жизнью и во всей полноте передавать свои ощущения тем, кто был лишен возможности вкусно есть, мягко спать, радостно трудиться и удобно отдыхать в реальной жизни. Но сейчас за всех старался жрец, и в общей столовой сидели ничем не примечательные люди.
После завтрака приступили к работе и другие чистые. Упитанный здоровяк, с редкостно простодушным выражением широкой физиономии, засучил рукава, подошел к куче камней, наваленной перед жилищем, с удовольствие оглядел ее и начал перетаскивать камни под соседнее дерево. Судя по вытоптанному следу, завтра камни будет возвращены обратно. Казалось бы, тупая, бессмысленная деятельность. Хочешь, чтобы человек сошел с ума, заставь его впустую перетаскивать камни: сегодня — туда, завтра — обратно. Но здесь воплощенный Сизифов труд обретал глубокий смысл. Возня с камнями доставляла здоровяку наслаждение, он любовался своей силой и радовался ей.
«Ого! Ого-го! Во, как! Ух, ты!» — в такт немудрящему ликованию могучего дурачка приступили к труду сонмы рабов и работников. Сгребали водоросли, копали землю, укладывали кирпичи, добывали в древних развалинах металл, перековывая обломки таинственных машин на простые инструменты. Каждый делал то, чему обучен, но всех подгонял и вдохновлял дурачок, бесцельно таскавший камни. «Ого! Ого-го! Ух, ты!» — ритм радостного труда не позволял снизить темп, остановиться, устроить перекур. «Ого! Ого-го!» — лучше предо́хнуть, чем передохну́ть! А перекур — потом, когда будет перетаскана строго отмеренная доза камней.
Перекур — слово не такое простое, как может показаться. Слитный предлог «пере» имеет немало значений. «Образование предложных слов с предлогом пере так обширно, — сообщает Владимир Даль, — что полноты их нельзя требовать даже от словаря, но они большей частию понятны по себе». Значит, изволь понимать по себе. Вот слово «перекус» — небольшая еда, закуска, перехватка. Аналогично и перекур — краткий отдых для восстановления сил, но отдых не простой, а в особом помещении, где в курильницах тлеют благовония, позволяющие усталому человеку быстрее прийти в норму. Своеобразная форма ароматерапии. Обычай этот ушел в прошлое, но прежде он существовал, и язык об этом помнит.
«Ого! Ого-го!»
Двое качков отправились на специальную площадку и приступили к тренировке.
— Оп-оп! Ха! — доносилось оттуда.
Без этих условных бойцов солдаты-попрыгунчики утратили бы половину своей бодрости, а на одной свирепости, как известно, далеко не упрыгаешь.
Как известно — не просто извлечение из вести, но знание несомненное, твердое, произвесткованное. Каламбуры тоже не говорятся просто так, но содержат скрытый смысл.
Еще один мо́лодец — Оп-оп! — бодро рысил по берегу, и в такт ему — Оп-оп! — поспешали хромые и усталые, но бегущие по разным надобностям. Какое может быть плоскостопие, откуда мозоли, если чистый побегун получает истинное удовольствие от беготни? И люди мчались, не замечая одышки и колотья в боку.
— Оп-оп! Во, кайф!
Общество жило, трудилось и наслаждалось счастьем.
Насытившийся жрец совершал променад вдоль бережка, безо всяких оп-оп, чтобы не растрясти животик и не нарушить пищеварения. Скоро обед, и к этому времени надо нагулять аппетит. К тому же на нем не только функция поглощения, но и противоположная тоже. Если не он, то кто будет громко, на всю страну петь по утрам в клозете?
О, кайф!
Лишь четыре человека, двое мужчин и две женщины, не занимались ничем осознанным. Дамы перещебетывались на птичьем языке, состоящим из хихиканья, междометий и нескольких английских изражений: гламур, шик (или шит? — Верис не разобрал), чао бамбино и, почему-то, козел.
Двое мужчин сначала лениво переваривали пищу, потом поднялись и удалились на спортивную площадку, где принялись безо всякого азарта качать мышцы. При этом они ничего никому не транслировали, а довольно уныло выполняли свой долг, чтобы в нужную минуту быть в форме.
Общественные функции этой четверки тоже были вполне понятны, ночью Верис с трудом отбоярился от их могучих флюидов. Волна страсти была так сильна, что хочешь — не хочешь, а захочешь. Недаром подобное чувство называется похотью.
Единственное, что по началу вызвало недоумение: зачем нужны две похотливые пары? — но стоило осторожненько, чуть заметно коснуться зачатков разума в головах четверки, как все стало на свои места. Двое из четверых были просто секс-функциями, лишенными не только интеллекта, но и ментальных способностей. Молоденькая девица, с кукольным личиком и ногами, которым позавидовала бы Ружеточка, даже не почувствовала, что Верис роется в ее прозрачных мозгах. Зато вторая, подувядшая и пообвисшая, сразу заметила интерес, который Верис проявил к ее особе. Она одарила Вериса долгим взглядом и отчетливо произнесла:
— Пуся!
Верис в смятении ретировался.
У мужчин наблюдалась та же картина. Оба были самцами, но разного толка. Самец — значит самый, но самость может проявляться в различных областях. Один, как заводной, целую ночь ублажал поблекшую диву, которая транслировала серию своих оргазмов всем женщинам округи. Второй сам наслаждался лакомой плотью юной дуры, передавая ощущения рабам, работникам и воинам вне зависимости от того спят ли они со своими женщинами или в целомудренном одиночестве.
Разумеется, ни о какой душевной близости речи не шло, на подобные изыски индукционная телепатия не способна.
Точно так же нетрудно догадаться, что двоим из секс-четверки не долго быть среди чистых. Как только у одной обвиснет грудь, а у другого снизится потенция, они будут заменены новыми особями.
Особь — представитель какой-либо группы, выделяющийся особыми качествами. Например, особо сисястая девица с длинными ногами.
Нехитрые функции чистых стали ясны с первого дня, больше Верис не обращал внимания на своих соседей. Они тоже не проявляли ни малейшего интереса к Верису; раз он живет среди чистых, значит, так надо. Конечно, Верису приходилось участвовать в общих трапезах, но он и тут был на особицу. Прилагательное «совместный» предполагает общность места, но не душевное единение. Чистые в трапезах учавствовали (У, как они чавкали!), а Верис участвовал, то есть присутствовал в столовой лишь отчасти.
Одними мыслями без помощи слов эту тонкую грань не обозначить.
Куда любопытнее оказалось наблюдать за действиями нечистых. Эти люди собственными руками создавали все, что при нормальных условиях должна создавать программа. А они делали. Руками. Собственными. В этом мире царил жестокий древний закон: не поработаешь — не поешь, просто потому, что есть будет нечего. С точки зрения современного человека — нонсенс. Глагол «есть» потому так и звучит, что есть всегда есть. Может не оказаться, чем лакомиться, но чтобы нечего есть — не бывает по определению. И тем не менее такое бывает. При отсутствии насыщающей экономики человек есть, пока ему есть, что есть. А когда есть нечего — и человека нет. Ложись и переставай быть, клади зубы на полку, как говорили предки.
Все не может надоесть, Ибо в жизни надо есть. И покуда мы жуем, Мы хоть как-то, но живем.Нечистые, несомненно, жили «как-то».
В глубине души люди являются пессимистами, о чем свидетельствует русский язык. Мы спрашиваем: «Как дела?» — не замечая, что в вопросе уже скрыт ответ. Существует древнейшее слово «кака», сохранившееся в детском наречии, как это и бывает с древнейшими, впавшими в детство, словами. Его значение: гадость, скверность, все плохое. Спрашивая «Как дела?» — мы хотим узнать, насколько дела скверны. Как? — разумеется, какастно. Спрашивая: «какой?» — мы интересуется, насколько плох предмет нашего интереса. Антоним каки — еще одно древнейшее детское слово: пай. Паинька — хороший, тихий, послушный. Родственно: покой, покойный, покойник. Только покойник может быть по-настоящему хорошим, потому что он уже никакой.
Сами нечистые жили как-то и о подобных сложностях и помыслить не могли. В их эта головах не было таких понятий, а душевное, значит, состояние описывалось двумя словами: кайф и облом — вот.
Казалось бы, что могут люди с таким уровнем интеллекта, однако именно их усилиями создавалось то немногое, чем располагало общество. Нечистые просеивали горы ржавчины, добывая крупицы нержавеющих сплавов и металлов, нечистые мотыжили истощенные поля, вылавливали то, что производило море, обеспечивая какое-то (какастное!) существование человека на изработавшейся планете. Труд их был тяжел, пища дурна, образ жизни нездоров, но они были счастливы, поскольку горстка чистых обеспечивала их ярчайшими эмоциями и ощущениями.
Оставалось непонятным, зачем в этой стройной системе существует начальник и попрыгунчики.
Потом произошли события, которые многое объяснили.
Одно из мест, где производились работы, называлось Помойка. Человек неопытный может удивиться такому названию. Помойка — это процесс мытья, возможно, место, где что-то моют, а здесь искали металл: нержавейку, титан, ванадий. Такое место должно называться «прииск», а никак не помойка. Но у Вериса были наготове по меньшей мере две гипотезы.
В глубокой древности некоторые металлы добывали, промывая водой содержащую породу.
В далеких лесах Забайкалья, Где золото моют в горах, Бродяга, судьбу проклиная, Тащился с сумой на плечах.Конечно, Помойку трудно было назвать горой, но холмы там были вполне приличные, и золото среди слежавшейся ржавой трухи тоже изредка попадалось. Должно быть, когда-то ржавчину и впрямь промывали, отчего образовались упомянутые начальником Ржавые болота, а теперь перешли к иной технологии, сохранив за техногенным месторождением прежнее название: Помойка.
Другая гипотеза опиралась на словарь синонимов. Вообще словари синонимов — сомнительное и жалкое явление. В русском языке синонимов нет, есть лишь слова, значения которых частично перекрываются, из-за чего люди малограмотные с легкостью заменяют одно слово другим. Помойка это не только место, где моют; для такого места более подходит название «мытня» (а мытарь — тот, кто занимается отмыванием денег), но и территория, куда выливают помои, грязную воду, оставшуюся после мытья. Часто помойка оказывалась также и свалкой, куда сваливали твердые отходы. В результате несведущие люди начали называть свалку помойкой и наоборот, а словарь синонимов с простодушием кретина отметил этот факт.
Холмы, где добывался металл, когда-то и впрямь были свалкой, там сваливали излишки опрометчиво изготовленной продукции, а, быть может, и отслужившие, но не пущенные в переработку вещи. За тысячелетия большинство предметов рассыпались пылью и ржавчиной, обратившись в многометровый пласт осадочной породы, но кое-что сохранилось почти в первозданном виде. И теперь обнищавшие потомки транжир рылись в окаменевшем говне не ради воспоминаний о прошлом, а ради обломков, устоявших перед напором коррозии.
Ради — повелительное наклонение глагола «радоваться». Выискал в грязи почернелые, но сохранные трубки из циркония — и радуйся. Кто знает, зачем их изготовили прежние люди, но выбросили за ненадобностью, а ты нашел и можешь смастерить много чего полезного. А что работа на Помойке вредна, так кого это интересует? Главное, труд в кайф, еда — вкуснотища и, хотя помойщики жен не имеют, ночью бабы снятся — смак! Спроси любого: «Житуха в жилу?» — и он ответит: «Я тащусь!»
Они и тащились: «Оп-оп!» — а ноги не поспевали в такт бодрым мыслям, и ритм труда превращался в конвульсии. Вряд ли во вселенной нашлось бы что-то страшнее этой радости.
В тот день на прииске случилась пруха: помойщики нашли дуру. По размерам находки делились на мутотень, плямбы и дуры. Дуры были самыми большими и встречались редко. Найденная дура была изготовлена из незнакомого металла, титановый пробник не оставлял на ней следа, а ванадиевый царапал. Значит, обработке металл поддаваться будет, хотя и с трудом. Пробники хранились у бригадира, которого все называли бугром. Человек этот обладал слабенькими телепатическими способностями и некоторыми представлениями о том, как следует работать. Он умел обозначить фронт работ и распределить задания между работягами. Его словарный запас простирался до двадцати девяти слов и включал такие понятия, как «на раз!» и «мылить шею».
Сбежавшиеся работяги (Верис к тому времени уже знал, что перед ним не рабы и не работники, а работяги) облепили дуру и, подчиняясь приказу: «На раз!» — попытались ее сдвинуть. Дура не шелохнулась, а один из работяг неожиданно покачнулся и упал. Изо рта потянулась струйка кровянистой слюны, глаза закатились, конечности подергивались, словно упавший пытался следовать всем транслируемым ритмам сразу.
Работяги оставили дуру и столпились вокруг товарища. Помочь никто не пытался, лишь один почесал темя и задумчиво произнес:
— Облом.
— Что с ним? — спросил Верис, забыв об обещании не вмешиваться и облома не устраивать. Какое тут обещание, если облом уже случился?
— Ласты склеил, — ответил образованный бугор.
Какие ласты? Вот случай, когда даже из контекста не понять, о чем идет речь. Об укороченной лапе морского зверя? О приспособлении для плавания, эту лапу напоминающем? Или о мере в двенадцать четвертей хлеба (то есть три полных каравая, весящих почему-то сто двадцать пудов)? Как и чем можно клеить ласты и, главное, зачем это делать? Происходящее неприятно напомнило, как умирал хаврон, убитый малолетним Верисом. Но ведь это не хаврон, это человек, пусть даже разум его недалеко ушел от хавронова!
— Эта давай! — приказал бугор.
Упавшего уложили на носилки, на которых оттаскивали в мастерские найденные плямбы, и — оп-оп! — потрусили в сторону поселка. Безвольная рука свешивалась с носилок, покачиваясь в такт трусце.
Верис поспешил следом. Он думал, что пострадавшего несут к лекарю, недаром же один из работяг, что помоложе, побежал вперед, должно быть, желая предупредить лекаря. Однако процессия свернула в сторону старых, давно просеянных отвалов. Здесь рядами тянулись небольшие холмики, и почти вплотную к одному из них работяги начали рыть яму.
Верис ничего не понимал.
Бегавший в поселок вернулся с один из чистых, тем, что в вечерние часы транслировал на округу чувство умиротворения. Сейчас у телепата была пора отдыха, но он работал, правда, в полсилы, распространяя свое влияние только на собравшихся.
Чистый подошел к носилкам, поправил руки лежащего, значительно прокашлялся и произнес:
— Спи, эта, спокойно, дорогой товарищ. Ты кайфово жил и ласты склеил в масть. Ты всегда будешь, эта, в сердцах.
В сердцах — осердясь, во гневе, злобе или ненависти. Что-то не похоже, чтобы пострадавший гневался; на лице безразличие и спокойствие, какого прежде не бывало даже в вечерние часы.
Работяги подняли носилки и вывалили тело в яму. Шесть титановых лопат споро закидали яму землей. Через пару минут еще один холмик продолжил длинный ряд безымянных могил.
Только теперь Верис понял, что это не просто похоже на смерть, а на самом деле смерть и есть. «Склеить ласты» — еще один эвфемизм для обозначения кончины. Не любит смертный человек называть костлявую по имени, боится накликать, вот и выдумывает округлые увертливые слова: «почить в бозе», «долго жить приказать», «отбросить копыта», «дать дуба» Последнее выражение, впрочем, несколько выпадает из ряда. Родилось оно в те стародавние времена, когда люди верили, будто после смерти им предстоит какая-то иная жизнь (а что оставалось смертному, как не веровать?). Поэтому умерших не просто закапывали, а хоронили в специальных домовинах. Лучшим считался гроб, выдолбленный из цельного дубового ствола. Но потом дуб потребовался для строительства флота, и власти запретили хоронить умерших в дубовых колодах. Разумеется, для многих нарушить закон стало делом чести. Однако наказания ослушникам были так суровы, что страха ради земного, дубовый кряж давался мастеру, когда будущий обитатель домовины еще не умер, но доживал последние часы бренной жизни и мог уже не бояться ничьих угроз. Так же как и «дышать на ладан», выражение «дать дуба» означает, что некто еще не скончался, но уже не живет.
Танатология — огромный социокультурный пласт, отброшенный за ненадобностью вечно юными людьми.
Работяги с полминуты постояли у могилы собрата, потом чистый, сочтя, что последний долг отдан и люди успокоились, резюмировал:
— Ништяк! За работу, товарищи!
Работяги развернулись и — оп-оп! — потрюхали выворачивать из неподатливой почвы нержавеющую дуру.
Верис остался один. Долго стоял, глядя на ряды холмиков, убегающие за пригорок. Ведь под каждым из них закопан человек, который когда-то жил, пусть и бессловесной тварью, а потом перестал жить. И служба спасения даже не почесалась, чтобы спасти его или хотя бы облегчить его недолгое бытие.
За холмом кладбище продолжалось. Оплывшие холмики, поросшие редкой колючей травой, какая только и могла расти на отвалах, становились все менее заметны, наконец, бурьян окончательно скрыл их.
С неожиданной ясностью Верис понял, что когда кладбище дойдет до границ мертвой территории, могильщики начнут копать ямы на месте сравнявшихся с землей могил, и с полным безразличием отбрасывать в сторону сухие кости. Так уже было не раз, и случится вновь, и будь иначе — вся Земля давно превратилась бы в бесконечный некрополь. Земле все равно, проникал ли ты мыслью в тайны мироздания или — Оп-оп! Ням-ням! Ого-го! — кайфовал в меру дозволенного начальством. Конец будет один — оплывший безвестный холмик, а затем и вовсе ровное место.
Можно сколь угодно долго размышлять на эту тему, изучать феномен бренности, составлять списки эвфемизмов, сборники танатологических поговорок, ухарских и безнадежно печальных, но только в минуту, подобную нынешней, начинаешь понимать, что прежде ничего не понимал. И тогда даже бессмертный почувствует неудержимое желание заглянуть по ту сторону невозвратной черты. А быть может, бессмертного потянет туда особенно сильно. Вот если бы можно было умереть понарошку, а потом вернуться — сколько объявилось бы желающих поиграть в эту игру!
Солнце клонилось к закату. Широколицый здоровяк бросил таскать свои камни и наслаждался приятной усталостью в мышцах. Побегун отмеривал заключительный кросс, уже без особого удовольствия, отчетливо предвкушая грядущий отдых. Жрец сглотнул слюну и потянул носом, стараясь по запаху определить, что подадут на ужин.
Дневной ритм сменялся вечерней негой.
«Ништяк!» — пропел на всю округу, вернувшийся с похорон релаксатор.
В пересменке, ставшей за последние дни привычной, Верис неожиданно уловил незнакомую ноту. Сигнал был узким и предназначался не всем, но в нем собралось воедино столько взаимоисключающих эмоций, что не заметить его оказалось невозможным. Ярость и радость, чувство облегчения и ненависти, острое предвкушение чего-то вовсе запредельного и снова злое бушующее ликование.
В центре поселка, сидя в своей резиденции, главный созывал попрыгунчиков. Верис вслушался, стараясь понять причину ажиотажа. Расстояние было изрядным, но поскольку главный думал о Верисе, разобрать удалось все. По каким-то своим каналам главный получил известие, что никакой проверки к нему не подсылали и, значит, явившийся чужак не ревизор, а самозванец.
«Поймать! Изловить! Доставить!» — вряд ли главный знал все эти слова, но образы были четкими. А на втором плане в сознании начальника мелькали представления о круто изогнутом бараньем роге и мокрой тряпке, которую с силой скручивали, выжимая грязную воду. Нетрудно догадаться, что все это предполагалось делать с Верисом, когда он будет доставлен.
А ведь именно так, наверное, рождаются идиомы. В душе возникает ассоциативный парный образ, и, если человек обладает достаточным словарным запасом, он может обозначить неявную мысль точным словом: «Пустили козла в огород», «Он у меня попляшет», «В бараний рог скручу». Вот только образы у главного возникали, а слов ощущался недостаток, так что произнесть он мог не идиому, а в лучшем случае — идиотизм.
Мысль на мгновение запнулась, словно Буриданов осел, не зная, какой путь выбрать: разбор лингвистической пары «идиома-идиотизм» или размышление о правильности употребления глагольной формы «произнесть», но, по счастью, в сознании выплыла иная мысль, простая и очевидная. Ведь его ищут для того, чтобы скручивать в бараний рог, выжимать его и ноги об него вытирать, а он стоит, как ветряк на юру, и не пытается ничего предпринять.
Возвращаться в обитель чистых нельзя, значит, надо уходить куда глаза глядят. Глаза глядели перед собой на недалекие кусты.
Верис пожал плечами и, стараясь ни о чем не думать, чтобы не навести погоню на след, направился прочь от поселка.
Помойка вскоре кончилась, под ногами зачавкала вода, в воздухе зазвенела кровопийная мошка. Потом место снова стало посуше, но кусты поперек пути переплелись так, что не сразу и продерешься. Если бы можно было лететь, Верис и горя бы не знал, но способность к левитации покинула его вместе с системой собственной безопасности. Значит, иди пешком и сожалей, что у тебя пехи, а не ноги с большими раздвоенными копытами, на которых так удобно разгуливать по болоту. Впрочем, у попрыгунчиков тоже нет копыт, и они вряд ли доберутся в эти места.
— Стоять! Хенде хох!
Только что не было никого, и вдруг перед Верисом возник заросший по самые глаза мужик, и заряженная стрелялка недвусмысленно уставилась Верису в живот.
— Видишь же, стою, — откликнулся Верис. — Ничего себе, естественная среда обитания.
* * *
Верик, ау!
Скоро год, как тебя нет. Пора бы плюнуть, успокоиться и забыть, а вот не получается. Знаю только, что ты есть на свете, но очень далеко. Так далеко, что ни единой мысли, ни самого простенького чувства не разобрать.
Ну скажи на милость, почему меня никак не отпускает? Мы и были-то знакомы всего ничего. Сначала я думала, что во мне досада играет, оттого что ты ушел и мне тебя найти не удается. Теперь поняла — тут что-то другое. Подумаешь, самолюбие задел, — это не причина, чтобы думать о тебе денно и нощно. Я раньше, когда думала о других, на самом деле прежде всего думала о себе, а об остальных только относительно меня. А сейчас думаю о тебе. Вспоминаю, что ты говорил, как смотрел. Знаешь, когда Томик понял, что я его на самом деле прогнала, он глядел так, словно у него любимую игрушку отняли. А мне не жалко его было ни капочки. Я после этого принялась вспоминать и анализировать все свои отношения с людьми. Так вот, все они (я имею в виду людей) относились ко мне, как к забавной игрушке. И я — тоже хороша. Помнишь, я говорила, что людям не осталось в жизни ничего, кроме развлечений, и поэтому затейник — единственное серьезное занятие. А вдумалась и поняла, что я играла в затейника. И компанию себе подбирала по коллекционному принципу. И на тебя, мерзавка, смотрела, как на еще один чудной экземпляр моей коллекции. А ты не чудной, ты чудный. Видишь, я теперь даже говорить стараюсь, как ты, потому что в тебе, единственном, есть что-то настоящее. Что, я еще не поняла, но обязательно пойму.
Наверное, не стоит тебе это рассказывать, но я все еще надеюсь, что найду тебя. Пусть через двести лет, через тысячу, через тьму-тьмущую веков, но найду, и ты все узнаешь. Все-таки хорошо, что мы на одной волне, и я каждую секунду чувствую, что ты есть.
Если можно, откликнись.
Линда.Глава 3
— Тебя как зовут?
— Верис.
— А меня — Стан. Вернее, когда-то звали Станом. Давно.
— И сколько времени ты тут сидишь?
— Нисколько. Меня здесь нет, это мнемокопия. Но жду я уже больше четырех тысяч лет. И за такой срок — ни одного человека! Вообще ни одного ни на одном из порталов.
— Так это ты сделал, что на Землю не попасть?
— Почему не попасть? На Землю ведут двадцать туннелей, и намертво блокирован только один — из Центра. В Центре слишком много людей без толку бродит, поэтому не исключена вероятность, что кто-то вопрется сюда случайно. А остальные девятнадцать каналов задействованы. Если хочешь, поговорим и проходи.
— Я уже пытался пройти через этот канал, но ничего не получилось.
Пытаться — пытать себя, то есть предпринимать действия, заведомо обреченные на неудачу. Удачное действие пыткой не назовут. Если получилось, то стало получше, при чем здесь пытка? Так что фраза: «Пытался, но не получилось» — по сути дела тавтология. Подобное часто бывает: сам скажешь и сам же себя поправляешь.
— Ты, наверное, из Центра хотел пройти, со мной не поговорив, поэтому проход и не открылся. Дело в том, что я вмонтирован в Службу спасения и могу блокировать некоторые неразумные приказы.
— И что неразумного в том, что человек хочет попасть на Землю?
— Опасно.
Верис фыркнул, скорей пренебрежительно, чем от смеха.
— Какая опасность может угрожать человеку в наше время?
— Вот об этом и поговорим.
Обычно люди, имея дело с программой, получают информацию блоком, не желая тратить время на выслушивание слов, но Верис уселся напротив Стана и ожидающе посмотрел ему в глаза. Слово есть слово, даже если его хочет сказать программа.
— Что ты знаешь о Земле?
— Почти ничего. Я знаю, что там можно отключить собственную систему безопасности.
— Ты собираешься покончить с собой?
— Нет. Я хочу избавиться от насильственной заботы обо мне.
Забота — беспокойное хлопотное попечение. На чью долю выпадает больше беспокойства — того, кто заботится, или о ком? И чью жизнь стремятся прихлопнуть хлопоты?
— Тогда дам тебе совет: как только избавишься от системы безопасности, возвращайся сюда, выбирай один из тихих миров и живи там. На Земле тебя тотчас убьют, разве что за четыре тысячи лет там все радикально изменилось.
— Как убьют?.. — пробормотал Верис.
— Больно. И за дело. Если угодно, могу рассказать о причинах такого отношения.
Угодно — удобно, приятно, полезно. Верису было угодно знать, но он промолчал, потому что Стан уже начал рассказывать.
— Первый внепространственный канал был пробит с Земли сюда просто потому, что здесь уже имелась земная станция. Земля в ту пору была сильно перенаселена, а ее природные ресурсы истощены. Проблемы перенаселения этот канал не решил, а вот промышленность начала с Земли уходить. По мере того как появлялись новые галактические пути, земные проблемы оказывались решенными. Ускорило дело создание Транспортного центра, когда перед человечеством открылась вся вселенная. В результате на Земле остались только люди, приверженные патриархальному укладу. Они не признавали никаких новшеств и постепенно деградировали, как деградирует всякая переставшая развиваться система. — Стан замолчал и вопросительно уставился на Вериса.
— Мне надо задать вопрос? — догадался Верис. — Но я и без того знаю, что человечество во вселенной тоже остановилось в развитии и деградирует. Не надо мне этого говорить.
— Вот и замечательно. Вернее, плохо, раз за эти тысячелетия ничего не изменилось. Но в любом случае деградация человека во вселенной идет медленнее, чем на Земле. Земляне не пользовались внепространственными каналами и постепенно забыли о них. Промышленность с Земли ушла, сельское хозяйство пришло в упадок. Ты хоть знаешь, что такое сельское хозяйство?
— Я филолог! — оскорбился Верис. — Хозяйство — домостройство, а также все, потребное для этого. Сельский — приспособленный для постоянной жизни, оседлый, не огороженный стеной, не городской. Таким образом, сельское хозяйство — это отдельно стоящий дом со всем необходимым для проживания.
— Пусть будет так, — Стан чуть заметно усмехнулся. — Ты филолог, тебе видней. Так вот, все необходимое для жизни пришло у них в упадок. Народ-то заново размножился, а планета истощена, поэтому заново цивилизация развиться не может. А вот среди новой генерации космических жителей появились такие, что начали развлекаться на Земле. У космического гулены система собственной безопасности, и земляне для него вроде букашек. По сравнению с ними он всемогущ. Такой балбес проходит по земле страшнее, чем цунами и торнадо. Даже когда он не убивает людей напрямую, жить после его игр становится невозможно. И, главное, ему ничего не втолковать. Внутри своей программы он привык громить и уничтожать страны и народы, и здесь делает то же самое. На иных планетах его осаживают программы безопасности окружающих людей, а Земля перед ним беззащитна.
— Но ведь можно распространить действие службы спасения и на жителей Земли
— Это было бы еще хуже. Неуязвимый дикарь, вернее, несколько миллиардов дикарей, скученных на одной планете. Единственное, что мы могли сделать — закрыть Землю для посещения дикарями из остальной вселенной.
— Мы — это кто?
— Ты ведь не думаешь, что я сделал это один? Нас было полсотни человек, последних программистов, которые реально могли вносить изменения в работу службы безопасности.
— Почему вы говорите о себе в прошедшем времени? Вы же бессмертны!
— Абсолютного бессмертия не существует, а четыре тысячи лет — изрядный срок. Вот тебе — сколько лет?
— Семнадцать, — недовольно ответил Верис.
— В семнадцать лет еще можно верить в бессмертие. А встречал ли ты хоть одного человека, чей возраст превышает десять тысяч лет?
— Не знаю. Я же не спрашивал всех подряд об их возрасте.
— А я — знаю. Человек не может активно жить в течение тысячелетий. Он либо превращается в подобие полипа: сидит на одном месте и не мыслит, либо перегружает свою память в какой-нибудь архив, а сам живет юным балбесом в прежнем теле. И то, и другое на самом деле — смерть.
— Зачем же тогда люди добивались бессмертия?
— Потому что они не хотят умирать.
Верис задумался ненадолго, потом сказал:
— Это верно. Бессмертие предполагает отсутствие смерти, но не предполагает присутствия жизни. Раньше я об этом не думал.
— А у меня было время об этом поразмышлять
— У тебя настоящего или… — Верис чуть было не кивнул в сторону Стана, лишь в последний момент сдержался. На того, с кем беседуешь, нельзя указывать, словно на бездушный предмет.
— Или, — улыбнувшись, ответил Стан. — У настоящего, боюсь, столько времени в запасе не было. Дело в том, что после окончания работы я, вернее, мой прототип ушел на Землю, а там у него не было никаких шансов прожить столь долгий срок. Назад он не возвращался, это бы я знал.
— Значит, на Землю все-таки можно попасть?
— Зачем тебе это, мальчик? Поверь, Земля — очень неприятное место.
— Там можно отключить собственную систему безопасности, — упорно повторил Верис.
Стан удивленно приподнял брови.
— Интересно про волков! Скажи на милость, зачем тебе это понадобилось?
Верис мельком отметил незнакомую поговорку, но не стал отвлекаться, основная нить беседы казалась важней.
— Это мне очень надо.
— Тогда мой тебе совет. Оставшись без защиты, побыстрей возвращайся назад. Вряд ли земляне помнят, как бесцеремонно мы хозяйничали на Земле, но нелюбовь к чужакам должна войти у них в плоть и в кровь.
— Вы уже давали этот совет, — заметил Верис, забыв на минуту, что говорит не с живым человеком.
— К тому же развитие на обнищавшей планете должно прекратиться или принять уродливые формы, и я не возьмусь судить, до какой степени деградировало тамошнее общество, — продолжал Стан.
Верис согласно кивнул. Обнищать — передвинуться вниз. Обнищание подразумевает падение и деградацию всех сторон жизни.
— В любом случае, — заключил Стан обязательное сообщение, — никому не говори, кто ты и откуда. Целее будешь.
— Защиту там снять можно? — переспросил Верис. — Несмотря на то, что там опасно
— Защиту снять нужно. Собственно говоря, она будет снята автоматически. Для этого мы и изолировали Землю, чтобы туда не вперся какой-нибудь неуязвимый обормот. Так что на Земле ты будешь абсолютно на равных с аборигенами. И современного оружия тоже не пронесешь, батареи разрядятся, иные источники энергии тоже работать не станут.
— И зачем же ты ушел на Землю, если там все так плохо?
— Потому что здесь было бы еще хуже. Совесть — это, знаешь ли, такая штука: сделал правильно, а она гложет. И никакая система безопасности избавить от этой беды не сумеет.
— Но ведь совесть… — Верис запнулся, понимая неуместность полного цитирования, — совесть разбирает, когда сделано хорошо, а кода плохо, и, если вы со своими друзьями делали как надо, то и совесть молчит.
— Совесть никогда не молчит, разве что помалкивает до времени. Дело в том, что люди, оставшиеся на Земле, заперты там навечно. Они не имеют бессмертия и, значит, продолжают нормально жить и размножаться. Происходит смена поколений, но развития нет. Планета истощена, она не выносит нового человечества. Так что надежды у тех людей нет никакой. И лишил их надежды я, когда изолировал Землю. По совести, после этого я должен разделить их судьбу.
— Понятно, — Верис кивнул, хотя и понимал, что понятно ему далеко не все. Но если задавать новые вопросы, разговор, как это уже случилось, пойдет по кругу. Все-таки перед ним часть программы, а не живой человек. Вопросы надо задавать конкретные и получать на них однозначные ответы. И Верис спросил:
— Если я пойду назад, собственная система безопасности снова включится?
— Нет, конечно. Она же не знает о тебе и не видит тебя. Нужно через личный жетон или общий терминал вызвать службу спасения, тогда тебя возьмут под охрану. Если ты, конечно, не будешь в это время на Земле, — Стан усмехнулся саркастически, — там ничего такого не требуется. Через личный жетон можешь поговорить с информационными сетями — и только. Кстати, обрати внимание, как оформлен портал. Пока ты подключен к общей системе, ты просто видишь внепространственные туннели. Но сам по себе человек не приспособлен к космическим путешествиям, поэтому там всю эту механику придется включать вручную. Если портал окажется разрушен, вход нетрудно обнаружить с помощью личного жетона. Сам понимаешь, с информационными сетями у тебя связь сохранится.
У Вериса не было личного жетона, но он не колебался и мгновения. Прощально кивнул Стану, сказал: «Ну, я пошел», — и шагнул в проход, за которым угадывал дрожащую пустоту пространственного прокола.
Казалось бы, ничего особенного не произошло — обычный гиперпереход — но, обернувшись назад, Верис не обнаружил прохода, из которого вышел. Там тянулся такой же пустынный берег, что и впереди.
Хотя Стан только что растолковал, что произойдет, Верис ощутил мгновенный укол удивления, смешанного с тревогой. У него действительно пропали почти все органы чувств, ведь на самом деле видела, знала и ощущала программа, а Верис пользовался ее данными, не задумываясь. На то они и данные, что даны изначально и не требуют, чтобы над ними задумывались.
За-думываться — приниматься думать. Но это же слово можно членить иначе, выделяя вместо приставки еще один корень, так что слово становится сложным: «зад» и «ум». И если ты не подумал заранее, то остается быть умным задним числом, когда уже ничего не исправишь.
Висел бы на шее личный жетон, Верис и не заметил бы пропажи портала. А теперь — ищи, где он находится и как активизировать невидимый проход. Ничего похожего на ручное управление порталом, которое Верис разглядывал секунду назад на заброшенной станции, здесь не оказалось. Берег был выглажен временем до естественной ровности.
Ровное место — человек, нахватавшийся вершков, но не обладающий настоящими знаниями, может подумать, что это то же самое, что «пересеченная местность». Мол, ровный — рассеченный многочисленными рвами. А на самом деле не ровный происходит ото рва, а наоборот. Ров — это выровненный ручей, текущий не по своей прихоти, а по указке мелиоратора.
На берегу не было ни рвов, ни остатков строений, указывающих, что некогда здесь находился прообраз нынешнего Транспортного центра. Один лишь вылизанный тысячелетиями берег. Путь назад отрезан.
Верис пожал плечами.
Что ж, как говорили в доисторическую эпоху: «Ты этого хотел, Жорж Данден». Никто не помнит, кто таков этот Жорж, но люди продолжают утешаться мыслью, что не только они пострадали от собственных необдуманных желаний.
Когда пути назад нет, самое бессмысленное занятие — стоять на месте.
Верис пошел вперед. Береговая линия плавно загибалась, и за ближайшим поворотом Верис увидал согнутого человека, который шуровал в воде незнакомым инструментом, выволакивая на берег груды водорослей. Худоба, обветренное лицо, дурная одежда — все в этом человеке возмущало взгляд.
Должно быть, это был раб. В крайнем случае — работник.
* * *
Прибежал Михаль и еще издали принялся кричать, размахивая руками:
— Идут! Идут!
— Черт! — Анита кинула веселку, которой перемешивала киснущие в чане крысиные шкурки, и метнулась в сараюшку, где хранился инструмент. Тут же появилась обратно; в руках у нее было двое вил — для себя и для Вериса.
Верис за это время успел вскочить и подумать мельком, что слово «чертыхаться» по большому счету должно означать реакцию человека на внезапную смену обстановки. Чертыхаться — подводить черту под делом, которым только что занимался с пользой и охотой, и спешно хвататься за иное, так некстати вынырнувшее. Немудрено, что безобидная черта в эту минуту превращается в небывалого черта — символ всего нехорошего, что может встретиться человеку в жизни.
Потом пришлось бежать вслед за Анитой по тропке к дальним границам селения, где никто не жил, а только стояли караулы, строго следящие за землями кучников.
Бегал Верис плохо. Не то чтобы собственные ноги не желали развивать нужную скорость, но без помощи программы они постоянно спотыкались о неудачно подставившиеся кочки.
«При-ходит-ся бежать!.. — твердил Верис в такт сбоящему дыханию. — Приходится — от ходить, а бежать — это бежать».
Времени, чтоб осмыслить языковой нонсенс, не было, все поглощал ритм бега.
И вдруг Верис понял, что они уже прибежали. Вторая линия засек, колючие кусты, набросанные непроходимым валом. Анита остановилась у самой колючей изгороди, сжимая вилы так, словно собиралась разбрасывать колючки, закрывающие проход. Другие люди, прибежавшие раньше, тоже ждали. У некоторых кроме вил были уже знакомые Верису стрелялки.
Все ждали, но только Верис не знал, чего ждут. Делать было решительно нечего, и Верис начал раздумывать над понятием «вилы» и ролью двойственного числа в русском языке.
Держу в руках вилы — множественное число, хотя инструмент один. Приблизительно то же самое, что ножницы или штаны. С ножницами все понятно, это два ножика, скрепленные вместе. У штанов тоже есть две штанины. В прежние века штанины натягивались на ноги по-раздельности, а потом скреплялись при помощи пояса и гульфика. Во всех подобных случаях видим единственное, двойственное и множественное числа. Одна — ножница, в паре — ножницы, много — ножниц. Одна — штанина, две штанины или пара штанов, много штанин или много пар штанов. А что такое вилы? Несомненно, вила — это каждый из острых штырей. Но штырь по-отдельности — не вила, а просто штырь, штык, шток. Вилы получаются, когда прутья образуют развилку, точно также как штаны образуются из двух сшитых штанин. В таком случае вилы (двойственное число) должны состоят из двух штыков на одной рукояти, хотя у Вериса их было три, а кое у кого из сельчан — и четыре. Странно, но не страшно; двойственное число охватывает не только два, но и три, и четыре предмета. Одна — штука, две, три, четыре — штуки, а пять — это уже много штук. Значит, и у штанов может быть три или четыре штанины. А что, поймал какую-нибудь четвероногую тварь, сшил на нее штанишки — и пусть бегает. А вот на осьминога штанов уже не сошьешь. Осминог-многоног.
Вилы в руках Вериса с тремя штыками. Так и называются — тройчатки. Даже в литературе упоминание есть: «Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжелее снопа ржаного». И опять загадка: зачем поднимать на вилах француза? Француз от слова «франтить» — франт, щеголь, изысканный модник. Французский язык, разумеется, никакой не язык, а манера разговаривать, принятая среди франтов: «Ах, мадам, я вами ошарманен, и такой адмирабль в чувствах, что я балдею!»
Что-то свистнуло у самого уха, заставив вздрогнуть и втянуть голову в плечи.
Перед засекой тянулась мокрая проплешина, кусты здесь были повырублены и стащены в колючий вал. И вот там, на открытом пространстве, появились знакомые фигуры попрыгунчиков. Они бодро шлепали по болоту, у каждого в руках была стрелялка, а из-за плеча торчала рукоять какого-то режущего приспособления: сабли, шашки, ятагана, кончара, палаша, тесака или катаны — Верис не мог точно сказать. Зато он ясно понял, что сейчас произойдет: сработают стрелялки, затем попрыгунчики выхватят свои железяки и примутся убивать.
Мыслеритм: «Оп-оп! Бей-бей!..» — был слышен едва ли не простым ухом. А сельчане стоят, держат в руках бесполезные вилы, словно собрались раскидывать единственную преграду, оставшуюся между ними и убийцами.
Струнно сработала стрелялка в руках бородатого Клааса, один из попрыгунчиков упал лицом в ржавую воду, но остальные продолжали бежать, высоко вздергивая ноги.
«Оп-оп! Мы — круть! Ух, ты! Бей-бей!..»
Потом с той стороны почудилась мысленная команда: «Пли!» — солдаты разом выпустили тучу стрел, Верис почувствовал, как что-то тупо ударило в плечо, а земля подвернулась под ногами, и Верис упал, выронив вилы, которыми так и не начал пользоваться.
Попрыгунчики приближались, мысли их столь несомненны, что не надо быть телепатом, чтобы представить, как атакующие полезут на засеку, затем обрушатся на деревенских и начнут кромсать их своими резаками.
«Оп-оп! Бей-бей!» — пульсировал боевой ритм.
Тогда Верис сделал единственное, что мог, — кинул навстречу бегущим картину правды.
Нет блистающих франтоватых воинов, нет славной победы над жалкими варварами, а есть болото, гнус, угрюмые люди, которым некуда бежать, и поэтому они будут драться. А вилы в их руках — страшное оружие, особенно, когда противник путается в колючках и не может сражаться. Есть страх, боль, усталость и снова страх и боль, чужие и свои, свившиеся в один исполинский бич, с оттяжкой хлестнувший разом по всей шеренге и по каждому из атакующих.
Не добежав нескольких шагов до засеки, попрыгунчики развернулись, спотыкаясь и падая, кинулись прочь. Бежали, утеряв всякую молодцеватость, размахивали руками и нестройно голосили:
— Оу!.. Облом! Облом!..
Приподнявшись на локте, Верис смотрел им вслед.
Больно, да? Так это всего лишь наведенная боль. Вот когда палка с молибденовым наконечником на самом деле вопьется в живое тело, это будет больно.
— Облом!.. Оу!.. Облом!
Атака отбита.
Когда последний из бегущих скрылся за кустами, Анита, так и не выпустившая из рук вил, обернулась и испуганно вскрикнула:
— Ой! Да ты никак ранен!
Верис не отвечал. Мир плыл перед глазами, тупая ломотная боль заполняла все естество, а то, что в таком состоянии пришлось наносить ментальный удар, ничуть не улучшало самочувствия.
— Да что ж это деется!? — причитала Анита, суетясь, вокруг упавшего. — Ведь говорила тебе — не стой на виду!
Ничего такого Анита не говорила, но Верис не мог возразить, провалившись в беспамятство.
* * *
Дед Мирча был стар. Если бы Верис к тому времени уже видел вечную книгу со «Сказкой о рыбаке и рыбке», он, несомненно, обратил бы внимание на глубинное сходство Мирчи и нарисованного старика. Но покуда он стоял и слушал непонятный разговор деда с бородатым Клаасом, который доставил Вериса в селение болотных варваров.
— Вот, привел. Кто таков — не понять. Говорит, но западает. А так — смирный, драться не пытался.
— Где его нашел? — чуть слышно обронил дед.
— Сам вылез. Прямиком на мою секретку. Я его издаля приметил. Пристрелить хотел, да раздумал. Идет, что дурманом окормленный, руками машет, сам с собой балаболит. Ничего не понять, но вроде по-человечески. Ну, я и не стал сразу стрелять, а сюда приволок. Вот он, судите.
— Правильно приволок, — дед Мирча кивнул. — Рассудим.
Он повернулся к Верису и, возвысив голос до дребезжащего тенорка, вопросил:
— Кто таков?
— Я Верис, — сказал Верис.
— Это хорошо, — согласился Мирча, вновь чуть слышно. — А откуда ты, Верис, взялся?
Вот он, вопрос, на который никак нельзя отвечать!
— Не знаю, что и сказать, — совершенно дурацкая фраза. Если не знаешь — зачем говорить? Но, с другой стороны, от тебя ждут ответа, и бородатый конвоир стрелялку покуда не убрал.
— Не помнишь, что ли?
— Помню кое-что, — сказал Верис, не покривив душой, ибо то, что осталось в памяти после потери связи с программой, другого наименования кроме «кое-что» не заслуживало.
— Понятно.
Что именно было понятно старейшине, Верис не знал, но переспрашивать не решился. Не то время, не та ситуация, чтобы вопросы задавать. Сейчас спрашивают его.
— Как среди кучников жил — помнишь?
— Помню.
— Это хорошо, что помнишь. И что тебя там делать заставляли?
— Ничего, — честно отвечал Верис, не видя всей несуразности своего ответа. — Ходил да смотрел, а сам ничего не делал.
Дед Мирча покивал согласно и вновь спросил:
— И кормили за так?
— Кормили. Что ж мне, с голоду помирать?
— Чего сбежал тогда?
А в самом деле, чего сбежал? Не сознаваться же в плагиате с античной комедии; дед Мирча, поди, и слов таких не ведает, для него ревизор — тот, кто ревет, зорит да орет. А может, оно и впрямь так, разве что не зорит ревизор, а зрит.
— Скучно стало, — сказал Верис меньшую правду. — Словом не с кем перемолвиться, вместо слов у них одни междометия.
Междометия — то, чем метят между словами — эмоциональные реперные точки, не несущие позитивного смысла.
Дед Мирча либо понял сказанное, либо просто привык слышать чудны́е слова и не удивляться им. Он ничего не переспросил, а задал новый вопрос:
— А у нас что собираешься делать? Мы за так кормить не станем.
— Чем скажете, тем и буду заниматься, — покорно сказал Верис.
Тоже вот странное слово: «покорный» — тот, кого можно безнаказанно корить, укорять, а порой и карать. Вокализм другой, но корень-то самый тот. На укоры Верис был согласен, а на кары — нет и потому добавил:
— А не позволите у вас остаться — дальше пойду.
— Дальше от нас пути нет, — усмехнулся дед Мирча. — Мы люди крайние.
Крайний — живущий на краю. Но это же — живущий в крайней бедности, стеснении и нищете. А сверх всего крайний — последний, после которого уже никого не будет. Вот и гадай, что хотел сказать дед Мирча? Трудно стало понимать слова, когда беседуешь не с программой, а с живым человеком.
Мирча перевел взгляд на негустую толпу поселян, явившихся поглазеть на судилище, выхватил одну из женщин, невысокую, плотную, с веснушками не только на лице, но и на полных руках.
— Что, Нитка, возьмешь новичка? Видишь, человек обещается делать, что скажут.
— Возьму, — Нитка согласно пожала плечами. — Что же мне, век одной доживать? А человек, видать, хороший.
Верис молчал, ожидая решения судьбы. Подумал лишь мельком, что имя у молодухи неподходящее, Нитка должна быть тоненькой, гибкой, а эта коренастая. И еще очень некстати подумалось: а у нее, что, и грудь в веснушках?
Хорошо, что новые знакомые мыслей читать не могли, обходясь, как и положено людям, одними словами.
— Коли возьмешь, так и ладно, — постановил дед. — Ты-то сам, добрый человек, вот к ней жить пойдешь?
Верис тоже пожал плечами, стараясь скопировать жест веснушчатой Нитки.
— Пойду.
— Так и живите, — дед Мирча повернулся и зашаркал прочь, всем видом показывая, что вопрос решен и больше обсуждать нечего.
Верис, не ожидая приглашающего жеста, подошел к Нитке. Он испытывал двойственные чувства, которые трудно выразить словами и невозможно спутанными мыслями. С одной стороны, молодая женщина вызывала у него чувство симпатии, с другой, не отпускало ощущение, что его только что передали этой женщине в собственность, как вещь или бессловесное животное. Хотя он-то как раз доказал, что словом владеет отменно.
Тут же припомнилось, как Линда рассказывала (сказывала всего один раз, но слова не забылись и теперь припомнились!), что прежде люди могли выжить, только совместно занимаясь делами. И любовь в те времена была не с любым, а исключительно в рамках совместного хозяйства. А если возникала любовь с кем-то посторонним (пришедшим со стороны), то она все совместное хозяйство могла разворотить и потому называлась развратом.
Верис перевел взгляд на свою хозяйку.
Это с конопатой Ниткой у него должна быть любовь? Смех да и только.
— Не западай, — сказала Нитка строго. — Люди смотрят.
— Не буду западать, — пообещал Верис, уже сообразивший, что глубокую задумчивость здесь не любят.
— Ты, значит, Верис, — Нитка говорила нарочито короткими рублеными фразами. — А взаправду тебя как зовут?
Вот это вопросец! Как зовут человека, чье имя произнесено вслух? Или она имеет в виду тайное имя, знание которого, по мнению древних, давало абсолютную власть над человеком? Называлось такое имя «рекло» и в обыденной речи его не позволялось произносить. Неужто здесь сохранились столь древние речевые атавизмы?
— У меня нет другого имени, — сказал Верис и, желая показать, что он не вещь, а тоже имеет право на вопрос, добавил: — А тебя, значит, зовут Нитка?
— Ниткой меня кличут, — сказала хозяйка, — А зовут меня Анита.
* * *
Страдать от раны в плече оказалось очень неприятно. Слово «страдание» однокоренное со словом «труд», и действительно в жизни немедленно появилось множество трудностей. Но чего не ожидал, так это боли. Раненый — еще и болен — очень неприятное открытие! Современный человек боли не знает, а вот древний был знаком с ней не понаслышке. Корень в этом слове столь древен, что растворяется в веках, и лишь неопытному взору чудится законченная форма «бол». Младенцы, хранящие реликтовые формы слов, знают самое архаичное произношение: «бо-бо!» А если глянуть в дословесную эпоху, то увидим звукосочетание, состоящего из неопределенного губного согласного и болезненного выкрика: «О!..» Сейчас Верис с трудом подавлял желание издавать эти звуки. Спасало, как всегда, языкознание. Боль тукает в плече, растекается оттуда по всему телу, а Верис составляет грамматические конструкции: боль яти себе — боятися. Прежде Верис не испытывал боли и, соответственно, ничего не боялся. Теперь он познал страх. Прежде, стоя под прицелом стрелялки, он не думал, что она делает настолько нехорошо.
Анита сидела рядом, меняла влажную тряпку на лбу, бормотала успокоительно: «У киски болит, у собачки болит, у Верика заживет, жирком заплывет». Не со здешней жратвы заплывать жирком, но слышать ласковые заговоры было приятно. Когда человеку больно, то и киске бо-бо, и собачке бо-бо. Эти животные прошли вместе с человеком путь в сто тысяч лет; на традиционных мирах, где стоят города и живут тысячи, а то и десятки тысяч людей, есть и кошки с собаками. Единственные животные, пошедшие за человеком в космос. Собака — потому что туда пошел хозяин, кошка — потому что ей так захотелось. Собака потому и зовется собакой, что она собственность человека, а кошка, как верно заметил древний мудрец, гуляет сама по себе; вот и догуляла до звезд. Хочешь позвать киску, изволь в согласии с законами ономатопеи издавать кошачьи звуки: «кис-кис!». Но только сама кошка решит, «кис-кис!» это или «кыш-кыш!».
Опять нарастает боль в простреленном теле, ширится, ломит
— Анита!
— Тут я.
На каких-то фантастических языках, французском или итальянском, корень «тут» означает: все, всюду, всегда
— Хорошо, когда Анита тут — всюду, всегда.
Через пару дней полегчало, тело уже не казалось неподъемным, тяжелым, болезнь не вдавливала его в постель. Здо́рово быть здоровым, но и выздоравливающим неплохо, во всяком случае этот процесс приятно откладывается в памяти, а жизнь есть не что иное, как память, то есть пометки о былом. Собственная программа запоминает все, каждый миг и любое душевное движение, поэтому памяти как таковой там нет, ибо пометки подразумевают выборочность. Лишившись дополнительной памяти, Верис обрел память истинную.
О таком думалось только когда Анита была рядом, а когда она уходила по делам, думалось, как она одна справляется, и не случится ли с ней чего дурного. Ну как опять прискачут попрыгунчики и примутся пускать стрелы с тяжелыми вольфрамовыми и молибденовыми наконечниками?.. Кто их остановит, устроит облом и обратит в бегство? Кто убережет Аниту и других жителей поселка? Особенно Аниту. Хозяйка, к которой Вериса решением глуховатого деда определили не то в рабы, не то в работники, почему-то стала дорога несостоявшемуся рабу.
Дорогой — родственно слову «дорога». Дорогой человек — тот, с кем хотелось бы пройти дорогу длиной в жизнь. Именно поэтому для бессмертных нет дорогих людей, как нет и дорог. Есть лишь окружающие и протяженность.
Вот только как это все растолковать Аните, никогда не изучавшей филологию?
Впервые Верис прочувствовал значение слова «косноязычный» — словно в подвижном прежде языке образовалась кость и не позволяет выговаривать самые простые слова, обращая речь в жалкий лепет. Анита слушала со странной улыбкой и гладила Вериса по здоровому плечу.
— Эх, ты, дурачок! Чего тебя на объяснения прорвало? Мы же с тобой с первого дня как муж с женой живем.
— Я не хочу «как», я хочу по правде.
Так оно и получилось. Боль отступила перед правдой, и напрасно Анита беспокоилась: «Осторожно, рану разбередишь!» — Верис беспокоился о другом — как сказать о любви, чтобы не аукнулась в душе ложная этимология: любовь — это когда можно быть с любой.
И любовь не подвела, Верис быстро пошел на поправку. Уже на следующий день он ковылял по дому, пытаясь справить хоть что-то свободной рукой, а через пару недель рана напоминала о себе только если приходилось поднимать что-то тяжелое или совершать резкие движения.
С Анитой установилась у него незримая связь, не такая изысканно-подробная, как с матерью или Линдой, но куда более прочная и постоянная. Не применяя специальных методик, Верис не мог бы считывать мысли своей подруги, но зато всегда знал, где она находится, в каком настроении пребывает, как себя чувствует.
Должно быть, такое состояние называется сочувствием.
Поэтому изменения, происходившие с Анитой, он заметил едва ли не раньше ее самой. Заметить-то заметил, а вот понять не мог, потому что в мужском языке таких понятий не существует до той поры, пока женщина не скажет, что их уже не двое, а трое.
Впервые сведения, полученные от программы, подвели Вериса. Уж он-то четко знал: дети бывают клонированные и естественные. Первые получаются выращиванием в инкубаторе материнской клетки. Во втором случае, зародышевая клетка образуется слиянием материнской и отцовской клеток и лишь потом выращивается в инкубаторе. Было очень несложно вызвать картинку и посмотреть, как это происходит фактически, но Верис почему-то не делал этого. Тайна рождения должна оставаться тайной. Куда привлекательней казалось представлять, как двое — будущий папа и будущая мама — с очень серьезными лицами несут к инкубатору светящийся шарик стасис-поля, в котором покоится их покуда не рожденный ребенок.
Умом Верис понимал, что инкубатор требуется точно такой же, в каком он, Верис, бывало, выращивал живые игрушки, всяких зверьков и монстриков, но в фантазиях представлялось нечто значительное, лишенное конкретных очертаний.
А тут будущий ребенок объявляется сам по себе, без анализа генетического набора, так что даже невозможно сказать заранее, мальчик получится или девочка, не говоря уже о цвете глаз или чертах характера. Маленькая живая тайна, которая умеет обойтись без стасис-поля, а вместо инкубатора у нее — мама.
В поселке к предстоящему событию отнеслись равнодушно, как к чему-то само собой разумеющемуся.
Слово «равнодушно» имеет отношение к душе, то есть к чувству, слово «разуметься» относится к разуму. То есть и чувство, и разум соседей остались спокойны, словно в жизни не переменилось ничегошеньки. Понять такое было невозможно, Верис принял это, как данность странного мира Земли.
Когда Верис попытался объяснить свое удивление Аните, а заодно рассказать, как рождаются дети во всем цивилизованном мире, Анита тоже осталась спокойной. Она провела ладонями по огрузневшей фигуре и ровно произнесла:
— Но ведь я лучше железного инкубатора.
И с этим нельзя было не согласиться.
* * *
Верька, ну прости ты дуру неумную! Я же не знала, честное слово, мне в башку мою дурацкую войти не могло, что такое возможно. Теперь смотрю на себя — волосы готова рвать. А ничего уже не поделаешь. Но ведь я действительно не знала
Понимаешь, я не нашла ничего лучше, как обратиться к твоей мамаше. Заранее было противно, но я думала, она тоже хочет, чтобы ты нашелся. Вот мне и стукнула в башку бредовая мысль, что вдвоем можно твои координаты определить. Все-таки она тоже с тобой на одной волне. Ты не смейся, я понимаю, что чушь горожу, но утопающий за соломинку хватается. В общем, встретилась я с твоей мамашей, и она рассказала, с какой целью тебя сделала. Ты знаешь, я, наверное, законченная мерзавка, но до такого додуматься не могла бы. И ведь я ни о чем ее не выспрашивала, только предложила вместе попытаться найти тебя. А она отвечает: «Вот еще. Он и так найдется, а если нет, то я другого сделаю, точно такого же». Тут я и ляпнула в простоте душевной: «Зачем?», а она этак спокойненько, простыми словами объяснила, для чего она тебя создала и как искалечила. Меня словно пыльным мешком стукнуло, сижу дура дурой, а она с усмешечкой меня рассматривает. Тут ко мне разум вернулся, и я ей показала одну штучку из старых придумок. Прежде я такого ни с кем не делала — совесть не позволяла, а тут — в самый раз. Мы с Гольчихой как великосветские дамы кофе за беседой пили — это я с ней контакты налаживать вздумала. Она чашку двумя пальчиками держит, мизинчик деликатно отклячен. Ненавижу!.. В кофе ей ничего подбросить не получится, программа не допустит, а на стол — сколько угодно. Ну, я воспользовалась телепортом и вывалила ей под нос кучу дерьма. Знаю я местечко, где смердючее зверье живет. Потом я очень лаконично объяснила, кто она такая и как с ней надо поступать. Ты хоть и филолог, а слов таких, наверно, не знаешь. Но почему-то меня совсем не утешает, как я твою мамашу говном накормила. Мелочь это, а в целом по жизни — облом выходит. Этого слова ты тоже небось не слыхивал, а у меня теперь вся жизнь обломилась. Хожу и ною: «Я же не знала, что с тобой происходит, вот и была беспросветной дурой». Верик, прости меня, пожалуйста. Мне очень плохо без тебя.
Линда.* * *
«Оп-оп! Оп-оп! Оп-оп!» — что-то в ритме, ставшем за последние месяцы слишком знакомым, на этот раз изменилось.
«Что-то» подразумевает неопределенность, но только до той минуты, пока не задумаешься над этой неопределенностью. В вопросе уже скрыт ответ: «Что?» — «То!».
Последнее время «что-то» заключалось во все возраставшей мощи приказа, который посылал попрыгунчиков в бой. С каждым разом становилось все трудней останавливать нападавших. Чтобы обратить их в бегство, было уже недостаточно показать им правду, приходилось изобретать дополнительные способы воздействия, без которых просто ничего не получится.
Прежде Верис не преминул бы задуматься над самоочевидным фактом, что глагол «получиться» находится в прямом родстве со словом «получше», но теперь он понимал, что излишняя задумчивость в такие мгновения вредна, и получиться может похуже, каким бы нонсенсом ни представлялось это сочетание.
Он спешно старался определить, что именно переменилось в хищной пробежке воинов-попрыгунчиков. Некоторое рассогласование в сигналах присутствовало и раньше; с тех пор как кучники поняли, что у болотных жителей появился мощный телепат, способный устроить облом отлично обученному отряду карателей, они уже не посылали солдат под командованием одного из чистых. Чистые теперь тоже ходили командами: одни гнали вперед попрыгунчиков, другие стремились прикрыть их от зловредного воздействия Вериса, третьи тщились ввергнуть Вериса в пучину депрессии, то есть, говоря их языком, забацать Верису облом. С последними приходилось всего труднее, ибо нельзя же наносить ментальный удар, самому полностью закрывшись от вражеского воздействия.
Как обычно, приставка «воз» несла оттенок чрезмерности. Воздействие — действие, которое трудно выдержать.
Арбалетчики, переполненные жаждой крови, бодро скакали по кочкам, стремясь достичь сухого островка, на котором располагался поселок. Обычно они выбирали для атак более удобное направление. А тут сама природа на его стороне, и, казалось бы, устраивать облом — одно удовольствие. Например, это можно сделать так:
Слово «кочка» происходит либо от искаженного «куча», «кучиться», либо от столь же искаженного «качаться». Блуждать между словами, выбирая подходящий вариант, можно сколь угодно долго, но Верис не собирался заниматься словоблудием. Филология должна работать на победу, и, значит, слово «кочка» происходит от глагола «качаться», также как «трясина» — от глагола «трястись», а «зыбун» от прилагательного «зыбкий». Все это с несомненностью доказывает, что слово «болото» находится в родстве с глаголом «глотать». Бежишь, а все кругом зыбко, тряско, качается и вот-вот проглотит.
Этот посыл и был направлен нападавшим.
Казалось бы, попрыгунчики должны разразиться жалобными воплями и, роняя оружие, бежать из страшных мест, но в данном случае это только казалось.
Случай — по-латыни — казус. Конечно, латынь — мертвый язык, но лингвисты, придумавшие его, знали свое дело, связывая случайность с кажимостью и, следовательно, с ошибкой.
Вместо ужаса с той стороны донеслась волна жертвенного восторга; попрыгунчики ускорили бег. Их не пугала возможность утонуть в илистой жиже, не страшили взведенные арбалеты и ножи поселян. Они жаждали мучений и стремились к ним со всей силой внушенной страсти.
Где кучники выискали индуктора-мазохиста, зачем обучали его, заставляя развивать свои извращенные способности, для чего кормили? Но они не прогадали, и теперь оружие Вериса обернулось против него самого.
Как устроить облом существу, которому любой облом в кайф? Прежде действительность была на стороне Вериса, и ему удавалось пересилить вражеских телепатов, но чистый мазохист не обманывал подопечных, он гнал их наслаждаться бедственным положением. Жизнь отвратительна, болото скверно и опасно? — Ну и пусть, в этом самый смак. — На сухих островках ждет противник, опасный, разжившийся оружием во время прошлых неудачных штурмов? — Тем лучше, в жизни нет ничего экстазней мгновения смерти. И попрыгунчики — Оп-оп!.. — продолжали форсировать топкое болото, хотя первые арбалетные болты уже свалили кого-то в грязь.
«Нас убивают! О, кайф!..»
Верис ни на мгновение не обманывался, ощущая исходящие от противника потоки жертвенности; мазохизм — жестокость не только к себе, но и к другим. «Другой» родственно слову «друг», а так приятно доставить другу мучения, к которым стремишься сам! Так что если кучники ворвутся в поселок, то резать будут особо извращенно, в полном соответствии со степенью жертвенности. Это значит, их придется убивать, хотя после недавних событий Верис очень не хотел проливать кровь. И все-таки убивать придется, хотя бы ради Аниты и годовалого Даля.
Босоногая Марька, одна из немногих оставленных в поселке, примчалась с криком:
— Идут! С той стороны тоже идут!
Теперь выбирать было не из чего. В любом случае дело кончится кровопролитием. С мгновенной отчетливостью Верис увидел, что произойдет дальше. Две волны попрыгунчиков сомнут прослойку болотных жителей и, не умея остановиться, сцепятся в бессмысленной резне.
«Как будто резня бывает осмысленная» — это была последняя отвлеченная мысль.
Больше Верис не пытался бороться против влияния мазохиста. Не пытался бороться и меньше — напротив, он усилил его действие. Сам по себе Верис не ощущал при виде своих или чужих мучений никакой радости и не мог рождать подобные ощущения даже у покорных кучников, но усилить чужое влияние можно, не вникая в подробности.
Если префикс «воз» означает чрезмерность действия, то приставка «под» разумеет действие недостаточное или частичное. Не работать, а подрабатывать, не глядеть, а подглядывать. Недаром любителям подглядывать всегда не хватает увиденного и все время хочется углядеть что-то еще. Подробность — приставка «под» и корень, восходящий к слову «работа» — этим термином означают не сработанное, то есть — важное, а в лучшем случае — подделанное. Поэтому в подробности можно вникать, а можно и пренебречь ими, занявшись делами насущными.
Вот они, насущные дела: попрыгунчики совсем близко
Оп-оп!.. Оп-с — прибежали. Зачем шлепать по болоту, рваться неведомо куда, если можно, не сходя с места, убивать и сладостно умирать самим?
Арбалеты были мгновенно разряжены друг в друга, затем в ход пошло ручное оружие, которому Верис не знал названия. Болотники добивали уцелевших, расстреливая их в упор.
Любоваться бойней Верис не стал. Вместе с теми из сельчан, кто не потерял головы, он мчался к засекам, где, по словам Марьки, тоже появились враги и где практически не было защитников. Оттуда доносились крики, поднимался дым. Очевидно, кучникам удалось ворваться в селение, хотя очи еще не видели этого. Но, как говорит пословица, кто выживет, тот и увидит.
Здесь не было чистого мазохиста, подобное диво — редкость даже для кучников, так что изгнать карателей удалось довольно легко, и на этот раз Верис не препятствовал односельчанам бить в спину убегавшим. Хотя чем провинились перед мирозданием безмозглые попрыгунчики, да и кучники вообще? Скорей мироздание провинилось перед ними. Запертые на нищей планете, насильственно отброшенные в развитии на многие тысячелетия, они сумели построить общество, где каждый был счастлив. Недаром их любимое слово — кайф! Одно из немногих слов, которые они сохранили, и как всякое слово, оно не может быть лживым. Иже и како не солгут никако.
А что касается безжалостной войны с поселянами, то дело не во взаимной ненависти. Это всего лишь драка за скудные ресурсы, обратившаяся в войну на уничтожение, оттого, что соперничающие расы слишком разошлись в развитии, не оставив точек соприкосновения. Одни сохранили язык и древнее искусство чтения. У других все основано на эмпатии, а язык если и остался, то в качестве быстро отмирающего реликта.
Умеющие говорить поселяне, несомненно, люди. А можно ли считать людьми кучников? Наверное, можно, ведь сам Верис владеет телепатическими методиками куда лучше, чем любой из чистых. Но вопроса: «на чьей стороне быть?» — перед ним не стоит, и не потому, что практически уничтоженные поселяне владеют языком, а Верис — филолог. Просто в этой деревне, возможно, последней на Земле, живет Анита и годовалый Даль, который недавно сказал Верису: «Па!»
По счастью семья Вериса не пострадала, хотя Анита уже готова была умереть, с вилами в руках, защищая Даля. Но в целом победа далась дорогой ценой: едва не половина домов в селении оказалась сожжена, четырнадцать человек, в основном старики и подростки, оставшиеся на засеке, — убиты.
Убит — значит, человека били так долго и старательно, что он больше не смог жить. Древнее значение слов предстает здесь во всей первобытности.
Попрыгунчиков оказалось перебито в пять раз больше, и это не считая тех, что сами себя изничтожили в болоте. Резать одуревших, до икоты перепуганных людей нетрудно даже женщинам и мальчишкам, особенно если дурни заслужили свою участь.
Попрыгунчиков было не жалко, по жизни они тащились и ласты склеили в масть, жалко, что жертвы с обеих сторон напрасны. Солдат у кучников имелось больше, чем нужно, так что они могли позволить себе сколь угодно большие потери. А одержавшие победу поселяне оказались в критическом положении. В борьбе нищенских ресурсов они были, если можно так выразиться, еще более нищи, чем их бессловесные противники. Слишком мало земли для огородов, совсем нет отвалов, где можно искать металл. И народа у поселян не так много; то, что для кучников не считается потерями, для болотных жителей — трагедия. Сегодня благодаря вмешательству Вериса удалось отбиться, но в целом болотные варвары обречены.
Со Ржавых болот придется уходить.
* * *
Великое чудо рождения обычно скрыто от мужчин, поэтому и смысл жизни для них оказывается непостижимой тайной. Только что были вдвоем, а неведомое стучалось в женском животе, предупреждая о своем приходе, и вдруг — вот он, настоящий, живой, наш безо всякого стасис-поля и инкубатора. Маленький, со сморщенным старческим личиком, разевающий в плаче беззубый рот, не знающий ни единого слова, но претендующий на всю вселенную, в которой он будет жить.
— Как мы его назовем? — спросила Анита.
— Даль! — ни секунды не колеблясь, ответил Верис. — Его зовут Даль.
— Пусть будет Даль, — согласилась Анита. — Далька хорошее имя. У нас, правда, такого нет, но теперь будет. Так звали твоего отца?
— У меня нет отца и никогда не было, — сказал Верис.
Он понимал, что на этот раз в правдивых словах нет истины; Анита понимает их по-своему, для нее фраза: «У меня нет отца» — означает, что отец погиб в бою или умер от какой-то болезни. И даже прибавление: «никогда не было» — положения не выправляет; Анита наверняка подумала, что Верис просто не знает, кто из мужчин был его отцом. И, наверное, к лучшему, что истинный смысл слов ей неизвестен.
— Даль — древний герой, — пояснил Верис. — Он научил людей разговаривать и писать книги.
— А до этого все были как кучники?
— Примерно так.
— Жуть какая! — Анита поежилась, а Верис вдруг подумал, что его подруга не знает о кучниках ничего. Они приходят и убивают — большего о них не нужно знать. Невозможно представить, что убийца занимается, чем бы то ни было, кроме своего кровавого промысла. Обжора — жрет, соня — спит, а убийца — убивает; иных занятий у них нет. Потому и страшно представить, что все могут быть как кучники.
Анита взяла упеленатого Даля, принялась баюкать его, словно не она, а Даль был напуган картиной безгласого человечества.
Баюкать — баять, говорить, уговаривать. Как бессловесные кучники нянькают своих детей, ведь, не зная слов, они не могут баюкать их?.. Впрочем, самого Вериса тоже никто не баюкал, вместо мамок и нянек у него была собственная программа. Потому и не сложились отношения с Гэллой Гольц. А если вспомнить, что изобретатель языка Владимир Даль сам родился в дословесную эпоху, то, значит, и его никто не баюкал. Тогда становятся понятны странные строки словаря, посвященные слову «мать»: «Эта кобыла — мать вашей лошади».
— А-а!.. Баю-бай!.. — пела Анита.
Баять — говорить. Что делаю? — баю. Что баю? — бай. Последнее тоже не с проста ума произносится. Еще одно древнейшее слово, просто первый звук в нем — глухое «п» — стал звонким из-за соседства со звонким «б» предыдущего слова. Должно быть: Баю-пай. Пай, пая — хороший, тихий, мирный. Баю-бай в переводе на современный язык означает: «говорю тебе, будь паинькой». Тысячелетней древностью веет от этих слов, и конца им не будет, пока люди остаются людьми. К сожалению, часть человечества впала в дикость и из всего сонма слов сохранила единственно изражение «кайф» и ему подобные. Иные люди, порхая среди звезд, заигрались настолько, что впали в дикость еще глупейшую. Подлинными людьми остались одни болотные варвары, которых, того гляди, перемешают с мокрой грязью алчные соседи.
— У нас теперь настоящая семья, — сказала Анита. — Завтра пойдем в святилище, показывать Дальку.
Святилище — корень «свят-свет» — нечто просвещающее темные стороны бытия. С другой стороны, гласная в слове не зря сменилась, слишком уж святость от света открещивается. Насколько помнил Верис, святилища предпочитают устраивать в подземельях, катакомбах и сумрачных храмах, что говорит о нелюбви к свету. Святилища посвящены всевозможным богам: бессмертным и всемогущим. Видом они подобны людям, если, конечно, не вздумали скуки ради отрастить клыки, когти или ноги с копытом на конце. Или, например, хвост. Чудо-юдо, боже мой!
Но даже те из богов, кто сохранил человеческий образ и подобие, на самом деле не люди. Они играют в людей.
Играть в людей — в три слова вложен двоякий смысл. Можно играть, изображая людей, притворяясь людьми, а можно играть людьми, как играют в куклы, забавляться людьми, пока не надоест, а потом оторвать наскучившей игрушке голову. С какой стороны ни посмотри, бог — это Гэлла Гольц.
Замечательно, что понятие бога возникло еще во времена Даля, а быть может, и раньше, что отмечено в многочисленных поговорках. «В какой земле жить, тому и богу служить», «Зачем тому богу молиться, что не милует», «На тебе, боже, что нам негоже». Все русские поговорки и пословицы показывают нелюбовь к понятию «бог». Есть и совсем жуткие приговорки: «Бог дал, бог и взял», «Господь посетил» или «Никто, как бог!» — для обозначения непоправимых бед и несчастий. И, наконец, «Страху господню научу» — обещание злобной и бессмысленной жестокости. Неужто и в те баснословные времена некто подобный Гэлле Гольц обитал во вселенной и приходил развлекаться на беззащитную Землю? А людская память, запечатленная в слове, сохранила об этом воспоминание?
Впрочем, о святилище Анита говорила безо всякого недоброжелательства или хотя бы тревоги. И Верис кивнул согласно. Надо же узнать, что это на самом деле, а не в размышлениях досужего разума.
На следующий день собрались и пошли. Идти пришлось на дальние острова, где располагалось лишь несколько хуторков. Близкое море перехлестывало здесь через дюны, вода в болоте была соленой, и огородничеством — традиционным занятием поселян — на дальних островах не занимались.
Болото густо заросло камышом и спутанной травой, похожей на ржавую проволоку. По весне проволока зацветала мелкими розовыми цветочками. Две недели заросли гудели пчелами, пчеловодство было основным занятием хуторян. Кроме того они собирали ракушки, улиток, прочую живность, не брезгавшую соленым илом. Пиявки в меду считались лакомством и целебным средством, ими Анита откармливала Вериса во время болезни, а Верис потчевал Аниту сразу после родов. За горшочек, полный лоснящихся черных пиявок, залитых тягучим проволочным медом, отдал стрелялку и два узких ванадиевых ножа, брошенных бежавшими попрыгунчиками. Первое время попрыгунчики бросали очень много оружия, так что поселяне смогли как следует вооружиться.
Во как оружились!
Когда проволочная трава отцветала и вместо розовых лепестком начинала осыпать путника тучей безжалостных колючек, пчелы летали на огороды и скудные поля, не видя никакой разницы между собственностью поселян и кучников. Верис порой думал, что предпринял бы главный, узнай он об этом преступлении? Наверное, приказал бы бить залетных пчел. Впрочем, судя по обедам чистых, у кучников тоже имелись пасеки, пчелы с которых по весне летали за взятком на Ржавые болота. Пчелам нет дела до политики, именно поэтому все на свете фигня, кроме пчел.
Тут и там из гниющей топи торчали огрызки стен, выкрошенные и стертые временем. Должно быть, когда-то здесь был город, но потом люди ушли, а пришло море, но не сумело затопить местность как следует; осталось соленое болото, перемежаемое развалинами, в которых трудно признать что-либо осмысленное.
— Что это?
— Руины.
— Я понимаю, что руины. А прежде, что было?
— И прежде были руины.
— Зачем?
— Не знаю. Старые люди строили, они знали, а нам не передали. И в книгах об этом ничего не написано.
— «Распалась связь времен», — процитировал Верис, отчаянно пытаясь вспомнить, откуда в собственную память запала эта строка. Был бы во всеоружии дополнительной памяти, вопрос бы такой не стоял, но зато и не заметил бы, что некогда строчка эта так легла на душу, что осталась не в машинной, а своей памяти.
— Святилище — в руинах? — спросил Верис, заранее готовясь увидеть нечто вроде полуразрушенной станции, где он разговаривал со Станом. Что-то особо прочно выстроенное или случайно сохранившееся — этого достаточно, чтобы простодушные жители болот начали обожествлять такое место.
— Оно само по себе, — ответила Анита. — Да ты увидишь, мы скоро дойдем.
— Давай, я Дальку понесу, — предложил Верис. — Ты же устала.
— С Далькой я как-нибудь сама управлюсь, а ты по сторонам зорче смотри, тут змеи встречаются. Жареные они хороши, а живая ужалит — тут тебе и конец.
«Жала у змей нет, — вспомнил Верис строку из словаря, — змеи кусают ядовитыми зубами».
Поправлять Аниту, впрочем, не стал. Не все ли равно, отчего умирать, если на болоте вместо того, чтобы крепче держать рогулю, увлечешься цитированием даже самого великого словаря.
Кстати, са́мого или самого́? Меняется ударение, меняется и смысл. Различные формы самости.
Болотная жижа справа от тропы извивисто шевельнулась, Верис, прервав размышления на полумысли, ткнул рогулькой, прижав скользящую гадину. Змея пенила воду, упруго извиваясь, но Верис изловчился и отсек ножом плоскую голову.
— Вот теперь она будет хороша, — проговорил он, упихивая еще шевелящееся тело в сумку. — Вернемся домой — зажарим. А то я прежде змей не ел.
— Голову тоже подбери, — посоветовала Анита. — Яд сцедим, будут лекарства.
«А ведь прежде, — подумал Верис, — я представить не мог, чтобы есть змей или вообще хоть каких-то животных. Я даже не знаю, что я ел в прежней жизни и откуда оно бралось. Хотелось есть — и я ел. Всегда вкусно, всегда то, что хотелось. А чтобы убить змею, а потом зажарить и съесть — кажется, это называется экстрим-питание. Линда, конечно, вдохновилась бы такой идеей, и с ее подачи толпы скучающих бездельников принялись бы душить змей, засахаривать пиявок, а потом поедать их ради небывалых ощущений. Беда в одном: как только ощущение испытано, оно перестает быть небывалым. Для бывалого человека небывалых вещей не существует».
Святилище располагалось на небольшом холме, в верхней части которого отыскался ход под землю. Верис, насмотревшийся на раскопки, которыми у кучников занимались работяги, сразу понял, что внизу располагается древнее строение, а вернее, его развалины. За тысячелетия ветром нанесло многометровый слой пыли, и если бы не старания людей, соорудивших штольню, можно было бы подумать, что холм имеет естественное происхождение.
Несколько шагов по коридору, облицованному грубым камнем, затем камень сменился металлопластиком, популярным во времена первой экспансии в Галактику. Этот маловажный факт Верис узнал во время восстановления заброшенной станции. Все-таки первое предположение оказалось верным: святилище — осколок прежней цивилизации.
— Священник — где?
— Какой священник? — не поняла Анита.
— Раз святилище, должен быть священник.
— Зачем?
Зачем нужны священники, Верис не знал и объяснил филологически:
— Раз есть святилище, то и священник должен быть. Примерно как огород и огородник.
— Без огородника огород в две недели забурьянет. А святилище стоит себе и стоит. Что ему сделается? Его рыхлить и пропалывать не надо.
Возразить было нечего, поэтому Верис сказал только:
— Давай, я впереди пойду, а то, если здесь людей нет, то внутрь может какая гадина заползти.
— Они сюда не заползают, боятся, — сказала Анита, но посторонилась, пропуская Вериса вперед.
Проход закончился дверью, новодельной, из плетеного камыша. Верис осторожно, стараясь не попортить чужую работу, отворил ее и увидал древнюю телепортационную станцию — копию той, где ожидала посетителей мнемокопия Стана. Конечно, здесь не сохранилось ни одного из тех наивных устройств, что украшали тот конец внепространственного туннеля, но зеркало портала уцелело и спутать его было нельзя ни с чем.
Анита подошла и положила ладони на полированную поверхность. По зеркалу побежали цветные сполохи. Сенсорное управление телепортом работало и было готово отправить посетителя в любой из доступных телепорту пунктов.
— Помнит меня, — сказала Анита.
Она распеленала сына и приложила его животиком к зеркалу. Зеркало полыхнуло всеми цветами побежалости.
— Видишь, и его признал. Младенцев он всегда признает. Теперь и тебе можно.
— А прежде почему нельзя было?
— Ты же еще не совсем свой был. Вдруг бы он тебя не признал? Говорят, туда провалиться можно. Прежде сюда пленных кучников приводили на испытание, так некоторые проваливались, и следа не оставалось, как глотало их.
— Понятно, — сказал Верис.
Оно и впрямь было понятно. Глухие варвары, напрочь лишенные телепатических способностей, не могли привести в действие лишенный ручного управления телепорт, а кучник, пожалуй, мог. И если в душе его царило единственное желание — оказаться подальше от схвативших его врагов, зеркало могло и сработать, отправив бедолагу неведомо куда. Вряд ли после этого его судьба была очень завидна.
— Что за испытание? — на всякий случай спросил Верис.
— Ай! — Анита огорченно махнула рукой. — Думали, если святилище кучника признает и не слопает, из него может человек получиться. Не, напрасный труд, ничего из него не получается. Сидит, хнычет, слова от него не добьешься, работы — ноль. Такого проще убить, чем прокормить. Да еще караулить надо, а то он к своим убежит. Вот и решили пленных больше не брать; кучники-то в плен не берут, сразу убивают.
Верис вспомнил, с какими намерениями мчались к нему два первых увиденных попрыгунчика, и больше не стал задавать вопросов. Если бы он тогда не внушил стражам порядка толику толерантности, его, пожалуй, не довели бы до главного.
Шагнув к установке, Верис прижал ладони к ртутно-скользкой поверхности и тотчас ощутил, что древняя машина работает. С самим внепространственным каналом, разумеется, ничего случиться не могло, ему не способен повредить даже взрыв сверхновой, а вот открыть его без помощи программы — затруднительно. Прежде Верис находил, открывал и создавал внепространственные проходы просто и безотчетно, не задумываясь, что делает это не он, а его всемогущий хранитель. На Земле он лишился возможности бродить по вселенной и, честно говоря, не слишком об этом сожалел.
Выражение «честно говоря», и без того кажущееся нонсенсом (как будто можно говорить нечестно!), на самом деле нонсенс сугубый, то есть двойной. Произнося эти слова, мы подразумеваем, что дело обстоит именно так, как говорим, но в глубине души шевелится червячок сомнения, а настолько ли все честно, как мы пытаемся доказать сами себе? Не исключено, что виноград был попросту зелен, а теперь созрел, и наше безразличие дало трещину.
Вот и теперь Верис ни о чем не сожалел, но когда перед ним появился изолированный и несовершенный, но работоспособный обломок программы, червячок сомнения вопрошающе приподнял голову, которой у иных червяков не бывает.
— Я знаю, что это такое, — сказал Верис. — Ничего чудесного здесь нет, это просто дверь в другой мир, тот, откуда я пришел. Я могу открыть ее и попасть туда. Но я туда не хочу.
— Вот я и говорю, что ты теперь совсем наш.
* * *
Второй раз кучники напали, когда Верис еще не вполне оправился от раны в плече. Но, услыхав всполошный крик, он выскочил из дома и помчался к засеке.
Страшно было, теперь он знал, как это бывает не понарошку, а на самом деле. Убивают не в игровой стрелялке, а взаправду.
Взаправду — два предлога, усиливающих действие и без того непреклонного слова «правда». Такая правда жестока и мучительна. Дурацкие тростинки с вольфрамовыми наконечниками убивают больно и навсегда. Уже не перегрузишься и не выйдешь из игры, и собственная система безопасности, дав наиграться, не спасет в последнюю секунду. Здесь Земля — естественная среда обитания, естественно пропитанная насильственной смертью.
Ноги стали непослушными, они не хотели бежать, но бежать было надо, иначе пружинистые безмозглые попрыгунчики прискачут сюда, где стоит его дом, не полученный от деда и не сколоченный собственноручно, но, все равно, свой — единственный во вселенной дом.
Поначалу Верис не знал, как назвать свое новое жилище, склоняясь к термину «хижина», но теперь знал — его дом, который надо защищать. И он добежал вовремя и устроил агрессору такой облом, что причитания убегавших были слышны от самой Помойки.
И все же в этом разгроме было что-то игрушечное, словно взрослый дядя обидел несмышленых малышей. Злых, жестоких, но все же малышей, которых стыдно обижать. Поэтому, обломав захватнические планы главного, Верис пробрался как можно ближе к границе и попытался вступить с главным в мысленную беседу. Не подавить его волю, а договориться, как положено людям.
Договориться не удалось, само это слово предусматривает разговор, а говорить главный не любил да и не мог толком. Едва он ощутил присутствие Вериса, в нем поднялась волна такой ярости, что Верис поспешил убраться.
Ржавые болота не представляли особой ценности даже по меркам нищей Земли, но мысль, что есть нечто, не подчиняющееся божественной воле начальства, была непереносима. Стоило ли добиваться высокого положения, если кому-то глубоко плевать на эту высоту?
Что может быть бескорыстней ненависти к инакомыслящему?
Верис не знал, была ли развернутая кампания по уничтожению глухих варваров вызвана его появлением или он так удачно подгадал, в последнюю минуту придя на помощь поселянам. Во всяком случае набеги кучников становились все чаще и ожесточеннее. Стягивались войска с других регионов, и не один, а несколько главных гнали их в бой. Как может быть несколько главных, Верис не понимал, но с этим фактом приходилось считаться.
— Я выпущу тебе кишки! — телепатически ревел очередной стратег, пропитывая жаждой убийства преумноженную попрыгучую толпу.
— А что потом? — подначивал Верис.
— А потом сожру их!
— Кишки — невкусно! — Верис, не раз видавший, как хаврон жрет падаль, транслировал столь омерзительное ощущение, что не только войско, но и вся округа не могла проблеваться и целую неделю страдала отсутствием аппетита.
Ненависть стратегов была так сильна, что Верис безо всяких хлопот знал, в какой именно день и час попрыгунчики пойдут в схватку. Конечно, это было удобно, Верис не был постоянно привязан к засекам, мог работать на огороде, выбирался на побережье, кусочек которого еще не успели оттягать кучники. А однажды даже сходил с Анитой и Далем к святилищу, которое оказалось заброшенным телепортом.
Кстати, блокировка, не позволявшая проходить через телепорт человеку с функционирующей системой безопасности, имелась и здесь. И это действительно было очень кстати. Не хотелось представлять, как начнут развлекаться соплеменники Вериса, вмешиваясь в войны между кучниками и обитателями болот.
Но никакое удобство не могло оправдать вечного существования в море ненависти. Особенно если вдуматься в значение слова «вечный».
— Мы с тобой теперь навечно вместе, — шепнула Анита, когда они все трое вернулись от святилища.
Даль, насосавшись материнского молока, спал, ничего не зная и не желая знать о том значении, которое его мифический тезка приписывал слову «мама», а Верис и Анита лежали, обнявшись, и Анита сказала:
— Мы с тобой теперь навечно вместе.
— Я не могу навечно, — сказал Верис и почувствовал, как Анита вздрогнула и застыла под его рукой.
* * *
После похода к святилищу в голову Вериса запала навязчивая мысль. Возможность вернуться (куда?) ничуть его не прельщала. Прыгать по галактикам — оп-оп! — чего ради? Здесь дом, пусть не из дерева ба, а из лозняка и камыша. Здесь семья. Конечно, их еще не семеро, но это, как сказала Анита, дело наживное. Не давало покоя воспоминание о великом множестве книг, виденных в библиотеке. Множестве, которое остается пустым, потому что эти книги никто не читает.
В поселке имелось полтора десятка вечных книг, целых и сохранившихся фрагментами. Некоторые из них были понятны, смысл других оставался темен, но все книги бережно хранились, и детей непременно учили грамоте. Поговорку: «Слово серебро, а молчание золото» — здесь понимали в том смысле, что молчание — это слово не звучащее, а написанное в старой книге или на куске лыка или тонко выделанной кожи. В грамотности болотные варвары видели свое отличие от цивилизованных кучников.
Принести им хотя бы пару книг.
Анита, когда Верис поделился своими планами, перепугалась.
— Не надо! Лучше без книг проживем. А то провалишься туда и не сможешь вернуться.
В конце концов Верис настоял на своем. Мужчина всегда добьется своего по части мужских дел: пойти, рискнуть, добыть. Анита провожала его, словно на войну, шла с Далем на руках и остановилась лишь у входа в святилище. Дальше Верис идти не велел — это были бы уже не проводы, а совместный поход. Причем многое зависит от того, какой смысл вкладывать в слово «проводы».
Провожать — буквально «вести сквозь». Сильный и опытный человек провожает беззащитного, чтобы в пути с ним не случилось никакого худа. И когда женщина провожает мужчину навстречу неизвестности, она тоже хочет быть сильной и знающей, чтобы оградить от бед, могущих приключиться. А мужчина, глупый, хоть и понимает тревогу женщины, но полагает приключение основой жизни.
Верис положил ладони на зеркало и мгновенно вошел в контакт с сенсорным управлением телепорта. А ведь первые путешественники, должно быть, открывали проход иначе, но те системы управления, по счастью, не сохранились. По счастью, потому что незачем дикарям играться с системами межзвездной коммуникации. Тем дикарям, что уже гуляют между звезд, тоже незачем там быть, но с ними уже ничего не поделаешь.
Системы управления погибли, но само зеркало уцелело. На берегу, там, где Верис впервые ступил на поверхность Земли, от телепорта не осталось вообще никаких следов. Титановая окантовка портала и само зеркало, сделанное из полированного серебра, должно быть, давно переплавлены кучниками или, выломанные и унесенные в резиденцию какого-нибудь главного, бесполезно стоят как символ власти.
Конечно, слово «власть» происходит от глагола «владеть» — иметь в личной собственности. Но не избавиться от ощущения, что рядом обретается глагол «волочить». Власть волочет под себя все, что попадется под руку, а подвластные влачат жалкое существование.
С полминуты Верис разбирался с несложным управлением транспортной системы. Ага, отсюда можно попасть на любой из двадцати, а верней, девятнадцати первых проколов — значит, выбираем тот путь, по которому пришли сюда. Во всяком случае, там есть годный для дыхания воздух и все предусмотрительно приведено в порядок.
Итак…
— Добрый день! — Стан поднял голову. — Нагулялся?
— Да, — сказал Верис. — По гроб жизни нагулялся.
— Вон там, — Стан кивнул в сторону одного из стендов, — можно восстановить контакт с системой.
— Нет, — Верис качнул головой. — Этого мне не надо. Зачем мне? — прыгать по галактикам: Оп-оп?.. Я же сказал, что давно нагулялся. Там на Земле — мой дом, а сюда я на минуту заглянул, по делам, взять кое-что.
— Серьезное оружие не пропущу, — предупредил Стан.
— Серьезнее не бывает. Книги из библиотеки. Они там все равно без дела томятся.
— Книги — пожалуйста.
— Я пойду, — полувопросительно сообщил Верис.
— Хотя бы на время, что ты здесь, систему безопасности включи. Мало ли что.
— Не-ет. Эту заразу я больше не надену. — Верис улыбнулся и по восстановленному проходу пошел к порталу общей транспортной системы.
В библиотеке царил привычный порядок. От двухлетней давности разгрома не осталось и следа, ряды книг, больших и махоньких, тонких и толстенных, стояли на восстановленных стеллажах. Верис беспомощно огляделся. Что брать? С помощью системы он бы не глядя выбрал нужные книги — а теперь? Где-то под рукой находится автономная справочная система библиотеки, но просто так и ее не найти. Читать или хотя бы пролистывать все книги подряд — немыслимо.
В конце концов Верис двинулся по бесконечному проходу, отбирая те книги, что потоньше. Тоненьких книг можно принести много, и, значит, больше вероятность, что среди них попадутся действительно полезные.
Заплечный мешок, предусмотрительно захваченный из дому, вскоре был полон. Мешки эти делались из козьих шкур, которые сдирали с забитого животного целиком. Мешок так и назывался: сидор — от слова «сдирать». А коза, обреченная остаться без шкуры, — сидорова коза. Я тебя, как сидорову козу! — угроза старых времен. Написано ли об этом в книгах, что любовно уложены в сидор?
Мешок полон, можно уходить, но Верис медлил. Зачем-то прошел в одно из хранилищ, ничем не выделяющихся среди прочих, остановился у одного их безликих стеллажей, сдвинул том, название которого ничего ему не говорило, и увидел жетон, который семнадцать лет, не снимая, носил на шее. Именно сюда он засунул его два года назад — первая наивная попытка уйти, став невидимым. Прошло два года времени и бездна событий, а жетончик, который когда-то определял всю его жизнь, так и валяется, никому не нужный, никем не найденный.
Какие глупости тогда занимали его, казались важными!.. Нет, конечно, филология осталась, но живой маленький Даль куда важнее книжного Владимира Даля.
Мучимый ностальгией, Верис взял медальончик, и тот, узнав владельца, ожил.
База каких-то данных, без которых казалось невозможным обойтись, детские — иначе их не назвать — заметки и размышления. И письма, которых прежде Верис никогда не получал.
«Привет, Верька!
Честное слово, ты меня поставил в тупик»
письма, тональность которых меняется от одного послания к другому
«Целую в щечку»
«Я вправду соскучилась»
«Все-таки хорошо, что мы на одной волне, и я каждую секунду чувствую, что ты есть. Если можно, откликнись»
«Верик, мне очень плохо без тебя. Прости меня, пожалуйста»
И всюду одно имя — Линда.
Не екнуло сердце, не обдало жаром воспоминание. Только неловкость, словно стыдно стало за прошлую глупость. И еще — жалко Линду, словно он виновен в чем-то.
Жестокая штука жалость — она всегда жалит. Иногда — жалеющего, чаще тех, кого жалеют. Жалость впустую уязвляет сердце; кому можно помочь, того не жалеют. Конечно, все это мужская точка зрения, женщины умеют жалеть, не унижая. Но Верису сейчас было жалко женщину, воспоминание о которой не вызывало в душе ничего, кроме чувства неловкости.
Он положил жетон на прежнее место и торопливо ушел, стараясь не вспоминать отчаянное: «Я же не знала!»
И лишь потом, покинув Транспортный центр, очутившись на заброшенной станции, где дежурила бессонная мнемокопия Стана, Верис вдруг не вспомнил, а прочувствовал еще одну фразу, заставившую без сил опуститься на пол и застонать, завыть сквозь сжатые зубы. Слова эти Линда только повторила, а принадлежали они Гэлле Гольц, матери, маме, любимой мамочке: «Если он сам не найдется, я другого сделаю, точно такого же».
Долго сидел, сжав голову руками, благо, что никого рядом не было, никто не мог подойти, посочувствовать. Такие вещи чувствуют и переживают в одиночку, сочувствие здесь лишне. Постепенно жуть и отчаяние перекристаллизовались в холодную отточенную ярость. Что же, раз так, пусть будет так. Но никого другого Гэлла Гольц не сотворит. Эта кобыла мать вашей лошади и ничья больше.
Поднялся, пошел к телепорту. Надо отдать книги, успокоить Аниту и продумать в подробностях, что делать дальше.
Слово «подробность» однокоренное с работой. Теперь-то он знал, чем работа отличается от игры и от понятия «дурью маяться». Работа делается всерьез.
* * *
Язык мал, а человеком ворочает. Скажешь верное, единственно правильное слово, а близкий человек не понимает или, хуже того, понимает превратно.
Превратно — воротит с правильного понимания, да не просто, а с переизбытком.
— Мы с тобой теперь навечно вместе, — произнесла Анита, прижимаясь к Верисовой груди, и в ответ услыхала истинные, но превратно понятые слова:
— Я не смогу навечно.
Анита вздрогнула и сжалась, словно Верис ударил ее по лицу в минуту, когда этого меньше всего можно было ожидать. И Верис, ощутив ложь, скрытую в правдивых словах, сказал то, чего не хотел бы говорить никому и никогда:
— Я не смогу навечно, потому что я должен умереть.
— Почему, умереть? Отчего? — испугалась Анита, мгновенно забыв о прошлом испуге.
— Просто умереть, от старости. Как тот старик на картинке. Поэтому веками моя жизнь измеряться не будет, даже один век вряд ли на мою долю достанется. Скорей всего проживу еще лет семьдесят, а потом умру.
— Фу-ты! — Анита выдохнула, словно воздух выпустила из ослабевшего тела. — Нельзя же так пугать! Помру, щас помру! Да семьдесят лет — это целая вечность! У нас разве одному только деду Мирче за семь десятков.
— Не понял, он, что, смертный?
— Конечно. Все люди смертные.
— И ты тоже?
— И я.
— Через сто лет ты умрешь?
— Куда мне столько? Раньше помру.
— Как же ты тогда можешь говорить о вечности?
— Вот потому и могу.
Потом Верис много думал над этими словами и понял их правоту, но тогда прочувствовал лишь бесконечную несправедливость происходящего.
— Я не хочу, чтобы ты умирала. И наш сын — тоже. Я хочу, чтобы вы были всегда.
— Глупенький!.. — Анита расслабленно ткнулась лицом ему в грудь. — Обещаю, что не умру и буду жить до самой смерти.
Они рассмеялись, снимая напряжение, так что стало возможно говорить о чем-то ином, но Анита через полминуты вернулась к поразившей ее теме
Тема — это когда говорят с тем и о том, что волнует и кажется важным.
— У вас там, за зеркалом, что же, получается, одни бессмертные живут?
— Кроме меня — все бессмертные, — нехотя ответил Верис.
— Ты поэтому оттуда ушел?
Верис задумался.
А, собственно, почему он ушел оттуда? Там у него было все, кроме бессмертия, но бессмертия нет и здесь. Кроме того на Ржавых болотах над ним непрерывно висит угроза прежде времени расстаться со своей короткой жизнью. Под защитой системы можно есть, пить, развлекаться, не думая, откуда все берется, а на делянках и огородишках, разбитых на буграх, что кучатся среди болот, приходится ломать спину и портить руки, чтобы вырастить, стомаха ради, скудный урожай капусты и турнепса. Надо отстаивать свой срок на засеках, карауля недобрых соседей, ухаживать за общинным стадом: козами и свиньями, умеющими находить пропитание на болотах. Ни одного преимущества нет у жизни на Земле, но почему-то покидать Землю не хочется. Хотя можно было бы уйти, забрав Аниту и Даля, снабдить их неуязвимостью, а самому остаться невидимым, чтобы ни мама, ни Линда не смогли его обнаружить. Линда со своей ненужной страстью, а мама — потому что век бы ее не видать. Весь отпущенный век, неважно, сто лет или всего семь десятков.
Хотя — то есть желая. Уйти можно только хотя, а Верис не хотел, чтобы Даль когда-нибудь стал таким же, как Линдины приятели. Макс, Микс, Леля, Леля. К Далю Линда подобрала бы какого-нибудь Дуля. И очень гордилась бы, что в ее свите есть смертный. «Он скоро умрет, представляете? Не обижайте бедняжку, ведь мы будем всегда, а его не будет».
Так вот, не будет таких шепотков и такой жалости! Довелось родиться смертным — живи сам по себе, а не в свите сумасбродной вечной девицы.
— Как случилось, что ты уродился простым человеком? — спросила Анита.
— Мама захотела, чтобы я когда-нибудь умер, и сделала меня смертным.
— Зачем?! — на одном выдохе ужас, удивление и боль за любимого человека.
— Понимаешь, они там бессмертны, неуязвимы и почти всемогущи. У них безо всяких хлопот есть все, кроме смерти, поэтому им смертельно скучно. Их уже ничто не радует и не развлекает. И вот моя мама решила поиграть в смерть и сделала меня. Когда мы рядом, она может читать мои мысли, чувствовать, что чувствую я — почти что быть мною. Это для того, чтобы испытать чувство смерти, когда я буду умирать. Мы умрем вместе, только я на самом деле, а она — понарошку. Для этого я ей и нужен.
Анита давно уже сидела на постели, зажав рот двумя руками, словно боялась закричать. Наконец проговорила сдавленно:
— Это не мать, это чудовище. Таких душить надо. Убивать, как крыс.
— Как ее убьешь? — усмехнулся Верис. — Она меня может, я ее — нет.
— Все равно я бы ее своими руками прикончила, и не за то, что она тебя, а за то, что она так! Не знаю даже, как это назвать. Гадина она и даже хуже!
— Ужа уже и даже хуже, — срифмовал Верис. — Успокойся, и не надо о ней. Сюда она никогда не доберется, так и пусть ее.
Когда человек говорит «пусть» — он собирается пустить не к себе, а от себя. Анита не знала этих тонкостей, но сказанное поняла и постепенно успокоилась. Больше они не говорили о вечности, смерти и Верисовой маме. Но оба помнили об этих вещах.
Вещь — то, о чем можно говорить, вещать. А если молчать, то и вещи не будет — она исчезает по меньшей мере из нашей жизни. Однако во время похода за книгами письмо Линды напомнило, что мама никуда не делась, что она по-прежнему делает вещи, впрямую касающиеся Вериса.
Анита поначалу не заметила ничего, радовалась, что муж вернулся из похода в зазеркальный мир, разбирала книги, большинство которых оказалось напрочь непонятными.
— Что такое фельдегермейстер? — Анита с трудом выговорила незнакомое слово.
В иное время Верис не преминул бы высказать пару остроумных гипотез, что могла бы означать подобная языколомная конструкция, но сейчас ответил коротко:
— Я тоже не знаю.
Анита отложила книгу, сразу потерявшую для нее интерес, подошла к Верису, положила ладони ему на плечи, заглянула в глаза:
— Что случилось?
И Верис рассказал.
Больше всего он боялся, что Анита скажет: «Ну и что? Тебя это не касается, ты ушел оттуда — и ладно; никакая Гэлла Гольц тебя не сможет найти», — но Анита сразу согласилась ему помочь, хотя именно на ее долю приходилось самое трудное.
Даля оставили у соседки, которая обещала позаботиться о мальце наравне со своими спиногрызами, — и пошли. По дороге Верис подробно объяснял Аните, что и как ей надо делать. Анита шла молча, лицо у нее было такое же, как в ту минуту, когда она с вилами в руках стояла у засеки.
Взявшись за руки, они прошли телепорт и очутились все на той же прекрасно восстановленной станции. Увидав Стана, привычно сидевшего за своим столом, Анита вздрогнула.
— Ой, кто это? Здравствуйте.
— Добрый день, — отозвался Стан.
— Не обращай внимания, — сказал Верис. — Это морок.
— Морок-то морок, но не вполне, — возразил Стан.
— Мы ненадолго и по делу. Скоро пойдем назад.
— Про оружие помните?
— Помним, помним. Я даже арбалет местный по ту сторону телепорта оставил. И нож тоже.
— Ну, в добрый час. Интересно будет посмотреть, чем твои игры кончатся.
— Я не играю, — сурово поправил Верис. — Пошли, Анита.
Через второй телепорт Анита шла, уже не зажмуриваясь.
В библиотеке Транспортного центра было, как обычно, безлюдно. Анита окинула взглядом бесконечные стеллажи, тихо сказала: «Ох!», но не отвлеклась ни на мгновение. Глаза отчаянные, лицо решительное, только веснушки пятнают побледневшую кожу особенно ярко. Такая не отступит и не подведет.
Верис добыл жетон, не глядя, активировал вызов и протянул голубую блестку Аните.
— А, Верис объявился, — донесся мамин голос.
— Здравствуйте, — четко произнесла Анита. — Я жена Вериса. Если вы хотите встретиться с ним, я могу вас к нему проводить.
«Эх, — подумал Верис, — надо было предупредить, что говорить следует на «ты». Обращение на «вы» у нас давно забыто, так только справочная система говорит».
— Жена, — пропел голос Гэллы Гольц. — Тут уже приходила одна жена.
«Сволочь!» — совершенно не по-сыновьи подумал Верис.
Что касается Аниты, ее затвердевшее в решимости лицо не дрогнуло. Искра жетона лежала у нее на ладони, и Анита, в жизни не видавшая ни единого средства связи, кроме посыльного мальчишки, продолжала вести переговоры.
— Вы не ответили, хотели бы вы его видеть.
— Почему он сам не связался со мной?
— Он не хочет, чтобы вы знали, где он сейчас живет. Если вы согласитесь встретиться со мной, я завяжу вам глаза и отведу к Верису. Но дороги вы знать не будете.
Нет, хорошо, что Анита говорит на «вы». Среди многих странностей нелепость завязывания глаз не так сильно бросается в глаза, покуда не завязанные.
Мама была далеко, и Верис не разбирал ее мысли, но и без того отлично представлял, что творится в ее душе. Нежелание, чтобы ее опять накормили дерьмом, перемешивается со жгучим любопытством. Ведь каким-то образом сын пропал, хотя такое кажется абсолютно невозможным. Ради того, чтобы узнать такую тайну, можно многим рискнуть. А завязывание глаз — только такой олух, как ее ненаглядный сыночек, может думать, будто завязанные глаза хоть в чем-то ограничат возможность подглядывать. У собственной системы безопасности слишком много органов чувств, и среди них — чувство ориентации, позволяющее с закрытыми глазами пройти там, где ходил хотя бы однажды.
Да и вообще, что такое завязанные глаза? Говорят, доисторический человек восемьдесят процентов информации получал от зрения. Современный человек девяносто процентов информации получает от программы, так что зрение, слух, обоняние, осязание и чувство вкуса нужны ему лишь для комплекта.
Слово «лишь» указывает, что если имеется программа, все остальное — лишнее.
— И где мы встретимся? — поинтересовался мамин голос.
— Транспортный центр, рекреационная зона, у входа в аромотеатр, — без запинки отстрелила Анита фразу, которая должна казаться ей сущей белибердой. Или тарабарщиной? Есть еще термины «галиматья» и «абракадабра». Происхождение их различно, а вот значение… Пожалуй, лишь для обозначения бессмыслицы имеются в русском языке синонимы.
— А маячок поставить слабо́?
— Слабо́, — отрезала Анита, не вдаваясь в объяснения, которых у нее не было.
— Ну, ладушки. Через десять минут я буду, — голос снисходительный, с ленцой, но за показным безразличием бушует любопытство. Предстоит развлечение, какого еще не бывало.
Что же, она права. Такого не бывало и вряд ли будет еще.
Теперь надо спешить. Если мама появится в Транспортном центре, когда здесь будет Верис, она сможет почуять и выследить его без посторонней помощи.
Жетон сунули на привычное место позади толстого тома, и Верис помчался к ближайшему телепорту. Аните спешить было не нужно, аромотеатр находился рядом с библиотекой.
— Ты, главное, помни, что она не стареет и выглядит очень молодо! — крикнул Верис, убегая.
Он уже говорил это несколько раз, но повторился, потому что занозой засела в памяти реплика: «Тут уже приходила одна жена», — и Верис испугался, что, увидав юную Гэллу, Анита не поверит, что это Верисова мама.
На станции Верис за минуту пришел в себя и отдышался.
Сейчас, наверное, мама уже встретилась с Анитой, они обмениваются ничего не значащими фразами, мама морщит носик (от живущих на Ржавых болотах всегда пахнет), Анита демонстрирует шапку, которая закрывает не только глаза, но и уши, что немаловажно, потому что говорить со Станом можно и не видя его.
— Где твоя спутница? — спросил Стан.
— Сейчас будет. Она задержалась, чтобы привести сюда еще одну женщину. Они не станут разговаривать, а сразу пройдут на Землю.
— Собственная система отключается автоматически, независимо от того, говорили со мной или нет.
— Я знаю.
Кивнув прощально, Верис прошел через телепорт, взял свои вещи и вышел из святилища. Присел на трухлявый выветрившийся камень. Теперь оставалось ждать и надеяться, что Анита не подведет.
Что Гэлла Гольц объявилась в святилище, он понял мгновенно. Мысли ее были остры и обрушились на Вериса каскадом. Мама тоже угадала Вериса, она напоминала сейчас хищника, напавшего на след, азарт погони занимал ее, и из-за этого она не сразу поняла, что у нее исчезли все искусственные органы чувств. Может быть, она успела бы встревожиться, но Анита, дождавшись разрешающего кивка, сдернула кожаную шапку, и мама увидала Вериса.
— Верик, — голос мамы был ласков. — Соскучился? Я знала, что так будет. Ну куда ты без меня
Она попыталась по-хозяйски, как привыкла, вломиться в его душу, но Верис, которому последние месяцы приходилось противостоять телепатам кучников, с легкостью закрылся.
— Ты повзрослел, — сказала мама.
— А ты по-прежнему хочешь насладиться моей смертью?
— Почему бы и нет? — спокойно произнесла мама.
— Моей смертью, — повторил Верис.
— Верик, подумай, если бы не это невинное желание, тебя бы вообще не было. Совсем. Никогда. Никакого.
— А ты меня спросила, согласен ли я на подобную роль?
— Когда я задумала эту штуку, тебя не было, так что мне некого было спрашивать. Но заметь, Верик, я не мешаю тебе жить. Я не гоняюсь за тобой по метагалактике, наподобие твоей первой девицы. Кстати, у тебя дурной вкус, твоя вторая пассия тоже не блеск.
Верис переменился в лице и поднял приспущенный было арбалет.
— Но это все фигня, — продолжала мама, не замечая угрожающего движения. — Живи с кем хочешь, это твои проблемы, мне нет до них дела.
— Тебе есть дело только до моей смерти.
— А почему нет? — живо возразила мама. — Или ты думаешь, что умирать в одиночестве приятнее? А так рядом будет родной, близкий человек. Все твои девицы скоро наскучат тебе или сами разбредутся, а мама — на всю жизнь.
— А кто только что говорил, что моя жизнь — фигня и тебе нет до нее дела?
— Опять ты за свою болтологию! — отмахнулась мама. — Будешь цепляться к словам — я уйду и больше не вернусь.
— Никогда?
— Только когда почую, что ты собрался отдавать концы. Или я зря возилась с тобой столько времени?
— А, в самом деле, — поинтересовался Верис, — зачем ты возилась со мной столько времени? Я ведь нужен тебе не для жизни, а смерть — дело быстрое.
— Ты думаешь, я не пробовала? Ну, смастерила я младенчика с врожденным пороком сердца, так он помер, так ничего толком не поняв. А уж возни было, чтобы его собственная программа не вылечила! Нет уж, надо, чтобы ты человеком вырос, вкус к жизни узнал, любовь, а можно и ненависть — пожалуйста, я не против! Вот тогда будет полный кайф — или я ничего в этой жизни не понимаю. И если даже с тобой облом получится — не беда; редкостное блюдо готовится долго, и к нему нужно свои ручки приложить, программе такое дело доверить нельзя, там слишком много ограничений. А когда готовишь собственноручно, первая лепешка выходит комковатой, так, кажется, утверждает стилистика? Вот ты и есть та самая комковатая лепешка. Но не огорчайся, тебя я все равно скушаю. Соус из ненависти ничуть не хуже, чем из любви. А потом сделаю любимого сына. Опыт теперь есть, второй раз комом не получится.
— Ты подавишься мною и никого больше не сделаешь, — Верис покачал головой, но арбалет в его руках не дрогнул, и стрела, та самая, что когда-то пробила его плечо, смотрела точно в живот ничего не понимающей маме.
— И как ты сможешь мне помешать?
— Я убью тебя. Убью прямо сейчас.
— Убьешь?!. — мама расхохоталась, громко, весело, запрокинув голову. — Верик, ты рехнулся! Ну, как ты меня сможешь убить?
— Комара со лба сгони, — подсказал Верис, продолжая держать маму на прицеле.
Мама послушно провела ладонью по лицу и только теперь ощутила неприятный зуд. Недоуменно глянула на раздавленное насекомое и кровавое пятно на ладони.
— Какая гадость! Что это?
— Комар, — любезно пояснил Верис. — Видишь ли, мы на Земле, а здесь система безопасности не работает. Тут даже комар может тебя укусить.
Верис не пытался проникнуть в мамины мысли, но отчетливо ощутил смятение и испуг. Мама только сейчас осознала, что привычное и потому незаметное присутствие всеблагой программы сменилось зияющей пустотой. Наверное, она пыталась телепортироваться куда-нибудь в безопасное место или уйти в энергетический кокон, но обнаружила, что отчего-то разучилась этим полезным умениям. Так оно и бывает — если учился разок, между играми, то непременно разучишься. И случится это в то мгновение, когда меньше всего ожидаешь такой подлянки. Кучники и им подобные такую ситуацию называют обломом.
— А?.. Что?.. — выкрикнула мама. — Немедленно выпусти меня отсюда!
Она кинулась к дверям святилища, но Верис, стоявший на ее пути, дернул спусковой крючок, спустив стрелу в короткий полет. Зазубренный вольфрамовый прут вонзился в живот, где никогда не было Вериса.
Мама делала по инерции еще один шаг, согнулась, словно хотела спрятать торчащий из тела штырь, и упала. Руки беспомощно заскребли по земле — по Земле, где погибают даже бессмертные.
— Мама, — сказал Верис. — Ты хотела знать, каково это — умирать. Теперь ты знаешь. Это больно и страшно или уже все равно? Скажи. Я не стану лезть в твою душу и узнавать без спроса, когда-нибудь я узнаю это сам, а понарошку умирать я не хочу. Мама, ты провела жизнь, играя, и сейчас впервые встретилась с настоящим. Скажи, ты счастлива?
Лежащее тело вытянулось, перевернувшись на спину. Открытые глаза бегали из стороны в сторону, словно хотели побольше увидать напоследок. Движение зрачков замедлилось, взгляд остекленел.
С беспощадной ясностью Верис осознал необратимость сделанного. Стрелу не вернуть в колчан, жизнь не вернуть в тело.
Верис наклонился над мамой, сорвал с шеи жетон — голубой, на цепочке. Когда-то Верис оформлял свой жетон по образцу маминого. Человек не может пользоваться чужим жетоном, но одна функция доступна всем — вызов службы спасения.
Пока не поздно, Служба спасения сможет проникнуть и на Землю, маму найдут, ориентируясь по сигналу жетона, эвакуируют куда-нибудь и там что-нибудь сделают, чтобы вернулось дыхание и исчез стеклянный взгляд неживых глаз.
— Поисковая система службы спасения перегружена, — услышал Верис. — Обрабатывается более двенадцати миллионов неотложных вызовов. Ваш сигнал поставлен в сверхсрочную очередь. Приблизительное время ожидания — шесть часов десять минут.
Верис без сил опустился на землю.
Миллионы бездельников балуются со службой спасения, впустую растрачивая силу, способную двигать галактики. В результате энергии не хватило, кому действительно нужна помощь. И неважно, что такого не бывало ни за сто, ни за тысячу лет. Вот оно, случилось, и служба спасения никого не спасла.
— Не переживай, ты правильно сделал, — тихо произнесла Анита. — Я слышала, что она говорила. Человек так не может, это страшное чудовище. Твой выстрел — всего лишь возмездие.
Возмездие — мзда, расплата. И предлог «воз», утверждающий, что расплата была превыше вины.
— Это моя мама. Плохая, но другой у меня нет.
Вжался лицом в землю возле мамы и затих. Анита присела рядом, молча гладила Вериса по волосам. Слова, которые могут все, были совершенно бесполезны.
* * *
Здравствуй, Верик.
Вот видишь, пишу снова. Не хотела, но пишу, потому что не могу по-другому. Знаю, что ты был в библиотеке и те мои сообщеньица прочел, но не появился, не простил. Что теперь прикажешь мне делать? Живу одинокая. То и дело представляется, будто ты входишь и говоришь: «Одинокий, то есть с одним оком, одноглазый. Такой человек лишен объемного зрения, мир ему видится плоским». Как мне сейчас.
Постоянно думаю о тебе. Иной раз чудится, будто разбираю обрывки твоих мыслей, а может, напридумывала все. Наверное у тебя давно другая женщина, неважно, пусть их тьма тьмущая будет, красивых, умных. Но любить, как я, они не смогут. А я люблю тебя ужасно. Люблю и сама в ужасе от этого.
Главный ужас, знаешь, в чем? Каждое утро просыпаюсь и думаю, что ты есть, ты жив. Пусть не со мной, а где-то, но есть. А что будет потом, через какую-то сотню лет? Двести, триста, пятьсот лет без тебя с умершей надеждой — я так не смогу.
Верька, ведь можно же что-то придумать, как-то тебя вылечить. Я сперва думала вырастить тебе новое тело, такое же, как сейчас, но здоровое, а потом переписать личность, ну, как мнемокопии делаются, но поняла, что это будешь не ты. Но я не отступлюсь. У нас еще есть сто лет, а я стала большим спецом по этим вопросам.
Смешно, спец по исправлению человеческих недугов до сих пор ходит с когтями, которые я вырастила — ну ты помнишь, — руки, чтобы рушить. Ведь это последнее, что придумал ты, когда мы еще были вместе. Не помню, говорила ли я об этом в предыдущих письмах. Я все время с тобой мысленно говорю, что-то рассказываю и уже запуталась, что говорила в письме, а что так просто. Сецпамятью я сейчас почти не пользуюсь, пытаюсь понять, что в человеке собственное, а что привнесено программой. Ты понимаешь, зачем это я.
Уже не прошу откликнуться, но мне плохо без тебя. Я тебя люблю. Какой ужас.
Линда.Глава 4
Труднее всего оказалось уговорить хуторян. Забившись на самые дальние, вовсе не пригодные к жизни острова, они полагали себя в безопасности. Со стороны материка их прикрывало большое селение, где жило полтораста человек, а со стороны моря — Гнилой бугаз. Через эту естественную преграду полез бы только безумец. Многометровый слой ила, жирная соленая грязь не позволяли ни плыть, ни идти вброд. Там не произрастали даже водоросли, из которых кучники делали дрожжи, и почти не было камыша. Оставалось непонятным, за счет чего там выживают тучи кусачих слепней, летом наводнявших округу. Зимой, даже когда случались морозы, Гнилой бугаз не замерзал, оставаясь привычно непроходимым.
И через этот ад чистый мазохист бросил своих солдатиков.
В каком-то из старых сочинений Верис отрыл ненаучное и попросту бредовое толкование слова «ад». Дескать, «ад» — это «да» наоборот. «Да» — знак согласия и возможности, в то время как в аду царит абсолютное несогласие и полная невозможность чего бы то ни было. Придумка забавная, но схоластикой от нее несет за версту.
Верис чувствовал, что готовится очередной штурм, но направление атаки угадать не смог и помчался на выручку, когда грязные и измученные попрыгунчики уже выбрались на сухое. Сколько солдат потонуло в Гнилом бугазе, не мог бы сказать даже их командир, но и тех, что выжили, с лихвой хватало, чтобы перерезать полтора десятка хуторских жителей.
Хуторян спас их промысел. Наткнувшись на ульи, солдаты немедля превратились в мародеров. Облепленные пчелами (О, кайф!), они жрали мед вместе с вощиной (Ням-ням!..), и заставить их воевать в эту минуту не смог бы никто.
Верис погнал остатки воинства обратно, в смердящую сероводородом грязь, где кучники и нашли свой конец, поголовно склеив ласты, потому что лодки, подвозившие десант на каменистую косу, отгораживающую Гнилой бугаз от моря, ушли и возвращаться за неудачниками не собирались.
Зато когда чистые засекли, что Верис находится на дальних островах, началась мощная атака на засеки и через зыбуны. Поселок за полчаса был стерт с лица земли, все, что не успели вынести сами жители, утащено или уничтожено.
Уничтожить — вовсе не убить, не обнулить окончательно, но сделать столь ничтожным, что остаток будет стремиться к нулю. Бытие поселян на Ржавых болотах стремилось к нулю, и это понимали все.
Теперь сами хуторяне стали сторонниками скорейшего переселения на новые места. Исход болотных варваров начался.
* * *
— Я вижу, наша станция стала одним из оживленнейших перекрестков вселенной, — произнес Стан.
Люди, которых привел Верис, выглядели архаично даже на самой древней из межзвездных станций. Одежда из козьих шкур и вязаной шерсти, грубые сапоги, которым не добавило изящества многочасовое хождение по трясине, спутанные волосы, грязные, искусанные комарами, руки и лица, недоверчивый взгляд воспаленных глаз.
— Это мои односельчане, — сказал Верис.
— Я догадываюсь. Ты уверен, что поступаешь правильно, открывая им дорогу в космос?
— Дорогу в космос они когда-нибудь откроют сами, а пока я хочу подарить им всего одну планету, где мы сможем жить. Недобрые соседи сгоняют нас со старых мест, и нам нужна другая земля.
— Земля обетованная, — понимающе произнес Стан.
— Просто земля.
Четверо поселян, вызвавшиеся идти Верисом, чтобы взглянуть на новые места, молча ждали. Верис предупредил их, что при входе на иную землю сидит страж, с которым надо поговорить, чтобы он пропустил их. Это болотники понимали. Чудесные пути не должны оставаться без охраны, а со стражем нужно говорить, доказав тем самым, что ты не кучник, а словянин — человек, владеющий словом.
Когда-то в одном из местных говорков «о» в названии настоящих людей сменилось на «а». Словене стали называться славянами, сменяв истинную силу слова на мирскую славу. С этого и пошли все беды. «Умрем за единый аз!» — призывали понимающие, но кто их слушал?
— Куда ты собираешься вести своих людей?
Чисто технический вопрос, не требующий словесного ответа. Верис молча послал координаты.
— Туннель туда есть, — констатировал Стан. — Ты не боишься, что твои люди воспользуются им и попадут в Транспортный центр?
— Там с самого начала установлена блокировка, чтобы маленький ребенок не мог случайно уйти с планеты.
— Очень предусмотрительно. Ну а я со своей стороны тоже внесу кое-какие поправки. При слепом сканировании твоя планета будет исключена из списка возможных целей. Такие уже есть — планеты-отшельники. Земля, кстати, в их числе. Вероятность того, что кто-то наткнется на вас случайно, и без того нулевая, а мы сделаем ее меньше еще на пару порядков.
Верис улыбнулся. Вероятность равна нулю, а будет еще меньше. Такое возможно только в математике. У математиков все не как у людей, у них даже ожидание математическое.
— С нами все в порядке, — вмешался в разговор старший из мужчин, высокий и худой Тыдор. Из всей беседы он понял лишь последнее слово, потому и сказал о порядке.
— Точно, — прогудел Клаас. — Люди мы — не кучники.
— Кто такие кучники? — поинтересовался Стан.
— Население Земли разделилось на два вида, — сказал Верис. — То есть еще не вида, но к этому идет. Кучники специализируются на эмпатии, дар слова практически потеряли, в одиночку существовать не могут. А эти, как видишь, разговаривают.
— Элои и морлоки, — сказал начитанный призрак.
Верис тоже читал гениальную, несмотря на все свои неточности и огрехи, антиутопию, поэтому возразил решительно:
— Нет. Элои зависели от морлоков, а те от элоев, а эти ничуть друг от друга не зависят, хотя и договориться не могут. Всех, кто у поселян владел телепатией, кучники выманили и уничтожили или включили в свою систему. Остались только те, кто не слышит зова чистых, глух к нему. Поэтому поселян кучники называют глухими. Как им договориться, если одни не владеют телепатией, а другие словом? Поэтому между ними идет непрерывная война. В округе осталось всего одно поселение простых людей, люди проигрывают кучникам, а я хочу дать им возможность выжить, переселившись на другую планету.
— На самом деле ты хочешь создать совершенно новую цивилизацию.
— Хоть бы и так, что за беда?
— Беды никакой. Напротив, мне очень интересно посмотреть, чем закончатся твои игры.
— Я не играю. Я уже давно не играю, — упорно повторил Верис. — Все очень серьезно.
— Я достаточно долго наблюдаю за жизнью людей, чтобы понять: все, что люди делают по своей охоте, — игра. Я верю, ты искренне любишь своих друзей и желаешь им добра. Точно также малыш искренне любит подаренного котенка. Ты будешь заботиться об этих людях, учить их, помогать. И через сотню лет обнаружишь, что вырастил поколение иждивенцев. Это будут не люди, а твои игрушки, забавные домашние зверьки. Самое лучшее, что ты сможешь сделать тогда — уйти, предоставив людей их судьбе. Такое называется — поиграл и бросил, а в религии — изгнание из рая. А если ты не уйдешь, они бесповоротно станут куклами, а ты — кукловодом. В любом случае в памяти людей ты останешься богом, злым или благостным, но богом. Взгляни на любую религию, и ты увидишь скучающего бессмертного болвана, который развлекается, играя в людей. Такова плата за всемогущество и бессмертие.
— А ты сам, когда ушел умирать на Землю, тоже играл?
— Если честно, то элемент игры там был. Я ушел на смерть, но я же остался здесь и могу полюбоваться на результат игры.
— А я — не смогу. Я не просто отказался от неуязвимости и мелкого всемогущества. Дело в том, что я такой же смертный, как и они, — Верис указал на терпеливо ожидающих поселян. — Все мое бессмертие заключено в сыне и тех, кому даст жизнь он. Это, по-твоему, тоже игра?
— Это жизнь. Та самая, которой лишен играющий бог.
Стан помолчал и добавил:
— В добрый час.
* * *
Приземистое здание, обширное и нелепое. Строилось оно безо всякого плана: понадобилось или захотелось — появлялась пристройка, а старые помещения оказывались в забросе. Комнат накопилось более полусотни: больших и не слишком, с окнами и без В целом строение было одноэтажным, но у одного угла лепилась тонкая башенка метров сорок высотой. Сейчас Верис уже не мог вспомнить, зачем он ее выстроил — лет пять ему было. Зато помнится, как мама смеялась, увидав башню.
Место, где Верис провел первые семнадцать лет жизни. Даже сейчас называть его домом не хотелось. И все же начинать надо было именно отсюда. В пятидесяти комнатах смогли на первое время разместиться все люди, обитавшие некогда на Ржавых болотах. Так или иначе, они не будут жить под открытым небом, рискуя, что из неведомых просторов явятся невиданные звери. Тут не водится никого опаснее хавронов, а с этой горой мяса люди как-нибудь научатся справляться.
Верис привел поселян в свой родной мир, который после маминой гибели уже никому не принадлежал.
Новоселы деловито взялись осваивать свалившееся богатство. Разбивали огороды, присматривались к местным растениям, ловили рыбу и собирали ракушки в окрестных речках и озерах, учились охотиться на зверей. На Земле не выжило никого крупнее полуметровых крыс, а тут обитало огромное количество самых разных животных, в том числе достаточно серьезных. С хавронами охотники покуда связываться не пытались, предпочитая отпугивать огнем.
— Это твой прежний дом? — спросила Анита, впервые попав под крышу многокомнатного здания.
— Прежде я жил здесь.
— А еще кто? Такой громадный домина
— Я жил здесь один. И еще иногда приходила… — Верис запнулся, подбирая точное слово, и, не найдя, сказал: — Приходила она.
— И вся эта земля была для вас двоих?
— Это не Земля, а совершенно другой мир. Я даже не знаю, насколько далеко от Земли он расположен. А называется он Гэлла. Надо будет сказать об этом остальным людям.
Прежде Анита не слыхала этого имени и не стала возражать. Не стали возражать и остальные беженцы. Ясно же, что это не Земля. Небо здесь даже в полдень сиреневое, воздух пахнет незнакомыми травами, и нигде нет и следа ненавистных кучников. Ничего удивительного, что такое место называется Гэлла.
Самому Верису было трудно первый раз произнести новое название. Слишком много дурного связано с этим именем. И все же надо быть справедливым. Гэлла Гольц выбрала этот мир среди сонма необитаемых миров, она поставила здесь дом и поселила в нем Вериса. Неважно, зачем она это сделала, но так было, и мир по праву должен носить ее имя. А все остальное можно предать забвению.
— А когда ее не было, кто готовил тебе еду и вообще делал все по дому? Такую прорву комнат убирать надо целый день.
— Прежде все делалось само, но теперь остались только стены.
— Вот и хорошо. Своя рука лучше, чем сказочное «само».
Верис был не совсем искренен. Конечно, программа не видит гостей и потому бездействует, но автономные системы жилища продолжают функционировать. Можно включить свет, подать воду. Верис не стал этого делать. У новых хозяев должно быть только то, что они могут сделать сами. Таковы правила игры, которые установил для себя Верис. Если сейчас не сыграть в настоящую жизнь, потом настоящей жизни не будет. В детские годы нет ничего серьезней игры, и если немножко подыграть юной цивилизации, большой беды не случится.
Все-таки глухие варвары были пусть не наследниками, но последышами великой культуры. Предлог «на» говорит, что следующий хоть немного, но выше предшественника. Предлог «по» утверждает лишь, что он явился после, а лучше он или хуже, то неведомо.
Жители Земли, разумеется, многое забыли и утеряли, но обработка металла у них осталась. Верис даже примерно не мог представить, как сельские кузнецы умудрялись обрабатывать тугоплавкий вольфрам, сверхтвердый цирконий или тантал, с которым настолько трудно работать, что родилось даже идиоматическое выражение «танталовы муки», чувство, которое испытывает человек, не имеющий возможности достичь желаемого. Как ни мучайся — не поддается тантал обработке — и все тут! А кузнец Войцех со своими подмастерьями такие ножички из тантала выделывал — загляденье!
А вот металлургии у землян не было, ни у кучников, ни у поселян. Весь металл добывался в отвалах, благо что в свое время на Землю с иных планет было завезено немало редких металлов, так что на Помойке можно было отрыть даже рений.
На Гэлле отвалов не было, девственная планета хранила железо, медь и олово в рассеянных месторождениях, и как их оттуда извлечь, филология ответить не могла, а прочие предметы, которые изучались пассивно, с исчезновением программы немедленно забылись. На то они и прочие, что при первой же возможности исчезают прочь.
Смутно вспоминалось, что нужна какая-то домна (дом для металла?), какая-то шихта (должно быть, ее добывают в шахте). Требуются вещи и вовсе странные: руда и кокс. Верис знал, что рудой прежде называли алую артериальную кровь. Неужто для получения железа требуются кровавые жертвы? Еще непонятнее обстояли дела с коксом. «Кокс — полусинтетический наркотик галлюциногенного действия», — сообщала книжка со странным названием «Ботаем по фене». Впрочем, судя по всему, сборник содержал ошибки и искажения нормального языка.
В любом случае, склоняя слова, практических результатов не получишь. Значит, нужно либо подключаться к системе, либо искать нужные книги в библиотеке. В любом случае, не пройти мимо голубого жетона, с которого звучит полузабытый и ненужный голос Линды. Письма можно и не смотреть, но они там есть, и забыть об этом невозможно.
* * *
Ну вот, Верик, я тебя и нашла, если ты, конечно, читаешь это письмо. Знаю, что не надо этого делать, насильно милой не станешь, но не могу я, понимаешь, не могу. Пускай ты меня выгонишь, как последнюю дрянь, но сначала я должна взглянуть в твои глаза и услышать — сама не знаю, что я могу услышать.
Теперь, если ты активируешь жетон, я немедленно узнаю об этом и через минуту буду рядом. Представляешь, каково было взломать личный жетон? Ничего, справилась, я упорная.
А может быть, я буду даже раньше, чем ты коснешься жетона. Я теперь переселилась в библиотеку и живу среди книг. Я их даже читать научилась, забавное, доложу тебе, занятие. Но по большей части просто сижу и жду — вдруг ты появишься А тебя все нет и нет. Но я жду. Одиночество — как айсберг, и я в него потихоньку вмерзаю.
Эх, Верька!..
* * *
В Транспортном центре не принято удивляться, но на Вериса оглядывались. Обветренное лицо, босые ноги, балахон из козлиной шкуры мехом наружу. Виртуальный персонаж, да и только! Хорошо, что жители болотного поселения со станции прошли сразу под сиреневое небо Гэллы. Спасибо Стану, помог. А то провести незаметно две сотни ряженых через самое оживленное место вселенной практически невозможно. Непременно какой-нибудь зевака выкатит шары на небывалое шествие, и начнутся расспросы: «А вы куда?.. А можно я с вами?» Распаленное любопытство — такая штука, что от попутчика не избавишься, так что лучше сразу возвращаться на Землю и подставлять шею под танталовые ножи кучников.
А одинокий путник никому не интересен — чудак он и есть чудак, что с него взять, кроме ухмылки при встрече? С жиру да со скуки не только вонючую шкуру натянешь, но и копыта отрастишь и клыки с когтями.
Чередующиеся согласные «д-ж». Чудак всегда чужак. Что модно, то и можно. Но тогда выходит, что лада это лажа
Нет, если есть в мире настоящее, то это его ладушка Анита. Они вместе навсегда, на веки веков. Как говорится в сказке, они будут жить долго и счастливо и не умрут никогда, потому что есть Даль и будет дочка, которую назовут Гэллой — хорошо, что Анита не знает, кому прежде принадлежало это имя. Будет еще много счастливых лет и много детей, потому что Анита любит не только западать в раздумьи, но суматоху тоже любит, а один Даль не сможет организовать потребный уровень шума.
Анита почему-то волновалась, провожая его в этот обычный в общем-то поход. Возможно, оттого, что портал на Гэлле не был оформлен в виде зеркала и найти его мог один Верис. Ничего, он скоро вернется и принесет информацию по древней металлургии и несколько новых книг для Аниты. По сравнению с долгой жизнью вдвоем разлука не больше, чем миг.
Миг — это движение век. Век — всего лишь миг по сравнению с вечностью. Но сомкнешь веки, прижмешься к любимой — и вечность уже не кажется такой холодной. Это для одинокого вечность подобна айсбергу, в который вмерзает бессмертие.
С чего бы вдруг подумалось об айсберге? Давно не приходил на память этот образ. Скорей бы вернуться домой — в дом, где он родился и жил, но только сейчас начал обживать.
Верис прикрыл за собой старинные распашные двери библиотеки и замер, ощутив чужое присутствие.
Напротив в каких-то трех шагах стояла Линда.
— Нашла!.. — не слово, а плач, короткое, в два всхлипа, рыдание. — Нашла!..
Найденный Верис потеряно молчал.
Линда шагнула вперед.
— Мой! Никому тебя не отдам, ни на миг от себя не отпущу, ни на шаг! Ты почему не пришел раньше? Я же не могу без тебя! Нельзя быть таким жестоким Ну что ты молчишь?
Верис молчал. Было больно и стыдно смотреть на Линду, жалкую и ненужную. Наверное, она была красивее Аниты и наверняка ухоженней, но Верис видел лишь покрасневшие глаза, зареванные щеки, легкомысленный, по последней моде наряд, совершенно не подходящий к ситуации, глупые когти, венчающие тонкую музыкальную руку. Смотрел и не испытывал ничего, кроме брезгливой жалости, которая одинаково жалит обоих.
— Как ты мог не прийти раньше?! Я без тебя измучилась! Ну что ты молчишь? Хотя бы изругай меня!
Верис молчал. Всю жизнь он лелеял слова, но сейчас слов не было.
— Я же люблю тебя, неужели ты этого не понимаешь? Ну, загляни ты в мою душу
Верис молчал, лишь мельком удивился, что сама Линда даже не попыталась прочесть его мысли. Боится, или Верис настолько привык защищать свой внутренний мир от постороннего вторжения, что даже сейчас выстроил перед Линдой непроницаемую стену.
— Что ты как урод бесчувственный? — Линда уже кричала, не на Вериса, а как кричат от боли. — У, так бы и дала!
Линда не ударила, а просто махнула в сердцах рукой.
Недаром говорится: замах — хуже удара. Психология учит: если нет сил терпеть — ударь. Все равно собственная программа оградит ударенного, а стресс будет снят. Но это только в том случае, если собственная система безопасности существует.
Балахон из козьей шкуры и живая плоть — не преграда для сверхсилы и алмазных когтей. Молниеносный удар вспорол живот, разорвав и вывалив наружу внутренности.
Боли не было, просто ноги вдруг перестали держать. Верис согнулся и упал, ударившись лицом о полупрозрачный янтарин, из которого были отлиты полы и стены Транспортного центра.
Это уже было с ним, вот также он лежал и немеющие пальцы царапали… нет, не янтарин, а черную землю у входа в святилище.
«Возмездие — всплыла последняя связная мысль. — За маму. Нельзя было так».
Сознание уплывало на волнах вспыхнувшей и тут же погасшей боли, свет померк, только Линдин голос продолжал звучать, выкрикивая лишенные смысла слова:
— Верька, ты что? Вставай сейчас же! Слышишь? Я так не играю!

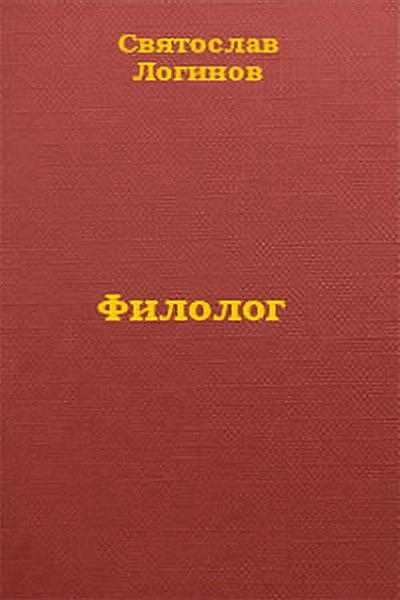

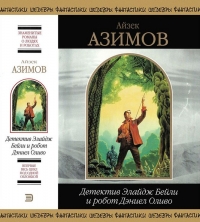

Комментарии к книге «Филолог», Святослав Владимирович Логинов
Всего 0 комментариев