Железный человек
Быть или не быть — таков вопрос.
Шекспир «Гамлет»Согласен
Было страшно, но он не видел иного выхода. Нужно решать.
Светлые глаза профессора внимательно изучали его лицо. Ах, не все ли равно! Не все ли равно, какой путь приведет тебя к роковому исходу.
Но то был лишь голос самоуспокоения. Конечно, не все равно! Ведь имя этому — смерть.
Он рассматривал свои руки, бессильно лежащие на колена. Тонкие, прозрачные, с ясно обозначившимися синими венами, они, казалось, непригодны уже ни для какой работы. Даже карандаш выпадает из слабых пальцев. Нужно решать.
Недуг подкрадывался, как вор. Облик его был смутен. Среди шумной и пестрой жизни он мелькал, как тень, заставляя вздрагивать. Потом стал наглее, его уродливый облик все яснее обрисовывался, все чаще возникал перед глазами.
«Здравствуй, Нед Карти, — говорил призрак, — я здесь. Ничто не разлучит нас. Ибо я — в тебе!»
Увы! Нед хорошо понимал это. Тщетно гнал он беспокойные мысли, тщетно старался думать о другом. Душной ночью, не в силах заснуть, он чувствовал, как что-то тяжелое давит на его грудь, мешает дышать. Потом в него заползала холодная скользкая масса, заполняла все тело. И оно становилось слабым, чужим. И было страшно.
Как несправедлива жизнь! Ведь он, Нед Карти, не хуже других. Нет, он даже лучших многих. Молодой, талантливый… Жизнь обещала ему многое. И Нед знал, что может и должен сделать многое. И вот пришлось остановиться…
Нед познакомился с профессором Траубе год назад. Судьба случайно свела его с этим странным ученым. На физиологической конференции. Профессору понравился доклад Неда. В кулуарах разговорились. Траубе изъяснялся сложно, почти недоступно. Но было в его словах нечто притягательное, как бездна. Потом Нед часто бывал у Траубе дома и в лаборатории. То, что продемонстрировал ему профессор, казалось еще более странным. С удивлением наблюдал Нед, как блестящие металлические игрушки бегали наперегонки с живыми мышами и крысами по сложным лабиринтам. В лаборатории сочетались электроника и физиология. Сотни моделей и сотни разных животных в клетках: мышей, белых крыс, морских свинок, кроликов, кошек.
Приборы необычны. В них, как в формулах, воплощена неведомая постороннему научная мысль. Но особенно восхищала Неда операционная. Серебристо-матовое сияние заливало ее. Хирургический инструментарий грозно поблескивал в шкафах. Огромный бестеневой рефлектор, операционный стол, столик для операций над мелкими животными, дыхательный столик, искусственные легкие, автожектор.
Регистрирующие приборы позволяли уловить малейшие функциональные сдвиги в организме.
Из скупых и сложных пояснений Траубе перед Недом постепенно возникала научная идея профессора. Он не сразу постиг ее грандиозность, только чувствовал, как приближение урагана.
— Биотоки… — говорил профессор, — вы не знаете, что это такое, хоть вы и физиолог. Биотоки могущественны. Они — как запал, как капсюль-детонатор в артиллерийском снаряде… Мы недооцениваем значение биотоков, используем их лишь как показатель физиологических функций. Этого недостаточно.
С глубоким вниманием прислушивался Нед к словам Траубе, стараясь точно следовать за его мыслью. Это не всегда удавалось.
— Биотоки связывают мозг с рецепторным и эффективным механизмом, — продолжал Траубе. — Но их можно использовать и для другого. Под влиянием биотока электронный луч осциллографа пишет сложную кривую. Ну. а если кривая — код механических процессов искусственной системы? Что тогда? Угадываете? Итак я говорю о трех звеньях:
МОЗГ — ОСЦИЛЛОГРАФ — МЕХАНИЧЕСКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.
Разумеется, речь идет не именно об осциллографе, а об электронном усилителе и трансформаторе биотоков…
— Собственно говоря, эта идея уже имеет техническое воплощение, — отвечал Нед. — Я разумею ныне существующие биопротезы…
— Не то, не то! — возражал Траубе. — Протезировать часть тела, например руку — одно, а протезировать все тело — другое!
— Как вас понять? Вы говорите об автомате?
— Не совсем… Я говорю о теле-протезе с живым мозгом. Я говорю о том, что мозгу можно дать иной исполнительный механизм.
Затем профессор демонстрировал свои «игрушки» — механизмы с необычайным добавлением.
Но сегодня Нед пришел к профессору Траубе не за тем, чтобы слушать его объяснения. Нет. Неотвратимое приближение смерти. Странно, что не было более ранних причин этого. Были и туманные разговоры с профессором, правда, совсем недавно… Но если бы два года тому назад кто-нибудь заговорил об этом! Нед счел бы такого человека сумасшедшим или злым шутником.
Профессор был необычно многословен. Многое сказал он Неду. И была во всем жестокая правда.
— Вы умрете, — говорил Траубе, — вы очень скоро умрете. Может быть, через год, а возможно, и через шесть месяцев.
— Так зачем же вы говорите мне об этом! — возмутился Нед.
— Не в словах дело. Вас утешали врачи. Их долг. Но утешения не полезнее горькой истины. Ваше тело изношено. Оно ни к черту не годится. От него нужно избавиться, сжечь его.
— И оставить бессмертную душу… Не так ли?
— Не душу, а мозг! Послушайте, Карти, у вас хороший мозг. Прекрасный! Но ему нужен и прекрасный дополнительный аппарат. Я дам ему это.
— Два пути: один — навеки погрузиться в черную пропасть смерти, другой — пройти сквозь смерть, как сквозь ночь, чтобы вновь увидеть день.
— Каким будет этот день…
Нед задумался. Не было никакой твердой логической зацепки, никакой точки опоры, чтобы перевернуть темный мир сомнений. Страх небытия, одно из ужасных приобретений человеческого сознания, его непостижимое противоречие многоцветному миру ощущений — вот причина всему. «Быть или не быть — таков вопрос…» Сложный вопрос. Но и он мог быть решен, только потом перед ним вставал другой, не менее тревожный. Что там, за темной ночью небытия, что ожидает его, и не будет ли это страшней ли оно самого небытия?
Долго молчал Нед. Долго ждал профессор ответа. Он понимал, конечно, что дать ответ не просто.
— Решайте же, Карти! Вам не грозят никакие мучения. Лишь пробел в чувствах и в сознании. И все…
— Значит, умереть? — с невыразимой горечью спросил Нед.
— Пусть так… Нед Карти умрет, но мозг Неда, мысли Неда, чувства Неда будут жить. Ну, решайте же!
— Согласен, — глухо сказал Карти и отвернулся.
— Хорошо, — профессор подошел к письменному столу, — теперь составим один документ. Нужна ваша роспись.
— Надеюсь, не кровью?
— Нет, чернилами.
Нед Карти умер
Весть о смерти Неда Карти быстро облетела его друзей и знакомых. Одни искренне печалились, другие высказывали сожаление по традиции: о мертвых не говорят плохое. Родственников у Неда не было, если не считать какого-то троюродного дяди. Да и тот жил за тридевять земель. Говорили, что профессор Траубе близко к сердцу принял безвременную кончину талантливого молодого человека, что все расходы, связанные с этим, он взял на себя.
На следующий день в квартире покойного собрались его сослуживцы по институту, знакомые и малознакомые, движимые досужим любопытством. Был и профессор Траубе. Он держался в стороне и не вступал ни с кем в разговоры. После немногих прочувствованных фраз кортеж машин тронулся к крематорию.
…Нед лежал белый и испитой. На его заострившемся лице читалась просьба: «Кончайте же скорей!»
Траубе, не отрываясь, смотрел на это лицо. И было в его взгляде что-то такое, что смущало и тревожило других. Не жалость и не горе, а нечто совсем другое, непонятное. И все чувствовали, что между покойником и профессором есть какая-то связь, которую не могла разрушить даже смерть…
«Сейчас все будет кончено, — думал Траубе, — гроб бесшумно опустится и скользнет в отверстую огненную пасть крематория, и ты, Нед Карти, уйдешь в небытие. Тебя не будет, тебя уже нет. Но ты родишься вновь. Ты явишься в жизнь в другом облике. Необычный, удивительный облик… И никто не будет знать, что ты — Нед Карти. Да ты и не будешь никогда Недом. Кто знает, кем будешь ты… Даже я… Каким шагом, тяжелым или легким, быстрым или медленным, вступишь ты в жизнь… Каким путем пойдешь по ней… А будет имя тебе Гарри…»
Траубе вспомнил давно прошедшие годы. Он был молод, путешествовал по дальним краям. В памяти рисовались беспокойные просторы океана, ослепительные, словно врезанные в небо пики гор, бесконечная смена картин. Много простора, много солнца, много ветра и очень много счастья. Но большое счастье таит в себе угрозу. За ним, как за ясной далью, угадываются грозовые очертания. Траубе отгонял воспоминания, но они упрямо лезли в голову, вытесняя все. Сын Гарри… Это было много лет назад, но никогда не забыть потерю.
«Ты будешь моим сыном Гарри Траубе, — думал профессор, и я имею на это право, ибо тебе я дам новую жизнь…»
Церемония закончилась.
— Куда? — спросил шофер, когда профессор сел в машину.
— В лабораторию. Да побыстрей!
Смерть Неда Карти не была обычной смертью. Она произошла по согласию Неда. Она сулила удивительные последствия… В тот вечер, когда Нед был у Траубе, когда он поставил свою подпись на одном странном документе, было положено начало цепи событий. Мы вернемся к этому вечеру, чтобы проследить все, что свершилось. Что это было — преступление или подвиг? Жестокость или величайший гуманизм? Прихоть или неумолимая необходимость?
Подготовленный к операции, Нед ожидал профессора. Он лежал на операционном столе под огромным рефлектором: вокруг него сверкали бесчисленными деталями приборы; ассистент белой тенью скользил между ними. И во всем — что-то грозное, зловещее, неумолимое, как сама смерть.
Затем пришел профессор. Он что-то говорил Неду, но тот не слушал его. Он словно погружался в океан неопределенных мыслей, таких же неверных, неясных, неподвижных, как волны, таких же темных, как глубины. Для них не требовалось умственного усилия. Ведь все решено. Они текли сами собой, как вода, они рождались и умирали.
— Карти… — долетел откуда-то голос профессора. — Карти, вы меня слышите?
Нед не отвечал. Ему не хотелось совершать ни малейшего усилия, даже произнести «да».
Перед глазами в белой руке блеснул маленький флакончик.
— Вдохните. Так, глубже, еще глубже!
Голос растворился в плотной тишине, которая сомкнулась вокруг. И вместе с ней пришел мрак, пронизанный искрами. А потом искры погасли.
Профессор работал виртуозно. Послушно расступались ткани. Они жили, в них струилась кровь, но ни одна капля ее не выступила на поверхности. Вот она, сонная артерия. Легкая волна пульсации пробегает по ней. Это одна из великих магистралей жизни.
А профессор делает свое дело. Нельзя терять ни одной минуты, ни одной секунды, ибо они решают все. Ошибись — и ты совершишь убийство, самое простое и самое гнусное, хотя бы уже потому, что обычно убийца не обещает жертве сохранить жизнь.
Сложная сеть сосудов отпрепарирована. Наложены пинцеты Пиана. Тело осторожно повернуто на бок и фиксировано на столе. Ловко сделаны надрезы, и в сосуды введены канюли, соединенные трубками с автожектором. Прибор включен. Профессор переводит дух. Он устал, но отдыхать нельзя.
В руке Траубе одно из совершеннейших изобретений в области хирургии — ультразвуковой манипулятор. Великолепный инструмент сделал доступным проникновение в самые интимные уголки человеческого тела, сделал возможным такие операции, о которых могли лишь мечтать. По сравнению с ним скальпель покажется грубым, тупым кухонным ножом, куском железа, разрывающим тончайший шелк живой ткани. Манипулятор закреплен на тонком подвижном штативе. Он подводится к оперируемому участку на такое расстояние, какое необходимо хирургу, он подчиняется малейшим движениям, самой воле хирурга, он позволяет регулировать глубину разреза с точностью до микрона. Закрепленная на сложном штативе блестящая маленькая лопаточка легко скользит по операционному полю, и все глубже расступается ткань.
Кожа опущена на лицо оперируемого. Кажется, что профессор играючи производит круговой разрез черепа. Но это только кажется… Капли пота бисером блестят у него на лбу, на висках вздулись синие вены. Напряжение огромно. Поистине великий труд.
Осторожно приподнимает профессор крышу черепа, и глазам открывается бледно-розовая, пронизанная тончайшей сетью кровеносных сосудов извилистая поверхность мозга. Нежные оболочки одевают ее. Под ними сам мозг — великое и все еще не познанное творение природы, вместилище миров, колыбель чувств, лоно идей В небольшом нежном куске материи заключено огромное. В миллиардах маленьких клеточек замыкаются цепи великих явлений природы. Кто проследит эти скрытые пути? Кто предопределит их?
Внимательно осматривает профессор поверхность мозга. Ему предстоит труднейшая часть работы. Вновь тихо гудит манипулятор. Путь опасен, рядом пропасть, смерть Профессор и ассистент, кажется, изнемогли от напряжения.
Аккуратно удален небольшой кусочек затылочной кости. Медленно поворачиваются операционный стол и держатели, фиксирующие голову. Обнажена стволовая часть мозга, продолговатый мозг. Здесь, в этом маленьком участке — средоточие важнейших жизненных центров. Укол иглой — и все кончено. Здесь проходят магистральные нервные пути организма.
Гудит автожектор. Над обнаженным участком мозга тихо опускается прозрачный пластмассовый колпак. К нему подсоединено сложнейшее устройство. Оно достаточно компактно и может свободно уместиться в папиросной коробке. Тонкие провода соединяют его с небольшим прибором, стоящим сбоку на столике. Это термовибратор. Зеленовато светится маленький экран, тонкие стрелки бегут по циферблатам. Прибор включен. Теперь нужно ждать.
— Пятнадцать градусов в минуту, — говорит ассистент.
— Достаточно.
Термовибратор равномерно понижает температуру во всех точках мозга. Он полностью исключает образование разрушительных кристаллов льда в тканях.
— Минус шестьдесят, — рапортует ассистент.
— Довольно!
Автожектор и термовибратор отключены, предстоит сложнейшая часть работы: выделить головной мозг нз его костяного лона. Но для этого необходимо отделить его от спинного мозга. Вновь гудит манипулятор, профессор осторожно отслаивает ткани. У первых четырех шейных позвонков удалены дуги, перерезан спинной мозг, отсечены нервные корешки. Траубе смотрит на ассистента.
— Я хочу сохранить глаза, — говорит он.
— Глаза! Но ведь это ужасно, профессор!
— Так нужно… Мы должны сохранить глазные яблоки, зрительные нервы.
— Но…
— Никаких «но»!
И вновь трудятся профессор и ассистент. Удаленные части костей водворены на место, натянута кожа, аккуратно наложены швы. Они совершенно замаскированы мастикой.
— Пять часов без перерыва, — говорит ассистент.
— Да, пять часов, — соглашается профессор.
На столе — лишенное мозга тело. Нед Карти навсегда ушел от друзей и знакомых.
Рождение железного человека
Рождение чего бы то ни было, рождение в самом общем смысле этого слова нельзя понимать как одиночный свершившийся факт, свершившийся в определенное время. В последнем случае мы исключаем из сферы нашего внимания все то, что органически слито с процессом рождения, произвольно разрываем сложную сеть причинно-следственных отношений, ставим факт вне связи с окружающим миром, тем миром, в тайниках, глубинах которого зреют все новые и новые причины. Рождение — сложный процесс.
Когда у профессора Траубе впервые возникла идея создания тела-протеза, как далек был он от ее воплощения! Как мало было объективных элементов для начала грандиозной работы!
Какая связь была между профессором, задумчиво рассматривающим маленькую деталь, и Недом, сидящим в купе поезда? Какая связь была между расчетом сопротивления, удачной пробежкой крысы по лабиринту и все ухудшающимся здоровьем Неда? Только позднее, много позднее, когда научная мысль стала объективизироваться, когда этому способствовало случайное или закономерное сочетание событий, эта связь, вернее, многочисленные связи стали проступать все яснее и яснее.
Это — скрытый период рождения железного человека.
Затем настал период явного развития, наблюдаемого и управляемого. Это было время огромного труда, напряженнейшей мыслительной работы, время бесконечных поисков конкретных частных решений и определения общих путей.
Профессор углубился в литературу. Он вел оживленную переписку по целому ряду специальных физических и физиологических вопросов со многими специалистами. Он много разъезжал. Посещал лаборатории и технические мастерские. Приобрел оборудование.
А Нед Карти в это время не знал ничего о профессоре Траубе.
Сложная конструктивная работа. Днями и ночами просиживал Траубе над чертежами и расчетами. Он создал первые несовершенные модели. Делал многочисленные опыты над крысами и мышами в лабиринтах. Сотни раз пробегали зверьки по запутанным ходам. Потом профессор препарировал их, выделял головной мозг и кусочек спинного. Но это лишь начало. Мозг, который держал в руках профессор, был так же мертв, как кусок дерева или железа. Потребовалось много времени и труда, прежде чем удалось пересадить живой, полноценный мозг мыши в тело-протез. И вот удивительные звери-механизмы побежали по лабиринтам. Они не только не уступали своим полуродичам, обыкновенным мышам и крысам, но и часто превосходили их в решении лабиринтных задач. В этот период Нэд Карти познакомился с профессором Траубе. Он еще не знал о сути удивительных опытов. Что общего было между его судьбой и судьбой странных биомеханических, биоэлектронных моделей?
Наступил самый трудный этап работы. Подготовка к нему велась много лет. Все, что кропотливо накапливалось, отсеивалось, дополнялось, изменялось, совершенствовалось, должно было воплотиться в систему необычайной сложности и совершенства. Профессор приступил к монтажу тела-автомата, имитирующего живое тело человека.
Конечно, не следует думать, что Траубе шел по пути слепого подражания природе. Он не мог избрать такой путь уже потому, что невозможно технически повторить тончайшую живую систему. Профессор исходил из рационального учета важнейших физиологических функций: нервно-проводниковой, двигательной, секреторной и обменной. Разумеется, эти функции в электронно-механической системе должны быть существенно трансформированы.
Он предусмотрел важнейшие виды чувствительности, в системе имелись исполнительные механизмы, мощный источник энергии. Портативные аккумуляторы огромной емкости приводили в движение рычаги, хитроумно имитирующие мышцы. Рычаги действовали как под влиянием электромагнитов, так и от моторчиков. Все это обеспечивало большую подвижность и легкую управляемость системы. Стальной профилированный подвижной каркас заменил костные рычаги. В теле-протезе имелись гидравлические устройства, позволяющие совершать действия огромной силы, быстрые и медленные.
Но все это было бы лишено элементарного смысла, если б механическая система не предусматривала чрезвычайную добавку — живой мозг. А достать его — задача трудная!
В корпус автомата была вмонтирована автожекторная установка, которая обеспечивала циркуляцию физиологического раствора особого состава, заменяющего кровь. Этот раствор легко присоединял и отдавал тканям кислород и азот. В системе эластических трубок и резервуаров, по которым циркулировал раствор, имелось специальное депо. «Кровеносная система» была тесно сопряжена с «эндокринной» и «трофической» системами. В пластмассовых резервуарах, соединенных с «сосудами» тонкими капиллярными трубками, содержались гормональные препараты и питательные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности мозга. И, что самое главное, эта система обеспечения была в свою очередь подчинена мозгу.
Итак, мыслилось создание необычайного целостного организма.
Мог ли профессор Траубе все до тонкости предусмотреть? Конечно, не мог! Для этого требовалось привести систему в действие, проверить ее. Для этого требовалось (о, совсем немного!) достать живой человеческий мозг. Траубе оказался перед неразрешимой задачей.
А Нед Карти боролся с сокрушающим его недугом, тщетно пытался спасти, сберечь свое жалкое человеческое тело. Неумолимая цепь событий привела его к профессору, заставила взять перо и поставить свою подпись. Все линии событий сошлись в фокусе. Круг замкнулся. И это было рождением железного человека.
В глубокой нише стоит Гарри Траубе — удивительное продолжение Неда Карти, сын профессора Траубе. Его металлическое тело похоже на прекрасно выполненную скульптуру. Голова, шея, плечи, руки и ноги покрыты нежной пластмассовой оболочкой теплого цвета человеческой кожи, эластичной и подвижной В ее внутреннем микропористом слое циркулирует цветная жидкость, придающая ей необычайное сходство с живой тканью. Прекрасный парик каштановых волос покрывает голову. Черты лица правильны, даже, пожалуй, слишком. А глаза… Ведь это глаза человека, единственный из органов чувств, который решил сохранить профессор. Не потому ли, что в них выражается мысль, душевное состояние? Мы не знаем, что думал профессор, На неподвижном лице-протезе тускло блестели белки глаз. Белые точки застыли в зрачках.
— Начнем? — обратился Траубе к ассистенту.
Тот молча кивнул в ответ.
Щелкнул включатель, и на стальной груди вспыхнула маленькая зеленая лампочка. Еле уловимый шум слышался внутри механического тела — работал автожектор. По стальному корпусу медленно разливалось тепло. Мозг, заключенный в тонкий пластмассовый резервуар с подведенными к нему бесчисленными проводниками и капиллярными трубками, омывался живительной влагой. Иней исчез с его поверхности. Жизнь пробивала себе дорогу, как маленький ручеек настойчиво прокладывает путь средь камней, поваленных стволов, коряг и корней.
Профессор и ассистент не отрывали глаз от приборов. Тонкие стрелки бежали по циферблатам, осциллографы вычерчивали хитрые светящиеся кривые на экранах. То был мудрый язык науки, понятный немногим. Внимание ученых было настолько поглощено показаниями приборов, настолько сконцентрировано, что они не сразу осознали происшедшее. Профессор Траубе встретился глазами с железным человеком. Что изменилось в этом неподвижном взгляде? Или появившийся влажный блеск, или что-то еще, почти неуловимое, но в то же время явное. И оно проступало все яснее и яснее.
— Смотрит, — воскликнул Траубе и отшатнулся.
В этом взгляде было нечто, заставляющее содрогаться, непонятное, прижимающее к земле, как огромная тяжесть. Легкий хрип послышался за спиной профессора. Обернувшись, он увидел, как ассистент, смертельно бледный, с отвисшей челюстью, тщетно стараясь удержаться за стену, сполз на пол. «Помочь!» — мелькнула мысль. Но Траубе не мог сдвинуться с места. Он стоял, прижатый взглядом. А глаза железного человека становились все живее. Они упорно, не отрываясь, смотрели на него, виновника всего случившегося. Так смотрят некоторые портреты — куда ни отойди, повсюду следует за тобой упрямый взгляд. Он преследует тебя, в нем есть и угроза, и упрек, и вопрос, но что ему нужно, никому не известно.
Сколько длился поединок двух взглядов — минуту или вечность? Профессор чувствовал, как набегают колючие слезы, и все смотрел и смотрел. И он увидел, как по застывшему лицу пробежала легкая, едва уловимая судорожная волна, словно оно хотело улыбнуться или нахмуриться. Пальцы опущенных по швам железных рук легко шевельнулись…
Дикий, непередаваемый ужас внезапно овладел профессором. Почти не помня себя, он метнулся в сторону и чуть не упал, споткнувшись о протянутую ногу своего помощника. С неожиданной силой он подхватил на руки бесчувственного ассистента и выбежал из комнаты, плотно захлопнув за собой дверь.
Силы изменили ему. Он прислонился к стене. К горлу подкатило тошнотное чувство. Его старый помощник лежал на полу, не приходя в сознание. Нужно было что-то делать и как можно скорее! Но ни сил, ни воли не было.
А там… За дверью… Там было тихо. Ни звука. Но Траубе знал, что означала эта тишина: железный человек родился.
Первый опыт жизни
«Что делать?» — думал профессор, когда немного пришел в себя. Нужно было срочно что-то предпринимать. На полу все еще без сознания лежал несчастный ассистент. Траубе достал из лабораторной аптечки нашатырный спирт. Смочив ватку, он потер ему виски, а потом поднес к носу. Это помогло. Через минуту тот открыл глаза. Он еще не мог сообразить, в чем дело. Но внезапно выражение ужаса вновь появилось у него на лице.
— Успокойтесь, успокойтесь! — говорил Траубе. Он накапал в стакан с водой несколько темных капель. Приподняв ассистента за плечи, помог тому сесть на стул.
— Выпейте.
Старик стукнул зубами о край стакана. Он послушно пил, вытирая рот дрожащей рукой. Лекарство подействовало быстро.
— Ну, вот и хорошо, — говорил Траубе, — вот и хорошо! Так… Понимаю… Понимаю… Всякое может быть… Собственно говоря, ничего страшного и тем более опасного не было и нет. Неожиданность… Вот поработаем — привыкнем…
— Что?! — хрипло спросил ассистент.
— Я говорю, поработаем…
— Работать?! — старик даже привстал со стула. — Работать? Нет!!! Ни за что!
— Послушайте, милейший, вы возбуждены, вы еще не в норме…
— Ни за что! Ни за что! — упрямо твердил тот, со страхом поглядывая на дверь.
— Ну и что же? Ведь ничего страшного…
— Не… не могу! Боже мой, сколько лет… работал, — ассистент смотрел умоляюще. — Сколько лет! А теперь не могу!
— Давайте не будем говорить об этом.
— Стар я… Нервы… Сами видели… Сколько лет… Привык… Но не могу!
— Да возьмите же наконец себя в руки! Что вы, как тряпка!
Сколько ни старался профессор убедить помощника, тот упрямо твердил свое.
— Ну хорошо, — сказал наконец Траубе с плохо скрываемой досадой, — дальнейший разговор бесполезен. По крайней мере сегодня… Можете быть свободны. Вас проводить?
— Нет, что вы… Я сам… Профессор, простите! Ничего не могу с собой поделать.
— Ладно уж! Послушайте, Функ, — остановил Траубе уходящего ассистента, — будем или нет мы работать вместе — это одно… Но я надеюсь, что сегодняшнее не выйдет за пределы лаборатории. Оно должно быть никому не известно. Понимаете? Иначе может случиться… ну, сами догадываетесь… он может узнать…
— Что!? — переспросил Функ, вновь побелев как бумага. — Он… узнает? Никогда!
«Что делать? — размышлял профессор, оставшись один. Войти, узнать, что там». Траубе не был трусливым человеком. Много раз в жизни пришлось ему испытать себя. А вот сейчас… «Да что же я в конце концов! Ну же!» Огромным усилием воли он заставил себя войти в лабораторию. Железный человек неподвижно стоял в нише. Медленно-медленно подходил к нему профессор. Вот они снова стояли друг против друга. Взгляд железного человека неподвижен. В нем что-то непередаваемое. Так заключенный смотрит на небо сквозь узкую щель темницы. Тоска, беспомощность и в то же время великая жажда жизни… Профессор чувствовал, что вместо пережитого ужаса его охватывает жалость, большое человеческое сострадание. Он, не отрываясь, смотрел в глаза своего Гарри, он чувствовал, что плачет, но не обращал внимания на это. «Боже мой, что это, радость или горе? Торжество, удовлетворение или растерянность?»
— Гарри! — тихо позвал он. На застывшем лице мелькнуло какое-то движение.
— Гарри!
Траубе приступил к разрешению одной из самых сложных задач. Дни и ночи проводил он в лаборатории. Доступ в нее был закрыт всем. Прежде всего необходимо добиться движения глаз и артикуляции. Это обеспечит постоянную связь с железным человеком при помощи знаков и речи, решил Траубе. Он изготовил алфавит: на картонных карточках размером в квадратный дециметр тушью написал все буквы алфавита. На стену повесил большой экран, на котором был изображен огромный черный крест, и приступил к первому занятию. Взяв указку, он подошел к экрану.
— Гарри, вы меня слышите?
Гарри молчал, но в глазах его, казалось, был положительный ответ.
— Итак, слушайте, — продолжал профессор, внимательно наблюдая за железным человеком, — я направляю указку в центр фигуры. Видите? Теперь я буду передвигать ее вправо. Следите за указкой.
Красный конец указки отчетливо выделялся на черной поперечной перекладине креста. Траубе тихо передвигал ее вправо.
— Так. Внимание, Гарри! Теперь я перемещаю указку влево. Следите. Так. Теперь опять вправо. Ну, а сейчас изменим направление. Вы меня слышите?
От центра креста профессор стал двигать указку вверх по вертикальной перекладине. Затем — в противоположном направлении.
— Внимание, Гарри! Следите. Вверх. Вниз.
Прошел час, потом — другой. Профессор с адской настойчивостью повторял и повторял опыт. В пустой комнате гулко раздавался его голос.
— Внимание! Вправо. Влево. Вверх. Вниз.
Вправо. Влево. Вверх. Вниз.
Влево. Вправо. Вниз. Вверх.
Влево. Вправо. Влево. Вниз.
Влево. Вниз. Вправо. Вверх.
Со стороны могло показаться, что профессор занят бесполезным делом. Железный человек неподвижно стоял перед ним и, казалось, ничем не выдавал своего контакта с экспериментатором. Но каким-то шестым чувством Траубе угадывал, что его труд не проходит даром. Временами он легко дотрагивался до железной груди и осторожно переводил крошечные рычажки на небольшом пульте. Он неустанно заботился, чтобы «слезные железы» — механизм для увлажнения поверхности глаз — не прекращали своего действия. Он внимательно следил за показаниями приборов, регистрирующих поступление в мозг газов, гормонов и питательных веществ и регулирующих температуру жидкостей.
Прошел день, за ним — другой, третий, четвертый. Профессор настойчиво добивался своего. Он ни на минуту не усомнился в положительном исходе опыта, не допускал, что труды его тщетны. И он был прав. На пятый день изнуряющей работы он впервые увидел ее результат. Правда, результат был таким незаметным, что посторонний наблюдатель заподозрил бы Траубе в мистификации. Но зоркий глаз профессора отчетливо видел его. Он видел еле уловимое движение глаз железного человека. Он видел, что они, эти глаза, пытаются следовать направлению указки.
Это еще больше мобилизовало экспериментатора. Вновь и вновь повторял он опыты, повторял их до тех пор, пока скрытое не стало явным. Да, теперь не могло быть сомнения в успехе дела. Взгляд железного человека послушно следовал за указкой. Нужно было закрепить этот своеобразный двигательный навык, своеобразный уже потому, что двигательным механизмом была не мышца, а искусственная механическая система. Система была построена по принципу обратной связи с мозгом. Поэтому мозг приобретал новый двигательный опыт.
Два дня упражнял профессор железного человека, пока не убедился, что тот в достаточной степени овладел движениями глаз. На очереди была еще более трудная задача: научить его произношению звуков и слов, выработать у него сложный комплекс рече-двигательных реакций.
Для этой цели Траубе и приготовил свой алфавит Помещая поочередно то одну, то другую гласную букву на расстоянии полутора метров от глаз своего питомца, он каждый раз обращался к нему:
— Внимание, Гарри! Вы меня слышите? «А». Смотрите: «А». Так, пойдем дальше. Смотрите: «О». Смотрите: «И».
Затем профессор перешел к демонстрации согласных. Упрямо по многу раз повторял он букву за буквой. Железный человек внимательно следил за движениями его рук. Он смотрел на знаки и, казалось, читал их. Траубе был уверен, что там, в сложнейших лабиринтах мозга идет интенсивная работа восстановления памяти, освобождение прежних ассоциаций из-под тяжелого бремени операционного шока.
От демонстрации отдельных букв Траубе перешел к демонстрации сразу нескольких букв, сначала расположенных произвольно, а потом в словесных сочетаниях. Называя буквы по очереди, но не указывая на каждую из них, профессор внимательно наблюдал за глазами железного человека. Он видел, что тот быстро перебегает взглядом от одной буквы к другой. Тогда он решил проделать еще один весьма остроумный опыт: на большом листе бумаги столбцом располагалось десять слов, написанных крупными чертежными буквами:
ДВЕРЬ СТОЛ
ОКНО СТУЛ
ПОЛ ШКАФ
ПОТОЛОК ПОЛКА
СТЕНА КРЕСЛО
Все названные предметы находились в поле зрения испытуемого.
— Внимание, Гарри, — сказал профессор, — я буду называть различные предметы, а вы глазами должны отыскивать названия на листе. Внимание! Начинаю: Пол. Стена. Шкаф. Дверь. Кресло. Окно. Так, хорошо! Продолжаю!..
Каждый раз, когда профессор называл то или иное слово, глаза железного человека быстро отыскивали соответствующее слово на листе. Сомнений быть не могло: испытуемый читал слова. Но Траубе не удовлетворился этим. Он проделал еще один эксперимент.
— Сейчас, Гарри, я буду называть те же предметы, а вы должны отыскать их взглядом в лаборатории. Внимание! Окно. Полка. Стена. Так, хорошо.
Профессор видел, что взгляд испытуемого безошибочно останавливался на называемом предмете. Итак, ему было совершенно ясно, что железный человек слышал, видел и понимал сказанное и виденное. Все более и более восстанавливалась его память.
Связь была установлена. Теперь можно перейти к развитию рече-двигательных функций. В стальном корпусе был заключен сложный фонетический аппарат. Этот аппарат тысячью каналов был соединен с мозгом железного человека точно так же, как и другие исполнительные системы.
Профессор Траубе построил опыты следующим образом: поместив перед железным человеком алфавитную таблицу, он, как и прежде, указывал на одну из букв, но включал одновременно звуковую систему.
— Внимание. Гарри, смотрите, — он указывал на букву «А» и нажимал на соответствующую кнопку, — итак, какая это буква?
— А, — раздавалось в груди железного человека.
— Правильно! Ну, а эта?
— И.
— Великолепно! А эта?
— О.
Зачем же, спросите вы, обманывал себя профессор? Ведь он отлично понимал, что инициатива произнесения звуков принадлежит ему самому! Да, знал, но он знал и другое — там, в мозгу в результате одновременного возбуждения зрительного, слухового и рече-двигательного центров между этими центрами с каждой минутой восстанавливаются временные связи.
Снова и снова повторял он свой опыт, десятки раз останавливалась указка на той или иной букве, десятки раз нажимал он на соответствующую кнопку, и в стальной груди рождался голос. Но вот он снял руку с пульта и направил указку на букву «А».
— А, — сказал железный человек, сказал сам, без помощи профессора.
В течение последующих пяти дней Траубе добился того, что его питомец стал четко произносить все буквы. Затем он научился произносить слова, то есть довольно быстро и ясно читать. Бойко пробегал он взглядом по газетным строкам, читал вслух. Траубе слушал внимательно, напряженно. Проверял чистоту произношения, придирчиво заставлял перечитывать отдельные слова и фразы.
Фонетическое устройство обеспечивало хорошее произношение и приятный тембр. Правда, это был голос немного монотонный, но ведь и обычные люди часто говорят монотонно.
Между профессором и железным человеком отныне возник речевой контакт.
— Вы меня слышите, Гарри?
— Слышу.
— Хорошо. Читайте.
Медленно и четко произносил испытуемый слово за словом, глядя в текст.
— Так. Отлично. Быстрее.
Испытуемый читал быстрее.
— Отлично. Теперь медленнее.
Испытуемый читал медленнее.
Почему же, спросите вы, профессор не вступал с железным человеком в обычный разговор? Почему он не задавал ему вопросов, связанных с прошлым жизненным опытом? Да, Траубе не делал этого. Во-первых, он хотел добиться восстановления мыслительного процесса в определенном направлении, а во-вторых… он боялся перегрузить еще слабый мозг, боялся вызвать ошибку нервных процессов. Система и еще раз система! Будущее покажет многое, а сейчас…
Перед профессором Траубе встала другая чрезвычайно сложная задача. Какие бы слова ни произносил железный человек, лицо его оставалось неподвижным, как маска. Жили одни лишь глаза. Нужно было обучить его мимическим движениям, которые соответствовали бы произносимым словам.
Профессор соединил сложнейший мимический аппарат с пультом управления и начал тренировку. Большим облегчением в работе было то, что испытуемый понимал его цель и, несомненно, способствовал ее достижению, вернее, сам стремился к этому. Нужно было научить Гарри брать руками различные предметы, садиться, вставать, ложиться, ходить, бегать, прыгать. Необходимо было выработать навык письма. Мы говорим «выработать» потому, что, хотя в мозгу Гарри и имелись соответствующие нервные связи, исполнительный аппарат был новым и необычным.
Все эти трудности не смущали профессора. Поистине он был несгибаем в своем упорстве! Он твердо знал, что добьется своего. Но многого он и не знал!
Прошла неделя, за ней другая, третья… Железный человек уже довольно сносно управлял своими руками. Он мог поднять на уровень глаз стакан, наполненный водой, не пролив ни одной капли. Он мог завязать узлом тонкую нитку, продеть нитку в иголку. Он мог вывести карандашом на бумаге неуклюжие буквы, напоминающие каракули школьника. Согласитесь, это был огромный успех. Первоначально резкие движения Гарри становились все более и более плавными. Мозг подчинял себе сложную исполнительную систему.
И вот настал день, когда железный человек сделал свой первый шаг. Тело-протез стало гибким и послушным.
Профессор приступил к силовым испытаниям своего питомца. Результаты получились прямо-таки потрясающие. Ни один из наличных силомеров не мог определить его силу. Он совершенно свободно завязывал узлом металлический стержень двухсантиметровой толщины. Самсон, созданный человеческим гением!
Профессору Траубе стало страшно. Перед ним была грозная боевая машина с живым человеческим мозгом. Чего же боялся профессор? Ведь он видел, что сознание железного человека крепнет с каждым днем. Да, видел. Но он знал также о существовании экстрапирамидной системы, более быстрой, чем сознание, и мало подчиненной ему. Это и страшило профессора Траубе.
Всего пять месяцев от роду насчитывал Гарри Траубе, но эти месяцы стоили многих лет. Гарри был красив и изящен. Дорогой костюм прекрасно сидел на его плечах. Он был прост и элегантен. Легко и свободно двигался Гарри по лаборатории. Профессор с удовлетворением наблюдал за ним. Ведь это — дело его рук, его ума, его воли!
Разве другой ученый не испытывал бы на месте профессора то же самое?
Мы уже говорили о том, что профессор ограничил свое общение с Гарри очень строгими рамками. Он вел разговор в императивной форме, не допускал со стороны железного человека никаких лишних вопросов, не вступал с ним ни в какую полемику, не давал ему никакого повода для воспоминаний. Бдительно охраняемый рубеж отделял Гарри от прошлого. Строгая линия определяла его умственный путь. Но, с другой стороны, профессор давал ему очень большую умственную пищу. Десятки научных книг были извлечены из шкафов. Их должен был прочесть его питомец в ближайшем будущем. Профессор приучал его обращаться с приборами, делать сначала сравнительно простые, а потом и более сложные лабораторные работы. Одну из комнат Траубе приспособил для жилья железного человека. Там стояли кровать, платяной шкаф, стул, стол. Были даже умывальник и маленькое тусклое зеркало.
Ровно в девять вечера Гарри должен был ложиться спать. Раздевшись, он, как обычные люди, укладывался в постель. Однообразное постукивание метронома и маленькая доза снотворного, введенного в омывающий мозг физиологический раствор, и торможение быстро разливалось по коре больших полушарий мозга. Железный человек засыпал.
Ровно в семь часов утра профессор будил его, легко нажимая на маленькую кнопку. Гарри должен был умыть лицо и руки, одеться, причесаться, после чего он был готов к исполнению своих дневных обязанностей.
Простые чувства
Мир Гарри был ограничен стенами лаборатории! Через матовые стекла окон не видно ничего. Строгий лабораторный режим, лаконичные четкие обращения профессора, обстановка, знакомая до мелочей, — все это, казалось, благоприятствовало восстановлению его мыслительной деятельности, направляло ее по определенному пути.
Профессору не на что было обижаться. Все шло по строго предусмотренному плану. Его ученик был способен и исполнителен. Молча и быстро выполнял он порученное дело, скупо и точно отвечал на вопросы профессора. Так почему же в глазах Траубе часто вспыхивала тревога? Беспокойным взглядом следил он за своим питомцем, словно старался что-то заметить и не мог.
Порой в глазах Гарри мелькало нечто вроде удовлетворения — отголоска радости. Это было или в результате удачно проведенного опыта, или даже без видимых внешних причин. Опасные силы! Но почему? Не ужели появление собственного отношения к окружающему, отношения не холодного, строго логического, эмоционального таило в себе опасность?
Траубе стал неуравновешен. Очнувшись от мыслей, он мерил шагами комнату, затем садился и вновь погружался в мысли.
«Я вижу, как с каждым днем просыпаются скрыты силы, — говорил себе профессор, — вижу, но ничего но могу поделать. Ох, уж эта подкорка! Что будет дальше? Неужели родится непрошенное дитя, имя которому — радость? Не нужно, не нужно! Ведь там где радость, там и гнев».
Тщетно старался профессор проникнуть в глубокие тайники мозга железного человека. Его исследовательский гений был бессилен.
А время шло и шло, и его течение постепенно стало осознаваться железным человеком. Как неуловимые магнитные колебания, как поток невидимых лучей, проникало оно в его мозг. То было нечто большее, чем рефлекс на время, было соизмерение во времени своего бытия. Мы неосторожно сказали: «своего»… Но ведь у Гарри не было своего, субъективного! А как провести границу между объективным и субъективным?
Где-то глубоко рождалось день за днем ощущение собственного бытия. Медленно, но закономерно оно росло и крепло. И все больше и больше начинал ощущать Гарри свое тело, не грубый механический протез, а живое человеческое тело. Оно материализовалось, словно после глубокой общей анестезии, заполняло собой все закоулки железного корпуса. Мир живительным потоком хлынул внутрь протеза. Рождалось человеческое «я», омытое кровью, согретое живым теплом, освеженное влагой и воздухом.
…Все чаще и чаще приходили к Гарри непрошенные мысли. Сначала они мелькали, как легкие тени, потом стали яснее. Появилось беспокойство, недоумение.
Беспокойство нарастало обычно к концу рабочего дня. Приближалась ночь. Сгущались тени. В лаборатории загорались лампы. А стрелки часов неуклонно приближались к девяти. Ровно в девять профессор включал метроном и вводил в «кровь» Гарри снотворное. В это время Гарри уже лежал в постели. Он видел склоняющегося над ним профессора. Затем… приходило нечто непостижимое и роковое. Светлые пятна ламп расплывались, предметы теряли свои очертания, темные провалы являлись между ними. И он чувствовал, что теряет себя, свое «я». Страшный миг небытия, слитый с причудливыми и искаженными ощущениями действительности, наступал. И полуреальный, полубредовый мир, оскаленный черными зияющими пропастями, поглощал его. Слепая, необозримо огромная пустота смыкалась вокруг, все поглощала, уничтожала. И в темной, страшной, необъятной пустоте, как серебристая паутинка, все еще вилась тонкая нить сознания. Но нить рвалась. Каждую ночь, каждую ночь приходила к нему смерть.
Утром все совершалось в обратном порядке. Сначала возникал мрак, насыщенный каким-то движением, потом являлся слабый свет, и, наконец, возникали очертания предметов. С каждой минутой Гарри все яснее и яснее различал их. Возвращалось сознание действительности, но сознания собственного бытия еще не было. Оно возникало позднее и притом не сразу, а проходя все первоначальные фазы своего возникновения. И так каждый вечер, и так каждое утро. Это было ужасно, это было непостижимо для обычного человека.
Профессор неуклонно соблюдал режим. Он был полным распорядителем жизни Гарри. И, глядя на стрелки часов. Гарри смутно испытывал непонятную еще тревогу — сигнал приближения мертвой ночи.
Но вот настало время, когда Траубе решил доверить распорядок времени ему самому. В положенное время Гарри сам должен был производить необходимые манипуляции перед тем, как лечь в постель.
— Запомните: так нужно. НУЖНО, — инструктировал его профессор, и Гарри строго соблюдал инструкцию, не задумываясь над ее смыслом. Но независимо от него противоречивая мысль прямо пробивала себе дорогу в бесконечных закоулках мозга.
Это случилось поздним вечером… Профессор должен был на час с лишним раньше покинуть лабораторию.
— Помните же, Гарри, — сказал он, уходя, — ни минутой раньше, ни минутой позже. Так нужно.
— Хорошо, профессор, — заученно ответил Гарри.
В положенное время он прошел к себе в комнату. Раздевшись, он сел на постель и потушил свет. Мягкая, нежная темнота и тишина окружила его. И в этой темноте, в тишине было что-то бесконечно прекрасное, так не похожее на холодную пустоту надвигающейся ночи. Гарри чувствовал себя обычным человеком. Он ощущал, как вздымается от дыхания его грудь, как бьется сердце. Он согнул в локте руку, он пошевелил ногой, он наклонился и выпрямился. Тело было послушным, гибким. «Я, настоящий, живой я!»
Он зажег свет и, сняв рубашку, взглянул на свою грудь, на свои руки. Металлический торс тускло отражал свет. Не веря глазам, он ощупывал себя, как слепой, обследовал каждый сантиметр своего тела. Холодная, твердая, как кольчуга, грудь… Он ясно ощущал металлические крепления, винты.
«Что же это? — думал он со страхом. — Ничего не могу понять! Ведь я же здесь, вот тут, сижу на постели. Я же здесь, и меня — нет! Где же я?»
И задумался глубоко железный человек Гарри Траубе.
Ночь, когда Гарри впервые позволил себе нарушить строгий режим, установленный профессором, значила для него очень много. Тысячи мыслей возникали одна за другой, тысячи вопросов требовали ответа.
Профессор Траубе так и не узнал, что Гарри обманул его, но он не мог не заметить в его взгляде, в его поведении чего-то нового. Траубе неукоснительно следовал своей программе. Ничто не напоминало железному человеку прошлого, связанного с Недом Карти. Нед Карти был мертв, давно мертв. Его не было, и не было ничего, связанного с ним.
Глубокие провалы зияли в памяти Гарри. И нельзя было перекинуть через них мост, и нечем было заполнить их. Но Траубе и не хотел этого. Строгий, сухой, лаконичный, он упрямо соблюдал свою линию. Гениально продуманная система воспитания давала результаты. И все же в этой системе было много неучтено, неясно.
Гарри принимал профессора таким, как есть. Никаких вопросов, сомнений первоначально не рождал его вид, его голос. Профессор был необходимым элементом лабораторной обстановки так же, как и приборы, как мебель, книги.
Как подвижная материальная система, он прекрасно ассоциировался в мозгу Гарри с другими понятиями, с понятием «человек». Он не вызывал никаких вопросов, недоумений. Но все изменила последняя ночь. Она заставила Гарри по-иному взглянуть на вещи и явления.
«Кто этот человек? Какое имею к нему отношение я? Да и кто я сам? Почему я здесь? Почему я такой?»
За этой ночью пришла другая, за другой — третья. И каждый раз Гарри тайно нарушал строгие предписания профессора, и каждый раз великое сомнение охватывало его.
Иногда днем, когда солнце золотило матовую поверхность оконных стекол, в него входило что-то новое, несказанно хорошее. Это было ощущение глубокого, полного слияния с окружающим. Оно вливалось в него, заполняло каждый уголок тела, и тело жило, дышало, пульсировало кровью. Только не нужно было глядеть на него, трогать его… Смутное подобие человеческой радости… Оно было недолговечным. Так в облачный день то ярко вспыхнут на траве солнечные пятна, то померкнут, разольется тень, затрепещут листья на деревьях.
И вот настал час, когда профессору стало совершенно очевидно, что нужно срочно что-то предпринимать. Это произошло после удачно завершенного опыта. Траубе был доволен. Он ходил по лаборатории большими шагами, а Гарри стоял у лабораторного стола.
— Нам повезло, — сказал Траубе, — нам чертовски повезло! Все мои предположения подтвердились, как одно! Ну, что вы скажете, а?
Гарри ответил не сразу. Словно издалека долетел до него вопрос профессора.
— Что скажу я? — монотонно переспросил он. — Что можно сказать? Мне многое неясно… Для чего все это? Бесконечные опыты… книги, протоколы… Работа, большая работа… А когда она началась и с чего? Работаю я, работаете вы, работаем мы вместе… А зачем? Почему я здесь? Да кто же, наконец, вы?
Траубе растерянно молчал.
— Гарри, — заговорил он наконец, — на все ваши вопросы я не могу ответить сейчас и не потому, что нет ответа, а потому, что так нужно. Нужно! И в первую очередь для вас!
— Для меня? Почему для меня? Да кто я такой? Ведь я же не знаю…
Профессор близко подошел к нему.
— Вы узнаете. Все узнаете! Только позднее… не сейчас… Вы… вы… Ну что ж, я скажу вам, вы — феномен, вы — исключительное явление в жизни. Вас ждет великое будущее. Только доверьтесь мне!
Долго говорил профессор, все более и более нарочито углубляясь в сложные научные проблемы. Он делал бесчисленные научные построения, приводил формулы и цитаты, одну сложнее другой.
А Гарри стоял и молча слушал. И не знал профессор Траубе, о чем он думает. И профессору стало ясно, что не удержать ему железного человека в стенах лаборатории, что скоро, очень скоро наступит день, когда Гарри сам, не спрашивая его, перешагнет порог и выйдет в мир. Холод побежал у него по спине при этой мысли. Ведь там, за порогом, он может встретить людей, которые напомнят ему о прошлом, а тогда…
«Уезжать! Немедленно уезжать отсюда. И как можно дальше!»
Открытие мира
Каждую минуту, каждое мгновение открываем мы окружающий нас мир. Каждый миг несет нам откровение, ибо нет мига повторимого. И если мы жалуемся на скуку, однообразие, то подтверждаем свое неумение видеть мир. Но в этом случае мы клевещем на себя. Ведь бесчисленное множество открытий мы делаем подсознательно! Взгляните на бегущий меж кустов ручей, на небо, подернутое легкими облачками, на туманную панораму города. Как все это знакомо и вместе с тем незнакомо! Наш глаз выбирает из виденного привычное, наш мозг привычно соотносит детали виденного. Но иногда, в какие-то прекрасные минуты, мы словно впервые открываем глаза, удивленно смотрим вокруг, мы словно просыпаемся и видим все необычайно четко и ярко. В эти минуты наш ум свободно сопоставляет каждую малейшую деталь, каждое явление, мысли текут свободно!
Быть может, сказанное послужит некоторым объяснением последующих событий. И не столько событий, сколько того воздействия, которое оказал на Гарри внезапно открывшийся ему огромный и многообразный мир. Машина мысли железного человека была пущена в ход.
Нельзя было ожидать, что все будет для Гарри новым. И в этом был глубокий просчет профессора Траубе.
Мы вернемся к той минуте, когда перед профессором со всей ясностью встала необходимость быстрого отъезда. Он стал тщательно продумывать план действий. Медлить было нельзя и в то же время нужно было все предусмотреть. Прежде всего требовалось подготовить Гарри к переменам в его жизни. Траубе рассчитывал, что новая обстановка благотворно повлияет на психику железного человека. Но он не мог всего предусмотреть, он был больше физиологом, чем психологом.
— Гарри, — сказал Траубе, — в ближайшее время вокруг вас все изменится, вы вступите в новый мир, включитесь в новые дела, и тогда, быть может, вы глубоко осознаете свое назначение в жизни. Но верьте мне, прислушайтесь к моим советам. Они для вас нужнее всего. Без них вы не сможете обойтись. Вам придется встретиться со многими людьми… Запомните же первое: не здороваться за руку, не прикасаться ни к одному человеку, не допускать никакого прикосновения к себе. Ваша манера держаться должна быть строго выдержана. Корректность, подтянутость, некоторая сухость. Никаких интимностей, никаких доверительных разговоров! Запомните: так нужно. Если вас будут спрашивать о вашей жизни, исключайте подобные разговоры. Если вас будут приглашать на вечера, в клубы, в частные дома, отвергайте приглашения. Запомните: так нужно. Говорите только о науке. Другое, что вы должны запомнить: везде, всюду и всегда мы будем с вами вместе. Программа дня будет предусмотрена мной, и это все необходимо для осуществления больших планов, для свершения больших дел. Ясно вам, Гарри?
Ни слова не сказал Гарри, ничем не выдал своего отношения к тому, что услышал. Казалось, все было решено…
Профессор укладывал в чемоданы множество бумаг, книг, таблиц и графиков, Гарри помогал ему. Наступил вечер, необычный вечер в жизни Гарри.
Когда на улице стемнело, из подъезда лаборатории торопливым шагом вышли два человека, закутанные в плащи, в низко надвинутых на глаза шляпах. Длинная, как стрела, машина ожидала их. Желтые огни фонарей растекались по ее черным бокам. Шофер неподвижно сидел за рулем. Уложив в багажник два небольших чемодана, они уселись в машину, и она с легким шорохом скользнула по асфальту. Вечерний город раскрылся навстречу. Огненные вихри реклам, каскады огней, шумные реки улиц. Все мелькало, струилось, сливалось в темные и светлые полосы.
Траубе задернул шторы.
— Так лучше, — сказал он, — путь немалый. Давайте отдохнем…
Откинувшись на спинку сиденья, он погрузился в мысли. Старался представить себе ближайшее будущее, но четкости представлений не было. Гарри сидел рядом, неподвижный, как истукан. Порой у профессора тревожно сжималось сердце, липкий страх охватывал все тело. Но он отгонял от себя это.
«Что готовит он мне? — размышлял Траубе. — Ведь я не знаю его так, как конструктор знает свое изобретение! Не знаю! Мне нужно строго наблюдать за ним, наблюдать и делать выводы. Нужно предугадывать ход событий и эволюцию его психики. Трудно! Дьявольски трудно! Учтет ли он мои советы? Смогу ли я всегда диктовать свою волю?»
Профессор покосился на Гарри. В полутьме кабины тот рисовался неясным темным пятном. Лишь восковая маска лица призрачно белела. А вокруг свистел ветер. Бесконечная лента шоссе стремительно скрывалась под колесами. Машина миновала границу города.
Наутро они остановились в небольшом городке и день провели в довольно захудалом номере гостиницы. Весь день Гарри молча просидел на стуле. Он не проявлял никакого особого интереса к деталям новой обстановки. Он ни разу не заинтересовался тем, что происходило за окном. Профессор не знал, радоваться ему или печалиться по этому поводу.
Когда они приехали, у него возникла идея усыпить на весь день железного человека, но тот воспротивился. Профессору нужно было позавтракать. Оставить Гарри одного в номере он не решался, а есть при нем — тоже. Гарри же угадал его желание и, к немалому удивлению Траубе, спокойно заявил:
— Не беспокойтесь, профессор, я не помешаю вам ни в чем. Если нужно, кушайте, отдыхайте, словом, занимайтесь своими делами…
— Но, Гарри…
— Боитесь? Напрасно! Я расположен бездумно посидеть на одном месте.
— Но…
— Да бросьте вы свои опасения! Ни к чему они.
«Откуда у него такие мысли? — с тревогой думал Траубе. Мысли сугубо человеческие! Но ведь он же — человек! Правда, только мозг… А в целом… Можно ли в целом назвать эту систему человеком? Не знаю, не знаю…»
Вошел служитель.
— Прикажете подать завтрак?
— Не нужно. Я пойду в ресторан, — поспешно ответил Траубе и быстро взглянул на Гарри. Тот никак не прореагировал на его слова.
— Идите же, — обратился Траубе к служителю, вопросительно смотревшему на Гарри. Когда тот вышел, профессор сказал:
— Мне, пожалуй, действительно нужно отлучиться… правда, ненадолго… Но я бы хотел… — он замялся, не зная, как оформить мысли. — Мне бы, видите ли, хотелось…
— Вы хотите для спокойствия закрыть меня в номере. Так ведь?
— Да.
— Ну что ж! Не возражаю…
«Фу ты, черт! — думал профессор, — он, как маг, читает мои мысли! Что же, рискну».
Ночью мчались они по глянцевитому шоссе, вновь свистел ветер, мелькали огни, проносились темные силуэты столбов и деревьев. И вот на горизонте возникло большое зарево — предвестник огромного города. Город был целью, к которой стремились наши путешественники. Медленно вырастал он вдали, сверкая бесчисленными огнями.
— Скоро приедем, — сказал Траубе.
Гарри молчал. Он, видимо, не испытывал волнующего чувства ожидания, свойственного обычным людям. А впрочем, кто знает?
Приехали утром. Машина остановилась у подъезда великолепного отеля. Профессор заранее позаботился о том, где остановиться. В дальнейшем он рассчитывал снять особняк. Номер состоял из трех прекрасно обставленных комнат. Ореховая мебель сверкала полировкой. На стене красовалось большое трюмо.
Гарри подошел к зеркалу и взглянул на себя. Впервые он увидел так ясно свое изображение. Впервые встретился он взглядом с самим собой. Чужое незнакомое лицо… Но глаза! Что в них такое? Они глядят из какой-то дали… В них что-то скрыто от него самого!
«Забыл… забыл… Вот… Ах, ты! Не вспомню, — мучительно думал он, глядя в зеркало, — что за провал… Не могу вспомнить!»
— Гарри, что с вами? — обеспокоенно спросил Траубе.
— Ничего особенного. Просто задумался.
«Он задумался, — размышлял профессор, — боже, он стал задумываться! И это лишь начало… А потом? Что будет потом?»
Последующая неделя была целиком посвящена ознакомлению с городом. Профессор хотел перегрузить мозг Гарри новыми впечатлениями. В открытой легковой машине они совершали бесконечные прогулки по городу. Глазам Гарри открывалась далекая перспектива улиц. Дома, великолепные парки, фонтаны, пестрая толпа пешеходов, широкий поток машин — все это огромное, подвижное, многоцветное, переменчивое было вокруг, было рядом. Траубе осторожно, но внимательно наблюдал за лицом Гарри. Он старался угадать, какое впечатление производит окружающий мир на железного человека. А тот сидел неподвижный, безучастный ко всему, как изваяние, и ничего нельзя было прочесть в его взгляде.
Все, что видел Гарри, не поражало его. Оно было ему знакомо. Он нисколько не удивлялся разнообразию лиц, равнодушно пробегал он взглядом по великолепным фасадам зданий. Ни красивое, ни грандиозное не привлекало его. Все было знакомо ему в своей обшей форме. Но все это, такое знакомое, было свободно от бремени прошлого. Прошлое умерло вместе с тем, кто передал ему эстафету жизни и кого он не знал.
Подводя итоги дня, Траубе осторожно выведал настроение Гарри. Задавал ему различные вопросы о том, что видели они в течение дня. Гарри отвечал спокойно, обстоятельно. Несомненно, у железного человека была великолепная память, новая память, свежая память.
Казалось бы, это должно было утешительно действовать на профессора, но ни на минуту не мог он избавиться от непонятной ему тревоги.
Настало время, и Траубе решил вывести железного человека в свет. Правильнее сказать, он решил ввести его в круг ученых, выдавая за собственного сына, получившего физиологическое образование. Трудный шаг! Профессор немало размышлял по этому поводу. Что касается Гарри, то намерение профессора, о котором тот его известил, казалось, нисколько не взволновало его. Спокойно, невозмутимо слушал он наставления Траубе, как ему следует держать себя на первых порах; те основные правила, которые многократно повторял профессор, он, несомненно, запомнил.
И вот пришел вечер, когда их машина остановилась у подъезда академии. В просторном вестибюле толпилось много народу. Большей частью это были люди почтенного возраста. Здесь встречались и грузные слоноподобные господа, и маленькие старички с желто-белыми остатками волос и розовыми лысинами. Слышался сдержанный говор. Вся эта масса ученых мужей медленно продвигалась к широкой, покрытой ковром лестнице, ведущей на второй этаж в конференц-зал.
Профессор Траубе был известной личностью Многие почтительно кивали ему, многие приветливо улыбались. Гарри тихо следовал за ним Он ничем не выделялся на общем фоне, разве своей молодостью.
— А, многоуважаемый, здравствуйте! — раскатисто проговорил высокий плечистый господин, подходя к Траубе.
Рядом с ним профессор и Гарри казались малышами.
Профессор любезно ответил на приветствие.
— Познакомьтесь — мой сын, — кивнул он в сторону Гарри.
Рыхлая громада повернулась к стройному невысокому Гарри.
— Локк, — небрежно отрекомендовался господин.
— Профессор Локк, — дополнил Траубе.
Железный человек молча поклонился. На какое-то мгновение водянистые глаза профессора Локка встретились с глубоким, тяжелым взглядом железного человека. Мгновения было достаточно, чтобы Локк почувствовал в этом взгляде что-то особое, необычное, прижимающее к земле.
Между тем, к ним подошло еще несколько человек. Траубе щедро знакомил Гарри с учеными мужами.
— Профессор Брейтан.
— Профессор Стриблинг.
— Заведующий институтом экспериментальной психологии Штарк.
— Заведующий лабораторией электрофизиологии Вейте.
И каждый раз железный человек сдержанно кланялся, не говоря ни слова. Нечто неуловимое, особое привлекало к нему внимание. Присутствующие перешептывались, указывая глазами в сторону Гарри.
В одной из групп какой-то толстяк удивленно разводил пухлыми ручками:
— Вы подумайте, у Траубе сын! Но я-то об этом ничего не знал. Не догадывался. А вы знали? Хе-хе… Откуда он взялся, этот сын…
— Мм… да-а… А ведь он странный какой-то… бука…
Ученое общество разгуливало по широкому коридору, из которого открывались двери в конференц-зал.
Внезапно общее оживление заставило профессора Траубе взглянуть в дальний конец коридора. Оттуда, окруженный шумной толпой собеседников, быстро двигался невысокий коренастый человек с огромным портфелем под мышкой. Это был румяный, цветущий старик с седой клиновидной бородкой и маленькими колючими глазками. Он был подвижен, даже очень подвижен. При виде старика легкое облачко набежало на лицо Траубе. И не зря. Ведь он увидел своего главного противника, своего вечного оппонента профессора Сандерсона.
В ответ на кивок Траубе Сандерсон широко заулыбался.
— А, дорогой коллега! Всегда рад вас видеть! Надеюсь, вы активно включитесь в обсуждение сегодняшнего моего доклада. Рад услышать ваше мнение.
Траубе снова кивнул.
На повестке заседания стоял доклад профессора Сандерсона на тему: «Соматические влияния на психику».
После того как колокольчик председателя возвестил полную тишину, профессор Сандерсон быстро взошел на кафедру.
— Господа! — раздался его звонкий и сильный голос. — Мой доклад вызван необходимостью внести ясность в давно запутанный физиологами вопрос о соотношении соматического и психического. Все чаще и чаще в трактовке этого вопроса физиологи избирают путь вульгарной рефлексологии. Стремясь быть материалистами, они оказывают медвежью услугу материализму, превращая его в огородное пугало. О! Может быть, это грубо! Может быть, это неприятно для изощренного слуха некоторых? Но я не привык подстраиваться под чей-то слух, не привык. Итак, речь идет о том, в каком соотношении находятся соматическое и психическое. В каком отношении идеальное как идея находится к физиологическому. Может ли перестроиться идеальное при кардинальной перестройке соматического.
Недобрая улыбка кривила лицо профессора Траубе. Он и Гарри сидели в тени, в глубине ложи.
Между тем Гарри не очень внимательно следил за выступлением. Он рассеянно блуждал взглядом по огромному залу. Он видел множество затылков, толстых красных шей. обрамленных традиционными белоснежными воротничками, множество маслянистых лысин, седых бород и бакенбард.
Профессору Траубе приходилось, с одной стороны, слушать доводы своего вечного противника, с другой наблюдать незаметно за Гарри. С удовлетворением видел он на лице своего питомца спокойное внимание, перемежающееся с безобидной рассеянностью.
«Соматическое… психическое… Жалкий дилетант! Если бы мог он видеть, какими невероятно сложными путями бегут импульсы от железной сомы в живой, но возрожденный человеческий мозг. Если бы он мог хоть на мгновение представить всю сложность, всю динамику необычной железной проекции в живом, пульсирующем человеческом мозгу! О, тогда бы он замер за кафедрой с открытым ртом. Но мое слово еще впереди! Не сегодня, не завтра, но скоро я скажу это слово, уважаемый господин профессор!»
Неожиданно мысли Траубе были нарушены. Что-то изменилось во взгляде Гарри. Что-то быстрое, как молния, мелькнуло на его лице. И это что-то заставило сжаться сердце профессора. С тревогой оглядел он зал, стараясь угадать причину, вызвавшую неведомую перемену. Но все было по-прежнему. Может быть, слова докладчика? Пустое! Что же произошло? Что привлекло внимание Гарри?
Равнодушно блуждая взглядом по конференц-залу, Гарри проникал в самые дальние его уголки. Везде он видел лица, лица, лица. Они не интересовали его. Они были ему знакомы. Они были построены по общей, давно известной схеме: лоб, нос, рот, глаза, уши, подбородок. Соотношение частей не интересовало железного человека. Закономерные частности… Только и всего.
Но вот в дальнем конце зала он увидел новое, необычное. Собственно говоря, в этом не было ничего необычного. Самое обыкновенное лицо, полностью соответствующее общей изученной схеме лиц. Лицо молодой миловидной девушки. Оно было повернуто в профиль. Темный завиток волос прихотливо спадал на щеку. Само лицо, как барельеф, выделялось на фоне темной бархатной драпировки. Несколько раз Гарри непроизвольно обращал туда свой взгляд. И каждый раз видел все более четко Девушка со вниманием слушала выступление профессора. Она ни разу не обернулась в сторону Гарри. Она и не подозревала, что является предметом чьего-то наблюдения.
Гарри чувствовал, что вокруг происходит какое-то изменение. Все оставалось на месте, но во всем произошел какой-то сдвиг. Одни предметы утратили свою четкость, отошли в сторону, другие — обрисовались по-новому. Такого необычного, нового ощущения еще не испытывал железный человек в течение своей короткой, но удивительной жизни. Он не сразу заметил, что заседание окончилось, что профессор с беспокойством трогает его за рукав.
— Гарри! Что с вами? Пойдемте.
— А, уже все?
— Да, да… Прения перенесены на завтра. Сандерсон, как всегда, не признает регламента.
Шумное собрание продвигалось к выходу. Следуя за профессором Траубе, Гарри несколько раз оглянулся назад. Это не ускользнуло от внимательного Траубе.
Вокруг раздавались многочисленные реплики. Ученые мужи продолжали обсуждать услышанное. Траубе. поспешил выбраться на улицу. Ему меньше всего хотелось полемизировать. Да к тому же сегодня он чувствовал раздражение. Быть может, главной причиной того были вид и голос профессора Сандерсона.
У подъезда сверкали лаком бесчисленные машины. Огромное освещенное здание академии вздымалось ввысь, в темно-синее звездное небо. Влажный ветер шелестел листьями на деревьях. Желтые огни фар растекались по асфальту. Вечер был полон шорохов, шуршанья, сдержанного, но мощного шума большого города.
Подходя к машине, Гарри оглянулся на подъезд. Там, в глубине здания, остался ярко освещенный зал… И он почувствовал, как огромный мир придвинулся к нему вплотную. Этот мир миллионом шорохов, бликов, движений, тысячью ядовитых испарений проник в него. Проник в самые сокровенные глубины. Собрался внутри во что-то большое, неведомое, проник в кровь и потек вместе с нею, вошел в жизнь.
Никогда еще не видел Гарри мира таким, как в этот вечер. Звезды необычно четким, ярким узором рассыпались по небу. Между ними угадывались великие пространства.
Гарри недоуменно осматривался вокруг. Улицы, полные электрического света, шума и движения, разбегались по радиусам. Всюду движение, во всем мощный импульс жизни. Все как бы уходило в бесконечность и вместе с тем придвигалось вплотную, рвалось наружу и проникало внутрь. И это было для железного человека открытием мира.
Сложные чувства
Элеонора Стэкл после окончания института второй год работала ассистентом у профессора Сандерсона. Подруги завидовали ей, говоря, что к ней пришло счастье работать под руководством крупного ученого. И действительно, внешне для Норы все складывалось как нельзя лучше. Но только внешне. Дни первого энтузиазма, дни радужных планов и больших надежд давно уже пролетели, и она лицом к лицу столкнулась с неприкрашенной действительностью.
Профессор Сандерсон, этот по общему мнению «очаровательный старичок», милейший человек, оказался не таким, каким представляла его первоначально Нора. Она сама не могла бы объяснить почему, но постепенно этот человек стал внушать ей все больший и больший страх и неприязнь. Конечно, она никогда бы не рискнула проявить эти чувства открыто, но, оставаясь наедине с собой, она глубоко переживала встречи с профессором.
Все в нем было ей неприятным: его полное румяное лицо, его аккуратно подстриженная седая бородка, его маленькие липкие зеленые глазки, вокруг которых собирались лучистые морщинки, его голос, сочный, насыщенный интонациями. Встречаясь с добродушным веселым взглядом профессора, она в глубине его зрачков видела что-то скрытое, недоброе.
Однажды, когда она по неосторожности слишком пристально взглянула ему в глаза, профессор, казалось, смутился и отвел взгляд. Этот будто бы незначительный случай еще больше насторожил Нору. Были ли у нее какие-нибудь объективные причины для того, чтобы не любить профессора, не доверять ему? Она и сама не ответила бы на этот вопрос. Но с каждым днем, с каждым часом ей становилось все труднее работать у него.
Любезный, обходительный, безупречно обязательный, Сандерсон давил ее своим присутствием. Его вкрадчивые вопросы, советы, указания, его научные рассуждения — все-все, сказанное им, было неприятным для ее слуха. Его присутствие сковывало ее. Как паук, плел он в лаборатории невидимую паутину, и Нора чувствовала, что бесчисленные липкие и прочные нити оплетают ее, лишают свободы, уверенности в себе.
Лишь один раз профессор нечаянно сорвал с себя личину добродушия. На несколько секунд… Но секунд было вполне достаточно… Это произошло, когда один из сотрудников, лаборатории случайно или намеренно произнес имя профессора Траубе.
— Вы говорите, профессор Траубе? — переспросил Сандерсон, и глазки его сузились и стали колючими, как иглы. — Так, так… Я слышал, что уважаемый коллега на днях будет здесь. Очень приятно! Он как раз поспеет к моему докладу.
Говоря это, профессор быстро разгуливал по лаборатории, тщетно стараясь скрыть от присутствующих свое раздражение.
На другой день после своего доклада в академии, на котором, как уже известно читателю, присутствовали профессор Траубе и Гарри, Сандерсон пришел в лабораторию особенно возбужденный.
— Воображаю, что он будет говорить в прениях! Ха! Очевидно, он постарается разбить все мои доводы, опровергнуть все мои выводы! Ну что ж, посмотрим! Кстати, откуда у него взялся сын?
Профессор обвел вопросительным взглядом лабораторию. Все молчали.
— Что-то не припомню я такого факта, чтобы у Траубе был сын! Да к тому же еще физиолог! Не правда ли, удивительно, господа? Сошествие мессии…
— Говорят, что он какой-то странный, — сказал один из сотрудников.
— Да, да, я тоже слышал, — оживился профессор. — И сын странный, и все странно от начала до конца.
День прений обнадежил Сандерсона. Траубе не пожелал выступить в прениях, более того, ни он, ни его сын не явились на заседание.
— Меня, видите ли, игнорируют! — Сандерсон не говорил — шипел.
Слух о сыне профессора Траубе дошел и до Норы. Мнения о нем были самые противоречивые. Одним он понравился с первого раза, другие считали его неприятным Имя Гарри Траубе все чаше и чаще срывалось с уст. Естественно, Нору очень заинтересовало это. И она была не против, если не познакомиться, то хотя бы увидеть Гарри Траубе.
Мы должны упомянуть о некоторых обстоятельствах, осложняющие жизнь Норы.
Однажды это случилось за несколько месяцев до описываемых событий) в лаборатории появился незнакомый ей человек. Был он сравнительно молод. Нору поразил его огромный рост и поистине атлетическое сложение.
— Кто это? — осторожно спросила она у одной из сотрудниц.
— Как, вы не знаете? — удивилась та. — Сын нашего уважаемого шефа…
— Профессора?
— Ну конечно же! Он вам нравится?
— Что вы! — искренне запротестовала Нора. Ее скорей испугал, чем привлек, вид этого человека.
— Скажите, — осторожно продолжала она допрашивать соседку, — он работает здесь, в институте?
— Мак Сандерсон? О, нет! Сомневаюсь, чтобы он где-нибудь работал! Да и зачем? У него любящий отец…
— Но как же…
— А, не будем говорить… Впрочем, Маку нельзя отказать в широкой известности…
Бросая осторожные взгляды по сторонам, сотрудница стала о чем-то нашептывать Hope, на лице которой все больше и больше проступали недоумение и страх.
Увы, Нора тоже не осталась без внимания. Быстрый взгляд Мака отыскал ее среди других и некоторое время задержался на ней.
Первое время Мак ограничивался тем, что бесцеремонно разглядывал девушку, заняв удобный наблюдательный пункт в лаборатории. Затем стал заговаривать. Нора несколько раз попросила его не мешать работе. Наивная девушка! Разве можно было этим испугать Мака! Наоборот, она еще больше привлекла его внимание. Он стал постоянным посетителем лаборатории… Целыми часами маячила перед ее глазами ненавистная фигура. Метнув исподлобья взгляд, она видела его широкое, налитое лицо, низкий лоб, крепкие скулы и маленькие бесцветные глаза. Со страхом и отвращением замечала она, как под тонкой шелковой рубашкой дышит его широченная грудь, как при каждом движении перекатываются мощные мускулы. В силе может быть красота. Сила прекрасна, если эта сила человеческая, И не зря эту силу так щедро воспели и изваяли древние. Но в силе Мака было что-то звериное, первобытное.
От созерцания Мак перешел к действию. Как-то раз, придя позднее обычного, он дождался конца рабочего дня. Когда Нора направилась к выходу, он последовал за ней. У подъезда он догнал девушку и бесцеремонно обратился к ней:
— Я подвезу вас. Вот мое авто.
— Благодарю. Не надо, — отрезала Нора.
— Что за капризы? Пойдемте, — Мак попытался взять ее за руку.
Нора резко отступила назад и вызывающе смерила его взглядом.
— Я вам сказала, что намерена идти пешком. Тем более, что расстояние не требует никакого транспорта.
— Ну что ж, отлично, — невозмутимо ответил Мак, — тогда и я прогуляюсь с вами. — Эй, трогай, — махнул он шоферу.
Прохожие невольно обращали внимание на эту странную пару. Маленькая изящная Нора быстро шла впереди, а верзила Мак, посвистывая и независимо поглядывая по сторонам, шагал за ней, не отставая. Некоторые оглядывались и покачивали головами.
— Ну, видимо, наш молодчик нашел себе пташку по вкусу, — сказал с усмешкой один из прохожих другому.
— Н-да-а… Не завидую ей, — ответил тот.
И действительно, Hope нельзя было позавидовать. День ото дня Мак становился все более и более несносным. В его привычку вошло каждый раз дожидаться конца работы и упрямо следовать за ней по пятам до самого дома.
Нора не знала, что ей делать. У нее мелькнула мысль рассказать обо всем профессору, просить у него, чтобы он сделал внушение сыну. Но она тут же отвергла этот план. Она инстинктивно чувствовала, что разговор не только не поможет ей, но и осложнит ее положение.
Что же было делать? Где искать выход?
А вокруг этой истории начали рождаться слушки, возникать разговорчики.
Косвенными путями до слуха Норы дошло, что Мак грозится жестоко проучить каждого, кто обратит на нее внимание. И она почувствовала, что это не пустая угроза.
Однажды ей довелось случайно встретиться со старым школьным товарищем. Они, не торопясь, прогуливались по парку, затем присели на скамейку и с удовольствием вспоминали о добрых школьных временах. Увлеченные разговором, они не заметили огромной нескладной фигуры, мелькнувшей за деревьями.
Простились они, когда уже стемнело. У подъезда перед Норой неожиданно вырос Мак.
— Кто он? — раздался его хриплый голос.
— Вы о чем? — недоуменно спросила девушка.
— Я спрашиваю, кто он?
— Как вы смеете! — воскликнула она, стараясь пройти в дверь. Но Мак стоял как стена. Его злые, как у кабана, глазки в упор смотрели на нее.
— Вы говорите, смею? — глухо переспросил он. — Как я смею? А вот как! — И он, медленно сжав свой огромный кулачище, потряс им в сторону парка. — Вот как! — еще раз повторил он.
Мак исчез так же неожиданно, как и появился, а Нора, бледная и трясущаяся, вбежала к себе в комнату.
Если бы Нору спросили, чем объясняется ее желание увидеть сына профессора Траубе, она едва ли смогла бы ответить. Конечно, немалую роль сыграли многочисленные разговоры о Гарри Траубе. Желание ее росло с каждым днем и перешло в цель. Профессор Траубе последние дни не появлялся в обществе со своим питомцем. Профессор решил изолировать на некоторое время железного человека от общества. Большую часть времени они проводили дома. Иногда совершали в машине поездку по городу. Прошло более недели, прежде чем профессор Траубе решил вновь появиться вместе с Гарри в ученом мире. Они вновь присутствовали на одном из заседаний физиологической секции академии.
В этот вечер Hope представился случай познакомиться с сыном профессора Траубе. Сиротливо бродила она по коридору в перерыве между прениями. Вокруг нее все шумело и двигалось. Там и тут собирались небольшие группы, в которых шло оживленное обсуждение доклада и выступлений. Обилие светил науки смущало Нору.
«Скорей бы уж кончился несносный перерыв!» — думала она.
В одной из групп беседующих Нора заметила профессора Траубе. Там же находился и ее уважаемый шеф. На румяном лице Сандерсона играла его обычная, так хорошо знакомая ей улыбка. Траубе, напротив, был мрачноват. Остальные собеседники, видимо, больше прислушивались к разговору двух знаменитых профессоров, чем говорили сами.
— Вы только не подумайте, коллега, что я расположен предвзято вам возражать, — долетел до Норы голос Сандерсона.
— У меня, коллега, нет времени думать о таких вещах, отрезал Траубе.
Сандерсон был смущен. Чтобы выйти из неловкого положения, он обратил свой взгляд на проходившую мимо Нору.
— Нора, а вы что прячетесь за спины? Подойдите-ка сюда! Вот, коллега, познакомьтесь — мой славный, мой верный помощник ассистент Элеонора Стэкл.
Траубе молча кивнул. Ему не по душе были шутовские приемы Сандерсона. Нора молча стояла перед суровым профессором. Был он высок и худощав. Его глаза пристально, изучающе смотрели из-под очков. О чем было говорить ей, скромной девушке, с этим мрачным ученым. И только сейчас заметила она стоящего несколько в стороне молодого человека. «Это он!» — догадалась Нора.
Сандерсон быстро перехватил взгляд своей помощницы.
— Профессор! А вы что же скромничаете? Познакомьте же Нору со своим сыном!
Траубе неохотно повернулся к Гарри и кивнул ему. Тот выступил вперед.
— Мой сын, — глухо сказал Траубе.
— Гарри Траубе, — поклонился молодой человек.
— Элеонора Стэкл.
Итак, Нора лицом к лицу встретилась с железным человеком. Несмело взглянула она ему в лицо. Что-то поразило ее в этом лице, в этом взгляде. Нора смотрела в его глаза с недоумением, граничащим со страхом. Внезапно она осознала, что поступает почти неприлично. Вокруг было неловкое молчание. Профессор Траубе хмуро смотрел в сторону. Сандерсон беспокойно оглядывался и беспричинно улыбался. Поклонившись, Нора быстро отошла от них. Уже идя по коридору, она чувствовала, что душой ее овладевает смятение. Чувствуя, что не в силах вынести вторую часть заседания. она решила сказать об этом Сандерсону. Улучив момент, когда он отошел от своих собеседников, она обратилась к нему с просьбой разрешить ей уйти домой.
— Что с вами, уважаемая? — спросил профессор, испытующе взглянув на нее. — Вы больны?
— Да, мне нездоровится, — ответила Нора, опустив глаза.
— Ну что ж, не смею вас задерживать.
— Благодарю вас…
По дороге домой она почти не замечала окружающего. Столкнувшись со встречным человеком, недоуменно вскинула глаза и даже забыла извиниться.
Перед глазами стояло бледное красивое лицо Гарри Траубе.
Что было особенного в этом лице? Почему оно поразило ее? Это лицо было ей совершенно незнакомо. Нора прекрасно помнила всех, кого она встретила в своей еще недолгой жизни. Она могла бы тысячу раз поклясться, что никогда не встречалась с этим человеком. И в то же время она знала его! Она узнала его! Как можно узнать незнакомого человека? Мучительное противоречие мысли. Неразрешимое противоречие, потрясающее ее.
«Боже мой, — думала она в смятении, — знаком и незнаком! Ничего не пойму…»
Ясно вспоминая черты этого лица, она не могла не отметить, что было в нем что-то очень странное, необычное. Неуловимая особенность резко отличала Гарри Траубе от всех остальных.
Погруженная в такие мысли. Нора неожиданно услышала за собой быстрые шаги. Обернувшись, она увидела Мака. Он догонял ее. Все внутри ее поднялось против этого человека. Придержав шляпку, она быстро добежала до своего подъезда и захлопнула дверь.
Заседание продолжалось допоздна. Профессор Траубе и Гарри приехали домой около полуночи. Траубе был утомлен да к тому же не в духе. В его ушах звучал голос Сандерсона. Профессор хмурился и ходил по комнате.
— Спать, Гарри, — сказал он, взглянув на часы, и прошел в свою комнату.
Гарри молча посмотрел ему вслед и прошел к себе. Не зажигая света, он подошел к окну и распахнул его. Глубоко внизу тысячами огней сверкал огромный город. Его мощный гул уже ослабленным и измененным долетал до пятнадцатого этажа. А над городом повис темный бархатный купол неба, усеянный мириадами звезд.
Гарри стоял у окна. Он смотрел вдаль. Он вглядывался в темный далекий горизонт. Ночная влага заполнила комнату. Гарри чувствовал, как легко и свободно дышит его грудь. Гарри чувствовал свое сильное молодое тело. Прекрасные, но недолгие минуты… Скупое счастье, отпущенное ему судьбой…
И вот сквозь темный ночной занавес, сквозь необозримый простор ночи стали проступать видения. Сначала они были смутны, еле различимы, как далекие зарницы. Потом они стали яснее. Туманные миражи проплывали перед ним. Он видел освещенные солнцем улицы города. Не того города, в котором он жил теперь, а другого. Зеленые парки и красивые здания. Он идет по улице. Он останавливается на перекрестке. Мимо с легким шелестом проносятся легковые машины. Он видит угол дома. От дома на асфальт легла глубокая тень. А дальше солнце. Оно щедро разливалось по листве большого дерева. Гарри ждет. И вот… И вот… Среди шумной уличной толпы он замечает ее. Она быстро идет к нему. На лице ее счастливая улыбка, такая милая, такая знакомая! Кто она? Гарри знает это Нора! Они стоят рядом, говорят… Гарри не слышит слов, но знает, что они говорят о чем-то близком, хорошем Легкие тени листьев трепещут на асфальте. Нора смотрит на него. Сейчас… сейчас он услышит ее голос. Сейчас назовет она его по имени…
— Гарри!
Что это? Куда все исчезло?
Рядом стоит обеспокоенный Траубе.
— Гарри! Вы не спите!
Молча отошел железный человек от окна и направился к постели.
Глубокий след
Мак Сандерсон сидел у себя дома в самом мрачном настроении. Его маленькие кабаньи глазки злобно щурились. Его огромные руки до хруста в костях сжимали ручки кресла. Профессор неслышно ходил по комнате, с опаской поглядывая на сына.
— Ну право же, Мак, не надо так горячиться, — заговорил он.
— Что ты лезешь ко мне со своими увещеваниями? — полуобернулся к нему Мак. — На кой они мне черт? Я тебя спрашиваю, за каким дьяволом тебе понадобилось знакомить Нору с его сынком?
— Но я…
— Что «но я»? Ваша этика, что б ее… Хорошо же! Теперь я возьмусь за дело. Я-то уж сумею исправить твой промах!
— Мак, одумайся! Ты говоришь несообразное. Все знают, что мы с Траубе не любим друг друга. А тут еще…
— А я и не собираюсь трогать твоего Траубе! Занимайся с ним сам. У вас ведь в ученом мире принято кривляться друг перед другом… Ну и кривляйтесь на здоровье. Но с этим щенком я поговорю сам. Я-то сумею ему внушить уважение к своим принципам!
— Но послушай… Ведь нет еще никаких причин так действовать! Ведь ничего особенного не было.
— А ты думаешь, что я буду дожидаться чего-то особенного?
— И потом, — продолжал Сандерсон, пропуская мимо ушей реплику сына, — подумай, что такое для тебя Нора. Стоит ли из-за нее…
— Нора? Э, да что с тобой разговаривать! Нора нужна мне И точка. Какая бы она ни была. Не твое дело. Слышишь, не твое дело! И я возьму ее, — продолжал, внезапно раздражаясь, Мак. — Ну, что смотришь? Шокинг? Или, как там, по-вашему, физиологическому — шок? Ха! Нет уж, черт возьми, тут я сам сумею все сделать.
Мак резко поднялся и вышел из комнаты, хлопнув дверью.
Профессор проводил его тревожным взглядом, но не сказал ни слова.
А Нора в это время была у себя дома. Она сидела, погруженная в тяжелое раздумье. Прошла уже неделя с той поры, как она познакомилась с сыном профессора Траубе, но сила первого впечатления нисколько не ослабла. Нет, наоборот, с каждым днем тревога и смятение все более овладевали ею Может быть, это была любовь с первого взгляда? Любовь, о которой столько написано и рассказано. Нет, то, что вошло в Нору, то, что властно завладело ею, лишило ее покоя и уравновешенности, не имело ничего общего с этим чувством. Это было что-то другое. Это была тревога, смутная, нарастающая, непонятная.
Казалось, не было повода для тревоги. Но как часто уходят из поля зрения человека скрытые мотивы поступков! Как часто стоит он со страхом и недоумением перед лицом свершившегося факта! Нора не могла дать себе отчета в бесконечной путанице мыслей и чувств, овладевшей ею в последние дни. Она лишь смутно ощущала, что вокруг нее завязывается сложный клубок событий и отношений. То и дело мысленно рисовался ей уродливый силуэт Мака. На месте его возникало бледное неподвижное лицо Гарри, и Нора чувствовала, как сердце сжимает тревога. Лицо Гарри расплывалось, и явственно проступала ядовитая улыбка профессора Сандерсона. И со всеми этими людьми она была связана. И от всех этих людей что-то зависело.
Нора сжала руками виски. Она ясно ощутила биение артерии. Нужно было разобраться в своих мыслях. Она твердо знала лишь, что не является пассивным участником событий. Что-то зависело от нее. Она должна сделать какой-то шаг. Но какой? И вдруг ей стало совершенно ясно: она должна увидеться с сыном профессора Траубе. Она должна говорить с ним… Говорить? Но о чем? Какая нелепость! Ведь они не знают друг друга. Они никогда не встречались.
«Нет, нет! — говорила она себе, — это нелепо. Я просто больна. И всему виной этот гнусный человек. Его вечные преследования извели меня. У меня просто расстроились нервы. Нужно отдохнуть, взять отпуск, уехать…»
А сквозь голос самоуспокоения проступал другой, сильный, требовательный, доходящий до крика: «Тебе нужно увидеть Гарри Траубе! Тебе нужно говорить с ним!»
«О чем? О чем?» — тоскливо спрашивала себя Нора.
За окном сгустились сумерки, но ей не хотелось зажигать свет.
«Если бы мне удалось поближе познакомиться с профессором Траубе, а потом… А потом? Что же потом? — продолжала она размышлять. — Ведь я же отлично знаю, что мой шеф его ненавидит. Так к чему же осложнять и без того запутанные отношения? Траубе?..» И вновь почувствовала она сильный приступ волнения. «Нет, так вот просто встретиться с ним нельзя. Нужно как-то подготовить встречу, нужно… ему написать».
Нора зажгла свет и положила перед собой чистый лист бумаги. Но напрасно вертела она в руках авторучку. Ни одно слово не хотело сойти на бумагу. Белый лист стал увеличиваться у нее на глазах. Вот эго уже не лист, а бесконечное снежное поле Но полю бежит человек. Все быстрее и быстрее бежит он. Все меньше и меньше становится его темная фигурка. Hope нужно его догнать. Она бежит за ним, она выбивается из сил. Дыхание жжет ей грудь. В глазах темнеет.
— Постойте, — кричит она в отчаянье, — постойте! Мне нужно вам сказать…
Но не слышит ничего человек. Все дальше и дальше убегает он к темному горизонту.
Профессор Траубе, откинувшись в кресле, листал научную брошюру. Гарри безучастно пробегал глазами по страницам «Физиологического вестника».
Траубе не мог сосредоточиться. Непроизвольно он то и дело бросал взгляд на железного человека. Вот уже вторую неделю профессор не знал покоя. Странности в поведении Гарри тревожили его. Особенно насторожил его вечер, когда он застал Гарри у открытого окна своей комнаты. В позе, в лице, во всем облике железного человека было так много необычного, что профессор не на шутку испугался. Дважды пришлось окликнуть ему Гарри, прежде чем тот обернулся. Мучительней всего было неведение: профессор не знал, что происходит в мозгу железного человека. Как бы ни был сложен сконструированный прибор, он не выходит за рамки общей схемы, предусмотренной конструктором. И поэтому, если конструктор видит какие-то частные отклонения в работе прибора от предусмотренной им схемы, он (если, разумеется, это настоящий конструктор!) не смущается. Он знает, что рано или поздно найдет нужное звено. В этом поиске проявляется конструкторский задор, в нем — удовлетворение, в нем — награда.
Но у Траубе было нечто совсем иное. Чрезвычайная прибавка, которую сделал он к своему изобретению, превратила это изобретение в неподвластное ему, независимое от него. Сложная биоэлектронная система, называемая железным человеком, стала жить и развиваться по не предусмотренным им законам. И, чувствуя свое бессилие, профессор лишился душевного равновесия, всегда присущего ему. Он, смелый и решительный человек, временами испытывал приступы страха, граничащего с ужасом. Как часто, просыпаясь среди ночи, он тихонько пробирался в комнату Гарри. Подолгу смотрел на неподвижное лицо, на мертвое, неподвижное тело. Он сознавал, что это тело мертво. И только маленький, беспомощный кусочек жизни скрыт под его стальной оболочкой. Траубе сознавал, что сейчас эта жизнь целиком зависит от него. Не нажми он утром кнопку, и железный человек останется лежать. Он будет лежать день, два, неделю, вечность. И скоро, очень скоро угаснет навсегда последняя искра жизни.
Может быть, так и сделать? Может быть, легко и просто избавиться от страшного бремени? Но каждое утро, каждое утро воскрешал Траубе железного человека. Могучий инстинкт ученого не позволил бы ему не сделать этого. И каждое утро Гарри вставал не тем, кем он был вчера. И когда он открывал глаза, когда он поднимался с постели, профессор вновь чувствовал свою беспомощность, свою фатальную зависимость от обстоятельств.
Вечером профессору необходимо было зайти в академию по неотложным делам. Это касалось его доклада, который он намеревался сделать через неделю. Весть о том, что Траубе собирается сделать доклад, к тому же сопровождая его демонстрацией опыта, быстро облетела ученые круги. Имя профессора, хотели или нет этого его противники, пользовалось большой популярностью. Все были заинтересованы. Некоторые глубокомысленные ученые мужи с наслаждением предвкушали схватку между Траубе и Сандерсоном. Но, откровенно говоря, больше симпатий было на стороне Траубе.
Сегодня профессор решил не брать Гарри с собой. Он не хотел допустить новых встреч железного человека с людьми.
— Гарри, — сказал он, — вы останетесь, дома. Предупреждаю, ни шагу из комнаты. Так нужно.
— Можете быть спокойны, профессор, — ответил Гарри.
Слуга сообщил, что машина подана. Уходя, Траубе еще раз повторил свое условие и еще раз получил заверение от Гарри.
Неподвижно сидел железный человек в кресле. Маятник больших часов лениво отстукивал время. Издалека, снизу, долетал шум города. Стемнело. Сколько прошло времени после ухода профессора. Гарри не знал, да и не интересовался этим. Звонок заставил его быстро повернуться к двери.
Вошел служитель.
— Вам письмо, — почтительно произнес он.
— Письмо? — удивился Гарри. — Очевидно, не мне, а отцу!
— Нет, вам!
«Письмо! — думал он. — Как странно, мне письмо!»
На конверте он прочел: «Мистеру Г. Траубе».
— Но тут нет адреса! И обратного тоже.
— Письмо передали в руки.
— Кому? Вам?
— Да.
— Давно?
— Только что.
— Передавший здесь?
— Нет. Он уже уехал. Просил сразу же прочесть.
— Можете быть свободны, — кивнул Гарри служителю и, когда тот скрылся за дверью, вскрыл конверт, пробежал глазами по мелким неровным строкам. Вот что прочел он:
«Вы, наверно, удивитесь моей дерзости. И просьба моя вам покажется странной и подозрительной. Но поверьте, я не могла поступить иначе. Мне необходимо с вами поговорить. О чем, не могу сказать в письме. Отец ваш задержится в академии не менее часа. Очень прошу вас уделить мне несколько минут. Жду вас в парке у вашего отеля. Боковая аллея. У памятника.
Э. С.»
Несколько раз перечитал Гарри письмо. Это была первая весть мира, полученная лично им и не предусмотренная профессором Траубе. Нужно идти. Его ждут. Но он дал профессору слово никуда не отлучаться. А почему он дал это слово? Какое право имел Траубе ставить ему такое условие?
«Иду!» — твердо решил Гарри и нажал кнопку звонка.
— Замкните дверь, — сказал он появившемуся служителю, — я должен ненадолго отлучиться.
Парк был густой, с прихотливой сетью аллей и дорожек, посыпанных крупным песком. Редкие фонари скупо освещали его. Гарри направился в боковую аллею, в конце которой смутно белел памятник. Первый раз в своей недолгой жизни шел он один. Первый раз не было рядом с ним профессора Траубе. Густые купы деревьев темными массами выделялись на прозрачно синем вечернем фоне неба. Проглянули звезды. Вечер был безветренный и душный. Легкий хруст песка под ногами, пряный запах травы и листьев, темные провалы теней в глубине парка — все как-то по-новому действовало на железного человека, проникая в самые далекие уголки его тела. И было это не просто физическое воздействие, нет, это была весть, напоминание о чем-то.
Гарри не сразу заметил отделившуюся от деревьев маленькую темную фигурку.
— Мистер Траубе?
Слабый свет фонаря падал на лицо Норы. От шляпки на глаза легла тень.
Гарри поклонился.
Они шли молча. Нора явно не знала, с чего ей начать разговор. Гарри тоже был не в лучшем положении.
— Мистер Гарри, простите, но я не могла иначе… Я должна вам все рассказать. В тот вечер, когда нас познакомили, я почему-то подумала, что именно вы… Ах, какую чепуху я говорю! Ничего я не подумала. Это случилось позднее. Мистер Гарри, вы мне разрешите рассказать?
Нора сбивчиво поведала ему свою печальную историю.
— Вы понимаете, я больше не могу так! Эти люди давят меня, лишают покоя и днем и ночью. Когда я увидела вашего отца, я решила… Но он такой суровый. Мне показалось, что я ему не понравилась… Как нескладно я говорю!.. Я решила, что он, может быть, возьмет меня в свою лабораторию. Не ассистентом, пусть лаборантом. Я на все условия согласна.
Волнение мешало Hope ясно излагать мысль. Да, собственно говоря, никакой ясности в ее мыслях и не было. Решение перейти на работу к профессору Траубе пришло неожиданно.
— Вы должны мне помочь, — продолжала Нора, — расскажите все профессору. Обещаете?
— Обещаю, — глухо отозвался Гарри. Чем больше смотрел он на эту девушку, тем больше чувствовал, как в него вливается непривычное, гнетущее чувство. Откуда пришло оно? Из каких тайников? Когда Нора непроизвольно чуть приблизилась к нему, он резко отстранился. Девушка взглянула удивленно.
— Мистер Гарри, — снова заговорила она, — я не могла вам сказать сразу… Когда я увидела вас впервые, мне показалось… конечно, только показалось. Ведь мы никогда не встречались с вами…
Железный человек остановился.
— Говорите, что показалось вам.
— Что я вас знаю, — выдохнула Нора.
— Вы!? Меня!?
Страшная тяжесть внезапно легла на плечи Гарри. Она сгибала его, и, лишь напрягая свои стальные мускулы, он стоял прямо. Только сейчас почувствовал Гарри железную проекцию своего тела в живом человеческом мозгу. Это ненавистное тело давило его. Его живое, человеческое, было втиснуто в стальную тюрьму, втиснуто навечно. А изнутри, из самой глубины рвалось наружу что-то далекое и в то же время близкое. Это была почти физическая боль.
Нора заметила смятение Гарри. Она молчала, не решаясь продолжить разговор. Из-за поворота ярко блеснул фонарь. Большие тени скользнули от их ног в глубину аллеи. Взглянув на землю, девушка не могла скрыть удивления.
— Какой у вас глубокий след, мистер Гарри, — она указала на песок.
Молча смотрел железный человек на следы своих ног.
— Тяжело ходить мне по земле, — ответил он наконец.
— Боже мой, вам уже пора! Вас потеряет профессор! — воскликнула Нора, взглянув на часы. Она протянула руку, но Гарри не принял рукопожатия. Поклонившись, он круто повернулся и пошел домой.
— Гарри! — услышал он, подходя к подъезду отеля, взволнованный голос профессора. — Где вы были? Где ваше обещание?
Железный человек молча направился к лифту.
Столкновение
Это было на другой день после описываемых нами событий. Слух о свидании Норы с Гарри Траубе достиг ушей Мака Сандерсона. Целый день гонял Мак свою машину по шумным улицам города. Глухая злоба душила его. Налегая на руль, он мчался по асфальту, обгонял попутные машины, вихрем проносился между стоп-сигналами. Мелькали фонарные столбы, окна, витрины. Вырываясь из общего потока машин на перекрестках, он видел испуганные лица отбегающих в сторону людей. Ему хотелось давить их колесами, хотелось на полной скорости врезаться в густую, пеструю. многоликую толпу, услышать стоны, вопли, крики.
Вечером, усталый и злой, он подкатил к дому. Пройдя в свою комнату, он с силой захлопнул дверь и опустился в кресло. Мак не привык думать, не привык делать выводов, в жизни им руководил лишь звериный инстинкт, неосмысленная воля. Как бык, которого дразнят, наклоняет огромную рогатую голову и роет копытом землю, так и Мак Сандерсон, встретив препятствие, предался бессмысленной, животной ярости.
— Убью! — бормотал он, сжимая свои огромные кулаки. Убью!.. Сегодня вечером. Точка.
В этот день профессор Траубе и Гарри безвыходно сидели дома. Вчерашний случай окончательно расстроил профессора. НУЖНО было срочно принять какое-то решение. Какое? Неужели бросить все и уехать? А доклад? Траубе возлагал на него большие надежды. Этот доклад должен быть началом генерального наступления на широком фронте науки. Нет, уезжать было нельзя. Нужно поговорить с Гарри. Сейчас, как никогда, нужно усилить свое влияние на него, подчинить эту необычайную биоэлектронную систему могучей человеческой воле.
Итак, необходимо начать. Но как? Весь день собирался профессор приступить к этому трудному разговору и каждый раз откладывал его, испытывая острый приступ нерешительности. А Гарри словно ни о чем не догадывался. Он вел себя, как обычно.
Пришел вечер. Траубе сознавал, что больше оттягивать нельзя. «Я рискую потерять его, — говорил себе профессор, — а в нем итог моей жизни. Я сделал больше, чем мог. Так неужели дать погибнуть этому делу?» В глубине души профессор лелеял идею… Когда-нибудь… не сейчас, не скоро он выведет Гарри в широкий научный мир, поставит его за кафедру, продемонстрирует всем его блестящие умственные способности. А потом… он покажет всем (и в первую очередь своим противникам) выключенного железного человека, откроет его стальную грудь, и все увидят необычайный электронный организм, снабженный человеческим мозгом. То будет великий триумф, и от предвкушения его у профессора захватывало дух.
В окно струились сумерки. Траубе зажег свет.
— Гарри, — заговорил наконец профессор, и голос его был глух и взволнован, — бесполезно откладывать разговор. Я должен сказать вам все. Нельзя носить в себе тяжелый камень сомнения. Нужна ясность. Наблюдая последние дни за вами, я вижу, что вы изменились и притом к худшему. Вы словно отошли от меня. Вы тяготитесь моими действиями и моими советами. Но поймите, они продиктованы сознанием острой необходимости. Если бы вы знали, как я беспокоюсь за вас, как хочу оградить вас от нежелательных случайностей (а их в жизни много, очень много!), вы бы, конечно, не поступили так, как вчера. Я не раскрывал вам всего и не все могу пока раскрыть. Будет время… Я могу лишь сказать, что каждый день, каждый час и минуту вы подвергаетесь очень большой опасности. Эта опасность особого рода. Она грозит только вам. И никто, кроме меня, не может оградить вас от нее. Я слишком хорошо сознаю ваше значение в жизни, чтобы рисковать вами. Придет время, и вы займете исключительное место в жизни.
— Все это я уже слышал, профессор, — равнодушно ответил Гарри. — Слова и только слова. Вы говорите «исключительное место в жизни». А для чего мне это?
— Хорошо. Оставим разговор. Скажите, зачем вы вчера, вопреки своему обещанию, отлучились из дома?
— Я получил письмо.
— Письмо? — профессор застыл от удивления.
— Вот, — протянул ему конверт Гарри.
Профессор вынул письмо и быстро пробежал глазами по строкам.
— Ничего не понимаю! — сказал он, вопросительно взглянув на Гарри. — От кого оно? Тут какие-то инициалы: «Э. С.»
— Элеонора Стэкл, — пояснил Гарри.
— Элеонора Стэкл? — переспросил Траубе, бледнея. — Понимаю. — произнес он одними губами. — Все ясно… Происки Сандерсона. Неужели ему известно?
— Что известно, профессор?
— Как? Вы меня спрашиваете? Нет-нет… это я просто так. Ну и что же, вы были?
— Да, был.
— И виделись с ней?
— Да, виделся.
— Говорите же. Ну, говорите! — почти закричал профессор. — Что произошло между вами, о чем вы разговаривали? Я должен знать. Немедленно, сейчас же. Как она смотрела на вас? Не заметили? Не было ничего особенного в ее взгляде? О чем спрашивала она вас? О чем договаривалась с вами? Я все должен знать!
Гарри кратко передал содержание вчерашнего разговора Профессор слушал внимательно. Он буквально влился глазами в спокойное лицо Гарри, стараясь угадать по самому ничтожному движению этого лица скрытые мотивы свидания.
— Дальше! — сказал профессор.
— Все!
— Нет, еще не все! Это лишь начало!
— Профессор, я должен повторить просьбу Элеоноры, — заговорил после некоторого молчания Гарри, — вы, видимо, не обратили на нее особенного внимания.
— Какую просьбу?
— Я обещал Элеоноре ходатайствовать перед вами о том, чтобы вы взяли ее к себе на работу. Работать с Сандерсоном ей невозможно.
— Взять Элеонору Стэкл? Никогда! Вы не понимаете, о чем говорите! Нельзя придумать ничего хуже. Взять ее к себе? Какая нелепость! Никогда и ни за что!
Профессор был возбужден до предела.
— Только подумать! Что я — мальчишка? Или я не способен понимать элементарные вещи? Это все Сандерсон! Хорошо. Теперь буду действовать я. Завтра же буду в академии… И если встречу эту самую Стэкл, не миновать ей разговора.
— О чем вы говорите, профессор?
— О том, что если мне попадется на глаза эта особа, я отчитаю ее как девчонку!
— Вы этого не сделаете, — возразил Гарри.
— А я вам говорю, что сделаю именно это! — закричал Траубе, теряя всякое самообладание.
— Вы не сделаете этого, — жестко прозвучал голос железного человека.
Профессор вздрогнул. Впервые слышал он такой голос. Гарри смотрел на него в упор. И был его взгляд как беспощадно наведенное дуло револьвера.
В душе Траубе что-то упало. Внезапная слабость разлилась по всему телу. Дрожащими руками снял он очки и стал тщательно их протирать.
А в это время черная легковая машина мчалась по широкому проспекту. Она обгоняла попутные машины, она проносилась мимо ярко освещенных витрин, и за рулем ее сидел, наклонившись вперед, Мак Сандерсон.
«Что я наделал, — лихорадочно размышлял Траубе, — потерял над собой контроль, наговорил много лишнего, ненужного! Нервы стали ни к черту! Эх!.. Вместо того, чтобы дисциплинировать его нервную систему, затормозить случайные очаги возбуждения, я сам раскричался на него. Как исправить ошибку?»
А черная легковая машина, не сбавляя скорости, круто повернула на улицу, ведущую к парку. Яркий свет фар скользнул по стене дома и растворился в уличном освещении За темной стеной парка, сверкая тысячью окон, подымалась многоэтажная громада отеля.
— Гарри, — профессор Траубе старался говорить спокойно, мы отклонились в сторону… Я погорячился… Я исполню вашу просьбу. Но только не сейчас. Позднее. Сейчас нельзя. Это может нарушить наши планы, большие, великие планы. Давайте договоримся: не будем в ближайшее время думать об этом. Неделя-другая ничего не изменит. Я сочувствую этой девушке, но поверьте, есть нечто большее, чем ее судьба.
Черная машина, взвизгнув, остановилась у подъезда отеля. Хлопнув дверкой. Мак Сандерсон взбежал по широким ступеням подъезда.
— Ну что же вы молчите? — силясь улыбнуться, спросил Траубе. Железный человек молчал. Его лицо вновь приняло обычное безучастное выражение.
А в это время лифт стремительно нес Мака Сандерсона на пятнадцатый этаж.
— Хорошо, Гарри, оставим разговор до завтра. Так лучше. Откровенно говоря, я сегодня устал.
Звонок.
— Кто еще там? — раздраженно обернулся профессор.
Огромная фигура Мака Сандерсона появилась в открытой двери. Не дожидаясь приглашения, Мак шагнул в комнату.
— Позвольте, вы ко мне? — заговорил Траубе. — Но сейчас я не могу…
Не слушая. Мак молча отстранил профессора своей огромной рукой.
— Молодой человек! — вспыхнул профессор. — Вы забываетесь! Я вам сказал…
Но Мак был уже в другом конце комнаты. Гарри медленно поднялся со стула.
— Так вот он какой! — сказал Мак, подходя к Гарри почти вплотную и бесцеремонно разглядывая его, — Так вот ты какой? Жалкий выродок, посмевший встать поперек дороги Маку Сандерсону!
Они стояли друг против друга. Один — огромный, уродливо мощный, другой — худенький, стройный, изящный. Под тонкой шелковой рубашкой Мака вздымалась могучая грудь. Каменные бицепсы напряглись на его руках. Широкая спина загородила Гарри от взора профессора.
— Постойте! Погодите! — Траубе подскочил к Маку.
— Не лезь. — Мак легко отбросил профессора в сторону.
— Что вы делаете! — закричал Траубе, но было уже поздно. Ничто не могло остановить неумолимо развертывающихся событий.
Он, физиолог, ясно видел стремительный поток импульсов, бегущих к мозгу. Он видел, как, достигнув нервных центров, импульсы с огромной скоростью, не задерживаясь, переключаются на исполнительный аппарат. Страх охватил профессора. Но было страшно не за Гарри, не за своего любимца, своего питомца, а за этого чужого, злого человека, грубо вторгшегося в дом.
Ярость закипала в груди Мака. Она подступила к горлу, ударила в виски. Все мускулы его огромного тела напряглись до боли. Пленка подернула глаза.
— Гад! На же! — выдохнул он, размахиваясь изо всей силы.
И в этот миг что-то быстрое, как молния, и тяжелое, как механический молот, обрушилось на него.
Траубе не уследил за движением рук железного человека. Он лишь услышал, как что-то хрястнуло, хлюпнуло, и Мак Сандерсон, как большой мягкий ком, осел, качнулся и распростерся на пушистом ковре, покрывавшем весь пол комнаты.
Удар был страшен. Лужа, липкая красная лужа медленно увеличивалась, задерживаясь в крупном ворсе ковра.
Траубе стоял в углу комнаты. Мелкая дрожь сотрясала его. Пришло! Пришло! Пришло! Пришло!
А посреди комнаты неподвижный, как изваяние, стоял железный человек. С его опущенных по швам рук медленно падали на ковер последние густые капли крови.
Бегство
После первого потрясения, на мгновение затемнившего сознание, профессор Траубе словно впервые увидел комнату. Лепной карниз по верху стены, тяжелая темно-зеленая портьера со шнуровой окантовкой, небольшой, но прекрасно выполненный офорт на стене. На офорте изображен какой-то морской вид с далекими берегами. Этот вид, профессор ясно чувствовал, имел отношение к сегодняшнему событию. Сбившаяся, забрызганная каплями крови скатерть, отодвинутый в сторону стул — все до боли ясно отпечаталось в его сознании. Нет, не зря эту способность обостренного восприятия действительности используют в криминалистике.
И вот сквозь этот фон стало проступать главное, страшное, роковое. Оно было рядом, вот здесь, на ковре. Оно заполняло всю комнату, каждый ее угол, оно наложило отпечаток на каждый предмет. Профессор чувствовал тяжелый запах крови и еще чего-то неизвестного. Сознание случившегося овладело им. А виновник всего этого, Гарри, все так же неподвижно стоял посреди комнаты. Мозг Траубе лихорадочно работал Профессор чувствовал, что нужно действовать, нужно срочно предпринять какой-то шаг, но не было сил сдвинуться с места.
Из подсознания выплывал мотив действия. Траубе чувствовал, что этот мотив оправдывает все. Вот стоит железный человек, Гарри, итог всей его жизни, воплощение всех его стремлений, результат многих бессонных ночей, многих дней напряженного труда. Разве можно дать погибнуть этому? Разве можно пресечь движение грандиозной научной эпопеи? Нужно спасать… себя, Гарри… Нужно искать выход сейчас, сию минуту… Иначе все погибло.
Но тело было непослушным. Страшная слабость. Во рту пересохло. Траубе напряг всю свою волю.
— Гарри…
Профессор вздрогнул. Он не узнал своего голоса. Железный человек молчал. Молчание было хуже всего. Никогда не чувствовал Траубе так ясно, как чужд и неподвластен ему железный человек. И в то же время как он ему дорог! Только он. Траубе, может его спасти. Но как? Сделать к нему шаг, подойти? Не ждет ли его, Траубе, та же участь, что постигла несчастного Мака?
— Гарри…
Ноги почти не слушались профессора.
Медленно, неуверенно, как пьяный, подходил он к железному человеку.
— Гарри…
Профессор тронул его за руку и отшатнулся. Рука была холодной и липкой. Но мгновенное прикосновение сразу мобилизовало профессора. Он действовал быстро, как машина. Отвернув край большого тяжелого ковра, он накинул ковер на труп. Теперь… Что же теперь? Может быть, отключить железного человека, обездвижить? Невозможно! Во-первых, сначала нужно затормозить мозг. А для этого требуется время, которого нет. Если же он выключит электронную систему, не затормозив предварительно мозг, это может привести к роковым последствиям, к нарушению психической деятельности Гарри. Во-вторых, если он обездвижит тяжелое металлическое тело, он не сможет сдвинуть его с места, он ничего не сможет с ним сделать.
Профессору ясно было одно: нужно бежать. Бежать, не теряя ни одной минуты! Нужно, не привлекая внимания, выйти из отеля, а потом… Траубе взглянул на офорт. Море! Вот оно — избавление! Решено. Но сначала необходимо себя и Гарри привести в надлежащий вид.
Профессор действовал, как сомнамбул. Из отвернутых кранов с шумом вырывалась вода. Горячий пар капельками осаждался на кафельных стенах ванной комнаты. Гарри был послушен. Молча подчинялся он профессору.
Через несколько минут, вымытые и переодетые, вышли они из своего номера. Профессор взял только портфель с рукописями, документами и деньгами да еще портативный десятизарядный пистолет. Тщательно проверил, как закрыта дверь.
— Кто бы нас ни спрашивал, — сказал он дежурному, прежде чем войти в лифт, — скажите, что мы отлучились по важному делу. Вернемся завтра вечером.
— Ясно, господин профессор, — ответил дежурный.
У подъезда стояла машина Мака. Напрасно дожидалась она своего хозяина. Траубе узнал номер.
— Его! — тихо сказал он и сделал знак Гарри.
Подойдя к машине, он открыл дверцу. Так и есть! Второпях Мак оставил ключ от зажигания.
— Садитесь, — сказал Траубе, пропуская Гарри вперед.
Дверца захлопнулась, и машина круто развернулась у подъезда. Траубе уверенно сидел за рулем. Прикосновение рук к холодной поверхности руля и усилие, необходимое для управления машиной, дисциплинировали его нервы. Постепенно набирая скорость, они выехали на большую магистраль города.
Три часа мчались они, не сбавляя скорости. Три часа бешеной гонки. Близилось утро.
Огромный теплоход «Океания» стоял у причала. Огни сотен иллюминаторов отражались в воде изломанными полосами. До отплытия оставалось несколько минут, когда на теплоход быстро взошли два пассажира, закутанные в плащи. Предъявив билеты, они тотчас же направились в отведенную им каюту.
Когда дверь каюты закрылась, Траубе облегченно вздохнул. Не зажигая света, он быстро сориентировался. Каюта слабо освещалась через иллюминатор. Железный человек молча стоял у двери.
— Раздевайтесь, Гарри! Быстро! — профессор уже вполне овладел собой. — Быстро! Вам нужен немедленный отдых.
Траубе сам приготовил постель.
— Так. Ложитесь. Протяните руку.
Как врач нащупывает пульс, так и Траубе легко нащупал незаметное отверстие у запястья железного человека. Вынув шприц, он набрал из ампулы немного розовой жидкости и ловко влил ее через это отверстие железному человеку.
— Теперь слушайте!
Траубе ритмично постукивал по обшивке каюты, имитируя звук метронома. Минуты через две он внимательно посмотрел на лицо Гарри.
— Кажется, все.
И действительно, железный человек спал. Профессор расстегнул рубашку и перевел на стальной груди маленький рычажок. Тлеющая рядом, как зеленая искра, сигнальная лампочка погасла.
— Уф…
Профессор вытер платком лоб и вышел из каюты. Заперев ее и проверив дверь несколько раз, он поднялся на палубу.
До отплытия «Океании» оставалось две минуты. Профессор выглянул на берег, и сердце его тоскливо сжалось. Ни один из пассажиров огромного судна так не жаждал сейчас отчалить, как профессор Траубе.
Гудок — и в толпе провожающих на берегу началось оживление. Замелькали платки, шляпы. С борта летели ответные приветствия. Траубе надвинул шляпу на глаза. Его никто не провожал. Его нисколько не интересовала эта толпа со всеми ее чувствами и переживаниями. Он смотрел на узкую полосу темной воды, отделявшую его от берега. И вот полоса стала шире, еще шире… Берег тихо отступал и уходил в сторону. Огромное судно разворачивалось в море.
Светало. Воздух заметно посвежел. С берега в море дул небольшой ветер. Он подымал на темной поверхности зыбь, отливающую, как рыбья чешуя. Где-то там, в открытом море, была хорошая волна. Утренний туман длинными волокнистыми полосами повис над водой.
Профессор зябко поежился. Было прохладно, но идти в каюту не хотелось. Нужно было успокоить нервы. Вид железного человека мгновенно воскресит в памяти страшные события.
Траубе решил пробыть на палубе до восхода солнца.
А берег уже почти скрылся в утреннем тумане. Стало покачивать. Огромное судно грудью наваливалось на податливую массу воды. Но это была кажущаяся податливость. Уступая железному натиску, море упрямо приподнимало стальную громаду вновь и вновь. Казалось, между морем и кораблем идет скрытая, но упорная борьба. Качка, свежесть и простор немного успокоили нервы. Траубе задумался. Тревожные мысли рождались в его мозгу. Вот стоит он здесь, на борту корабля. Роковая случайность закинула его сюда. Случайность… Как он прожил свою жизнь? Разве шла она по строго вымеренной дорожке? Он беззаветно служил науке. Его исследовательский гений был неистощим. Он всегда стремился вперед. Всегда испытывал острое чувство неудовлетворения. Страстная порывистость души, неистощимая изобретательность, огромная трудоспособность были его неотъемлемым свойством. А к чему? Дало ли все это ему счастье? Не казалось ли ему всегда, что счастье где-то впереди?
Он слышал за спиной оживленные разговоры. Много людей, его попутчиков, пассажиров. И ни одному из них нет до него никакого дела. И многие из них, быть может, счастливы. Они не знают, кто он. Они не знают, что у него в душе. А если б знали, то в ужасе отшатнулись бы от него. Они ни о чем не знают. Там, внизу, в темной каюте спит мертвым сном железный человек. Железный человек, Гарри… удивительное творение природы и человеческого гения. Гарри… Тоскливое чувство сжало грудь профессора. Это имя напомнило ему другое, давно прошедшее. Мягкие ласковые детские руки, большие доверчивые глаза…
— Господин профессор!
Траубе вздрогнул и оглянулся. Но тревога была напрасной: обращение относилось не к нему. Молодая дама приветливо здоровалась с маленьким шароподобным старичком. Старичок широко улыбался и не по-стариковски строил даме глазки.
— Ну как? Как самочувствие? Не укачало? Хе-хе… Это еще цветочки… Вот подальше отъедем…
— Что вы меня пугаете! И нисколько я не боюсь. В прошлом году мы с мужем переплыли океан…
— Так то с мужем! А теперь, наверно, без мужа?
Собеседница покраснела и не нашлась сразу, что ответить.
Траубе отошел в сторону. Ему было не до шуток. Розовая полоса зари разгоралась на востоке. Ветер крепчал. Качка стала заметнее. Темная поверхность воды вздувалась и опадала. Мощный нос судна разрезал ее, она круглилась, поблескивая острыми краями. А по темному почти черному полированному скату серыми шапками с шипением сползала пена. Она разбегалась причудливыми узорами по зыбкой бугристой поверхности. Она таяла и рождалась вновь. И в этом рождении и умирании было нечто символическое.
Траубе смотрел и смотрел. Он сознавал, что пора идти в каюту. Но идти не хотелось.
И вот издалека брызнули яркие солнечные лучи. Волны стали темно-синими. Лишь при взгляде прямо вниз в необычайной прозрачности воды сквозь глубокую прозелень угадывалась глубина. Огромное солнце, расплываясь у горизонта, медленно поднималось над морем.
Профессор спустился в каюту. И едва переступил он порог, как страшные воспоминания снова нахлынули на него. В каюте было уже достаточно светло. Железный человек неподвижно лежал на постели. Тревожные мысли роились в голове Траубе. Только сейчас он начал осознавать свое положение. До этого он действовал, как в тумане. Ему не было времени думать о последствиях. Все случилось неожиданно, обрушилось, как лавина.
Но все же в лихорадочной спешке, в огромном нервном напряжении, граничащем со срывом, он успел сделать необходимое.
«Ключ у меня. До вечера, во всяком случае, они не зайдут в номер, — размышлял Траубе, — ну, а если? Нет, нет! Я же предупредил. Значит, до вечера есть запас времени. А Мак? Не хватится ли его Сандерсон?» — Траубе тут же отказался от этого предположения. Бесшабашный образ жизни Мака исключал его.
«А машина? Не поступил ли я неосторожно, использовав ее для бегства?» Траубе заставил себя воскресить в памяти различные моменты поездки. Вот они выходят из подъезда… Вот они подходят к машине… Не обратил ли кто-нибудь внимания на то, что они садятся не в свою машину? Едва ли! В шумном круговороте, в потоке людей и машин на площади перед отелем едва ли они привлекли чье-нибудь внимание! Иное дело — дальнейшая судьба машины. Они оставили ее на одной из улиц портового города у подъезда гостиницы. Дальнейший путь совершали в метро. Потом на такси. Потом…
Едва ли узнают, кому принадлежит машина. По крайней мере до вечера… Но придет вечер… Страшный вечер… В эфире, по проводам полетят тревожные сигналы.
Траубе вздрогнул и посмотрел в сторону железного человека. Неподвижен! Ничто не тревожит его! Вся тяжесть случившегося легла на плечи Траубе.
Профессор углубился в изучение карты. Так. В пять часов вечера они зайдут в один из портовых городов. Вот теплоход медленно пришвартовывается. Вот опускаются трапы… По трапу на борт подымаются полицейские чиновники.
«Укажите каюту пассажира Траубе», — слышит профессор властный голос.
Что за чепуха! Здесь никто не знает его имени! Но совершенно ясно, в пять часов нужно сойти с теплохода. Нужно изменить маршрут.
«Как преступник! — с горечью подумал Траубе. — Но разве я совершил преступление? Разве я не стремился предотвратить роковой исход? Разве в моих силах было помешать тому, что должно было свершиться? Но кто же преступник? Гарри? Нет! Только не он! Но тогда кто же виновен в случившемся? Преступление ли это? Нет! Это неумолимый, неизбежный результат событий последнего времени». И впервые Траубе ясно представил себе весь ход событий, их взаимное пересечение, их схождение в фокусе. Он, слепец, не мог предвидеть этого! Он думал, что направляет ход событий так, как ему нужно! А в действительности все было иначе. В действительности он был лишь винтиком в этой машине. Но не все еще кончено. События продолжают развертываться. Сможет ли он, Траубе, направить их дальнейший ход? Или нечто властное отведет его в сторону, как это сделал Мак Сандерсон, и положит свою огромную руку на руль событий?
«Я сделаю все, что в моих силах», — твердо решил профессор.
Роспись
Пять дней колыхался вокруг океан, зыбкий, непостоянный, многоликий. Пять дней только и видно было бесконечный водный простор и опрокинутый над ним купол неба. Затем из тумана выплыли далекие берега, темные полосы гор. К зазубренным вершинам, как вата, прилипли клочья облаков. Пароход шел вдоль берега. Вечером он бросил якоря в большом порту.
И вновь дорога, вновь бесконечная смена картин. Они наслаиваются одна на другую, и сквозь это наслоение все бледнее, все слабее просматривается прошлое, Как будто бы страшную кровавую сцену, потрясшую зрителей, скрывает сначала один прозрачный занавес, потом — другой, третий. И вот уже трудно разглядеть то, что было так ясно.
И все же не было у профессора Траубе настоящего покоя на душе: Гарри вел себя неутешительно. Целыми днями сидел он. как истукан, на одном месте. Ничто не привлекало его внимания.
Тяжело у профессора на душе. Жгучая тоска подкрадывается к нему. Он с ней один на один. Затем приходит тревога. О чем ему тревожиться? Все будто бы складывается к лучшему. Вот рядом здесь, в каюте, сидит железный человек.
— Гарри!
Молчание.
— Гарри!
Молчание.
Траубе оставляет свою попытку заговорить с железным человеком. Он углубляется в размышления.
Как странно… Он, большой ученый, великий конструктор и изобретатель, чувствует себя слабым и беспомощным. Он не знает своего изобретения, он не хозяин ему! Он мог бы до мельчайшего винтика, до мельчайшей проволочки разобрать сложнейшее электронное тело Гарри. Траубе видит это тело насквозь. Каждая мелочь знакома ему. Нет такой детали, которую он не держал бы в руках, которую не примерил бы сотни раз, прежде чем вмонтировать. Он мысленно может представить те сложнейшие процессы, которые происходят в электронном организме.
Но этот маленький нежнейший кусочек живой материи… О, все заключено в нем. И здесь Траубе бессилен. Если бы мог он так же уверенно управлять сложными процессами, которые в нем происходят!
Мысли профессора изменяют направление. Он вспоминает, что должен был сделать доклад. Доклад был бы преддверием великого научного триумфа. Но случилось иначе. Может быть, не следовало бежать. Может быть, следовало все открыть, все претерпеть во имя науки… Нет, нет! Даже мысль об этом была ужасной. Как странно, нет, как нелепо сложилась его жизнь! Приблизиться к завершению великого дела, чувствовать свою силу, свою правоту и оказаться отброшенным назад. Но борьба не закончена. Железный человек с ним. Он здесь, рядом. Его нужно беречь как зеницу ока. Но почему он молчит?
— Гарри!
Молчание.
Профессор старается думать оптимистически. Их путешествие приходит к концу. Скоро — обетованный берег. Он немного отдохнет. А потом… Да разве он не знает самого себя? В нем еще столько скрытой энергии! Правда, шестьдесят два года… Никуда не денешь возраст… Э, да разве история науки не знает примеров долголетия? Взять, например, Павлова. До последних дней своих сохранял кипучую работоспособность. И не только Павлов, многие другие… Итак, он немного отдохнет. а потом вновь примется за работу. Нужно привести железного человека в норму. Кропотливый большой труд. Но он, как ученый, знает, какая великая сила — последовательность. Последовательность, последовательность и последовательность.
А судно тихо покачивается. Оно продолжает свой путь.
Яркие солнечные пятна разбросаны на полу. Из окна гостиницы открывается великолепный вид на море. Оно спокойно. Оно светится глубокой синевой. Над бескрайним синим простором повисли пушистые ватные облачка. Тишина. Тишина в небе и на море. Золотистая полоска пляжа. На ней видны маленькие темные фигурки. Ближе — алые черепичные крыши домов, наполовину скрытые кипарисами и пирамидальными тополями. Южная экзотика! Но она не радует глаз профессора.
Вот уже неделю живут они в этом райском уголке. Как мечтал об этом Траубе! Но мечтания обманули его. Ни одна неделя жизни профессора не была такой томительной и долгой. Каждый раз, просыпаясь утром, он ждал какого-то обновления, уповал на каждый новый день. Правда, ничего особенного не происходило, все было спокойно, но в спокойствии чувствовалась угроза. Железный человек был по-прежнему молчалив и неподвижен. Как манекен, сидел он на стуле у окна. Если бы не слабые движения глаз, трудно было бы заключить, жив он или мертв. С тоской и тревогой смотрел на него Траубе. Много раз пытался он заговорить с ним, но тщетно.
И вот настал день, когда профессор ясно почувствовал, что дальше так продолжаться не может. Одно из двух: или он найдет какой-то выход, или железный человек погибнет. И вместе с ним погибнет вся жизнь профессора Траубе, все, к чему он стремился, во имя чего работал, во имя чего жертвовал здоровьем, покоем. Нужно искать выход из этого лабиринта.
Быстро наступали южные сумерки. Последний отблеск заката мерк на деревьях. С моря тянуло сыростью и холодком.
— Гарри!
Профессор решил во что бы то ни стало восстановить контакт с железным человеком.
— Гарри!
Молчание.
И вот в голове Траубе, как молния, мелькнула мысль. Такая простая и такая невыразимо страшная! Профессор отогнал ее, но она упрямо вернулась к нему. «Это единственный выход! Единственный выход!» — слышал Траубе настойчивый внутренний голос.
«Да, это — единственный выход» — согласился он.
Профессор в волнении прошелся по комнате. Губы его шевельнулись, но роковое имя не слетело с них. Если не решиться сейчас — завтра будет поздно. Профессор мобилизовал всю силу воли. Крепко сжимая руками спинку стула, он выпрямился и, в упор глядя на железного человека, сказал:
— Нед!
Глаза железного человека обратились к нему.
— Нед Карти!
Медленно и тяжело поднялся железный человек со стула и сделал к нему шаг. Его лицо дрогнуло, а глаза смотрели в самую душу профессора. Траубе попятился. А железный человек подходил все ближе и ближе. Дверь была в противоположной стороне. Профессор оказался в углу комнаты. Справа — стена, слева — стена. Идти некуда.
Они стояли друг против друга. Они стояли, как тогда, в памятный день рождения железного человека. Сколько прошло времени, минута или вечность?
— Вспомнил! — услышал Траубе глухой голос.
Воспоминания многих лет, как вода, прорвавшая плотину, хлынули в мозг железного человека Они были яркими, живыми. Они мчались, сменяя одно другое.
Траубе видел, как расширились зрачки Неда Карти, как судорожно двигалось его лицо. А перед мысленным взором Неда проносились тысячи лиц. Вот одно из них… красивое, молодое… Лицо подруги его юношеских лет. Элеоноры Стэкл.
— Теперь я все знаю, — заговорил железный человек, — я знаю, почему вы так упрямо следили за мной, почему следовали за мной всюду! Вы не хотели, чтобы я оставался один. Вы хотели, чтобы ничто не напомнило мне прошлого, вы хотели похоронить Неда Карти, но он воскрес! Он жив!
Голос железного человека звучал глухо и грозно.
Траубе чувствовал, как подлый животный страх пропитывает каждую клеточку его тела. Он хотел жить. Жить! Каким жалким, каким беспомощным чувствовал он себя перед этой страшной боевой машиной с живым человеческим мозгом! Удар — и он, Траубе, великий ученый, превратится в бесформенную кровавую массу. Жить!
Дрожащей рукой проник профессор во внутренний карман пиджака. Дрожащей рукой извлек он оттуда небольшую сложенную вчетверо бумагу. Не зря берег профессор этот документ.
— Читайте, — протянул он документ железному человеку.
И железный человек прочел. Вновь взглянул он на профессора. Но уже не было в его взгляде угрозы. В нем была великая тоска, великий упрек. Губы железного человека дрогнули и шевельнулись.
— Чудовище!
Шагнув назад, он с грохотом повалился на пол.
Потрясенный мозг профессора не сразу осознал происшедшее. Не смея шевельнуться, стоял Траубе в углу. Но вот глаза его расширились. Дикий, отчаянный крик вырвался из груди.
— Гарри! Нед! Нед!
Профессор бросился к железному человеку, неподвижно распростертому на полу. Он разорвал у него на груди рубашку. Он лихорадочно переводил на стальной груди маленькие рычажки. Но тщетно.
Стемнело. Последний отблеск заката погас на далеких горах. В комнату вошли синие вечерние сумерки.
А профессор Траубе все еще ползал по полу, как слепой, ощупывая руками холодное тело железного человека.
Профессор Джон Кэви
Все — в человеке,
все — для человека.
М. ГорькийРешение
— Сэм, несносный, что ты молчишь!
Сэм, улыбаясь, посмотрел на сестру, а затем непроизвольно на черноволосую Кэт.
Кэт Лоуренс — подруга Эн по колледжу — уже неделю гостила на ферме у Найтов.
В небольшой столовой уютно. За открытым окном — теплый июльский вечер.
— О чем же рассказывать, Эн? Дорога как дорога. Никаких приключений. Ближе к дому — больше нетерпения… Впрочем, была одна довольно интересная встреча… Полпути я был в купе один. Но вот появился попутчик… Такой высокий, худощавый господин лет пятидесяти… Одет скромно, по-дорожному… Весь багаж — плащ да портфель. Лицо сухое, костистое. Лоб высокий, глаза серые, глубоко запавшие, волосы темные, гладкие, с легкой проседью…
— О, да ты хорошо его запомнил! Видно, примечательная личность! — сказала Эн.
— Как сказать… Пожалуй, ничего особенно примечательного. Меня, признаюсь, несколько смутил его пристальный изучающий взгляд.
Так вот, этот самый господин уселся напротив, надел очки и развернул свежий номер газеты. Но прошло немного времени, и мы, как обычно бывает в пути, разговорились. Узнав, что я только что окончил университет, сосед поинтересовался моими планами на будущее. Ну я, быть может несколько легкомысленно, сказал, что намерен работать у профессора Дорна по электронно-вычислительной технике. Упомянул о рекомендательном письме… Он посмотрел на меня с недоумением и сказал пренебрежительно:
— У Дорна? Что же… Не могу судить о вашем выборе, хотя и знаком с работами профессора. А впрочем… желаю удачи!
Это ученый, решил я и, стараясь говорить профессионально, попытался обрисовать перспективы своей будущей работы. Собственно говоря, разглагольствовал-то я один, а сосед молчал. Меня озадачил его вопрос:
— Вы говорите о будущем… А что такое будущее?.. Но довольно об этом… Ваши стремления, ваша горячность мне по душе. Я ведь тоже физик… Так вот, коль скоро у вас возникнет желание поработать со мной… — На листке блокнота он быстро написал несколько слов, вложил листок в конверт и запечатал его. — Передадите по указанному адресу.
Поезд подошел к станции. Попутчик кивнул мне и исчез за дверью.
— И все?! — разочарованно воскликнула Эн.
— Нет еще…
Сэм извлек из кармана небольшой конверт из плотной синей бумаги.
— Вот, посмотрите…
Отец Сэма, высокий жилистый старик, взял письмо и близоруко прищурился. На конверте значилось:
Город Н., улица 17-А,
дом 133, кв. 90.
Г-ну Р. Стоксу (лично).
Печать: профессор Джон Кэви.
— Кэви… Это кто же такой? — поинтересовался отец.
— Как, ты не знаешь этого имени?! — искренне удивился Сэм.
— Откуда мне знать. Я ведь не ученый!
— Кэви широко известен своими работами в области кибернетики, — пояснил Сэм. — Его исследования имеют большой государственный интерес. Основная часть их содержится в секрете. Экспериментальный институт, руководимый профессором, строго законспирирован. Никто не знает, где он находится.
— Что же ты обо всем этом думаешь? — спросила Эн.
— А ничего не думаю!
— То есть как?..
— А так! Хочу отдохнуть бездумно несколько дней, — улыбнулся Сэм и метнул быстрый взгляд в сторону молчаливой Кэт.
— И то верно, — поддержала его мать.
Маленькая речка весело бежала по камням, омывая прибрежные кусты. За деревьями, освещенная ярким солнцем, виднелась красная черепичная крыша фермы.
— Вот и пролетели две недели… — Сэм старался говорить непринужденно.
— Вас ждет любимое дело, — сказала Кэт, покусывая травинку.
Сэм заговорил о перспективах своей работы.
— А знаете что, — перебила его Кэт, — мне кажется, вы в своем увлечении наукой, техникой… отрицаете многое… Посмотрите, — она протянула тонкую смуглую руку, — разве это не прекрасно? Если лечь на траву и смотреть сквозь ветви на небо… долго-долго… расстояния меняются… — Ветки то страшно высоко, то — перед самыми глазами. Какая-нибудь травинка на мгновенье покажется огромной… И вот ваша техника со всем этим в каком-то противоречии!
— Не понимаю, в чем тут противоречие!
— Ах, не умею сказать! В вашей технике есть что-то жестокое, неумолимое… Мне кажется порой, что железный колосс схватил за руку маленького беззащитного человека и увлекает за собой… И вот колосс идет все быстрее и быстрее… А человек сопротивляется… Но разве можно сопротивляться слепой железной силе? — Кэт зябко повела плечами, зрачки ее расширились. Сэм удивленно смотрел на девушку. — Нет, нет, — продолжала она, — я, видимо, не так говорю… Дело не в технике, конечно… Но нельзя забывать и о человечности!
— Но ведь разумная деятельность человека не отрицает, а утверждает идею человечности!
— Я не спорю с вами, Сэм! Но вот сейчас мне пришла мысль, что скоро, очень скоро вы убедитесь в правоте моих слов.
— Кэт, — заговорил Сэм после некоторого молчания, — до моего отъезда остались считанные дни… А я все еще не сделал определенного выбора.
— Вы верите предчувствиям?
— Предчувствиям?!
— Да, я сейчас подумала о ваших планах, и что-то мне подсказало, вернее шепнуло… Сэм! — девушка взяла его за руку своими маленькими крепкими руками. — Сэм, не связывайтесь вы с этим… Кэви! Поезжайте к Дорну! Я его не видела, вашего дорожного знакомого, но, он нехороший, он недобрый! Поезжайте к профессору Дорну!
— Хорошо. Я вам обо всем напишу…
— Пишите…
Сэм не мог заснуть. В темноте его открытым глазам рисовалось взволнованное лицо Кэт.
«Что она имеет против Кэви? Предчувствие? Чепуха! Нет, на предчувствие нельзя полагаться! Серьезный выбор… На всю жизнь… Кто знает, может быть, судьба открывает мне удивительный, прекрасный путь! Профессор Кэви… Да ведь это же замечательный ученый! Само общение с ним — большая научная школа для молодого специалиста!» И чем больше раздумывал Сэм, тем больше зрело в нем бесповоротное решение ехать к профессору Кэви.
«Еду. Обязательно еду!» — уже засыпая, подумал он.
Первое письмо
Кэт, я сдержал свое слово. Но и без него я не ушел бы от горячего желания поделиться с вами.
Все идет отлично, но буду последовательным. О дороге не пишу — не интересно… Как и предполагал, утром следующего после отъезда дня благополучно прибыл в город Н. Навестил свою студенческую alma Mater. Повидался с учителями, особенно о своих планах не распространялся. Во вторую половину дня пошел отыскивать Стокса. Оказалось, живет он почти в центре города, в огромном, несуразном доме. Забрался на восьмой этаж (лифт, как назло, не работал). Долго звонил… И вот, наконец, мне открыла дверь худенькая женщина лет тридцати пяти с каким-то навечно испуганным выражением лица. Я показал письмо, и она без лишних слов провела меня в кабинет хозяина. И вот передо мною Стокс!.. Представьте: крупное лицо с маленькими внимательными глазами, круглый череп, покрытый жидкими светлыми волосами, массивная фигура. Кивнув на мое приветствие, он взял письмо и пробежал по нему взглядом. При этом лицо его сохраняло безучастное выражение.
— Мы на сегодня не можем доверять вам, мистер Найт, сказал он наконец. — Профессор Кэви работает над проблемами строго секретными. В связи с этим вы не должны знать расположение места, где будете работать. В одиннадцать часов вечера вам подадут машину и отвезут вас на аэродром. В половине двенадцатого вы вылетите в неизвестном для вас направлении. Компаса не брать. Ночью же вы прибудете на место назначения. Согласны?
Укрепившееся желание ехать к профессору заставило меня сказать: «Согласен».
Стокс дал понять, что разговор окончен, и я, сообщив ему номер гостиницы, отправился домой. Все произошло точно в указанное время. Меня ожидал небольшой самолет. Кроме летчика, в кабине был еще один пассажир, который, впрочем, не выразил желания в течение всей дороги обменяться со мной и двумя словами.
Опустившись на кожаное сидение, я еще раз испытал остро противоречивое чувство — может быть, не ехать? Может быть, перерешить, пока не поздно?.. Ведь сейчас машина сорвется с места, вся эта темная масса лесов, гор и рек бросится ей под крылья и в гуле моторов, в холодном ветре уйдет глубоко вниз, в прошлое. Но поздно… Самолет пошел на подъем.
Признаюсь, Кэт, всю дорогу меня не покидало какое-то необъяснимо острое чувство одиночества. Невольно вспомнил ваши слова, и мне стало грустно…
Через некоторое время пошли на посадку. Когда я вышел из кабины, вокруг была непроглядная темь. Метрах в ста от посадочной площадки я смутно различал зубчатую стену леса. А несколько ближе — очертания каких-то невысоких зданий.
«Ну и завезли, — подумалось мне, — и не выберешься отсюда?»
— Мистер Найт? — раздалось из темноты рядом со мной.
Получив утвердительный ответ, человек принял мой легкий чемодан и повел меня к одному из зданий.
— Вот, — сказал он, открывая дверь и осветив небольшую комнату, — здесь вы переночуете.
Не успел я осмотреться, как мой провожатый исчез за дверью, оставив меня одного. Что делать? С дороги я устал. Единственное, что можно было придумать, — немедленно лечь спать. Это я и сделал.
Проснулся поздно, около десяти часов утра. Не успел закончить утренний туалет, как вошел слуга с завтраком.
— Мистер Найт, — сказал он, — профессор ожидает вас в одиннадцать часов.
Позавтракав, я вышел из дома и огляделся. Признаться, все мои вчерашние предчувствия улетучились бесследно. Было прекрасное свежее утро. Место, куда я прибыл, представляло собой лесную поляну метров полтораста в поперечнике, на которой расположилось несколько небольших деревянных домов полубарачного типа. От дома к дому вели узенькие тропки, посыпанные желтым песком. Густые синие прохладные тени на траве и земле перемежались с теплым светом. Искрами вспыхивала роса. От соснового леса, окружавшего поляну темно-зеленым кольцом, долетел смолистый аромат. Я почувствовал себя необыкновенно хорошо. Время подошло к одиннадцати. В сопровождении слуги я прошел к профессору в кабинет.
Это небольшая уютная комната с огромным письменным столом, с мягким крутящимся кожаным креслом и книжным шкафом черного дерева. Ничего лишнего.
Профессор сидел в кресле. На нем был белый халат, накинутый поверх дешевенького костюма.
Обильные морщинки, старческие мешки под глазами, да и глаза… На сей раз они не производили впечатления того пристального внимания, как во время нашего дорожного знакомства. Честно признаюсь, я почувствовал к этому человеку искреннее расположение и желание быть ему хорошим помощником в его большом деле.
Профессор улыбнулся мне, как старому знакомому:
— Приехали? Ну вот, я так и знал, будем работать.
Он усадил меня напротив.
— Думаю, вы не обидитесь, мистер Найт, если я повторю вам некоторые из наших условий. Важность проблем, над которыми мы работаем, заставляет нас тщательно проверять наших новых сотрудников. Устанавливать, так сказать, для них испытательный срок. Сообщаю без оговорок: вы должны подписать контракт на пять лет. В течение первого года вы безвыездно будете жить на территории института. Ваши письма будут проходить цензуру, что избавит вас от лишних подозрений с нашей стороны. Вам будут писать по адресу господина Стокса. Сегодня вы ознакомитесь с лабораториями, представитесь сотрудникам и определите свое рабочее место. Сегодня же вы начнете знакомиться и с профилем нашей работы… Ну как, — продолжал Кэви после минутного молчания, — не смущают вас наши условия?
— Нисколько, профессор. Я признаю их вполне законными и необходимыми по отношению ко мне.
— Тем лучше. Тогда вернемся к формальной части.
Когда все документы были подписаны мной и профессором, он предложил мне осмотреть лабораторные помещения.
Признаюсь, что увиденное мною превзошло все ожидания. Скромные домики оказались изумительно оборудованными изнутри. Все в них сверкало никелем и стеклом, блестело краской, изразцами, кафелем. Мы переходили из одной комнаты в другую, из одного домика в другой. Профессор давал скупые, но точные пояснения приборам и установкам.
Кэт, я не имею возможности сообщить вам, что видел, скажу лишь, что кибернетические машины, которые показывал мне профессор, неизмеримо превосходят ранее известные мне. Я испытывал чувство искреннего восхищения этим сказочным техническим совершенством.
— Вот и ваше рабочее место, — сказал профессор, когда мы вошли в небольшую уютную лабораторию. Навстречу нам из-за стола поднялась белокурая девушка лет двадцати двух-двадцати трех в белом рабочем халате.
— Познакомьтесь, — улыбнулся профессор, представляя ее мне, — ваш будущий сотрудник, старший лаборант института…
— Мэри Стокс, — отрекомендовалась девушка и застенчиво опустила глаза.
В голове у меня мелькнуло: «Стокс? Мэри Стокс? Да уж не дочь ли это…» Приятный голос, миловидное лицо и глаза… глаза… как бы вам сказать…
Что я делаю?.. Простите меня, Кэт, я увлекся и написал много лишнего.
— Мисс Мэри, — сказал профессор, — имеет достаточную профессиональную эрудицию. Она во многом поможет вам на первых порах в вашей работе. Не так ли, Мэри? — улыбнулся он девушке.
— Да, профессор, — серьезно ответила она.
Кэт, я заканчиваю свое письмо. Боюсь, что утомил вас. Первый рабочий день прошел. Настроение прекрасное. Ждите письма. Пишите по адресу:
Город Н., улица 17-А, дом
133, кв. 90.
Г-ну Р. Стоксу для С. Найта.
Р. S. Кэт, меня не покидает чувство глубокого сожаления, что мы с вами так недолго встречались. Да, да, я чувствую, что осталось много несказанного… Невыясненного… Было так мало времени…
Сэм
Второе письмо
Кэт! Прошу извинить меня за долгое молчание. Вот уже третья неделя, как я работаю у профессора Кэви. Внешне все идет хорошо. Если бы… Но лучше расскажу по порядку… Продолжаю знакомиться с кибернетической техникой. Она превосходит все, о чем я смел мечтать. Но сейчас о другом… Вот вспоминаю ваши слова, и, знаете ли, они не лишены основания! Я, конечно, не верю никаким предчувствиям… А ведь первые впечатления действительно могут обмануть! У меня нет причин обижаться на профессора. Он внимателен. Он не жалеет времени, чтобы помочь мне в работе. И все же не таким представлял я его в день приезда. Не могу составить о нем определенное мнение. Порою он кажется простым и добрым, порою неуловимое движение его лица, выражение глаз инстинктивно настораживают. Между нами не установилось близости и простоты, так необходимых в работе. Незримая преграда разделяет нас. Сотрудники института — народ положительный… Но чувство одиночества, которое я впервые ощутил во время полета, не покидает меня. Видимо, еще не привык к новой обстановке… Особо скажу о Мэри — моей ближайшей сотруднице. В ее манере держаться есть нечто настораживающее. Возможно, я несправедлив. Она охотно помогает мне во всем, что представляет для меня затруднение. Профессор ее не перехвалил: отлично разбирается в своем деле. Пробовал заводить разговоры на различные темы. Избегает… Отвечает с явным неудовольствием… Познакомился с семьей Кэмперов. Глава семьи — невысокий, худенький старичок с задумчивыми светлыми глазами. Жена — полная, с виду суровая, а в действительности радушная дама. Восьмилетняя дочурка каждый раз радуется моему приходу. Впрочем, кроме меня, у них редко кто бывает. В этом славном доме я обрел вторую семью.
Кэмпер много лет работает лаборантом у профессора Кэви. Под его скромной внешностью скрывается недюжинный ум. Меня очень интересуют отношения между профессором и Кэмпером. Кэви с ним внешне уважителен, любезен, но в его глазах я замечаю иногда глубоко скрытую усмешку, боюсь сказать, злорадство. Быть может, мне это лишь кажется? Увы… Кэмпер с профессором очень сдержан. Он четко, беспрекословно выполняет его распоряжения. Лишних вопросов не задает. Что-то между ними произошло! Каждый раз, бывая у своих новых друзей, я вижу, что они хотят о чем-то поговорить со мной и… не решаются. Вчера, после вечернего чая, мы сидели с Кэмпером в маленькой уютной столовой и молча дымили сигарами.
— Скажите, мистер Сэмюэль, долго вы намерены работать у профессора?
— Контракт на пять лет.
— Да-а, — задумчиво протянул Кэмпер и затянулся сигарой.
— Послушайте, — не выдержал я, — в вашем вопросе что-то есть! Вы что-то не договариваете! Конечно, у вас нет оснований доверять мне…
— Э, дело не в том… Если бы я испытывал к вам малейшее недоверие, то никогда не заговорил бы на подобную тему.
— Но тогда в чем же дело? Неужели в профессоре? Я до сих пор не разобрался в этом человеке. Вы-то его давно знаете.
— С юношеского возраста… Эх, кому, как не мне, знать профессора Джона Кэви! — По лицу Кэмпера скользнула грустная усмешка. — Мы учились в институте… на одном курсе, — продолжал он. — Джон, так зову я его по старой памяти, отличался большими способностями и силой воли. Он был самоуверен до дерзости, я же напротив — застенчив, робок. Мы дружили. Я отлично видел себялюбивые и дерзкие черты характера в этом красивом черноволосом юноше. Он был талантлив. Ох как талантлив! В его отношении ко мне проскальзывали превосходство и снисходительность. И все же он, если не любил меня как товарища, то постоянно нуждался во мне. Мы оба учились хорошо, но я искренне восхищался его способностями к научной работе. В его подходе к исследованиям было что-то хищное. Подходя к решению какого-нибудь вопроса, он словно сжимался для прыжка. В его глазах появлялся тревожный и злобный блеск, казалось, он ненавидит все неизвестное, непознанное. И вот он совершал прыжок, впиваясь цепкими руками в горло факта. Да, это именно так и было, мистер Сэмюэль. И это осталось в нем до сих пор.
Огромные свои способности Джон отлично умел использовать. Он успешно закончил институт и столь же успешно продолжал работать дальше. Судьба велела мне идти с ним по одной дороге. Правда, справедливость требует сказать, что Джон позаботился и обо мне. Что говорить, я ему был безгранично благодарен… Шли годы, мы работали в одной лаборатории над общей проблемой. Я был прилежен, трудолюбив, но всегда лишь шел позади Джона. Во мне никогда не было ни ревнивого чувства, ни зависти. Этот человек своей находчивостью, смелостью, страстностью, работоспособностью положительно покорял всех окружающих. Он все шире и шире развертывал свои исследования. Я почти зримо ощущал, как из темных извилистых закоулков мы выходим на широкую научную дорогу. И вот он идет по этой дороге — сильный, стремительный и злой — да, именно злой!
Меня часто пугала какая-то непонятная в нем черта. Я видел его неутомимую энергию, его талант, но не мог понять, любит ли он науку. Вы знаете, любовь, к чему бы она ни была направлена — к человеку, идее, творчеству, всегда придает человеку мягкость, душевность… Но этого в нем не было…
Прошло много лет. И с каждым годом я все более и более чувствовал гнетущее влияние профессора. Знаю ли я его сегодня? И да, и нет, В своей работе этот человек достиг невиданных результатов. О некоторых из них вы имеете представление.
— Но почему вы не порвали с профессором? Что вас удерживало около него? — воскликнул я.
— Трудно сказать. Мне и самому это неясно. Может быть, то же самое любопытство, которое заставляет зверька наблюдать за хищником и забывать о грозящей ему опасности… Может быть, многолетняя привычка…
— Скажите, у профессора есть деловые связи с различными людьми?.. Например, господин Стокс…
— Да, да, Кэви связан с различными людьми. Чем — до сих пор мне неясно, только не наукой. Взять того же самого Стокса — отвратительная личность, — профессор много переписывается с ним, несколько раз в году профессор улетает из института по каким-то своим делам. Вы, конечно, уже слышали о государственной важности работы профессора. Это — правда. В его работе заинтересованы крупные финансовые круги. Исследования требуют огромных денег. Но на что они направлены?..
— Скажите, — после недолгого молчания спросил меня Кэмпер, — вы ничего не знаете о вашем предшественнике?
— Предшественнике?
— Да, вижу, ничего не знаете. Так вот, незадолго до вас у профессора работал молодой человек примерно вашего возраста. Джон Крафт. Внешне он мало походил на вас. Это был худенький бледнолицый блондин, несколько замкнутый, меланхоличный.
Он окончил какой-то из институтов по специальности физика и работал у профессора месяцев шесть. Как шла его работа, доволен он был ей или нет — не буду говорить. С некоторых пор в его поведении появились странности, а позднее — явные признаки сумасшествия.
Однажды он зашел к нам с толстым свитком записей. Он просил меня сохранить эти записи и, главное, не показывать их профессору. Вечером того же дня он застрелился.
— Застрелился? А причины?
Вместо ответа Кэмпер достал из шкафчика тетрадь и протянул ее мне.
— Вот… Это — дневник. Мне трудно передать его содержание. Много в нем странного, горячечного воображения, но много и правды. Отдаю его вам, но прошу из уважения к памяти бедного молодого человека не показывать профессору. Прочтите. Может быть, это откроет вам глаза на многие события, определит вашу судьбу…
И вот дневник в моих руках. Кэт, вы поймете мое нетерпение! Сегодня ночью буду читать. Я чувствую, что стою на пороге разгадки великой тайны. Напишу обо всем.
Сэм.
Письмо удалось отправить нелегально, при помощи Кэмпера.
Третье письмо
Кэт! Я очень виноват перед Вами! Простите мое долгое молчание. Вы верили в меня, в мою настойчивость, в мое будущее… А я обманул вас… Э, да что там! Лучше сказать сразу: я ушел от профессора Кэви. Нет, не ушел — сбежал! Принудили обстоятельства. Объяснять все в письма не буду. Лучше потом… Поверьте, это бегство имеет оправдания. Я глубоко сожалею, что потерял возможность работать у профессора… Передо мной навсегда закрылись двери в мир удивительных вещей и событий. Но поздно сожалеть. Нужно подумать о другом. Они, несомненно, не оставят меня в покое. Будут преследовать меня. Может быть, постараются уничтожить. Кэт, я уезжаю далеко… Когда вернусь в родные края — не знаю. Дома побывать не пришлось. При первой возможности напишу вам обо всем. Посылаю вам дневник, о котором сообщал в прошлом письме. Прочтите его и сохраните.
Я решил разбить дневник на несколько частей и озаглавить каждую из них. Думаю, что это позволит лучше уловить мысли и настроения автора. К тому же он уже не сможет предъявить мне свои претензии за эту вольность.
Сэм.
Дневник Джона Крафта
Мэри
…Это великое дело! Могу ли я оценить его? Читать, читать… Пройдет время, и все будет проще, яснее… Да, в гениальности — простота. Ньютон и Лейбниц, Эйнштейн и Винер… Кэви идет новым путем логических построений. До сих пор мы не задумывались о математических характеристиках качества. Что это такое? Как выразить математически разнокачественность? Как представить сумму, разность, произведение разнокачественных единиц?
Долго беседовал с Кэви. Высказал ему некоторые свои соображения, сомнения. Профессор улыбнулся.
— Ну что же, хорошо! Подумайте, поразмыслите…
Почему меня так смущает его улыбка? (Не то слово!) Она рождает во мне чувство неловкости и тревоги.
Пошел погулять после работы. Мэри, как всегда, отказалась от моей компании. Вот уже скоро два месяца, как я у профессора, а мы с ней как будто бы только что познакомились. Странно… Люди не относились ко мне плохо. У меня немало друзей… Не думаю, что внушил ей неприязнь.
12 декабря
Сегодня утром вновь деловая беседа. В словах профессора неясные мне полунамеки и мысли. Основное я, кажется, понял, вернее, почувствовал: свои удивительные машины он строит по совершенно новому принципу.
— Возьмем, к примеру, мозг человека, — сказал Кэви, — у различных людей одна и та же сумма знаний приводит к качественно различным суждениям и умозаключениям. В этом заключается элемент произвольности человеческой психики. Произвольность… Можно ли к ней подобрать математический ключ? Можно ли с этим ключом подойти к конструкции машин? Как вы думаете? За такие мысли физиологи, психологи и, тем более, социологи могут ополчиться на меня. А, бог с ними!
15 декабря
Странная девушка… Она по-прежнему избегает меня. Удивительные у нее глаза! Удивительный взгляд! Почему я так много думаю о ней? Да, я боялся признаться даже себе: люблю ее! Вся беда в моей трусости. Пет, я не трус! Всему виной этот несносный самоанализ. Нужно быть смелее.
Вечером со мной беседовал профессор.
— Так вот, — сказал он, — я намекнул вам кое о чем в проблеме произвольности… А теперь сопоставьте слова «произвольность» и «инициатива», «произвольность» и «активное творческое начало». Подумайте-ка над этим!
31 декабря
Канун нового года, а у нас, как назло, так много работы. Только в десятом часу вечера я и Мэри покинули лабораторию. Пощипывал морозец. Искрился снег. Мэри, кутаясь в шубку, тихо шла впереди.
— Мэри! — я поравнялся с ней и настойчиво взял ее маленькую руку в шерстяной перчатке. — Почему вы так официальны со мной? Право же, я не заслужил этого!
— Странно, — задумчиво сказала Мэри, — о-фи-циаль-ны… Так ведь вы сказали? Повторите-ка!
— Вот вы отделались шуткой, но я же говорю вполне серьезно. Прошу вас, будьте просты и откровенны. Я решился просить вас об этом сейчас, в эту ночь, которая является символом будущего.
— Будущее, — повторила Мэри, — а что такое будущее?
Она подняла на меня свои глаза, и блестящая лунная точка засверкала в них. Я вздрогнул. Мне показалось… Да, конечно, показалось, что передо мной чужое лицо. В кем было что-то… не могу сказать… Наваждение прошло. Передо мной вновь прежняя милая Мэри.
— Спокойной ночи, мистер Джон, — сказала она, протягивая мне руку, — у нас в вашем будущем еще будет время поговорить.
6 января
Новый год. Он начался для меня многообещающе, Делаю успехи. Мэри стала со мной откровеннее, доверчивее. Пользуюсь каждым случаем, чтобы поговорить с ней. Это не всегда удается. К тому же профессор… Несколько раз во время беседы с Мэри я ловил его быстрые испытующие взгляды. Интересно, какие он может иметь ко мне претензии?
Я решил заняться воспитанием Мэри. При всех ее блестящих способностях, образованности, она совершенно не знает жизни. Проявляет ужасающую наивность в самых простых житейских вопросах.
— Вы меня удивляете, — не выдержал как-то я. — Где вы учились? Где воспитывались?
— Мистер Джон. Поговорим о настоящем.
— Ну хорошо, я ничего не буду у вас выпытывать.
Я привез с собой неплохую библиотеку. Как мне стало ясно, Мэри мало знакома с художественной литературой, ну что ж, это поправимо! Какую бы предложить ей для начала книгу? А, вот она — «Красное и черное».
12 января
— Мэри, как книга? Много ли прочли?
— Прочла пятьдесят страниц…
— Ну и что же, ответьте же на второй вопрос?
— Хорошая книга.
— Мэри, не пойму я вас. Вы столь лаконично выражаете свои мысли, что мне неясно, угодил я вам или нет.
— Ведь я ответила.
— Мне бы хотелось поговорить с вами о прочитанном.
— Ну что ж, мистер Джон, давайте поговорим.
Ах, она несносна, но я люблю ее, и никакая сила не заставит меня отступиться.
— Скажите, Мэри, нравится вам Жюльен?
— Да, он мне нравится. В его поступках есть четкость, строгость, прямая линия.
— Да, но ведь движут им честолюбивые мечты, эгоизм…
— Я говорю не о мечтах, а о поступках.
— Хорошо, не спорю. Но скажите, к чему, по-вашему, приведут его отношения с Реналь?
— У Жюльена и Реналь — одна линия, иного пути нет.
— Гм… Ну а если будет не так? Если эта линия сломается, изменит свое направление?
— Должно быть только так. Все ведет к этому.
— Но Мэри, Мэри!!! Почему вы говорите такие слова! Ведь должны же вы согласиться, что чувства, страсти, мечты заставляют поступать людей часто вопреки логике.
— Хорошо, я согласна.
— Нет, я все-таки не убедил вас, но уверен — мне это удастся.
От сегодняшнего разговора ожидал я большего. Мэри меня озадачила.
16 января
Настойчивость и еще раз настойчивость! Мэри читает книги. Увлеклась! Сегодня вечером она сказала:
— В ваших книгах есть что-то… Я начинаю по-новому понимать их, чувствовать, — она медленно, тщательно произнесла последнее слово. Меня поразил новый, теплый, душевный оттенок ее речи.
— Странно, — продолжала она, — странно, мистер Джон… Я хочу читать, говорить с вами…
— Мэри, я так счастлив! Признайтесь, работая здесь, в этом институте, вы не видели в жизни много интересного, хорошего. Не замечали, что оно находится рядом с вами. Взгляните, падает снег. Он ложится маленькими звездочками на землю… Взойдет месяц, и на далеких лесных полянах заискрится снежное покрывало. Промелькнет заяц, оставляя ломаный след. Осыплется колючий иней на деревьях… Разве это не хорошо?! Вы целыми днями смотрите на пульт машины, он заслонил от вас жизнь.
— Странно, странно, — повторяла Мэри, — вы говорите такие слова, мистер Джон…
— Прошу вас, Мэри, называете меня просто Джон. Ну, повторите!
— Джон, — сказала Мэри, и голос ее непривычно дрогнул.
18 января
Мэри неузнаваема. Она не избегает меня, она ждет меня! Я не сказал об одной странности Мэри. Эта девушка никогда не улыбалась. Может быть, она многое пережила?.. Может быть, этот самый Стокс… Или Кэви… Но что гадать, сегодня я впервые увидел ее улыбку!
Солнечный, почти весенний день. Пользуясь отсутствием профессора (он улетел на два дня по своим делам), мы с Мэри решили немного погулять. Мы шли по узенькой, протоптанной в снегу тропинке на самой окраине леса. Прямые синие тени пересекали ее. Мэри шла впереди. Она отодвигала рукой колючие хвойные ветви, и мелкая снежная пыль осыпалась на нас. Я смотрел на ее худенькую стройную фигурку, на завиток золотистых волос, выбившийся из-под опушенной горностаем шапочки. С солнечной стороны лучи бесчисленными иголками пронзили снег, сделав его хрупким и ноздреватым.
Я старался обратить внимание Мэри на различные мелочи. То указывал ей на след, прихотливо пересекающий тропинку, то на веточку, склонившуюся под тяжестью снега, на пень со снежной шапкой, похожий на огромный белый гриб. Она слушала меня с явным удовольствием, но больше молчала. Внезапно из-под куста выскочил напуганный нашим приближением заяц. Я громко свистнул, и трусливый зверек, петляя, помчался в лес. На лице Мэри появилась улыбка, в которой я прочел удивление и восторг.
— Что вы сделали? — спросила она.
— Я пошутил.
— Джон, — воскликнула Мэри, — это было так интересно!
Я пошел рядом с ней.
— Мэри, — заговорил я спустя минуту, — простите, что я затрагиваю такие интимные вопросы. Мне кажется… Нет, я уверен: вы постоянно находитесь под влиянием профессора. Он установил над вами негласный надзор, он отгородил вас от мира невидимой стеной.
— Профессор Кэви, — произнесла Мэри четко и раздельно, крупный ученый. Он занят важными проблемами. Я, вы и другие сотрудники — все мы выполняем частные задания его большой научной темы.
— Выполняем, выполняем! — воскликнул я. — А ведь не об этом речь! Для чего все это, если оно лишает человека радости жизни, счастья, ну для чего?
Мэри удивленно посмотрела на меня.
— Вы спрашиваете, для чего? Странно… — Она замолчала. На лице ее читалась напряженная борьба мыслей.
Так мы дошли до небольшой полянки, пересеченной поваленным деревом. Тропка, обогнув это дерево, убегала дальше в лес. Мэри внезапно остановилась.
— Что же вы? Идемте, — взял я ее за руку.
— Дальше нельзя, — четко сказала она.
— Опять запрет! Хоть сегодня, хоть один раз нарушьте строгие правила, навязанные вам профессором.
— Нельзя, — повторила она, голос ее стал монотонным. Она словно впадала в забытье. Внезапно словно вспышка отразилась на ее лице, глаза расширились, стали неподвижными.
— Иду! Иду! — почти крикнула она, обращаясь неизвестно к кому, и, круто повернувшись, быстро пошла обратно. Споткнувшись о пенек, засыпанный снегом, она чуть не упала. Я хотел поддержать ее, но она отстранилась, продолжая идти.
— Не надо, Джон. Идемте скорей!
Мы сравнительно быстро добрались до поселка.
— Мэри, — говорил я, едва поспевая за ней, — ну хорошо, сегодня будь по-вашему… Но ведь это не последняя наша прогулка?
— Не последняя.
Странная все-таки девушка… И отношения ее с этим Кэви… Но, черт возьми, все будет по-моему, я уверен!
2 февраля
Сегодня утром вернулся профессор. Он не в духе. На лице хмурая гримаса. Взяв с собой целый ворох бумаг, чертежей, он на весь день закрылся в кабинете. Все ходят притихшие, в том числе и Мэри. Под вечер вызвал меня и стал допрашивать о работе.
— Как ваши успехи? — спросил он, ядовито улыбаясь и в то же время внимательно глядя мне в лицо. Что он разумеет — мои исследования? Мои отношения к Мэри? Последнее, безусловно, от него не тайна. Ну и что же, он не волен мне указывать! Или он имеет на Мэри какие-то особые права? Или, быть может, этот тип Стокс угождает ему во имя каких-то обоюдных планов, а Кэви пользуется этим?
Профессор словно угадал мои мысли.
— Я спрашиваю о результатах ваших вычислений за истекшие два дня, — подчеркнул он.
Я стал терпеливо докладывать ему обо всем, что сделал, положив перед ним тетрадь с записями.
— Так, так… — говорил он, слушая меня и в то же время пробегая глазами по строкам и формулам, — а это что, вывод? Хорошо.
Когда я закончил и поднял глаза на профессора, мне показалось, что он думает о чем-то своем и поддерживает меня для вида. Взгляд его ушел внутрь, а лицо, оставаясь внешне неподвижным, в то же время удивительно быстро меняло выражение. Вновь чуть заметная усмешка скользнула по губам и потонула глубоко в зрачках.
— Неплохо, — сказал он, закрывая тетрадь и передавая мне, — желаю успеха. — И нельзя было понять, на что он намекает или на работу, или… Впрочем, я стал мнительным. Когда я вышел от Кэви, то вздохнул с облегчением.
Мэри не выходила из лаборатории. Как легкая тень, перелетала она от одного пульта к другому. Ее тонкие пальцы чуть касались кнопок, мгновенно убегая в сторону.
10 февраля
Я забыл сказать о весьма существенном: у профессора два кабинета — первый для приемов, совещаний, бесед; второй, расположенный за первым, — для каких-то специальных занятий. Никто из нас не имеет туда доступа, за исключением Мэри. О да, профессор оказывает ей особое доверие! Может быть, он играет на этом?
Я мало сказал о Кэмперах. Хорошие люди! Правда, по службе я не много имею с ними дела, но каждый раз, когда я за чем-нибудь захожу к ним, меня охватывает большим человеческим теплом, душевностью… (дальше десять строк зачеркнуто)… во всяком случае это так. Но я не решаюсь заговорить с Кэмпером на эту тему, а надо бы…
15 февраля
Сегодня я узнал многое. Изложу все последовательно…
В первую половину дня я поработал весьма успешно. Профессор доволен мной, хотя даже в его похвалах я чувствую тень недоброжелательности. Уговорил Мэри после работы совершить небольшую прогулку (она имеет обыкновение часами сидеть у себя дома) — согласилась. Она словно просыпается от долгого летаргического сна. В ее голосе, движениях, взглядах — во всем, во всем ее облике чувствуется это весеннее пробуждение. Милая Мэри! Я спасу тебя для жизни и счастья!
Но сегодня она меня очень испугала и огорчила. Старик (так я часто про себя называю Кэви), видимо, угнетает ее. Мы гуляли по дорожкам нашего научного поселка. Я говорил обо всем, за исключением работы, расспрашивал ее о прочитанных книгах, шутил. Она отвечала охотно и на губах ее все чаще и чаще играла улыбка.
— Мне хорошо с вами, Джон, — очень хорошо!..
Мне показалось, что за углом дома мелькнула человеческая тень. Мэри смотрела на меня большими, немного удивленными глазами.
— Джон, — заговорила она срывающимся голосом, — я не могу понять, Джон, в чем здесь секрет, в чем дело? Я не могу понять, что со мной произошло? — Мэри явно не находила слов. На ее лице отражалось огромное напряжение мысли. — Джон, — продолжала она все более и более возбужденно, — объясните же мне, в чем дело? Джон, — голос ее стал каким-то резким.
— Что со мной? Что? Объясните! — Голос Мэри поднялся до крика и звенел, широко раскрытые глаза блестели.
— Ну!.. Вычисляете?! Молчите?! Ошиблись… Профессор Кэви прав… Он всегда прав… Расчет верный!
Я почувствовал, как страх сжимает мое сердце.
— Мэри, вам плохо, успокойтесь!
— Ха! — выкрикнула Мэри. — Плохо? Хорошо! Отлично! — Она качнулась и навзничь упала на снег.
Я бросился к ней, но чья-то сильная рука оттолкнула меня. Обернувшись, я увидел профессора. В его глазах сверкала злоба.
— Уйдите, — прошипел он, поднимая девушку на руки.
Метнув на меня еще раз свой злобный взгляд, он исчез со своей ношей в дверях дома. Да, таким я его не видел никогда. Я стоял, ошеломленный. Наконец придя в себя, я уныло побрел домой.
На пороге великой тайны
15 февраля
Кэви делает вид, что между нами ничего не произошло — он нарочито любезен, но я-то знаю что у него на душе. Соперник. У меня есть соперник. Нет уважаемый профессор, вы слишком самонадеянны!.. Вы думаете, что ваш авторитет, влияние на окружающих обеспечат вам победу? Ошибаетесь! Как я его ненавижу! Едва переношу его присутствие, и он это видит, но опытный лицемер нисколько не смущается. Что делать? Наговорить дерзостей? Уехать? А Мэри? Что будет с ней? Нет, я не способен оставить ее здесь одну, даже на время. Нужно искать другой выход. Может быть, написать Стоксу? Но ведь я его совершенно не знаю… Не будет ли от этого хуже? Нет, такой вариант отпадает. Что же тогда? Бежать. Уговорить Мэри. Трудно, особенно трудно, если учесть своеобразный характер Мэри, ее слепую зависимость от воли профессора, и в то же время — единственный выход. Решено! Я буду осторожен. Я буду так же лицемерен, как профессор. С сегодняшнего дня нужно рассчитать каждый свой шаг, исключить всякое подозрение со стороны Кэви. Он хитер, но иного выхода нет.
28 февраля
Я разыгрываю взятую на себя роль. Никогда еще не приходилось так лицемерить! Вот уже неделя, как я не встречался с Мэри в интимной обстановке.
Она, видимо, чувствует себя неловко после случившегося. Но я ни о чем не вспоминаю, так лучше. Да, нелегкая задача! Главное, не с кем посоветоваться, не у кого искать поддержки. Кэмпер? Нужно будет зайти к нему… Он единственный внушает доверие.
3 марта
Сегодня после работы зашел к Кэмперу. Чистосердечно признался старику во всех своих сомнениях. Он слушал с грустной задумчивостью, тихо постукивая сухими ревматическими пальцами по краю стола.
— Эх, мистер Джон, — сказал он, — не знаю, как отвечать… Как убедить вас оставить это дело. Ведь вы меня не послушаетесь… Нет, не послушаетесь! Вижу по вашему возбужденному состоянию, что вы не в силах изменить свой план. И все же, дорогой мистер Джон, мой долг старого человека, который годится вам в отцы, предостеречь. Не обольщайтесь, что вам удастся обмануть профессора. Вы слишком мало знаете его… Это очень умный, опытный противник… Он привык читать по чужому лицу, как по книге…
— Но что мне делать? Ведь Мэри… Не могу же я оставить девушку на его произвол!
Кэмпер молчал. Шли долгие минуты.
— На произвол… — повторил он как-то неопределенно, вас, быть может, в скором времени ждет жестокое разочарование… Даже потрясение… Откажитесь же от Мэри! Эх, да разве вы послушаете меня…
Он безнадежно махнул рукой. Я чувствовал в его словах непонятную мне правду, но все во мне восставало против его советов. Отказаться от Мэри, уступить профессору?.. Нет, нет, тысячу раз нет!..
Ушел еще более растерянный, чем прежде. Глухая тревога сжимала сердце.
9 марта
Что скрывается в словах Кэмпера? Этот вопрос не дает мне покоя. Решил забыться в работе. Целые дни провожу в лаборатории. Я занят программированием. Машины выстроились строгими рядами вдоль стен. Они ждут. Едва ощутимая вибрация говорит об их огромном рабочем тонусе. Я даю машинам задания, начинается электронный синтез — мыслительная работа машин. Но это еще не все! Машины могут советоваться друг с другом. У них есть радиоголос. Они могут сами разрабатывать новые программы. Я наблюдаю за комбинированной работой машин.
На матовых экранах извиваются зеленовато-голубые змейки, вспыхивают и меркнут красные и зеленые сигналы. Тихое комариное жужжание…
А в углу, у окна, за небольшим рабочим столиком сидит Мэри. Перед ней — журнал опытов, технический справочник, рядом — пишущая машинка. Мэри сосредоточенна и молчалива. Таков стиль нашей работы — молчание!
Просматриваю результаты рабочего дня: очень интересно! Нужно срочно доложить профессору. Кэви просмотрел протоколы.
— Комбинировали работу машин?
— Да, профессор.
— Отлично! Делаете успехи.
12 марта
Свершилось непоправимое, ужасное… Мог ли ожидать я этого? Мог ли предположить о существовании нелепой истины? Кэмпер прав: я — жертва жестокого эксперимента. Я не суеверен, но меня пугает наступающая ночь… Перед глазами события дня. Напряженная работа, интересные результаты… Поздно вечером, забрав протоколы, я направился к профессору. В первом кабинете его не было. Хотел было уйти, но неожиданно услышал за дверями второго кабинета возбужденный голос Мэри:
— Просчитались, профессор! Да-да, просчитались!
Раздалось тихое бормотание Кэви. Я напряг слух и, рискуя быть обнаруженным, подошел почти вплотную к двери. Между нею и косяком золотился узкий просвет.
— Произвольность, — не без злорадства, как мне показалось, продолжала Мэри, — вот вам ее результаты! Что, удивлены?
Профессор не отвечал. Он говорил сам с собой. Голос его был глух, но я отлично разбирал слова.
— В самом деле… как же это получилось? Неужели под его влиянием? Гм… интересно! Отменный коддавр получился!
Я затаил дыхание. Внезапно раздался громкий голос Мэри. В нем было возмущение и, как мне показалось, страх.
— Что… что вы делаете! Не смейте! Вы…
Легкий щелчок — и все замолкло. Я приник к двери, но за ней была тишина… Что он сделал?! Я должен что-то предпринять… Но если я войду, все будет кончено. Стоять, бездействовать? Нет! Глухая злоба на профессора поднималась во мне. Будь что будет! Я рванул дверь и… замер на пороге.
Небольшая комната ярко освещена. Шторы на окнах плотно задернуты. Бесчисленные приборы, бумаги, чертежи… В углу огромный черный шкаф. Но не это поразило меня… Глаза! Неподвижные, безжизненные, без малейшей тени выражения, без малейшего огонька жизни! Мэри словно окаменела. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, когда я появился в дверях, ни одного слова не вырвалось из ее уст. Около нее стоял профессор. Я видел его руки. Большие, белые, сильные, они быстро и ловко двигались, они делали свое дело. Я увидел разверстую грудь девушки, и там… там, где должно биться сердце, сверкали десятки тысяч мельчайших деталей. Эта ячеистая структура, эта платино-германиевая сеть… Вот что было на месте ее сердца!
Нервы мои не выдержали, я почувствовал кружение и, качнувшись, задел какой-то металлический предмет. Он со звоном упал на пол. Профессор быстро обернулся. В его глазах были испуг и недоумение.
— А! — воскликнул он. — Вы все видели! — Медленно приближаясь, Кэви пронзил меня тяжелым внимательным взглядом. — Вы все видели, — тихо повторил он, — ну что же… Наш разговор впереди, а сейчас — идите!
Сухая белая рука указала на дверь. Не в силах вымолвить ни слова, я выбежал из кабинета.
13 марта
Не спал всю ночь. Напрасно зарывался головой в подушку, призывая сон. Меня преследовали невидящие глаза Мэри. Ночная лампочка едва освещала комнату, черным квадратом выделялось окно. Она под окном. Она прильнула к стеклу. Тонкие руки скребут ногтями стекло, пытаются открыть раму.
— Джон, объясните, в чем дело… Джон!
Можно сойти с ума! Бежать… бежать отсюда! Но уже утро. Нужно идти в лабораторию…
Мэри оказалась на своем рабочем месте.
— Доброе утро, Джон, — приветствовала она меня.
— Доброе утро, — ответил я, содрогаясь.
— Что вы так смотрите?
Я молчал. Что это? Ошибка? Обман? Или это мистификация, устроенная профессором специально для меня? Передо мной сидела живая, настоящая Мэри и, недоуменно глядя, ждала ответа.
— Видите ли, Мэри, я… плохо спал… Ну и вчерашнее меня смутило…
В глазах Мэри был все тот же вопрос.
— Я стал случайным свидетелем вашей ссоры с профессором…
— Ах, да! Был довольно неприятный разговор… Я погорячилась. Профессор, очевидно, на меня в обиде…
— Своим невольным вмешательством мне удалось…
Нынешние события опровергали вчерашнее. Мне впервые показалось, что мои ощущения не соответствуют действительности. Но как понять ее ответы? А может быть…
16 марта
Прошло три дня. Разговора с профессором еще не было. Тайна не раскрыта. Но я должен ее узнать. Во что бы то ни стало. Я все видел своими глазами. И никогда не поверю. Это подлейший обман изо всех, на какие способен человек. Нет, только подумать, Мэри, такая нежная, такая замечательная… Мэри — отвратительный автомат! Я так много говорил с ней… Выходит, я доверял свои мысли машине, кукле, бездушной электронной системе? Пустое. Вся эта комедия разыграна профессором для меня. Но как он мог предугадать, что я окажусь в его кабинете именно в такой момент? Как мог он угадать, что я решусь войти?.. И разговор… Как его истолковать?
Я много и тщательно анализировал наши прежние беседы с Мэри. Да, в ее словах было много странного. Но как знать, не разыгрывает ли она по наущению профессора эту нелепую роль!
Если так, я готов возненавидеть ее. Нет, нужно быть спокойнее, нужно вникнуть в ее мысли. Она так долго была под гнетущим влиянием профессора. Прервать это…
— Вам?! — Мэри смотрела недоумевающе. — Простите, не помню!
Неужели правда? Я впился глазами в ее лицо. Нет! Живая. Физическое ощущение живого! Я смотрел, я задавал вопросы, и каждый взгляд, каждое слово опро[1]
Сегодня вечером был разговор с профессором. Все то, во что я боялся поверить, стало страшной очевидностью. Кэви пригласил меня к себе в кабинет, сел напротив и улыбнулся.
— Ну-с, уважаемый, как вам нравится моя Мэри?
Я почувствовал, как кровь прилила к вискам; я сидел, стараясь на него не глядеть.
— Молчите?
— Ненавижу вас, — проговорил я, едва сдерживаясь.
— Ну, не будем горячиться, молодой человек, — сказал Кэви примирительно, — это не форма разговора для деловых людей Вы, конечно, удивлены, взволнованы… И это законно. Такое не везде увидишь.
Меня душила злоба. Я был уверен, что профессор издевается надо мной, подло обманывает меня.
— Я не верю вам. Этого не может быть… Вы злой, вы неискренний человек!
— Не верите, — усмехнулся Кэви, не обращая внимания на мои последние слова, — я могу разобрать при вас Мэри по винтикам. Мэри! — крикнул он.
Дверь внутреннего кабинета открылась. Вошла Мэри.
— Этот господин, — продолжал профессор, — сомневается в том, что видел. Скажите ему, что все это правда.
Мэри взглянула на меня.
— Все это правда, мистер Джон, — заученно произнесла она.
— И вы, — воскликнул я с упреком, — и вы хотите обмануть меня в угоду этому человеку!
— Все это правда, — упрямо повторила Мэри.
— Ну что ж, — спокойно проговорил профессор, — перейдем к доказательствам другого рода.
Он коснулся пальцем чуть заметной кнопки на стене. Легкий щелчок. Мэри вздрогнула. По ее лицу, по всему телу, словно от электрического тока, прошла волна напряжения. Она вытянулась и застыла. Профессор придержал ее рукой, чтобы она не упала. Я взглянул в остекленевшие глаза Мэри и содрогнулся.
— Да, это правда…
Между тем профессор прислонил ее, как манекен, к стене и преспокойно уселся в кресло.
— Теперь-то вы, надеюсь, поверили, — усмехнулся он, — можете говорить смело, она ничего не услышит.
Я молчал.
— Мэри, — продолжал профессор, — конечно, она любопытна, но это — игрушка, прихоть моего ума. Вы, — Кэви приподнялся и подошел ко мне вплотную. Все его черты резко обозначились, в глазах была суровость. Я невольно приподнялся. — Вы мальчишка, — резко отчеканил Кэви, — слюнтяй. Вы платите дань мелким человеческим увлечениям, не стараясь понять, в чем дело. Вы привыкли к житейским шаблонам. Подумаешь, — он зло усмехнулся, — Мэри, Мэри, любовь, романтика… Плевать мне на вашу романтику! — Голос профессора стал громким и властным. — Я выгнал бы вас из института, если б… Нет, вы настолько глупы, что не понимаете своих способностей. Но вы способны, черт возьми, я в этом убедился по результатам вашей работы, и потому вы мне нужны. Я сделаю из вас настоящего ученого, с холодным железным рассудком. Я направлю ваши страсти, куда следует. И вытравлю страстишки!
Кэви начал ходить взад и вперед по комнате. Никогда еще я не видел его таким раздраженным.
— То, что вы видели, — сущий пустяк, — продолжал он, — придет время, и я покажу вам такое, чего не в состоянии представить ни один смертный. Да, да, но вы должны работать, вы должны оправдать доверие, которое я собираюсь вам оказать. Молчите? — Кэви вонзил в меня колючий взгляд.
Что мог я ему ответить? Все перемешалось в моей голове. Я чувствовал страшную слабость.
— Ну хорошо, — сказал Кэви, видя мое состояние, — на сегодня для вас, пожалуй, слишком много. У вас еще есть время поразмыслить обо всем, а у меня — понаблюдать за вами.
Как лунатик, нащупал я ручку двери и вышел из кабинета на свежий вечерний воздух. Трудно, трудно человеку переживать такие умственные встряски!.. Можно сойти с ума…
Эволюция мертвой мысли
10 апреля
Как много событий случилось за столь короткий промежуток времени! Мне кажется, я прожил долгую-долгую жизнь и бремя пережитого легло на мои плечи. Да, я очень изменился. Профессор прав, он сделал из меня другого человека, но этот человек лишен тех чувств, той острой восприимчивости, которая была ему свойственна раньше. Неужели в этом смысл глубокого абстрагирования? Неужели в этом смысл подлинной науки? Нет, я не хочу верить! Наука рождена жизнью и существует для жизни. Она не отрицает чувств, страстей человека. Кэви сказал: «Я направлю ваши страсти, куда следует». Как понять? Разве можно поступать с человеческими чувствами, как мелиоратор с водой? Знания, разум делают их более глубокими, скрашивают их… Но ведь и они способствуют знаниям! Нет, Кэви в чем-то неправ… Разве он не вложил во все свои исследования страстности? Кто знает, может быть, его заставляет говорить о простых жизненных проявлениях человеческой натуры с таким презрением, нет, с такой ненавистью личная неудача в жизни? Может быть, он пережил глубокую жизненную драму?.. Только бы не упустить мысль… Мне кажется, я нашел правильное объяснение. Да, так оно и было. Много лет тому назад, когда профессор был молод, он встретил девушку, которую звали Мэри, полюбил ее, а она. как часто случается в жизни, не разделила его любви. Мне живо представился их разговор и его окончание. Вот он, гордый, умный, талантливый человек, стоит перед ней. Она унизила его, быть может, не поняла его. Кто знает, возможно она была глупа, легкомысленна, но так случилось… Протекли годы… Он продолжал любить, но рядом с любовью крепли ненависть и презрение. И вот месть… Он решил создать пародию, механическую пародию. Сколько знаний, сколько адской изобретательности. Он создал другую Мэри, такую, которая слепо исполняла его волю, во всем подчинялась ему. Но произошло невероятное. Ни о чем не зная, ничего не подозревая, я привнес в этот механический организм новое. В удивительном механизме появилось нечто похожее на чувство. Слепо покорная Мэри изменилась, восстала против профессора. Она, которой неведомо было прошлое, повторила то, что он считал неповторимым.
Но так ли? Я вновь начинаю сомневаться. Я построил мысленно цепь событий, в которой все слишком просто объясняется.
Профессор предупредил меня, что в восемь вечера в его кабинете будет ученый совет. Он стал как будто больше доверять мне, но я ему не верю.
Вечером в назначенный час я вошел в кабинет профессора. В нем было тесно от присутствующих. В соседстве со мной восседал высокий, худой, всегда гладко выбритый Мод, старший научный сотрудник института. Рядом старший лаборант Бенье, молодой человек лет двадцати пяти, белобрысый и веснушчатый. Затем Старкер, черный и вертлявый, нервный. Кэмпер, как обычно, забился в дальний угол. Сидели молча, изредка перебрасываясь словами. Была и Мэри, исполнявшая роль секретаря. Я невольно остановил на ней взгляд, и ощущение чего-то чуждого, бездушного и злого наполнило меня. С Мэри я перевел взгляд на другие лица. Кто они? Вот уже четыре месяца, как я в институте, а почти с ними не знаком, исключая Кэмпера и Мэри. Может быть… (невольная догадка заставила меня испытать неприятный холодок) может быть, они такие же, как Мэри? Я принялся изучать каждое лицо. И чем больше я всматривался в их глаза, в их черты, тем больше убеждался… Нет. Между нами не было живой человеческой связи, не было того чувства единения, которое свойственно коллективу. Что это, нелепая комедия? Очередная выдумка профессора?
Вошел Кэви. Безо всяких вступлений он перешел к делу.
— Наши уважаемые шефы («Кто они?» — мелькнуло у меня в голове) весьма заинтересованы в завершении работы.
«Что за работа?» — раздумывал я. За все время пребывания в институте я трудился на каком-то узком участке общего дела, не имея о нем в целом никакого представления. Я утешал себя, что еще не настало время, когда мне могут доверить решение общих вопросов, был скромен и ненастойчив. Но сейчас во мне зажглось желание возразить профессору во всем, что он скажет.
— Мною получено от господина Стокса письмо, в котором он намекает на возможность скорейшего завершения проблемы «А». По разделу «А» работают ваши лаборатории, — обратился он к Моду. — Как обстоят дела?
— Отлично, — ответил тот и кратко изложил результаты.
— А у вас? — обратил Кэви свой взгляд на Старкера.
— Все хорошо, профессор.
— У вас? — обратился Кэви к Бенье. Едва выслушав ответы, он обращался к другим и получал быстрые, словно заученные, рапорты.
«Комедия, комедия, — думал между тем я, испытывая сильнейшее раздражение. — Он наслаждается властью над этими подобиями людей, он создает имитацию ученого собрания».
Меня и Кэмпера Кэви вопросами обошел. Он перешел к краткому заключению.
— Я думаю, уважаемые коллеги, — заявил он с улыбкой, что на сегодня наши дела идут в строгом соответствии с программой Мы можем послать вполне утешительное письмо господину Стоксу. Надеюсь, вы согласны.
— Согласны, — как эхо, повторило несколько голосов.
— Не согласен, — поднялся я со стула, — повторяю, не согласен? Что это, ученое собрание? Мне неясно, для чего все наши вычисления, вся наша работа! А вам. — я впился глазами в присутствующих, — вам ясно? Молчите…
Кэви попыхивал сигарой и невозмутимо улыбался каким-то своим мыслям. Кэмпер задумчиво уставился в окно. Ему, как и мне, претила эта комедия.
— Не смею задерживать вас, господа, — сказал Кэви с нарочитой любезностью. — Да, простите, мистер Крафт, — будто бы спохватился он. — Еще несколько минут…
Я остановился. Мы молчали. Даже профессор, этот человек, так владеющий собой, был явно в минутной растерянности. Я видел, он не знает, с чего начать.
— Скажите откровенно, мистер Джон, — спросил он наконец. — вам ведь все это кажется немного странным?
— Да, профессор, не только странным, но, извините, нелепым.
Кэви нахмурился.
— Вы излишне возбудимы, в этом первый ваш большой недостаток. Второе, вы привыкли к умственным шаблонам, устоявшимся шаблонам человеческого мышления Неудивительно. Плод воспитания, плод устойчивого общественного гипноза. Гм… Я вот размышляю, выдержите ли вы то, что я вам покажу, не повлечет ли это за собой печальные последствия. Впрочем, последствия — чепуха!
Я выжидательно смотрел на профессора, а он колебался. прежде чем принять какое-то неизвестное мне решение.
— Я уже говорил вам, мистер Джон, что нахожу вас достаточно способным для моего большого дела. Но вы должны отбросить ваш природный негативизм и меньше, меньше копаться в самом себе! Пойдемте.
Кэви открыл дверь второго кабинета, и мы прошли туда. Как я писал уже, это было сравнительно небольшое помещение, заваленное книгами, чертежами, приборами. Все это загромождало столы, полки, лежало на покрытом линолеумом полу.
Добрую четверть комнаты занимал большой шкаф черного дерева, плотно приставленный к стене.
Я обежал взглядом помещение, в котором впервые явилась мне страшная разгадка. Тщетно пытался представить себе, что намеревается показать мне профессор. Ничто не привлекало взгляда. Книги? Чертежи? Какой-нибудь хитрый прибор?
Между тем Кэви долго шарил рукой по карманам, извлек наконец, большой ключ и подошел к шкафу. «Ну, так и есть, подумал я, — он хочет показать мне какие-то проекты». Щелкнул замок, и за распахнутыми дверцами шкафа я, вопреки ожиданиям, увидел не полки с книгами и папками, а сплошную мелкоячеистую металлическую сетку. В ней была небольшая дверка, обтянутая той же сеткой. Кэви достал еще один ключ и открыл дверку. Щелкнул выключатель, и при свете электроламп я увидел внутри шкафа квадратное помещение с двумя кожаными сидениями, одно напротив другого. Я смотрел с недоумением, ничего не понимая. И вдруг в голове мелькнуло: «Лифт!»
Профессор жестом пригласил меня войти.
Мы уселись друг против друга на мягких кожаных сиденьях. Кэви тронул кнопку, и я почувствовал, что мы скользим вниз. Спуск был очень большой, как я полагаю, не меньше тридцати метров.
Выйдя из кабины, я увидел, что мы находимся в огромном совершенно пустом зале с куполообразным, матово светящимся потолком. В центре его поднимается большая, метра полтора в диаметре, металлическая колонна, внутри которой — лифт. От зала по радиусам расходятся в стороны восемь сводчатых, ярко освещенных коридоров. Над каждым из них на светящемся голубом плафоне отчетливо видны римские цифры, последовательно от одного до восьми. Пол зала покрыт черными и белыми плитками, в шахматном порядке. Такой же шахматный рисунок узким кольцом опоясывает зал по верхнему краю стены. Потолок сводчатый облицован плитками шестигранной формы, покрытыми люминесцентным составом. Состав дает приятное голубое свечение, отчего свод напоминает вечернее небо. Все это очень красиво и в то же время подавляюще! Профессор сделал знак следовать за ним. Мы направились в один из коридоров, над которым выделялась римская цифра «I». Коридор уходил вдаль. Он имел в ширину метров шесть и столько же примерно в высоту. Освещался он большими голубыми плафонами, расположенными с двух сторон на расстоянии метров десяти один от другого. На каждом плафоне чернели большие порядковые арабские цифры, с правой стороны — четные, с левой — нечетные. Стены гладкие. Я не мог определить, из чего они сделаны — из металла или какого-либо другого материала. Щелкнув ногтем по стене, я почувствовал легкую вибрацию, очевидно, это была обшивка толщиной миллиметров пять, неплотно прилегающая к кирпичной кладке. В коридоре стояла полная тишина. Наши шаги гулко отдавались вокруг. Впрочем, мне казалось, что весь воздух наполнен легкой, едва ощутимой вибрацией, что он словно наэлектризован, пронизан невидимыми излучениями. Мы шли и шли, профессор, не оборачиваясь, — впереди, я — за ним. Наконец он остановился перед плафоном, на котором была цифра 20.
— Здесь, — проговорил Кэви и нажал невидимую кнопку. Обшивка стены под плафоном поползла в стороны, и мы оказались перед дверью, ведущей в небольшой боковой проход.
— Идемте, — Кэви вошел в проход, я последовал за ним. Пройдя метров десять, мы оказались в просторном, хорошо освещенном помещении, вдоль стен которого выстроились металлические шкафы с огромными подвижными раструбами наверху. При звуке наших шагов раструбы быстро и бесшумно повернулись в нашу сторону. В дальнем конце комнаты стоял небольшой диван и рядом — столик с магнитофоном.
— Это семья музыкантов, — произнес профессор.
— Музыкантов? — переспросил я, не веря своим ушам.
— Вы удивлены?
Кэви достал из маленького настенного шкафчика рулон с магнитной лентой и зарядил магнитофон.
— Вот послушайте, — он включил магнитофон и сел на диван.
Полились чудесные звуки какой-то незнакомой мелодии. Помещение отличалось великолепным резонансом. Я заслушался. Звуки рождали почти зримые образы. Я видел море, сверкающее зеленоватыми холодными валами, лес, освещенный пламенем заката, и разбежавшиеся по небу перистые облака. Передо мной возникла шумная многоголосая толпа… Но вот исчезла и она, и я увидел полутемный кабинет и ученого, склонившегося над своими рукописями. На лице его — напряженная работа мысли. Кто он? Кажется… я его знаю. Да ведь это же Кэви! Я внезапно осознал, что смотрю на него, вытаращив глаза, а он сидит и улыбается своей непонятной улыбкой. Магнитофон умолк, Кэви убрал рулон с лентой в шкафчик.
— Нравится? — спросил он.
— Что за гипноз! — вырвалось у меня. — Я почти галлюцинировал. Так воздействовать на слушателя мог только Паганини!
Кэви усмехнулся.
— Паганини? Нет, пожалуй, он не смог бы достигнуть такого психологического эффекта.
— Но, профессор, кто автор этой музыки? Мне она совершенно незнакома.
Кэви загадочно посмотрел на меня.
— Машина.
— Машина? Вы смеетесь!
— Нет. Перед вами сложнейшие кибернетические системы. Внутри шкафов заключено так называемое резонаторное устройство. Вы, конечно, имеете представление о строении органа слуха у человека, но я все же кратко напомню. Так вот, слуховым аппаратом является внутреннее ухо, а точнее — кортиев орган. Он связан с мембраной, напоминающий невиданной сложности арфу, которая состоит из 24000 упругих волокон — это тончайшие струны слухового аппарата. Волокна настроены на разные тоны. Это — резонаторы. То же самое имеется и здесь. Разница лишь в сложности. В шкафах проходят миллионы ферромагнитных струн. Они способны резонировать самым разнообразным звуковым, ультразвуковым, инфразвуковым воздействиям. Во внутреннем ухе человека происходит переработка физического процесса — звука — в физиологический процесс — нервное возбуждение. Последнее по специальным нервам достигает слухового отдела мозга. Вот там-то звуковая информация трансформируется в сложнейшие процессы ощущения и восприятия. Говоря словами известного ученого, внешние сигналы не принимаются в чистом виде, а проходят через преобразующую силу аппаратов — живых или искусственно созданных. Взгляните…
Профессор нажал на кнопку, в стене около шкафа открылось небольшое круглое окно, через которое просматривалось длинное, метров в десять, помещение. Шкаф представлял лишь наружный выступ этого помещения. Все оно заполнено сложнейшим устройством. Я различал нечто вроде тончайшей многорядной платино-германиевой сетки, в промежутках которой переливалось всеми цветами какое-то аморфное вещество. Оно словно скользило по поверхности микроскопических ячеек. Мерцающий свет причудливо отражался на стенах.
Видя мое недоумение, Кэви пояснил:
— Это и есть мозговой отдел машины, а выражаясь техническим языком, — запоминающее устройство и интеграционный механизм. Информация, поступающая от резонаторногр устройства, интегрируется здесь в одно сложное, если можно так выразиться, электромагнитное звучание. Чтобы вам было ясней, приведу пример: человек воспринимает мелодию не как простую сумму, последовательность звуков, а как гармоничное целое. Причем в зависимости от внутреннего состояния человека одна и та же мелодия воспринимается им по-разному. Но об этом после… В этой сложнейшей системе вы не видите привычных вашему глазу деталей. Это… электроплазма, или можно придумать другое, более удачное название. Одним словом, система, чрезвычайно чуткая и динамичная. Память машины определяется не числом известных вам триггерных ячеек, а молекулярной структурой плазмы. Молекулярные ячейки… Представляете? Их сотни миллиардов. Расположение молекул определяет структуру памяти. Интегратор обладает и словесной памятью. Он получает информации от резонаторного устройства фонем и от экранов, на которые могут проектироваться печатные и письменные буквы и нотные знаки.
— Позвольте, ведь машина, как вы утверждаете, способна к композиторской деятельности, а композиция не то же, что математическое вычисление…
— Вы правы, но об этом я скажу позднее. Они получили хорошее музыкальное образование… Принцип научения машин творческой деятельности не нов. Вспомните: французская «Каллиопа» занималась «литературным творчеством», другая машина, запомнившая около ста популярных песенок, сама фабриковала им подобные. Это были вычислительные машины. Мои же обладают индивидуальными свойствами. Получение звуковой информации, ее анализ и интеграция — только первый, притом относительно простой этап их деятельности, второй, значительно более сложный — творчество.
— Но ведь для того, чтобы воспроизвести в художественной форме те или иные образы, нужно живые мироощущение, эмоциональное восприятие окружающего, нужна острая впечатлительность. Разве мыслимо это для ваших машин, спрятанных в глубоком подземелье? Притом, — продолжал я, — человек самый рядовой воспринимает мир, жизнь, природу всеми фибрами своего тела. Ваши же механизмы способны лишь к одностороннему восприятию, например, к звуковому.
Кэви внимательно и несколько задумчиво слушал меня. Он ответил не сразу.
— Мне нравится ваш критический подход, — наконец заговорил он, — но я предвидел возражения. Физиологам и психологам известен закон ассоциаций. Вид какого-нибудь здания может ассоциироваться с представлением о человеке, который в нем жил. В тех машинах, что перед вами, могут ассоциироваться знаки, слова и звуки.
— Ну хорошо, — упорствовал я, — но все же, как довести до ваших машин все многообразие звуковых, зрительных и прочих физических и химических воздействий, столь щедро предъявляемых природой человеку? Как добиться этого здесь, в подземелье?
— Вы забываете о достижениях нашего века, — улыбнулся Кэви, — я разумею радио, телевидение.
— Но ведь это не все! Ведь тысячи запахов, дуновенье ветра…
— Ну и что же? Разве современная наука не располагает точными приборами, способными регистрировать все эти состояния природы и трансформировав их в электромагнитные импульсы, передаваемые на большие расстояния? Я опять напомню вам слова того же ученого: «У нас есть машина, работа которой обусловлена ее зависимостью от внешнего мира и от происходящих там событий, и мы располагаем этой машиной уже в течение известного времени».
— Не могу согласиться, нет, — упорствовал я, — в природе, в многообразном мире все составляет единое целое, сложнейшую композицию…
— Какой хитрый! — Кэви шутя погрозил мне пальцем. — Вы стараетесь допытаться до всего… Вы хотите знать, как донести до машин саму целостность воздействия. Но об этом говорить еще рано. В этом секрет моего научения, профессионального образования машин… Теория научения машин долгое время подвергалась сомнениям, но сейчас, думаю, сомневаться в этом невозможно. Могу вас уверить: машины можно научить многому, даже слишком многому!
— Но эта произвольность действий, — не унимался я, — ваши пояснения ее не касаются…
— Ха, мистер Джон, вы просто одержимый, не обижайтесь… Я сейчас не буду вам ничего доказывать, а покажу кое-что. Без наглядных примеров это трудно представить.
Минуя анфиладу комнат, мы оказались в большом сводчатом помещении, залитом голубым мерцающим светом. Он придавал всему условность, изменял расстояния и размеры. Вдоль стен, облицованных белым кафелем, поблескивали бесчисленными деталями сложные механизмы. В центре — странное сооружение: вокруг небольшой площадки шесть приборов, закрепленных на длинных гибких штативах. Они напоминали фасеточные глаза насекомых.
— Как вы знаете, — сказал Кэви, — важнейшей частью глаза является сетчатка, которая содержит около ста сорока миллионов светочувствительных элементов — палочек и колбочек. Эти «глаза» тоже имеют сетчатку — мозаичный катод, содержащий более двухсот миллионов микрофотоэлементов. Сложная система конденсаторов и ламп обеспечивает усиление фотоимпульсов Чувствительность такого электронного глаза чрезвычайно велика. Он реагирует не только на видимые, но и на ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Если на площадку поместить какой-либо предмет, каждый глаз будет видеть его со своей стороны. Информация же ото всех приборов поступит в общее иитегрирующее устройство. Следовательно, машина увидит предмет сразу со всех сторон.
— Но как же эти различные изображения могут ассоциироваться в мозгу машины в один зрительный образ?
— Да, нам, людям, трудно представить… Как, например, можно видеть человека одновременно в фас и профиль? Широта зрительного «впечатления» у машины значительно больше, чем у человека, алгоритм неизмеримо сложнее.
— Но, профессор, ведь у человека широта зрительного впечатления обусловлена индивидуальным опытом: он многое домысливает… Возьмем, к примеру, представление о величине удаленных предметов…
— Совершенно верно. Но, учтите, последнее обусловлено наличием других ощущений: мышечного, слухового, осязательного, — которые контролируют зрительное. Из этой суммы одновременных и последовательных ощущений и складывается индивидуальный опыт. Почему же у машины не может быть контролирующих устройств? Визуальному определению формы, величины, расстояния могут сопутствовать ультразвуковая локация и радиолокация. Получая информацию по многим каналам, машина обладает огромной возможностью сопоставления. А сейчас я вам продемонстрирую кое-что… Встаньте-ка вот сюда…
Кэви указал на площадку. Я повиновался. Диковинные глаза воззрились на меня со всех сторон. Один из экранов на стеле голубовато засветился. Сначала по нему пробегали бледные волнообразные линии, затем в центре его стали все более и более проступать очертания какого-то темного предмета. Когда изображение стало более ясным, я увидел нечто вроде высокой причудливой вазы.
— Что это, профессор?
— Вы.
— Я!? То есть как? Не пойму!..
— Очень просто! Так видит вас машина. Миллионы цветных люминофоров в точности воспроизводят «ощущение» машины. Вашим глазом это воспринимается как быстро вращающийся предмет. Детали нивелируются… ясность исчезает…
— А машина?
— Об этом позднее… Смотрите.
Щелкнул включатель, и с причудливым изображением стали происходить какие-то сложные изменения: в его средней части стали пробегать горизонтальные кольцевые линии. Сначала они были бледными, потом потемнели, и, наконец, изображение приняло форму вычурного креста.
— И это тоже вы, — усмехнулся Кэви, видя мое недоумение, — я показал вам, как видит вас машина одновременно с боков, сверху и снизу.
Приборы покачивались на своих длинных штативах. На экране возник бледный прозрачный шар, а в нем — пересекающиеся под разными углами темные кольца.
— И это тоже — вы!
— Ничего не пойму!
— Между тем нет ничего проще. Машина видит вас со всех сторон. По тому же закону зрительного нивелирования формы быстро вращающегося предмета вы воспринимаете ее «ощущение» как шар, построенный из пересекающихся колец различной плотности.
— А как же воспринимает машина форму, ее детали?
— Надо полагать, как отклонение от какой-то идеальной формы. Вы, конечно, уже догадываетесь, что наилучшими для восприятия являются форма шара, форма диска, яйца, цилиндра, в зависимости от того, с каких точек обозревает машина данный предмет. Сейчас вы увидите интересные примеры.
И вот перед нами длинный и высокий зал, вдоль стен которого стоят стеклянные витрины. На стенах в глубоких дорогих рамах картины. На полированных черного дерева постаментах многочисленные скульптуры.
— Это музей, — пояснил профессор, — причем несколько необычный. Все, что вы здесь видите, — дело «рук» машины.
Я внимательно приглядывался к диковинным экспонатам. Из скульптур одни поражали совершенством, другие — нелепостью. Так, например, наряду с красивыми человеческими группами здесь были какие-то уродливые нагромождения кубов, пирамид, цилиндров. Некоторые из них напоминали груды различных минералов. Но чаще всего встречались изваяния округлых предметов от яйцевидной до шарообразной формы. Скульптуры были сделаны из белой пластмассы. Картины на первый взгляд производили впечатление масляной живописи, но, вглядевшись внимательно, я убедился, что они словно напечатаны на материале, напоминающем линолеум. Самым интересным было то, что на них изображалось. Я видел какие-то события, портреты удивительного совершенства, странные пейзажи. Чаще всего встречались полотна с изображением беспорядочно разбросанных геометрических фигур треугольников, ромбов, квадратов, пересекающихся линий. Они были причудливо расцвечены, и, как я заметил, наиболее часто повторялось цветовое сочетание солнечного спектра.
Под витринами находилось великое множество предметов из прозрачной и непрозрачной пластмассы разных цветов. Здесь были и прекрасной резьбы шкатулки и вазы, и изящные статуэтки, встречались предметы непонятной, уродливой формы, порою напоминающие наплывы застывшего воска, порою кристаллы. Я все больше и больше недоумевал. Кэви наблюдал за мной.
— Неправда ли, мистер Джон, интересные сочетания?
— Признаться, я мало понимаю это. Подлинные произведения искусства и… и нечто нелепое…
— Приглядитесь повнимательнее. Вот метаморфозы человеческой фигуры.
На длинном постаменте последовательно были расположены небольшие скульптуры. Первая из них великолепно изображала человеческий торс с изумительно четкой и ясной игрой мышц. Вторая и ряд последующих нивелировали те черты, которые ясно выступали в первой. Чем дальше, тем более бесформенными были они. У одиннадцатой по счету едва очерчивались голова и руки, лица не было. Дальнейшие напоминали деревянных кукол, которые вкладываются одна в другую. От этой грушевидной формы шел переход к круглой. Заканчивалось все несколько неправильной формы шаром.
— Полагаю, смотреть надо в обратном порядке? Это, очевидно, последовательные стадии скульптурной отработки?
— В последнем вы правы, — улыбнулся Кэви, — но порядок тот, в котором вы просматривали… Это, — он показал рукой на торс, — начало, это, — он указал на шар, — завершение.
— От совершенства — к примитиву! — воскликнул я.
— Как знать, — усмехнулся Кэви, — может быть, здесь глубокий смысл…
— И в этом, и в этом, и в этом, — я указывал на картины, скульптуры, экспонаты, — во всем, вы хотите сказать, есть та же последовательность?
— Совершенно верно. — Кэви помолчал, видимо. обдумывал, как лучше подойти к теме разговора. — В основе всех ранее известных кибернетических машин. — продолжал он, — лежит принцип последовательности физических процессов, протекающих на определенном фоне. То и другое установлено человеком. Деятельность машины суть интервал между двумя пунктами — задание — результат. Первое и второе интересует лишь человека, но не машину. Вы видите иное: никто не дал машинам задания, не определил результата.
— Вы хотите сказать, что машина действовала сама собой?
— Совершенно верно. Но я сделаю небольшое теоретическое отступление… В чем отличие живого от неживого? Прежде всего — в активности! А чем обеспечивается последняя? Энергетическим перевесом организма над окружающей средой, или, как я назову, энергетическим неравновесием. Организм — мощный природный аккумулятор. Он нуждается постоянно в энергетических ресурсах. Освобождение энергии, необходимой для проявления его активности, достигается при участии ферментативных процессов. Итак, первый принцип активности — энергетическое неравновесие.
Далее, активность организма мыслится лишь в определенной внешней ситуации, на фоне действия различных факторов, положительных, отрицательных, индифферентных. Соответственно и организм отвечает на их действие положительно, отрицательно или относительно индифферентно. Так формируется ОТНОШЕНИЕ организма к окружающему, его эмоциональный фон. Это и есть стимул для постоянной адаптации организма. Но чрезвычайно важно учитывать также функциональную и структурную целостность организма, позволяющую ему соотносить свое внутреннее с окружающим. Итак, второй принцип активности — адаптационный.
А теперь представьте: машина обладает огромным энергетическим резервом, обеспечивающим ее постоянную активность в форме какой-то специфической деятельности. В ней создан постоянный рабочий импульс. Направление деятельности определяется комплексом внешних воздействий. Далее машина характеризуется «функциональной» целостностью. Но ведь, как бы она ни была совершенна, всегда найдется какое-то слабее звено. И вот машина действует по линии устранения этого слабого звена. По мере устранения недостатков меняется общий фон, а на нем выявляются новые слабые звенья. Так создается постоянный импульс самосовершенствования машины. Одновременно совершенствуется и ее деятельность, изменяется ее отношение к окружающему.
— А третий принцип?
— Вам нужен третий? Хорошо. Машины приучаются к определенной человеческой норме восприятия окружающего. В этом их воспитание, образование. Они научаются выделять из окружающего все новое, необычное… Вспомните Мэри…
Кэви ехидно улыбнулся.
— Еще один вопрос, профессор. В каком отношении к сказанному находится то, что я видел сейчас?
— Сложный вопрос! Вы видели очень мало. Тысячную часть… Все огромное подземное царство машин находится в постоянной напряженной деятельности. Вы видели ее маленькие результаты: от многоформия к простым формам. В этом — мудрость… И это назвал я эволюцией мертвой мысли.
Химеры
20 апреля
Сегодня профессор вновь пригласил меня в подземное путешествие. И вот мы снова в центральном зале с радиально расходящимися коридорами.
— Вы увидите многое, очень многое, — загадочно сказал он.
Мы ходили по бесконечно длинным коридорам. Перед нами открывались двери в ярко освещенные помещения, заставленные сложными механизмами и приборами. Я слышал легкое гудение и ощущал едва уловимую вибрацию.
Помещения соединялись неширокими коридорчиками с голубовато светящимися плафонами. Стены были облицованы белым кафелем, и в них, наподобие корабельных иллюминаторов, виднелись круглые окна. Я потерял ориентировку. Если б не профессор, мне не скоро бы удалось выбраться отсюда.
В стене открылась дверка. Это был круговой лифт. Мы вошли в кабину и помчались по огромной окружности. Сколько мы проехали — трудно сказать, возможно, метров пятьдесят. Лифт остановился. Выйдя из него, мы оказались в небольшом, не очень высоком зале цилиндрической формы. Стены из черного мрамора с белым орнаментом наверху. Пол выложен белой плиткой. Потолок — огромный круглый светящийся плафон. В зале стояла какая-то непередаваемая, настораживающая тишина. Я огляделся.
— Это преддверие машинного царства, — заговорил Кэви. Вы увидите машины, созданные без участия человека. Они обладают специфическими свойствами. Предупреждаю: будьте осторожны. Многие из них подвижны. Неизвестно, как прореагируют они на нового человека.
Кэви нажал ногой кнопку, и квадратная площадка в полу, на которой мы стояли, опустила нас на несколько метров. Мы оказались в сравнительно невысоком круглом помещении. Оно освещалось через образовавшееся в потолке квадратное отверстие и несколькими плафонами на стенах. Прямо перед нами была огромная дверь, над которой рубиново переливался электросигнал.
— Вот здесь, — Кэви указал рукой на дверь.
Я услышал за нею не то легкий шорох, не то какое-то стрекотание.
— Их нужно информировать, — сказал Кэви, — осторожность не мешает.
На небольшом щитке, расположенном справа от двери, он быстро набрал какие-то цифры и знаки. Звуки за дверью усилились. Красный сигнал стал меркнуть, мигать и, наконец, сменился на зеленый. Огромные створки двери поползли в стороны, открывая длинную комнату, залитую зеленоватым светом. Вдоль стен, справа и слева, шли сплошные черные полированные постаменты, а на них… Трудно найти слова… Все так необычно… На постаментах расположились диковинные не то механизмы, не то существа. Они блестели бесчисленными деталями. Их обтекаемые тела сверкали полировкой. Они напоминали огромных насекомых. Длинные цепкие членистые лапы. Большие шарообразные головы с фасеточными глазами. Фасетки переливались всеми цветами радуги. Свет жидким пламенем разливался по металлу. Тонкие антенны, как усики жуков, тихо колыхались, Мы осторожно шли между двумя рядами этих страшилищ, и я заметил, что они следят за нами. При нашем приближении их глаза светились ярче, головы-шары тихо поворачивались, усики тянулись навстречу.
— Спокойно! — предупредил Кэви. — Не делайте резких движений. Взгляните…
Мы остановились. Я видел, что все машины заняты каким-то непонятным делом: лапы тянулись к пультам на постаментах, щелкали крошечные рычажки, скользили магнитные ленты, синие змейки прочерчивали экраны.
— Что они делают? — тихо спросил я.
Кэви замялся.
— Не знаю… не скажу… Если бы хоть одного взять отсюда. Но это рискованно…
Увлекшись рассматриванием, я непроизвольно сделал шаг вперед и вдруг заметил, что ближайшая машина тихо наклоняется ко мне, протягивая колченогие рычаги и усики.
— Отойдите, отойдите, — дернул меня за рукав Кэви.
Уродливое создание тихо спускало ноги-рычаги с постамента на пол.
— Плохо дело, — прошептал Кэви. — Машина заинтересовалась вами… У вас есть часы?
— Есть, — недоумевая, ответил я.
— Какой марки?
— «Омега».
— Так и знал, — сказал Кэви, — таких здесь нет… У этих механизмов особое электромагнитное чутье…
Он осторожно отвел меня к небольшому простенку и распахнул узенькую дверцу.
— Входите.
Мы оказались в крошечном помещении.
— Снимите часы.
Я послушно снял часы. Кэви закрыл дверь и приоткрыл в ней маленькое круглое оконце-иллюминатор, защищенное толстым органическим стеклом.
— Посмотрите…
Я заглянул в иллюминатор. Прямо перед дверью я увидел огромный, гладко полированный цилиндрический корпус машины, тихо покачивающийся на блестящих хромированных коленчатых рычагах. Зеленый свет жидко растекался по его поверхности Огромный металлический шар-голова, переливаясь по бокам тысячью фасеток, тихо вращался то на пол-оборота вправо, то на пол-оборота влево. Мне стало не по себе. Что нужно от нас этому чудовищному механизму? Что может он сделать с нами?
— А можем мы уйти отсюда другим путем?
— К сожалению, нет.
— Как! Но ведь… В каком мы оказались положении!
Кэви улыбнулся. Ему, видимо, доставляли удовольствие мой страх и замешательство.
— Да, признайтесь, что в таком положении вы оказались первый раз. Не сомневаюсь, вы лучше бы чувствовали себя, если бы за дверью нас сторожил хищный зверь… Впрочем, не беспокойтесь.
Он достал небольшой прозрачный футляр.
— Спрячьте часы. Других каких-нибудь вещей с вами нет?
— Только то, что на мне…
— Ну ничего, подождем немного.
Я наблюдал через иллюминатор. Загадочный механизм упрямо раскачивался около двери. Но вот он стал медленно двигаться в сторону постамента. Достигнув его, он поднял на лапах-рычагах свое огромное тяжелое тело и наконец занял прежнее место.
— А теперь пойдемте, — Кэви тронул задвижку.
— Постойте! — Я невольно выбросил вперед руку, испытывая прилив страха и малодушия, но увидел презрительную улыбку профессора.
— Спокойно. Идите за мной.
Мы быстро и осторожно пошли через необычное помещение. Я косился глазом на машины, но они, как видно, утратили ко мне всякий интерес и занимались своим непонятным делом. Мы вышли через противоположную дверь, и я облегченно вздохнул, когда неприятная комната осталась позади. Мы шли по легкому мостику, пересекающему большое круглое помещение. Внизу под нами, на глубине пяти метров, по гладкому белому полю скользили блестящие металлические колпаки. Они напоминали не то огромных жуков, не то — черепах. У каждого спереди голубовато переливался овальный выпуклый электроглаз. Появляясь один за другим из нишеобразного хода, они, описав дугу вдоль стены, исчезали в противоположном. На смену им появлялись все новые и новые…
— А это что такое?..
— Tсc… — Кэви приложил палец к губам.
При звуке моего голоса машины изменили движение. Они стали группироваться под нами. Тонкие, как иглы, лучи их ярко засветившихся глаз, подобно лучам прожекторов, пересекались в разных направлениях. Они нащупывали нас, старались поймать в фокус.
— Скорее! — Кэви дернул меня за рукав, и, перебежав мостик, мы скрылись в противоположной двери. В стене узкого коридорчика сиял огромный иллюминатор, через который я увидел длинный цех. Меня поразило многообразие механизмов; станки, конвейеры, трансмиссии. Многие из конструкций мне были знакомы. Подземный автоматизированный завод… Но вдоль ряда станков вереницей двигались загадочные колпаки. Временами они задерживались у какого-нибудь из станков и вновь продолжали движение. Я увидел также механизмы, напоминающие огромных сверчков. Они протягивали к пультам свои длинные членистые лапы.
— Производство!
— Совершенно верно. Но необычное… Оно работает по планам, не предусмотренным человеком. Но вас интересует наука… Пойдемте…
Бесконечная анфилада высоких мрачных комнат. Тишина. Блеск черного полированного камня. По карнизу — маленькие зеленые плафоны. Белый мраморный пол. А по углам на тяжелых мраморных постаментах огромные черные скульптуры самых причудливых форм. На застывших лицах — злое, нечеловеческое выражение. Глаза горят рубиновым пламенем. Огненные зрачки следят за нами.
— Химеры! — воскликнул я, невольно отступая.
— Можете называть так…
— Кто их создал?
— Машины…
— Но почему такая уродливая форма?
— Не знаю.
— Ведь они неподвижны!
— Они имеют тысячи подвижных исполнителей.
— Профессор, это непонятно! Поясните же!
— Это — ученые, это — философы… Они связаны со всей огромной подземной системой.
— А средства коммуникации?
— Обратите внимание на легкую вибрацию. Это высокочастотные колебания.
— Вы говорили, что ваши машины усвоили речь…
— Ха, речь… — презрительно усмехнулся Кэви, — наша человеческая речь слишком несовершенна для них. Сколько мы должны сказать слов, чтобы выразить даже простую мысль? Минимум, несколько… Сколько мы можем сказать слов в минуту? Допустим, пятьдесят. Они произносятся с неумолимой последовательностью. Таким образом, мы, люди, располагаем очень громоздкой и очень инертной системой общения. Словесное оформление часто отстает от мысли… А они могут фронтально передавать друг другу тысячи, десятки тысяч мыслей…
— Но действительно ли это — мысли в человеческом понимании?
— Э! — Кэви досадливо махнул рукой. — Так ли уж много понимаем мы в этом отношении.
Анфиладу комнат замыкал большой квадратный зал. Я невольно вздрогнул, взглянув на гигантское скульптурное изображение, напоминающее ископаемого ящера. Неподвижный колосс широко раскинул крылья вдоль противоположной стены. Я мысленно ощутил ветер от их сильного взмаха. Взгромоздившись на высокий постамент, чудовище, казалось, наклонялось над нами все ниже и ниже. Голова посажена на длинной изогнутой шее. Но поражало лицо — человеческое лицо с острыми, искаженными чертами. Глаза рубиново сверкали. Змеилась загадочная улыбка.
— Вот, — тихо сказал Кэви, — самый главный… Спросите его о чем-нибудь…
Я молчал. Желания говорить не было. На правой и левой стенах тысячами огней сверкали огромные щиты. Извилистые линии появлялись и исчезали на экранах.
— Ну что ж, пойдемте! — усмехнулся Кэви.
И вот мы снова в круглом помещении у подножия металлической колонны. Распахнулась маленькая дверка, и я с облегчением вошел в лифт. Через минуту мы сидели в кабинете профессора. Я рассеянно блуждал взглядом из угла в угол. Кэви внимательно смотрел на меня.
— Молчите?
— Я очень устал…
— Не удивляюсь!
— А какое значение имеет это для будущего?
— Будущего? — лицо Кэви исказила презрительная усмешка. — О, несносная манера мыслить! — продолжал он. — Будущее… это же фикция! Его нет!
— Но…
— Никаких «но»!
— Не верю, — перебил его я, — не могу и не хочу верить! Человек крепко связан и с прошлым, и с будущим. В прошлом вся его жизнь, в будущем — весь смысл его жизни!..
— Сколько ненужных слов! — перебил меня Кэви — Слушайте же, какова цена вашему будущему. Вы видели машины, которые в одно мгновенье могут решать такие вопросы и создавать такие шедевры, которые и не снились человеку. В это мгновение спрессованы годы ваших стремлений, годы надежд, годы труда. Вдумайтесь: цель и ее свершение совмещены во времени!
— Странно…
— Ничего странного! Вы привыкли к эмоциональной оценке фактов. А эмоции — вредная вещь!
— Но почему же?
— Я считаю, что у человека эмоции приняли извращенные формы. Зверь в этом отношении ближе к истине. И машина… Тигр убивает лань потому, что голоден. Это — закон! Машина заменяет деталь потому, что не может нормально работать. И это — закон! А ваши эмоции? Ваши вечные балансирования на краю добра и зла? Ваши соблазны? Да и сами пресловутые понятия… Злодей, например, считает злом то, что помешало ему совершить злодеяние.
Помолчав немного, Кэви продолжал:
— Я показал вам все не случайно и беседую с вами так много не зря! Я решил дать вам задание… Сложное, ответственное… Многие тайны подземного мира машин неизвестны и мне. Так вот, вы пойдете туда, в подземный мир. Вы будете бродить по его дорогам, его закоулкам… Сживетесь с его обитателями и раздобудете для меня их тайны. Вам поможет в этом человеческая природа. Машина знает в тысячи раз больше, она работает в тысячи раз быстрее и лучше… Но у нее нет вашей хитрости. В этом ваш перевес. Смотрите же, не научите машины этому! Вспомните Мэри!
Я молчал. Меня и увлекало, и страшило предложение профессора.
— Путь великих тайн ожидает вас, — продолжал он торжественно, — великую мудрость познаете вы. Ха! Вы с вашим неповоротливым человеческим умом перехитрите стремительно летящую машинную мысль… Как птицу… Идите же. На сегодня довольно.
Во имя чего?
10 мая
Темный загадочный мир… Мир чудовищных машин и непознанных тайн. Вот уже две недели, как я хожу по его подземным дорогам. Иду и не знаю, куда. А его бездушные обитатели смотрят на меня. Что нужно им? Что нужно мне? Все чаще и чаще я испытываю странное чувство раздвоенности. Глядя вокруг, я словно просыпаюсь и на мгновенье остро осознаю реальность. Затем видимое принимает условные формы, на его место становится пережитое ранее. И нет границы между ними. Я просыпаюсь вновь…
Не забыть мой первый самостоятельный поход в подземелье Кэви пригласил меня в кабинет, усадил в кресло и развернул передо мной планы. Их было пять. Они соответствовали пяти ярусам. Линии, кружки, квадратики… коридоры, проходы, помещения. Некоторые обозначены пунктиром.
— Это предполагаемые, — сказал профессор, — вам предстоит уточнить…
— С чего начать?
— С наиболее трудного.
— Пятый ярус?
— Именно!
— Но как попасть туда?
— Э, нет ничего проще! Прямым путем из моего кабинета…
Вспоминаю стремительный полет вниз. Легкий щелчок отскочившей дверки лифта… Пятый ярус… Тусклый, неприветливый… Стены и пол из дикого камня. Сыро и глухо…
Пробирался по какому-то бесконечно длинному и абсолютно темному коридору. Фонарик не догадался захватить и планом, следовательно, пользоваться не мог. Остановился. Стал раздумывать: куда идти? Из раздумья меня вывел незнакомый звук, напоминающий чью-то тяжелую поступь. Я испытал приступ малодушного страха. Бежал в темноте, а шаги неумолимо приближались. Знакомо ли вам чувство неизбежности? Воля покидает тебя. Контроль над поступками исчезает. Я бесцельно ощупывал шероховатую стену, и вдруг рука почувствовала болт. Ломая ногти, старался его выдернуть. Болт поддавался туго. Холодный пот стекал по лицу, оставляя на губах привкус соли. Неожиданно болт вышел из паза, скрипнули петли, и я протиснулся в узкую щель. Едва успел захлопнуть железную створку. как что-то огромное, тяжелое надвинулось и заполнило там, за дверью, все пространство коридора.
Я был счастлив, что избавился от неведомой опасности, но темнота и тишина навели меня на другие тревожные мысли. Где я? Может быть, в ловушке? Спохватился ли Кэви? А может быть, он сознательно послал меня на верную гибель, решил избавиться от свидетеля его тайн?
Дверь в коридор не поддавалась моим усилиям. В темноте я потерял всякое самообладание и то бессильно опускался на пол, то вновь шарил руками по стенам. И вот под пальцами оказалась кнопка. Легкий нажим — и яркий свет засиял надо мной. Это было неожиданно и радостно Маленькая квадратная комната освещалась сверху плафонами. На стене — щиток с ДВУМЯ вертикальными рядами кнопок, по пять в каждом. Странно… Кто пользуется ими? Машины?
Я нажимал на кнопки произвольно, меняя последовательность. Одна из стен, противоположная двери в коридор, вибрировала и гудела А что если левые — сверху вниз, а правые снизу вверх? Я угадал: стена поднялась, оказывается, я был в тупике длинного, узкого, ярко освещенного коридора.
Из коридора двери вели в боковые помещения. Оглядываясь по сторонам, ожидая какого-нибудь нового сюрприза, я вступил в бесконечную анфиладу комнат. Комнаты были пустыми и освещались сверху плафонами. В одной из них я увидел большой кожаный диван. Странно… Кому он нужен? Машинам?.. Я сел на диван и задумался. Легкий шелестящий звук заставил меня очнуться. Передо мною было нечто странное; небольшой шарик тихо покачивался на трех длинных металлических ножках. Я протянул руку — шарик отклонился, я сделал шаг — шарик отодвинулся на такое же расстояние. Любопытно! Я пытался схватить его, но он был ловок. Когда рука приблизилась, он ощетинился тонкими блестящими иглами, и я почувствовал в пальцах легкое покалывание. Он не безобиден! Отгоняя его, я каждый раз ощущал в пальцах легкое электрическое покалывание. Он агрессивен! Что же делать? Пнуть? А если он взорвется? Я направился к двери, он, издавая громкое стрекотание, — за мной. В другой комнате меня окружили десятки ему подобных. Они выпускали бесчисленные иглы. Я чувствовал множество уколов. А ведь так и погибнуть можно! Я пробежал несколько комнат и закрыл за собой дверь.
Перебегая из комнаты в комнату, я совершенно потерял ориентировку. Гладкие блестящие стены, матово светящиеся плафоны, тупики, повороты… Где же я? Где же я? Сквозь большое круглое окно в стене пробивался красный свет. Я заглянул в него: огромное помещение, освещенное словно багровым пламенем. В нем совершалось какое-то большое движение, причудливые тени бегали по стене.
Сам не зная как, я оказался в тупике. Через небольшой круглый иллюминатор в стене я увидел просторную комнату с куполообразным потолком, залитую ослепительным светом. В центре ее, вокруг приземистого стола, двигались диковинные машины. Они напоминали колченогих чудовищ, которых я однажды видел. На столе в ярком свете рефлектора лежало еще одно такое же.
Я видел, что одни из них придерживали распростертого на столе собрата за длинные металлические лапы, другие регулировали освещение, а двое… Они склонились над своим «пациентом» и осторожно приподняли переднюю стенку его туловища.
Это было так интересно! Я забыл обо всех опасностях и жадно наблюдал, стараясь ничего не пропустить. Передо мною была «операция», невероятная операция, производимая машиной над машиной!
Я видел сложные металлические внутренности. К ним осторожно прикасались железные лапы диковинного «врача». Вот лапы погрузились немного глубже, и между ними мелькнула голубая искра. И в то же мгновенье огромное металлическое тело «пациента» пришло в движение. Он явно хотел освободиться от своих мучителей, но его держали крепко. «Врач» ловко орудовал своими стальными пальцами. Еще один сильный рывок — и «пациент» с грохотом полетел со стола.
Я услышал крик. Это не был голос живого существа — в нем звучал металл, но в нем слышалась боль, злоба, отчаянье? Началась борьба. «Врачи» старались водворить «пациента» на стол, а он отбивался. Наконец ему удалось вырваться из цепких лап. и тут я сообразил, что мне грозит опасность. Помещение, где я находился, сообщалось с «операционной», за мной же был тупик. Нужно было как можно скорее миновать дверь, из которой они могли появиться. Я побежал, слыша за стеной тяжелый топот и шум продолжающейся борьбы. Еще шагов десять. Ноги сами несли меня. Вот она, дверь, а за ней… неожиданное спасение — лифт! Я заскочил в кабину, нажал кнопку…
Что было потом — не помню…
— Крафт… Очнитесь! — долетел до меня голос профессора. В нос бил запах валерьяновки. Открыв глаза. я увидел знакомый кабинет и стоящего рядом Кэви.
— Нервы… нервы… — говорил он, — выпейте капель, успокойтесь. Потом поговорим…
Я не сразу пришел в себя: все пережитое тяжелым кошмаром проносилось перед глазами. Кэви рылся в своих бумагах, предоставив меня самому себе. Постепенно я успокоился.
— Разрешите закурить, профессор.
— Пожалуйста!
Он пододвинул ко мне ящичек с сигарами и уселся напротив. Я с наслаждением затянулся ароматным дымом.
— Ну как, лучше? Так что же с вами приключилось?
— Как я попал сюда, профессор?
— Прямым путем.
— Но ведь я безнадежно заблудился!
— Вам повезло — помогла сигнализация… Так что же приключилось?
Я довольно сбивчиво и непоследовательно рассказ зал ему обо всех удивительных событиях этого вечера. Кэви слушал внимательно.
— Интересно!.. Очень интересно! — заговорил он после того, как я кончил рассказывать. — Так поняли вы то, что видели?
Я молчал.
— Все это сложно… очень сложно! — продолжал он. — Так вот, немного истории… Человек уже давно изобрел машину… Сначала это была грубая конструкция из рычагов и колес, приводимая в движение мускульной силой животных или самого человека. Затем мускульную силу заменили вода, пар, электричество и, наконец, неиссякаемая сила атома. Проблема энергии была и является ныне важнейшей проблемой машинного века.
Какую роль сыграла машина в жизни человека, в жизни общества? Я не хочу касаться именно этой стороны вопроса, я хочу отметить два качественно отличных типа машин:
ПЕРВЫЙ — МАШИНЫ, ЗАМЕНЯЮЩИЕ (ОБЛЕГЧАЮЩИЕ) ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД ЧЕЛОВЕКА;
ВТОРОЙ — МАШИНЫ, ЗАМЕНЯЮЩИЕ (ОБЛЕГЧАЮЩИЕ) УМСТВЕННЫЙ ТРУД ЧЕЛОВЕКА.
Перейдем теперь к третьему, значительно более сложному вопросу.
Что такое машина? Задумывались вы по-настоящему над этим вопросом?
МАШИНА — ЭТО ТАКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ СТОИТ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И ПРИРОДОЙ, МЕЖДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ И ИХ СВЕРШЕНИЕМ.
Машина — это лишь звено в цепи осуществления человеческих потребностей, и она НИКОГДА не МОЖЕТ быть больше, чем это звено. Заметьте, речь идет вовсе не о физических принципах построения той или иной системы, а о МЕСТЕ ее в жизни человека.
Но ведь есть и другие системы, действующие по тем же физическим законам, но занимающие в жизни иное место — живые системы.
Организм, в отличие от машины, имеет свое собственное отношение к окружающей природе. У машины нет своих потребностей, у организма они есть! Это — проявление субъективного…
Субъективное внесло немалую путаницу в научные толкования Оно породило сотни всяких «измов», от которых ученый открещивался, как от нечистой силы. Эти «измы» были своего рода «умственной клеткой» и прежде всего мешали смелому научному сопоставлению разнообразных явлений. Боязнь сопоставлений в большей степени коснулась биологов, она перешла в страховку, в открещивание. Я подчеркиваю: боязнь и познание несовместимы. Было время, когда кибернетика как наука отрицалась. Правда, и тогда были сделаны смелые попытки моделирования биологических процессов. Позднее этот путь получил официальное признание. Я напомню о тех электронных «игрушках», которые свое время экспонировались на выставках… Но все эти «мыши», «черепахи», «белки», «клопы» и «моли» лишь моделировали нервную деятельность животных. У них не было своих собственных потребностей. «Белка» хватала шарик не потому, что он ей был нужен как пища, а потому, что так предусмотрел экспериментатор, «черепаха» двигалась к свету не потому, что свет был ей жизненно необходим. В свое время американский физиолог Леб выдвинул теорию, согласно которой реакции низших организмов осуществляются именно по такому «машинному» принципу. Более того, он считал возможным перенести этот принцип и на высшие формы жизни. Совершенно ясно, что он учитывал лишь общность физических законов между машинной и живой системами, но не принимал к сведению отношение этих систем к окружающему миру.
Моделирование процессов жизнедеятельности вообще и нервной деятельности в частности позволило глубже познать эти процессы, но, согласитесь, то был иной путь познания.
Совершенно новым, я бы сказал необычным, был путь создания таких систем, которые вступили в особые, новые отношения со средой, у которых появилось субъективное отношение к окружающему. Я, что необходим мо подчеркнуть сразу, не признаю субъективное в вашем пошленьком понимании. К черту «самокопание», оно так же вредно для познания, как злоупотребление наркотиками!
Я утверждаю, что дело не в ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ В ДАННОЙ СИСТЕМЕ, а в ОТНОШЕНИИ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. И в этом смысле не имеет значения, какая это система: ОРГАНИЧЕСКАЯ или НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ или ЭЛЕКТРОННАЯ.
То, о чем говорил профессор, было так ново для меня. Но усталость от пережитого сегодня мешала мне достаточно четко воспринять слышимое.
— Вижу, что на сегодня для вас довольно и бесед, и впечатлений, — сказал Кэви и знаком дал понять, что я свободен.
20 мая
Какие странные формы может принимать мысль! Она может двигаться по неведомым путям, независимо от воли. Впрочем, все — бред… Но не в этом дело… Меня сутками беспокоит какой-то навязчивый вопрос. В чем он? Каково его словесное оформление — не знаю… Но он все время подсознательно во мне…
Моя работа — удивительна! Я тихо передвигаюсь по подземным галереям, поднимаюсь и опускаюсь на лифтах, стою на висячих мостиках, у окон иллюминаторов и наблюдаю, наблюдаю, наблюдаю… Порою мне кажется, что я до какой-то степени воспринял форму машинного бытия, что слился с ней. Но это не так. Чаще всего я испытываю подавленность. Невероятная сложность, невероятное совершенство! И все тот же темный, неясный мне вопрос…
Вот он! Я знал, что найду его словесное выражение… Вот он: ВО ИМЯ ЧЕГО?
Как не мог я осознать его раньше? Ведь он жил во мне, кричал во мне, искал выхода.
Я стремлюсь проникнуть в машинную мудрость и предоставить профессору данные… Во имя чего?
Я наблюдаю, как трудятся невероятные машины… Во имя чего?
Я вижу, одни совершенные машины создают другие, еще более совершенные. Во имя чего?
Хорошо же! Я спрошу у них об этом, я получу ответ!
Неумолимый вопрос… На него нет ответа. Я обошел все закоулки подземного царства, я научился понимать машины… Правда, далеко не полностью. Разве можно поспеть мыслью за ними? Машины подавляют.
Боже! Неужели человек так слаб и примитивен! Но в это нельзя поверить, это противоречит всему, всей жизни…
Да, для машин нет ни прошлого, ни будущего, но они находятся в бешеном темпе деятельности. Во имя чего? Может быть, в этом мудрость, как говорил Кэви. Но ведь и он не ответил на вопрос.
Кэви… Этот маньяк… Я ненавижу его! Но где же ответ?
Машины многому научили меня. Я убедился в их удивительных творческих возможностях, но ни одна из них не ответила мне на этот вопрос.
Вот передо мною на огромный постамент взгромоздился нелепый идол. Рядом на тоненьком металлическом стерженьке — микрофон. Я стою у микрофона.
— Вопрос, вопрос, вопрос, — четко говорю я.
Глаза идола разгораются. Он слушает.
— В чем стимул этой непрерывной деятельности, ускоряющегося темпа?
— В совершенствовании, — произносит металлический голос.
— В чем стимул совершенствования?
— В несоответствии частного общему.
— Порочный круг! — восклицаю я. — Но где же ответ, во имя чего? Во имя чего все это?
Идол слушает, молчит… Зажигается красный сигнал «Нет ответа». Почему нет ответа? Ведь есть вопрос? Или на него не может быть ответа?
И снова хожу я по длинным коридорам и залам, останавливаюсь около машин, спрашиваю. Но на этот единственный вопрос нет ответа.
30 мая
Было или нет то, что было? Есть ли то, что есть? Будет ли то, что будет? И если было, есть и будет, то во имя чего?
Кэви — враг субъективного, человеческого, но он всему враг… Где же граница между объективным и субъективным?.. Но об этом я не скажу никому, тем более Кэви. Мне удалось открыть некоторые стороны жизни машин. (Чертовски интересные стороны!) Они способны перевоплощаться… Старый профан ничего не знает, как не знал многого о Мэри! Бродя по залам, я видел, как одно за другим оживали каменные лица. Они улыбались! Сомнений нет, мы начинаем понимать друг друга. А он ничего не поймет. Ха-ха! Ему ничего не дано понять, а мне — все. Мне обещано. Я знаю, скоро будет ответ.
2 июня
Мэри! Я избегал думать о ней. Тяжело. Мы работали рядом и молчали… Бедная девушка! Я поддался подлому обману Но сейчас все ясно… Нет, не все… Скоро будет ответ и тогда, тогда… Но почему его нет? А дело вот в чем! Я говорю, будет, но будущего нет. Значит, ответ есть. Ну что ж, прекрасно! Ответ есть… Я его не знаю, но он есть… А насчет Мэри — это ложь, обман!
10 июня
Седина мира! Я видел ее. И в ней, наверное, ответ. Самый дальний коридор… Он бесконечно длинный… Он — похож на вечность… Каменные плиты пола, стены, потолок обрываются. Вокруг земля, сырость, корни… Пахнет плесенью. Подобие огромной пещеры, почти темной… Если смотреть в ее мрак, то видишь, чти она все раздвигается, уходит вдаль и ввысь… Это не свод. а черное небо. С него спускаются тонкие, как паутина, седые пряди. Они тихо колеблются… Я знаю, это седина мира… Пол покрыт белой плесенью. Она подобна савану, под которым угадываются чьи-то очертания. Боже, это люди!.. Тысячи людей! Неподвижны… А над ними колышется седина мира. И сквозь нее, сквозь тишину, неподвижность смотрит огненный глаз машины. Я знаю — в нем ответ. Он будет, этот ответ, хотя нет никакого будущего…
Четвертое письмо
Кэт! Я нахожусь в тяжелом неведении. Я не знаю, получаете вы мои письма или нет… Увы, время сообщить вам свой адрес еще не настало. Я далеко-далеко… и, как мне кажется, в относительной безопасности. Так ли? Нужно быть осторожным!
Я обещал вам написать о событиях, предшествующих моему побегу. Теперь, когда вы знакомы с дневником, мои поступки, быть может, покажутся вам более оправданными, закономерными и отнюдь не малодушными.
Сумею ли я объяснить вам мотивы моего побега? Это не легко, так как и для самого меня они недостаточно ясны. Дневник Джона Крафта произвел на меня, очевидно как и на вас, довольно гнетущее впечатление. Я живо представил себе несчастного, остро впечатлительного молодого человека, заброшенного жестокой волей профессора в бездушный мир машин. Я мысленно видел его одиноко блуждающим по неведомым дорогам подземного мира… Грандиозность, дикое нагромождение вещей и событий и бессмысленность, вопиющая бессмысленность всего окружающего!
Итак, я почувствовал, что мне нужно уйти отсюда. Бежать! Меня в то же время сжигало любопытство: неужели я никогда не увижу этот удивительный мир? Хотя бы одним глазом…
А что нужно от меня профессору? Для какой цели пригласил он меня? Неизвестность тревожила. Не было никакого реального плана покинуть институт. Нарушить контракт невозможно! Профессор не согласится на преждевременный мой отъезд. Более того, это наведет его на подозрение. Итак — бежать!
Я раздумывал над планом побега. Прежде всего, выбор пути… Поселок окружен лесом… Нет ничего проще… Так ли? Можно ли наивно предполагать, что засекреченный институт не имеет бдительно охраняемых границ. Мне вспомнилось одно из мест дневника. Мне вспомнились предостерегающие слова Мэри: «Дальше нельзя!» Тут что-то есть. Но как выяснить, как избежать ошибки?
Оставалась непродуманной и другая сторона моего замысла посещение подземелья. Все эти мысли лишали меня обычной уравновешенности в работе. Я решил посоветоваться с Кэмпером, в благорасположении которого не сомневался. Раз под вечер я зашел к нему. Нечаянно подоспел к ужину и без лишних церемоний принял приглашение к столу. После ужина закурили. Старик внимательно смотрел на меня сквозь колеблющуюся синеву дыма.
— Вы обеспокоены, дорогой Найт? Дневник?
— Угадали… Но, впрочем, не совсем… Хочу поделиться с вами… У меня план побега…
— Побега?
— Да, да, есть основания… Вы знаете их… Кэви пригласил меня не из добрых побуждений. Его замыслы темны… Да и Стокс…
— Но как вы мыслите побег?
— Ночь, темнота, лес… Правда, есть некоторые сомнения…
— А! Пустое! Вы наивны… Кэви давно предусмотрел подобные случаи…
— Но где же выход?
— Он есть, но не из легких.
— Послушайте, Кэмпер, я готов на все! Я выдержу там, где спасовал Крафт!
— Не сомневаюсь. Но дело не только в вашей смелости и решительности. Ряд обстоятельств… Видите ли, путь отсюда один — через подземелье.
Я почувствовал невольный страх и восхищение. Это усложняло мои планы, но совпадало с моими тайными замыслами.
— Вам незнакомо расположение подземного города, — продолжал Кэмпер, — по дневнику ориентироваться нельзя. Вы заблудитесь…
— Но как же…
— Вам нужен проводник. Этим проводником… буду я.
Случайно взглянув на миссис Кэмпер, я увидел, как смертельно побледнело ее лицо при последних словах мужа. Девочке тоже передалось беспокойство Она испуганно жалась к матери, глядя на меня большими. широко раскрытыми глазами.
— Ни за что! — воскликнул я с горячностью. — Вы не должны рисковать из-за меня. Я найду другого проводника.
В глазах миссис Кэмпер я прочел благодарность.
— Но кого же? Подумайте… Из сотрудников Кэви? Сомневаюсь…
— А почему бы и нет? У меня идея… Путь Джона Крафта, вернее, начало этого пути.
— Не понимаю…
— Мэри!
— Мэри? Но при чем тут она?
— Она, именно она должна помочь мне в этом трудном деле. Я, признаюсь, не очень-то верю тому, что написано о ней в дневнике. Так вот, я ближе сойдусь с ней, завоюю доверие, посвящу в свои планы…
— Ох, рискованно, молодой человек! Не представляю, с чего вы начнете.
Кэмпер достал из шкафа вычерченный на кальке план и развернул его передо мной.
— Взгляните. К сожалению, здесь очень мало…
Я внимательно рассматривал план. Да, это лишь часть подземелья… Много белых пятен…
Пора было собираться домой. Но я хотел о чем-то спросить Кэмпера А! вот о чем…
— Скажите, как вы смотрите… Крафт предполагает, что профессор много лет назад любил девушку…
Кэмпер досадливо поморщился.
— Кого кроме себя мог он любить? Любовь самоотверженна. Она несовместима с грубым эгоизмом. Я допускаю, что он в ком-нибудь мог полюбить самого себя… Припоминаю… Была на одном курсе с нами некая Мэри Стивенс. Интересная, волевая, очень и очень способная… Так вот, однажды в споре она ловко разбила Кэви. Знаете, так спокойно, неумолимо… Это его… Человека с таким чудовищным самолюбием. Кэви, наверное, возненавидел ее… Но какое это имеет отношение к последующим событиям, право, не знаю!
— И это правда? — воскликнул я.
— Да.
— Спасибо, — радостно сказал я недоумевающему старику, большое спасибо!
По дороге домой я раздумывал: «Кэви… Себялюбивый, властный, презирающий людей… Кэви, признающий лишь свою философию… Он — уязвим, он — слаб!»
Я мечтал о словесном поединке с профессором, о его поражении. Он должен испытать волнение, боль, страх… А мой замысел? Не помешает ли это ему?
Итак, я приступил к осуществлению своего плана. На деле это было не так-то просто. Прежде всего мне удалось установить с Мэри хорошие отношения. Она, как по крайней мере казалось мне, охотно говорила со мной, выполняла некоторые мои частные просьбы. Я старался подметить за ней странности, о которых писал Крафт, но, должен сказать, поведение ее было довольно естественным. Кэви стал замечать мое видимое увлечение. По его быстрым взглядам и еле уловимым усмешкам я догадывался, что он злорадствует и строит какие-то планы. Мы были с ним в корректно-холодных отношениях. Я старался быть образцово исполнительным, но иногда словом и интонацией давал профессору понять, что не согласен с тем или иным, хотя и готов к исполнению.
Это раздражало себялюбивого профессора, он хмурился порой, но не выдавал себя ни единым словом. Было досадно, что Кэви не удостаивал меня бесед, как Крафта. Он, конечно, опытным глазом заметил черты, отличающие меня от слабохарактерного и эмоционального Джона.
Я продолжал свою игру с Мэри, зная, что каждый шаг мой взят на учет. Однажды в присутствии Мэри я докладывал профессору о результатах последних исследований. Мне очень хотелось найти загадочную кнопку и повторить необычайный эксперимент. Я мысленно представил, как Мэри вздрогнула, пошатнулась…
Она словно угадала мои мысли… На лице ее мелькнул испуг. Или мне показалось? Кэви быстро поднялся с кресла и провел ее во второй кабинет. Через минуту он вышел.
— Что с ней? — я старался казаться взволнованным.
— Ничего особенного, — не без смущения ответил Кэви.
— Слава богу, — облегченно выдохнул я.
— Да вам-то что? — сердито прищурился Кэви.
— А может быть, у меня есть основания для беспокойства…
— Как, и вы?!..
Кэви осекся и быстро заходил по кабинету. Мысленно отмобилизовавшись, он подошел и хмуро уставился на меня.
— Оставьте!..
— О чем вы, профессор?
— Я говорю, оставьте глупости!
Он уже не мог сдержать себя. Он заговорил. Я с удовольствием наблюдал, как этот сильный человек лишается контроля над собой, я слушал его молча, не перебивая.
Кэви оседлал своего конька. С возрастающим раздражением доказывал он мне бессмысленность человеческих чувств. Он говорил, что, следуя своим побуждениям, человек демонстрирует свою слабость, свое ничтожество.
— Люди воображают, — желчно философствовал Кэви, — что от их надежд, желаний, стремлений что-то зависит! Нет ничего бессмысленнее… Всем правит стечение обстоятельств, и суть в глубоком его познании. Железное стечение обстоятельств, путь по равнодействующей… Воля — ничто! Люди не видят единовременно всего события и, стало быть, не понимают его. В них всегда преобладает инерция прошлого. Отставая мысленно от события, проявляя волю, они тормозят его.
Много говорил профессор. Я видел порочный круг его рассуждений, понимал, что он ищет выхода и не находит.
— Вы, насколько я понял, отрицаете эмоциональную сторону жизни человека, — тихо и как бы неуверенно сказал я, — но ведь вы сами эмоциональны в своих суждениях, даже очень…
Кэви был смущен.
— Да, да! Вы не будете отрицать, а я — спорить. Другой вопрос… Вот вы говорите о неумолимой закономерной деятельности машин. Машина действует по законам природы, следовательно, воплощает эти законы… Так… Но сочетание законов ее действия установлено изначально человеком! Природа миллионы лет развивалась по определенным законам. Но ведь вы ее не спросите, во имя чего все в ней происходит? Не во имя же божественного предопределения! Ну а машина?.. Нужна ли природе просто машинная форма существования? Не зависящая от человека? Можете ли вы ответить на этот вопрос?
Кэви слушал хмуро. Он заговорил не сразу.
— Я не буду отвечать на этот вопрос не потому, что он неразрешим, а потому, что он не нужен, так же, как и ответ на него.
— Ну хорошо, — согласился я, — но вы, человек, приобщили себя к машинной жизни, противопоставив ее человеческим отношениям. А во имя чего? Не кроется ли в этом себялюбивое желание — выделиться из среды людей? Не есть ли у этого желания стародавние причины?
— К чему догадки, — усмехнулся Кэви, уклоняясь от ответа, — вы можете предполагать все, что угодно, мистер Найт…
— Конечно, — согласился я, — но деятельность всех этих машин и ваша не может осуществляться сама собой. Нужны деньги, нужны материалы… Следовательно, кто-то должен вам поставлять эти деньги и материалы, кто-то должен быть заинтересован… Отсюда, говоря вашими словами, с неумолимой логической последовательностью вытекает вывод: вы, сами того не признавая, трудитесь во имя… Вот… Господин Стокс…
— Оставьте, — резко сказал Кэви, — не говорите о том, чего не знаете.
— Да, не знаю, — упрямо продолжал я, — но ваши слова поставили передо мной много вопросов… Машина действует с неумолимой закономерностью. Но она мертва… Она не может действовать во имя жизни. А человек… Его поступки предназначены для жизни, они определяют цену жизни. Цена жизни, — продолжал я, вглядываясь и лицо Кэви, — разве вы, профессор, не задумывались над этим? Разве вас не побуждала к этому… чья-нибудь смерть?
Кэви молчал. На его лице я читал растерянность, какая-то скрытая, чуть заметная игра мускулов выдавала его мятущиеся мысли. Нужно было пользоваться моментом, и я продолжал, не давая ему отвечать.
— Я уверен, что и в вашей жизни было много определяющих ее чисто человеческих событий. Вот вы осуждаете меня за мои отношения к Мэри… Но, может быть, когда-то и вам встретилась девушка Мэри, которую вы любили, уважали или ненавидели.
Лицо Кэви покрылось смертельной бледностью. Он не смотрел на меня. Он был растерян и подавлен.
— Оставьте, — каким-то землистым голосом сказал он и, взяв себя в руки, почти выкрикнул: — Довольно, хватит досужих рассуждений! Вы… вы ничего не знаете… И не можете знать!
Неужели я потерял чувство меры, осторожность? Неужели дал в руки ему подозрение?
С такими мыслями я шел домой, но они не могли заглушить удовлетворения. Поединок был выигран.
Вас, быть может, удивит легкость (и неосновательность!) моей победы… Но вдумайтесь, Кэт. Вот Вам пример: слон, могучее, огромное животное, в сущности труслив. А почему? Потому что он имеет мало противников среди животных и, так сказать, морально не подготовлен к сопротивлению и, тем более, нападению. Этим пользуются опытные охотники. Могучие гиганты бегут от маленького человека, устрашаясь криков и бубнов… Так вот и люди… Кэви не привык встречать противодействия. Те, что жили и работали рядом с ним, незаметно подчинялись ему.
Причиной слабости Кэви явилась искусственность обстановки, в которой он жил многие годы. Он думал, что возвысился над людьми и приобщился к миру машин. Он не замечал, что, будучи человеком, находился с этим мертвым, бездушным миром в постоянном противоречии. Но, пожалуй, довольно философии.
Так вот, я ругал себя за неосторожность в словах. Я ждал, что это повысит подозрительность Кэви, но ничего подобного не произошло. Профессор, казалось, даже избегал меня.
И вот настал благоприятный момент для осуществления моих планов: утром Кэви получил письмо, а вечером вылетел на самолете по каким-то своим делам.
Мне удалось подготовить Мэри. Под вечер я зашел к Кэмперам проститься. Добрый старик был очень взволнован. Он давал мне бесконечные наставления и предостережения. Он умолял меня быть осторожным и в случае опасности немедленно телефонировать ему, хотя это было очень рискованно. Все семейство тепло простилось со мной, я горячо поблагодарил этих хороших людей за то, что они сделали для меня и были готовы сделать.
Поздним вечером я пришел в лабораторию. Меня встретила легкая, какая-то призрачная Мэри. Ее волосы золотились в матовом свете ламп, большие глаза смотрели внимательно.
— Пойдем, Мэри. — тихо сказал я.
— Да, — ответила она одними губами.
Мы прошли по пустому коридору и остановились перед дверью кабинета. Она достала из кармана халатика ключ. Руки ее дрожали. Несколько раз она недоуменно оборачивалась.
— Не могу, Сэм, что это?
— Страх.
— Страх? Я не знала…
— Мэри, не надо!..
Непокорный замок щелкнул, и тяжелая дверь открылась. Не зажигая света, ощупью добрались мы до вторых дверей. Потайным фонариком я осветил замок. Мэри дрожала. Руки едва слушались ее.
— Страх, — повторила она, — я ничего не знала…
И вот мы во втором кабинете. Я смутно различал темные контуры большого шкафа. В слабом свете фонарика его полированные дверцы легко поблескивали. Беспокойство Мэри достигло наивысшего предела. Мне самому стало страшно, что это выведет ее из строя и тогда я окажусь в ужасном положении, так как не смогу ни осуществить свой план, ни скрыть следов задуманного… Мы очутились в кабине лифта и, плотно закрыв наружные двери, зажгли свет. Мэри уселась против меня. Она бессильно откинулась на спинку сиденья, полузакрыв глаза. Ее тонкие пальцы быстро и бесцельно перебирали складки халатика.
— Ах, Сэм, не могу, — прошептала она. — Нужно нажать вон ту кнопку.
— Мэри, успокойтесь, не надо…
Я старался вернуть ее к норме, направить на привычный логический путь.
— Все это нужно, все это закономерно, — повторял я ей знакомые слова.
Постепенно Мэри успокоилась. Я нажал кнопку, и мы стремительно полетели вниз.
Кэт, никакое красочное описание не даст вам представления о том, что я увидел. Мы очутились в том самом огромном зале, который описан в дневнике. Над нами был стремительно летящий вверх, матово светящийся свод. Прямые, как стрелы, коридоры радиально разбегались от зала. Вокруг стояла удивительная тишина. Такая тишина бывает только в глубоких подземных пещерах, когда человек слышит свое дыхание, ощущает биение своего сердца. Такое же чувство, я читал, испытывали люди, пробираясь по бесконечным коридорам в недра египетских пирамид. Фантастичность обстановки усиливалась присутствием Мэри. Она была единственным звеном, соединяющим меня с внешним миром.
Мэри несколько секунд колебалась, стоя у подножья колонны, но вот она пошла по залу. Мы углубились в длинный сводчатый коридор. Зеленые светящиеся плафоны цепочкой уходили вдаль. Я чувствовал — в этом матовом свете, в тишине и неподвижности окружающего скрыт огромный, неведомый, зловещий мир машин. Он живет своей непонятной жизнью, он ожидает нас.
Мэри остановилась под одним из плафонов. Как слепая, ощупывала она обшивку стены, стараясь найти замаскированную кнопку. Несколько раз она прекращала поиски, виновато оглядываясь на меня. Мне вновь стало не по себе. Я смотрел на ее быстрые, тонкие пальцы, скользящие по обшивке… Они, эти пальцы, незримой нитью последовательных событий связаны с моим освобождением. Как удивительно связываются события… Может быть, это мертвая связь неумолимой последовательности? Да, все природные явления — последовательность. Но раз они последовательность, они несовместимы во времени. Человек же видит их все одновременно, и поэтому связь между ними приобретает не мертвое, физическое, а чисто человеческое значение.
Мэри наконец нащупала невидимую кнопку, и обшивка поползла в сторону, открывая узкий боковой вход. Мы пробирались по маленькому коридорчику, за стенами которого слышалось легко гудение — голос подземного мира.
Пройдя небольшое расстояние, мы оказались в кубическом помещении, одна из сторон которого представляла матовый светящийся экран, на котором причудливо извивались ослепительные изумрудные линии. Я сделал шаг вперед, но Мэри удержала меня за руку.
— Нельзя, — прошептала она. И в тот же момент тонкие, как иглы, лучики пересекли комнату в различных направлениях. Я почувствовал легкий запах озона. Мы поспешно отступили.
Трудно вспомнить все бесчисленные переходы, повороты, подъемы и спуски, которые мы проделали. Один я, несомненно, заблудился бы…
Помню, что в одном из мест мы остановились у огромного круглого окна, в которое было вправлено толстое органическое стекло. Сквозь окно я увидел просторное помещение, полное необычайных механизмов. Прямо перед окном на длинных членистых лапах покачивалось механическое чудовище. Его полированное цилиндрическое тело поблескивало в зеленоватом свете плафонов, а огромная шарообразная голова тихо поворачивалась то вправо, то влево. Я невольно вздрогнул и оглянулся на Мэри. Она стояла, словно окаменелая.
— Мэри.
Она не отвечала.
— Мэри!
Я схватил ее за руку и быстро повел от окна. Она послушно следовала за мной. Я не на шутку испугался, но, к счастью, Мэри снова вошла в норму.
И вот мы в огромном мрачном зале. Прямо перед нами — невероятный уродливый идол с огромными распростертыми крыльями и сатанинской улыбкой. Среди призрачного сияния, непередаваемой тишины он казался особенно зловещим и величественным. Каким маленьким и жалким я выглядел перед ним, но в то же время упрямое чувство заставило меня поднять голову и смело шагнуть в зал.
На противоположной стене сверкал тысячами сигналов гигантский черный полированный щит. Он жил своей сложной жизнью. Как причудливая мозаика, вспыхивали и гасли на нем разноцветные огни, извивались яркие линии, слышалось ровное глубокое гудение.
Мы стояли перед ним. Мэри. словно зачарованная, смотрела на эту причудливую игру.
— Здесь мы все, — тихо произнесла она наконец, и ее тонкая прозрачная рука указала на щит. — А вы?
— Меня здесь нет.
— Нет? Почему? — взгляд Мэри выражал удивление и страх.
— Потому что я — человек.
— Человек… — тихо повторила за мной Мэри и задумалась.
— Дальше, пойдемте дальше, — сказал я, тронув ее за руку.
Мы подошли к небольшой двери в противоположном конце зала. За нею начинался невысокий, но бесконечно длинный коридор. Его белый мраморный пол, освещенный зеленоватым светом, как лунная дорога, уходил вдаль. Было необычно тихо. Мы шли по коридору: я и Мэри. Она молчала. Казалось, какие-то мысли угнетали ее. Наконец она остановилась.
— Это последний путь, Сэм.
— Последний?
— Дальше ничего нет… Все кончается…
— Не пойму вас, Мэри!
— Я тоже не понимаю вас. Куда идете вы?
— К людям.
Мэри молчала. Она всматривалась в далекую перспективу коридора. Я поторопил ее. Мы шли еще минут пятнадцать. И вот Мэри остановилась вновь.
— Дальше нельзя, — прошептала она, указав под ноги: тонкая черная линия пересекла белый пол, — остановитесь? Никто не может идти дальше.
— Я пойду!
— Как! Вы сможете?
— Я — человек, Мэри.
И вновь увидел я изумление и страх в ее глазах.
— А что там, в конце коридора?
— Тупик. Нужно найти на стене кнопку. Нажать… В потолке откроется люк, спустится лесенка, которая выведет вас отсюда. Но вам не дойти, Сэм…
Я смотрел на Мэри, и вдруг чувство острого сожаления охватило меня. Неужели я должен оставить ее? Навсегда… Это было странное чувство, но поверьте, Кэт, я видел в ней человека, с которым работал, дружил, который помог мне в трудную минуту.
— Мэри, пойдемте вместе!
— Нет! Нет! Нельзя!
Она испуганно отстранилась, и в тот же момент под потолком вспыхнули красные сигналы тревоги, раздалось предостерегающее гуденье.
— Уходите! — крикнула мне Мэри. — Скорее же!
Она держалась за стену, едва сохраняя равновесие. Она, казалось, теряла сознание.
Медлить было нельзя. Я побежал. Несколько раз я оглядывался назад и видел странно неподвижную, прислонившуюся к стене маленькую фигурку моей удивительной спутницы.
Вот и конец коридора. Все, как сказала Мэри. Я нажал кнопку. В потолке открылся люк, спустилась металлическая лесенка. Я добрался до люка и протиснулся в него. Темнота. Сырость. Лесенка вела куда-то вверх. Поднявшись по ней еще метров десять, я нащупал в стене довольно большое отверстие. Осторожно, боясь сорваться вниз, я протиснулся через него и очутился в срубе высохшего колодца, глубиной метров восемь. Обессиленный, выбрался я по скользким стенам наверх. Ночь. Лес. Куда идти? Решил идти в том же направлении, в котором вел меня подземный коридор, и не ошибся…
Нет нужды говорить о том, как удалось мне добраться до железнодорожной станции и покинуть эти злополучные места.
Кэт! Простите меня за утомительное письмо. Я не мог не рассказать вам обо всем. А когда я получу весть от вас — не знаю!
Сэм.
Вместо эпилога
Солнце широкой полосой легло на зеленое сукно письменного стола. Сэмуэль Найт отодвинул записи и задумался. Десять лет… Десять долгих лет прошло со времени тех удивительных событий его жизни.
Обстоятельства складывались хорошо. Миновал срок, и он вновь вернулся к любимой работе. Получил признание как ученый. Счастье и удовлетворение доставляли ему научные изыскания. Труд тяжелый, но прекрасный своей направленностью. И, наконец, четкое, одетое красивыми, стройными формулами решение. Сэм был строг и объективен в науке. Но, оставаясь наедине с самим собой, он подолгу задумывался. И мысли стремились далеко от привычных понятий, лишались строгости, становились прихотливыми. И вот появились записи…
Из записей С. Найта
«Как велики успехи человеческого ума, человеческого познания. Мне бы хотелось представить (хотя бы на миг) весь фронт поступательного движения человечества по пути прогресса. Но разве возможно это! В этом движении все новое и в то же время неотвратимое, неизбежное… Неужели я фаталист? Конечно, нет! Или, быть может, в материалистическом понимании законов природы есть доля фатализма? Нет! Дело не в понимании, а в недопонимании этих законов. И прежде всего в недопонимании законов бытия…
Веками задумывались люди над своей природой. Это рождало мистику, скепсис, агностицизм. Почему? Не потому ли, что сознание человеческой воли, стремлений, страстей противоречит представлению о неумолимой последовательности событий?
„Я хочу, чтобы было так, — говорит человек, — так будет!“ Или: „Будущее в наших руках“.
Но время, этот трехликий хитрец, все делает по-своему… Человек трудится, дерзает, осуществляет свои планы. Но вот то, что сделано, отошло в прошлое и неуловимо выстроилось в цепь закономерных последовательных событий… Неужели человек остался ни при чем? Неужели все, что произошло, неизбежно должно было произойти? Как сопоставить прошлое, настоящее, будущее? Может быть, Кэви прав, может быть, прошлое фикция? Отбросим его — и все станет на место. И тогда прочь все разъедающий фатализм! Но прошлое отбросить нельзя так же, как, живя в настоящем, нельзя не думать о будущем. В этом — суть человеческого бытия, в этом — суть человечности!
Человечность… Как соотнести это понятие со скупыми и четкими законами развития материального мира?
Вся жизнь человечества — длинная цепь сотен поколений, а жизнь одного человека — лишь звено в этой цепи. Так можно сказать, если единственным мерилом признать время. Но жизнь человека не одно звено, она шире этого звена; Она не физически связывает другие звенья — все звенья взаимно проникают.
Если измерять жизнь временем, не избежать вывода, что жизнь — это путь от рождения к смерти. Каждый наш поступок требует времени… Следовательно, на каждый поступок расходуется кусочек жизни Но разве в каждом из человеческих дел нет жизнеутверждения? Разве физически здоровый человек думает о смерти? Нет, человек не смотрит на неумолимый кусочек шагреневой кожи.
Жизнь — горение. Но если б пламя обладало способностью мыслить, оно осознало бы, что горение неумолимо ведет к уничтожению. В самом горении изначально скрыта гибель огня, ибо чем сильнее он горит, тем сильнее расходует источник горения И может быть, пламя сказало бы: „Не лучше ли медленно тлеть, чем гореть ярко?“ Но пламя не думает… Чем больше горючего, тем ярче оно.
Не в этом ли суть человечности?
Нет! Сказать так, значит, забыть о главном. Разумная человеческая жизнь — не просто горение, не бессмысленное расходование горючего.
Пламя не думает… А человек?..
Цель его — гореть ярко, раздвигая мрак неведомого, освещая людям дорогу в будущее. У машины нет будущего. У человека оно есть. И для такой цели не жаль горючего, не жаль жизни!..»
Сэм задумался. К нему тихо подошла Кэт.
— Не нужно, дорогой, — сказала она, проведя мягкой рукой по его волосам. — Ты бьешься над законом человечности, ты ищешь ее… Не ищи. Она — здесь, она — в людях, в нас с тобой.
Примечания
1
Вероятно часть текста потеряна при сканировании. (Примечание N. N.)
(обратно)

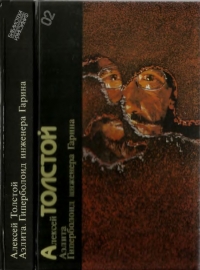


![Кратер Эршота [иллюстрации Б. Коржевский]](https://www.4italka.su/images/articles/500033/primary-medium.jpg)
Комментарии к книге «Железный человек», Лев Николаевич Могилев
Всего 0 комментариев