Иэн Маклауд Nevermore
Теперь, когда ему было не по карману покупать реальность в достаточных количествах, Густаву осталось писать на холстах только то, что он видел во сне. Ни этюдника, который можно было бы забрать с собой, ни палитры, ни курсора… Его голова приподнималась с подушки и вновь падала, во рту пересохло после вчерашней выпивки (наиболее дешевое из всех известных ему средств против бессонницы), и лишь один этот шанс, да несколько туманных миражей прекрасного прошлого оставались ему перед неизбежной встречей с пустотой дня. Начиналось все иначе, но теперь он видел, что, вероятно, именно так все и кончилось. У изобразительного искусства была своя пора взлета, и некоторое время с Густавом носились как с блестящим молодым талантом, которым он, по его убеждению, бесспорно, когда-то был. И огромная бугристая действительность, которую можно обнять, вкушать и царапать ногтями, вполне вероятно, снова войдет в моду — когда это уже перестанет иметь для него хоть какое-то значение.
Вот так! В это утро ведра и ведра жалости к себе опрокидывались на него с отсыревшего потолка. Так что же ему снилось? Что-то ведь снилось — конечно, снилось. Иначе оказаться здесь и называться Густавом не было бы таким потрясением. Уж лучше свыкнуться с этим, чем вот так… Густав поправил одеяло и обнаружил у себя эрекцию, то есть один из признаков (он же где-то когда-то про это читал?), что вам снились сны старомодного толка, без стимулирования, без какой-нибудь искусственной помощи. В любом случае симптом биологического оптимизма. Надежда на то, что все-таки есть надежда…
Кроманьонец с артритом — он выбрался из кровати. Узловатые ноги, узловатые вены, узловатые пальцы на ногах. Ему все еще не хватало привычной игры с дистанционной настройкой окна в дальней, изрытой оспинами стене, перемен перспективы и освещения в смутной надежде вдруг наткнуться на что-то получше. Солнце и луна пылали над Парижем в соответствующих точках небосвода и лили свет, точно потоки ртути сквозь наносмог. Он прижал ладонь к стеклу, ощущая водянистое поскрипывание трещины, змеившейся по нему. Пятый этаж над землей трущобного многоквартирного дома; длинный-предлинный спуск вниз. Он прижал лоб к знобкой прохладе стекла, и его прошила кислая мысль попробовать написать этот вид. Он уже закончил минимум двадцать видов протореального Парижа: развалины, опутанные паутиной кабелей в серых, белых и черных тонах. Вероятно, уже не раз созданные: старик Винсент любил кадмиевые желтые и хромы. И не продал ни единой дерьмовой картины за всю свою жизнь.
* * *
— То, о чем я рассказала тебе, было правдой, — Эланор чуть спотыкалась на незатейливых словечках, и на мгновение в этом мелькнуло что-то не свойственное ей, что-то почти тревожное. — То есть о Марселе в Венеции и Франсине по ту сторону неба. И да, мы действительно говорили, что надо бы устроить встречу. Но ты же знаешь, как бывает. Время бесценно, а к концу дня его уходит такая прорва, что подобные вещи требуют большого напряжения. Вот ничего и не получилось. Просто несколько обещаний, которые никто всерьез и не собирался выполнять. Но я подумала… но… ну, я подумала, что увидеться с тобой будет приятно. Хотя бы еще один раз.
— Выходит, все это только для меня? Господи, Эланор, я знал, что ты богата, тем не менее…
— Не надо, Густав Я не стараюсь ни произвести на тебя впечатление, ни ввергнуть в депрессию. Вообще ничего такого. Просто само собой вышло.
Он налил еще вина с безупречной точностью и даже спросил себя, каким способом достигается эффект, что они пьют вместе.
— Так ты все еще пишешь картины?
— Угу.
— Я редко вижу что-нибудь твое.
— Я пишу для частных заказчиков, — сказал Густав. — В основном.
Он свирепо посмотрел на Эланор: пусть попробует опровергнуть его слова. Конечно, если бы он на самом деле писал и продавал картины, то располагал бы кредитом. А если бы он располагал кредитом, то не жил бы в этой трущобе, где она его разыскала. Он бы оплатил все необходимые лечебные процедуры, чтобы остановить свое превращение в дряхлого старика, каким уже почти стал «Знаешь, я могла бы тебе помочь, — Густав услышал, как Эланор сказала эти слова, потому что уже столько раз слышал их от нее. — Мне не нужно это богатство. Так прими от меня небольшую помощь. Позволь мне это сделать…»
Но то, что она сказала на самом деле, было куда хуже.
— Ты записываешь себя, Гус? — спросила Эланор. — У тебя есть библиотекарь?
Вот, подумал он, вот минута, чтобы уйти. Опрокинуть все это и вернуться на улицу — протореальную улицу. И забыть.
— Ты знаешь, — сказал он, продолжая сидеть, — что слово «реальность» когда-то действительно означало протореальное — не проекции, не симуляции, но подлинную действительность. Только затем появилась виртуальная реальность, и, разумеется, когда возникло следующее поколение аппаратов, иллюзия настолько усовершенствовалась, что в нее можно было просто войти, не надевая очков и костюма. Так что маркетологам пришлось поломать голову над новыми словами, ее обозначающими. И кто-то, наверное, сказал: «А почему нам так ее и не назвать? Просто реальностью?»
— Ты слишком уязвим, Гус. Еще не написано правило, которое воспрещало бы нам продолжиться.
— Я считал, что проблема именно в этом. Она — у меня в голове, и вероятно, была и в твоей — перед тем как ты умерла. А теперь… — Он хотел еще что-то сказать, но внезапно — так глупо! — чуть не заплакал.
— Но что, собственно, ты сейчас делаешь, Гус? — спросила она, пока он покашливал, притворяясь, будто поперхнулся вином. — Что ты пишешь сейчас?
— Работаю над серией, — с удивлением услышал он свои слова. — Вроде путевого дневника. Ряд картин, начинающийся здесь, в Париже, а затем… — Он сглотнул. — Яркие, густые цвета… — У него задергался глаз. Казалось, к нему что-то прикоснулось, но такое слабое, что его невозможно было ни услышать, ни ощутить, ни увидеть.
— Прекрасно, Гус, — сказала Эланор, наклоняясь к нему через стол. И Эланор пахла Эланор, так, как и прежде. По ее матовой коже рассыпались веснушки — от солнечного света в том жарком виртуальном мире, где она жила. На ее щеках и верхней губе отливал золотом легкий пушок, который он столько раз поглаживал кончиками пальцев. — По выражению твоих глаз я вижу, что ты по-настоящему в хорошей фазе…
После этого все пошло лучше и лучше. Они разделили еще бутылку vin ordinaire[1]. Они соорудили в пепельнице миниатюрную гору из окурков. Призрак действительно был совсем как Эланор. Густав не воспротивился, даже когда она через стол взяла его за руку. Во всем этом было какое-то бесшабашное упоение — новые идеи вперемешку со старыми воспоминаниями. И он яснее понял, что имел в виду Ван Гог, считая это кафе местом, где можно погубить себя, или сойти с ума, или совершить преступление.
Немногочисленные посетители растаяли. Виртуальные официанты, чьи фартуки исчерпывались одним уверенным серо-белым штрихом, нанесенным мастихином, начали прислонять стулья к столам. Ароматы извечно ненадежных канализационных стоков Левого Берега все больше главенствовали над запахами сигарет, людей, лошадиного навоза и вина. Ну хотя бы это, подумал Густав, было протореальным…
— Думаю, очень многие из них уже умерли, — сказал Густав. — Приятели из беспечной компании, которую ты вспоминаешь с такой нежностью.
— Люди по-прежнему меняются. Если мы и перешли, это вовсе не значит, что мы не можем меняться.
Теперь он настолько расслабился, что ограничился кивком. Ну а что изменилось в тебе, Эланор? Столько лет прошло… Какой проблеск электронов побудил тебя прийти ко мне теперь?
— Ты, по-видимому, преуспеваешь.
— Я… да, — она кивнула, словно эта мысль ее удивила. — То есть я не ждала…
— …И ты выглядишь…
— …И ты, Гус… сказала о том, что ты…
— …Что этот мой план…
— …Я знаю, я…
Они умолкли и посмотрели друг на друга. И мгновение словно задержалось, теплое и замороженное, будто на картине. Почти как…
— Ну… — Эланор первая разрушила иллюзию, начав рыться в расшитой блестками сумочке у себя на коленях. В конце концов она извлекла носовой платок и изящно высморкалась. Густав постарался не скрипнуть зубами — хотя именно такие аффектации раздражали его в призраках. Впрочем, по ее огорченному виду он догадался, что она поняла, о чем он подумал. — Полагаю, это то, что было нужно, Гус? Мы встретились, мы провели вечер вместе, ни о чем не споря. Почти как в прежние времена.
— Как в прежние времена уже ничто никогда не будет.
— Да… — Ее глаза блеснули, и он почти поверил, что вот сейчас она рассердится, совсем как прежняя Эланор. Но она только улыбнулась. — Как в прошлые времена ничто уже никогда не будет. В том-то и проблема, верно? Ничто никогда не было или никогда не будет…
Эланор защелкнула сумочку. Эланор встала. Густав заметил, что она заколебалась, нагнуться или нет, чтобы поцеловать его на прощание, но затем решила, что он сочтет это новым оскорблением, новой пощечиной.
Эланор повернулась и ушла от Густава, растворяясь в завихрениях света фонарей.
* * *
Эланор — как будто Густаву требовалось такое напоминание! — была живой, когда он с ней познакомился. Собственно говоря, он не знал никого, в ком кипело бы столько жизни. Разумеется, разница в возрасте между ними всегда была огромной — ей к тому времени было за сто, а ему едва исполнилось сорок, — но в первый же день своего знакомства (и еще, и еще в другие дни) они пришли к выводу, что время прячет себя в угол, обогнув который, старые в конце концов воссоединяются с молодыми.
Хотя Эланор со смехом это отрицала, Густав не сомневался: в другом веке она укрепила бы обвисающие груди силиконом, убрала морщины с лица, а сердце заменила стучащим стальным аналогом. Но ей повезло жить в эпоху, когда наконец были разработаны эффективные способы предотвращения старения. В свои сто с лишним лет умудренная опытом, богатая, умеренно и приятно знаменитая Эланор, вероятно, выглядела более молодой и красивой, чем в какую бы то ни было другую пору своей жизни. Густав познакомился с ней на пикнике возле русского озера, где гости прогуливались между сугробами. Тогда протореальность была в моде, хотя Густаву этот парк и инкрустированный инеем дворец, который построил Чарлз Камерон, шотландский фаворит Екатерины Великой, показался слишком великолепным, чтобы существовать в действительности. Однако он был настоящим — протореальным, конкретным, подлинным, невиртуальным, — что тогда для Густава было главным. И невозможность найти способ, чтобы передать хоть частицу этого на холсте. И абсолютная уверенность, что он все-таки попытается.
Эланор вышла к нему из сумрака деревьев, одетая в манто из котика. Ее красота повергла его в экстаз, напоминавший всякую чушь, которую он слышал в разговорах других художников и потому неистово презирал. С первого же мгновения — и тут слова вновь становились глупыми, бессмысленными — между ними возникла сокрушающая физическая общность такого напряжения, что оборачивалась духовной.
Эланор сказала Густаву, что видела серию триптихов, работу над которой он как раз закончил, и пришла от них в восхищение. Он писал их прямо на деревянных блоках, и плотные кирпичики красок изображали тотемные фигуры. Критики в целом придушили триптихи слабыми похвалами — упоминались кубизм, Мондриан — и каким-то образом не сумели распознать явный долг благодарного Густава таитянским полотнам Гогена. Но Эланор увидела и поняла эти яркие густые тона. И да, она сама немножко занималась живописью — ровно столько, чтобы понять, что истинные творческие свершения ей, пожалуй, недоступны.
В те дни Эланор коротко стригла свои огненно-рыжие волосы. Переносица ее была сбрызнута веснушками. Улыбаясь, она показывала кончики зубов, и он остро осознал ее губы, ее язык. И ощутил запах, чуть заметный в обволакивающих облаках их дыхания — ее женский аромат.
Пока они разговаривали, между ними вился небольшой черный кот, а затем, даже не проломив снежный наст, он вспрыгнул на сук ближайшей сосны и припал к нему, следя за собеседниками изумрудными глазами.
— Это Метценгерштейн, — сказала Эланор, а ее даже еще более зеленые глаза скользили по лицу Густава, не отрываясь. — Он мой библиотекарь.
Когда позднее они занимались любовью в морозном сиянии агатовой галереи, когда пар их дыхания и пота туманил зимние сумерки, все разрозненные элементы мира Густава наконец будто соединились воедино. Он ваял груди Эланор пальцами и языком, и рисовал на ней ее соками, и погружался в ее сладостные глубины, и, наконец, испытал восхитительное завершение, когда ее пальцы обвились вокруг и она, в свою очередь, овладела им.
Возвращаясь из полузабытья, пропитанный Эланор, измученный, Густав осознал, что все это время черный кот вился между ними.
Эланор засмеялась, подхватила Метценгерштейна на руки и с мурлыканьем устроила кота у себя на груди.
Густав понял. Ни тогда, ни позже ей не требовалось ничего объяснять. Ведь даже Эланор не могла жить вечно и нуждалась в библиотекаре, который фиксировал ее мысли и поступки на случай ее кончины. Человеческий мозг был способен существовать только на протяжении одной жизни. А потом воспоминания и впечатления начинали накладываться друг на друга, данные искажались. Да, Густав понял. Ему даже начало нравиться то, как Метценгерштейн повсюду следовал за Эланор, точно кот-подручный колдуньи.
Называли ли они их тогда призраками? Густав не сумел вспомнить. Во всяком случае это было слово — как косоглазый или черномазый, — которое в их присутствии не употреблялось. Пока он и Эланор состояли в браке, пока он любил, и писал картины, и любил, и писал ее, пока она отдавала ему свою жизнь и свой дух, а его успехи росли, как будто он обрел умение переносить часть этой страсти на свои любимые нескладные холсты, он и тогда знал: это неистовство между ними порождалось разрывом в возрасте, различием, неопровержимостью факта, что Эланор придется скоро умереть.
И это случилось, вспомнил он, когда для него тропические сны и кошмары Гогена отходили в прошлое, и он начинал заигрывать с периодом более прямолинейного импрессионизма. Эланор позировала ему обнаженной, как «Олимпия» Мане. Уступая практическим соображениям и нетерпению, которое всегда владело им, когда он писал, черная служанка с цветами в его прекрасно оборудованной студии на бульваре Капуцинов была голограммой, но диван, драпировка, цветы и, разумеется, кот — хотя запрограммированная природа Метценгерштейна исключала самую возможность того, чтобы он выглядел таким же тощим и ободранным, как у Мане, — все было протореальным.
— Знаешь, — сказала Эланор, сохраняя позу (пальцы одной руки играли бахромой шали, на которой она лежала, а другая рука непринужденно, властно, без намека на стыдливость покоилась поперек треугольника ее лобка), — нам следует еще раз пригласить Марселя. Ведь он столько сделал для нас в последнее время.
— Марсель? — честно сказать, Густав в ту минуту был сосредоточен на оттенках сумрака, клубящегося в будуаре. Он сделал пробный мазок. — Марсель в Сан-Франциско. Мы не виделись с ним больше полугода.
— Ах, да… Какая я дурочка.
Через несколько секунд (или минут) он снова оторвал взгляд от холста, внезапно осознав ледяную тишину, воцарившуюся в студии. Эланор никогда ничего не забывала. Эланор была свет и жизнь. Теперь от ее позы Олимпии не осталось и следа.
Это не было похоже на дряхление, утрату физических функций, настигавшие стареющих людей до эпохи рекомбинирующих медикаментов. Подобно ее сердцу и мышцам, физический мозг Эланор все еще функционировал безупречно. Но последствия были точно такими же. Провалы в памяти, ошибки случались все чаще, словно сознание быстро пошло на убыль, едва возникла первая прореха. Для Эланор с ее изысканным достоинством, ее непреходящей красотой, ее компаниями, и капиталовложениями, и деловыми связями, которые она должна была поддерживать, процесс старения был особенно ужасен. Никто — и меньше всех Густав — не оспаривал ее решения перейти.
Там, где кончалась реальность, было уже за полночь, и луна сияла сквозь серо-бурый наносмог на изломанную линию крыш Левого Берега. И где именно, подумал Густав, свирепо глядя на луну через все еще жужжащие порталы аппарата реальности, которые окружали его с Эланор, где теперь Франсина по ту сторону неба? И сколько надо заплатить за точные декодеры в глазных нервах, чтобы увидеть, как звезды переплетутся в ее колоссальной проекции? Какую часть своей жизни ты должен отдать?
Лабиринтные улочки за Сен-Мишелем гнили среди зарослей бурьяна в тумане цвета желчи. Теперь, казалось, никто, кроме Густава, не жил в дышащих на ладан развалинах Левого Берега. Просто фон для позирования, для выставления себя напоказ — впрочем, думал Густав, в этом отношении тут ничего не изменилось. Чтобы вернуться в свою трущобу, ему требовалось перейти бульвар Сен-Жермен, через поток жужжащих автороботов, которые, как он от них ни шарахался, все же умудрялись не задеть его. Дальше, на более оживленных улицах, все еще светились большие аппараты реальности. Недаром говорили, что в эти дни невозможно было пройти через Париж, не угодив в реальность. Густав, как всегда, отчаянно этому противился, хотя и знал: даже без кредита ему открыт бесплатный доступ во многие реальности, предлагаемые в этот щедрый беззаботный отрезок времени. Он хмурился на сверкающие поверхности энергополей, которые мыльными пузырями поднимались между порталами. Изнутри до него еле доносилось приглушенное жужжание трансформаторов, которые укрощали и преобразовывали капельки наносмога в формы, которые вы могли осязать, в запахи, которые вы могли ощущать, в стулья, на которых вы могли сидеть. Он слышал слова, и смех, и музыку, и звон бокалов. Он даже различал силуэты живых, позирующих, болтающих. То, как они были сгруппированы, свидетельствовало, что в эти дни число мертвых далеко превосходило число живых. Снаружи, в сумеречных улицах он встречал похожие на опрокидывающиеся декаэдры фигуры тех, кто носил свои энергополя с собой, лавируя между реальностями. Вероятно, они не замечали его в своих блужданиях, а может быть, воспринимали как часть сна, в котором пребывали Щелк, щелк. Багдад Шехерезады. Марс Джона Картера. Собственно, что при этом вы находились в Париже, никакого значения не имело, хотя Эланор в выборе места их встречи проявила такт и чуткость.
За последним аппаратом реальности возник дешевый невиртуальный трущобный дом, где жил Густав. Он осторожно выбирал дорогу среди асфальтовых колдобин в сторону слабосветящегося неона протореального магазина Спара рядом с его домом. Внутри — обычные серые пакеты с крошечными прорезями, сулящими всевозможные наслаждения. Он побродил по проходам и активизировал уютное присутствие женщины, которая обслуживала десяток таких анахронизмов, еще разбросанных по Парижу. Она ему улыбнулась — собственно говоря, живой призрак, однако покупатели как будто предпочитали иллюзию личного общения. Позади нее он заметил древний автомат с сигаретами, заказал пачку и прижал ладонь, расставшись, скорее всего, с последней частью своего кредита, которой, может быть, хватило бы на полпалочки древесного угля или на два мазка кармина. Его удивило, что кредита оказалось достаточно, чтобы купить пачку сигарет.
Он вышел, проигнорировав вспышку-предупреждение об опасности курения, зажег сигарету и глубоко затянулся. Несколько секунд спустя он перегнулся пополам, обливаясь тошнотворным потом и ловя ртом воздух.
* * *
Еще одно унылое утро, вневременное и серое. Этот потолок, эти стены. А Эланор… Эланор умерла. Исчезла.
Густав срыгнул вино в уверенности, что он его пил, и ощутил запах дыма протореальной сигареты. Но никаких следов Эланор. Ни огненно-медной прядки волос у него на плече, ни ее запаха на его ладонях и пальцах.
Он закрыл глаза и попытался представить себе женщину в белой сорочке, купающуюся на речной отмели, двух бородатых мужчин, оживленно беседующих на сочной лужайке между деревьями, и Эланор, совсем нагую, сидящую возле, но не участвующую в разговоре, а только наблюдающую за ними…
Нет. Не то.
Кое-как поднявшись, Густав крякнул, заметив мерцание виртуального света между сломанных, сваленных в кучу мольбертов. Он был уверен, что компания давно отключила его терминал. В голове гудело, какой-то обрывок вчерашней ночи не давал ему покоя, будто застрявшее между зубами волоконце мяса… он посмотрел вниз, на экран.
Конечно, работа Эланор — или призрака из конфигурации электронов, которым стала теперь Эланор. Э-эй! Густав вернулся на линию, вновь обрел мерцающее звено, связующее области мертвых и живых. Он увидел, что даже имеет позитивный кредит, что объяснило, как он сумел купить пачку сигарет. Он бы двинул кулаком по проклятой штуке, если бы от этого мог быть хоть какой-то толк.
И он только обвел взглядом комнату, согбенные спины холстов, сугробы остатков еды и одежды, скомканную постель, гадая, не следит ли за ним сейчас Эланор, введя парочку запасных гигабайтов в сенсорные органы какого-нибудь насекомого, которое сейчас кружит около него. И он уже почти ждал, что вот-вот тонкие перегородки и болтающиеся провода — весь язвящий хлам его жизни — завибрируют и превратятся в занесенный снегом русский парк, лесную поляну и даже вновь в Париж 1890 года. Но ничего не произошло.
В терминале все еще заманчиво мерцал свет позитивного кредита. В полном убеждении, что он потом об этом пожалеет, но не в силах совладать с собой, Густав переключал каналы, пока они не привели его в малопосещаемую секцию, которая поставляла художникам протореальные принадлежности. Не выходя за самые скромные рамки, он ограничился новыми кистями и белилами экстра от Лефранка и Буржуа, а также кадмиевой желтой, кармином, кобальтовой синей и изумрудно-зеленой; затем все еще в ожидании, что сумма приведет к появлению значка «кредит исчерпан», он выключил экран.
Материалы появились куда быстрее, чем он предполагал, и выгрузились в приемочной нише в дальнем углу с шорохом, словно внезапно налетел ветер. Поставщик даже позаботился добавить флаконы терпентина, который он забыл заказать. И в любом случае у него еще оставался достаточный запас чистых, натянутых на подрамники холстов. Теперь здесь было все (осязание новых пухлых тюбиков, чудесные волнующие названия красок, еле слышное вдохновляющее шуршание кистей, когда он распаковал их) — все, в чем он нуждался.
* * *
Когда Густав писал — или просто думал о картине, — с часами дня ли, ночи ли творилось что-то странное. Они бежали или же ползли, воспаряли на легком ветерке или сгущались, становились огромными, как мегалиты, затем соединялись и заводили вокруг него неуклюжую пляску, затаптывая чувства и надежду.
Яростно затягиваясь последней сигаретой, туманя и без того уже дымный воздух своего жилища, Густав перестал царапать в своем альбоме и коситься на холст, только когда пылающая луна начала затоплять Париж собственным чахлым вариантом вечера. Затем (он заранее знал, что, вероятно, кончится именно этим) он начал обходить комнату вдоль тонущих в сумраке стен, запрокидывая и рассматривая свои старые непроданные и чаще незавершенные картины. В этом свете да еще вверх ногами пейзажи протореального Парижа выглядели особенно тусклыми. Собственно говоря, они отличались такой скудостью красок во всех смыслах слова, что их вполне можно было использовать как холсты для новых картин. Но в клубке теней в самом дальнем углу, пылая яркими красками, которые, казалось, изливались в воздух, словно благоухание, хранились его первые опыты в символизме и импрессионизме. Среди них он заметил что-то более пригашенное. И неоконченное — однако того периода, когда он, насколько помнил, обязательно заканчивал каждое полотно. Он рискнул вытащить картину и уставился на линии рисунка, на мазки красок, на слои грунта. И узнал свое покушение на «Олимпию» Мане.
* * *
После того, как Эланор попрощалась со всеми друзьями, она скрылась в белых виртуальных коридорах дома неподалеку от кладбища Пер-Лашез, который прежде мог называться клиникой. Там для дополнительной гарантии ее сознание было сканировано и запечатлено, контуры ее тела зафиксированы. Посещать ее в эти последние недели Эланор разрешала только Густаву; возможно, маразм зашел уже так далеко, что она не понимала, каково ему было видеть ее в таком состоянии. Он сидел среди паутины серебряных проводков, а она рассеянно поглаживала Метценгерщтейна, и глаза кота, теперь гораздо более зеленые и живые, чем у нее, были устремлены на Густава. Казалось, у нее не возникало желания бороться против утраты личности. Вероятно, именно это ранило его больнее всего остального. Эланор, настоящая протореальная Эланор всегда искала новые трудности, чтобы их преодолевать, новые вызовы ее способностям; пожалуй, это была единственная черта характера, общая для них обоих. Но теперь Эланор смирилась со смертью, с потерей себя, и смирилась покорно. «Таков путь для нас всех.» Густав помнил, как она сказала это в один из последних дней прояснения сознания перед тем, как забыла его имя. «Столько наших друзей уже перешли. Мы просто воссоединяемся с ними…»
Эланор до самого конца не утратила своей красоты, но она стала похожа на куклу, на манекен самой себя, и глаза ее были пустыми, пока она сидела молча или бессвязно что-то бормотала. Веснушки исчезли с лица, нижняя губа отвисла. От нее исходил кислый запах. Когда ее наконец отключили, все произошло тихо и просто, хотя Густав настоял на своем присутствии. Правду сказать, он почувствовал облегчение, когда глаза Эланор закрылись навсегда, а ее сердце перестало биться, когда рука, которую он держал, стала еще более бессильной и холодной. Метценгерштейн поглядел на Густава в последний раз, прополз между проводками, спрыгнул с кровати и, задрав хвост, мягко ступая, вышел из палаты. Густав чуть было не схватил его, не превратил в месиво из запоминающих схем, плоти и металла. Но кота уже депрограммировали. Метценгерштейн был теперь лишь оболочкой, утешением для Эланор в ее последние сумеречные дни. Больше он кота никогда не видел.
* * *
Как обещала живая Эланор, ее призрак навестил Густава, когда прошло уже достаточно времени. И она не строила никаких планов на будущее во время этой первой встречи на нейтральной территории — в ресторанчике на набережной в виртуальном Баальбеке. Она, несомненно, понимала, как трудно это было для него. День, он помнил, был ветреным, скатерти хлопали, салфетки грозили улететь, лацкан кремового парчового жакета бился на ветру, пока она не пришпилила его брошкой. Она сказала ему, что по-прежнему его любит и надеется, что они и дальше будут вместе. Несколько дней спустя в номере того же отеля, выходящего на тот же ветреный пляж, Эланор и Густав легли в постель в первый раз с тех пор, как она умерла.
Иллюзия, не мог не признать Густав, и тогда, и потом, всегда была безупречной. И, как напомнила умирающая Эланор, у них уже было много знакомых призраков. Например, Марсель, а еще Джин, владелица галереи и агент Густава. И ведь другого выбора у Эланор не оставалось. В виртуальном призрачном ошеломлении Густав согласился, что им следует жить вместе. Они поселились в Бретани, потому что никогда прежде там не бывали, и место это не было обременено грузом воспоминаний, а многие пейзажи все еще оставались вполне терпимыми и достаточно зримыми, чтобы их писать.
К тому времени протореальность выходила из моды. В течение многих лет технологии того, что ныне называлось реальностью, были безупречными, но теперь они стали всеохватывающими. Примерно тогда, полагал Густав, хотя тут снова в его памяти имелись пробелы, и подожгли Луну. Все увеличивающиеся аппараты реальности требовали огромного количества энергии — и вот корабли-роботы направились к Луне, разместились по орбите вокруг нее и начали опылять поверхность антиматерией, простирая свои крылья, точно руки, протянутые к костру, чтобы принять и передать на Землю энергию, которую испускало это многоцветное пламя. Энергия, которую давала Луна, не была безграничной, однако ее вполне хватало. При столь многочисленных альтернативных радостях протореальный мир, подобно заброшенному саду, все больше выглядел запущенным.
Как всегда внимательная к его нуждам Эланор выбрала и обставила дом на обрыве неподалеку от Локронана и, не остановившись перед огромными дополнительными расходами, заказала изящную протореальную мебель. Около месяца, до того как были проведены линии энергопередачи и установлены аппараты трансформирования реальности, Густав и Эланор могли общаться друг с другом только через экран. Он старался убедить себя, что невозможность прикоснуться к ней была равносильна кокетству, и старался не думать о том, где именно была Эланор, когда исчезала с экрана, и действительно ли она верила, как утверждала, что представляет собой прямое бесшовное продолжение живой Эланор.
Дом пах морской солью и старым камнем, а потом добавились запахи свежей штукатурки и новых ковров, и вскоре он уже выглядел таким же очаровательным и нешаблонным, как все, что устраивала Эланор, пока была живой. Ну а стоимость всех этих изделий былых прикладных искусств, которая даже в эти щедрые времена оставалась пугающей? Эланор, подобно многим призракам, перешедшим до нее, обнаружила, что ее работа с акциями, идеями и сырьевыми мегаваттами внезапно стала много легче, ведь она могла мгновенно перенестись в любое место на Земле, чтобы заключать сделки, основанные на долгосрочных расчетах, которые были недоступны пониманию живых людей.
В первые дни, когда Эланор наконец достигла реальности их дома на обрыве в Бретани, Густав часто ловил себя на том, что наблюдает за ней. А ночью, когда она засыпала после маниакально страстных объятий, он всматривался в нее, изучал… Если она хмурилась, он объяснял это озабоченностью по поводу какой-то сделки: новый посев антиматерии поперек Моря Бурь, например, или деловая встреча в Кейптауне. А если она вздыхала и улыбалась во сне, он воображал ее в объятиях какого-то давно умершего любовника.
Разумеется, Эланор категорически отвергала подобные обвинения. Она даже создавала впечатление, что жестоко обижена. Ее конфигурация, утверждала она, обеспечивает ей пребывание именно там, где она находится. В биологическом мозгу ли, в Сети ли, человеческое сознание отличается хрупкостью, постоянно находится под угрозой разрушения. «Я действительно разговариваю сейчас с тобой, Густав». Иначе, настаивала Эланор, она распадется, перестанет быть Эланор. Как будто, мысленно возражал Густав, она уже не перестала быть Эланор.
Во-первых, она изменилась. Стала спокойнее, невозмутимее, но каким-то образом более молниеносной. Простые будничные движения — например, когда она расчесывала волосы или размешивала кофе — начинали выглядеть неловкими, аффектированными. Даже ее сексуальные предпочтения изменились. Да и переход сам по себе был переменой. Она это признавала, хотя даже ощущала и присутствие, и вес своего тела, как и его, когда он прикасался к ней. Однажды, когда их спор зашел слишком далеко, она даже ткнула себя вилкой, чтобы он наконец убедился, до какой степени она ощущает боль. Но для Густава Эланор не была такой, как другие призраки, которых он встречал и воспринимал спокойно и охотно. Они ведь не были Эланор, он никогда не любил их, никогда не писал.
Вскоре Густав убедился, что теперь он не может писать и Эланор. Он пытался, полагаясь на старые наброски и на память, а раз-два она по его настоянию ему позировала. Но ничего не вышло. Он не мог настолько забыться за мольбертом, чтобы выкинуть из памяти, что она такое. Они даже попытались завершить «Олимпию», хотя полотно и будило у них горькие воспоминания. Она позировала ему, как натурщица Мане, на которую была немного похожа; та же натурщица, которая позировала для своеобразной сцены на речном берегу, «Dejeuner sur I'herbe»[2]. Теперь, конечно, и кот, как и черная служанка, был голограммой, хотя они постарались, чтобы все остальное оставалось тем же самым. Но когда он попытался продолжить работу над картиной, что-то было утрачено, она словно поблекла. Нагота женщины на холсте больше не прятала в себе силу, и знание, и сексуальную гордость. Она выглядела уступчивой и беспомощной. Даже краски потемнели.
Эланор относилась к неудачам Густава с леденящей благожелательностью. Она была готова предоставить ему время. Он может отправиться путешествовать. А она найдет новые интересы, проникнет в глубины Сети и поживет в каком-нибудь совсем другом месте.
Густав начал отправляться на долгие прогулки по тропинкам над обрывами и по пустынным пляжам, где ничто не нарушало его одиночества. Луна и солнце иногда протягивали по воде свои серебряные дорожки. Скоро, угрюмо думал Густав, уже негде будет укрыться. А может быть, все мы перейдем, а порталы и безобразные виртуальные здания, которые все как две капли воды похожи на старинный Центр Помпиду, перестанут быть нужными. И, если не считать проблесков нескольких электронов, мир вернется к тому, каким он был до появления человека. Мы можем даже погасить Луну.
Кроме того, он начал проводить все больше времени в тех немногих частях их многокомнатного дома, где Эланор еще не восстановила протореальность, главным образом потому, что изготовление многого, ими заказанного, требовало времени. Он исследовал управление домом и узнал коды, с помощью которых можно было по желанию включать и выключать аппараты реальности. В увешанной гобеленами комнате с длинным дубовым столом, вазой с гортензиями, светлыми занавесками, колышущимися под легким бризом, достаточно было сделать нужный жест, всего лишь щелкнуть пальцами, чтобы она завибрировала и исчезла, сменившись стенами с заплесневелой штукатуркой. Кожу слегка покалывало — напоминание об отключившемся энергополе. Секунда — и все исчезло. Только протореальный вид за окном оставался таким же. А теперь — щелк! — и все вернулось, даже гнусная ваза. Гнусные цветы.
В этот день Эланор нашла его там. Густав услышал ее шаги на лестнице и понял: она изобразит изумление, что он не у себя в студии.
— Так вот ты где! — сказала она, словно слегка запыхавшись на лестнице. — А я думала…
Наконец, почесав зудящий, словно от щекотки, лоб, Густав щелкнул пальцами. Эланор и вся комната, стол, цветы, гобелены замерцали и исчезли.
Он подождал — несколько ударов сердца… нет, он действительно не знал, как долго. Бриз по-прежнему врывался в окно. Энергополе тихонько гудело в ожидании следующей команды. Он щелкнул пальцами. Эланор и комната возникли снова.
— Я думал, ты это предусмотрела, — сказал он. — Мне казалось, о себе ты позаботишься больше, чем о мебели.
— Я могла бы, если бы захотела, — ответила она. — Я не думала, что мне это потребуется.
— Да. То есть ты ведь можешь просто отправиться куда-нибудь еще, так? В какую-нибудь комнату в этом доме. В какое-то другое место. На какой-нибудь другой континент.
— Я повторяю и повторяю — это вовсе не так.
— Знаю, знаю. Сознание хрупко.
— И мы, в сущности, не такие уж разные, Гус. Я сделана из случайных капелек, удерживаемых силовым полем, но что такое ты? Подумай немножко. Ты состоишь из атомов, а они — всего лишь квантовые проблески в пространстве, частицы, которые и не частицы вовсе…
Густав уставился на нее. Он подумал — не мог не подумать, — что в прошлую ночь они занимались любовью. Просто два по-разному созданных призрака. Переплетенные, слитые воедино… наверное, она подразумевала именно это.
— Послушай, Гус, дело не в том…
— А что тебе снится по ночам, Эланор? Чем ты занимаешься, делая вид, будто спишь?
Она яростно взмахнула руками, и Густав почти узнал в этом жесте прежнюю Эланор.
— Чем, по-твоему, я занимаюсь, Гус? Пытаюсь сохранить человечность. Ты думаешь, это легко — вот так за нее цепляться? Ты думаешь, мне нравится смотреть, как ты мерцаешь и исчезаешь всякий раз, когда переступаешь границу полей? Ведь мне это представляется именно так. Иногда я жалею, что…
Тут Эланор умолкла, сверкая на него изумрудными глазами. Продолжай! Густав поймал себя на том, что мысленно подстегивает ее. Скажи это — ты, фантом, тень, привидение, призрак. Быть может, жалеешь, что просто не умерла? Однако она отдала какую-то свою внутреннюю команду — выключила комнату и исчезла.
* * *
На следующей неделе у них постоянно кто-то гостил, и Эланор с Густавом проводили почти все время в обществе мертвых и живых. Все старые друзья, все старые шутки. Густав, как правило, перепивал и начинал волочиться за женщинами-призраками, поскольку решил, что раз уж он сжимает в объятиях нанокапельки в одной конфигурации, то почему бы не попробовать в другой? Почему, черт побери, размышлял Густав, живые с такой неохотой расстаются с мертвыми, а мертвые — с живыми?
В те немногие часы, которые они тогда проводили вместе и наедине, Эланор и Густав подробно обсуждали планы путешествий. Предполагалось, что они (точнее, Эланор, благодаря своему кредиту) закажут корабль, парусник, традиционный во всех отношениях, только парусами будут служить огромные энергорецепторы, а рангоутом — структура аппарата реальности. Вместе они избавятся от всего этого и поплывут по протореальному океану, возможно, даже до самого Таити. Бесспорно, Густава заинтересовала идея вернуться к художнику, который теперь казался ему первоначальным источником его творчества. Несомненно, его настроение было достаточно угрюмым и мизантропическим, чтобы отправиться, куда глаза глядят, как когда-то поступил замученный нищетой, отчаявшийся Гоген в поисках вдохновения в Южных Морях, где затем нашел смерть от сифилиса. Но они ни разу не заговорили о том, каким окажется Таити. Конечно, там не будет туристов — кто теперь, кроме эксцентричных чудаков, обременяет себя протореальными путешествиями? Густав тешил себя мыслью, что там не будет высоких безобразных зданий и огромных реклам кока-колы, которые он увидел на старинной фотографии столицы Таити. Возможно — кто знает? — там даже не будет никаких аппаратов реальности, пауками притаившихся в тропических лесах и на пляжах. Понятное падение рождаемости к настоящему времени, конечно, привело к тому, что аборигенов там осталась горстка, и они вернулись к тому образу жизни, которого Кук, Блай и все прочие — включая даже Гогена с его живописью, мифами и сифилисом — их лишили. Вот таким Густав хотел оставить Таити.
В их дом на обрыве пришла зима. Гости отправились восвояси. Ветер гнал по океану белые гребни. У Густава появилась привычка, которую Эланор игнорировала — он почти отключал отопление, словно ему требовались холод и сырость, чтобы дом казался реальным. Таити, их парусный корабль оставались в неизмеримой дали. Не было никаких решительных объяснений — ничего, кроме постепенного отчуждения. Густав оставил попытки заниматься любовью с Эланор, как оставил попытки ее писать. Они держались дружески и приветливо. Словно ни ему, ни ей не хотелось загрязнить память о чем-то, что когда-то было чудесным. Густав знал: Эланор тревожит то, что он не принимает мер против накапливающихся признаков старения, и его отказ обзавестись библиотекарем, и даже его настойчивые попытки продолжать писать, которые, казалось, только ввергали его в депрессию. Но она ни разу ничего не сказала.
Они согласились расстаться на некоторое время. Эланор намеревалась исследовать чистую виртуальность, а Густав — вернуться в протореальный Париж и попытаться вновь обрести способность творить. Вот так, обмениваясь обещаниями и зная, что не сдержат их, Густав и Эланор наконец расстались.
* * *
Густав задвинул свою незаконченную «Олимпию» назад, к другим холстам. Он поглядел в окно и по свечению в промежутках между зданиями понял: большие аппараты реальности включились на полную мощность. Вечер — или любое время суток любой эры — был в полном разгаре.
Подчиняясь смутной мысли, Густав надел пальто и вышел на улицу. Он шел по дымным, затянутым смогом улицам, и на него как будто снисходило вдохновение. Он был настолько поглощен своими ощущениями, что не трудился обходить сверкающие пузыри аппаратов реальности. Париж в конце дня оставался Парижем, и реальности, через которые он проходил, в основном состояли из разных кафе, но среди пестрых восточных базаров и вонючих средневековых проулков попадались желтые и словно заполненные водой места — там плавали непонятные существа, для которых он не смог бы найти имени. Но в любом случае он не обращал на них внимания.
Музей Д'Орсэ возле чуть светящейся молочной Сены все еще поддерживался в безупречном состоянии. И снаружи, и внутри он был отлично освещен, и вибрирующий барьер удерживал внутри воздух, необходимый для сохранения экспонатов до того времени, когда они снова войдут в моду. Внутри он даже пах, как пахнут картинные галереи, и шаги Густава по натертому паркету отдавались эхом, и роботы-смотрители здоровались с ним. Во всех отношениях и вопреки всем годам, протекшим с тех пор, как он в последний раз был здесь, музей остался абсолютно прежним.
Густав быстро прошел мимо статуй и бронзовых бюстов, мимо больших мертвых полотен Энгра с пышнотелыми, предположительно соблазнительными ню. Затем Моро, ранний Дега, Коро, Милле… Густав постарался проигнорировать их всех. Ведь Густав ненавидел картинные галереи — хотя бы в этом он все еще оставался художником. Даже в годы, когда он постоянно их посещал, зная, как они полезны для его развития, ему тем не менее нравилось воображать себя своего рода взломщиком — забраться внутрь, ухватить нужные идеи, выбраться наружу. Все остальное, все ахи и охи были уделом простых посетителей…
Он поднялся по лестнице на верхний этаж. Под его диафрагмой возникла судорога, в горле пересохло, но за этим крылось другое чувство: покалывание силы, магии и гнева — ощущение, что, быть может…
Теперь, когда он был наверху, в коридорах и комнатах, отданных полотнам великих импрессионистов, он вынудил себя замедлить шаг. Тяжелые золотые рамы, помпезный мрамор, фамилии и даты жизни художников, которые часто умирали в безвестности, в отчаянии, болезнях, слепоте, изгнании. «Туманное утро» бедного старика Сислея. Винсент Ван Гог на автопортрете, складывающемся из сочных, чувственных трехмерных мазков. Подлинное искусство, думал Густав, действовало крайне угнетающе на художников, тщившихся стать великими. Если бы не невидимые силовые поля, защищающие эти картины, он, пожалуй, посрывал бы их со стен, уничтожил бы.
Ноги понесли его назад к Мане, к женщине, глядящей на него с «Dejeuner sur I'herbe», а затем к «Олимпии». Она не была красивой и даже не так уж походила на Эланор… Но суть не в том. Он бредет мимо буйствующих полотен, думая неужели мир когда-то был таким ярким, таким новым, таким великолепно хаотичным. И вот он оказывается лицом к лицу с поразительно малочисленными картинами Гогена, хранящимися в музее Д'Орсэ. Эти яркие ломти красок, эти печальные таитянские аборигены, которые нередко писались на мешковине, потому что ничего другого у Гогена в жаркой вони его тропической хижины не было. Ну и, конечно, он стал дико модным после своей смерти; нищета на далеком острове всем внезапно показалась крайне романтичной. Но для Гогена это признание пришло слишком поздно. И слишком поздно — пока его до тех пор ничего не стоящие полотна расхватывались русскими, датчанами, англичанами, американцами — для этих глупых, по привычке надменных парижан. Гоген не всегда справлялся со своими фигурами, но обычно ему это сходило с рук. А вот его чувство колорита было не сравнимым ни с чьим другим. Теперь Густав смутно вспомнил, что была обнаженная натура, которую Гоген написал как собственную перекошенную дань «Олимпии» Мане — даже пришпилил ее фотографию на стене своей хижины, пока работал. Но, как и подавляющего большинства остальных по-настоящему значимых картин Гогена, ее не было здесь, в музее Д'Орсэ, претендующем на звание Храма искусства импрессионистов и символистов. Густав пожал плечами и отвернулся. Он медленно поплелся назад по галерее.
Снаружи, под лунным светом среди наносмога и жужжания энергополей, Густав опять зашагал через реальности. Английское кафе-кондитерская около 1930 года. Салон гурманов. Будь они протореальными, он разметал бы чашки и тарелки, вопя в самодовольные рожи мертвых и живых… Затем он ввалился в городской пейзаж, который узнал по полотну музея Д'Орсэ, в свое время такому же культовому явлению, как песни «Битлз». La Moulin de la Galette[3]. Он был изумлен и даже ободрился, увидев ренуаровских парижан в их праздничной одежде, танцующих под деревьями среди солнечных пятен или болтающих на окружающих скамьях и за столиками. Он стоял, смотрел и почти улыбался. Взглянув вниз, он увидел, что одет в соответствующий матросский костюм из грубой шерсти. Он разглядывал фигуры, восхищался их одушевленностью, умением и — да! — убедительностью, с которой благодаря какому-то фокусу реальности они были созданы… Тут он осознал, что узнает некоторых и что они тоже его узнали. Он не успел попятиться, как его начали окликать и подзывать.
— Густав, — сказал призрак Марселя, обнимая его за плечи, обдавая запахом пота и аперитива. — Хватай стул. Садись. Давно не виделись, э?
Густав пожал плечами и взял протянутый полный до краев стакан вина. Если вино было протореальным (в чем он сомневался), то этот стаканчик поможет ему заснуть ночью.
— Я думал, ты в Венеции, — сказал он. — Как дож. Марсель пожал плечами. В его усах застряли крошки.
— Это было давным-давно. А где был ты, Густав?
— Да прямо за углом.
— Неужели все еще пишешь, а?
Густав позволил этому вопросу затеряться среди музыки и поворотов разговора. Он прихлебывал вино и посматривал по сторонам, с минуты на минуту ожидая увидеть Эланор. Тут собралось так много других! Даже Франсина танцевала с мужчиной в цилиндре и поэтому явно не была по ту сторону неба. Густав решил спросить девушку в полосатом платье, свою соседку, не видела ли она Эланор. Заговорив с ней, он понял, что ее лицо ему знакомо, но не сумел вспомнить ее имени и даже того, живая она или призрак. Она покачала головой и спросила женщину у себя за спиной, опирающуюся на спинку ее стула. Но и та тоже не видела Эланор; во всяком случае с тех пор, когда Марсель был в Венеции, а Франсина — по ту сторону неба. Вопрос рябью разбежался по площади. Но никто как будто не знал, что случилось с Эланор.
Густав встал и пошел, пробираясь между кружащимися парами и деревьями в гирляндах фонарей. Когда он вышел из этой реальности и смех с музыкой разом оборвались, его кожу начало покалывать. Избегая новых встреч, он вернулся по темным улицам в свою трущобу.
Свет заходящей луны был достаточно ярок, чтобы, вернувшись домой, он мог, не спотыкаясь, пройти через смутные обломки своей жизни — впрочем, и терминал, включенный призраком Эланор, все еще испускал виртуальное свечение. Покачиваясь, запыхавшись, Густав вошел в свой счет и увидел огромную сумму — цифру, которая у него ассоциировалась с астрономией, с расстоянием до Луны от Земли, до Земли от Солнца, — которая теперь светилась там. Тогда он прошел сквозь уровни терминала и начал искать Эланор.
Но Эланор там не было.
Густав писал. В таком настроении он любил и ненавидел холст почти в равных долях. Внешний мир, протореальный или в реальности, перестал существовать для него.
Женщина, нагая, томная, со смуглой кожей, совсем не похожей на кожу Эланор, лежит на диване, полуобернувшись, подперев лицо рукой, покоящейся на бледно-розовой подушке. Ее глаза смотрят мимо зрителя на что-то в неизмеримой дали. Она кажется красивой, но не эротически, уязвимой, но всецело ушедшей в себя. Позади нее — среди спиралей яркого, но мрачного фона — виднеются стилизованные скалы под незнакомым небом, а две странно тревожные фигуры разговаривают, и темная птица примостилась на краю балкона, может быть, ворон.
Хотя он не терпит плагиата и пишет сейчас исключительно по памяти, Густаву никак не удается оторваться от обнаженной женщины Гогена. Да, впрочем, он по-настоящему и не старается. В этой, из всех великих картин Гогена наиболее очищенной от дерьма, и отчаяния, и символизма в свое оправдание, Гоген был просто ПРАВ. И потому Густав продолжает работать, и краски уже почти подчиняются ему. Сейчас он не знает, что получится, ему это все равно. Если выйдет хорошо, то он сможет считать результат данью памяти Эланор, если же нет… Что же, он знает, закончив эту картину, начнет другую. И пока значение имеет только это.
Эланор была права, решает Густав, сказав как-то, что он абсолютный эгоист и принесет в жертву все — включая и себя самого, — лишь бы писать картины и дальше. Она была бесконечно права, но и сама она тоже всегда искала следующего вызова, следующего препятствия, чтобы их преодолеть. Конечно, им следовало бы лучше использовать время, которое они провели вместе, но, как признал призрак Эланор в кафе Ван Гога, когда она наконец пришла сказать последнее «прости», прошлого уже нельзя повторить.
Густав отступил от холста и начал его рассматривать — сначала прищурив глаза, чтобы ограничиться только фигурой, а затем и более оценивающим взглядом. Да, сказал он себе, это — настоящее. Стоящее любых мук.
Затем — хотя оставалось сделать еще многое, и краски еще не просохли, и он знал, что холсту надо дать отдохнуть — он закрутил кисть в самом черном бугре на палитре, и наляпал вверху слово NEVERMORE, и отступил на шаг, обдумывая новое полотно.
Примечания
1
Столовое вино (фр.) (Здесь и далее прим. перев.)
(обратно)2
«Завтрак на траве» (фр.)
(обратно)3
«Муллен де лa Галетт» — картина Огюста Ренуара (1841–1919)
(обратно)

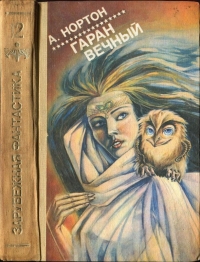
Комментарии к книге «Nevermore», Иэн Маклауд
Всего 0 комментариев