Рэй Бредбери Дело жизни Хуана Диаса
Филомена хлопнула дощатой дверью с такой силой, что свеча погасла — она и ее плачущие дети оказались в темноте. Теперь оставалось только смотреть в окно: глиняные домики, вымощенные булыжником улицы, по которым с лопатой на плече поднимался могильщик. Пока он, свернув на кладбище, не исчез, лунный свет играл на голубом металле.
— Mamasita [Мамочка — исп. ], что случилось? — Филепе, старший сын, которому только что исполнилось девять, дернул Филомену за подол. Потому что этот странный мрачный человек ничего не говорил — просто стоял у двери с лопатой, кивал и ждал, пока дверь перед его носом не захлопнулась. — Mamasita!
— Это могильщик. — Дрожащими руками Филомена снова зажгла свечу. — Срок платы за могилу твоего отца давно истек. Его выкопают и отнесут в катакомбу, прикрутят к стене проволокой, и будет он там стоять вместе с другими мертвецами.
— Нет, Mamasita!
— Да. — Она прижала детей к себе. — До тех пор, пока мы не найдем деньги. Да.
— Я… я убью этого могильщика! — закричал Филепе.
— Это его работа. Если он умрет, вместо него придет другой, потом третий и так далее.
Они стали думать об этом человеке и об этом ужасном месте на вершине холма, где он живет и ходит, о катакомбе, которую он охраняет, и о странной земле, в которую, чтобы двинуться дальше, сходят люди, высохшие, как цветы пустыни, дубленые, как сапожная кожа, и полые, как барабаны, в которые можно бить-колотить; земля превращает их в огромные коричневые сигары или шелестящие сухие мумии, которые могут гнить вечно, стоя, как покосившиеся столбы забора, разделяющего комнаты катакомбы. И молча думая обо всей этой знакомой и незнакомой чепухе, они почувствовали озноб — хотя сердца их бешено колотились — и тесно прижались друг к другу. Тогда мать сказала:
— Пошли, Филепе. — Она открыла дверь, и, освещаемые луной, они встали, готовясь услышать отдаленный звон голубого металла, кусающего землю и строящего горку из песка и старых цветов. Но ответом им было молчание звезд. — А все остальные, — добавила Филомена, — в постель.
Дверь хлопнула. Пламя свечи задрожало.
Они зашагали по булыжникам, слившимся в реку сияющего лунного серебра, которая стекала вниз по холму, мимо зеленых садиков и магазинчиков, мимо места, где весь день и всю ночь ступал могильщик, — словно били часы, отсчитывающие, сколько времени на земле отпущено жителям этого города. Наверху, там, где лунный свет стремительно скользил по камням, юбка зашелестела — будто позвала ее вперед, и Филомена, шагавшая рядом с запыхавшимся Филепе, заторопилась. Наконец они дошли до участка.
В плохо освещенном кабинете, за столом, на котором в беспорядке были разбросаны какие-то бумаги, сидел человек. Увидев вошедших, он привстал и с удивлением произнес:
— Филомена, моя кузина!
— Рикардо. — Она ответила на его рукопожатие, а потом сказала: — Ты должен нам помочь.
— Если Господь Бог не против. Но говори же.
— Сегодня… — Мучительный комок застрял у нее в горле — она откашлялась. — Сегодня его выкапывают.
Рикардо снова сел, глаза его широко раскрылись и просветлели, а затем опять сузились и поскучнели.
— Если Господь Бог и не против, то против его твари. Неужели год после его смерти так быстро пролетел и действительно пора платить? — Он развел руками. — Ах, Филомена, у меня нет денег.
— Но ты бы поговорил с могильщиком. Ведь ты полицейский.
— Филомена, Филомена, за могилой законы уже не имеют силы.
— Мне нужно, чтоб он дал мне десять недель, только десять, хотя бы до конца лета. До Дня поминовения. Я что-нибудь придумаю, пойду торговать леденцами, наскребу и ему отдам. О, пожалуйста, Рикардо!
Но дольше выдерживать холод было уже невозможно, от него надо избавиться, пока она совсем не замерзнет и не сможет двинуть ни рукой ни ногой; она закрыла лицо руками и заплакала. Увидев, что это можно, Филепе тоже стал плакать и повторять:
— Mamasita, mamasita!
— Ну ладно, — сказал Рикардо, вставая — Давай подойдем к воротам этой катакомбы, и я туда плюну. Но, Филомена, что еще я могу тебе ответить? Веди нас. — И он надел свою форменную фуражку, очень старую, очень грязную и очень поношенную.
Кладбище находилось выше церкви, выше всех домов, на самой вершине холма, и смотрело сверху вниз на затаившийся в долине ночной город.
Они вошли в огромные железные ворота, двинулись вдоль плит и тут же увидели стоявшего на краю могилы человека. Яма, которую он копал, вытаскивая лопату за лопатой сухую грязь, становилась все больше, как и холмик с ней рядом Могильщик даже не поднял головы: он и так догадался, кто это.
— Никак Рикардо Албаньес, начальник полиции?
— Перестань копать, — сказал Рикардо.
Лопата сверкнула, вонзилась в землю, поднялась и выбросила горсть песка.
— Завтра похороны. Могила должна быть готовой.
— Но в городе никто не умирал.
— Всегда кто-нибудь умирает, потому и копаю. Я уже два месяца жду, пока Филомена отдаст долг. Я терпеливый.
— Так потерпи еще. — Рикардо дотронулся до сгорбленной спины склонившегося над могилой человека.
— Начальник. — Могильщик сделал паузу, пот стекал с его лица прямо на лопату — Это ведь моя страна — страна мертвых. И они мне ничего не говорят, никто не говорит. Моей страной управляет лопата, этот стальной разум. Я не люблю, когда сюда приходят живые и разговаривают, нарушают молчание, ведь я его здесь установил и оберегаю. Разве я вам диктую, как управлять полицией? А значит, спокойной ночи. — И он снова принялся за работу.
— Неужели перед лицом Господа Бога, — сказал Рикардо, стоя прямо и прижав кулаки к бокам, — этой женщины и ее сына ты осмелишься осквернить последнее ложе их мужа и отца?
— Не последнее и тем более не его, это место я сдал им в аренду. — Он высоко вскинул лопату, в ней отразился лунный свет. — Я не просил мать и сына наблюдать за этим печальным событием. И послушайте, Рикардо, начальник полиции. Однажды ведь и вы умрете, и я буду вас хоронить. Запомните — я. Вы будете у меня в руках. И тогда, о тогда…
— Что тогда? — закричал Рикардо. — Ты что, собака, мне угрожаешь?
— Я копаю. — Человек быстро исчез в глубине могилы, а за него в холодном свете говорила теперь лопата. Она повторяла: — Доброй ночи, сеньор, сеньора, nino [мальчик — исп.]. Доброй ночи.
У двери глиняного домика Рикардо погладил кузину по голове и потрепал по щеке.
— Филомена, о Господи!
— Ты сделал что мог.
— Он ужасный. Когда я умру, он надругается над моим беспомощным телом! Да, бросит меня в могилу вверх ногами или подвесит за волосы в дальнем, невидимом углу катакомбы! Знает, что всех нас когда-нибудь заполучит, вот и пользуется. Доброй ночи, Филомена, хотя нет, ночь не может быть доброй.
Он вышел наружу.
Войдя к себе, Филомена села и, окруженная детьми, спрятала голову в колени.
Во второй половине следующего дня, когда солнце уже начало садиться, дети с пронзительными визгами бежали за Филепе. Он упал, а они его окружили и стали смеяться:
— Филепе, Филепе, а мы твоего отца сегодня видели, правда!
— Где? — спрашивали они себя и тут же отвечали: — В катакомбе!
— До чего ленивый — стоит там и стоит.
— И позабыл про работу.
— И даже не разговаривает. Ох уж этот Хуан Диас!
Филепе стоял под жарким солнцем и дрожал всем телом, а горячие слезы катились из его широких и ничего не видящих глаз.
Филомена была дома и все слышала — ей будто нож в самое сердце всадили. Она прижалась к холодной стене, и волны воспоминаний стали ее захлестывать.
В последний месяц жизни Хуан, мучившийся болями и кашлем, весь в испарине, только глядел на грубый потолок над соломенным матрасом и шептал:
— Ну что я за человек, если мои дети и жена голодают, а? И что это за смерть — смерть в постели?
— Тихо. — Своей прохладной рукой она закрыла его пылающий рот, и тогда он начал говорить сквозь ее пальцы:
— Что принес нам брак? Голод и болезни — и больше ничего. О Господи, ты же хорошая женщина, а я покидаю тебя, не оставив денег даже на собственные похороны!
А потом он сжал губы, что-то выкрикнул в темноту и, взяв ее руки в свои, долго держал их в теплом сиянии свечи, в яростном экстазе давая обеты:
— Филомена, послушай, я тебе помогу. Не сумел защитить тебя при жизни — сделаю это после смерти. Не кормил — скоро буду приносить в дом еду. Пусть я был бедный, но умру — и больше бедным не буду. Это я наверняка знаю, будь уверена. После смерти я буду работать и сделаю очень многое. Не бойся. Поцелуй маленьких. Филомена, Филомена…
А потом сделал глубокий вдох, последний раз с трудом глотнул воздух, как человек, который хочет нырнуть, и плавно, не дыша, ушел под воду, будто испытывал себя на прочность вечностью. Они долго ждали, когда пойдут пузыри, но их не было, и на поверхности жизни он так и не появился. Его тело лежало на матрасе, словно сделанный из воска плод — яблоко, которое невозможно было надкусить…
И его положили в сухую землю, которая, как огромный рот, поглотила его, впитала влагу его жизни, высушила, как древнюю рукопись, и в конце концов превратила в мумию, светлую, словно солома. Сухой стебель — вот-вот его унесет осенний ветер.
С тех пор эта мысль не покидала Филомену — чем она будет кормить своих осиротевших детей, когда Хуан, лежа в блестящем серебристом ящике, превратился в коричневый креп; как ей увеличить длину их костей, как вырастить им зубы, чтобы они улыбались, как сделать розовыми их щеки.
Дети на улице снова закричали, бросаясь на Филепе. Филомена посмотрела на вершину холма — там стояли туристские автобусы, приезжавшие из Америки. Их пассажиры даже сейчас платили по одному песо этому мрачному человеку с лопатой — платили только за то, чтобы войти в катакомбу и посмотреть на стоящих там мертвецов. Чтобы увидеть, что высушенная земля и горячий ветер делают в этом городе с каждым его жителем.
Филомена наблюдала за автобусами, а голос Хуана шептал:
— Филомена… — и еще раз: — Это я знаю наверняка. После смерти я буду работать… И больше бедным не буду… Филомена… — Его голос, как призрак, исчез. Она пошатнулась: голова закружилась, потому что в нее пришла ошеломляющая мысль, и сердце бешено забилось.
— Филепе! — вдруг позвала она.
Филепе удалось наконец освободиться, он вбежал в дом и громко спросил:
— Да, mamasita?
— Сядь, nino, нам надо поговорить, именем всех святых, надо!
Она почувствовала, как ее лицо стало старым, потому что душа состарилась тоже, и она проговорила, очень медленно и с трудом:
— Сегодня вечером мы должны тайно проникнуть в катакомбу.
— Возьмем ножик, — Филепе оскалил зубы, — и убьем мрачного человека?
— Нет-нет, Филепе, послушай.
И он стал слушать, что она придумала.
Прошли часы, и наступило время Церкви. Время колоколов и пения. Воздух долины был напоен голосами, поющими вечернюю мессу, дети с зажженными свечами стройными рядами шли на ту сторону темного холма, где огромные бронзовые колокола, раскачиваясь, оглашали долину оглушительным звоном, от которого оставшиеся на опустевших дорогах собаки подпрыгивали и заливались.
Кладбище было сейчас беломраморным, словно от снега, и все светилось и блестело. Шероховатый гравий казался градом, ниспосланным Богом; он хрустел под ногами Филомены и Филепе, а за ними в лунном свете неотступно следовали их черно-чернильные тени. Они с опаской взглянули через плечо, но никто не крикнул им «стой!». Увидели могильщика, его безногую, двигавшуюся вниз по холму тень — видно, он срочно кому-то понадобился. А теперь:
«Быстро, Филепе, замок!»
Вместе они вставили между замком и деревянными дверьми длинный металлический прут — он лежал рядом на сухой земле. Дерево затрещало, запоры ослабли. Вместе налегли на тяжелую дверь — она с грохотом подалась назад. И вместе стали всматриваться в эту самую темную и самую тихую ночь. Внизу их ждала катакомба.
Филомена расправила плечи и вдохнула воздух:
— Пошли.
И сделала первый шаг.
В глиняном домике Филомены Диас в беспорядке спали дети; ночная прохлада вынуждала их прижиматься и согревать друг друга теплым дыханием.
Вдруг они все как один дружно открыли глаза.
Шум шагов, медленных, отрывистых, послышался снаружи. Дверь рывком отворилась, и через мгновение неясные силуэты трех людей стали вырисовываться в белизне вечернего неба. Один ребенок сел и зажег спичку.
— Нет. — Свет ей мешал, и Филомена резко выбросила руку вперед — спичка куда-то улетела. Она сделала глубокий вдох. Дверь захлопнулась. В комнате снова воцарилась темнота. И этой темноте Филомена сказала: — Свечу не зажигать. Ваш отец вернулся домой.
В полночь в дверь стали долго и настойчиво колотить.
Филомена открыла.
Могильщик крикнул ей в лицо:
— Вот она, воровка!
Позади него стоял Рикардо, его лицо было помято и казалось очень старым и усталым.
— Кузина, прости, ты разрешишь нам… Наш друг…
— Ничей я не друг, — продолжал кричать могильщик. — Сломали замок, украли тело. Опознать тело — значит найти вора. Я не мог вас сюда не привести. Арестуйте ее.
— Подожди-ка, пожалуйста, минутку, — сказал Рикардо. Он отошел от могильщика и, с важным видом повернувшись к кузине, спросил: — Мы можем войти?
— Там, там! — Могильщик прыгнул в дом, диким взглядом стал смотреть по сторонам, а потом показал в дальний угол. — Видите? Но Рикардо не сводил глаз с женщины и мягко позвал:
— Филомена!
Филомена выглядела сейчас как человек, который шел сквозь длинный темный туннель и наконец подошел к его концу — увидел тень наступающего дня. В ее глазах была уверенность, а рот знал, что сказать. Ужас ушел, его место занял свет, исходивший от огромной охапки осенней соломы — она вместе с сыном принесла ее сверху. И больше ничего случиться с ней не могло; это можно было понять по тому, как она держалась, когда ответила:
— Мумий здесь нет.
— Я тебе верю, кузина, но… — Рикардо тяжело откашлялся и поднял глаза. — А что там стоит у стены?
— Это для Дня поминовения. — Филомена даже не взглянула туда, куда он показал. — Взяла бумагу, муку, проволоку и глину и сделала из них человека… Да, он похож на мумию.
— Ты действительно его сделала? — ошеломленно спросил Рикардо.
— Да нет же, нет! — Могильщик весь затрясся от возмущения.
— С твоего разрешения. — Рикардо прошел в комнату, встал лицом к лицу с прислоненной к стене фигурой и направил на него фонарик. — Так, — сказал он. — Все точно.
Филомена посмотрела в открытую дверь на лунную ночь.
— Просто мне подсказали, как ее сделать, эту мумию.
— Кто подсказал? — удивился могильщик, поворачиваясь к ней.
— Есть-то нам нужно. Или ты хочешь, чтобы мои дети голодали?
Но Рикардо не слушал. Он стоял у стены, наклоняя голову то так, то эдак, тер подбородок и искоса смотрел на высокую фигуру, которая стояла в собственной тени и, прислонясь к стене, хранила молчание.
— Игрушка, — размышлял вслух Рикардо, — самая большая игрушка, которую я когда— либо видел. А видел я и скелеты в человеческий рост в витринах, и картонные гробы с пряничными черепами внутри. Да. Но это… Это какой-то ужас, Филомена!
— Ужас? — спросил могильщик, и его голос задрожал. — Но это же не игрушка, это…
— Поклянись, Филомена, — сказал Рикардо, даже не взглянув на него. Он протянул руку и несколько раз, как по ржавому железу, постучал по груди человека. Звук был похож на дробь одинокого барабана. — Поклянись, что это папье-маше.
— Клянусь Пресвятой Девой!
— Что ж, хорошо. — Рикардо пожал плечами, фыркнул и засмеялся. — Раз ты поклялась Пресвятой Девой, что еще надо? К суду я тебя привлечь не могу — потребуются недели или даже месяцы, чтобы доказать или опровергнуть, что это сделано из мучной пасты и старых газет и раскрашено бурой землей.
— Недели, месяцы, доказывать, опровергать! — кричал могильщик направо и налево, желая показать, что здравый смысл в этих стенах полностью отсутствует. — Да эта «игрушка» — моя собственность, моя!
— Игрушка, — спокойно ответила Филомена, глядя вдаль на холмы, — если это игрушка — сделана мной и, безусловно, принадлежит мне. Но даже, — продолжала она, словно наслаждаясь спокойствием, которое в нее вселилось, — даже если это не игрушка и Хуан Диас и в самом деле вернулся домой, что ж, разве он в первую очередь не принадлежит Господу Богу?
— Да кто с этим спорит? — удивился Рикардо.
Могильщик хотел сделать еще одну попытку. Но прежде чем он успел что-то пробормотать, Филомена сказала:
— Как-то в Страстную неделю по воле Господа Бога, перед лицом Господа Бога, на алтаре Господа Бога и в церкви Господа Бога Хуан Диас сказал, что всегда будет моим.
— Вот именно, всегда, — обрадовался могильщик. — Но его «всегда» кончилось, и сейчас он мой.
— Итак, — продолжала Филомена, — во-первых, он — собственность Господа Бога, а потом уже собственность Филомены Диас. И даже если это не игрушка, а настоящий Хуан Диас, даже в этом случае, хозяин мертвых, ты выселил своего квартиранта, более того, ты сказал мне, что он тебе не нужен. Но если ты так его любишь и хочешь обратно, заплати нам — и бери на здоровье.
От возмущения могильщик язык проглотил — и вмешался Рикардо:
— Кладбищенский сторож, в течение многих месяцев я наблюдаю многих адвокатов, выслушиваю много различных, великолепных доводов по тому или иному делу — тут и продажа земельных участков, и производство игрушек, и многое другое. Но Боже мой, в этом деле Филомены и Хуана Диаса, или кто бы это ни был, с одной стороны — голодные дети, с другой — совесть могильщика и столько разных сложностей, что твой бизнес так или иначе пострадает. И неужели, несмотря на все это, ты готов потратить долгие годы, чтобы преследовать ее по суду?
— Готов, — ответил могильщик и замолчал.
— Дорогой мой человек, — сказал Рикардо, — однажды ты дал мне маленький совет, и теперь я хочу отплатить тем же. Я не учу тебя охранять мертвых. Но и ты в свою очередь не учи меня охранять живых. Твои полномочия оканчиваются внутри кладбища, а за воротами люди переходят под мое начало, и неважно, молчат они или говорят. Так что…
Рикардо еще раз стукнул по полой груди Хуана Диаса. Грудь зазвенела, словно сердце забилось, — от громкого вибрирующего звука могильщик вздрогнул.
— Я официально заявляю, что это подделка, игрушка, а вовсе не мумия. Мы только время зря теряем. Пойдемте, господин могильщик, обратно в ваши собственные земли. Спокойной ночи, дети Филомены и Филомена, дорогая кузина.
— А как насчет этого, насчет него? — спросил могильщик, не двигаясь и показывая на фигуру.
— Чего ты волнуешься? — спросил Рикардо. — Никуда он не денется, останется на месте. Хочешь — обращайся в суд. Или ты считаешь, что он убежит? Нет? Тогда спокойной ночи. Спокойной ночи.
Дверь захлопнулась — они вышли прежде, чем Филомена успела протянуть руку и выговорить слова благодарности.
В темноте она потянулась за свечой, чтобы поставить ее в ногах человека, выглядевшего сейчас как сухой початок кукурузы в обертке. «Плащаница», — подумала она и зажгла свечу.
— Не бойтесь, дети, — сказала она вслух. — И идите спать. Спать.
Филепе лег, легли и другие. Наконец, не погасив свечи, легла и сама Филомена — на плетеный матрас, накрывшись простым тонким одеялом, но прежде, чем заснуть, успела обдумать многое из того, что ей предстоит сделать завтра. «Утром, — думала она, — туристские автобусы снова зашумят по дороге. Филепе подойдет к ним и расскажет пассажирам о нашем месте. А на двери уже будет висеть яркое объявление: „Музей — 30 сентаво“. И туристы повалят, потому что, хоть кладбище и на холме, наш дом от него совсем рядом и его легко найти. И когда-нибудь, очень скоро, на деньги этих туристов мы починим крышу и купим большие мешки свежей кукурузной муки и мандарины, да, для детей. И может быть, когда-нибудь мы все переедем в Мехико, где дети будут ходить в большую школу. И все из-за того, что случилось сегодня».
«А ведь Хуан Диас и в самом деле вернулся, — подумала она. — Он здесь и ждет тех, кто придет на него посмотреть. У его ног я поставлю чашку, и туристы набросают в нее куда больше денег, чем он мог заработать».
— Хуан. — Она подняла глаза. Дыхание детей согревало ее, словно в доме был очаг. — Хуан, ты видишь? Ты понимаешь? Ты на самом деле понимаешь? И ты прощаешь, Хуан, ты прощаешь?
Пламя свечи задрожало.
Она закрыла глаза. Из-под опущенных век она словно видела улыбку Хуана Диаса, но была ли это улыбка, которую смерть начертала на его устах, или только что родившаяся улыбка, которой он улыбался ей одной, или она вообще ее вообразила — этого точно сказать она не могла. Но чувствовала, как он стоит, высокий и одинокий, и остаток ночи будет гордо их охранять.
Где-то далеко залаяла собака, но никто, кроме могильщика, одиноко бродившего по кладбищу, ее не слышал.


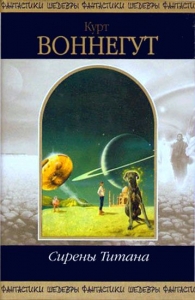
Комментарии к книге «Дело жизни Хуана Диаса», Рэй Брэдбери
Всего 0 комментариев