Владимир Алексеевич РЫБИН ЧТО МЫ ПАНДОРЕ?
Любая неполадка в системе подпространственного перехода кончается катастрофой. Корабль превращается даже не в пыль, даже не в свет — в ничто. Это было непонятно, и вначале ученые, завороженные законом сохранения энергии, верили, что корабль просто-напросто проваливается в антимир или в какую-то подобную прорву. Потом разобрались: все превращается в поле, исчезающе слабое на фоне гигантских энергетических и прочих полей Вселенной.
А на этот раз катастрофы не произошло. Мы поняли, что находились на грани гибели, лишь после того, когда все осталось позади. Но задним числом страх не тот — его затапливает радость.
Обычно материализация происходит вдали от звездных масс. На этот раз мы «выскочили» вблизи огромного розового солнца, кинулись в сторону, чтобы не вызвать его особых гравитационных реакций и чтобы уйти поскорей от энергетических возмущений вакуума. Последнее, впрочем, предписывалось программой суперперехода. Мы мчались с максимальным ускорением, с опасением оглядываясь на приборы — фиксаторы мощных, все уплотняющихся потоков солнечных корпускул. И уже на другой день увидели Ее.
Голубой лодочкой она плыла в черной пустоте, и первое, что испытал каждый из нас, было глубокое сочувствие к ней, одинокой, сострадание, даже нежность. Мы любили эту планету еще до того, как разглядели ее моря и материки. Анализаторы, уловившие излучения планеты, показали, что она наделена всем — теплом и светом, водой и жизнью. Да, да, жизнью и, возможно, разумной, так сложен был спектр излучений.
— Всем одаренная!..
Это определение впервые вырвалось у Пандии, нашего корабельного врача, юной, чуточку взбалмошной девушки, которую все на корабле обожали и побаивались за проницательный аналитический ум и острый язычок, а я… Впрочем, что обо мне говорить…
— Назовем планету — Пандия, — осторожно предложил я.
— Если всем одаренная, значит, Пандора. Так по древнегреческой мифологии, — сказал кто-то.
— Пусть будет Пандора, — согласился командир. — Но запишем, что это название в честь нашей милой Пандии. Возражений нет?
Возражений не было, и он ввел название вновь открытой планеты в корабельный журнал. Но тут многие начали вспоминать, что мифологическую Пандору боги одарили не столько добродетелями, сколько человеческими недостатками — коварством, хитростью. Ведь она и сотворена была Гефестом и Афиной в наказание людям за поступок Прометея, похитившего для человечества с неба огонь. Однако вносить поправки в корабельный журнал было не принято. На этом никто и не настаивал. Многие ли помнят мифологию? Зато Пандора — звучало.
Кровавый зрачок на приборе, регистрирующем возмущение вакуума, то вспыхивал, то угасал. Но это никого не беспокоило: так ему и полагалось, вакууму, исторгающему материю в виде корабля со всей его автоматикой-кибернетикой и нами, пятерыми путешественниками, через небытие пространства. Волновало другое: почему вакуум так спокоен? Даже инструкция, впитавшая опыт многих успехов и неудач, предупреждает об опасности взрыва вакуума. Ворваться в его таинственные поля все равно, что бросить песчинку в перенасыщенный раствор. В мгновение ока начинается кристаллизация, и песчинка оказывается замурованной в прочнейшем саркофаге из монолитно сцепившихся молекул. А бывало и так: корабль выныривал из подпространства вместе с гигантским пузырем нового солнца, оторваться от которого, естественно, не удавалось.
На этот раз все было спокойно, будто мы вовсе не исчезали в пустоте и не материализовались вновь. Возникло даже подозрение, что ничего у нас не получилось: мы остались в своей же Солнечной системе и, не узнав ее поспешили переименовать собственную Землю.
Уходя в пространство со скоростью солнечного ветра, мы успели выбросить на Пандору автоматический зонд. Но он исчез, едва вошел в атмосферу планеты. Выбросили еще один, но и его — будто не бывало. Это было немыслимо: автоматические зонды достаточно автономны, чтобы в случае какой-либо опасности для них изменить программу полета и возвратиться на корабль. Или уж во всяком случае сообщить о том, что с ними происходит. А тут быстрое затухание радиосигналов, точно атмосфера планеты была непрозрачна для них.
Пока продолжался полет по вытянутой в пространство орбите, мы все ломали головы над тайной Пандоры. Вакуум оставался спокойным, и у нас не было никаких оснований уходить далеко. Уже на третьи сутки мы решили вернуться к планете и лечь на дальнюю круговую орбиту.
Голубоватый диск планеты висел над нами, ослепительно сияя зеркальными отражениями океанов. Она была красива и ночью, эта Пандора, расцвеченная гирляндами подвижных огоньков. Одних этих огней было достаточно, чтобы поверить в высокоразвитую цивилизацию, существующую здесь. Но мы и без огней знали, что она есть, цивилизация: об этом ясней ясного говорили аномальные тепловые излучения, напряженное псиполе, свидетельствующее о высшей степени нервной деятельности живых организмов. Только радиосигналов никаких не было, словно местная цивилизация развивалась по каким-то неведомым путям, не знающим электромагнетизма.
В течение нескольких суток мы ждали, держа наготове все наши защитные средства. Но никто не приблизился к нам, и что было удивительнее всего приборы не зафиксировали ни единого сигнала, ни одной попытки хоть как-то прощупать корабль. Нас не замечали. И тогда, как это часто бывает с людьми, полностью уверовавшими в свою безопасность, мы чуточку зазнались.
— Не висеть же так до скончания века, — однажды за обедом в кают-компании сказала Пандия и с вызовом посмотрела на меня.
Я отвел глаза, как всегда отводил их под взглядами Пандии, и промолчал. Конечно, следовало что-либо ответить. Потому что кому еще не отвечать на подобные вызовы, как не космическому разведчику, призванному первым вторгаться в неведомое. Но случай был слишком необычный, в таких случаях решать не мне.
Неожиданно Пандию поддержал командир:
— В самом деле, надо что-то предпринимать.
Одного за другим он оглядел всех членов экипажа, всех специалистов, но мы только пожали плечами. Не было никаких, совершенно никаких оснований опасаться Пандоры, но два пропавших катера слишком много значили, чтобы терять бдительность. Ни у кого не было предложений.
— Если наш разведчик трусит, то я сама могу повести катер на планету, — сказала Пандия.
Предложил бы это кто другой, я не обратил бы внимания. Но выглядеть трусом в глазах Пандии мне никак не хотелось. И я сказал:
— Это противоречит инструкции…
Лучше бы я не упоминал об инструкции, потому что Пандия терпеть не могла никаких предписаний, придерживаясь убеждения, что в глубинах человеческой психики скрыто куда больше возможностей, чем мы полагаем, и предощущение, предчувствие лучше любых инструкций ограждает от бед.
— Ну конечно, — съязвила она, — в инструкциях ясно прописано, как спастись. Если строго следовать инструкциям, то лучше бы оставаться на Земле…
— Хватит тебе, — поморщился командир. — Что ты на него взъелась?
— Я?! На него?! Больно надо!..
Все засмеялись за столом, и она обиженно замахала своими ресницами, оглядываясь по сторонам.
— Ничего смешного не вижу!..
— Да ты не обижайся, — сказал ей командир. — Это мы так. Была бы у меня хоть какая-нибудь надежда на успех, отправил бы я вас вдвоем. Разбирайтесь там…
Снова все засмеялись, а я замер, прямо-таки застыл от предчувствия такого счастья. Пандия и я! Вдвоем! В открытом космосе! О таком я не мечтал даже и во сне.
— Можно попробовать за зондом, — робко предложил я.
— Как это за зондом?
— На разведочном катере. Не выпуская зонд из виду. Чтобы, так сказать, визуально проследить, в какой момент и куда пропадают зонды.
— В этом что-то есть, — сказал командир. — Давайте-ка все просчитаем…
Если бы я знал о том, что ни для кого не было секретом. Но влюбленные глухи. Как глухари, которые во время брачного пенья ничего не видят и не слышат…
На нашей стороне Пандоры была ночь, когда разведочный катер летающая тарелочка, как мы его, любя, называем, — беззвучно выскользнул из стартовой камеры, медленно отдалился от корабля и, включив тормозные дюзы, стал падать на планету, переходя на более низкую орбиту, на которой уже находился очередной зонд. Этот зонд казался крохотной звездочкой, готовой вот-вот затеряться среди других звезд.
Планета никак не реагировала на наше к ней приближение. Ни один импульс не шелохнулся на приборах, и наш премудрый кибер — автономное электронное устройство катера — даже при самом пристрастном опросе не высказывал никаких опасений, словно мы для планеты не существовали.
— Это даже обидно, — сказала Пандия.
— Что? — не понял я.
— Чего они на нас внимания не обращают?
— Так хорошо, что не обращают…
— Ничего хорошего! — оборвала меня Пандия, и я подумал, что женщина и в дальнем космосе остается женщиной, все-то ей хочется, чтобы ее замечали.
Но Пандия, оказалось, думала о другом.
— По ответной реакции судят о намерениях, — сказала она. И добавила сердито и назидательно, совершенно уверенная в своем праве учить меня: даже звери, прежде чем напасть, шипят, рычат или лают, давая знать о себе. Чтобы увидеть, как среагирует жертва, и понять, что делать дальше, преследовать или самому удирать.
И снова я подумал о женской психологии. Как видно, корни ее кроются в древних инстинктах. Неистребимая потребность женщины выделяться, жажда внимания к себе, может, это и есть рудиментарный остаток стремления проверить реакцию мужчины? Чтобы понять, что делать дальше — продолжать преследовать или спасаться бегством.
— Ну что же, давай порычим.
— Я говорю серьезно! — вскинулась Пандия.
— И я серьезно. Давай как-нибудь проявим себя.
Катер нырнул на ночную сторону планеты, мы вытолкнули фонарь, и он, падая и обгоняя нас, вспыхнул так ослепительно, что защитное поляризационное устройство резко затенило окна. Подобные фонари мы выбрасывали над мертвыми планетами, чтобы осветить их при ночной посадке. Не увидеть эту вдруг ярко вспыхнувшую луну может только слепой. И мы, естественно, ждали хоть какой-нибудь реакции Пандоры. Но опять ничего не произошло. Ну совершенно ничего — ни ответной вспышки, ни хоть какого-нибудь радиоимпульса. Словно обитатели планеты начисто были лишены любопытства.
— Это даже обидно, — сказал я.
— А что я говорила! — воскликнула Пандия, обрадованная, что вышло по ее.
Снова мы выскочили в ослепительный солнечный свет, снова залюбовались голубыми морями, изумрудной зеленью лесов. Зонд, теперь летевший впереди нас так близко, что мы ясно видели его раскинутые крыльями солнечные батареи и сетчатые чаши антенн, повинуясь программе, начал удаляться, переходя на более низкую орбиту. И вдруг его радиоголос пропал. Мы все еще видели сияющую точку зонда, но он молчал, словно все радиопередатчики его внезапно вышли из строя.
Сообщив на корабль о случившемся, мы, чтобы не потерять зонд из виду, тоже включили тормозные устройства и скоро услышали голос зонда. Но теперь исчез корабль. Сразу исчез, на полуслове.
Целых полтора оборота — день, ночь и еще день — летели мы, перебрасываясь с зондом малозначащей информацией, стараясь не потерять его из виду и раздумывая, что теперь делать.
— Вдруг мы уже в ловушке, — сказала Пандия. — Вдруг так и будем летать вдвоем…
— Я бы не возражал…
— Вечно ты со своими глупостями! — взорвалась она. И добавила неожиданно капризным тоном: — Только о себе и думаешь.
— Я только о тебе думаю…
— Нашел время любезничать!
Однако в голосе ее уже не слышалось ни капризности, ни раздражения, и я промолчал, не стал объяснять, что вовсе не собирался любезничать, а просто хотел успокоить Пандию, не показать, что встревожен положением не меньше ее.
— Попробуем подняться, — сказал я. — Зонд, конечно, потеряем. Но хуже, если потеряем корабль.
Огненный всплеск под дюзами двигателя был коротким, и ни я, ни Пандия даже не почувствовали, как выскочили на более высокую орбиту. Зонд, все время маячивший впереди, конечно, сразу исчез из поля зрения. Зато мы услышали корабль.
— Что случилось? — обеспокоенно спросил командир. — Куда вы пропали?
Я доложил обо всем и высказал предположение, что мы, вероятно, имеем дело с каким-то экраном, непрозрачным для радиоволн.
— А потому, — сказал я, покосившись на Пандию, обычно не терпевшую, когда решали за нее, мы считаем возможным действовать самостоятельно, то есть сойти на низкую орбиту, разыскать хотя бы один из зондов и попытаться сесть рядом с ним.
— Вы понимаете, что рискуете?
— Рисковать — моя специальность.
— Но не Пандии. Она всего лишь врач.
— А я не трусиха! — с вызовом заявила Пандия, и я понял, что командир нарочно поддел ее. Потому что кто-кто, а она-то из одного лишь противоречия ни за что не откажется от посадки.
Тут наш разведочный катер скользнул за планету и голос командира пропал. Я не стал дожидаться, когда мы снова войдем в зону радиовидимости, — вдруг командир передумает, — включил двигатель на торможение, и мы вмиг оказались под этим таинственным экраном, не пропускающим радиоволны.
Зонды мы отыскали на четвертом витке. Они стояли неподалеку друг от друга и непрерывно передавали данные о планете — составе атмосферы, плотности грунта, температурных режимах, интенсивности гравитационного, радиационного, биоэнергетического и прочих полей. Все было в таких параметрах, что о лучшем и не мечтать, хоть снимай скафандр и ложись на зеленую травку, загорай.
Мы приземлились, или, точнее сказать, «припандорились», вблизи от зондов на небольшую каменистую площадку, выступающую над обширным полем, и ровную, словно специально приготовленную для нас. Солнце садилось, лучи его оттеняли неровности рельефа, высвечивали изумрудную зелень трав и мелких кустарников, бугрившихся по всему полю.
Подчиняясь программе, заложенной в них на случай такого вот коллективного приземления вместе с разведочным катером, зонды вытолкнули из своего металлоорганического чрева длинные, согнутые в коленях, ноги и, как гигантские пауки, пошагали к нам через поле. Приблизились с разных сторон и застыли неподалеку, чтобы в случае нужды защитить катер от нападения, а то и принять на себя первый удар. Так и стоял наш десантный отряд, прислушиваясь к малейшему шороху, приглядываясь к малейшему движению, ощупывая окрестности лучами радаров. Ночь так стоял, день и еще одну ночь. По-прежнему тихо было вокруг. Не сбегались толпы любопытных аборигенов, которых так хотелось увидеть, не появлялись какие-либо механизмы, которые должны были появиться хотя бы для того, чтобы выяснить, кто такой пожаловал на планету. А то, что цивилизация здесь существовала, и довольно высокая, говорили, прямо-таки кричали приборы, фиксирующие интенсивность псиполя.
— Тут какая-то тайна, — сказала Пандия, устав от ожидания.
— Загадок в космосе не бывает, — машинально ответил я.
— Вечно ты возражаешь.
— Но ведь это правда. Тайнами мы называем то, чего не понимаем. Но все в конце концов объясняется, и тогда нам самим бывает неловко за нашу, пусть мимолетную, веру в существование таинственного…
Она не дала мне дальше развить мысль о человеческих заблуждениях, казавшуюся мне такой глубокой.
— Ну и что? Ты должен согласиться.
— Как это согласиться. С абсурдом?..
Я тотчас понял, что говорю не то, и лихорадочно начал придумывать, как бы загладить свою вину. Но, взглянув на Пандию, увидел, что она меня даже и не слушает, смотрит, не мигая, куда-то в россыпь кустов и лицо ее каменеет от напряженного ожидания.
— Там, — прошептала она, указав глазами на кусты. — Там кто-то есть.
Из-за куста появилось существо, похожее на собаку, и затрусило в нашу сторону. Зазуммерил сигнал тревоги, наш катер и все три зонда ощетинились излучателями. А существо все приближалось. Странно как-то приближалось, зигзагами, должно быть, хитрило. И без анализаторов было ясно, что это не слишком высокоразумное существо, потому что не может же высокий разум бегать на всех четырех конечностях. Приборы фиксировали каждый шаг, каждый взгляд равнодушных зеленых глаз. Анализаторы лихорадочно обобщали показатели приборов, торопясь понять намерения существа и заранее выработать систему действий в случае его агрессивности. А четырехногое существо, будто и не замечая нас, вплотную приблизилось к катеру. И тут его заинтересовала пятая опора, глубоко вошедшая в грунт. Оно осмотрело ее со всех сторон, вроде даже обнюхало, а затем вдруг подняло заднюю лапу и опросталось на блестящую ледоритовую поверхность опоры.
Все мы отреагировали на этот поступок аборигена по-разному. Электронный мозг, со свойственной ему педантичностью, принялся за анализ жидкости, вылившейся на опору. Я расхохотался, подумав, что так нам и надо, космическим снобам, уверовавшим в свою исключительность, которой, по нашему мнению, все во Вселенной должны либо бояться, либо жаждать. А Пандия побелела от злости.
— Долго мы будем тут сидеть?! — спросила она таким тоном, будто во всем виноват был один я.
— Столько, сколько нужно.
— Кому нужно? Тебе? Перестраховщик несчастный. Ты можешь сидеть, а я выйду.
— Без моего разрешения люк не откроется.
— А ты разрешишь.
— Не разрешу.
— Нет, разрешишь!
— Нет, не разрешу!
— Ну, пожалуйста, — вдруг взмолилась она, поразив меня такой неожиданной трансформацией. То была сама злость, а то стала сама нежность, какая-то беспомощная детская доверчивость. И я с удивительной непоследовательностью подумал: в самом деле, почему бы не разрешить? Ведь нет ничего такого, что говорило бы о возможной опасности.
Я еще колебался, а Пандия уже стояла возле люка, словно знала меня лучше, чем я сам себя знал. Она была необыкновенно красива в эту минуту, в мягком скафандре, обтягивавшем тело, тонкая, гибкая и вся какая-то напряженная, словно пантера перед прыжком.
— Ну?! — нетерпеливо сказала она, блеснув на меня своими темными глазами. — Ну же, миленький!
Я никогда не слышал от нее такого слова и, совсем ошалевший, буркнул электронному мозгу, чтобы пропустил Пандию в переходной тамбур. И тут же кинулся следом, вспомнив вдруг об обязанности разведчика первым встречать опасность.
Но первой в мягкую траву все-таки выпрыгнула Пандия, решительно отстранив меня в последнюю минуту, чему я не смог воспротивиться. Почва была твердой, но не как камень, а как бывает твердо, скажем, дерево. Мы отошли от катера на несколько шагов и остановились, оглядываясь, остро переживая этот редкий момент первой встречи с чужим миром. В синем небе висели пушистые облака, солнце припекало, и, несмотря на систему температурной регуляции, в скафандре было довольно жарко.
— Красивый мир! — воскликнул я, не оглядываясь на Пандию.
Она не ответила.
— Как наша Земля. Пожить бы тут, отдохнуть от космоса…
Сзади послышались какие-то звуки, я быстро обернулся и обомлел: скинув с головы капюшон скафандра, Пандия стояла, подставив лицо солнцу, жмурилась от удовольствия.
— Как хорошо дышится! — На открытом воздухе голос у нее был чуть глуховатый — мягкий, грудной, красивый голос. — Скидывай капюшон, чего боишься?
— Дело не в боязни, надо выполнять инструкцию.
— Я лучше твоих инструкций чувствую, что можно, а чего нельзя.
Это была правда. Десятки уж раз Пандия доказывала свое необыкновенное чутье. Словно в ней самой находились какие-то приборы, улавливающие неведомые излучения будущего. Порой раньше корабельного электронного мозга она предсказывала опасность или отсутствие таковой и, сколько помню, никогда не ошибалась. Собственно, из-за этой необъяснимой способности она и попала в команду нашей разведочной экспедиции. Единственная женщина, которая с первого же дня стала для меня единственной вдвойне.
— Нельзя нарушать инструкцию, все может быть… — не сдавался я.
— Ничего не может быть. Ты что, мне не веришь?!
Это уже было похоже на шантаж. Ведь она знала, что у меня не повернется язык возразить ей. Я вздохнул, мельком подумав, что обо всем этом придется докладывать командиру, после чего — это уж точно — он меня вместе с Пандией никуда не отпустит, беспомощно огляделся и потянулся к застежкам капюшона.
Воздух был какой-то густой, насыщенный ароматами трав, цветов, а может, и еще чего-то неизвестного нам.
— Мне надоел этот… панцирь!
Пандия рывком расстегнула скафандр и выскользнула из него, маленькая, изящная, в тонком, голубоватом, чуть люминесцирующем комбинезончике, плотно облегающем ее тело.
— Была бы связь, я бы доложил командиру…
— Не доложил бы, — засмеялась она и побежала по лугу, оставляя за собой темную полосу подмятой травы.
И вдруг она застыла на месте, замерев в какой-то неестественной, напряженной позе. И прежде чем она что-либо сказала, я сам увидел вдали огромную зеленую гусеницу, выползавшую из-за бугра. У нее были большие красные глаза, которыми она непрестанно шевелила, оглядывая окрестности, а внизу, под длинным гибким туловищем что-то часто-часто мелькало, то ли крутились колесики, то ли шевелились бесчисленные гибкие ноги. Вдоль туловища тянулась широкая поблескивающая полоса. Не сразу дошло до меня, что полоса эта — сплошной ряд окон и что гусеница, стало быть, всего лишь некое средство передвижения, вроде поезда. Скоро я разглядел в окнах и пассажиров — ряд голов, покачивающихся ритмично при движении гусеницы-поезда.
— Я боюсь! — шепотом сказала Пандия.
— Не бойся, я с тобой, — машинально пробормотал я, совсем забыв, что без оружия, вдали от защитных полей нашего разведочного катера сам совершенно беспомощен. Самое разумное в этой ситуации было бы немедленно бежать к катеру, но, зачарованный этой первой встречей с чужой цивилизацией, я вопреки всем инструкциям добавил: — Не шевелись, они нас, кажется, не заметили.
— Нас могут не заметить, но катер, но зонды…
— Чего уж теперь! Стой…
Гусеница проползла совсем близко, и я хорошо разглядел пассажиров, сидящих у окон. Это были существа, чрезвычайно похожие на людей. Некоторые, повернув головы, рассматривали нас и нашу армаду механизмов, громоздившуюся посреди поля. Я даже видел их глаза, большие, чуть раскосые, но какие-то равнодушные, словно встречи с инопланетянами были для них обыденным явлением.
— Они нас приняли за своих! — воскликнула Пандия. — Они совсем как мы…
— Надо надеть скафандры, — сказал я. — И надо вернуться в катер.
— На всякий случай?..
— На всякий случай, — подтвердил я, не подозревая подвоха.
— Интересно, где была бы наша цивилизация, если бы все жили то твоей формуле?
— По какой это формуле?
— Вот по этой самой. Зачем высовываться, когда можно спрятаться. На всякий случай.
Я не успел ответить. Из-за того же самого бугра выползла другая гусеница и, так же изгибаясь на поворотах, направилась прямо к нам. Не успевшие ничего предпринять, мы стояли и ждали, замерев на месте.
На этот раз гусеница даже притормозила, замедлила ход, и несколько десятков больших раскосых глаз целую минуту рассматривали нас почти вплотную. И опять меня удивило равнодушие на лицах аборигенов. Потом этот странный поезд прибавил скорость и, шелестя тысячами гибких ножек, скрылся за кустами.
Мы с Пандией переглянулись. Чего угодно ждали от встречи с инопланетянами, но только не безразличия.
— А ты говорил: надо прятаться, — сказала она.
— Не прятаться, а проявлять осторожность.
— Проосторожничали бы. Здесь, похоже, требуется прямо противоположное. Жалко, я их не остановила.
— Как бы ты это сделала?
— Встала бы на дороге…
— В другой раз встанешь. А сейчас надо лететь, сообщить на корабль хотя бы то, что мы уже узнали.
Я хитрил, говоря о другом разе. Мне надо было заманить Пандию на катер и вернуть на корабль, а там я бы уж сделал все, чтобы в разведочные рейсы она больше не попадала. Иначе плакали все наши инструкции, составленные на такой вот случай встречи с внеземной цивилизацией. Иначе нельзя поручиться за судьбу всей нашей экспедиции.
Но Пандия со своим неестественным чутьем, как видно, угадала мое тайное намерение.
— А что мы такое здесь узнали? — саркастически спросила она, отстраняясь от меня. — Не терпится — лети, я тебя подожду.
И тут мы оба разом увидели еще одну гусеницу, направлявшуюся тем же маршрутом.
— Стойте! — закричала Пандия, бросаясь ей навстречу и размахивая руками.
Я побежал следом, боясь, как бы ее не подмяло это зеленое идуще-ползущее чудище. Но гусеница остановилась в нескольких метрах от Пандии, быстро-быстро зашевелила красными глазищами и вдруг спросила грохочуще-железным голосом:
— В чем ты нуждаешься?
Я едва не присел от неожиданности. А Пандия, похоже, ничуть не испугалась или умело спрятала свой испуг. Мельком глянув на меня, она вдруг воздела руки к небу:
— Я приветствую вас!..
— В чем ты нуждаешься? — так же бесстрастно прогрохотал голос.
— В понимании! — громко, почти визгливо прокричала Пандия.
— Мы тебя понимаем.
— Нет, не понимаете!
Наступило минутное молчание. Потом в зеленом боку гусеницы с глубоким вздохом открылась дверца, и на траву медленно и величественно сошла женщина, поразительно похожая на Пандию. Такие же у нее были распущенные волосы, такой же облегающий гибкое тело комбинезон. Даже рост у них был одинаков. Несмотря на всю необычность обстановки, в первый миг я игриво подумал, как бы между ними не запутаться. Но, взглянув в лицо аборигенки, понял: спутать невозможно, таким оно было бесстрастным, это лицо. И глаза, большие, раскосые, казались некрасивыми от того, что в них ничего, ну совершенно ничего не выражалось. Холодные, пустые, бесчувственные глаза.
— Приветствую вас! — снова прокричала Пандия, и в голосе ее послышалось мне нечто новое, неуверенность, что ли?
— Мяу! — сказала женщина. Так мне, во всяком случае, послышалось. Но так, видимо, послышалось и Пандии, потому что я заметил, как она метнула взгляд под ноги аборигенки, машинально ища глазами кошку или что-либо похожее на нее, мяукающее.
Женщина издала какие-то мурлыкающие звуки, но ее заглушил грохот динамиков гусеницы.
— Если вам что-нибудь нужно, говорите сразу. Мы не можем задерживаться, у детей экскурсия.
При последних словах женщина скосила глаза на окна, и я догадался, что грохочущий голос — это, по-видимому, перевод ее мурлыканья-мяуканья. И тоже посмотрел на окна и не понял, о каких детях речь: в гусенице-поезде сидели совершенно взрослые существа, у некоторых были даже бородки.
— Экскурсия! — ахнула Пандия. — А можно с вами?
— Садитесь.
— Подождите минуточку, я только переоденусь.
— Не разрешаю! — хмуро сказал я, лихорадочно соображая, правильно ли делаю, запрещая ей отправиться на эту экскурсию. Пандия наверняка собирается надеть скафандр, а это значит, и я, оставаясь здесь, увижу и услышу все, что будет видеть и слышать она. И потеряться в скафандре невозможно, поскольку в нем имеются все системы связи. К тому же и в инструкции сказано, что доброжелательность при контакте следует поддерживать в тот самый момент, как она наметилась.
Я знал, что Пандия не упустит случая ответить мне что-либо в своем духе. Но она не успела ничего сказать, как загремел динамик, оглушил:
— Сборы не нужны. Мы скоро вернемся, и вы опять будете дома. Хотите ехать — садитесь. Мы не можем ждать.
Женщина, все такая же холодно-безразличная, почти надменная, как светская дама из древних романов, повернулась и направилась к входу в свою гусеницу. А Пандия, растерянно оглядываясь на меня, засеменила за ней.
— Вы ведь женщина, вы должны понимать, что мне надо одеться. Там же мужчины…
— Там только дети…
— Пандия! — крикнул я, не зная, что предпринять.
Она отмахнулась и через мгновение исчезла в темном прямоугольнике двери. Сердце мое сжалось. Мне вдруг показалось, что я больше никогда не увижу ее.
— Пандия! — не помня себя, закричал я и, забыв обо всех инструкциях, кинулся следом.
Дверь плотоядно чмокнула, словно захлопнулись челюсти.
Внутри было светло, но свет падал не только через окна, а струился, казалось, со всех сторон. Два десятка далеко не молодых людей без всякого интереса рассматривали нас, иные зевали, сонно жмуря глаза.
— Здравствуйте! — сказала Пандия.
Никто ей не ответил.
Женщина что-то мяукнула, и по рядам кресел пронесся то ли ропот, то ли какой-то шорох.
— Здравствуйте! Здравствуйте! — прогремел все тот же металлический голос. — Я сказала детям: невежливо не отвечать на приветствие, даже если вы все знаете о людях. И вот они исправляют свою оплошность, здороваются с вами. А теперь садитесь и молчите. На экскурсии не разговаривают друг с другом, на экскурсии познают, беседуя сами с собой.
Пандия сразу поскучнела: не разговаривать, когда ничего вокруг не понятно, было выше ее сил. Почему, например, эта странная женщина называет взрослых людей детьми? Как это "познавать, беседуя сам с собой"? Впрочем, последнее могло означать просто — «мыслить». Смотреть по сторонам и думать, обдумывать увиденное и таким образом учиться…
За окнами побежали назад кусты и поля, но ни шума, ни вибрации, ни каких-либо толчков, свойственных всякому движению, не было. Словно гусеница продолжала стоять на месте, а все окружающее само собой начало двигаться. Тысячи гибких ножек, на которые опирался этот удивительный вагон, работали безупречно.
Вскоре и сверкающие овалы нашего разведочного катера, и угловатые, похожие на жуков зонды исчезли вдали. Но не было тревожного чувства, какое нередко приходило на других планетах во время экспедиционных отлучек. Словно все происходило дома, на Земле, и это была привычная поездка по знакомым, много раз изъезженным дорогам.
Ничего не менялось за окнами — все те же поля, кусты, странно круглые, похожие на холмики перелески, прозрачные, состоящие из низкорослых, хилых на вид деревьев. Потом потянулся берег реки, широкой и полноводной, потом показались острые изломы скал. Но все это было не то, чего мы ждали. Мы рассчитывали увидеть города Пандоры, неведомые технические сооружения аборигенов, не просто катающихся, как наши соседи в гусенице-вагоне, а занятых делом, работающих. Ведь по деяниям легче всего судить об образе жизни, да и образе мыслей тоже.
Сидя в своем удивительно удобном, почти совсем не ощущаемом кресле, я с интересом оглядывался на сидящих рядом экскурсантов и не видел в их сощуренных, словно в дремоте, глазах никакого интереса к окружающему. Казалось, они уже тысячу раз видели все эти леса и горы. Тут еще можно было понять молчаливых аборигенов. Но почему им безразличны мы? Ведь женщина-экскурсовод ясно дала понять, что они знают о нашем прилете из космоса. Да если бы к нам, на Землю, заявился хотя бы один инопланетянин!.. Даже представить трудно, что было бы. Люди перестали бы работать, гулять, ходить в гости, сутками просиживали бы у телевизоров в ожидании хоть каких-нибудь подробностей о существе, "свалившемся с неба", тысячами осаждали бы всякое место, где объявится инопланетянин, в надежде, если не поговорить с ним, то хотя бы увидеть и услышать его. А тут!.. Какая-то цивилизация мертвецов…
Я поежился от этой мысли. Вспомнилась давно позабытая детская сказка, где по ночам мертвые выходили из могил и бродили молчаливыми толпами, пугая людей. Мелькнуло шальное: уж не попали ли мы на тот свет? Я испуганно оглянулся и в глазах Пандии тоже увидел испуг: видно, и ее донимали страшные мысли. Она-то со своей обостренностью чувствования, пожалуй, раньше меня должна была испугаться.
А вокруг была тишина, не нарушаемая ничем, и от этой тишины, от безмолвного движения за окнами, от пустых, ничего не выражающих глаз всех этих существ становилось не по себе.
"Ты же разведчик, — кольнул я себя ехидной мыслью. — Дело разведчика не только прорываться туда, где никто не бывал, но находить выход из любых положений".
Я посмотрел на женщину-экокурсовода. Она сидела неподвижно, с высоко поднятой, чуть откинутой головой, отчего ее пушистые волосы стлались по подлокотнику кресла. Мне показалось, что она к чему-то прислушивается.
— Можно спросить? — прошептал я.
Большие раскосые глаза ее округлились, губы сложились в трубочку и послышался тихий, довольно мелодичный свист.
— Тс-с, не мешайте детям думать! — громыхнул над головой металлический голос переводчика.
Я тотчас ухватился за возможность задать новый вопрос:
— Какие же они дети?..
Женщина повернулась, показала мне, как надо сесть. Я последовал ее примеру, прижался ухом к спинке кресла и сразу услышал тот же голос, но уже тихий, словно бы доверительный:
— Да, они еще дети. Им нет и сорока лет.
Мне стало не по себе. Мой сорокалетний юбилей отмечался как раз перед этой экспедицией. Тогда товарищи говорили, что я давным-давно созрел не только для героических подвигов в космосе, но даже и для семейной жизни. А я краснел как мальчишка, пряча глаза от Пандии, присутствовавшей на юбилее, которая почему-то и не думала краснеть, хотя отлично знала, что и в ее огород этот камешек.
Может, экскурсоводша имела в виду то, что все мы до седых волос в чем-то не перестаем быть детьми? Я понимающе улыбнулся ей и сказал неожиданно:
— У вас красивые волосы.
Она скосила на меня свои глазищи, и я увидел в них не привычное холодное равнодушие, а что-то вроде любопытства.
— И глаза у вас удивительные.
Ее губы шевельнулись, что я расценил как улыбку и, воодушевленный, начал торопливо придумывать очередной комплимент, торопясь закрепить наметившееся взаимопонимание. Но в голову, как назло, лезли одни банальности, вроде все того же "у вас красивые…".
— Однако! — игриво сказала Пандия.
Женщина кольнула ее взглядом и повернулась ко мне, что я расценил как готовность продолжать этот разговор.
— Я так и знала! — произнесла Пандия.
— Что ты знала? — всполошился я.
— Да уж чувствовала.
Не приходилось сомневаться в ее предчувствиях, но тут она, по-моему, перестаралась.
— С вами приятно разговаривать, — сказал я женщине. — Вы умница, все-то понимаете.
— Да, мы все понимаем, — ответствовала она.
— Куда уж понятнее! — тотчас вставила Пандия.
— Хорошо у вас, — сказал я, обводя рукой широкие окна. — Мне тут нравится.
— Оставайтесь…
— Что?!
— Оставайтесь, — повторила женщина и улыбнулась в точности так, как улыбаются земные красивые женщины — изящно и обворожительно.
— Как это?
— Очень просто. Оставайтесь, и все. Вы узнаете много такого, чего не знает никто на Земле.
— Где? — опешил я.
— На Земле. Так ведь называется ваша планета?
— А… откуда вы знаете, что мы с Земли?
— Мы узнали это сразу, как только ваш корабль материализовался из вакуума.
— А что вы еще узнали?..
— Все, — сказала она, почему-то покосившись на Пандию. И вдруг добавила: — Оставайтесь, у нас многие остаются.
Это было совсем уж неожиданно.
— Вы хотите сказать?..
— Да, именно это. Вы не первые у нас.
— А кто еще был?
Я начал вспоминать историю наших сверхдальних экспедиций, но Пандия, каким-то образом поняв, о чем я думаю, сказала раздраженно:
— Не о нас она, не о нас.
Я все никак не мог согласиться с мыслью, что планета, на которую мы попали, возможно, и есть один из тех перекрестков космических миграций, о существовании которых ходили легенды среди космонавтов. Попасть на такой перекресток означало найти дороги ко многим обитаемым мирам.
— А кто еще тут был? — снова спросил я.
— Перечисление вам ничего не даст, — ответила женщина.
— Значит, мы — одни из многих? Этим объясняется безразличие к нам? Значит, вы просто, как говорится, устали от визитов?
— Не этим. Ваша цивилизация ничего не может дать нам.
— Но вы же нас не знаете.
— Знаем, — бесстрастно возразила она.
— Откуда?
— Из анализа ваших излучений. В том числе и таких, которые вы никак не фиксируете. Анализы были проведены еще до того, как ваша лодка опустилась на нашу планету.
— Так не бывает! Чтобы одна цивилизация ничем не заинтересовала другую? Не бывает!..
Женщина никак не отреагировала на мое восклицание. Отреагировала Пандия. Скользнув томным взглядом поверх моей головы, она изрекла:
— Что поделаешь, дорогой. Вы их не интересуете.
Ситуация была настолько неожиданной, что я не обратил внимания на эту язвительную реплику. Было такое ощущение, словно меня вежливо попросили удалиться. Я тупо смотрел на проплывавшие за окнами все те же поля и перелески, на все так же неподвижно сидящих перестарков-детей и не смел поднять глаз на женщину-экскурсовода. Наконец до меня дошло, что это мое предположение никак не вяжется с их безразличием к нам. Ведь если им все равно, есть мы тут или нет, то откуда вдруг возьмется желание избавиться от нас? Желание — это уже не безразличие. И я решил сделать вид, что не понимаю намека. Если мы их не интересуем, то они-то нас очень даже интересуют. Сами, не способные ни о чем просить, они, похоже, не умеют отказывать в просьбах. Остановилась же эта гусеница, когда Пандия кинулась ей навстречу…
— Трудно поверить, что наша цивилизация ничем не может обогатить вашу, — завел я все ту же пластинку.
— Мы избегаем новой информации. Мы многократно убеждались, что новая информация — это лишь новое толкование давно известного…
— Новое — хорошо забытое старое, — подсказала Пандия.
— Нет ничего такого, чего бы мы не знали или не могли бы узнать при желании.
— А желаний нет, — снова вставила Пандия. — Какой уж тут интерес, если желаний нет.
— Желания отнимают время, — как ни в чем не бывало продолжала женщина. — Каждому из нас не хватает жизни на то, чтобы усвоить уже накопленные знания.
У меня вдруг пропал интерес к этой планете. Что это за жизнь без желаний! Простая передача накопленных знаний от поколения к поколению? А рост, а дальнейшее развитие? Возможны ли они, когда никто ничего не хочет? Это же как у муравьев: одно и то же, одно и то же из поколения в поколение. У муравьев жизнь по биологическому стереотипу, а тут по социальному?
Теперь было понятно, почему нет связи с кораблем. Они отгородились от излучений космоса, не желая ничего знать сверх того, что им уже известно.
Ну что ж, на нет, как говорится, и суда нет. Но мы-то не дошли до такой жизни, нас-то у них многое может интересовать. А раз так держитесь, уважаемые пандорцы! Пользуясь вашей долготерпимостью, мы будем совать нос повсюду…
— Я должна кое-что объяснить, — сказала женщина. — Наша долготерпимость небезгранична.
Мы с Пандией переглянулись, и я понял, что думали мы с ней об одном и том же. Обоим нам стало не по себе от этого объяснения женщины-экскурсовода. Значит, она читает наши мысли? Значит, мы действительно ничем не удивим их, поскольку все, что мы знаем, — в наших мыслях?
— Но ведь не бывает такого, чтобы одни ничем не могли быть полезны другим! — воскликнул я, никак не желая примириться с мыслью о своем ничтожестве.
— Ничем, — холодно сказала женщина. И показала на окна: — Мы возвращаемся, вы можете выйти.
За окнами уже поблескивали вдали металлические корпуса зондов и катера. И никого вокруг. Похоже было, что на этой уставшей от знаний планете и в самом деле не нашлось ни одного любопытного, кого бы заинтересовали наши аппараты.
— Высокоразвитая цивилизация не может быть негуманной, — сказал я, не желая отступать.
Женщина поняла сразу все — и что я хотел сказать, и то, о чем только собирался подумать.
— Мы не нуждаемся в новой информации. Но вы можете получить любую. Что же вас интересует?
— Все! — сразу отозвалась Пандия.
— Все не может интересовать никого. Любое разумное существо, как и общество в целом, может понять лишь очередной этап знаний.
— При таких возможностях нам трудно конкретизировать вопросы. — Я решил схитрить. Говорил и старался не думать о том, что вертелось на языке, чтобы не выдать себя. — Но мы рассчитываем на вашу помощь.
— Мы никому не отказываем в помощи.
— Вы не могли бы выйти вместе с нами?
— Зачем?
— Нам нужно спросить у вас…
— Спрашивайте.
— Это нужно там… в нашем катере.
— У вас неисправность? Я пришлю тех, кто вам поможет.
— Нет, все в порядке… Нам только спросить. Но лучше спросить там, в катере…
Я совсем измучился от необходимости говорить одно, а думать другое, чтобы она не угадала моей хитрости. Мне казалось, что если она сама увидит нашу технику, то поймет, что и мы не лыком шиты, и тогда возникнет обоюдный интерес, так нужный для контакта.
— Вам необходима привязка к аппарату? — спросила женщина. — У вас нет самостоятельности?
— У некоторых — никакой, — не упустила Пандия возможности съязвить.
— Экскурсия не может остановиться. Дети ушли в свои мысли, дети учатся, и я не вправе прервать этот процесс. Но если вам нужно, я вернусь. Доведу экскурсию до конца и вернусь.
Мы вышли из гусеницы, и она снова засучила своими бесчисленными ножками, заторопилась дальше. Последний раз мелькнули в окнах все такие же равнодушные лица, последний раз изогнулось за бугром длинное тело поезда, казавшееся живым, и мы остались одни на лугу в окружении своих зондов. Солнце перевалило за полдень, слабый ветер приятно холодил лицо, было тихо и спокойно на этой странной планете, которой мы были нисколечко не нужны.
— Что говорят на этот счет твои инструкции? — ехидно спросила Пандия.
— Они говорят, что так, как ты, нельзя себя вести при контакте.
— А как ты, можно?
— Что я такого сделал?
— Так вести себя с незнакомой женщиной! Она же инопланетянка.
— Вот именно. А я разведчик. Ты не забыла?
— Я ничего не забываю.
— Мне полагается вести себя так, как я нахожу нужным.
— Ну-ну, — ехидно сказала Пандия. — Ты большой мастер своего дела.
Я разозлился. Это было наконец смешно, вести такие разговоры в такой момент.
— Неужели нам нечего больше обсудить?
— Еще наобсуждаемся. Ты же видишь, какие они. Тут хоть оставайся. А позлить тебя так интересно!
— Ты сама злишься.
— Я? Больно надо!
— Тебе не кажется, что мы ведем себя здесь как-то странно?
— По-моему, ты всегда такой…
— Встретились с иной цивилизацией, а думаем о каких-то пустяках. Увязались в эту дурацкую экскурсию, ведем праздные разговоры вместо того, чтобы заниматься исследованиями… Бывало, обыкновенная букашка с другой планеты вызывала бурю…
— Они мне сразу не понравились, — сказала Пандия.
— Кто?
— Эти отупевшие от учебы «дети», эта гражданка из поезда-гусеницы. Послушай! — схватила она меня за рукав. — Может, дети — вовсе не дети, а космонавты вроде нас? Те, которых уговорили тут остаться?..
— Ну у тебя и фантазия! — сказал я, внутренне поеживаясь от такого предположения. — Тебе бы фантастические романы писать.
— А что?! Это же очень-очень развитая цивилизация. Бездна знаний. Пока их переваришь…
— В этом что-то есть, — признал я.
— Наконец-то заметил!..
— Погоди ты… — Я задумался. — Ты сказала: "пока переваришь"?
— Да, а что? Ведь если у них бездна знаний, то и переваривать эти знания нужна бездна времени.
— Ну?
— А жизнь ограничена. Биологические рамки не раздвинешь…
Меня поразила эта мысль, и я, воодушевленный неожиданной идеей, собрался добавить что-то свое. Но вдруг увидел, как глаза Пандии округлились в ужасе. Оглянулся и чуть не шарахнулся в сторону: возле меня, буквально в метре, извивалась, шевелилась, хватала воздух голая по локоть человеческая рука. Ничего вокруг, только эта рука, беззвучно ищущая что-то в пространстве. Самое ужасное было в том, что рука была мне знакома белая, мягкая, какая-то по-особому пластичная.
Я глянул на Пандию: руки у нее были на месте. Да и понял, что эти изнеженные пальцы никак не могли принадлежать Пандии, чьи руки всегда лезли не в свое дело и потому были исцарапаны и исколоты.
А рука все трепыхалась в воздухе. Наконец, она ухватила что-то, медленно согнулась в локте, и мы увидели выходящую прямо из пустоты нашу знакомую аборигенку.
— У меня что-то заедает в системе подпространственного перехода, произнесла она на чистом русском языке. Точнее, произнесла не она, поскольку губы ее даже не шевельнулись. Голос, мягкий, певучий, исходил из маленькой коробочки, прикрепленной у нее под горлом. — Так что вам нужно? Говорите скорей.
— А чего говорить, если вы сами все знаете.
У меня это вырвалось непроизвольно, и я тут же пожалел о сказанном, испугавшись, что она попросту обидится и исчезнет. Но, видно, даже обижаться не было в привычке у этих пандорцев.
— Конечно, знаем, — сказала она все тем же безразличным тоном. — Вы все, не только земляне, но и все другие тешите себя нелепой надеждой, что можно у кого-то что-то подсмотреть, перенять. Так ведь?
— А что в этом плохого?! — вскинулась Пандия.
Аборигенка даже не повела глазом в ее сторону, сказала, по-прежнему обращаясь ко мне:
— Плохо то, что вы себя обманываете. Перенять чужое — значит воспользоваться чужим, на это могут рассчитывать только нравственно несовершенные существа.
— Ну, знаете! — опять не выдержала Пандия.
— Чужие знания могут быть поняты лишь в том случае, когда свои близки к ним. Но тогда чужое и не нужно. Не в использовании чужого, а в развитии, совершенствовании своего — путь всякого прогресса.
Я видел, как Пандия нервно передернула плечами: вместо обоюдоинтересного контакта приходится выслушивать назидательно-приторную нотацию, на которые горазды и свои, земные, лектора. Это называется напросились.
— Но мы хотели не только узнать о вас, но и сообщить вам о себе.
— Зачем?
— Как это зачем? Как зачем?!.
Теперь я не глядел на Пандию. Если уж мне невмоготу выслушивать такое, представляю, каково ей.
— У нас существует запрет на собственные знания, зачем же нам ваши?
— Как это запрет на знания?
— Я так и знала: вам неизвестен биологический предел познания. Хотя трудно поверить, что ваши ученые не додумались до сравнительного анализа созревания биологических систем…
Что-то знакомое было в ее словах. Будто бы только что я думал об этом самом. Думал, да почему-то недодумал.
Мы так и стояли посреди поля, и было в этой беседе что-то непонятное, противоестественное. Солнце, желтое, как лимон, клонилось к горизонту, и тень от стоявшего неподалеку нашего разведочного катера тянулась к нам по ярко-зеленой траве, словно подкрадывалась.
Не так, совсем не так представлялся мне первый контакт с представителями иной цивилизации. Сесть бы друг против друга в салоне нашего катера, который, право же, был совсем не плох для такого случая, да угостить инопланетянку как следует, да поговорить по душам, никуда не торопясь. А то получалось, что разговариваем, как прохожие, — здравствуй и до свидания.
— Пожалуйста, будьте добры, пойдемте к нам, — залопотал я, подобострастно жестикулируя, чуть не кланяясь.
Женщина удивленно посмотрела на меня и, как мне показалось, только из жалости направилась к катеру. Пандия шла следом и молчала, и я рад был, что молчала, потому что в эту минуту больше всего боялся ее ехидного язычка.
Войдя в салон, женщина мельком огляделась и никак, ни словом, ни взглядом не выразив своего отношения к увиденному, повернулась ко мне.
— Давайте знакомиться! — торжественно произнес я. — Меня зовут Андреем, ее — Пандией. Мы представители миролюбивой и дружественной планеты Земля…
— Это я знаю, — резко прервала меня женщина. И вдруг добавила: — Меня зовут Ная.
— Многоуважаемая Ная! Прежде чем мы начнем беседовать, пожалуйста, познакомьтесь с нашей земной цивилизацией, с нашей историей, культурой… Мы вас очень просим, — добавил я совсем уж слащавым тоном.
Не знаю, что на нее подействовало, — убедительность слов или мольба, явственно прозвучавшая в моем голосе, — только она, ни слова не говоря, ни о чем не спрашивая, шагнула к креслу, тому самому, в котором обычно мы брали сеансы самообучения, и села в него. Так-таки подошла и села, словно заранее знала, куда и как садиться, словно это было ей не впервой. Я предложил ей надеть наушники, но она сказала, что и так все услышит. Я попросил ее быть внимательной, поскольку изображения на экране меняются довольно быстро, но она удивленно посмотрела на меня. То есть она только подняла свои ставшие круглыми, как у кошки, глазищи, и я решил, что она именно удивлена. Или это была такая телепатия, внушение взглядом?
Объяснять больше было нечего, и я включил информационную систему. Для начала решил показать нашу историю, все, что было хорошего и плохого за много тысячелетий существования рода человеческого.
— Быстрее, — сказала она.
Я увеличил скорость подачи информации, решив, что самые ранние периоды истории ее не заинтересовали.
— Быстрее.
Снова прибавил скорость и счел нужным предупредить:
— Дальше будет интереснее…
— Быстрее, — перебила она меня.
Подскочила Пандия, до сих пор молча стоявшая в стороне, включила информаппарат так, что он завизжал.
— Тебя же по-человечески просят: быстрее, — со злорадством проворчала она.
Это была совсем уж безумная скорость, однако Ная ничего не сказала, сидела со скучающим видом, смотрела на экран, на котором ничего нельзя было разобрать — оплошная толчея цветолиний.
Общая история человечества проскочила быстро. Экран побелел на мгновение и снова замельтешил тенями. Дальше была история научных открытий с бесчисленными формулами и цифрами, над каждой из которых думать да думать. И Ная задумалась, уставив свой все еще равнодушный взгляд в мерцающий экран. А потом протянула руку к экрану, и… мерцание прекратилось.
— Это неинтересно, — оказала она. Изобразила пальцами какую-то фигуру, и экран сам собой снова замерцал. Изображения теперь мелькали не так быстро, как вначале, и я разглядел, что Ная снова смотрит фрагменты общей истории. Как она, впервые увидевшая нашу технику, переключила все по-своему, мне было неведомо. Но факт оставался фактом: она разбиралась в нашей технике не хуже нас самих. Эта ее способность все мгновенно понимать восхитила и ужаснула меня. Получался не контакт, а какое-то совершенно не равное общение. Такое я чувствовал только один раз в жизни, когда мальчишкой-первогодком впервые оказался в учительской перед бородатыми педагогами. Тогда я уже совершенно точно знал, что учителя существуют для меня, а не наоборот, но не мог отделаться от ощущения, что я для них что-то вроде червячка-мотыля, который рассматривают со всех сторон, прикидывая, как получше насадить его на крючок.
И вдруг до меня дошло, что ведь она, всезнающая инопланетянка, смотрит то, что уже смотрела. Значит, что-то ее заинтересовало?
— Вы что-то ищете? — опросил я, наклонившись к Нае. От ее волос пахло цветами, напоминающими ароматы, любимые Пандией.
Она повернулась ко мне, и я впервые так близко увидел ее красивое, чуть бледноватое лицо, ее глаза, в которых уже не было прежнего безразличия.
— Я еще не знаю, что именно, — сказала она с какой-то новой интонацией в голосе.
Это было уже немало. Во всех инструкциях сказано, что при контакте не следует пугать аборигена своими знаниями или незнаниями, а необходимо проявлять чуткость даже к незначительным проявлениям интереса. Другими словами: надо подлаживаться и делать вид, что тебя безумно интересует то, что заинтересовало его, хоть это, по-твоему, и сущая ерунда.
— Вы скажите, я вам помогу.
— Не знаю… Может быть… Пожалуй, нам надо лучше познакомиться.
— Куда уж лучше, — бросила Пандия из своего угла, куда она забилась, как неприкаянная, и сидела там в кресле, забравшись в него с ногами. Она почему-то показалась мне страшно одинокой в эту минуту, всеми позабытой.
Ная взяла меня за руку и, ни слова не говоря, властно потянула к выходу. Рука у нее была мягкой, невесомой, но неприятно холодной.
— Иди, иди, разведчик, — ехидно бросила Пандия.
Я на миг возмутился, хотел сказать, что обязанность разведчика не только первым бросаться в огонь и в воду, а проникать в неведомое, в том числе и в неведомые глубины психики инопланетян. Но ничего не сказал. А в следующий миг уже не мог ничего сказать, потому что люк катера за нами сам собой закрылся. Не выпуская моей руки, Ная прошла немного, мягко ступая по жесткой траве, потом резко повернулась, положила руки мне на плечи и близко, в упор, уставила мне в глаза свой пристальный колючий взгляд, от которого я словно ослеп, как слепнут от яркой вспышки. Еще ничего не видя, почувствовал, что она сняла руки с моих плеч.
— Теперь можешь оглядеться, — послышался рядом ее голос, звучавший так, словно мы находились не в поле, а в закрытом помещении.
Медленно, очень медленно проступали контуры предметов. Собственно, предметов почти и не было никаких, — только два кресла с высокими подголовниками и обычный журнальный столик с зеркальной поверхностью. А вокруг — стены. А может, это были и не стены вовсе, так, туман, плотный, слабо люминесцирующий.
— Тут я живу, — сказала Ная. — Садись.
Только теперь я заметил, что она обращается ко мне, как старая приятельница, — на «ты». Это обрадовало: значит, есть контакт, есть доверительность. Хотя кто знал, что означал у них переход на «ты»?
— Неуютно живешь, — в тон ответил я. — Никакой мебели. Где же ты спишь?
— Там, — махнула она рукой куда-то в туман. — А это, как это у вас? Гостиная.
Я подумал, что гостей она принимает не иначе как только по одному, раз тут всего два кресла.
— Сейчас больше не нужно, — сказала Ная, прочитав мои мысли. И неожиданно улыбнулась. Или мне только показалось, что улыбнулась, потому что глаза ее сощурились и блеснули, а лицо смягчилось и стало еще красивее. — А когда нужно, мест может быть сколько угодно. Смотри.
Она провела ладошками по гладкой поверхности столика. Я смотрел за ее руками и ничего особенного не видел: столик как столик, руки как руки. Только свет вроде как изменился, стал темновато-розовым.
— Не сюда смотри, вокруг.
В недоумении я даже встал с кресла. Стены исчезли и вокруг до самого горизонта, над которым висел розовый блин местного солнца, простирался хаос геометрических фигур. Это был город. Несомненно, город. Насколько мне известно, природа нигде еще не создавала таких четко разлинеенных ландшафтов.
Паутина улиц вдруг ожила, дома, если только это были дома, начали перестраиваться. Через мгновение я понял, что это всего лишь меняется точка зрения, — Ная, видимо, решила показать свой мир с разных сторон, но первое впечатление от этого подвижного города было настолько ошеломляющим, что я не сразу расслышал ее объяснение.
— …все, что хотим, мы имеем, все, что можно узнать, — знаем. Ты, конечно, скажешь: все знать нельзя. Верно. Но мы не можем знать больше, на новые знания нас уже не хватает. Жизнь очень коротка, всего лишь двести лет. Но это максимум, доступный далеко не всем. До пятидесяти лет мы еще дети, до ста длится развитие мозга. Только к ста двадцати — ста сорока годам мы успеваем переварить массу знаний, накопленную до нас. Едва человек становится зрелым, способным на самостоятельную деятельность, как уже кончается жизненный ресурс…
Я был поражен. Но не тем, что она сказала, а недавней проницательностью Пандии, словно бы почувствовавшей, с чем мы тут столкнемся, и ни с того ни с сего вдруг заговорившей именно о возможности существования биологических рамок для разума, знаний, прогресса. Сколько раз убеждался ее удивительной, некому не понятной способности предугадывать будущее, и вот опять…
— Может быть, ты хочешь узнать, увидеть всю нашу историю?
— Да, конечно, — машинально сказал я, потому что как разведчику отказываться от возможности разом узнать все. Но в этот момент в мыслях у меня была Пандия, и я, подумав, что на ознакомление со всем прошлым и настоящим планеты уйдет уйма времени, нерешительно покачал головой.
— Все можно просмотреть очень быстро, — поняв причину моего отказа, оказала Ная. — Разве вы не знакомы с особенностями мозга лучше запоминать быстро мелькающие изображения? Информация, подаваемая на пороге восприятия, ложится сразу в долгую память, в подсознание. Разве ваш мозг устроен иначе?
Наш мозг не был устроен иначе. И наши педагоги тоже знают эту особенность мозга и успешно используют ее в обучении. Вот только, насколько мне известно, никто еще до конца, не объяснил механизм подобного восприятия. Я еще раз порадовался обнаружившейся очередной общности между нами, но снова отрицательно затряс головой. Мне было жаль Пандию, мучающуюся теперь в безвестности. Ведь ничего она не знает, куда я исчез и надолго ли. Хотел сказать об этом Нае, но вдруг увидел ее глаза, снова ставшие холодными, отстраненными, и промолчал. Не каждый день бывают подобные встречи, и нельзя, просто недопустимо не использовать до конца наметившееся взаимопонимание. Я только намекнул, что предпочел бы ограничиться знакомством с настоящим. Ведь и прошлое можно понять, если узнать настоящее.
Ная ничего не сказала, но виды за этими исчезающе туманными стенами вдруг начали меняться. Замелькали уже знакомые мне гусеницы-сороконожки, большие и малые, существа, похожие на людей, что-то делающие, сидящие перед широченными экранами, идущие, бегущие, даже плывущие где-то в море, открытом до горизонта. И еще то ли живые существа, то ли механизмы, прямо-таки нагромождения этих многоруких и многоногих, сползающихся и разбегающихся в разные стороны. То ускоряющиеся ритмы движения, то совсем замедленные, то стеклянное многоцветье, а то серая пустота перед глазами, сплошной туман, в котором копошились какие-то тени. Кто и что делал в этом мире, было совершенно непонятно, и я уже готов был признать, что не только прошлое, но и вообще ничего нельзя узнать, глядя на калейдоскоп этого настоящего.
И тут вдруг замелькали перед глазами детские мордашки, обыкновенные наивные и неизменно восторженные, милые. И другие — постарше возрастом, и еще постарше, и еще. Вот они уже и с легкими бородками, а все глуповатые, бегающие друг за другом, играющие в мячики, плаксиво хныкающие. Неловко было смотреть на этих инфантильных бородачей, казалось, что все они просто психически больны. "Что ж, — думал я, — и самые развитые цивилизации, наверное, не гарантированы от дегенератов… Но почему Ная решила показывать мне именно дегенератов?.. Да нет же, — одернул я себя. — Она же говорила, что до пятидесяти лет тут все — дети. Но почему?.."
— Почему? — Ная следила за моими мыслями — Ведь и вы платите такую же цену за прогресс эволюции, только пока что не столь большую…
— Да нет же! — решительно возразил я. Не потому возразил, что был совершенно уверен в ее неправоте, просто ужаснулся перспективе такого прогресса.
— Я вывожу это из вашей истории, которую вы только что мне показали. "Мозг пятимесячного человеческого зародыша… есть мозг обезьяны, подобной мартышке…" Так признавал знаменитый ваш ученый Дарвин. А мозг новорожденного человека не слишком отличается от мозга новорожденного шимпанзе. Точка отсчета почти равная. А дальше? К пяти годам мозг обезьяны созревает и больше не развивается. А человек в это время еще ребенок. Мозг человека окончательно оформляется анатомо-физиологичеоки лишь к восемнадцати годам. Так что и у вас затянуто детство…
— Но не настолько же! — вырвалось у меня.
— Вы привыкли к десятилетним детям, мы — к сорокалетним. Дело только в привычке…
— Не только!
— Не только, — вдруг согласилась Ная. — Есть у вас еще что-то, дающее основания верить, что вы не попадете в тупик, подобный нашему.
— Вот!..
— А что именно, никак не пойму…
Теперь, когда она избавила меня от страшного видения эволюционного тупика, я сам начал думать о нем всерьез. Детство человека в сравнении с детством обезьяны затянуто, вероятно, ровно настолько, насколько человек ушел от обезьяны. Ведь детство — это основное время обучения, перенимания навыков и умений, накопленных предками. А если наши потомки так же далеко уйдут от нас, не будет ли и человечество обречено на столетнюю инфантильность? Ведь может получиться, как говорила Пандия: знаний будет столько, что их и за сто лет не переваришь.
Теперь я с тоскливым равнодушием глядел на чужую жизнь, все еще мелькавшую вокруг за исчезнувшими стенами. Мы живем надеждами, и потому гипотезы о космических катастрофах нас не пугают. Уверены, что к тому времени, когда такая опасность станет реальностью, мы обязательно что-нибудь придумаем во спасение свое. Мы допускаем, что надежда эта может оказаться самообманом, но совершенно не приемлем безнадежности. А тут вдруг появилась перспектива именно безнадежности, возникла реальная картина тупика. Жизненный ресурс указывал предел нашему развитию.
— Нет, у вас что-то не так, — оказала Ная, — а что — не пойму. Надо еще раз заглянуть в ваше прошлое.
— Почему в прошлое? Если уж интересоваться, то настоящим.
— Ты же сам сказал: настоящее можно понять, узнав прошлое.
— Я сказал наоборот.
— Если есть связь в одном направлении, то она будет и в обратном. Я хочу посмотреть именно прошлое. И давай поторопимся, а то твоя невеста без тебя улетит.
— Какая невеста?! Почему это она моя невеста? — не задумываясь, выпалил я с той же энергией, с какой отвечал на подобные подковырки еще там, на Земле.
Ная улыбнулась. Да, на этот раз именно улыбнулась. Только одними губами. Глаза оставались отчужденными, словно бы углубленными в какие-то свои заботы.
— Вы, люди, право же, как дети. Многого не знаете, а может, и знать не хотите, но это вам не мешает быть уверенными в себе, в своем будущем. Вы, как путники, забывшие о дороге, о том, что прошли непомерно много и пора бы устать. А вы не устаете. Чего-то мы в вас недопоняли. Пойдемте, я еще раз хочу посмотреть на путь, пройденный людьми…
Она вдруг быстро оглянулась, словно испугалась чего-то. Тотчас возникли туманные стены, отгородили от нас непонятную жизнь этой планеты.
— Дай руку, — сказала Ная, вставая. — Да быстрей, быстрей, а то опоздаем.
Я встал и подал ей руку, недоумевая, чего это она так заторопилась? Туманные стены сразу придвинулись, заволокли все вокруг серой пеленой. И тут же растаяли. И я увидел Пандию, лежавшую в кресле с откинутой спинкой. Подумал, что она спит, и, не желая ее будить, стоял и молчал, любовался ею, радовался ей, словно не видел целую вечность. Но она почувствовала, что я тут, резко обернулась и вскочила, кинулась ко мне, затормошила в неистовой радости.
И вдруг она тяжело навалилась на меня всем телом. Я схватил ее, но сам не устоял на ногах, и мы покатились по полу. Не сразу понял, что это обычное ускорение, какое всегда бывает при старте разведочного катера. С трудом поднялся на ноги и так и стоял, прижатый к переборке, распластанный на ее мягкой поверхности.
А Ная как ни в чем не бывало стояла посередине салона, словно ускорение ее не касалось. Она так и оставалась неподвижной до того самого момента, когда катер вышел на орбиту вокруг планеты и наступила невесомость.
— Я… я решила… — выговорила Пандия, боясь пошевелиться, чтобы не улететь в другой конец салона. — Столько ждать… Надо было сообщить на корабль…
— Включила минутную готовность? — догадался я. — Что же не предупредила?
— Да не успела, не успела… Ты появился так неожиданно…
— А как же теперь Ная?! — перебил я ее. Это было нарушение всех предписаний, по существу, похищение, категорически запрещенное инструкциями.
— Не беспокойся, я уйду, когда будет нужно, — сказала Ная. — Посмотрю еще раз ваши картинки и уйду.
Она подошла к информаппарату и включила его с той же немыслимой скоростью. Я минуту смотрел на мельтешащий экран и повернулся к Пандии.
— Переволновалась?
Я ждал, что Пандия скажет свое неизменное "больно надо!", но неожиданно она подняла руку и потрепала меня по голове, как мальчишку.
— Не знала, что и подумать. Хотела сразу лететь за помощью, да не смогла. Подумала: ты вернешься, а меня нет…
— Все-таки смогла же, — не удержался я от упрека.
— Так ведь откуда я знала, может, ты насовсем ушел, — ответила она в том же тоне.
— Андрей! Андрей!.. — пробился в салон едва слышный голос командира корабля.
Я кинулся к радиопульту, торопясь и сбиваясь, принялся докладывать обо всем, что было.
— Возвращайтесь немедленно.
— Не можем. На борту женщина.
— Ну и что? — удивился командир.
— Да не Пандия, не Пандия! — Я почему-то рассмеялся.
— Во дает! — вмешался чей-то насмешливый возглас.
На минуту голос командира пропал и в салоне повисла тишина, нарушаемая только тихим свистом информаппарата.
— Какая женщина? — Командир спрашивал заботливо, как опрашивают больного.
— Да я же рассказывал: эта самая Ная…
— Красивая! — неожиданно вставила Пандия.
— Помолчи, пожалуйста, — сдержанно сказал командир. — Почему эта красивая Ная оказалась на катере?
— Сама захотела. Ее интересует общечеловеческая история. Сейчас она у информаппарата.
— Почему это надо делать обязательно на орбите?
— Так получилось…
— Ты же знаешь: это не допускается.
— Не допускается! — взорвался я. — А что тут допускается? Мы для них безразличны. До формальностей ли?.. Хорошо, их хоть что-то заинтересовало.
— Что именно?
— Понятия не имею. Что-то такое, на что мы и внимания не обращаем.
— Ладно, — мягче сказал командир. — Высадите ее и сразу возвращайтесь.
— Да она сама уйдет.
— Как это?
— Потом объясню.
Я взглянул на Наю и увидел, что она просматривает информацию не с прежней бешеной скоростью. Я смог не то чтобы разглядеть, — разглядывать в мелькании цветовых пятен и линий было нечего, — а догадаться: ее интересуют какие-то древние времена, когда человек уже многое умел, но мало что знал, когда господствовали не точные цифры, а расплывчатые символы, когда многое, очень многое принималось на веру, а ощущениям и предчувствиям придавалось такое же значение, как теперь формулам и логическим выводам. Наверное, не очень-то хорошим я был знатоком истории, если удивился тому, что этот период антропоцентризма и слепых верований был таким длительным: Ная все смотрела и смотрела, и никак не могла досмотреть.
— Ухожу, ухожу, — сказала Ная, не оборачиваясь, видно, угадав мои мысли. Она встала, и экран сразу погас. — Я знаю: вы еще вернетесь, а пока отдайте мне все это… — Она замялась, не зная, как назвать прибор, — всю эту информацию. Я должна разобраться.
— Берите, берите, — обрадовалась Пандия.
— В чем… разобраться? — Все-таки мне, как разведчику, полагалось выяснить причину столь неожиданного интереса этой представительницы цивилизации, где никто ничем не интересуется.
— Я еще не могу ничего утверждать, но похоже, что ваша цивилизация, ваш разум развивались парадоксально.
— Если можно, объясните.
— Не знаю, как и объяснить. — Она улыбнулась, как тогда, одними губами. — Мы убеждены: генеральный путь развития разума — логика, последовательность. Нельзя понять последующего, не зная предыдущего. У нас образованным считается лишь тот, кто хорошо представляет себе всю историческую цепь перевоплощений, откуда что взялось и почему. Не зная этого, нельзя пользоваться всем богатством накопленного опыта. Ваш разум, похоже, идет от аксиомы к аксиоме. Закономерность осознается лишь один раз, и больше никто не утруждает себя ее доказательством. Она принимается на веру. Так есть — и вы не хотите знать, почему именно так, а не иначе, и идете дальше налегке, не оглядываясь, не отягощая себя этими «доаксиомными» знаниями. Так заказано, говорите вы, так создано, сотворено. Вы каждый раз начинаете сначала, и потому, наверное, обладая достаточными знаниями, избавляетесь от чересчур затянутого детства…
Ная замолчала, и я счел нужным напомнить ей о том, о чем она сама недавно говорила мне, — что мозг человека анатомо-физиологически созревает лишь к восемнадцати годам, гораздо позднее, чем у любого из земных животных. Я сказал это не для того, чтобы укорить Наю в непоследовательности, просто мне не терпелось окончательно избавиться от непомерной тяжести, навалившейся на меня, когда я с такой ясностью осознал возможность нашего эволюционного тупика. И мне хотелось, чтобы она опровергала меня. Одно дело, когда ты сам себя переубеждаешь, и совсем другое, когда это делает кто-то.
— Я еще не уверена в своих выводах, но допускаю, что на этих восемнадцати, ну, на двадцати годах вы и остановитесь. Придумаете очередную аксиому и пойдете дальше с юношеским энтузиазмом, с уверенностью в безграничности прогресса. Наш рок — недоверие, стремление каждого все познать самому. Ваше счастье — вера. Вера в разумное и доброе, которое вечно…
Мы с Пандией переглянулись. Вот уж чего не подумали бы, так это того, что мы, люди космической эры, обуздавшие едва ли не все силы природы, покорившие не только межпланетные, но и межзвездные пространства, живем по трафарету, созданному много десятков тысячелетий назад в те времена, изучению которых и в школах-то уделяется минимум внимания.
— Я еще не знаю, как этот ваш опыт поможет нам, но уже сейчас хочу поблагодарить вас за то, что вы прибыли, поблагодарить за искорку надежды, принесенную вами…
Она отступила назад, положила одну руку на экран информаппарата, другую на кресло и вдруг исчезла вместе с креслом и экраном. В том месте, где стояли приборы, теперь была непривычная пустота.
— Может, не следовало отдавать-то? — испуганно спросила Пандия.
— А нам нечего скрывать!..
Я задыхался от прямо-таки необузданного восторга. Такая цивилизация благодарна нам! Нет, не одними только техническими достижениями гордятся цивилизации! Основа всякого прогресса — человек, такой, как есть, каким его создала природа и каким он сам себя создал. И тут, в сотворении самих себя, мы, оказывается, далеко не последние в сонмищах космических цивилизаций.
— Ишь, как тебя разобрало, — сказала Пандия, подозрительно поглядывая на меня. — Небось хочешь вернуться к этой гражданке?
— Обязательно! — воскликнул я. — Нам еще обо многом надо поговорить.
— Поговори, поговори. Только не забывай, что этой бабусе лет сто пятьдесят, никак не меньше.
Я опешил. Вот о чем ни разу не подумал, так это о возрасте Наи.
— Какое это имеет значение?!
— Никакого, — пожала плечами Пандия и уставилась в иллюминатор на голубоватую, испещренную лохмотьями облаков поверхность планеты.
— Надо же! — с сожалением сказал я. Все-таки это не одно и то же вспоминать о молодой и красивой женщине или о полуторастолетней старухе. А в том, что так оно и есть, можно было не сомневаться. Тут уж у Пандии чутье безотказное.
— Сочувствую, — поддразнила меня Пандия.
— А ведь как молодо выглядит.
— Это наши земные женщины тоже умеют.
Я подошел и обнял ее за плечи. Она не отстранилась, как делала всегда. Так мы и стояли, боясь спугнуть что-то невесомое, вдруг возникшее между нами. Стояли и молчали, смотрели на голубоватую планету, уже не казавшуюся нам ни загадочной, ни необыкновенной. И нам было ее жаль.




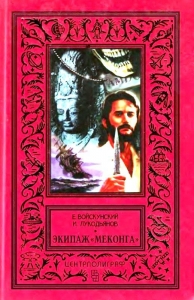
Комментарии к книге «Что мы Пандоре?», Владимир Алексеевич Рыбин
Всего 0 комментариев