Юлий ГУСМАН, Ярослав ГОЛОВАНОВ КОНТАКТ (Киносценарий)
14 марта, пятница. Нью-Йорк
За белым полицейским «доджем» с красной мигалкой на крыше по широкой бетонной автостраде мчится кавалькада длинных черных «кадиллаков». Высокий голос сирены достигает истерических нот, когда машины, вынырнув из синего, наполненного сладким дымом тоннеля, вынеслись к подножию главного здания ООН. Шесть молодых щеголеватых мужчин, привычно улыбнувшись объективам фотоаппаратов, быстро, перепрыгивая через ступеньки, поднимаются к небоскребу и входят в просторный холл, под высоким потолком которого летит наш первый спутник — старинный, еще 50-х годов, дар правительства СССР Организации Объединенных Наций.
Зал заседаний ООН полон. Журналисты с любопытством рассматривают шестерых, сидящих за отдельным столом. На них нацелились своими голубыми глазами кино- и телекамеры.
— Дамы и господа, — призвав к вниманию, открыл пресс-конференцию председательствующий. — Космическое сотрудничество двух великих держав — Советского Союза и Соединенных Штатов — сегодня приносит новые великолепные плоды. Уже недалек тот день, когда первая советско-американская экспедиция на Марс возьмет старт с орбитальной станции «Мир-4». Мне доставляет большую радость представить вам по поручению Академии наук СССР и Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США окончательно утвержденный вчера первый экипаж марсианской экспедиции. В него вошли прославленные герои космоса и видные ученые: начальник экспедиции и командир космического корабля «Гагарин», генерал-майор Александр Седов; командир десантного корабля «Мэйфлауэр» и руководитель группы высадки бригадный генерал Алан Редфорд; борт-инженер доктор Джон Стейнберг, лауреат премии Винера, который, конечно, известен вам как автор робота «Зоэ», способного «рождать» подобных себе роботов. Перед вами — заместитель директора института медико-биологических проблем космонавтики, доктор биологии Анзор Лежава; астрофизик, автор новой теории пульсаров, профессор Майкл Леннон-второй и, наконец, геолог экспедиции, профессор Ленинградского университета, доктор геолого-минералогических наук Юрий Раздолин. Закончив курс комплексных тренировок в США, экипаж завтра вылетает в Советский Союз для продолжения предстартовой подготовки и последующего отдыха… Нет сомнения, — продолжает председатель, — что сотрудничество государств в организации первой в мире межпланетной экспедиции явится великолепным доказательством торжества политики мира, направленной на благо всех народов Земли… Уважаемые дамы и господа! Подробности предстоящего полета хорошо известны из имеющихся у вас на руках материалов, так что предлагаю перейти к вопросам… Прошу вас, мистер Джексон, «Юнайтед Пресс Интернэйшнл»…
26 марта, среда. Москва
Седов молча сидит на белой металлической вертящейся табуретке в кабинете старого своего приятеля терапевта Зорина и сосредоточенно смотрит в пол, вертя в руках линейку. В кабинете все выкрашено в ослепительно белый цвет, Профессор Зорин — консерватор, он никогда не прислушивался к рекомендациям психологов из института технической эстетики и всегда считал, что если белый «больничный» цвет сковывает робкого посетителя, то это к лучшему. В этой светлой, стерильной обстановке единственным темным пятном был космонавт.
— У меня новости неважные, Александр Матвеевич, — говорит Зорин, перебирая бумаги на столе. — Кое-что в твоих анализах кое-кого смущает…
— «Кое-что», «кое-кого»!.. — взрывается Седов. — Вам всем просто покоя не дает, что мне уже не двадцать, а я все еще летаю, нарушая тем самым ваши вековечные инструкции, рекомендации, всякие там ваши диссертации…
— Я не желаю говорить с тобой в таком тоне, — резко перебивает Зорин. Опять длинная пауза. — Пойми наконец, — спокойно, почти ласково продолжает врач, — что никто из нас, увы, не становится с годами здоровее.
— Запомни, Андрей Леонидович, — со вздохом говорит Седов, — у меня здоровья хватит еще на десять, а может, и на двадцать медкомиссий.
— Я тоже верю в это. Но это пока твои и мои субъективные ощущения, а вот объективные результаты исследований. — Он поднимает со стола листки. — И если оснований для паники — даю тебе честное слово — пока никаких нет, все же еще раз помучить тебя мы обязаны. Понимаешь, обязаны, и все тут. Трехлетний полет к Марсу — это не двухнедельная прогулка на Луну. А с такими бумажками комиссия тебя зарубит…
Седов сжимает линейку так, что белеют суставы пальцев.
— Твоя комиссия да и ты сам всегда верили анализам мочи и кардиограммам больше, чем живым людям. Врач обязан быть психологом, провидцем, гипнотизером, черт возьми, а вы превратились в операторов электронных машин! Как бы вы были счастливы, если бы я только сидел в президиумах торжественных собраний или писал мемуары! Я хочу работать, понимаешь, ра-бо-тать, а не занимать хорошо оплачиваемые и никому не нужные, специально «за заслуги» придуманные штатные единицы, ясно? А здоров я, как бык!
— Что дозволено Юпитеру, того нельзя быку, — улыбается Зорин. — Ты, Саша, в свои сорок пять успел предостаточно, не тебе говорить… Но забрать тебя недельки на две, повторяю, мы обязаны. Тренировки вы завершили, а кататься с американцами по стране и без тебя смогут. Только здоровье сохранишь. Знаю я грузинское гостеприимство, целее будешь… В общем, сворачивай свои дела…
— Легко сказать, — ворчит Седов. — Я еще должен съездить в деревню к матери…
— Вот к матери съезди, — встрепенулся Зорин. — Молочка попей, погуляй…
Седов вздыхает. Табуретка под ним скрипит.
Зал оперативного руководства ИКИАНа (Института космических исследований Академии наук СССР). Три ряда столов-пультов — те, что позади, чуть выше передних — развернулись широкой дугой против стены с многочисленными экранами и световыми табло. Сейчас начнется обычная «летучка» — оперативное совещание всех советских и американских служб, ответственных за подготовку экспедиции на Марс. Работа довольно нудная, монотонная, романтику в которой могут отыскать разве что зелененькие выпускники факультета журналистики. Со скучным сонным лицом входит в зал академик Илья Ильич Зуев. Здоровается за руку с генерал-полковником Викентием Кирилловичем Самариным, кивает космонавтам и операторам, сидящим За столами-пультами, на которых укреплены таблички: «Дежурный баллистики, «Дежурный СЖО» (система жизнеобеспечения), «Дежурный МБК» (медико-биологический контроль), «НАСА», «Байконур», «Канаверал», «Служба Солнца», «МИР-4». Зуев лениво снимает пиджак, вешает на спинку кресла. Девушка в белом передничке ставит перед ним чашку черного кофе.
— Спасибо. — Прихлебнул кофе, искоса посмотрел на большое светящееся табло точного времени над экранами: 8:59. Говорит громко, всему залу: — Начинаем, товарищи! Слушаем Хьюстон…
Вспыхнул большой экран, на котором, словно в зеркале, отразился такой же зал, только таблички были уже английские, а вместо Зуева сидел Майкл Кэтуэй — руководитель американской части программы.
— Доброе утро, мистер Кэтуэй, — весело говорит Зуев. — Просим подтверждения старта транспортного корабля «ШАТТЛ-47».
— Отрыв от старта — 19:41:05 мирового времени. У нас все в порядке.
— О'кей! — говорит Зуев. — Просим подтверждение «МИР-4».
На другом экране вспыхивает новое изображение; два человека в легких спортивных костюмах в командном пункте долговременной орбитальной станции «МИР-4».
— Говорит «МИР-4». Старт 19:41:05 принят. Маяки начинают работать в режиме сближения по докладу с борта. «ШАТТЛу-47» дается третий причал, как просили.
— Принято, — говорит Кэтуэй. — Прошу запасной радиоканал.
— Минуточку, — отвечает станция. Один из сидящих за пультом вдруг всплывает, летит к потолку, возвращается с бортовым журналом. — Ваш запасной канал с 112,34 до 112,73.
— Вопросы к Хьюстону? — спрашивает Зуев.
— Вопрос доктору Райту, — говорит по-английски Леннон, сидящий за пультом «Связь с экипажем». И на экране возникает новое лицо: Райт — конструктор систем ориентации «Мэйфлауэра».
— Хэлло, Микки! Мне нужны расчеты эрозии оптических поверхностей фотоумножителей от испарения в вакууме, — говорит Леннон.
— Получите сегодня после ужина, — отвечает Райт.
— А раньше нельзя?
— После нашего ужина, — улыбается Райт, — а у вас это будет после завтрака.
— О'кей!
— Слушаем службу Солнца, — громко перебивает Зуев.
— Крым на связи, — загорается экран.
Красивая загорелая женщина, заглядывая в бумажку, говорит тоном учительницы начальных классов:
— Мы уже докладывали ночью, повторяем для всех: по хромосферным вспышкам в открытом космосе работы для «Гагарина» закрываются с 11 до 14 часов. Прогноз на ближайшие сутки…
Прерывая эти слова, в динамиках нарастает какой-то резкий свист, быстро переходящий в громкое гудение. Изображения на экранах искажаются, будто кто-то, сидящий по ту сторону экранов, яростно мнет руками картинку. Это длится всего несколько секунд, и вот все снова на своих местах.
— В чем дело? Кто дежурит по связи? — раздраженно кричит Зуев.
У пульта «Дежурный по связи» молодой инженер, растерянный и смущенный, запинаясь, бормочет:
— У нас все в порядке, Илья Ильич… Амплитуда…
— Это называется — в порядке?! Меня не интересуют амплитуды. Мы с Крымом не можем связаться нормально, а собираемся с Марсом говорить! Сколько это будет продолжаться, я вас спрашиваю?
— Илья Ильич, — начинает инженер, но Зуев тут же перебивает его:
— Что за помехи? Откуда помехи? Кто нам мешает? Надо найти и наказать примерно!
— Очевидно, это помехи ионосферного происхождения…
— Молодой человек, я этими делами занимаюсь без малого сорок лет, — Зуев в сердцах бросает на пульт белые наушники, — почему-то раньше ионосфера не мешала. Я потребую создания специальной комиссии. Пора кончать с этим делом! У нас нет элементарной дисциплины и культуры работы!
— Не поняла? — спрашивает красивая дежурная Крымской службы Солнца.
— Это к вам не относится…
Кэтуэй холодно спрашивает с экрана по-русски, сильным акцентом:
— Мистер Зуев, когда ваша служба давала солнечный прогноз, у нас прошел сбой связи. Что это значит?
— У нас тоже прошел сбой, но что это значит, я еще не знаю. Мы разберемся и объясним…
— Но это становится регулярным…
— Простите, но я могу предъявить точно такие же претензии Хьюстону.
— В Хьюстоне все о'кей…
— И у нас тоже о'кей. Я повторяю; мы разберемся. Итак, на чем мы остановились? Прогноз на ближайшие сутки. Слушаем Крым.
— Прогноз на ближайшие сутки в норме. Ожидаемая доза от ПКИ[1] до 11 миллиардов в сутки, — так же назидательно говорит загорелая дежурная.
— У вас все? — спрашивает Зуев.
— Все.
— Тогда подготовьте мне сводку по активности Солнца на время нашего с вами сеанса. А то тут у нас собственную халтуру валят на ионосферу. — Он зло косится на молодого инженера за пультом дежурного по связи. — «Гагарин» знает о запрете по хромосферным вспышкам? — спрашивает Зуев и оборачивается к одному из темных экранов.
Молчание.
— Я вызываю «Гагарин», — нетерпеливо говорит Зуев.
— Проспали сеанс на «Гагарине», — тихо шепчет Лежаве Раздолин.
Космонавты, кроме дежурного по связи Леннона, сидят на «гостевых» креслах, куда обычно сажают большое начальство, которое любит бывать здесь, особенно если существует поганая гарантия успеха какого-либо космического эксперимента.
— Я вызываю «Гагарин», — раздельно и громко говорит Зуев, нетерпеливо постукивая по пульту авторучкой.
Экран вспыхивает:
— Простите, Илья Ильич! Тут у нас…
— Что у вас? Да что это, в самом деле, сплошные сюрпризы сегодня! Тоже «амплитуды»?
— Да нет, ничего, пустяки, — на экране смущенно улыбается космонавт-испытатель.
— Запрет по Солнцу вы приняли?
— Да. У нас и нет никаких наружных работ. Все испытания корабля идут по штатной программе. Проверка аварийной системы связи закончена сегодня в 6:35, замечаний нет. — И добавляет неофициальным тоном: — У нас, правда, все в порядке, Илья Ильич… — но, говоря это, он смотрит куда-то в сторону.
— Что у вас все-таки там происходит? — недовольно спрашивает Зуев.
— Тут вентилятор батарейный взбесился. Летает, мы его поймать не можем…
— Сачком! Сачком его! — кричит Раздолин.
— Каким сачком? — оторопело спрашивает человек с экрана.
— Для бабочек.
Все смеются.
— Почему Саши так долго нет? — спрашивает Редфорд, наклонившись к Лежаве.
— Ты что, медиков не знаешь? Наши ничуть не лучше ваших, — отвечает Анзор.
Вновь загорается экран Крымской службы Солнца, и та же хорошенькая, загорелая женщина таким же «педагогическим» тоном докладывает:
— По данным системы «Дозор», сбоев связи по вине Солнца на время сеанса быть не может.
— Так, — говорит Зуев. — Спасибо. Будем искать. И найду! — Он припечатывает кулаком пульт. Пустая чашечка со следами кофейной гущи тихо звякает…
20 мая, вторник. Подмосковье
В рабочей комнате «марсианского корпуса» Космического центра за столами, заваленными графиками и бортжурналами, Редфорд и Леннон. Входит Стейнберг, явно чем-то озабоченный, что не мешает ему, впрочем, жевать резинку.
— Нам надо посоветоваться, ребята, — хмуро говорит он, подойдя к столу Алана.
— Сейчас? — Редфорд поднимает голову.
— Лучше сейчас…
Леннон встает из-за своего стола, медленно подходит.
— Ты чем-то взволнован, Джон? — спрашивает он Стейнберга.
— Не совсем так. — Стейнберг выплевывает жвачку в руку, а потом приклеивает к пульту. — Со мной говорили наши ребята из службы безопасности и просили разузнать тут кое о чем.
— О чем, например? — спрашивает Редфорд.
— Например, о том, что за штуки делают русские со связью.
— А что они делают со связью? — не глядя на Стейнберга, спрашивает Леннон.
— В последнее время они регулярно глушат связь Хьюстона, идут сбои всей нашей телеметрии, сильные помехи даже на самых коротких волнах, искажение и полная потеря видеоканала. Сначала русские делали вид, что виновато Солнце, валили все на ионосферу, но ведь наивно думать, что все это нельзя проверить. Наши в Хьюстоне проверили, оказалось, что все это «липа». Очевидно, это они глушат нас, глушат даже систему противоракетной обороны. А это, как вы понимаете, уже не шутки…
— Но как можно предполагать, что они делают это со злым умыслом, если они и себя тоже глушат? — спрашивает Редфорд.
— Ну, это может делаться для отвода глаз… — Стейнберг неопределенно покрутил пальцами в воздухе. — Одно дело, когда ты знаешь, что сбой будет, и готов к нему, другое, когда это полная неожиданность…
— Послушай, Алан, — вступает в разговор Леннон, — даже если это не злой умысел, если они искренне не могут разобраться в этих помехах на Земле, то что мы будем делать на траектории?
— Я думаю о другом, — добавляет Стейнберг. — Что мы будем делать на траектории, если здесь, на Земле, русские действительно что-то темнят…
— Как тебе не стыдно, Джон! — резко оборачивается Редфорд.
— А почему я должен верить?! — взрывается Стейнберг. — Ты демократ-идеалист! Ты, разумеется, веришь всем этим договорам, протоколам, актам, всем этим бумажкам. А знаешь, как это все у русских называется? «Филькина грамота»!
— Что это? — спрашивает Редфорд.
— Trickery, — невозмутимо переводит Леннон.
— Они просили, чтобы мы здесь разузнали, что это за сбои и почему русские крутят, — уже тихо, примирительно сказал Стейнберг.
— Я бригадный генерал военно-воздушных сил Соединенных Штатов, — глухо, но твердо ответил Редфорд. — Я четыре раза летал в космос и просто не успел выучиться на шпиона. Передай твоим ребятам, что для выполнения этого поручения у меня не хватает образования…
— Ну, Алан, причем здесь шпионаж? — смутившись, спрашивает Стейнберг.
— А что тогда означает «разузнать»?
— Ну просто, может быть, заговорить на эту тему, посмотреть, как они прореагируют, — поясняет Леннон.
Редфорд задумался. Резко встал.
— Согласен. Пошли.
В огромном здании МИКа — монтажно-испытательного корпуса, — под сводами которого всегда гуляет эхо голосов, стоит марсианский корабль «Гагарин» — точная копия того, испытания которого заканчиваются сейчас у причала орбитальной станции «МИР-4».
Сооружение это, по размерам своим близкое к морскому теплоходу, по внешнему облику не похоже ни на что, известное нам. Собранный на орбите, «Гагарин» будет летать только в пустоте космоса, поэтому у его конструкторов не было необходимости думать о том, чтобы отсеки корабля размещались компактно, а его формы были обтекаемы. Вакуум и невесомость создали новый инженерно-конструкторский стиль, породили невозможную на Земле межпланетную архитектуру, в которой впервые не спорили рационализм и свобода решений.
Корабль стоит в переплетении кабелей, проводов, в окружении пультов, приборов, в центре того лабораторного хаоса, в котором есть высокий порядок и строгая логика и который представляется хаосом лишь непосвященному.
Возле корабля у переносного пульта на круглом вертящемся табурете сидит Лежава с большой папкой документов в руках. Он что-то перекладывает, перетасовывает, вытаскивает скрепки, перекалывает. Рядом копошатся в бумагах Седов и Раздолин. В расписании занятий вся эта канцелярия значилась как «работа с документацией», но сейчас, когда неожидание явившиеся американцы затеяли этот разговор о радиосбоях, все оставили, разумеется, свои дела. Претензии американцев были совершенно неожиданны, и Раздолин поначалу даже растерялся:
— Я геолог и ни черта в этом не понимаю…
— Я тоже не специалист по связи, но не надо быть специалистом, чтобы понять, когда тебя дурачат, — резко бросил Стейнберг.
— Наверное, мы зря затеяли этот разговор, — примирительно стал замазывать его слова Леннон.
— Да как ты мог так думать! — Лежава налетает на Стейнберга со всем своим грузинским темпераментом. — Это мы тебя дурачим?!
— Тихо! Тихо! — обрывает Седов. — Алан, я благодарен тебе за этот разговор. И я хотел бы, чтобы в будущем все неясности между нами решались так же: гласно и открыто. Я действительно не знаю, что происходит со связью, даю тебе слово. Я думаю, надо спросить у Зуева.
Он оглянулся на друзей. Анзор энергично кивнул.
— Пошли, — сказал Раздолин.
Американцы не ожидали решения столь стремительного.
— Но сможет ли он нас принять? — протянул нараспев Леннон.
— Думаю, что сможет, — сказал Седов.
Они шли по длинным коридорам ракетного Центра, мимо дверей с белыми матовыми стеклами, за которыми работали сотни людей — чертили, считали, думали, спорили, — работали для них, этих шестерых, думали и беспокоились о них, хотя многие люди за этими дверьми и не видели их никогда: не до любопытства — дела срочные.
На минуту Редфорд задержался у автомата с газированной водой, достал монету и все искал, куда ее опустить; Седов нажал кнопку, и вода пошла в алюминиевую кружку безо всякой монеты. Редфорд взял кружку, оказалось — она «прикована» к автомату тоненькой цепочкой. «Да, понять русских иногда действительно трудно», — думает Редфорд, опрокидывая звякнувшую цепочкой кружку на мойку автомата.
Вот наконец и приемная Зуева. Только что закончилось очередное техническое совещание, и, как всегда после любого совещания, нашлись люди, искренне негодующие и недоумевающие, так и безусловно довольные итогами обсуждения. Космонавты, войдя в приемную, пробираются к дверям кабинета сквозь сизую голубизну отчаянно прокуренного пространства, в котором роятся группки людей и со всех сторон слышатся горячие голоса:
— Я был уверен, что Илья Ильич нас поддержит, потому что только слепой не видит, что 83-й блок не работает при крене более восьми градусов…
— А что вы возмущаетесь? — это уж другая группа. — Зуев прав. Мы с вами остаемся здесь, в тени лопухов, а им два года летать…
— Успеет Валерий Петрович или не успеет — это не тема для дискуссий. Его заставят успеть…
— Пусть я ничего не понимаю в технологии, это не моя система, но почему нельзя было предусмотреть все заранее? Почему американцы ничего не переделывают?!
— Переделывают, — бросает, проходя мимо, Редфорд, — очень часто переделывают.
— Не думаю, — не оборачиваясь на его слова, бросает возмущенный спорщик.
— Вы не думаете, а я американец, я знаю, — отвечает командир «Мэйфлауэра».
Шесть космонавтов входят в дверь с маленькой табличкой: «Академик И.И.Зуев».
Кабинет Зуева — типичный кабинет крупного конструктора высшего административного ранга. Письменный стол с пультом. Маленькая доска с мелками и губкой. Деревянные панели для развешивания чертежей. Большой стол для заседаний, аккуратные никелированные гирьки, которыми прижимают к столу листы ватмана. Глобусы Земли, Луны и Марса. Макет межпланетного корабля «Гагарин» и — подарок американцев — макет посадочного корабля «Мэйфлауэр». На стенах два портрета — Циолковский и Королев.
Зуев — за письменным столом. В кресле рядом — Седов. Леннон присел на подлокотник соседнего кресла. Раздолин рассеянно крутит марсианский глобус. Редфорд, скрестив руки на груди, стоит у окна. Лежава бесшумно прохаживается по ковровой дорожке, сцепив за спиной пальцы. Стейнберг один в позе прилежного ученика сидит за большим столом для заседаний.
Все молчат. Зуев снимает очки, трет глаза, снова ловко забрасывает очки на переносицу и говорит, обращаясь к одному Седову:
— А, в общем, они правы. Мы действительно темним…
Космонавты никак не ожидали такого ответа и сидят молча, не спуская глаз с Зуева: «Что дальше будет?»
Академик снова садится за стол и, оглядывая теперь уже всех, говорит:
— Да, темним. Темним, потому что стыдно правду сказать. Всего я ожидал в этом проекте, ведь действительно масса чертовски сложных вещей, но чтобы запутаться в связи! Элементарщина! Мы затравили астрономов, институт атмосферы, три комиссии радистов работают, мы консультировались с Министерством обороны, и никто ничего не может толком объяснить…
— Но этого не может быть, — пожимает плечами Леннон.
— Вот именно! — восклицает Зуев.
— Я не верю в потусторонние силы, мистер Зуев, — с иронией говорит Стейнберг, — но я не хотел бы участвовать в экспедиции, связь с которой не зависит от нашего Центра управления в Хьюстоне.
Зуев смотрит прямо в глаза Стейнбергу и говорит:
— Я понимаю вас и не настаиваю.
Долгая пауза.
— Я предполагал беседовать с людьми, искренно старающимися понять мою озабоченность, — продолжает Зуев. — Я не хотел беседовать с вами на эту тему до того, как мы разберемся в случившемся. Это вопрос научно-технического престижа. Но коли разговор состоялся…
— Послушай, Алан, — оборачивается Седов к Редфорду, — тебе не кажется, что мы не о том говорим?
— Пожалуй, — отзывается Редфорд.
— Можно сегодня сказать хотя бы, где находится источник помех? — спрашивает Седов у Зуева.
— Прекрати скрипеть, — зло шепчет Лежава Раздолину, и тот перестает вращать марсианский глобус.
— Источник атмосферный, или, точнее, даже заатмосферный, весьма мощный, апериодический, с размытым диапазоном частот…
— Может быть, это какой-нибудь пульсар? — спрашивает Раздолин рассеянно.
Леннон невесело смеется: уж в чем-чем, а в пульсарах он разбирается.
Редфорд резко поворачивается к нему и зло говорит по-английски:
— Хватит, Майкл!
Потом подходит к столу Зуева:
— Нам бы не хотелось, чтобы вам… у вас… Остался, как это?.. — чувствуется, что он волнуется и забывает русские слова. — Не остался… mud… как это? — спасительно смотрит на Раздолина.
— Осадок, — догадался Раздолин и тут же подсказывает: — We would not like you to have unpleasant memories…[2]
— Да, да, — кивает Редфорд.
— Хорошо, — отвечает Зуев без улыбки.
— Если что-нибудь выяснится, сообщите нам, — говорит Леннон.
— Об этом мы уже утром договорились с Кэтуэем. Я бы хотел сделать это как можно раньше…
12 июня, четверг. Деревня Калитино
Вдоль прозрачного леса, вдоль полей и лугов; бежит проселочная дорога, которую только на автомобильных картах называют «шоссе». В запыленном газике рядом с шофером, молодым вихрастым парнем в ковбойке, сидит, прислонившись к металлической, стойке, Седов. Глаза у него прикрыты, то ли он зажмурил их от солнца, то ли задремал, утомленный дорогой…
Раннее утро в деревне. С низин, за околицей, еле ползет туман, но солнце уже выглянуло из-за острых синих верхушек елового леса. Седов выбежал из избы голый по пояс, в закатанных до колен спортивных брюках. Он облился из ведра колодезной водой, передернулся, небрежно растерся стареньким «вафельным» полотенчиком и, осторожно ступая белыми, нежными, «городскими» босыми ногами по еще мокрой от росы траве, подошел к сараю, взял старую косу и, выйдя на лужайку за домом, начал косить.
…Возле костра стояла расседланная лошадь. Отблески пламени падали на нее, на Седова, на ребят, пригнавших коней в ночное и теперь тихо сидевших вокруг огня, ожидая, пока подоспеет печеная картошка, и с любопытством косясь на молчаливого космонавта. Лиц почти не было видно, огонь не высвечивал, а прятал черты, то совсем стирая тени, то сгущая их до трагических масок. Раскапывали угли, прутиком подкатывая к себе горячие картофелины. Седову не терпелось попробовать картошку, и он, попеременно дуя на обожженные пальцы, отдирал пепельную корочку, не дожидаясь, пока она остынет.
…Седов нырнул в теплую, не остывшую чернильную воду и проскользнул почти по дну, затаив дыхание в кромешной, абсолютной темноте.
— Товарищ генерал, приехали, — шофер осторожно тронул за плечо задремавшего Седова.
У околицы стояла невысокая фанерная арка, которую местный художник, видимо, скопировал с парижской «Триумфальной». Во всю длину арки тянулась кумачовая надпись: «Добро пожаловать, наш дорогой земляк, герой космоса т. Седов Александр Матвеевич!»
Под аркой уже собралось все районное и колхозное начальство, тут же, переминаясь от нетерпения, томились музыканты самодеятельного оркестрика Под управлением Любови Тимофеевны — завклубом. Вот она подняла руку, энергично кивнула, и оркестр заиграл что-то торжественное.
Горестно вздохнув, Седов вышел из машины. К нему подошли нарядные девушки с хлебом и солью. Пионеры вручили космонавту цветы. Товарищ из райкома начал речь. А Седов искал глазами мать. Она была в новой кофте, которую он купил ей в Сан-Пауло, и в белоснежном платке…
И вот он уже сидит за длинным столом, уставленным напитками и закуской, и товарищ с красным лицом произносит тост, а Седов почти не слышит его, потому что вокруг него хлопочут и разговаривают незнакомые люди, и Седову вдруг стало очень скучно, и с тоской посмотрел он в дальний конец стола, где сидели его друзья, родные, старенькая учительница Надежда Ивановна…
Александр Матвеевич обедает вместе с матерью и двумя племянниками. В углу комнаты светится голубой экран телевизора. Идет детская передача, и племянники не знают, куда смотреть: на экран или на дядю.
— Забыла тебе сказать, Шура, — говорит мать, подкладывая квашеную капусту в тарелку сына. — Утром, когда ты спал, к тебе пионеры приходили. Я им сказала, чтобы после обеда зашли. Фотографии твои они уж давно перетаскали, так теперь им, видишь, живого подавай!
— К пионерам сходить можно, — кивнул Седов, — они хоть пить не заставляют…
Неожиданно изображение на экране пошло полосами и исчезло, раздался оглушительный и высокий по тону рев. Седов быстро подошел к телевизору, убрал звук. Через несколько секунд так же неожиданно изображение восстановилось.
— Не могут, черти, никак наладить, — вздохнула мать. — Каждый божий день вот так орет, словно чумовой. Иногда, поверишь, так рявкает, прямо из рук все валится. Любаша из клуба в район звонила, жаловалась, а они говорят: знаем, знаем, скоро исправим… У вас в Москве, поди, такого безобразия на телевизоре нету…
— Ехать мне надо, мама, — тихо сказал Седов.
1 августа, пятница. Тбилиси
Дом Анзора Вахтанговича Лежавы стоит у подножия Мтацминды. Большая квартира с застекленной террасой выходит на гору, в кудрявой зелени которой прячется просторный, бестолковый и суетливый ресторан, куда Анзор категорически отказался вести своих гостей, убедив в том, что настоящий грузинский стол можно сделать только дома.
Несколько мужчин, друзей Анзора, толпятся вокруг большого, красиво накрытого стола, в то время как его жена и сестра Лия следят на кухне за бараньей ногой, шашлыками и табака, доделывая те самые дела, на которые даже у очень хороших хозяек всегда не хватает все-таки двадцати, ну, пусть, пятнадцати минут.
Три девочки — мал-мала меньше — дочки Анзора, принаряженные по случаю прихода гостей, сидят тихонько в уголке, уставшие от трехдневных репетиций книксенов и окончательно запуганные всеми предупреждениями матери и тетки касательно правил хорошего тона.
Наконец звонок в дверь. Космонавты — вся пятерка — вваливаются в квартиру и после неизбежной сутолоки и уговоров рассаживаются наконец за столом.
Анзор тихо предупреждает по-английски, что если какой-либо из тостов, произнесенных тамадой, можно будет пропустить, он подаст знак, положив на бокал палец.
Начинается грузинское застолье. Тамада говорит долго и красиво. После каждого тоста гости незаметно смотрят на Лежаву, но Анзор ни разу не подает им условного знака, Он лишь смущенно пожимает плечами под их вопросительными взглядами. Стейнберг, осушив бокал с вином, ставит шариковой ручкой «галочку» на белой бумажной салфетке. Уже взлетела целая стая таких «галочек».
За столом очень весело, и тамаде с большим трудом удается заставить слушать себя.
— Пока мы здесь развлекаемся, — говорит он, — наш друг и товарищ Александр Матвеевич Седов мучается в руках медиков. Нам горько, что с нами нет этого замечательного человека. Я предлагаю тост за его здоровье, за то, чтобы он выдержал все испытания на Земле и все перегрузки в космосе!
Редфорд встает с бокалом. Вслед за ним встают все.
— Я уже заметил, — говорит Редфорд, — что в Грузии есть обычай дополнять тосты; Я хочу сказать о Саше. Я рад, что встретил этого человека, И я очень хочу работать с ним вместе…
Ночь в квартире Лежавы. В спальне, на диване в гостиной, в кабинете отца, на широкой тахте веранды спят гости, которых Анзор не пустил в гостиницу.
Лия с женой Анзора тихо, стараясь не звякать посудой, убирают со стола. Захмелевший Анзор пытается помогать, но больше мешает; его уговаривают ложиться, но он говорит, что будет ждать отца, которого еще не видел и с которым ему «необходимо выпить совсем немного вина». Отец Анзора — сменный мастер прокатного цеха на металлургическом заводе. Наконец внизу, под террасой, тихо цокает дверца «Жигулей», и в комнату входит Вахтанг Георгиевич. Он целует сына, умывается, потом тихонько, оглядываясь на двери, за которыми спят гости, подсаживается к разоренному столу, наливает вино.
— Ну, рассказывай, какие новости, космонавт…
— Те! Тихо, они только заснули, — отвечает Анзор.
Весь их дальнейший разговор происходит шепотом.
— Даже не знаю, с чего начать, — шепчет Анзор. — Еще до приезда американцев было принято решение по биологической программе. Когда я выступал в ОКБ, сначала поднялся страшный крик, ведь всех интересуют сегодня радиосбои и никому до биологии дела нет, но Зуев всех быстро успокоил и полностью меня поддержал. Я же им все подсчитал, и Зуев говорит: «Лежаве нужно 7 миллионов, и мы должны деньги эти ему дать. Потому что надо…».
— Сколько? — переспросил отец.
— Семь миллионов. Да. Заплатим, говорит, раз нужно.
— А ты убежден, что нужно?
— Убежден. Один анализатор фотосинтеза стоит…
— Погоди. Ты представляешь, что такое 7 миллионов?
— Представляю. Я же объясняю тебе: анализатор…
— Нет, не представляешь! — Вахтанг Георгиевич повысил голос, Анзор замахал на него руками, и тот опять зашептал: — Вас, молодых, избаловал, нет, развратил социализм. Да, да, именно развратил! Своих денег у вас не было и нет, и считать вы их, понятно, не научились. А народные для вас — тьфу, трава, бумажки! Миллион, миллиард! Вы умеете произносить эти числа и не содрогаться. А при слове «тысяча» порядочный человек обязан содрогаться.
— Почему «содрогаться»?! Пусть жулик содрогается. Что я их краду?
— Нет, вы их не крадете. Хуже: вы их не чувствуете. Вот ваши коллеги, — он кивает в темноту комнат, где спят американцы, — они чувствуют потрохами каждый доллар. «7 миллионов!»
— Но, папа, это большая программа. Анализаторы жизнедеятельности, экология, ряд вопросов по охране внешней среды…
— Не спекулируй своей средой! Не смей спекулировать! Я читал в журнале недавно: в Германии еще в 18-м веке спекулянты, как ты, утверждали, что фабричная труба всех удушит. Я не спорю, нужны и фильтры, и в Куру спускать всякую гадость, конечно, безобразие. Но 7 миллионов! На эти деньги можно построить еще один прокатный стан!
— Отец, мне стыдно тебя слушать, ты государственный человек, депутат… Какой стан? О чем ты?
— Да, я именно государственный человек! Я рассуждаю как государственный человек! Я получаю за 7 миллионов стан тонкой прокатки и катаю жесть. Из этой жести делают банки. В банки кладут соки, варенье, фрукты, мясо, молоко. — Он яростно жестикулирует, руками хватая разные кушанья со стола, — И ты знаешь, что банок этих не хватает, что у нас и в Азербайджане гниют оливки, а на Украине яблоки уже поросята не едят. Я металлург, с меня за оливки не спросят, но я коммунист, и я понимаю, что глупо покупать за границей масло и гноить свои оливки. Вот зачем мне 7 миллионов!
— Я понимаю. Ты сказал правду. И искренне сказал, но эта твоя правда — маленькая. Стране нужна бумага, говорили такие, как ты. Детям нужны буквари, студентам не хватает учебников. И сводили леса на бумагу. Дети читали «Бе-ре-за» — а ее не было. Студенты защищали проекты по борьбе с эрозией почв и не знали, что эрозия вызвана их учебниками. Неумело перегораживали реки, чтобы получить электроэнергию, — и губили рыбу; осушали болота — и ломали весь естественный водный баланс. Ты думаешь, делали все это со зла? Не считали? Не аргументировали вроде тебя? Мы занимались арифметикой, когда говорили о природе, а теперь поняли, это это даже не алгебра, а сложнейшая высшая математика!
— Отцы всегда в дураках…
— Не в дураках. Ты хочешь сохранить сегодня оливки, которые падают на землю, а я хочу чтобы они и завтра продолжали расти на деревьях! Ты боишься, что не весь урожай соберут, а мне нужны 7 миллионов, чтобы вообще он мог появиться, этот урожай. И я тоже коммунист, и я по-своему скажу: коммунизма не будет, пока мы не научимся заглядывать не только в завтра, но и в послезавтра!
Редфорда разбудил их громкий шепот, и он внимательно прислушивается к спору отца и сыне. Они говорили по-русски.
— Отец, ты не хуже меня знаешь, что никто мне для пустяков миллионы не даст, — шепчет Анзор. — Я каждую копейку из этих миллионов расписал, каждый окуляр со всех сторон аргументировал…
— Я ваши аргументы знаю. Ты человек честный, но увлеченный. Ты не объективный, ты увлеченный человек, ты такого наговоришь…
— Папа! Пойми, чем лучше человек знает, тем больше он может! Вот зажигалка. Первобытные люди использовали кремень для того, чтобы делать топоры и ножи. Потом с его помощью добывали огонь. Теперь тот же кремень в качестве полупроводника используется в компьютере. Космонавтика уже сегодня служит и геологам и метеорологам; и рыбакам, и еще, черт возьми, тысячам земных профессий!
Анзор кричал, и гости его давно уже проснулись. Один Стейнберг спал как убитый, зажав в кулаке белую бумажную салфетку с «галочками».
— А вспомни, что ты сам говорил, — наступал сын, — вспомни, как вы в Куре с дедом купались, ловили форель, фазанов стреляли под Тифлисом. Меня Медейка спрашивает: «Папа, а ты видел дятла? Мне очень хочется увидеть дятла…» А ты — стан, банки консервные…
— И все-таки без банок и дятел не в радость, — качает головой отец. — Если у Медейки не будет банок, ей не захочется смотреть на дятла.
Лия, появившаяся в дверях, слышит эту последнюю фразу и говорит:
— Ненормальные люди. Какие банки? Какие дятлы? Семь часов. Ложитесь, поспите хоть часа два. Я иду на базар. Дом пуст, чем я буду кормить американцев, когда они проснутся?
Голос за дверью:
— Американцы проснулись.
Дверь тихо открывается, и выходит Редфорд. Он в джинсах и яркой летней рубашке с короткими рукавами.
Почтительно знакомится с Вахтангом Георгиевичем и говорит задумчиво:
— Извините, я слышал ваш разговор… Не в том дело, кто из вас прав. Как ни странно, но это неважно…
8 августа, пятница. Тбилиси
Через зал ожидания тбилисского аэропорта тесной группкой под предводительством Анзора пробираются космонавты. Лежава пропускает всех в дверь с табличкой «Комната для депутатов Верховного Совета». Ковры, мягкая мебель, работает цветной телевизор, небольшой стол с фруктами и вином и три официантки в накрахмаленных передниках и кокошниках.
Лежава разливает в бокалы белое вино.
— Опять? — с тревогой спрашивает Стейнберг, кивая на бокалы, и достает шариковую авторучку.
— Закон предков, — строго говорит сопровождающий их важный грузин. — Перед дальней дорогой рог вина! Не нами заведено, не нам менять…
Вой телевизора заглушает его олова. Стейнберг подходит к приемнику, крутит ручки и говорит спокойно:
— Ну вот опять. Сильный разряд на приемную антенну.
Вой и помехи, которые длились обычно всего несколько минут, не исчезают. Стейнберг поворачивает ручку громкости, но даже приглушенный телевизор трещит так, будто его раскалили, а теперь брызгают водой. Стейнберг недоуменно смотрит на своих друзей. Все переглядываются молча и тревожно.
Странное смятение в стеклянной рубке главного диспетчера. Он кричит в микрофон, но самолет, заходящий на посадку, не слышит его. Диспетчер срывает с головы наушники, из которых раздается только громкий треск.
Кабинет начальника аэропорта. Звонит телефон, Начальник снимает трубку и слышит нечто, отчего глаза его округляются:
— Владимир Степанович, нарушена вся система радиосвязи. Вся, понимаете?
— Как вся?
— Так, вся связь не работает. Ни дальняя, ни ближняя, ни аэродромная, ни пеленгаторы, ни даже телевизоры на вокзале. Ничего не работает, понимаете, Владимир Степанович? Один радар на полосе кое-как дышит, и все.
— Погоди, но не может же все сразу сломаться, правда?
— Владимир Степанович, все сразу сломалось, в этом вся штука…
Боевая тревога. Вспыхивают пульты подземных шахт баллистических межконтинентальных ракет, и чугунные плиты, прикрывающие их сверху, медленно отъезжают в сторону вместе со всем своим камуфляжем: деревьями, стогами сена, пасеками… Молниеносная эстафета коротких военных докладов, похожих друг на друга, только всякий следующий раз больше звезд и золота на погонах. И вот уже Кремль, и пожилой человек в скромном сером костюме снимает трубку с причудливого белого телефонного аппарата, и другой человек на другом конце провода тоже снимает трубку и говорит, отвернувшись к окну, за которым видна зеленая лужайка и цепочка курносых бойскаутов, протянувшаяся вдоль чугунной ограды.
В эти дни мир читал:
— Человек — больше не главный актер на сцене Вселенной!
— Трагедии аэропорта Дакар.
— Космический корабль или автомат-разведчик?
— Одиннадцать океанских кораблей пропали без вести.
— Сенатор Стенсон убежден: это новый трюк Москвы.
— 7 миллиардов лир в день — доход Ватикана на религиозном буме.
— Заговор против революционных народов мира!
— Конец мира или начало новой эры?
Шок, в который было ввергнуто человечество столь стремительным и неожиданным образом, к чести его, очень быстро сменился энергичными попытками разобраться в случившемся. Вопли оголтелых экстремистов о преднамеренной «радиоатаке» были оперативно пресечены сообщениями о том, что гигантские помехи не обошли ни одну страну, и сторонники взвинчивания милитаристского невроза вновь оказались посрамленными. Однако сознание того, что эти таинственные, непонятные по своим конечным целям действия имеют некое внеземное происхождение, никого не успокоило, а вызвало, пожалуй, тревогу еще большую. Укрепление международного сотрудничества, развитие экономических и культурных связей в последние годы все дальше и дальше отодвигали угрозу военных конфликтов. Народы мира стали жить спокойнее, с большей уверенностью в мирном будущем. И вот совершенно неожиданно появляется новая реальная угроза, несравненно более опасная, хотя бы потому, что она направлена против всех. А то, что это именно угроза, почти ни у кого не вызывало сомнений. К тому же ряд крупных транспортных катастроф, вызванных внезапным сбоем радиосвязи, красноречиво указывал на враждебность неизвестных сил.
Всегда довольно далекие от текущих политических проблем астрономы были немедленно вызваны в самые высокие правительственные сферы для объяснения странного явления, но ничего определенного сказать не могли и с разочарованием и раздражением были отпущены обратно в свои обсерватории, где наблюдения проводились круглосуточно. Работа обсерваторий вызывала невиданный в истории астрономии интерес, журналисты и телевизионные комментаторы буквально приступом брали крепостные башни телескопов и огромные «проволочные заграждения» радиоантенн дальней космической связи. Иногда замечание того или иного ученого интерпретировалось весьма вольно, что давало новое движение огромным снежным комам слухов.
Чтобы внести хотя бы относительное спокойствие в эту весьма нервозную обстановку, Генеральный секретарь ООН предложил пригласить в Организацию Объединенных Наций крупнейших специалистов и выслушать их мнение о создавшемся положении. И хотя прошло уже много времени после появления непонятных и удивительных радиопомех, ничего определенного никто сказать не мог. Это был тот редчайший, быть может, единственный случай в истории науки, когда ученые-астрономы и астрофизики могли потребовать от своих правительств чего угодно и они получили бы все. Но они требовали времени, чтобы разобраться, — как раз того, что им дать не могли. Невероятное количество сил, средств и слов расходовалось пока совершенно впустую.
19 августа, вторник. Нью-Йорк
Первым на международном форуме ученых взял слово польский профессор Анджей Брожовски.
— Уважаемые дамы и господа! Товарищи! Прежде всего мне хотелось бы напомнить вам те факты, которые лежат в основе всех гипотез моих уважаемых коллег. Это нужно сделать еще и потому, что объем всевозможной дезинформации по интересующему нас вопросу значительно превышает достоверную информацию. Так, факт номер один заключается в том, что наша планета, как известно, подвергается в последнее время сильному облучению в радиодиапазоне, что приводит к серьезным сбоям каналов радиосвязи в весьма широком диапазоне частот. Таков бесспорный факт. Что является источником этого излучения? Сегодня мы вправе предполагать, что этот гипотетический источник излучения находится в космических масштабах совсем близко — где-то между Землей и Луной. Поскольку оптические наблюдения не дали пока никаких результатов, мы считаем, что источник этот имеет весьма небольшие размеры. С другой стороны, если предположить, что источником является какая-то неизвестная комета или другой естественный объект, двигающийся по определенной траектории, то законы небесной механики позволили бы Земле выйти из зоны его действия буквально через несколько часов. Это дает основание полагать, что мы имеем дело со специально ориентируемым источником, с источником, наделенным понятием цели.
Реакция в зале была бурной. Профессор поднял руку и продолжал, не ожидая, пока окончательно уляжется шум:
— Вполне вероятно, что мы столкнулись с попыткой иного разума установить с нами контакт. Мы пробуем изучить объект излучения и планируем полеты беспилотных кораблей и автоматических станций в район излучателя. Мы не хотим рисковать. Таковы наши выводы в самых общих чертах. А теперь, — закончил Брожовски, — я отвечу на ваши вопросы.
Поднялся председательствующий, но его опередил корреспондент французской газеты. И, не ожидая, пока ему предоставят слово, он срывающимся от волнения голосом почти выкрикнул свой вопрос:
— Можно ли предположить, что Земле и всему человечеству угрожает опасность?
Наступила пауза.
Профессор Брожовски ответил не сразу. На него устремились все взгляды. Некоторые журналисты даже приподнялись со своих мест.
— Мы должны быть готовы к любым неожиданностям…
Вопрос: — Возможно, в этих сигналах заключена какая-то информация. Были ли предприняты попытки расшифровать их?
Ричард Когуэлл, обсерватория Джорделл-Бэнк, Англия: — На сегодня мы можем сказать только одно: измеренные различными обсерваториями параметры этого излучения не менялись ни разу с момента их возникновения. Словно вдруг зажглась лампочка, которая светит очень ярко и ровно. Не зафиксировано излучений ни в рентгеновском, ни в световом диапазоне.
Вопрос сэру Когуэллу:
— Можно ли сказать, что Земля подвергается своеобразному радиолокационному обзору?
— Вряд ли… Если бы, обладая такими мощностями, мы захотели произвести радиолокацию незнакомой планеты, то мы выбрали бы совершенно иную методику и иной спектр излучателя…
Вопрос: — Известны ли были науке раньше излучатели такой мощности?
Доктор Тхорана, профессор Мадрасского университета, Индия: — Конечно! И даже несравненно более высокой. Они давно известны во Вселенной. Это так называемые радиозвезды. Однако даже если предположить, что мы имеем дело с некоей блуждающей радиозвездой, непонятно, каким образом она оказалась в пределах Солнечной системы, не будучи замеченной за многие годы до этого еще на весьма далеких от нас расстояниях.
Вопрос доктору Тхорана:
— Известны ли науке сверхкарликовые блуждающие радиопульсары?
— Нет, никогда ничего, даже отдаленно напоминающего этот источник излучения, никем не наблюдалось.
Вопрос: — Есть ли хотя бы какие-нибудь сведения о размерах излучателя и его геометрической форме?
Доктор Майкл Леннон-первый, профессор Гарвардского университета, США: — Мы ничего не можем сказать по этому поводу. Как уже говорил мой коллега мистер Брожовски, излучатель не виден в оптические телескопы. Мы имеем лишь одно сообщение из Австралии о том, что на фоне лунного диска однажды была замечена черная точка, однако сами наблюдатели просили проверить это сообщение.
Оно не было подтверждено. Радиолокационные наблюдения невозможны в этих условиях. Я склонен предполагать, что размеры излучателя не превышают нескольких десятков метров.
Вопрос Леннону.
— Известны ли способы генерации столь большого количества энергии в столь малых объемах?
— Теоретически известны. Можно предположить, что в космосе находится очень совершенная термоядерная установка или некий генератор энергии, работающий на антивеществе. Но при работе подобных энергетических установок невероятной компактности должно было бы выделяться большое количество тепловой энергии. Однако отсутствие инфракрасного спектра убеждает нас, что излучатель — холодное тело. Способы же отвода таких количеств тепла в космосе не только неизвестны, но представляются теоретически невероятными. Короче, нам неизвестны процессы, которые могли бы поддерживать всю эту систему в энергетическом равновесии столь долгое время.
Вопрос: — Если это действительно некие посланцы внеземной цивилизации, можем ли мы как-то объяснить, что заставило их посетить именно нашу планету?
Академик Александр Пономарев, Пулковская обсерватория Академии наук СССР: — Появление подобного объекта в Солнечной системе не случайно. По нашим предположениям, именно на планетах, окружающих звезды спектрального класса F8-К0, к которому принадлежит наше Солнце, наиболее вероятна жизнь. В то же время понятен интерес к Земле в пределах Солнечной системы. Работа земных телевизионных станций привела к тому, что Земля по мощности радиоизлучения на метровом диапазоне — второе тело после Солнца. Ее излучение в миллион раз больше, чем у Венеры и Марса. Поэтому сигнал, который мы называем радиопомехой, идет к нам именно в радиодиапазоне.
Вопрос Пономареву:
— Но почему эти звездные пришельцы заставляют нас обращать на себя внимание столь долго? Почему они не предпринимают никаких других шагов?
— Когда мы говорим о космосе, мы должны помнить об относительности таких понятий, как мало и много, большой и маленький, быстро или медленно. Допускаю, что для некоей иной цивилизации неделя наших тревог — лишь одно мгновение… Мы слишком мало знаем друг друга, чтобы делать какие-либо выводы…
19 августа, вторник. Космодром
На космодроме ненастная погода. Накрапывает дождь. На стартовой площадке — челночный корабль. Он напоминает обелиск в строительных лесах. В стороне, за откосом газоотводного канала, видны перископы бункера. В нем размещается командный пункт подготовки и пуска ракеты. Вдали, на пригорке, белеет за штриховкой мелкого дождя МИК — монтажно-испытательный корпус. Его размеры грандиозны. В этой космической гавани готовят корабли и носители. Железнодорожная колея связывает МИК и стартовую площадку.
В МИКе идет подготовка очередного корабля. Илья Ильич Зуев, которого не сразу и узнаешь в сером комбинезоне космонавта, стоит под ярко-красными заглушками больших сопел корабля в окружении нескольких инженеров.
— Учтите, второй корабль нам может понадобиться в любую минуту, в любую, понимаете? — Зуев очень серьезен. — Даже на несколько часов раньше «любой минуты». Нельзя тянуть с монтажом. Форсируйте все работы, раскалите здесь все докрасна — но форсируйте! Я не на год улетаю… Так и передайте Володе Орлову, чтобы он забыл о прежнем графике. Эти чертовы пришельцы не по нашему графику живут!
— Но мы и так, Илья Ильич, работаем в три смены. Люди с ног валятся…
— Понимаю, прекрасно понимаю. Людей добавим. Я ведь тоже на орбитальную станцию лететь не собирался, думал, уже все, отлетал свое, а вот видишь, лечу: своими плазами поглядеть все надо. Событие-то даже не фантастическое, просто… — Он ищет слово. — Ну, чертовщина какая-то! Вот, казалось, готовились, космический язык разрабатывали, конференции проводили по внеземным цивилизациям. А они прилетели — и ни черта понять не можем… Ладно, поехали на командный пункт, а то ребята уже заждались.
Командный пункт космодрома. Задняя стеклянная стена зала отгораживает амфитеатр кресел, сюда же выведены динамики громкой связи, по которым звучат обычные предстартовые команды. Через стекло виден огромный, в полстены, светящийся экран — короче, здесь обычный космический командный пункт, не лучше — не хуже других.
Зуев и космонавты примостились в уголке. Академик упрямо твердит свое:
— …Мы должны действовать наверняка, но для того, чтобы действовать наверняка, мы мало знаем. Я понимаю ваше нетерпение, желание активных действий, Господи, какой я ни старый человек, я все понимаю, и не надо меня агитировать. Но ни я, ни один человек на Земле ничего определенного вам сейчас не скажет. Поэтому работайте, прошу вас, по старому графику. Не прошу, я требую, чтобы вы работали по старому графику. Что у вас там? «Атлантида»? Вот извольте работать на «Атлантиде». Кстати, эта лазерная антенна, которую мы туда отправили, — вещь совершенно новая и тонкая. Научитесь ее монтировать и работать с ней. Она очень может нам понадобиться… И не бойтесь, о вас не забудут…
— Извините, Илья Ильич, но я вас совершенно отказываюсь понимать, — вдруг взрывается Лежава. — Произошло поистине фантастическое событие, космическое чудо, а вы не хотите даже на день сокращать программу марсианских испытаний! Только что мы провели двое суток в тренажере, имитируя отказ теплоэлементов, при одновременном аварийном выключении всех солнечных батарей. Кому это все надо, когда рядом с нашей планетой висит космическая радиолампа, которая, может быть, предвещает выход человечества в другой мир, другую галактику, другое измерение…
— Именно поэтому, — жестко прервал его Зуев, — вы должны быть готовы к немедленным действиям, а чтобы быть готовым, надо не ждать, не томиться, а работать. Надо быть в форме. А мы тем временем попытаемся кое-что разузнать…
— Вы ничего не разузнаете до тех пор, пока не пошлете к излучателю человека, — парирует Леннон. — Нужно верить в разум и добрую волю тех, кто прислал сюда этот гигантский динамик.
— Ах, «верить в разум»! — встрепенулся академик. — Да мы с вами, господа хорошие, на одной планете живем, и друг на друга, как две капли воды, похожи, а с каким трудом «верить в разум» научились, Вспомните… хотя вы молодые, вы не помните. А я помню 72-й год, свою первую поездку в Хьюстон. Так что не будем о других галактиках говорить! Ну, в общем, вот так… — Голос Зуева стал на минуту официальным и чужим. — Как член международной Специальной комиссии и как председатель Советско-американского комитета заявляю вам официально: до тех пор, пока хоть некоторая ясность не наступит, ничего в вашей подготовке мы ни менять, ни форсировать не будем. Ни-че-го, — раздельно произнес он. — А сейчас давайте спускаться вниз, мне уже пора… Да не грустите вы — поверьте, у меня чутье, — без вас здесь дело все-таки не обойдется… — Он хитро подмигнул космонавтам…
На экране телевизора видят космонавты, как поплыла вверх к люку челночного корабля коробочка лифта.
— Зачем он летит? — спрашивает молчавший до сей поры Стейнберг. — Он не доверяет своим сотрудникам на орбитальной станции?
— Человек, которому Зуев не доверяет, не смог бы проработать на орбите и одного часа, — спокойно отвечает Седов. — Но Зуев не пустит «Гагарина» даже до Луны без того, чтобы сам он не проверил каждую кнопку, вне зависимости от того, существуют пришельцы, или не существуют. Зуев — это Зуев. Это невозможно объяснить. У него нет в жизни ничего, кроме «Гагарина», как до этого не было ничего, кроме «Мира», а до «Мира» ничего, кроме «Звезды», а до «Звезды» — «Салюта», а до «Салюта» — «Союза»…
По трансляции разнесся голос:
— Объявляется готовность один час. Повторяю: часовая готовность. Начать эвакуацию старта…
По ракете стекал, клубясь, белый туман кислородных паров.
31 августа, воскресенье. Москва
Кухня в квартире Александра Матвеевича Седова. Пожалуй, только в воскресенье удается позавтракать всей семье вместе.
— Вера! Как ты сидишь? — раздраженно говорит отец. — Где твои ноги? Сядь прямо. Почему мы об этом столько говорим?
Девочка усаживается за столом, исподлобья глядя на сердитого отца. Жена Александра Матвеевича молча наливает ему кофе.
— Что за моду взяли у нас на почте! — снова язвительно и капризно говорит Седов. — Девять часов — газет нет!
— А ты радио послушай, — примирительно говорит жена.
— Ну при чем здесь радио?
Девочка тихо сползает с табуретки и уходит.
— Что нужно сказать маме? — кричит ей вслед отец.
— Спасибо, — тихо доносится из коридора.
— Ну что ты, Саша? — ласково говорит жена. — Ну мы тут при чем?
Плохо Седову, муторно, стыдно. Права Вероника, кругом права. И подло это — срывать на них свое нетерпение. Да, действительно, не те уже у тебя нервы, Александр Матвеевич, что раньше. И, может быть, прав Зорин со своей командой, когда не хочет тебя в космос пускать. А то и там вот этак начнешь психовать. Ну ладно, ждать недолго осталось… Сегодня все выяснится…
Седов ловит руку жены и говорит уже совсем другим, покорным и усталым голосом:
— Ты знаешь, что меня больше всего раздражает? То, что они всегда изображают из себя самых загруженных людей, я это давно заметил. Комиссия заседает в воскресенье! Все надеются, что их за усердие похвалят… Они необыкновенные мастера имитации бурной деятельности. Сколько показухи! Ты бы на космодроме посмотрела: марлевые намордники, таблички «Рукопожатия отменены», необыкновенная озабоченность на лицах. Ты думаешь, только наши такие? Американцы еще хуже! Космонавты идут по коридору, так сирену включают, и люди встречные разбегаются, как от чумных. И сегодня: «Комиссия»! Право же, это не проблема — списать Седова на свалку или дать старику попрыгать еще немного… Надоело, Вероника, ох, как все надоело! Знаю, знаю все, что ты скажешь. Да, я уже налетался, я все уже знаю, все видел, но именно поэтому мне необходимо быть там! Я там нужен, понимаешь? Эти клистирники не могут понять грандиозности случившегося! Ведь от того, как все там… — он ткнул пальцем в люстру, — …повернется, зависит, может быть, будущее всех нас!
— Но если ты будешь сейчас лезть на стенку, ничего не изменится и пользы не будет никому. Правда, Саня, милый, успокойся, а?
— Ладно. Я спокоен. Я спокоен, как сфинкс, как камень, как Стейнберг! Я спокойно беру дочку и спокойно еду с ней… в зоопарк, как полагается примерному отцу в воскресенье. Веруша, хочешь поехать в зоопарк? — кричит он в коридор.
Девочка, как все дети, тонко чувствующая обстановку, не хлопает восторженно в ладоши, а вопросительно смотрит на мать. Та улыбается. Наконец поняв, что ее не разыгрывают, девочка кричит: «Ура!»
— И не жди нас до обеда. — Седов целует жену и выходит из комнаты.
Вероника, улыбаясь, смотрит им вслед, но когда дверь за ними захлопывается, она устало садится на стул и плачет.
31 августа, воскресенье. Космос
Голубая Земля внизу. Над Европой облачно, но очень четко через ясное сухое небо просвечивает желтым Аравийский полуостров. Зеленеющий клин Индии ткнулся в зыбкое, дрожащее бликами пространство океана, а к северу круто уходят за размытый горизонт шоколадно-белые Гималаи. Зуев смотрит на Землю из иллюминатора межпланетного космического корабля «Гагарин», пришвартованного к одному из причалов орбитальной станции «МИР-4». Молча отплывает от иллюминатора…
Очередная телепередача с борта орбитальной станции. У микрофона — Зуев.
— Мы не только не смогли вступить в контакт с космическим объектом, но, как и раньше, не уверены ни в одном его физическом параметре. Единственное, что его по-прежнему характеризует, — это постоянное, неподвижное, узконаправленное мощное радиоизлучение. Широкая полоса радиопомех движется по земному шару по мере его вращения. Хорошо, что теперь мы точно знаем, где в данный момент оно проходит. Вот сейчас, например, радиолуч накрыл восточную часть США от Атлантики до примерно Миссисипи, всю Кубу, республики Центральной Америки, Эквадор, западные районы Колумбии и Перу, острова у побережья Чили, а на севере — великие американские озера и центр Канады. Эта полоса движется на запад со скоростью земного времени…
31 августа, воскресенье. Москва
Среди вольер нового зоологического парка на юге Москвы гуляет Седов с дочкой, тщетно заставляя себя заинтересоваться, отвлечься от мысли о проклятой комиссии, на которой, как ни высокопарно это звучит, решалась его судьба.
— Пап, а почему у гусей ножки красные? — спрашивает Верочка. — У них ножки всегда зябнут, да?
— Что? — Александр Матвеевич не слышал и не понял вопроса. — Что? Красные? Очевидно, зябнут… Я думаю так…
— Так ведь тепло…
— Да, вроде тепло… Кто их знает, гусей…
Многие посетители зоопарка узнают его, приветливо улыбаются, здороваются, другие просто шепчутся, скосив на него глаза. Народу в зоопарке немного, несмотря на воскресный день. Подходит мальчик, просит автограф. За ним — еще и еще.
— Извините, товарищи, но я тоже отдыхаю, — говорит Седов ворчливо и быстро уходит.
Шагают молча по пустынной аллейке.
— Пап, — спрашивает Верочка, — а почему ты раньше всем расписывался, а теперь нет?
— Потому что раньше я был космонавтом.
— А теперь?
— А теперь… — Он смотрит на часы. — А теперь не знаю, кто я. Может быть, просто отставной генерал…
31 августа, воскресенье. Дно Черного моря
В домике космонавтов продолжается бесплодный, тягучий, изматывающий душу спор, который, то затихая, то разгораясь вновь, идет уже недели три.
— …Все это прекрасно, но я задам вам вопрос, который мне задал мой отец и на который я не мог ответить: почему именно нам оказана честь посещения высшим разумом? — горячится Леннон. — Чем мы замечательны?
— Мы замечательны тем, что мы существуем, — говорит Лежава.
— Слушай, Анзор, если ты все знаешь, объясни мне, почему они исследуют нас так долго? — спрашивает Раздолин. — Не пора ли им составить о нас какое-то мнение и наконец решить, стоило ли вообще сюда лететь? Если это туристический экспресс, то где, черт возьми, сами туристы?
— Правильно, — кивает Леннон. — Можете ли вы себе представить, чтобы земляне пролетели миллионы, миллиарды, а возможно, и миллионы миллиардов километров и не попытались поговорить с существами, которых они обнаружили по прибытии к месту назначения?
— Не горячись, Майкл, они, может, и пытаются как раз поговорить с тобой, — спокойно замечает Лежава.
— Ну так что угодно можно напридумывать, — разводит руками Раздолин.
— Совершенно верно, — Лежава невозмутим. — Ты прав абсолютно: напридумывать можно что угодно.
31 августа, воскресенье. Москва
Пап, а почему, интересно, крокодилы всегда спят? — удивляется Верочка.
— Спят? Крокодилы? — переспрашивает Седов. — А ведь верно! Делать им нечего, дочка, вот и спят, забот не знают. — Он опять смотрит на часы, оглядывается вокруг и говорит почему-то шепотом: — Верочка, давай поедем кататься на велосипеде! Ведь ты любишь кататься на велосипеде? — И, не дожидаясь ответа, Александр Матвеевич начинает пробираться к выходу из террариума. Он почти бежит по зоопарку. Прямо возле ворот им попадается свободное такси.
— Пап, это мы на велосипеде торопимся кататься?
— На велосипеде, доченька, на велосипеде…
Московские таксисты — люди начитанные, разносторонние и дерзкие. Шофер сразу узнал знаменитого космонавта, ему не терпится начать разговор, и единственное, что его сдерживает до поры, — на редкость сосредоточенное лицо необыкновенного пассажира. Наконец шофер не выдерживает:
— В Институт космической медицины?
— Нет, мы едем кататься на велосипеде, — громко отвечает Верочка.
Седов молчит. Он как будто даже и не слышал вопроса.
— Да, задали эти марсиане работы, — как бы сам с собой распевно разговаривает шофер. — Ведь надо же, что вытворяют, гады!
— А что, собственно говоря, вытворяют? — Седов отвернулся от окна и с интересом посмотрел на водителя. — Есть новости?
— Мне один пассажир рассказывал, — шофер продолжает разговор с радостным оживлением, — он тоже, между прочим, как и вы, где-то по космосу, как я понял, работает, — так он говорил, что это с Марса космический корабль, а марсиане сами — вроде больших пауков, в общем, гадость какая-то. Они вот сейчас нас изучают, а как закончат изучать, так и начнут…
— Что начнут? — спрашивает Верочка.
— Порабощать народы Земли, — уверенно говорит шофер. — Это у них в институте на закрытом собрании официально объявили. Солидный человек, врать не должен, — полувопросительно заканчивает шофер.
— Однако ж врет, — говорит Седов и снова отворачивается к окну.
Машина остановилась у проходной, рядом с которой блестит вывеска «Институт космической медицины».
Через минуту Седов с дочкой уже сидят в приемной директора ИКМ. Верочка ведет себя смирно, хотя ей очень скучно. Александр Матвеевич неотрывно смотрит на кожаную дверь, за которой сейчас заседает комиссия.
— Пап, а когда мы будем кататься на велосипеде? — тихонько спрашивает Верочка.
— Сейчас пойдем, дочка… Мы спустимся в зал, — говорит Седов секретарше. — Если что, позовите меня, пожалуйста.
— Конечно, конечно, Александр Матвеевич…
Вот он — зал, в котором Седов провел столько часов и один и вместе с друзьями… Верочка с интересом бродит среди холодно поблескивающих снарядов, увидела велоэргометр и с криком: «Велосипед, велосипед!» — быстро уселась на него и стала весело вертеть педали. «Проклятый велосипед», — думает Седов. Сколько километров накрутил он в этом зале… Нет ни одного предмета здесь, глядя на который он не вспомнил бы всегда одно и то же: напряжение, выдержка, собранность, предельное усилие тела и духа, сладость расслабления и снова — напряжение… В этом зале человеческие сердца выработали столько энергии, сколько, наверное, установи тут генераторы, и то не получишь… Черт побери! А ведь вполне возможно, что он сейчас в последний раз пришел сюда… Пришел прощаться…
— Ну, поздравляю, дорогой, а ты боялся! Я же говорил… — Этими словами Андрей Леонидович Зорин прерывает мысли Седова.
Седов долго молча смотрит на врача, потом подходит к параллельным качелям — снаряду с виду невинному, но едва ли не самому тяжелому, толкает доску. Стоит и улыбается, глядя на ее четкое, как у часового маятника, движение.
9 сентября, вторник. Дно Черного моря
Уже первые признаки осени в Крыму: золото солнца освещает поблекшую зелень парков. Но краски увядающего Крыма сейчас, увы, не для космонавтов. Подводный дом уже не впервые применялся для космических тренировок. Сюда, на крымское дно, приезжали строители больших орбитальных станций — космические монтажники. Здесь тренировались все, кому предстояло работать в открытом космосе, и, хотя в программе будущего полета такой выход допускался лишь в исключительной — так называемой нештатной — ситуации, Зуев на своем настоял, и Самарин отправил космонавтов на недельку в «Атлантиду» — так называлась подводная лаборатория. Сегодня в кают-компании «Атлантиды» остались Раздолин и Стейнберг. Остальные — «на выходе», как записал Раздолин в бортовом журнале. В одних плавках он сидит у большого иллюминатора, внимательно наблюдая за всем происходящим под водой. В руках — микрофон ультразвуковой подводной связи. Раздолин видит круто бегущую вниз песчаную отмель, по которой, перегоняя друг друга, прыгают веселые солнечные зайчики. Скачут они и по блестящей крутобокой металлической панели, имитирующей внешнюю оболочку «Гагарина». В программе сегодняшних тренировок — установка специальной наружной антенны лазерной связи, ее решено срочно смонтировать на «Гагарине», ибо это была единственно возможная аппаратура связи, которая не боялась помех «Протея» — так в последнее время журналисты окрестили мифический излучатель.
Три человека с аквалангами за плечами медленно кружатся в пестром свете солнечных бликов, стараясь закрепить на панели нечто, напоминающее до поры сложенный зонт. Зонт разворачивают «ручкой вверх», стараясь попасть опрокинутой «шишкой» в замок на панели, но это не удается, потому что один из акванавтов отпускает «ручку», и зонт медленно валится набок. Двое плавающих у дна стремятся подхватить его, но в это время «шишка» выскальзывает из панельного замка.
— Нет, — спокойно говорит Раздолин, глядя на всю эту возню за иллюминатором. — Так дело не пойдет. Алан, заводи в замок, а Майкл с Анзором придерживайте легонько сверху. Но легонько, не надо дергать… Начали!
Зонтик опять поднимают и начинают заводить на прежнее место.
— Вот так, — комментирует Раздолин. — Майкл! Не дави! Ты же им мешаешь! Только придерживай, Анзор, сейчас на тебя упадет. Не отпускайте сверху, пока Алан не замкнет растяжку. Алан, давай… Молодец. Майкл может отпустить, а ты, Анзор, держи. Хорошо… Ну, вот и все… Крепите…
Позади Раздолина у электрической плиты орудует дежурный по подводному дому Джон Стейнберг. Он тоже в плавках, но этот «костюм-минимум» дополнен белым крахмальным фартуком. На электрической плите в большой сковородке шипит сало, краснеют помидоры, а Стейнберг колет в сковородку яйца.
— Ты сам придумал такую яичницу? — не оглядываясь, спрашивает Стейнберг.
— Это украинцы без меня придумали лет за пятьсот до моего рождения, — отвечает Раздолин, глядя в иллюминатор.
В иллюминатор видно, как огромный сложенный зонтик начинает раскрываться под водой, подобно цветку. Внутренняя поверхность поднятой вверх чаши оказывается зеркально блестящей, и тени маленьких волн, бегущих где-то высоко над ней, отражаются в солнечной сфере — лазерного приемника, рождая причудливую игру света.
— Мне очень нравится русская кухня, — удовлетворенно оглядывая сковородку, говорит Стейнберг. — Мне только хлеб у вас не нравится.
— Ну, ты и сказал! — оборачивается Раздолин.
Из динамика на стене голос Редфорда:
— Не понял. Повтори.
Раздолин в микрофон:
— Это я не вам. У вас все в порядке. Крепите — и домой. Есть хочется.
Голос Леннона:
— Джон, конечно, спит?
Стейнберг подходит к Раздолину и громко говорит в микрофон:
— За этот выпад ты получишь свою порцию отдельно.
— Не понял.
— Поймешь.
— Хватит разговаривать. Я отключаюсь, — говорит Раздолин.
На ручке микрофона гаснет маленькая красная кнопочка. Стейнберг берет прозрачный полиэтиленовый мешочек, кладет в него яйцо, кусочек украинского сала, помидор и клочок бумаги, на котором пишет по-английски: «Для мистера Леннона», — затягивает мешочек веревочкой и опускает в воду входного колодца. Раздолин весело наблюдает за ним. Встает, потягивается, потом говорит:
— Значит, говоришь, хлеб? Но ведь американский хлеб по вкусу — вата.
— Почему вата? — обиженно спрашивает Стейнберг.
— Ну, хорошо. Не вата. Пенопласт, — поправляется Раздолин.
— Ты ничего не понимаешь, — говорит Джон.
— Я понимаю, старина, что мы с тобой патриоты, — смеясь, говорит Раздолин, похлопывая Стейнберга по плечу. — И это замечательно! — Он молчит, потом продолжает медленно и серьезно: — Как счастлива была бы наша планета, если бы мы спорили только о вкусе хлеба…
— У нас все, — докладывает динамик на стене голосом Редфорда.
Раздолин бросает взгляд на круглые стенные электрические часы с резко бегущей большой секундной стрелкой, подходит к микрофону — вспыхнула красная кнопка — и говорит, обернувшись к иллюминатору:
— Молодцы, Девятнадцать минут. Это уже не сорок три.
Один из космонавтов смотрит на ручные часы, и динамик возражает несколько обиженным голосом Лежа вы:
— Не, девятнадцать, а семнадцать. Я точно засекал.
— Пусть так, — соглашается Раздолин. — Все. Отбой. Всем на обед.
Тихо шевеля ластами, тройка плывет к подводному дому…
9 сентября, вторник. Космос
Сеанс связи с орбитальной станцией «МИР-4». У микрофона — японский профессор Ятаки, один из спутников Зуева по космическому путешествию.
— По уточненным данным подтверждается гипотеза, высказанная за несколько часов до нашего старта уважаемым профессором Ленноном: размеры излучателя действительно не превышают в миделе[3] 30 квадратных метров, — говорит японец. — Для межзвездного пилотируемого космического корабля подобные размеры представляются невероятно скромными, если не сказать фантастическими. Точное, в пределах одной сотой процента, расположение излучателя в той точке пространства, где взаимно нейтрализуются силы притяжения Земли и Луны, говорит о высокой чувствительности гравитационной аппаратуры и стремлении к оптимизации траектории. Такое впечатление, что на излучателе тщательно экономят энергию за счет траектории и одновременно излучают ее столько, сколько с трудом могут выработать все электростанции Земли. Но самая большая загадка для нас сегодня: почему он такой маленький? По всем расчетам, он не может быть таким маленьким. Мы могли бы попытаться дать какое-то толкование излучателю, если бы он был хотя бы в сто раз больше, а еще лучше — в тысячу. Но сейчас…
9 сентября, вторник. Дно Черного моря
Подводный дом «Атлантида». За столом, вокруг яичницы — гордости Стейнберга — и прочих земных яств разместились космонавты в трусах и мягких махровых пляжных рубашках. Спор, разумеется, продолжается:
— Если ты прав, — горячо говорит Лежава Леннону, — то объясни, зачем мы возимся с этой лазерной системой?
— Затем, что наши радиосигналы «Протей» будет глушить, — говорит Раздолин, отрезая себе добрый ломоть консервированной ветчины.
— Но если мы полетим к Марсу, она не должна нам мешать! — замечает Редфорд. — Объясни ему, Майкл, ты же астроном.
— Достаточно «Протею» переместиться по его сегодняшней орбите на 15 градусов, и они будут глушить нас по всей нашей траектории, не говоря о том, что Земля не всегда сможет выйти на связь с нами, — холодно говорит Леннон. — Да о чем ты говоришь! Если они захотят, с излучателями такой мощности они пикнуть нам не дадут ни вблизи Земли, ни у Марса.
— Говорите, что хотите, а я уверен, что мы полетим к нему навстречу, — мотает головой Раздолин.
— Я не знаток русского языка, — замечает Стейнберг, — но об одном и том же вы говорите, то «он», то «она», то «они».
— О, как много я отдал бы, чтобы узнать, кто же это «он» — пилотируемый корабль или «она» — автоматическая станция! — восклицает Лежава.
— А если это «оно»? — смеется Раздолин. — Нечто третье, ни на что не похожее?
Редфорд встает из-за стола, отходит к телевизору и включает только изображение. Красные и белые футболисты бесшумно резвятся на зеленом поле.
— Хочу проверить часы, — не оборачиваясь, объясняет Редфорд.
Резкий скачек на экране телевизора, изображение запрыгало, пошло рябью. Все смотрят на часы над пультом подводного дома.
— Все точно, — спокойно говорит Редфорд и возвращается к столу.
— Поразительно! Как будто ничего не произошло. Все уже привыкли к тому, что телевизор не должен работать, — говорит Лежава. — Иногда мне кажется, что эти «марсиане» были всегда.
— Приспособляемость к обстоятельствам не слабость, а сила человеческого рода, — говорит Стейнберг. — А потом люди верят, что пришельцами занимаются разные ученые, которые не дадут их в обиду. Мы уже много знаем, а завтра будем знать еще больше…
— А послезавтра еще больше, — одними губами улыбается Леннон. — О, как я ненавижу бюрократов! Конгресс не может договориться с НАСА, НАСА не хочет принимать решений без сенатской комиссии по космосу, комиссия согласовывает свои выводы с астронавтическим комитетом палаты представителей…
— А в результате? — перебивает его спокойный голос Редфорда.
— А в результате мы наслаждаемся жизнью, а «Протей» летает, — раздраженно заключает Леннон.
— И, кстати, это уже мало кого волнует, — грустно говорит Редфорд. — Интереса к «Протею» хватило на неделю, А если бы не помехи радиосвязи, о нем бы вообще не вспоминали. 90 процентов людей не могут даже представить себе масштаб случившегося «Протей» в принципе не мешает делать бизнес, почему же он должен волновать людей? А вот твоему бизнесу он мешает, и ты волнуешься. — Он оборачивается к Леннону. — И бизнесу Джона он тоже мешает, и Джон тоже волнуется…
— Ну при чем здесь бизнес, Алан? — поморщился Раздолин. — «Протей» — проблема не экономическая и не техническая, а мировоззренческая. Мы верим, что Вселенная бесконечна, что она познаваема и что за правду по-прежнему стоит отдать жизнь, а уж тем более частицу материального благополучия. Пусть на один легковой автомобиль меньше, но на один сантиметр к правде ближе!
— Единственно, чего нам не хватало, — криво усмехнулся Стейнберг, — это политических дискуссий.
— Ох, не могу! — закричал вдруг Лежава. — Не могу больше! До чего же мне надоели эти разговоры! Что мы обсуждаем? Сколько это будет продолжаться? Вместо того, чтобы действовать, мы все говорим, говорим…
— Что ты хочешь? — перебивает его Леннон. — Мы сказали Зуеву, что хотим лететь к излучателю, мы говорили с Кэтуэем… Решать им…
— Да почему решать им?! — снова взрывается Лежава. — Мы поговорили и успокоились. Ты что, не знаешь Кэтуэя? А Зуев твой любимый снова упрятал нас на дно морское, чтобы мы у него в ногах не путались. Сидим, едим, в шахматы играем, телевизор смотрим! Прямо Дом ветеранов сцены… Мне не нужна имитация невесомости, понимаешь? Я в невесомости два месяца прожил! И антенну эту дурацкую я в настоящей невесомости один могу смонтировать за десять минут!
— Ну-ну-ну, — улыбается Редфорд.
— Больше всего меня возмущает то, что мы живем, как будто ничего не изменилось. Последствия этого события могут быть страшнее, чем все наши войны, вместе взятые.
— Ты не допускаешь, что это событие может принести всем нам величайшее благо? — перебивает Леннон.
— Допускаю. В любом варианте речь идет о перевороте в судьбе земной цивилизации, это вы понимаете?
— Послушай, Анзор, в чем мы перед тобой провинились, что ты на нас кричишь? — с нарочитым спокойствием спрашивает Стейнберг.
— Ты провинился в том, что лопаешь яичницу с украинским салом, вместо того чтобы лететь к излучателю! — отрезал Лежава.
— Это ты ее лопаешь, — невозмутимо замечает Стейнберг, — а я ее жарю…
Редфорд подходит к полке, перебирает какие-то бумаги и, взяв один листок, возвращается к столу.
— Давайте-ка, ребята, обсудим, — говорит он задумчиво. — Я вот тут кое-что набросал…
Все оборачиваются к нему.
— Что это такое? — спрашивает Леннон.
— Это набросок программы полета к излучателю. Самый общий, разумеется…
— Э, нет, обсуждать давайте все вместе!
На этот веселый, добродушный голос мгновенно оборачиваются все, словно их током ударило. В шлюзовом люке подводного дома из воды торчит человеческая голова, лицо скрыто маской для ныряния. Тишина в доме такая, что слышно, как скрипит мокрая резина, когда человек стягивает маску.
— Саш, это ты? — шепотом спрашивает Раздолин.
— Я, — с улыбкой отвечает Седов.
Редфорд закрывает глаза и, набрав полные легкие воздуха, кричит, что было сил:
— Ур-ра! Саша вернулся! Ура!
Пять веселых полуодетых людей мнут и тискают мокрого Седова.
— Ну, рассказывай: все в порядке?
— Новости какие-нибудь привез?
— Новости дозревают, — улыбается Седов.
Резко звонит телефон.
Раздолин снимает трубку.
— «Атлантида» слушает… Саша, тебя. — Он протягивает трубку Седову.
— Седов. Да… Спасибо. Прибыл благополучно. Да, по-моему, неплохо встретили. — Он косится на друзей. — Понял… А повестка дня? Ах, вот оно что! — восклицает он радостно. — Спасибо… Конечно, конечно… До свидания.
Он кладет трубку и, молча улыбаясь, оглядывает обступивших его космонавтов.
— Ну?! — не выдерживает Раздолен.
— Новости дозрели, — говорит Седов. — В 12 часов в четверг советско-американское совещание. Будет обсуждаться вопрос об изменении программы нашего полета. Вот так, Алан… — Седов оборачивается к Редфорду. — Кончилась ваша курортная жизнь!
11 сентября, четверг. Крым
Три одинаковых автомобиля спешат по горной дороге к белому красавцу дворцу, башенки и арки которого прячутся среди деревьев парка.
В одной из машин Леннон, обернувшись к Раздолину, сидящему сзади, говорит:
— Я сегодня слушал американское радио. Знаете, как называют нашу сегодняшнюю встречу? Вторая ялтинская конференция!
— Кстати, — Раздолин кивает в окно, — в этом дворце жил президент Рузвельт…
Помолчали.
— А им, пожалуй, было легче, — медленно говорит Леннон.
— Почему?
— Все было понятно. Был конкретный враг. Ясна была цель.
— Ну, не легче. Все-таки была война.
— А ты уверен, что завтра не начнется такая драка, по сравнению с которой все прошлые — детские игрушки?
— Уверен, — твердо говорит Раздолин.
— Почему?
— Потому что я коммунист, а следовательно, оптимист. Общественное сознание может в какой-то мере отставать от уровня развития техники, но очень большим этот разрыв быть, я уверен, не может.
— При чем тут общественное сознание?
— То, что там летает, — Лежава ткнул пальцем в небо, — не может сделать кто-то один. Одному это и не нужно. Их много. Следовательно, понятие общественного сознания справедливо и для них.
Во второй машине — Седов и Стейнберг.
— Саша, — говорит Джон и сразу замолкает, потому что это вырвалось у него непроизвольно: он никогда не называл своего командира вот так, просто по имени. И Седов тоже сразу понял, что Джон напряжен, и обернулся к нему просто и ласково, будто и не заметил ничего. — Ты знаешь, — Стейнберг сглотнул, что-то мешало ему говорить, — это я тогда заварил всю кашу… Ну тогда, когда мы ходили к Зуеву… Я после много думал об этом… Все уже забыли этот случай, а я все помнил. И вот я хотел… захотел, чтобы ты знал…
— Спасибо, Джон. — Седов положил ему руку на плечо. — Я все понял. Все понял, как надо, спасибо.
Машины останавливаются у подъезда дворца. На ступеньках космонавтов встречают генерал-полковник Самарин, Зуев, вернувшиеся вместе с ним с орбиты профессора Ятаки и Делонг, руководитель американской части программы «Марс» Майкл Кэтуэй. Шутки, рукопожатия, дружеские похлопывания по плечу. С террасы смотрят несколько телекамер, снуют фотокорреспонденты.
— Послы Нептуна прибыли, можно начинать, — говорит кто-то громко за их спиной.
Все тронулись вверх по лестнице…
Светлая просторная зала. Зеркала делают ее еще просторнее. Ветер шевелит белые шелковые занавески на распахнутых окнах. Большой круглый стол, в центре которого два флажка: советский и американский. Космонавты разделились на этот раз: слева сидят американцы, справа — представители СССР.
— Господа, товарищи! — поднялся Зуев. — Мы собрались здесь, чтобы обсудить возможность изменения программы полета космического корабля «Гагарин» в связи с непредвиденными и всем хорошо известными обстоятельствами. На этом изменении настаивает экипаж. Я знаю, что есть доводы против. Прошу высказываться.
Слово просит Кэтуэй. Он улыбнулся сидящим вокруг стола и заговорил по-русски, но с сильным акцентом:
— Кажется, у русских есть такая поговорка: за двумя зайцами побежишь, ни одного не схватишь. Так? Очень хорошая поговорка. Почему я против полета к непонятному излучателю и настаиваю на полете к Марсу? В первом случае у нас есть программа, которую мы разрабатывали вместе много лет. Мы знаем, куда и зачем летим. Наш корабль предназначен именно для такой, а не иной задачи: это корабль с многолетними ресурсами. Мы имеем идеальный экипаж, собранный и подготовленный именно для выполнения задач марсианской экспедиции. В составе этого экипажа наряду с навигаторами и техниками мы имеем биолога, физика и геолога. Наконец, наступает великое противостояние Марса, а следующего великого противостояния, надо ждать 16 лет. Все это не позволяет менять программу. Уже несколько лет все человечество ждет экспедиции на Марс… Во втором случае, — продолжает Кэтуэй, — мы не имеем никакой программы. Мы не знаем, как близко от излучателя мы должны остановиться, не знаем, а что, собственно, мы должны предпринимать. Корабль не предназначен для такого полета, не имеет средств для разведки в открытом космосе. Его экипаж не подготовлен для подобной работы, выход в открытый космос является для него нештатной программой. Согласитесь, что для подобной космической разведки нам нужен совершенно другой экипаж, в который было бы неразумно включать столь уважаемых специалистов, как астрофизик Майкл Леннон и геолог Юрий Раздолин. Что будут делать они в таком полете? Наконец, мы совершенно не знаем, как поведет себя излучатель и что с ним произойдет через несколько минут. Мы заседаем, а он, может, уже улетел. — Кэтуэй сел и опять широко улыбнулся всем людям за столом.
— Самое парадоксальное, что он кругом прав, — говорит, наклоняясь к Раздолину, Седов. — Но надо с ним спорить…
Седов просит слова. Встает, вытягивается, как по стойке «смирно». Чуть бледен — видно, что волнуется и борется с волнением. Говорит отрывисто, сглатывает:
— Товарищи, господа! Я военный человек и выполню приказ, который мне будет отдан. Я командир корабля и поведу его туда, куда потребует программа. Но от себя и от имени моих товарищей — тех, кто рядом со мной, и тех, кто сидит напротив, — я хочу сказать несколько слов. Мы понимаем, что такое полет на Марс. Мы понимаем, что мы, члены этого экипажа, уже никогда не увидим Марса, о котором многие из нас мечтали долгие годы. То, что для вас называется изменением программы, для нас означает итог жизни. Но мы понимаем также, что привязанный к Солнцу Марс никуда не денется. Пройдут годы, и наши дети исполнят то, что задумали мы, и сделают это, наверное, лучше нас. Но ни дети, ни внуки, ни все грядущие поколения никогда не простят нам, если сегодня мы сделаем вид, что ничего не слышим и ничего не видим. Мистер Кэтуэй прав во всем. Действительно, может быть, пока мы тут заседаем, излучатель уже улетел. Что почувствуете вы, если это случится? Облегчение? Ведь все опять будет по-прежнему… Нет! Чувство необыкновенной утраты и, если хотите, даже стыда за всех нас, за нашу нерешительности, недоверчивость и подозрительность, за все то, что так часто мешало нам на Земле и что теперь мы, увы, переносим в космос… Я убедительно прошу изменить программу полета «Гагарина» и разрешить нашему экипажу — всему нашему экипажу, без замен, — провести разведку космического излучателя.
Седов садится. И вдруг в тишине — одинокие аплодисменты. Все оборачиваются. Редфорд аплодирует Седову. К нему присоединяются все космонавты, а за ними — и другие участники совещания.
30 октября, четверг. Космос
Отсек связи орбитальной станции «МИР-4». У передающей телевизионной камеры — оператор в голубом комбинезоне. Ноги — в «стременах» на полу, удерживающих его от вращения в невесомости. Седов, паря в невесомости, старается закрепиться там, где указывает ему оператор. Он сосредоточен и несколько даже досадует на неудобства невесомости. И говорить он начинает без разбега, без предисловий:
— Прошу простить меня за краткость: мы должны садиться в корабль через… — он смотрит на часы, — двадцать девять минут. Мы собирались лететь к Марсу, как вы знаете. Наш путь изменился, но он не стал легче. Из тысячи пунктов прежней программы у нынешней остался только один: понять. Я хочу верить, что нам это удастся. Наш экипаж шлет привет Земле. До свидания.
Он медленно поплыл к переходному люку…
Зуев нажал несколько кнопок на своем пульте в маленьком рабочем кабинете и сказал торопливо и озабоченно:
— Соедините меня с Седовым, только побыстрей.
Но, когда на пульте зажегся транспарантик «Говорите», тон Ильи Ильича стал совсем иным, веселым, даже беспечным.
— Александр Матвеевич! Ты что такой невеселый был по телевизору? — звонко заговорил динамик голосом Зуева в шлюзовой камере орбитальной станции.
Седов здесь один. Он проверяет показатели на маленьких нагрудных щитках ранцевых ракетных двигателей перед тем, как положить их в мягкие ложа контейнеров. Откладывает ракетный ранец и говорит спокойно, точно так же, как только что говорил по телевидению:
— А что же веселиться, Илья Ильич? Дело-то ведь страшное…
Пауза: ответ неожиданный.
— То есть в каком смысле страшное? — наконец спрашивает Зуев.
— В самом прямом смысле. Ответственности страшно. За всю Землю ответственность на нас… — спокойно отвечает Седов.
Опять пауза. Потом Зуев говорит уже не тем веселым, бодряческим тоном, а медленно, с твердой убежденностью в голосе:
— Ты прав, Александр Матвеевич. И я рад, что ты это понимаешь и сказал мне это.
30 октября, четверг. Земля — Космос
Черная бездна с россыпью немигающих звезд. Глубокая тень причала орбитальной станции, у которой стоит «Гагарин», заметна только потому, что в тени звезд нет. Только цепочка огней на борту космического корабля светится рядом с иллюминаторами станции. Вдруг цепочка эта дрогнула и тихо двинулась вперед. И весь причудливый, странный гигант начал выползать из черной тени, ослепительно сверкая под лучами солнца. Он отчаливал медленно и величественно, как отходит от пирса большой океанский лайнер Никаких огненных струй, привычных для ракет, стартующих с Земли, никакого грома — безмолвие. Внутри «Гагарина» слышался, правда, тонкий; высокий свист магнитоплазменных двигателей — незнакомая нам, жителям 70-х годов XX века, мелодия орбитального старта межпланетного корабля. «Гагарин» начал свой путь к тайне.
Командный отсек. Довольно тесное помещение с большим, выгнувшимся дугой пультом, против которого три кресла. Посередине сидит Седов, справа от него Редфорд, слева — Стейнберг. Седов крепко держит в правой руке штурвал, похожий на рубильник, и медленно ведет его от себя. В иллюминаторах — край орбитальной станции на фоне расплывчатого бело-голубого диска Земли. Из динамика, незаметного среди множества приборов на пульте, — ровный, спокойный голос Зуева:
— «Гагарин», я двадцатый. Очень хорошо, «Гагарин». Мягко, плавно. 28-й двигатель не включайте, а то он своей струей может развернуть «МИР-4». Не беспокойте их. А угол по рысканью выберете, когда подальше отойдете. В общем, действуйте по штатной программе.
— Вас поняли, двадцатый, — отвечает Седов. — Угол 26 минут. Начнем его выбирать при отходе на 20 километров… У нас все в порядке, все параметры в норме. — И вдруг добавляет взволнованно и восхищенно: — Илья Ильич! Вот это действительно корабль! Такая громадина, а как слушается!
— А кто делал? — задористо говорит Зуев.
Голос Стейнберга: — Я третий. Десятая минута полета, замечаний по плазме нет.
Голос Лежавы: — Я четвертый. Замечаний по СЖО нет.
Голос Леннона: — Я шестой. На десятую минуту расстояние до станции 8434 метра.
— Я второй, — говорит Редфорд. — Принято по десятой минуте.
Радость, даже восторг сдерживаются тревожной напряженностью, ежесекундной готовностью прийти не помощь. В принципе «Гагарин» может управляться одним человеком, может управляться электронным мозгом, который поведет его строго по программе, а в случае каких-либо отклонений проанализирует причины их возникновения и мгновенно, несравненно быстрее, чем любой, самый опытный пилот, найдет наиэффективнейший путь к устранению любых неполадок. Но сейчас их руки на пульте корабля, сейчас, когда он делает первые шаги, они словно поддерживают его. Внимательно следит Седов за тем, как бьется магнитоплазменное сердце. Раздолин помогает ему за дублирующим пультом управления в главной физической лаборатории. Люк, сейчас задраенный, соединяет физическую лабораторию со шлюзовой камерой, отсюда же через переходный отсек можно попасть в «Мэйфлауэр» — посадочный модуль, маленький кораблик, который должен был сеете на Марс.
За пультом СЖО (системы жизнеобеспечения) — Анзор Лежава. Белую госпитальную чистоту биомедицинского комплекса приятно разнообразит зелень маленьких оранжерей. Среди них — клетки с подопытными мышами и морскими свинками, многие из которых, уже освоившись с невесомостью, сидят на решетках потолка или смешно кувыркаются. В стальных зажимах укреплены шарообразные аквариумы с рыбками, и газовые пузырьки нагнетаемого в них воздуха не стремятся, как обычно, с веселым журчанием вверх, а кружатся серебристым хороводом.
Майкл Леннон, контролирующий работу автоматического штурмана, находится в обсерватории «Гагарина», которая отличается от других помещений большими размерами иллюминаторов и приборами, словно пронзающими ее стены. Леннон сидит — как бы точнее сказать? — на боковой стене, если считать, что кресло Лежавы укреплено на полу. Ведь в «Гагарине», предназначавшемся только для транспланетных перелетов, собранном на орбите искусственного спутника и не ведающем, что такое тяжесть, а значит, и такие понятия, как «верх» и «низ», некоторые рабочие места, входы и выходы расположены, по нашим земным представлениям, весьма странным образом. Земная жизнь приводит, естественно, к плоскостной архитектуре: невозможно, скажем, жить в комнате со скошенным полом. В земных коридорах двери идут направо и налево. В «Гагарине» шесть кают экипажа расположены вокруг широкой трубы — коридора. Если все космонавты пристегнутся к своим постелям, окажется, что каждый из них по отношению к кому-то другому спит «вниз головой»… Смысл прямоугольной планировки теряется в этом мире. Поэтому большая кают-компания имеет идеальную для невесомости форму — шара. Единственная магнитная ножка кресел, двигаясь по внутренней поверхности шара-комнаты, может занимать в ней любое место. Поэтому в своей обсерватории Леннон работает сидя «на стене».
«Гагарин» лег не курс к таинственному излучателю. Седов откинулся а кресле, потер кулаками глаза, потом тронул кнопку внутренней связи и сказал весело:
— Экипажу перейти на автоматический режим. Спасибо за работу. Вахтенный в командном отсеке — Стейнберг. Остальных прошу на обед…
Из разных отсеков и лабораторий в шаровую кают-компанию «сплываются» к столу космонавты. По дороге они достают из встроенных в стену холодильников пакеты и тубы с едой, опускают их для подогрева в углубления на столе.
Раздолин включает электромагнит стола, тем самым закрепляя на нем вилки, фольгу туб и пакетиков.
— Из всех человеческих свобод самой большой борьбы за себя требует свобода мысли, — говорит Редфорд, отсасывая из тубы гороховый суп. — Нам, летящим к «Протею», так же трудно представить себе иную психологию, иную логику, как несколько лет назад конструкторам трудно было представить, что комната-шар — самое удобное помещение для жизни в невесомости.
— Но почему ты говоришь все время об иной логике и иной психологии? — возражает Раздолин. — А если все у них так же, как у нас?
— А если все, как у нас, — отвечает за Редфорда Седов, — какого же черта они прилетели и гудят во все тяжкие? Если бы ты полетел на другую планету, ты бы разве гудел так?
— Ребята, — перебивает всех Лежава, — а может быть, это гудение — все-таки какой-то рассказ, какая-то информация?
— Но ведь этот англичанин, — отзывается Седов, — забыл его фамилию…
— Когуэлл, — подсказывает Леннон.
— Да, да, Когуэлл. Ведь он же доказал, что никакой модуляции ни по частотам, ни по мощности нет. Представь толстую книгу без единой буквы — чистые листы. Вот это и будет сборник их рассказов.
— А я убежден, что в этой монотонности закодировано что-то, — не соглашается Лежава. — Иначе надо признать…
Биолога перебивает голос Стейнберга из динамика внутренней связи:
— Командир! Я третий. Получается, что мы стоим, а в то же время мы вроде летим… Ничего не понимаю…
Люди в кают-компании замолкли. Седов нажимает одну из кнопок на столе и говорит:
— Я первый. То есть как стоим? Как мы сможем стоять?!
— Ну, получается, что мы не летим вперед, — говорит Стейнберг нерешительно.
— А куда же мы летим? — спрашивает Редфорд.
— Куда-то летим, но не навстречу ему, — недоумевает Стейнберг.
— Погоди, сейчас разберемся…
Они дружно и быстро ныряют в широкий люк, ведущий в командный отсек.
— Мы летели навстречу излучателю, и он был нашим главным пеленгом. Чем мы ближе, тем он слышней — это понятно, — объясняет Стейнберг, когда все космонавты собрались перед пультом. — Вот смещение по частотам за счет нашего движения.
— Эффект Допплера, — говорит Седов.
— Он самый, — продолжает Джон. — Уровень рос. — Он нажимает кнопку, и на одном из маленьких экранов появляется яркая зеленая линия, медленно и ровно текущая в гору. — Вот что было. Потом получилось вот что… — Стейнберг нажал еще одну кнопку, и линия прекратила свой подъем, некоторое время шла ровно, а потом начала медленно и полого ползти вниз. — Получается, что мы вот тут остановились, — Джон ткнул пальцем в график, — а потом полетели куда-то в сторону от излучателя.
— Что показывает земной лазерный пеленг? — быстро спросил Редфорд.
— Что мы уходим от Земли точно по штатной программе. — Стейнберг кивнул на другой экран.
— Все понятно, — вдруг говорит Леннон, всплывая над спинками кресел. — Ответ единственный, но я отказываюсь в это верить! Ребята, неужели это правда?!
Зал центра управления полетами ИКИАНа. На большом, во всю стену экране горит схема; Земля, Луна, пульсирующая красная звездочка излучателя и белый кружочек, медленно ползущий навстречу к нему, — «Гагарин». Прыгают цифры на световых табло: «Полетное время», «Время Москвы», «Время Хьюстона», «Мировое время».
За рядами пультов — сменные дежурные. У пульта с табличкой «Технический руководитель полета» — Илья Ильич Зуев. Он повесил пиджак на спинку кресла, рукава белой рубашки закатаны по локоть, пуговка на шее расстегнута, и узел галстука приспущен. Вид у Зуева усталый, глаза покраснели, видно, что он уже много часов провел за этим пультом. Илья Ильич задумчиво отхлебывает черный кофе из маленькой чашечки, стоящей прямо на пульте. В зале атмосфера сонная, все идет по плану, и, как это всегда случается, если все идет нормально, напряжение первых часов полета «Гагарина» сменилось некоторой апатией. Поэтому неожиданный громкий и молодой голос звучит особенно резко:
— Внимание двадцатому, двадцать шестому и тридцать первому! Я сто седьмой. Обсерватория в Голдстоне докладывает: с 17:25:43 по мировому времени началось падение мощности сигнала излучателя со скоростью 183,3 киловатта в минуту. Падение стабильно продолжается уже четвертую минуту.
Зуев буквально подпрыгнул:
— Внимание сто седьмому! Запросите Голдстон: наблюдается ли смещение координат излучателя?
— Принято.
— Ну, дела! — выдохнул Зуев. — Неужели улетают?! Именно сейчас! Черт возьми! Но с какой же скоростью надо лететь, чтобы в минуту терять 183 киловатта? Это же уму непостижимо! Стояли, стояли и вдруг рванули!
— Я сто седьмой. Координаты излучателя не изменились. Данные Голдстона подтвердили Паломар и обсерватория в Каракасе.
— Принято, — радостно сказал Зуев. — Спасибо, сто седьмой! Внимание сороковому! При программной скорости «Гагарина» и постоянном падении мощности излучателя какой будет мощность в момент подхода? Жду.
Зуев тронул клавишу на пульте и сказал негромки по-английски в маленький микрофон:
— Кэтуэй! Это я! Как тебе нравится?! Они замолкают! Ты представляешь?
— Надо сообщить ребятам, — отвечает с маленького экрана на пульте Зуева Кэтуэй.
— Уверен, что они уже заметили это!
— Успокой их.
— Сейчас, только получу прогноз.
— Внимание двадцатому! Я сороковой При заданных условиях и расчетной скорости «Гагарина» на расстоянии ста метров от излучателя мощность будет равна нулю.
Зуев снова подпрыгнул:
— Они таким образом дают нам режим причаливания! Черт побери, ну, дела!!!
Все в зале пришло в какое-то озабоченно-радостное движение. Уже и тени прошлой апатии здесь нет. Сообщение о том, что излучатель, так неизменно и бесстрастно работавший все эти сумасшедшие недели, замолкает, всколыхнуло всех.
— Внимание на циркуляре! Внимание всем службам! «Гагарин», я двадцатый! Внимание, «Гагарин»!
— Двадцатый, я «Гагарин», слушаем вас, — раздается голос Седова.
— Началось падение мощности излучателя. С 17:25:43, повторяю: с 17:25:43 мощность падает на 183,3 киловатта в минуту. По нашим расчетам, когда вы подлетите к нему, он должен замолчать совсем. Как поняли меня?
— Все поняли. Мы это раньше поняли, У нас шестой отличился, все сразу усек.
— Мои поздравления шестому. Ребята! А ведь, похоже, вас заметили, следят за вами и понимают, что вы летите к ним. Вы понимаете, как это важно?! — Зуев в окружении молодых инженеров и ученых Центра. Он очень взволнован. Обнимает за плечи двух стоящих рядом с ним операторов и говорит, почти кричит; — Поймите, поймите, ребята! Возможно, мы переживаем сейчас поворотный момент в истории человечества! Запомните эти минуты! Все запомните: всех этих людей, погоду, кто в чем одет, как кофе пили, запомните! Запишите в дневники! Ведь потомки, дети, внуки наши, спросят нас: а как это все было?..
— Все, — говорит Седов, обернувшись к друзьям, окружившим его в командном отсеке. — На сегодня хватит приключений. Вахта Раздолина. Остальным всем спать. Завтра у нас трудный день.
Космонавты плывут к выходу. Редфорд задерживается, смотрит в иллюминатор и, не оборачиваясь, говорит задумчиво Раздолину:
— Посмотри, какая необыкновенная Луна сегодня… И вообще, Юра, как много в этом мире всякой красоты…
31 октября, пятница. Земля-Космос
Утро. Впрочем, какое утро?! Просто начало следующего рабочего дня на командном пункте «Гагарина». А начался день с новых загадок.
— Ничего не понимаю, — говорит Седов Редфорду. — Ведь солнечные лучи должны сейчас освещать «Протей», а вместо этого видна какая-то темная непонятная глыба.
В черной бездне неба по затененным звездам угадывается некий темный продолговатый предмет, без каких-либо выступов, острых углов, надстроек, антенн, без всех разнообразных больших и малых деталей, уже привычных для космических кораблей земляк. Этот темный предмет очень медленно приближается, чуть разворачиваясь.
— «Гагарин»! Почему вы молчите? Рассказывайте же наконец, что там у вас, — раздраженно говорит Зуев.
Стоящий у его пульта генерал Самарин кладет руку на плечо академика:
— Илья Ильич, не торопи их…
— Трудно что-нибудь определенное сказать, — отзывается Раздолин. — Темное тело, цвет определить не могу. Форма тоже неопределенная. Неправильный эллипсоид. Ну, попросту сказать, какая-то картофелина, Илья Ильич…
— Мне не нужны ваши «картофелины»! — раздраженно кричит Зуев. — Вы за 2 километра от объекта и не можете ничего путного сообщить! Вы можете хотя бы сказать толково, как он выглядит? Как он ориентирован? Что значит темный? Он не может быть темный!
— Но он действительно темный… — пробует возразить Раздолин. — Мы видим просто силуэт…
— Илья Ильич! — резко перебивает геолога Седов. — Я прошу, чтобы Земля оставила нас в покое! Дайте нам самим разобраться. Мы ничего не можем вам сообщить просто потому, что ничего не видим сами.
— Но ведь солнце должно освещать его… — уже мягче пробует возразить Зуев.
— Должно. А оно не освещает! — почти кричит Седов. — Не желает освещать, и все тут! Нет ничего, темный ком за иллюминатором, понимаете?!
— Хорошо, — сухо говорит Зуев. — Я не задаю вопросов. Сами ведите репортаж.
Леннон просматривает расчеты, только что законченные бортовым компьютером. Ерошит волосы пятерней в полном недоумении и говорит самому себе:
— Но ведь этого быть не может!
С листиком в руках поплыл на командный пункт. «Причалил» за креслом Седова.
— Командир! Я подсчитал. Раз мы ничего не видим, значит, он поглощает почти весь видимый спектр. Следовательно, у него какая-то невероятная отражательная способность. Иисус Христос! Но ведь таких коэффициентов поглощения в природе не существует!!
Редфорд говорит Седову:
— А на Земле мы все гадали, откуда у него энергия… Отовсюду: от Солнца, от звезд, от Земли, от Луны. Он питается светом…
В своей лаборатории Лежава, наблюдающий в иллюминатор за непонятным объектом, взволнован не меньше Леннона.
— Я четвертый, — докладывает он на командный пункт. — Саша, понимаешь, какое дело, мне кажется, что он дышит…
— Как дышит? Что значит дышит? — подскакивает Седов.
— Ну, очертания его плывут, если приглядеться. Давайте проверим по локатору, у него должно быть записано в памяти.
— Локатор работает плохо, — отзывается Раздолин. — Отраженный сигнал очень слабый, на пределе приема…
— Но давайте все-таки попробуем, — предлагает нетерпеливо Редфорд.
На зеленоватом экране возникает дрожащий, неправильный овал. Заметно, что его контур как бы слегка сдвигается то чуть наружу, то немного вовнутрь, как бы колышется, но очень медленно, плавно, почти незаметно.
Кают-компания «Гагарина». Здесь все, кроме вахтенного Лежавы.
— Почему такое полное безразличие к нашему появлению? — задумчиво говорит Раздолин, машинально перебирая пальцами похожие на пчелиные соты кнопки автоматической фонотеки. Врывается то мелодия «Болеро» Равеля, то звучит бархатный, низкий голос чтеца: «Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле…», то назидательно вещает лектор: «Выделение хилюсных клеток как особого элемента интерстициальной железы…»
— Юра, прекрати, я прошу тебя, — раздраженно говорит Стейнберг по-английски.
— А меня удивляет безразличие не к нам, — продолжает Леннон, — а к закону сохранения энергии. Берет энергию и ничего не отдает взамен. Накапливает? Как? Где? В таком ничтожном объеме? Пятиэтажный дом — ведь и тот больше, смешно сказать… Если бы еще…
Но слова астронома прерываются восхищенно-удивленным возгласом Лежавы, оставшегося на вахте в командном отсеке:
— Смотрите! Смотрите!
— По местам! — кричит Седов.
— Что у вас там? — с тревогой спрашивает динамик голосом Зуева. — «Гагарин»? Я двадцатый, доложите обстановку.
— Я четвертый. Все видно, все видно как на ладони, — говорит Лежава срывающимся от волнения голосом.
А в иллюминаторе происходят воистину волшебные превращения. То, что недавно было лишь расплывчатым, темным пятном, прямо на глазах начинает высвечиваться словно изнутри. Странное, серебристо-зеленоватое тело, висящее в космосе, меньше всего напоминает космический корабль. Это скорее увеличенная до невероятных размеров инфузория, гигантская модель микроорганизма, медленно, плавно пульсирующая, словно капля какой-то нерастворимой в пустоте жидкости. Эти движения — неправильные, не предсказуемые логикой предыдущего наблюдения, — не содержали в себе ничего тревожного, опасного и в то же время властно приковывали к себе взгляд, так что невозможно было оторваться от этой невероятной, едва ли даже во сне доступной космической фантасмагории.
15 ноября, суббота. Земля — Космос
Зуев за большим круглым столом в кабинете Центра управления:
— …и как итог, за прошедшие две недели мы имеем лишь весьма натянутое, более чем спорное уравнение энергетического равновесия. Мы не знаем по-прежнему, что это такое: обитаемый корабль или автомат. А мистер Уилкинс, — он кивнул высокому седому человеку за столом, — сегодня справедливо заметил, что это может быть вовсе не пристанище разумных существ, а одно разумное существо, само по себе живущее в космосе и путешествующее без всякой аппаратуры. Сколь это ни фантастично, но и такое может быть тоже. А почему нет?
— А почему да, Илья Ильич? — тихо говорит другой ученый, сидящий против Зуева. — Зачем нам все эти домыслы из фантастических романов? Нам нужны только факты, а не «мыслящие сверхамебы»…
Один из ученых говорит лениво, срезая острым ножичком кончик сигары:
— Давайте честно скажем друг другу: мы все представляли себе несколько иначе. Мы говорили о контакте, а прошло уже 14 дней, и никакого контакта нет…
— Это мы знаем, — перебивает Зуев человека с сигарой. — У вас есть позитивные предложения?
— У меня даже негативных нет, — лениво говорит тот.
Затененный командный отсек «Гагарина». У пульта в кресле один вахтенный — Седов. Маленькие огни пульта чуть высвечивают его лицо. Сначала кажется, что он спит. Но это не так. Он думает.
— Саша… — Из сумерек люка выплывает Редфорд. — Это я…
— А, Ален, садись. — Седов встрепенулся. — Ты что не спишь?
— Я всегда плохо сплю в космосе.
Помолчали.
— Саша, мы все об этом думаем, но опять чего-то ждем, как тогда ждали в подводном доме. Я тоже военный человек и уважаю приказ, но ты же понимаешь, что надо действовать.
— Земля пока молчит, — говорит Седов.
— Что значит — молчит? — раздраженно говорит Редфорд. — Запроси еще раз!
— Зуев не тот человек, которого можно взять кавалерийским наскоком, ты знаешь это не хуже меня, — говорит Седов.
— Что он сказал? — спрашивает Редфорд.
— Он сказал по стандарту: «Гагарин» должен быть на связи и ждать распоряжений». Но, правда, сказал это не стандартным тоном.
— Самое глупое, что может сделать Зуев, — это советоваться с Кэтуэем, — проворчал Редфорд. — Я уверен, когда Кэтуэя рожала мама, он все равно сумел каким-то образом согласовать с конгрессом свое появление на свет…
Кабинет в Центре управления. Круглый стол ученых.
— Кэтуэй предлагает ждать, но я не понимаю, чего мы будем ждать, — горячо говорит Зуев.
— Но ведь ничто и не мешает нам ждать, — говорит человек с сигарой.
— Против этого трудно возражать. — Зуев пожимает плечами. — С другой стороны, ждать мы могли и на Земле. И экспедицию мы отправили не для того, чтобы ждать, а для того, чтобы разобраться, чтобы узнать и понять.
— И мы очень многое узнали, — говорит человек с сигарой. — Контакта нет; это тоже результат. В науке отрицательный результат — тоже результат…
— И опять мне трудно возразить, — все более раздражаясь, говорит Зуев. — Но я хочу спросить: что мне отвечать космонавтам? Единственное предложение, предполагающее действие, пока что исходит от них. Они ждут нашего разрешения уже третьи сутки.
— А кто возьмет на себя ответственность дать им такое разрешение? — спрашивает ехидно старичок в «академической» черной ермолке.
Пауза. И никто не смотрит друг на друга.
— Я, — негромко говорит Зуев. — Я возьму. Я имею на это полномочия моего правительства.
Все повернулись к нему.
— Это большой риск, Илья Ильич, — говорит старичок.
— Кто не рискует, тот не выигрывает, — это человек с сигарой.
Зуев резко оборачивается на последнюю фразу.
— Я не игрок, — говорит он раздельно и строго.
Шлюзовая камера «Гагарина». Редфорд и Лежава уже в скафандрах. Седов, Раздолин и Леннон вокруг них, что-то поправляют, помогают надевать ранцевые ракетные двигатели, обминают скафандры — ведут себя, как родители, отправляющие в школу первоклассника первого сентября.
— Ты подходишь и говоришь на чистом английском языке, — паясничая, говорит Раздолин Редфорду: — Прошу ко мне, в Техас…
— После того, как вы укрепите анализаторы, сразу назад, ни секунды промедления, — в который раз наставляет Лежаву Седов. — Мы не знаем реакции. Никаких облетов, никаких осмотров. Это приказ, Анзор.
— А представляешь, Анзор, — не унимается Раздолин, — они там внутри такие маленькие, пучеглазенькие, как лягушки. Столы накрыты, вас сажают, угощают. А вы одного хмельного лягушонка — цоп в карман, и деру оттуда.
— А если нас самих в карман? — весело спрашивает Лежава.
Вся эта абракадабра, необходимая для нервной разрядки, идет как бы стороной, не касаясь того напряжения, которое чувствуют все — и те двое, которым предстоит выход в открытый космос, и те, которым предстоит ждать их в корабле.
— Ну, ладно, — выдохнул Редфорд, и все сразу посерьезнели. — Пора…
Обнимаются, целуются. Голос Стейнберга из динамика:
— 18:00, командир. Надо начинать шлюзование…
— Мы идем, — откликается Седов.
Кэтуэй в холле отвечает на вопросы журналистов:
— Я обещал, а я сдерживаю свои обещания. Итак, принято решение о выходе двух космонавтов в открытый космос.
Голоса:
— Кто? Кто выходит?
Несколько человек уже рванулись к переговорным кабинам и в телетайпный зал.
— Алан Редфорд первый приблизится к излучателю, а затем Анзор Лежава установит на его поверхности комплект датчиков. Выход назначен на 18:30 по бортовому времени, Леннон и Раздолин будут вести телерепортаж, который вы увидите с гостевого балкона нашего зала…
Потное от волнения лицо Седова у иллюминатора командного пункта. Он хорошо видит, как из шлюзовой камеры медленно выплывают две серебристые, похожие на рыбок фигурки. Редфорд, плывущий впереди, слегка помахал рукой, приветствуя невидимых ему товарищей и миллионы телезрителей Земли. Чуть в стороне позади Редфорда — Лежава. Он держит в руках небольшой контейнер с датчиками.
— Все нормально, Алан, — очень тихо, почти шепотом, говорит Седов в маленькую белую таблетку микрофона, укрепленную у самых губ. — Не торопись; все идет, как надо. Ты только не торопись.
— Я четвертый. Что-нибудь новое по объекту есть? — хрипловатым голосом спрашивает Лежава. Чувствуется, что ему не по себе.
— Вас понял, четвертый, — быстро отвечает Разделим со своего поста в физической лаборатории. — Никаких изменений. Ведет себя тихо.
— Кваканья не слышно? — снова спрашивает Лежава.
— Не понял… — Разделим напряжен.
— Ты же говорил, что там лягушки, — весело говорит Лежава.
— Отставить, четвертый! — резко перебивает Седов. И добавляет мягко: — Анзор, не время. Ну, что ты, правда…
Леннон бесстрастно:
— Расстояние между объектом и вторым тридцать один метр…
— Принято, — спокойно отзывается Редфорд.
Седов у иллюминатора хорошо видит, как все ближе и ближе подтягиваются к «Протею» невидимыми течениями реактивных струй две маленькие фигурки.
— Все хорошо, Алан, — шепчет он. — Не торопись. Видишь что-нибудь?..
— Это как жидкость, — отзывается Редфорд. — Словно капля масла в воде…
— Спокойно, Алан, тормози, ты плавно подойдешь, но развернись на всякий случай…
— Я второй. Все понял. Не волнуйтесь, у нас все очень о'кэй!
Редфорд медленно, словно пушинка в неподвижном летнем воздухе, приближается к слабо пульсирующему телу излучателя и, вытянув вперед руки, смягчает и без того легкое свое прикосновение.
— Есть контакт! — спокойно говорит Редфорд.
— Принято, — отзывается Леннон.
— Совершенно твердое тело, — докладывает Редфорд. — Ничего страшного…
Оттолкнувшись от «Протея», он по инерции чуть отошел от его поверхности и развернулся в сторону медленно подплывающего Лежавы.
— Пятый, я первый, — быстро говорит Седов, — есть изменения в параметрах объекта?
— Я пятый, — тут же отзывается Раздолин, — все по-старому, никакой реакции.
Зуев на командном пункте весь сжался, съежился, словно изготовился для прыжка. Он ничего не видит, он весь в телеэкране, где блестят на фоне излучателя две серебристые фигурки.
— Поверхность твердая, — звучит в зале голос Редфорда, — но в то же время пластичная… Не знаю, с чем сравнить… Представьте себе резину, очень твердую, которую растягивают и сжимают какие-то силы внутри, — говорит Редфорд, — но блеск, как у металла, и как будто…
— Назад! — резкий, как удар хлыста, крик Седова.
Прямо перед фигурками на слабо пульсирующем теле излучателя мгновенно образовалась широкая, стремительно углубляющаяся воронка. Края ее подались вперед, заключив внутрь себя обоих космонавтов, и тут же, сомкнувшись позади них, распрямились, вновь тихо и плавно пульсируя. Там, где только что были космонавты, теперь не было никого.
Это произошло так быстро, что походило на фокус, оптический обман. И в первое мгновение никто никак не реагирует на случившееся. Все как бы ждут чего-то, то ли обратного трюка, то ли какого-то продолжения. Невозможно представить себе, что же произошло, именно из-за простоты и быстроты: словно короткий глоток — и людей нет.
Как на пружине, вскочил бледный, с перекошенным лицом Зуев.
Седов зажмурился и мгновение стоит перед иллюминатором с закрытыми глазами. Опять смотрит в иллюминатор — пустота. Ярко светящийся таинственный излучатель начинает быстро тускнеть, темнеть, погружаясь в черноту космоса, словно растворяясь в ней.
16 ноября, воскресенье. Земля — Космос
— Академик Зуев считает, что было бы неверно расценивать реакцию излучателя только как агрессивную. Хотя немедленно приняты меры для возможного активного воздействия на космическое тело… — говорит с экрана телекомментатор.
Лия быстро пересекает комнату, снимает со шкафа чемодан, начинает рассеянно укладывать вещи.
— Ты куда? — поднимает голову отец.
— В Москву, — говорит она совсем спокойно.
— Зачем?
— Не знаю…
Она садится рядом с чемоданом, перекладывает что-то, вдруг вскакивает, кидается к отцу, обнимает его.
— Папа, папочка, ну что же это такое? Ужас, ужас какой-то! Что это?
— Успокойся. — Он гладит ее по голове. — Я не знаю, что это. Откуда мне знать? Вот вернется Анзор и расскажет.
— Он вернется?! — Вопрос вырывается, как крик.
— Обязательно. Анзор обязательно вернется. Я знаю.
— Откуда?! Как это можно знать?
— Знаю… Сядь. Сейчас чай будем пить.
Он идет на кухню, ставит чайник под струю, бегущую из крана. Вот уже чайник полный, из носика течет. Старый человек стоит, закрыв руками лицо.
Мать Седова сидит на краю стула у маленького письменного столика в доме заведующей клубом Любови Тимофеевны, той самой, которая во время торжественной встречи Александра Матвеевича дирижировала оркестром. Любовь Тимофеевна кутается в платок, неотрывно смотрит на телеэкран.
— Тимофеевна, — говорит мать Седова, теребя в руках мокрый платочек. — Ты грамотная, объясни мне, глупой, что это? Я ничего не пойму… Где этот грузинец? Куда они оба девались? Может, оно их съело? А Шура как же? Я ведь Шуру знаю, он ведь их вызволять полезет теперь. Господи, прости ты прегрешения наши…
Зуев перед журналистами:
— А теперь я готов ответить на ваши вопросы.
Вскакивает молодой человек с блокнотом.
— Газета «Юманите». На сколько часов автономной работы рассчитаны системы жизнеобеспечения скафандров?
— На восемнадцать часов…
Журналист смотрит на часы.
— Таким образом, в 3 часа 30 минут их ресурсы должны иссякнуть?
— Да, примерно так, — говорит Зуев.
Обсерватория Леннона на «Гагарине». У ее больших иллюминаторов собрались все четверо оставшихся на корабле. Нетерпеливое ожидание товарищей, отсутствие каких-либо обоснованных надежд на их возвращение — все это создает атмосферу предельно тягостную.
— Мы теряем время, — резко говорит Раздолин. — Чем меньше у нас времени, тем меньше возможностей.
— Что ты имеешь в виду? — спрашивает Леннон.
Стейнберг выплевывает жвачку и отвечает за Раздолина:
— Ты понимаешь, что он имеет в виду. И все понимают, но не хотят говорить об этом. Их надо выручать. Я привык выручать своих товарищей, когда они в беде, понимаешь?
— Но как? — спрашивает Леннон, невидимый в тени на потолке.
— Не знаю, как! — горячится Раздолин. — Но он прав, — кивает на Стейнберга.
— Нет, ты знаешь! — резко поворачивается Стейнберг. — И все вы знаете, но вам говорить об этом не хочется. Вы же гуманисты. А я скажу. Надо взять лазерный бур с «Мэйфлауэра» и вскрыть эту штуку к чертовой матери, как консервную банку!
— Прекратите истерику немедленно, — спокойно и твердо говорит Седов. — Мне стыдно за тебя, Джон. И, главное, хороша твоя психология: раз я не понимаю, надо хвататься за пистолет. Вспомним сорок восьмой — сорок девятый годы… И представьте себе, что тогда, у наших дедов не хватило бы разума и терпения.
— О каком разуме ты говоришь сейчас? — перебивает Раздолин. — Где тут разум?
— Уже то, что «Протей» погас, — спокойно объясняет Седов, — а значит, вновь собирает энергию, говорит о том, что она ему нужна. Зачем? Возможно, для проведения каких-то исследований, для выбора вариантов контакта…
— Когда муравей залезает тебе за шиворот, ты давишь его пальцем и выбрасываешь, а не выбираешь варианты контакта, — зло говорит Стейнберг. В синих подсветах чуть мерцающих панелей аппаратуры обсерватории его лицо кажется мертвенно-бледным.
— Я верю и хочу, чтобы ты верил: речь идет не о муравьях, — спокойно отвечает Седов. — И наше уверенное ожидание, наша выдержка и терпение — это тоже проявление высшего разума.
— Может быть, у меня мало твоего «высшего разума», — отвернувшись к иллюминатору, говорит Стейнберг, — но ресурс регенераторов в СЖО еще меньше…
— Я прошу тебя — иди, отдохни, — тихо и ласково отзывается Седов.
— Правильно, — свирепея еще больше, говорит Стейнберг. — Я буду спать, а они — задыхаться!
Седов прерывает его резко:
— Я не прошу, а приказываю вам прекратить эти разговоры!
Все молчат.
Центральный зал управления полетом. У своего пульта — Зуев с лицом измученным и непроницаемым. Рядом с ним — Самарин.
— …И все-таки мы обязаны попробовать изобрести еще что-нибудь. У нас есть час, — продолжает разговор Самарин, взглянув на табло, где неумолимо и бесстрастно менялись светящиеся очертания секунд и минут.
— Мы сделали все, чтобы они поняли: мы за продолжение контакта, — говорит Илья Ильич. — «Гагарин» приблизился еще на 50 метров. Мы передали телеизображение автомата жизнеобеспечения, дали в двоичной системе предельный ресурс его работы, показали схемы атомов кислорода и азота. Мы использовали все возможные, спорные и бесспорные виды связи. Мы использовали все, что придумала наука за последние десятилетия для связи с внеземными цивилизациями. Нас уже поняли бы дельфины и мартышки…
— Спокойно. Мы пока разъясняли, — перебивает Самарин. — Это правильно. Но нельзя ли как-нибудь показать наше нетерпение, тревогу, наше недовольство, наконец?
На экране телемонитора связи с Хьюстоном — лицо Кэтуэя. Он строг и официален.
— Мистер Зуев! Мы предлагаем в 03:35 бортового времени, то есть через 5 минут после того, как у Лежавы и Редфорда иссякнут ресурсы и их уже никто не сможет спасти, направить на излучатель лазерный бур «Мэйфлауэра». Мы предлагаем согласовать наше предложение с Советским правительством, президентом Соединенных Штатов и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций… Несколько месяцев они висят над нами, Илья, — говорит Кэтуэй уже неофициальным голосом. — Глушат нашу связь. Погибли самолеты, корабли. Мы летим навстречу, а они гробят наших ребят. Чего же еще ждать?
— Это страшное решение, — говорит Зуев. — Я никогда не уходил от решений, но сейчас нужно думать и думать… Я отвечу тебе через 10 минут…
Неподвижно висит в звездной бездне ярко освещенный солнцем «Гагарин». Рядом с ним темная масса излучателя. И вдруг она начинает быстро наливаться светом. Именно наливаться, словно внутрь «Протея» втекает какая-то лучезарная жидкость.
— Саша! — кричит Леннон, обернувшийся к иллюминатору, за которым теперь ясно было видно снова чуть пульсирующее тело «Протея».
Майкл не успел еще ничего добавить, а остальные — понять, как маленький, плавно поднявшийся бугорок на этом теле вдруг разошелся, как бы лопнул, и рядом с излучателем, тихо вращаясь в невесомости, зависли две маленькие фигурки.
— Второй! Четвертый! Я первый! Вы слышите меня? — кричит Седов.
— Я второй, — отвечает Редфорд так спокойно, как будто он вылез из тренажера. — Слышим хорошо, можешь даже чуть тише говорить…
Да, конечно, он понимал, как ждал мир его слов, и сейчас самим голосом своим и этой столь обыденной «телефонной» фразой он успокаивает родную планету и своих друзей.
— Все в порядке, а как у вас? — спрашивает Лежава.
— Ребята! Ура! — кричит Седов. Лицо его мокро от слез.
Все четверо бросаются друг к другу и, свившись в какой-то причудливый клубок, медленно вращаются посреди обсерватории в немыслимом хороводе невесомости.
Несущиеся со всех ног в телетайпный зал журналисты выбивают поднос с черным кофе из рук хорошенькой девушки в белом крахмальном переднике и кокошнике.
Редфорд и Лежава сидят в кают-компании «Гагарина» перед микрофонами и телекамерами, перед четырьмя своими слушателями.
— Поверьте, — говорит смущенно Лежава, — самое смешное, замечательное или ужасное заключается в том, что мы ничего не можем рассказать Это было как сон, очень приятный, покойный сон, разве что в детстве мы спим так сладко… Сны? Да все время… Но как это рассказать… Мы не видели никого, кого можно было бы назвать живым существом, пусть даже совершенно не похожим на нас. Мы не видели предметов, которые сохранили бы на себе следы искусственного происхождения… — Он говорит медленно, с трудом подбирая слова.
— И вместе с тем, — добавляет Редфорд, — мы всем своим существом ощущали некий умственный контакт с различными — как бы это объяснить?.. — телами… Точнее — объемами, которые плотно нас окружали, меняя свои размеры, формы и освещенность.
— Эти объемы — живые существа? — спрашивает Седов.
— Не знаю, — рассеянно говорит Лежава. — Может быть. Мы чувствовали их заботу, их внимание, правда, Алан?
Редфорд кивает.
— Мы были совершенно спокойны почему-то, совсем не волновались, верно?
Редфорд опять кивает и говорит:
— Я не знаю, есть ли там живые существа, но это разум…
Зуев говорит звонко и раздельно:
— Экипаж «Гагарина» поздравляем с успешным выполнением намеченной программы. Принято решение: немедленно отойти от «Протея» и взять курс на «МИР-4». Ждем вас на Земле, друзья!.. Как слышите меня, «Гагарин»?
Весь экипаж космического корабля — на командном пункте. Приказ Зуева слышали все, но Седов не отвечает. И никто не отвечает.
— Вы слышите меня, «Гагарин»? — вновь переспрашивает академик. — Я двадцатый. Прием…
— Мы слышим, Илья Ильич, — спокойно говорит Седов. — Только нам сейчас никак нельзя уходить… Помните, перед стартом вы говорили мне, что даете право принимать единоличные решения в случае необходимости. Так вот, такая необходимость есть. Мы не можем уйти. Контакт — это только начало, поверьте нам. Я, мы все, — он оборачивается к друзьям, — поняли это. Мы верим в это. Все еще впереди. — Он обводит глазами своих друзей, как бы ища в них поддержку, и встречается с уверенными и ясными взглядами Алана Редфорда, Юрия Раздолина, Майкла Леннона, Анзора Лежавы, Джона Стейнберга — членами экипажа межпланетного корабля «Гагарин», людей с планеты Земля.
Светится пульсирующий «Протей». Два человека снова плывут в открытом космосе. На плече одного из них — маленький звездно-полосатый флажок, а у другого — красный, с серпом и молотом. За светофильтрами шлемов нельзя разглядеть лиц Александра Седова и Майкла Леннона. Но это они летят в космосе. Все ближе и ближе светящаяся поверхность инопланетного корабля, на котором уже заранее, словно призывая их, возникла, закружила волчком, все расширяясь, растягиваясь, широкая воронка, готовая принять людей, поверивших в Добро и Разум.
Notes
1
Первичное космическое излучение.
(обратно)2
Мы бы не хотели, чтобы у вас остались неприятные воспоминания… (англ.).
(обратно)3
Мидель — среднее поперечное сечение судна, дирижабля, крыла самолета или ракеты.
(обратно)


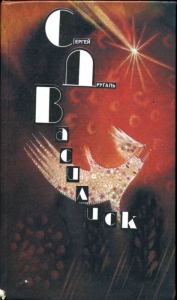
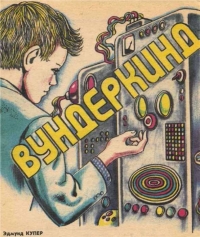
Комментарии к книге «Контакт», Юлий Соломонович Гусман
Всего 0 комментариев