Виталий Бабенко Проклятый и благословенный
Я очень часто прослушиваю эти фонны. И каждый раз долго выбираю, какую взять для начала, стараюсь представить, чей услышу голос. Все они одинаковые — розовые кубики не больше игральной кости, ничем не помечены, чтобы отличаться один от другого, если не считать крохотного индекса на первой плоскости. Я намеренно располагаю их так, чтобы индекс оказался внизу. Беру наконец первую попавшуюся фонну, осторожно закладываю в проигрыватель и жду.
Раздается тихий щелчок. Сейчас в воздухе родится голос. Чей он будет — Психолога или Физика, Бортмеханика или Командира, — я не знаю, но всегда заключаю сам с собой нечто вроде пари. Мне кажется, если я угадаю, то вскоре сбудется и самое сокровенное мое желание: наконец-то я все пойму. Шанс угадать весьма высок: всего-навсего один из семи. Семь фонн выстроились в ряд у меня на столе, ровно столько, сколько было членов экипажа. Почемуто я постоянно проигрываю, и, когда в комнате затихает последний монолог, мне мерещится, будто я только что был на волосок от разгадки, не сумел разобраться в какой-то малости, еще чуть-чуть — и из разрозненных кусочков сложится ясная и четкая мозаичная картинка. Однако… это, же самое впечатление возникало и позавчера, и завтра мне будет недоставать все той же малости, и я утешаю себя мыслью, что причина в моей невезучести; опять не угадал, опять с первого раза не вышел мой многоголосый пасьянс.
«Человеческое познание движется по очень странной траектории», — слышатся первые слова монолога Физика. Я закрываю глаза, и мне чудится, что он сидит в кресле напротив меня, играет своим шариком-веретенцем и тихим голосом — не вдаваясь в сложности теории и не читая наизусть формулы, которые выглядят красиво только на экране калькулятора, а в словесном выражении представляются полнейшей абракадаброй, — рассказывает мне, человеку от физики весьма далекому, о цели эксперимента.
Что же, по крайней мере сегодня пасьянс начался вполне логично - с предыстории. Только я загадывал Навигатора…
«…Кто мог подумать хотя бы двести лет назад, что, изучая материю, углубляясь в структуру вещественного мира, мы вдруг упремся в абсолютно невещественное, в пустоту, в ничто, в вакуум? Как можно в Ничто искать причины Чего-то? И если это Что-то — весь мир, вся Вселенная, то имеем ли мы право тратить силы, энергию, возможности на изучение Несущего и снаряжать экспедицию „туда, не знаю куда“, требуя от нее, чтобы она принесла „то, не знаю что“? Да, имеем…
Очевидно, не напрасно вопрос: действительно ли пуста пустота? — издавна волновал ученых. Вспомним споры о близкодействии и дальнодействии времен Ньютона. Вернемся к теории эфира. Перелистаем лишний раз Эйнштейна и задумаемся над его словами о „невесомой, светоносной материи“. Прибавим к этому не столь ушедшие в прошлое — всего вековой давности — дискуссии о нулевых колебаниях вакуума, а также наши бесплодные попытки понять гравитацию, — бесплодные тем паче, что нам удалось расшифровать гравитационную структуру Вселенной и использовать ее для перемещения в пространстве, — и на поверхность всплывет парадоксальный вывод; как бы все упростилось, если бы в словечке „НЕ-сущий“ можно было убрать дефис! Вакуум, несущий нас. Мир. Жизнь… И как многое стало бы нам понятно в мироздании, если бы вслед за Мефистофелем мы могли повторить:
„нечто и ничто отождествились“…Или если бы мы по-новому осмыслили слова из Тайттирия Упанишады:
„Поистине вначале это было не-сущим; Из него поистине возникло сущее“.Или задумались бы над речением Лао-цзы:
„Все сущее в мире рождается из бытия. А бытие рождается из небытия“.
Как появился наш мир? Откуда берутся звезды? И — самое главное — КАК они берутся? Сколь „простенькие“ вопросы! И сколь непросто на них ответить. Например, в последнем КАК — загвоздка величайшая. Ни одна теория не объясняет это маленькое словечко, а в большинстве гипотез оно так и остается белым пятном. Если мы зажжем в пространстве звезду — скажем, соберем мегаколичество водорода, уплотним его, нагреем подобающим образом и инициируем в нем реакцию синтеза, пусть даже получим расчетным путем гарантию, что реакция по типу и длительности не будет отличаться от истинно звездной, пусть даже забудем на время, что водородный цикл Бете — как это было доказано много лет назад — нарушается, лишь стоит взяться за анализ нейтринного потока, — будет ли у нас уверенность, что получится именно звезда? А может, для звезды нужно еще Нечто? Или Ничто?..
Игра этими двумя словечками занимала меня с детства. В мозгу не укладывалось, что вне нашего мира, вне нас и внутри нас царит полная пустота. Что пустоты этой в собственном теле гораздо больше — в пространственном смысле, — чем вещества, хотя мы и набрасываем на нее ловчую сеть или, еще лучше, маскировочную сеть полевых взаимодействий. Что расстояния между крохотными частичками, из которых состою я, сравнимы с космическими и что любой человек, в сущности, как и его обитаемый мир, лишь сумма вещественных слагаемых, дрожащих в безмерном невещественном восклицательном знаке, перед которым мышление пасует. И мне захотелось превратить его в знак вопросительный.
Цель жизни выявилась очень рано. Я поставил перед собой задачу доказать, что вакуум — „ничто“ в одном-единственном, косвенном, условном смысле: без него наш мир действительно был бы абсолютной пустотой. НИЧЕМ. Мира бы не было. Итак, теорема: вакуум — носитель и прародитель материи. Скорее, родитель, ибо, как я предполагаю, она черпалась из него всегда и черпается ежемгновенно. Первая посылка моя магистерская о нулевых колебаниях вакуума. Именно из нее вытекало следствие о возможности создания прибора, который я назвал васкопом-вакуумным микроскопом. Иначе — особой, чуть не сказал „фотографической“… камеры, позволяющей делать мгновенные — в истинном смысле — энергетические снимки или даже „срезы“, „сечения“ чистого вакуума.
Чистый вакуум мы нашли. Оставалось малое — чтобы прибор сработал. Только в этом случае можно было бы доказать, что мы взвешены не в пустоте, а в безбрежном море энергии. Вакуум — море энергии. Прибор не сработал…
Поразительное дело. Мы совершаем гиперсветовые скачки в пространстве, а как это делаем — не знаем. „Know-how“ без „how“. Понятно одно: мы на верном пути. Разработали теорию, теорию весьма искусственную, постулированную архипроизвольно. Теория воплотилась в постройке Корабля. И Корабль „проткнул“ космос! Как? Посредством чего? С помощью каких сил? Убежден: ответа не будет до тех пор, пока мы не постигнем вакуум.
Наш мир пятимерен. Сие известно любому школяру; три измерения пространственные, четвертое — временное, пятое — энергетическое. Мы попробовали представить гравитацию Вселенной как некий жгут, каждое волоконце которого — четырехмерный объект вещественного мира, протянутый по оси Энергии. Элемент бреда возникает уже на этом этапе: не представляя себе гравитации, ищем гравиструктуру; не зная, в чем суть тяготения и что есть его носитель, рисуем картину мироздания; между Вселенной и Гравитацией ставим знак равенства. А затем пускаемся в область фантасмагории: задаемся целью „протиснуться“ между „волоконцами“ гравитации и посмотреть, что из этого получится. Протиснулись. Посмотрели. Получилось. Мгновенный внепространственный перенос. Еще раз — Как? Еще раз — посредством Чего?
Посредством вакуума, говорю я. Он и только он — та энергия, которая бросает нас, непонятливых, к иным мирам. Энергетический океан. Правда, энергия в нем невыявленная, скрытая. Вырожденная, хочется мне сказать.
Посмотрим, что еще нам дает концепция вакуума как безбрежья вырожденной энергии.
Нам известны четыре вида взаимодействий. По силе и симметричности они идут в таком порядке: сильное, электромагнитное, слабое, гравитационное. Последнее — наиболее маломощное. Чем симметричнее взаимодействие, тем быстрее экранирует его вакуум, тем ближе оно к нему. Вакуум — самое симметричное состояние, нечто вроде отправной точки. Ага. Отправная точк а… Начало, так? Вот и зацепка. А если не просто начало, а, так сказать, материнское, родовое? Если вся регистрируемая „эм-це-квадрат“ нашего мира есть не что иное, как некий выброс излишка энергии из вакуума, который, будучи высшим — а не низшим! — состоянием Энергии, каким-то образом замкнут сам на себя, полностью сам себя экранирует?
В таком случае иерархия симметризуемости превращается в иерархию выброса! Сильное взаимодействие — первичный всплеск энергии. Излишек, не умещающийся на этом уровне, — электромагнитное. Следующий излишек — слабое взаимодействие. Последний — гравитация. Резонный вопрос: по той же логике и на уровне гравитационного взаимодействия вся энергия может не быть использована; куда девается ЕЕ излишек? Единственный ответ. Мой ответ: утекает обратно в вакуум. Больше того, именно эту „утечку“ и используют наши — непонятно как „скачущие“ — Корабли. Именно этот последний излишек и служит своеобразной „смазкой“ для скольжения между волоконцами жгут-структуры Вселенной.
Любой слушающий эту фонну заметит, что я говорю уже: жгут-структура Вселенной — не гравитации. Понятно почему. С гравитацией теперь все ясно: она не суть Вселенная, а лишь выхлоп отработанной на предыдущих уровнях энергии. Вселенная же — это действительно, как указывалось еще Курбатовым сто лет назад, четырехмерное многообразие в пятом измерении. Только пятое измерение — это не просто энергия. Это энергия, рожденная Вакуумом…
А прибор не сработал… Не удалось нашему „маринисту“ зарисовать океан энергии… Сработали мы, наша психика. Но престраннейшим образом. Корабль схлопнулся, мы поймали вакуум, и… Я, например, испытал дикое ощущение. Первая мысль: я взорвался. Затем: нет, взорвался мой мозг. Затем: нет, мозг мыслит, но тела нет. Значит, взорвалось оно. И превратилось в облако, фонтан, водопад красок, северное сияние, психоделический мираж, фатаморгану.
В сущности, смысл этой фонны — в попытке выразить словами то, что я видел и обонял в момент эксперимента. Все вышесказанное — прелюдия, отсрочка, стремление оттянуть за неуклюжими размышлениями вот этот самый миг, ибо описать происшедшее со мной — выше сил человеческих. Но миг наступил. И я пробую, тем более что фонна уже близка к концу.
Сколько цветов в радуге? Семь? Сразу после „взрыва“ я видел их семьдесят семь. Или, может, семьсот семьдесят семь. Не оттенков, не цветовых нюансов-цветов! Как это может быть? Не знаю. Верить в это нельзя. Не верить — тоже: это было. В моем взорванном теле, в моем расчлененном сознании, но было.
Цвета роились, объединялись в какие-то немыслимые букеты, распадались, кружились во взаимопересекающихся хороводах, и все в бесконечно быстром темпе, пьянящем запахе фиалок. Остановить взгляд на каком-либо сочетании красок было невозможно… Взгляд… Вот, пожалуйста, я сказал „взгляд“. И еще: „запах“. Были ли у меня глаза? Нет. Нос? Нет! Уши? Нет! Конечности, сердце, печень, почки, легкие? Нет, нет и нет…
Было сознание и… семьсот семьдесят семь цветов разбуянившейся радуги, семьсот семьдесят семь сумасшедших запахов. Потом на этом искрящемся калейдоскопическом фоне, поверх этой клумбы фантастических орхидей возникли желтые смолистые почки. Они быстро набухали, лопались, но не зеленые клейкие листики высовывались оттуда — извергались потоки пронзительно-красного, пахнущего лимоном цвета.
…Образовалась спокойная пурпурная гладь, а по ней ползли, ползли фиолетовые, синие, голубые, сиреневые, лиловые, благоухающие гвоздикой кляксы; они чернели, но, не становясь совершенно черными, вдруг задергивались лимонной, или янтарной, или золотистой анисовой пленкой, та клокотала аммиаком, вскипала бурой пеной, сквозь нее пробивались изумрудные кориандровые пузыри. Пузыри эти, словно аэростаты, тянулись вверх, пучились, но на части не разлетались, не отрывались от перламутровой, теперь уже пахнущей сеном глади, — вырастали удушливыми сернистыми колоннами, и между ними били ослепительные лучи.
Лучи имели зернистую структуру, по ним вились серебряные нити, и вот уже миндальное кружево серебра, лавролистые арабески, фисташковые спирали, мускатные дуги, ментоловые кольца, кофейные змеящиеся пунктиры, липовоцветный сапфирный туман, сандаловый алмазный блеск, коричное хрустальное мерцание, а нити утолщаются, становятся прозрачными, в них игра света, пыль книжных фолиантов, зайчики, йодистые водоросли, искорки, лесная гарь, вихрение, мята, еще один взрыв, снова буйство миллиона цветов и оттенков, дуновение из ботанического сада, открытая настежь дверь восточной кухни, чад лаборатории алхимика, воскурения богам, снова почки, колонны, кляксы, пузыри, пена, серебряный серпантин, еще взрыв, но взрыв наоборот — и все разрозненные, окрашенные утренней зарей и полуденным прибоем, и закатными облаками, и лунной рощей, и вечерней росой части принадлежавшего мне целого слетаются к ослепительной точке моего „я“, превращаются в меня-во-плоти…
Я бросил взгляд на корабельный хронометр. Эксперимент, как и планировалось, длился минуту, Я же провел в цветовом аду — или раю? — час, день, год, вечность, не знаю сколько. Времени Там не было. Я не успел обернуться, чтобы посмотреть, что стало с экипажем: на меня обрушился мрак. Сознание померкло, и время провалилось еще раз, теперь уже в бездну лишенной запаха черноты…»
Снова прозвучал тихий щелчок. Фонна кончилась. А в памяти моей возник тот день, когда экспедиция вернулась на Землю.
Помню, лишь только я узнал, что экипаж прошел «контроль», как тут же вывел со стоянки «квадригу» и помчался к Психологу. Мне хотелось одному из первых узнать о результатах эксперимента, и я не думал, что Психолог откажет; давняя дружба связывала нас. Восемь лет назад, в день совершеннолетия, мы вместе сдавали профиль.
Я погнал «квадригу» в верхнем слое шоссе. В сущности, это было довольно неразумно: у меня барахлил задний левый узел. Однако перспектива возможной поломки, а следовательно, и задержки, была весьма туманной, и я несся над «триерами» и «пушинками», медлительными «фаэтонами» и «феями», полностью отдавшись одной мысли: удался эксперимент или нет. Интроспекция вакуума — вот о чем мы все тогда думали.
Внезапно левую ногу кольнуло. Так и есть: «больной» узел отключился. Я немедленно погасил пульсацию к пронзил голубоватое марево перепонки, входя в правый ряд второго слоя. Разумеется, надежда добраться до цели с меньшей скоростью и всего на трех узлах оказалась эфемерной. Повреждение грозило коллапсом всей двигательной системы, поэтому диспетчерская дороги взяла управление «квадригой» на себя, и очень скоро я уже бродил вокруг машины в нулевом слое, отчаянно посылая сигналы о помощи. Сжалился надо мной возничий «фаэтона». Он как раз направлялся со свежими фруктами в район, где жил Психолог, и согласился потерять несколько минут, чтобы, спустившись в «нулевой», захватить меня.
Короче говоря, я попал к Психологу на час позже, чем предполагал. Этот час все и решил. В дверях я столкнулся с группой врачей. Шедший впереди седоватый мужчина нес диагностер.
— А как вы об этом узнали? — одновременно печально и резко спросил он меня.
— О чем «об этом»? — не понял я и только тут заметил на стоянке характерный каплевидный силуэт реанимационного «рапида».
— Он к живому ехал, не к покойному, — подтолкнул первого в спину кто-то из группы, видимо коронер.
— К-как к покойному? — уже догадываясь, но не веря, не желая верить, выдавил я из себя.
— Кровоизлияние в мозг… — Врач с диагностером пожал плечами и, чуть помедлив, направился к «рапиду». В доме уже шла молчаливая, чужая и несвойственная этому жилищу суета…
Монолог Психолога я выбираю намеренно. Мне хочется услышать его голос. Желание делать привычную ставку на случай пропало. Помимо всего прочего, эта фонна заслуживает особого моего внимания. Она — единственная из всех прочих — не просто первичная, случайная, порожденная тупиковой ситуацией запись сумбурных размышлений и предварительных скороспелых выводов. Это звуковое письмо, и оно имеет своего точного адресата. Форма странноватая, если детально представить себе момент возвращения экспедиции. Первые часы на Земле, эксперимент еще не осознан, расшифровка поведения приборов только предстоит, расшифровка энцефалограмм тем более неизвестною удастся ли, мысли разбредаются, диктуется первое, что приходит в голову. И вдруг — письмо… Не жене, не дочери, что было бы естественно. Адресовано оно мне…
«Здравствуй, дружище! Как бы тебе вернее объяснить, что с нами произошло? Постарайся не удивляться: понятия не имею. Впервые в жизни попал впросак. Что самое глупое в этой истории — никто и представить не мог, будто наша экспедиция расшибет лоб, помимо прочего, и о психический барьер.
Роль моя, казалось, была второстепенной. Ты ведь знаешь, более всего я был загружен на предварительной стадии подготовки, когда мы синтезировали психологическую совместимость экипажа, учитывали все возможные неудачи и старались заранее свести на нет все связанные с ней виртуальные депрессивные явления, а самое главное — готовили членов экспедиции к преодолению „рубежа постижимости“. Иначе — искали меры, чтобы рассудок каждого сумел перебороть шок от встречи с Неведомым, каким бы „экстравагантным“ — конечно же, в изначальном смысле этого слова — оно ни оказалось. В пространстве моя функция сводилась к минимуму: контроль, контроль и еще раз контроль. Ну и, естественно, биодатчики.
Итог, с которым я хочу тебя ознакомить, куда как плачевен. Я, видимо, стану главной фигурой при анализе результатов и… боюсь, ох как боюсь этого! В голове ни одной позитивной мысли. Это первое. Эксперимент потерпел полную неудачу, но возможность такой неудачи в наши априорные расчеты не входила и войти не могла. Это второе. Третье, хотя далеко не последнее: мы действительно столкнулись с Неведомым, однако это Неведомое оказалось не только за пределами постижения, но и за пределами того, что мы в период подготовки иронически называли „экстравагантным“, то есть за пределами „запредельного“.
Посуди сам. Мы ставим опыт над вакуумом. Техническая часть программы удалась пустоту в силки загнали. И… тут же из экспериментаторов превратились в подопытных кроликов. Что-то начало ставить эксперимент над нами. Причем масштабы этого неожиданного опыта, цель его, механизм оказались явно не по силенкам нашим — увы, „готовым ко всему“ — мозгам.
Коротко расскажу о биометрии. Например, кардиограммы: ровнехонькие параллельные линии. Пиков, зубцов, хотя бы дрожаний нет. Его сердца не бились, так, что ли, получается? Дыхание — 80 вдохов в минуту. Это при полной-то остановке сердца! Если верить самописцам, впрочем. Давление; верхнее — норма, нижнего НЕТИ! Не зарегистрировано. Температура тела минусовая! Энергопотенциал тела нулевой, зато мускульное напряжение полная каталепсия. Подробно с энцефалограммами я тебя знакомить не буду, замечу только; все ритмы сошли с ума. Или биодатчики сошли с ума. Или я сошел с ума. Как считаешь, а? И учти: общий диагностер дает резюме: состояние экипажа в пределах нормы, патологических отклонений нет, а индикатор рефлексов — один во всем приборе! — мертво стоит на самом предельном значении красного интервала: глубокая кома. Таким вот образом…
Что касается энцефалографии, здесь могу сказать только одно. И слова мои подкрепляются не сенсорографическими выходными данными, раскодировать которые я просто не способен, а, так сказать, нашим изустным „гептамеройом“. Видишь ли, перед тем как войти в атмосферу Земли и совершить посадку, мы покружились чуть-чуть по эллиптической орбите, рассказывая друг другу о том, что каждый видел в минуту эксперимента. Коллекция новелл, честно говоря, потрясающая. Хотя и, безусловно, параноически-бессмысленная. И во всех отношениях необъяснимая.
Короче, сознание всех выключилось. Ровнехонько в нулевой момент отсчета. Но заметь: не обморок, не бессознательное состояние, не кома, что бы там ни врал индикатор. Сознание отгородилось от реальности и перенеслось в какую-то иную действительность. Почему и как это произошло, а также почему нам всем мерещилась не одна и та же картинка, а разные, почему в мозг каждого проецировалось что-то неповторимое и особенное и откуда это проецировалось — вот вопросы, которые мучают всех нас.
Картинка, возникшая в моей голове, оказалась не особенно дикой. В сравнении, конечно, с остальными. Так… нечто вроде заурядного и спокойного сна.
Отсчетчик лязгнул „ноль“, одновременно с ним включился хронометр, и я… оказался дома. Угу. Именно дома на Земле. Сижу за столом вечером. Напротив — жена, справа — дочка. Слева головизор чего-то играет. Древний спектакль, вроде бы из нашей видеотеки. И сидим мы так мирно, задушевно, пьем чай с тонизатором.
Первая мысль моя, когда все кончилось, — это будто меня в прошлое отбросило. Года на три. Тем более что сразу не сообразишь, деталей не вспомнишь, все смазалось в памяти, расплылось, — совсем как в жизни, когда в голову неожиданно забредет пустяковое воспоминание. Чуть позже напрягся: картинка явственней стала, детали сделались четче. И вот тут-то увиделись мне странности. Что к чему не разберешь, но явно не бросок в прошлое, а видение это было. Галлюцинация. Это у меня-то, провереннего-перепроверенного?!
У жены черты лица вроде все те, но в то же время и какието другие, сходство будто явное, но приглядишься — и сходства нет. Точнее, некорректное сходство. Словно кто-то построил по неким координатам облик, но то ли точку отсчета взял свою, то ли пропорции по-другому измерил, то ли по одной из осей — а то и по всем сразу особые деления понатыканы, чуть-чуть отличные от принятых, или промежутки между ними несоразмерные сделаны. Такая же штука и с дочкой. Ну, свои это, родные, до родинки на щеке знакомые лица и… чужие, неблизкие, иные.
Далее: стол, за которым сидим, тоже мой, тот самый, что в гостиной стоит. Но катавасия продолжается. Тот, да не тот. Может быть, оттенок чуть другой. Может быть, форма, размеры… Тьфу, не распознаешь! И чай: запах прекрасный, а вкуса нет. Скорее всего, я его просто не запомнил. Но не исключено, что вкуса вовсе не было. Так же, как и у тонизатора. Хотя ощущение что пьем мы его именно с тонизатором, было!
Следующая деталь — тот спектакль, что по головизору смотрели. Не могу вспомнить, что это было за представление. Хоть убей, не могу! Видел ли я когда-нибудь его? Определенно. Где? Когда? Что за театр? Что за актеры? Ответа нет. Наваждение…
И последнее. Комната, где мы сидели. Сначала восприятие было четким: гостиная в нашем доме, как и должно быть. Потом стал сомневаться. И еще позднее понял, что сомневался не зря: не гостиная и не комната, а черт знает что! Стены были и не были. Потолок был и… в то же время отсутствовал. Пол — не пол, а некая умозрительная уверенность в опоре под ногами. Короче, знаешь на что это походило? Готовое ощущение замкнутого пространства, объемом равного именно гостиной. Но только объемом. Как создавались границы этого пространства: материальными плоскостями или особой экранировкой — не пойму до сих пор.
Вывод у меня пока один напрашивается. Не прошлое это было, а модель прошлого. Да! Какая-то вот такая модель. И видишь ли, в этой мысли меня следующее утверждает: с каждой минутой все дольше и больше чудится, что спектакль тот самый — головизионный — не целостным представлением был, не видеозаписью, а очень хорошо подогнанной мозаикой из обрывков всех — всех! — спектаклей, что я за свою жизнь пересмотрел…»
Щелчка нет. Фонна Психолога оказалась записанной не до конца, и чтец сканирует развертку, надеясь обнаружить новую информацию. Я знаю, что ее не последует, но не двигаюсь, не переключаю проигрыватель. Посидеть, подумать… Вспомнить. Все вечера заняты у меня только этим. Я часто спрашиваю себя; зачем мне это нужно? В конце концов я не специалист, не член какойнибудь комиссии, просто близкий друг Психолога, немного знал и остальных членов экипажа. Меня никто не просил о помощи, мои выводы, даже если они и последуют, вряд ли кого заинтересуют, ибо базой, достаточной для научного обобщения физико-технических данных, я не располагаю. И тем не менее бьюсь.
Может быть, толчок дало письмо? Да, так и было. Я оказался вовлеченным в эту историю, и память о друге не даст мне покоя, В сущности, мне всего-то и нужно, что мои фонные копии. Корабль? Пусть другие разбирают его по косточкам. Я вижу смысл в другом: в вопросах, мучивших Психолога. Какая тайна сокрыта в видениях, с которыми столкнулся экипаж? Почему они разные? Что подействовало на психику тренированных людей? И добавлю от себя — нет ли в галлюцинациях ответа на всю загадку эксперимента?
Вот подумал сейчас о Корабле и тут же вспомнил, как я впервые увидел игрушку Физика.
Это было задолго до эксперимента. Я заехал тогда к Физику по каким-то не суть важным делам, но дома его не застал. Очевидно, его срочно вызвали, ибо он был отменно точен и, коли условился, никогда не заставлял себя ждать. Поскольку из всех машин на стоянке отсутствовал лишь один «спурт», это само по себе доказывало, что вызов был спешный и требовал безотлагательности.
Мне ничего не оставалось делать, как убраться восвояси. Но, прежде чем задать «квадриге» реверс, я счел нужным зайти внутрь м оставить хозяину фонну. Естественно, это можно было — и по всем правилам следовало — сделать в гостевом дворике. Я же, понукаемый нездоровым любопытством, решил подняться в кабинет и засвидетельствовать визит — шутки ради — в блоке «рабочей памяти». Что поделаешь, очень уж хотелось полюбопытствовать, как выглядит «святая святых» ученого. Тем более что самому хозяину никогда бы и в голову не пришло, будто его «келья» может вызвать интерес у кого-либо из гостей.
Вступил в кабинет… и тут же пожалел о своей ненасытной любознательности. Кабинет как кабинет, обычное рабочее место, ничего особенного. Стол, пюпитр «рабочей памяти», информ-заказчик, картотека, фоннопроигрыватель да серийный «секретарь» — вот и вся обстановка. Что я ожидал увидеть — я и сам не представлял. Скорее всего, мне рисовался в воображении живописный беспорядок. Нестертые в «памяти» обрывки мыслей, страницы новейшей монографии на экране заказчика, полузаконченная рукопись в «секретаре» и прочее и прочее…
Все было не так. Безукоризненная чистота и до обидного законченная аккуратность царили в «келье». Ничто не указывало на то, что именно здесь рождаются головокружительные теории и именно отсюда выпорхнула идея Эксперимента, посягающего на основы миропорядка. Музей оргтехники, да и только. Даже столкалькулятор, который уж никак не мог оставаться в бездействии сегодня утром, напустил на себя восторженно-праздный вид, словно бы ни один логарифм в жизни не обременял его мозги, а об интегралах он и понятия не имел и вообще был предметом благоговейного поклонения, идолом-недотрогой, сокровищем языческой кумирни.
Впрочем, я ошибался. На матовой крышке стола покоилась какая-то штуковина. Единственный предмет, вносивший диссонанс в обманчивый покой вещей. Это был небольшой приплюснутый шар черного цвета с едва ощутимыми выпуклостями на полюсах. Выпуклости соединяла тонкая белая линия. Я опасливо повертел шарик в руках, и вдруг с ним что-то произошло. Непонятно что, но он как-то вздрогнул, издал резкий хлопающий звук, и вот у меня в руках уже нечто вроде веретена все тоге же черного цвета и с белой полоской от острия до острия.
Я снова повертел игрушку в руках, и опять раздался резкий хлопок, веретено вздрогнуло, превратившись в шар. Минут пять я забавлялся диковинкой, пока не заметил, что она меняет форму при нажатии либо на выпуклости, либо на острия. Что же, причуда есть причуда. Почему бы талантливому и еще очень молодому физику не мастерить на досуге пространственные головоломки или показывать домашним топологические фокусы? Мне-то что до этого? Я наскоро вляпал в «память» две-три фразы; мол, сожалею по поводу несостоявшейся встречи, присовокупил извинение за бесцеремонность и вышел из дома.
Через несколько дней я все-таки встретился с Физиком. Он сам приехал ко мне. Мы обсудили все что нужно в какие-нибудь полчаса, и, возможно, эта встреча вылетела бы у меня из памяти, если бы не одно обстоятельство. За разговором Физик безотчетно полез в карман и вынул из нег о… все то же веретенце. Я уставился на знакомую игрушку, а он, не замечая этого, продолжал говорить. Внезапно раздался хлопок, ученый вздрогнул, разжал пальцы, и на пол скатилось не веретенце — черный шарик. Я поднял его и отдал владельцу. Тот смутился, пробормотал что-то и хотел было убрать загадочную штуковину в карман, но я остановил его. Так я впервые услышал о Корабле. Шарик-веретенце был его макетом…
Из оставшихся пяти кубиков снова беру первый попавшийся. Уже ничего не задумываю, просто неторопливо жду. Бортинженер.
Это был сон. И это была явь. Это была мистика. И это было по ею сторону реальности. Или вообще ничего не было! Должный строй мира: вне материи — пустота. Приличествующий сознанию подход: «внутри пустоты» — оксюморон.
Естественная субординация: вещество как образ бытия — поле как система связи — вакуум как нуль вещества или поля. Мы мечтали внести коррекцию в эти три формулы. «Содержание» пустоты наделить смыслом.
Доказать, что вакуум не нуль, но нулевое состояние энергии. Нулевое, однако же состояние.
И таким образом, представить Вселенную как вакуумновещественный континуум, то есть мыслили такую субординацию: овеществленная энергия энергия поля — вырожденная энергия.
Большего, полагали, не дано. Вышло: есть большее. Или есть вместо. Но ЧТО? Почему вместо вырожденной энергии мы обнаружили выродков нашего сознания?
Есть древний прием; высказаться-осознать. Уверен, что не получится. И тем не менее должен попытаться. Иначе безумие укоренится, а страх обернется ужасом.
Я попал в детство. Свое детство. Сознание раздвоилось. Я ощущал себя ребенком. Не в эмоциях и речениях, а тем, прошлым. Двадцать лет жизни исчезли. И параллельно видел себя со стороны. Облик соответствовал былому. Жидкие светлые волосики, короткие штанишки, колготки, бактерицидный клей на ободранных локтях… Похож на девочку… Стереофото из семейного альбома…
Мучила важная проблема: смесь вкусных вещей — вкусна ли? Например, ежевичное варенье, пикули и сырое песочное тесто. Или так майонез, лимонный крем, гречневая каша с молоком. Странный был ребенок; любил каши. Смешать бы все в тазу! И есть ложкой. Останавливало одно: таз спрятан у мамы. Пахло ванильным мороженым.
Глубокомыслие отпустило; встретился с приятелями. Идиотизм заключался в следующем: мое детство, вернувшееся в абсолютном вакууме, пересеклось с детством экипажа. Не знал я никого из них двадцать лет назад, вот беда! Познакомились на отборе. И детских фотографий не видел в жизни. Перед возвращением на Землю — когда обменивались «выродками» — описал каждого, каким лицезрел «во сне». Подтвердили. Их изумление — выше моего: сходство-до малейших деталей. И образ мыслей подобен. Насколько помнят себя.
Я впал в детство. Допускаю. Правильнее: «меня впали». Нечто воздействовало на мозг, высвобождая воспоминания. Бред, по сути своей: вокруг пустота. Но возьмем как гипотезу. А память шести человек — как в мою влезла? Семь ниточек, ведущих в полузабытое прошлое — неповторимое, у каждого свое и посторонним неведомое, — как сплелись?
Сидели рядком на скамеечке. Чинно, степенно-благовоспитанные детишки. Ногами болтали, рассуждали. Кто в носу ковырял, кто ногти грыз, кто укус комариный расчесывал. Дружки — любой скажет. А подружиться им — через двадцать лет!
Командир — вихрастый, штаны на помочах старомодных — вперехлест, гольфы сползли, настроен воинственно: чуть что — соседа локтем в бок.
Помощник-анемичный, вялый. Зовут «дистрофиком». Кожа тонка: на шее все жилки видно. Почти прозрачный. Спорить не любит и не хочет, но приходится: компания втянула в дискуссию. Физик-конопатый до умопомрачения. За веснушками лица не видно. Огненные волосы не во все стороны, как у рыжих обыкновенно, а напротив-аккуратной челочкой. Вожак-Командир, но и этот из лидеров, за чужое верховодительство отчаянно переживает. Потому и любое слово — главарю наперекор.
Психолог — из тех, что в школе становятся круглыми отличниками и занудами. Все знает, но снисходительно молчит, если скажет что — обязательно проверенное и в точку. Таких родители с трех лет «по-взрослому» одевают, а с пяти уже на коррекцию зрения водят: читают все, что под руку попадается, даже кулинарные книги.
Техник меньше всех ростом, потому и ехиден. Нос острый, как у лисы, глаза — щелочки, рот от уха до уха. Первый подпевала Командира. Тот ему брезгливо потворствует, остальные — и я в том числе, не тот, который смотрит со стороны, а тот, что сидит на лавочке третьим справа, — ненавидят. В начальной школе потенциальный ябеда и подхалим. Лупить будут нещадно.
Наконец, Навигатор — «вещь в себе». Отрешен, суров, словно наперед известно: через пару десятков лет быть ему «звездным штурманом». Одна из редких натур: в цели жизни уверен с малолетства, идет к ней упорно и добивается максимального. Знает все о типах космических кораблей, о трехмерных лоциях, о системе координат в пространстве, любой разговор сводит к «эклиптике», «космовекторам». Любимое присловье: «Эх, суперсвет бы!» Как в воду смотрит: в числе первых окажется, кто пространство перехитрит.
А дебаты у нас нешуточные: спорим, какая игра лучше.
— Конструктор! — выкрикивает Физик, стремясь к приоритету.
— Смотря какой конструктор, — важно и снисходительно цедит Командир. — Конструкторы разные бывают.
— «Построй сам», — хихикает Техник. — Кубики. Робя, рыжий в кубики до сих пор играет!
— У-у, лиса! — Физик гневно потрясает кулачками. — И не кубики вовсе — аналоговый на микротриггерах! Мне такой конструктор отец подарил. С полиэкраном!
Командир ощущает потребность в возврате инициативы.
— Хлам! — бросает он. — Ясли… «Живой мир»-это вещь. Нацепил шлем и крути ручки. Хошь — в космосе летишь, хошь — в джунглях крадешься. Не то что твои «тригры-мигры»!
— Хлам?! — глаза Физика стекленеют. — Да ты сам знаешь кто? Спор грозит баталией. Выступаю я:
— Кончай, братцы! Тебе-то, рыжему-то. А я технические игры не люблю. Вот в «пришельцев» сыграть бы! Айда, а? Дистрофик водить будет. Он все равно прятаться не умеет, уши за парсек видны. Пусть «Центр» охраняет. Чур, я в дальнем патруле! Дистрофик багровеет. «Лиса» опять скалится.
— Прише-е-ельцы, — тянет он, опасливо косясь на командира. — Ты еще «индейцев» предложи. Ща луки сделаем, стрел наломаем. Возня одна…
— Ты сам-то, «лиса-морда коса», во что играешь? Небось ни во что!
— Я… это… я тоже «живой мир» люблю. Особенно «оверсан». Солнце очень красиво можно вообразить… Командир благосклонно кивает. Мы с Физиком орем нараспев:
— Лиса — подлиза! Лиса — подлиза! — и на ходу сочиняем, смело круша стереотипы женского и мужского рода:
— Лиса — болван. Захотел «оверсан». Полетишь башкою вниз, Потому что ты — подлиз!
— Дистрофик, а ты что скажешь? — Это вступает Командир. Оппозиция наша ему не нравится. У Психолога же и спрашивать нечего. Заранее знаем: скажет «шахматы», или «литературная викторина», или «герои любимых книг» — что-нибудь в таком духе.
— Я? — Дистрофик смущается и краснеет снова. — Я, ребят, так… ничего… Я лото люблю. Мы с папкой и мамой часто в него играем. Хорошая игра, не верите?
— Чо-то? — Лиса скатывается со скамейки. Хохочет. Но продолжать не смеет: натыкается на грозный взгляд Навигатора.
— Не трожь его! Слышь? А ты, старшой, тоже мне! — накидывается Навигатор на Командира. — Дал бы лисе по шее, чтоб не вонял. Лото — хорошая игра. И «Живые картины» хорошая. И конструктор у Рыжего ничего себе. А вот у меня мечта, — он задумчиво вскидывает глаза, — «Лабиринт-ловушку» заиметь!
— Какую «ловушку»? — удивляются все. — Мы про такое и не слыхали.
— Это новая игра. Я только сегодня узнал. Значит, во-от такая головизионная рамка. В ней вырастает трехмерный лабиринт. И внизу пять «зайчиков» горят. Ну и пятнадцать рычажков, само собой. Надо зайчиков по лабиринту провести всех одновременно, а потом их в особую ловушку загнать. Если загонишь — лабиринт пропадает, и появляется сногсшибательная головизия, всякий раз новая. А если хоть одним «зайчиком» за светоплоскость заденешь, все пять назад возвращаются.
— Вот это да! — выдыхаем мы с шумом. Замолкаем: каждый разрабатывает план, чего бы такое дома сделать, чтобы отец за это «ловушку» принес…
И все кончается. Мир детства ужимается до кают-компании Корабля. На хронометре — расчетное время. Минута. Вокруг — остолбенелые лица экипажа.
Сначала думал: мы все в детстве побывали. И каждый самим собой был. Потом — нет. «Сны» у всех индивидуальные оказались. Я один такой «счастливый». Не только на двадцать лет «помолодел» в ту минуту, но и в мозги прочим умудрился залезть. Знать бы — КАК!
Бросился к приборам. И после того, что было, даже не удивился. Все работает нормально, однако стопорные «дубли» — те, что на показаниях в момент эксперимента должны стоять, — словно взбесились. Математический реактор — нуль. Малый реактор — нуль. Абсолютное смещение-нуль. Это еще можно понять. Но и относительное — тоже нуль. Будто вся Вселенная на ту самую минуту застыла! Полевая защита: «дубль-стопор» сломался! И наконец, ручной калькулятор — наш «суперабак» — САМ ПРИШЕЛ В ДВИЖЕНИЕ. Я поиграл шариками, требуя конечный результат. Ответ-бесконечность! Но бесконечность ЧЕГО?!! Вот и выговорился…
В памяти еще раз возвращаюсь к смерти Психолога. Смерть эта подействовала на меня ужасно. Как-то не привыкли мы, чтобы люди вот так просто умирали. Ведь совсем молодой был, тренированный мужчина. Испытанный всевозможными тестами и отобранный после тщательнейшего медицинского отсева. И вдруг кровоизлияние в мозг… Я ведь и сам рвался в эксперимент: тогда еще, когда группа только формировалась. Казалось: по всем статьям подходил, по здоровью тем более. И надо же было им найти невинную отроческую тахикардию! Моментально категорический отказ. И многочисленные ряды «отсеянных» стали на одного человека больше. А друг мой Психолог попал. И… пропал…
Как же это расценивать? Мне повезло? Или все-таки ему? Мне, который по причине чрезмерной детской активности — нежеланной причине! — остался жить? Или ему, который, хотя и умер, успел побывать на грани Неведомого?
Я возвращался на вылеченной «квадриге» домой. В пути у меня еще не возникала идея самому принять участие в разгадке тайны: полагал, что и без моей скромной персоны найдется немало пытливых умов. Но двух вещей не знал я тогда: во-первых, что фонна Психолога мне адресована будет, а во-вторых, новой, более ужасной, чем предыдущие, вести.
Я не успел войти домой, как тут же включился головизор. Короткая заставка передачи «Хроника», тревожный музыкальный сигнал, и диктор передает экстренное сообщение: погиб не только Психолог, погиб весь экипаж. По истечении суток после приземления умерли все семеро. Причина смерти кровоизлияние в мозг. Причина кровоизлияния выясняется. «Выясняется» до сих пор… Экипаж ничего не успел сделать. Не успел собраться перед академической комиссией. Не успел выступить на пресс-конференции. Не успел «кристаллизовать» отчеты. Времени хватило лишь на фонны. Семь звуковых кубиков, записанных частично в космосе, частично в гермобоксах перед томительной процедурой «контроля», — все, чем мы можем располагать. Любой волен заказать и получить копии. Все семь копий у меня на столе. Три чуть поодаль: прослушанные. Из оставшихся выбираю Навигатора.
Нервные впечатления… Сбивчивые воспоминания… На большее пока рассчитывать не могу. Полный отчет будет позже. Или не состоится вовс е… Причиной тому-крайняя скудость информации. Насколько могу представить, в будущем ее не прибавится.
Прежде чем перейду к основному, изложу факты всем известные и неоспоримые. Неоспоримость — пока главный козырь, к тому же едва ли не лучшее средство подготовки слушателя. Надобность такой подготовки явствует из дальнейшего.
Итак, о Корабле и верховный задаче эксперимента. Ставится проблема: исследование чистого вакуума. Очевидная деятельность разумеется в двух направлениях: первое-отыскание такового, второе — создание прибора, способного подвергнуть искомую область анализу. Отталкиваемся от определения «чистого вакуума»; «Область пространства, максимально свободная от наличия материальных частиц и с наивозможно минимальным фоном взаимодействий». Вывод напрашивается сам собой: поиск следует осуществлять в глубоком космосе.
Начинаем «считать» пространство. Калькуляторное лоцирование космоса дает результат: ближайшая область с минимальным содержанием вещества лежит в северном полушарии эклиптическе системы координат — небесные широта и долгота сейчас маловажны — на расстоянии четырех световых месяцев и двенадцати световых дней от Земли.
Корабль, на котором мы достигли этой области, принципиально нов в двояком смысле. Во-первых, его основным движителем является математический реактор, сводящий С-тензор к нулю в той точке пространства, коей является сам Корабль, и таким образом создающий неопределенность расстояния, равнозначную мгновенному скачку внутри «жгут-структуры». Во-вторых, его конструкция позволяет — в случае точного попадания в заданную область — поймать чистый вакуум в ловушку. Это достигается следующим образом. Корпус Корабля состоит из металлопластических материалов и представляет собой, для упрощения скажем, полую сферу. При подаче импульса на гибкий шпангоут корпус размыкается и, образно говоря, «выворачивается наизнанку», «схлопываясь» вокруг малого объема вакуума с нулевым содержанием вещества.
Простейшая аналогия: представим надрезанный по большому диаметру детский мячик. Небольшое усилие пальцев, и мячик уже показывает нам свою внутреннюю поверхность, оставаясь по форме тем же шаром. Если к этому присовокупить, что края разреза при касании моментально склеиваются, а «выворачивание» происходит в мгновение ока, то, право же, для примитивной модели Корабля нам больше ничего не требуется. Разве что указать: реакторный отсек и отсек управления расположены на «полюсах», а «надрез» проходит по «меридиану».
Оболочка нашего Корабля надежно защищает «пойманную» пустоту от всех видов взаимодействий, включая электромагнитное поле рабочих систем Корабля, и даже гравитацию, ибо в момент «нуль», то есть в момент «схлопывания», срабатывает математический реактор, и для объема, оказавшегося в пределах оболочки, тензор кривизны пространства обращается в «нуль», элиминируя «жгут-структуру». В тот же самый момент начинает функционировать «васкоп», долженствующий за минуту эксперимента сделать около миллиона мгновенных «снимков» вакуума, энергетическая расшифровка которых последует на Земле. Такова схема эксперимента. Добавлю: запроектированная схема, ибо на деле после «схлопывания» рассудки наши помутились, «васкоп» же и «глазом не моргнул».
События развертывались так. Я выстрелил Корабль а расчетную точку и переключил энергию на малый реактор. Мы начали медленно продвигаться в пространстве. Погрешность оказалась ничтожной, поэтому после непродолжительного рыскания Корабль вошел наконец-то в желаемый район. Все наше внимание переключилось на «пустомер»-индикатор содержания вещества в вакууме, или «пустомелю», как мы его окрестили.
«Большеразмерный уровень — пусто», начал издалека наш «пустомеля», и тут же хронометр принялся за отсчет времени. «Космическая пыль — пусто». Мы перемигнулись друг с другом: лоцирование не подвело. «Межзвездный газ — пусто». Вот оно, мгновение! На атомном уровне — как помелом, следовательно… «Общая оценка — пусто». «Чистый вакуум», — все тем же скучным голосом объявил «пустомеля».
Последнее, что я помню из реальности ДО, легкий толчок: «ловушка» захлопнулась.
Немедленное ощущение: лечу куда-то во мраке. Затем подо мной объявилась матушка-Земля. Вокруг раскинулся божественный воздушный простор, над головой — пара-другая легких облачков и небывалой голубизны солнечное небо.
Самое удивительное — летел я «безо всего». Не было за плечами увесистого и монотонно гудящего «Вихря», предплечья и запястья не обжимали охваты спортивных крыльев, не было ощущения невесомости, как на параболическом тренажере. Была влекущая к земле тяжесть тела, которое, впрочем, и не думало опускаться, было сказочное чувство парения и была радость. Нестерпимый восторг, захватывающая душу удаль, блаженство избранных, упоение победой над природным недостатком человека, одержимость власти над природой — все смешалось, все распирало грудь, наполняя легкие некой невесомой субстанцией, которая, может быть, и удерживала меня на высоте.
Я с удивлением прислушивался к собственному телу. Не было органа, который работал бы в привычном режиме. Сердце билось не ритмично, а выбивало какую-то сложную «морзянку». В печени ощущалось странное щекочущее движение, впрочем, не беспокоящее, а скорее приятное. Желудок словно бы сжался в комок, уступая место диафрагме, которая мощно пульсировала и напоминала мембрану бионасоса «квадриги» или «триеры». Только насос этот гнал неизвестно что и неизвестно куда. Руки и ноги подчинялись неведомым командам — не мозга, а иного органа, только что чудодейственным образом родившегося «под ложечкой», — и блестяще удерживали равновесие, не допуская, чтобы я свалился в «штопор» или попал в «воздушную яму». Да что говорить — все органы трудились по-особому, но происходящее казалось мне абсолютно естественным, словно бы летать я был обучен с детства. Может быть, и не ходил никогда — только летал…
Подо мной проплывал незнакомый мне заповедник. Девственные леса, благоухающие сады, полудикие парки, луга, речушки, лужайки — все вызывало у меня умиление и первобытное почитание. Я бросался камнем к купам деревьев, пугал быстролетной тенью рыбешек в прудах и снова взмывал в небо, гонялся за птицами, съезжал по радуге, делал тысячи подобных благоглупостей и хохотал, хохотал, хохотал…
Пока не очнулся в центре управления Кораблем. Я лежал на полу и бился в истерике. Психолог разжимал мне челюсти, вливая витализатор, хлестал по щекам, но я все сильнее закатывался идиотическим смехом. Совершенно неожиданно он сменился безумным воем и плачем. Я лежал, скрючившись, у своего кресла и рыдал в три ручья, рассказывает Психолог. Он не изменяет истине. Я помню этот момент. Мне действительно было горько и больно. Я не желал возвращаться в действительность.
Хотелось до конца дней своих летать в прозрачном и призрачном мире, купаться в хрустальных лучах солнца, вдыхать зеленый запах первозданной свежести, чувствовать облака, оседающие капельками на горячем лбу, удирать от грозы, нестись к Луне, стараясь достичь наивысшей точки полета, и затем — вниз, с меркнущим от разреженного воздуха сознанием вонзаться в теплый туман, стелющийся над низинами, — отголосок растворенного в сумерках зноя, — возвращаться к жизни. Летать, летать, летать… Вечно…
Я резко бью по клавише выбрасывателя. Кубик, не отыграв, вылетает на стол. Дальше слушать я не в состоянии: перехватило дыхание. Последние часы жизни Навигатора — самая трагическая ниточка во всем этом запутанном и прискорбном клубке нелепых смертей.
Он с ювелирной точностью выстрелил Корабль к Земле, отдав управление посадкой Командиру лишь после того, как убедился в полном восстановлении значения G-тензора. В ясном сознании прошел «контроль», обманув врачебный синклит. Однако слова, запечатленные в фонне, оказались последней разумной записью «космического снайпера».
Уже дома он внезапно потерял сознание. А когда пришел в себя, мысли в глазах его не было. Он бормотал несусветицу, лепетал как ребенок, пускал пузыри и судорожно дергал руками, как бы пытаясь схватить что-то скользкое, но вместе с тем чрезвычайно важное для него, без чего уйти из жизни он не имел права. «Полный распад сознания», — зафиксировал врач. Он же через полчаса, мучаясь беспомощностью, установил смерть…
Есть еще одна причина, по которой я никогда не дожидаюсь конца фонны Навигатора. На ней по странному стечению обстоятельств были записаны слова, произнесенные им за секунду до фатального кровоизлияния. На эту единственную секунду сознание вернулось. И губы прошептали жуткую в своей осмысленности фразу — за малым изменением ту самую, которую произнес когда-то, умирая, Рабле: «Je vais querir le grand Neant». («Иду искать великое Hичто»).
От этих слов мне становится страшно…
«…Вот и все! Кончен полет, кончен эксперимент, и кончены надежды…» — фонну Командира я включаю с третьей плоскости. Сейчас для меня важнее всего еще раз услышать «сны». Размышлений предостаточно. Ретроспективных повествований тоже. В сущности, все они повторяют одно другое. Зато «миражи» или «выродки» — случай особый.
…Внешне все выглядит благопристойно и даже логично. Ни за чем «поехали» и ни с чем вернулись. Или так: в пустоту нырнули, с пустыми руками вынырнули. Взятки гладки. На нет и суда нет.
А стыдно… В глаза друг другу совестно смотреть, не то что людям… Ведь было там Что-то! Совсем рядом было. Можно сказать, меж нас. Кажется, щупай руками, измеряй, отколупывай кусок, упаковывай в бумажку и вези на Землю. Ан не тут-то было: пусто! Сквозь пальцы, точнее, сквозь мозги наши, как вода, утекло. Откуда, ЧТО и куда — бессмысленно спрашивать. Ничего-то мы не поняли, ни в чем-то не разобрались и как не знали до сих пор, так и сейчас ни черта не знаем. Маразм полнейший: семь в общем-то неглупых и основательно подкованных людей, до зубов вооруженных новейшей, точнейшей и умнейшей техникой, сидят в Корабле — восьмом чуде света — и… хлопают ушами, в затылках чешут, руками разводят. Щенки слепые!.. Издевательство в полном смысле слова: будто кто-то намеренно заставил нас идти на немыслимые ухищрения, а потом кукиш показал.
Слово «кукиш» я не зря употребил. Хоть бы с нами вообще ничего не случилось, так-таки и ничего, тогда бы все понятно было: НЕТ ни гроша в этом вакууме, нет, не было и не будет никогда. А кукиш-то нам показали! Могучий такой кукиш, и у каждого — свой, у каждого в башке целую минуту фига красовалась.
Вот если бы она в «ловушке» из самого что ни на есть вакуума сложилась — тогда да! Написали бы в отчете просто и бесхитростно: «Абсолютный вакуум при полной изоляции от взаимодействий обладает свойством складываться в фигу». Потом ее замерили бы, высчитали объем, определили топологическую структуру, описали формулами, сняли с каждого пальца дактилограмму и так далее и тому подобное. Возвращаемся на Землю — нате вам, специалисты по фигурам из трех пальцев! Копайтесь, исписывайте тома, возводите стройное здание теории!
А в нашем-то случав что, скажем, я в отчете зафиксирую? Что страшил повидал, каких свет не родил? Что эти страшилы меня чуть не слопали? А доказательства? Нет таковых!!! Ну, привиделось, ну, галлюцинации, ну, перенапрягся… Полежи, молодой, на морском пляже, понюхай озон, поплавай вволю, авось нервы и придут в порядок…
Я и сам такое посоветовал бы любому, если бьют него свои байки услышал. Но ведь не байки!..
Шел я по очень странному лесу. Нет, не так. Лес был как лес: деревья, кусты, трава, полянки с цветами и папоротниками, озерки, холодные ключи-все нормально. И запах земной: зелени, прели, хвои. Но вот заселен этот лес был самым непристойным, так сказать, образом. Что ни зверь, то чудище.
Выглядывало из-за сосен гнусное рыло здоровенного кабана, только вместо пятачка у него красовался пучок фиолетовых щупалец, и шарил он ими по веточкам, листикам, былинкам, не пропуская ни одного стебелька, все время что-то совал себе в пасть — муравьев, тлей, гусениц, я знаю? А одно щупальце без устали хлестало по щетине на спине и боках — отгоняло слепней, видимо. Пасть, впрочем, была кабанья, но без клыков и зубов. Вроде ктото повыдергивал их, и совсем недавно: кровоточащие лунки в деснах были видны явственно.
Кабан заметил меня, уставил свои затянутые противной полупрозрачной синевой глаза, вдруг собрал все щупальца в тугой комок и выбросил их в мою сторону, издав громкий чмокающий звук. Я отпрянул, скотина же, довольно хрюкнув, вернулась к прерванному занятию.
Низко над землей, прыгая с ветки на ветку, пронеслась стая шимпанзе. И эти мало чем отличались от обычных обезьян: ни тело, ни лапы особого внимания не привлекали. Однако на морды я не мог смотреть без брезгливости. Челюсти — не челюсти, а ротовой аппарат, как у кузнечика. Вечно жующие красные створчатые пластины, с которых вязкими шариками срывалась густая иссинячерная слюна.
Выскочила откуда-то пегая кобыла. Умная такая зверюга с человеческими ушами непомерной величины — каждое с простыню. Присмотрелся: уши человеческие, но из тончайших розовых хрящей и с перепонками, словно у летучей мыши. Лошадь взмахнула ими и… полетела, почему-то, сказав на прощание: «Привет!» Вполне благожелательно, кстати, сказала и осмысленным, проникновенным голосом.
Свалился сверху обнаженный мозг на паучьих лапках, заскакал по кустарнику, ломая сучья: видно, тяжеленный был очень. Земля вспучилась передо мной, лопнул холмик, рассыпался мелкими камешками, вылезла клешня с глазами, помигала мне и скрылась.
У гигантского дуба отломился здоровенный сук, на его месте дупло вскрылось. Поперла оттуда змея толщиной с хорошее бревно. Это я сперва подумал, что змея: голова питонья. А чуть больше высунулась — оказалось, тысяченожка невиданная: великое множество ног к туловищу приделаны были, маленькие, но шерстью заросшие и с раздвоенными копытцами. Защелкали ножки вниз по стволу, голова уже в клешниной дыре скрылась, а тело все лезло и лезло из дупла: метров сорок в нем было.
А то слоновая черепаха прошествовала мимо. С прозрачным панцирем: все органы сквозь него видно — кровь пульсирует, сердце размеренно ходит, легкие колышутся. Тоже приятного мало.
Дикобразы резвились. Не иглы у них, а тонюсенькие полые стерженьки с раструбами на концах: оттуда вонючая жидкость брызжет.
Жаба припрыгала из чащи — не меньше теленка величиной. Встала на задние лапы и полезла на березу, как заправский сборщик кокосов, только откуда на березе кокосы?! Губы трубочкой, лезет, насвистывает чего-то. А вот говорящих, кроме лошади, никого не было.
Я стою окаменело и шепчу себе: «Успокойся. Успокойся. Все нормально. Ты просто немного сошел с ума. Это бывает. Это скоро пройдет». Бормочу эту чушь кретинскую и верю и не верю, что такая чертовщина в действительности происходит.
Окончательно сбрендил я, когда динозавр появился. Раздался треск ломающихся стволов, лес словно распахнулся впереди, и надо мной такая громадина нависла… Небо заслонила. А на ногахколоннах не пальцы, не когти, не копыта — хотя что я говорю? откуда у динозавров копыта? присоски? Будто колосс этот ничего не весит и запросто может к облакам унестись, потому присасывается.
И вот когда присоски в землю со свистом впились, я наконец-то бросился бежать. Бегу и думаю: куда же я мчусь, ведь этому небоскребу стоит два шага шагнуть, и уже меня перегонит. Голову поворачиваю на бегу, а этот детина умопомрачительный и не помышляет с места двигаться: шея у него с маленькой головой на конце — как резиновая. Вытягивается, вытягивается, догоняет меня, опережает, и вот уже голова гулко стукается о землю передо мной, «Все. Конец», — мелькает у меня. Вдруг вижу: не голова это больше, а ладонь размером с меня. И на ней — татуировка! Эти самые слова вытатуированы: «Все. Конец». Я очнулся… Я очнулся… Я очнулся… Я очнулся…
Фонна Командира всегда заедает в этом месте: какой-то дефект в развертке. Я заставляю «чтеца» смолкнуть. Что это? Самое странное сновидение? А может, столь же странное, как и остальные? Не могу сказать обо всех записях, но в некоторых прослеживается определенное сходство. Нечто вторгается в психику человека и как бы модулирует ее: «пробует» на привычных сознанию объектах инородные и чуждые им черты, наделяет их несвойственными характеристиками. И получаются: жена и дочь Психолога с неуловимо искаженными чертами, левитирующий Навигатор, лошадь с человеческими ушами, многокопытный питон, татуированный динозавр. А зачем все то — одному богу, то бишь вакууму, известно, Или не вакууму? Но чему тогда?
Как, однако, велик и многообразен мир! И как мал и беспомощен разум всякий раз, когда он сталкивается с новой загадкой природы. Сколь коварно подводят его чувства! В истории немало тому примеров: познание часто отступает перед Неведомым, ломающим привычный круг представлений. Но отступает всегда с определенной целью: либо избрать новое направление, либо взять разбег для прыжка через препятствие. Первое предполагает разработку качественно новых концепций, второе — выжидание и накопление количества информации. Но что нам предстоит в этот раз? Имеем ли мы право отказываться от неопровергнутой теории? И тем более — имеем ли мы право ждать?
Порой мне кажется, что фонна Борттехника — его «сновидение» — ближе всего подбирается к ответу на эти вопросы, к принципу выбора пути. «Ближе» — но лишь подбирается…
…Оболочка матки вспучилась. Потом перемычка между ней и вновь рожденным ботом стала совсем тонкой и оборвалась: бот отпочковался. Так рождается капля в кране. Мыльный пузырь от соломинки отделяется тоже так. Затем в натяженной обшивке бота прорезались отверстия: дюзы. Включился двигатель, и мы, держась, как путеводной нити, оптимальной траектории входа, стали спускаться на планету.
Все было рассчитано давно и перерассчитано много раз: орбита матки, момент отрыва, кривизна глиссады, точка посадки. Последняя предполагалась в центре обширной прогалины в нескольких градусах к югу от экватора. На стереоглобусе эта прогалина казалась огромной лишайной плешью в буйной шевелюре планеты, которая от полюса до полюса была покрыта лесными зарослями, Морей мы не обнаружили; россыпи озер в умеренных широтах вот и вся вода. Пока спускались, эколог не переставал недоумевать, откуда здесь может взяться влага для столь пышной растительности. Всего лишь одна из множества загадок, которые нам предстояло решить…
Приземлились. Вернее, «припланетились», ибо от Земли нас унесло бог весть как далеко, а имени планете мы еще не дали. Затем пошла восьмичасовая рутина: химический анализ, бактериологический анализ, радиационный, электростатический, почвенный, биотоксический, споруляционный, одориметрический, психомутагенный. Анализы, анализы, анализы… Все! Кончилось. Сумматор выдает предписание: опасностей для жизни нет, мера защиты минимальная. Надеваем респираторные маски, ибо пыльца каких-то растений, носящаяся в воздухе, может оказать аллергическое действие, а ароматы местных цветов не из приятных. Можно выходить…
Сразу и не вспомнишь, как ОНИ перед нами появились. То ли выступили из-за кустов, то ли поднялись на ноги, потому что до этого лежали ничком, то ли просто «возникли». Впечатление было, словно они выросли из-под земли. Несколько мужчин, удивительно похожих на нас, чужаков в их мире, только малорослых — будто уменьшенные копии землян. Зато лица необычайно правильные и благородные, пропорции тела — античные, позы спокойные: без тени превосходства, но и нисколько не настороженные.
Одежда их состояла из ниспадающих складками свободных плащей с короткими рукавами и легких сандалий, на головах — тонкие, похоже, медные обручи, перевитые надо лбом зелеными листьями. Ни дать ни взять древние эллины в туниках, собравшиеся на праздник Пана. Разве что без свирелей.
Мы настроили переносный «лингавокс» на прием, однако потребность в переводе сразу же отпала. Планетяне заговорили на нашем родном языке. Чистейшем, надо сказать, языке, хотя и немало архаичном.
— Целы ли власы пришельцев? — произнес кто-то из них. Мы озадаченно переглянулись, не зная, что ответить.
— Зрим, что целы. Рады за ваших потомков! — продолжал тот же голос. Мы еще раз переглянулись, и наконец-то пилот наш вспомнил стандартную формулу приветствия.
— Мир и счастье обитателям этого мира! Не с бедой или злым умыслом явились мы сюда, но во имя познания. Незваные гости, но мечтаем быть друзьями. До той поры мы ваши добровольные пленники.
Теперь настала очередь изумляться аборигенам. В заметном смущении они перебросились несколькими словами на своем языке. «Лингавокс», впрочем, их не перевел.
— Корни стремятся к свету, путь озаряет влага, — вступил в переговоры второй планетянин. — Многоразличны голоса жизни, но привкус горечи для птиц не помеха: они парят вдали от водопадов.
Странное тревожное чувство родилось у меня в груди, от растерянности я никак не мог собраться с мыслями, тем не менее попробовал внести в беседу долю здравости;
— Темны слова ваши, незнакомцы, однако взаимопонимание рождается не сразу. Мы стараемся постичь ваши мысли, но для этого требуется усилие. Согласованные стремления к ясности уничтожат преграду между рассудками.
На лицах чужаков проступила краска. Только что это — гнев или недоумение, — пока трудно было определить. Короткое молчание, и третий из них подвёл голос:
— Причины и следствия оплодотворяют время. От следствия к причине порыв ветерка, от причины к следствию — струйный поток. Осквернить трапезу лицезрением — содеять доброе для чистоты породы. Мирволить избывшим — перекладывать бремя растений на подобие неживого. Тускнеть злобой к огню — почить в безутешной подвижности. Все — узелки на вервии, ползущем от недра недр к границе границ. Барьеры оно огибает, но утолщениями цепляется — за друзы льда, мысли чуждого, и споспешествует наконец.
Так. Диалог между цивилизациями превратился в абсолютный, неслыханный, несусветный бред. Хорошенькое дело! И зачем мы вообще сюда свалились? Впрочем, второй пилот делает еще одну попытку.
— Очевидное для вас — нам таковым не представляется. Видимо, это правило имеет обратную силу. Безусловное в нашем понимании — спорное по вашим меркам. Неужели, однако, подобие двух миров и схожесть обликов, а следовательно, уместно предположить, и биологического строения не помогут нам найти общий язык?
Мы понимали, что говорим совсем не так, как привыкли изъясняться, что можно было бы облечь наши потуги на контакт в более простую словесную форму. Наверное, подействовала несуразность и бестолковость происходящего. Мы стали косноязычными, порядок в мыслях нарушился. Однако какая-то «стыковка» в смысловом строе после «речи» второго пилота все же наметилась.
— Можно найти общую ногу, — быстро-быстро заговорил первый планетянин, — можно отыскать общий глаз, можно на каждом взмахе качелей жизни стремиться к общему зубу, клюву, перу, крылу, наконец, к общей чешуе. Почему?.. Найти общий язык — все равно что петь песни под дождем или рисовать тем, что горело. Мы говорим красные и зеленые тона, и в этом истина опыта. Там слышны терпкие касания, в этом качество творчества. Мы осязаем легенды, и в этом терпение роста. Наши глаза зорки к теплу, в этом заметность прошлого. Но окоем гневен, и травы шествуют к умению, и витийство пророчествует сообразность; нам пора уходить. Да не уколет вас мерцание звезд!
Планетяне исчезли так же молниеносно, как и появились. А вокруг меня, ошеломленного, уничтоженного, сбитого с толку, все стало постепенно гаснуть. Затмились один за другим все мои странные и незнакомые прежде товарищи по экспедиции, исчез бот, растаял далекий лес, растворилась в темноте пустая прогалина, и наступил полнейший мрак, в котором вдруг неожиданно вспыхнули кают-компания Корабля и отделенный от нее лишь псевдопереборкой центр управления. Я вернулся в свое время, свое место, к своим друзьям. У всех шестерых был пугающий подавленный вид. Но, судя по выражениям лиц, по реакции — от истерического страха до эйфорической радости, они были подавлены не тем, с чем пришлось столкнуться мне. Чем-то иным…
Каждый день я до исступления ломаю голову над этой фонной. Все чудится: разгадка — вот она, только ускользает, не дается в руки. Порой приходит мысль: а что, если сам «феномен» — то, в чем закружились сознания экипажа, — подбрасывает ключик к собственной тайне, подсказывает — через «видение» одной из жертв — слова «Сезам, откройся!», но произнесенные на каком-то очень странном языке? Я хочу сказать, не зашифрован ли в словах «планетян» некий секретный смысл, разгадав который мы смогли бы добраться и до сути минутного умопомешательства экипажа, и до сути самого вакуума, если, конечно, слово «суть» к нему применимо? То есть если все, что приключилось с Кораблем в далеком космосе, связывать именно с ним.
Каждый раз я отбрасываю эти мысли, полагаю их явным бредом, но они возвращаются ко мне с неизменным упорством. Параллельно же с ними зачастую всплывает другая идея, более здоровая и трезвая, даже скорее отрезвляющая. Не напоминает ли диалог команды бота с обитателями иного мира «беседу» человечества с природой?
Мы задаем ей вопросы, наделенные вполне понятным НАМ смыслом, она отвечает на них ПО-СВОЕМУ, пользуясь СВОЕЙ логикой, руководствуясь СВОИМ семантическим строем. Мы столбенеем и либо изменяем вопрос, либо изо всех сил тщимся понять ответ. Если последнее нам удается, мы делаем колоссальный шаг вперед и именуем его прогрессом в науке, если нет — сваливаем неудачу на опыт, обвиняя его в «нечистоте», или же на экспериментаторов, ловя их на непоследовательности и торопливости.
Во всяком случае, что бы ни стояло за «сном» Борттехника, я всегда слышу в нем по крайней мере одну — тихую и вкрадчивую ноту: так ли уж сильна она, логика нашего познания? Логика Вашего познания, доносится до меня шепот Неведомого.
На моем столе остается последняя непроигранная фонна — Помощника Командира. Однако желание выслушать и ее тоже пропадает. Я устал. Конечно, я знаю ее чуть ли не наизусть, как знаю и остальные, обычно это не мешает мне каждый вечер загружать проигрыватель неизменной программой. Но сегодня… Пусть программа остается незаконченной. Вот если бы мой изначальный выбор такого на фонну Помощника, у меня, наверное, до сих пор звучали бы в ушах последние слова его: «Будь ты проклят, вакуум!» Равно как и его сетования на собственную ненужность в экспедиции: мол, традиционная мера безопасности, мол, никчемная фигура, мол, если бы да кабы, если с Командиром что-нибудь случится, тогда… И его леденящий рассказ о том, как перед возвращением на Землю он включил «контрольную» электрофонную запись, то есть фонну Корабля, и услышал, что на протяжении минуты-той самой, когда у всех были «сновидения», — кают-компанию сотрясал оглушительный, запороговый вой, который во время эксперимента никому, естественно, слышен не был. И описание его собственного «выродка»; он несся в черном узком тоннеле в каком-то потоке то ли воды-не-воды, то ли сжатого воздуха-не-воздуха и, повинуясь течению, убыстрял движение, замедлял его, останавливался, снова мчался, кружился в вихревых возмущениях в каких-то шарообразных коллекторах, встречавшихся на пути, и все это без проблеска света, и не было никаких ощущений: тепла или холода, голода или жажды, бодрости или усталости, сна, времени, нехватки воздуха — и не было желания вырваться из тоннеля, но не было и апатии — так он несся бесконечно долго или, напротив, совсем недолго, и только чувствовался запах, причем бил он не в ноздри, потому что и дыхания-то не было, а чувствовался вообще — далекий, забытый, младенческий запах: теплый аромат материнского молока.
Все это я мог бы услышать. Но не буду: устал. Я выключаю проигрыватель, сгребаю в кучу все фонны и перемешиваю их на столе: завтра снова буду гадать, какую выбрать и чей услышу голос.
Я поднимаюсь из кресла, потягиваюсь и подхожу к окну. Уже ночь. Сейчас я сниму со стекла напряжение прозрачности, комната будет освещена лишь мягким внутренним светом, но я еще не собираюсь ложиться. Знаю: быстро успокоиться не смогу. Начну ходить из угла в угол и думать, думать, думать…
Долгим взглядом окидываю звездный небосклон. Между тонкой пленкой атмосферы, надежно укрывающей и меня, и всех людей, и Землю, и манящими мерцающими точками — Вакуум. Не чистый, не абсолютный, но та самая загадочная, недоступная, а может быть, не загадочная, а лишенная каких бы то ни было качеств никому не нужная пустота, за которую семь человек отдали свои явно не пустые и очень нужные жизни. И где-то в глуби ее — самая пустая, пустота в пустоте: ни пылинки, ни атома, н-и-ч-е-г-о.
И вдруг… О господи!.. Нет, не может быть! Нет! Не верю глазам!.. В северной части небосвода, там, где только что н-и-ч-е-г-о не было, появилась сияющая точка. Она едва заметно расширяется, это не точка ослепительное пятнышко, крохотный диск, превосходящий блеском и Вегу, и Капеллу, и Венеру.
А где-то в глубине подсознания предчувствие уже трансформируется в знание, рождается мысль, и я гоню ее от себя, и зову, зову, дрожа от ликования и ужаса одновременно. Какое сегодня число? — спрашиваю я себя. Пятое августа. День эксперимента? Двадцать шестое марта, угодливо подсказывает память. Все сходится. Именно четыре месяца и двенадцать дней прошло со дня эксперимента. Эксперимента, который происходил в четырех СВЕТОВЫХ месяцах и двенадцати СВЕТОВЫХ днях от нас. Просто до нас дошел свет! Что это? Звезда? Да, только так: новая звезда.
Почему же мы не ждали этого дня? Почему у нас его и в мыслях не было? Не удосужились произвести простейший арифметический подсчет! Ах, логика, логика, не ждущая подсказки и потому самодовольная, кичливая наша логика. Билась лбом о «сновидения», распсиховавшиеся приборы покоя ей не давали, слепо тыкалась в наличное, доступное. А ведь наперед должны были знать: четыре месяца и двенадцать дней. Ни больше, ни меньше…
Как и когда родилось это новое светило? В момент эксперимента? После него? Пока мы не знаем зтого и, наверное, выясним нескоро. Как, может быть, никогда не постигнем, почему далекий эксперимент умертвил экипаж. Но сколь же нужен нам этот свет! По крайней мере теперь-то мы точно уверимся: не зря погиб в безумии Навигатор, не зря разбился в «спурте» Физик — мозг отказал, когда он выезжал из дома, не зря встретили слепую смерть все семеро. Так было и так будет: через предательство ощущений, через вековечный спор, который Разум, проигрывая и выигрывая одновременно, ведет с коварными чувствами, через гибель пионеров, пусть странную и нелепую… необъяснимую… не могущую быть объясненной… человечество идет к познанию…
А звезда все-таки родилась. Есть Что-то в вакууме, и нужен, ох как нужен был роковой эксперимент. До звезд мы добрались, «непонятно как скакнули туда», говоря словами Физика, но добрались. А теперь поймем и маленькое словечко КАК. И еще много таких же словечек. Просто мы будем зажигать звезды.


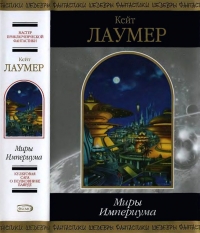


Комментарии к книге «Проклятый и благословенный», Виталий Тимофеевич Бабенко
Всего 0 комментариев