Дэн СИММОНС Песни Гипериона (цикл)
ПЕСНИ ГИПЕРИОНА (дилогия)
Книга I ГИПЕРИОН
На фоне начинающейся межзвездной войны человечества с ИскИнами и мутантами семеро паломников направились к аномальным Гробницам Времени на планете Гиперион. Их поход — то самое минимальное воздействие, которое может оказать влияние на судьбу человечества. Но каким образом, не знают ни они, ни пославшие их.
Шестеро из них рассказывают свои истории, в той или иной степени связанные с беспощадным механическим чудовищем Шрайком, явившимся из будущего.
Пролог
Консул Гегемонии сидел на балконе своего эбеново-черного космического корабля и на хорошо сохранившемся «Стейнвее» играл прелюдию до-диез минор Рахманинова, а снизу, вторя музыке, неслось мычание громадных зеленых псевдоящеров, бултыхавшихся в хлюпающей болотной жиже. С севера приближалась гроза. На фоне свинцовых туч, закрывших полнеба клубящейся девятикилометровой стеной, проступил четкий контур леса гигантских древовидных хвощей. У горизонта сверкнула молния. Возле корабля в синем тумане то и дело появлялись неясные фигуры рептилий, которые пытались проникнуть в защитное поле, но тут же с ревом исчезали. Консул сосредоточился на сложном месте прелюдии, не замечая надвигавшейся бури и сгущавшейся темноты.
Зазвонил приемник мультилинии.
Пальцы Консула застыли над клавиатурой, а сам он обратился в слух. В душном воздухе прогрохотал раскат грома. Из леса донесся заунывный вой стаи падальщиков. Внизу, в темноте, протрубила в ответ какая-то безмозглая тварь. Внезапно воцарилась тишина — слышно было лишь гудение защитного поля. А потом опять затрезвонил приемник.
— Черт возьми! — Раздосадованный Консул отправился отвечать на вызов.
За те несколько секунд, пока компьютер преобразовывал и расшифровывал пакет тахионных импульсов, Консул успел налить себе виски, и, когда сигнальный индикатор замигал зеленым огоньком, он уже усаживался на подушки в проекционной нише.
— Включай, — сказал он.
— Принято решение о вашем возвращении на Гиперион, — произнес хрипловатый женский голос. Изображение еще не сформировалось: воздух в нише лишь слабо мерцал, прочерченный строкой кодированного сигнала, по которой Консул понял, что сообщение отправлено с Тау Кита — административного центра Гегемонии. Впрочем, чтобы определить это, Консулу не требовалось координат. Постаревший, но все еще красивый голос Мейны Гладстон нельзя было спутать ни с чьим другим. И сейчас этот голос сообщил ему:
— Принято решение о вашем возвращении на Гиперион для участия в паломничестве к Шрайку.
«Еще чего», — подумал Консул и встал, собираясь покинуть нишу.
— Вы и еще шесть человек избраны церковью Шрайка и утверждены Альтингом, — сказала Мейна Гладстон. — Гегемония заинтересована в вашем согласии.
Консул застыл на пороге; позади него продолжала мерцать бегущая сквозь воздух строка. Не оборачиваясь, он поднес стакан к губам и допил виски.
— Ситуация очень сложная, — продолжала Мейна Гладстон. Ее голос звучал устало. — Три стандарт-недели назад консульство и Комитет местного самоуправления сообщили нам по мультилинии, что Гробницы Времени, похоже, начинают открываться. Антиэнтропийные поля вокруг них быстро расширяются: Шрайка видели уже возле Уздечки, и он заходит все дальше на юг.
Консул повернулся и уселся на подушки. Голографический проектор наконец заработал, и в воздухе появилось морщинистое лицо Мейны Гладстон с покрасневшими от усталости глазами.
— Чтобы эвакуировать находящихся на Гиперионе граждан Гегемонии, прежде чем Гробницы Времени откроются, мы немедленно послали с Парвати специальную эскадру ВКС. Она будет на месте через три гиперионовских года, может, чуть позже. — Мейна Гладстон сделала паузу, и Консул подумал, что никогда еще не видел секретаря Сената столь мрачной. — Мы надеемся, что эвакуационный отряд успеет вовремя, — сказала она, — но обстановку осложняет еще один фактор. На подходе к Гипериону обнаружена миграционная группа Бродяг, состоящая по меньшей мере из четырех тысяч… единиц. Наш эвакуационный отряд вряд ли опередит их намного.
Консул понимал, почему запнулась Мейна Гладстон. Миграционная группа Бродяг могла состоять из кораблей любого класса — от одноместных разведчиков до летающих городов и кометных фортов, вмещающих десятки тысяч космических варваров.
— Объединенное командование считает, что Бродяги пошли в наступление, — сказала Мейна Гладстон. Корабельный компьютер расположил голограмму таким образом, что казалось, взгляд печальных карих глаз женщины устремлен прямо на Консула. — Остается выяснить, является ли их целью только Гиперион с его Гробницами Времени, или они намерены двинуться дальше и атаковать Сеть. На всякий случай боевой флот полного состава с приданным ему инженерным нуль-Т-батальоном вылетел из Системы Камн на соединение с эвакуационным отрядом, но, в зависимости от обстоятельств, этот флот может быть в любой момент отозван.
Консул кивнул и рассеянно поднес к губам пустой стакан. Нахмурившись, он повертел его в руках, потом швырнул на пол ниши, покрытый толстым мягким ковром. Не будучи специалистом в военном деле, он тем не менее понимал всю сложность тактической задачи, которую приходилось решать Гладстон и объединенному командованию. Чтобы отразить вторжение Бродяг в систему Гипериона, нужно в сжатые сроки (и ценой неимоверных усилий!) построить там военно-транспортный нуль-Т-портал. В противном случае секреты Гробниц Времени окажутся в руках врагов Гегемонии. Если этот портал будет построен вовремя и Гегемония бросит все свои силы на защиту отдаленного колониального мирка, Бродяги смогут прорвать ослабленный периметр Великой Сети в какой-нибудь другой точке и даже — при наихудшем развитии событий — захватить действующий нуль-канал и проникнуть в Сеть. Консул словно наяву увидел, как полчища этих варваров вываливаются из нуль-порталов прямо на улицы незащищенных городов сотен планет.
Он прошел сквозь голограмму Мейны Гладстон, поднял стакан и направился за новой порцией виски.
— Вы включены в состав группы паломников к Шрайку. — Старая сановница, которую в прессе постоянно сравнивали то с Линкольном, то с Черчиллем, то с Альваресом-Темпом (в зависимости от того, какая из легенд эпохи до Хиджры была в тот момент наиболее популярна), казалась озабоченной как никогда. — Тамплиеры дают нам свой звездолет-дерево «Иггдрасиль». Командующий эвакуационными силами получил указание пропустить его. Полет к Парвати займет у вас три недели; «Иггдрасиль» подберет ваш корабль и сразу же уйдет в квант-прыжок. Шесть других паломников, выбранных церковью Шрайка, будут уже на борту «дерева». Данные нашей разведки заставляют предположить, что по меньшей мере один из семи паломников — агент Бродяг. Мы не… в настоящее время… не имеем никакой возможности установить его личность.
Консул невольно улыбнулся. Вдобавок ко всем свалившимся на Гладстон неприятностям, ей приходилось считаться с возможностью, что Консул и есть этот самый шпион и что она передает стратегически важную информацию агенту Бродяг. Но сообщила ли она что-нибудь действительно важное? Как только на кораблях включили двигатели Хоукинга, перемещения флота перестали быть тайной; будь Консул и в самом деле шпионом, он бы воспринял откровения секретаря Сената как попытку спугнуть его. Улыбка сползла с его лица, и он залпом выпил виски.
— В число паломников входят Сол Вайнтрауб и Федман Кассад, — сказала Гладстон.
Консул нахмурился еще больше и перевел взгляд на облако цифр, мерцавших, подобно пылинкам, вокруг изображения старой женщины. До конца сеанса связи оставалось пятнадцать секунд.
— Нам нужна ваша помощь, — закончила Мейна Гладстон. — Необходимо разгадать загадку Гробниц Времени и Шрайка. Это паломничество может оказаться нашим последним шансом. Если же Бродяги захватят Гиперион, их агент должен быть уничтожен, а Гробницы Времени закрыты навсегда — любой ценой. От этого зависит судьба Гегемонии.
Передача закончилась. На экране осталась только строчка координат места встречи с «Иггдрасилем».
— Отвечать? — спросил компьютер.
Несмотря на огромные энергозатраты, космический корабль мог втиснуть в неумолчный гул сверхсветовых разговоров, которые вели между собой заселенные людьми уголки галактики, и свое спрессованное в короткий импульс сообщение.
— Нет. — Консул вышел на балкон и облокотился на перила. К ночи небо затянуло низкими облаками, закрывшими звезды. Темнота была почти абсолютной, лишь на севере время от времени вспыхивали молнии, и мягким фосфорическим светом мерцало болото. Внезапно Консул со всей ясностью осознал, что он — единственное разумное существо в этом безымянном мире. Он прислушался к доисторическим звукам, несущимся из темноты, и подумал об утре, о том, как с рассветом он вылетит на «Виккене» и весь день проведет на свежем воздухе, охотясь на крупного зверя в папоротниковых лесах на юге, а к вечеру вернется на корабль и поужинает хорошим бифштексом с холодным пивом. Охота доставляла ему острое наслаждение, но не меньшим наслаждением было и само одиночество — одиночество, которое он заслужил болью и кошмаром, пережитыми на Гиперионе.
ГИПЕРИОН.
Консул вернулся в каюту, убрал балкон и под аккомпанемент первых тяжелых капель дождя тщательно закрыл люк. По винтовой лестнице он поднялся на самый верх корабля, в спальный отсек. Царившую в круглой комнатке темноту то и дело разрывали бесшумные вспышки молний, в свете которых на поверхности прозрачного купола проступала сетка дождевых ручейков. Консул разделся и, устроившись поудобнее на жестком матрасе, включил музыкальный центр и внешние микрофоны. Звуки бушевавшей снаружи бури смешались с неистовством вагнеровского «Полета валькирий». Ураганный ветер сотрясал корабль, купол полыхал белым пламенем, каюту заполнили раскаты грома. От непрерывных вспышек перед глазами у Консула поплыли огненные блики.
«Вагнера стоит слушать только в грозу», — подумал он и закрыл глаза, но молнии были видны и сквозь веки. Ему вспомнились холмы поблизости от Гробниц Времени, сверкающие кристаллики льда, несущиеся над развалинами, холодный стальной блеск Шрайка и это невообразимое дерево из металлических шипов. Он вспомнил крики в ночи и пронизывающий взгляд тысячегранных кроваво-красных глаз Шрайка.
ГИПЕРИОН.
Консул мысленно приказал компьютеру отключить все динамики и, когда наступила тишина, прикрыл глаза рукой. Возвращение на Гиперион было бы сущим безумием. Гробницы Времени… За одиннадцать лет его пребывания на посту консула в этом отдаленном и загадочном мире таинственная церковь Шрайка пропустила на исхлестанные ветрами пустоши к северу от гор не менее десятка барж с паломниками с других планет. Не вернулся никто. И это в годы затишья, когда радиус антиэнтропийного поля вокруг Гробниц Времени сократился всего до нескольких десятков метров и непостижимые приливы времени удерживали Шрайка на месте. И не было угрозы вторжения Бродяг.
А если Шрайк примется разгуливать по всей планете? Миллионы гиперионцев, тысячи граждан Гегемонии — все они одинаково беззащитны перед существом, не признающем физических законов и говорящем только на одном языке — смерти. Хотя в каюте было тепло, Консула проняла дрожь.
ГИПЕРИОН.
Ночь прошла, буря утихла. Но, опережая рассвет, надвигался новый грозовой фронт. Двухсотметровые хвощи гнулись и мотались под напором воздушных потоков. И прежде чем забрезжил первый солнечный луч, эбеново-черный корабль Консула поднялся на столбе голубой плазмы и, пробив густые облака, устремился в космос — к Парвати.
ЧАСТЬ I
Все симптомы пробуждения из криогенной фуги были налицо: специфическая головная боль, сухость в горле, а главное — мучительное ощущение, что ты видел тысячи снов, видел, но ничего не помнишь. Консул поморгал, приподнялся и сел на низком диване, потом неуверенными движениями сорвал последние ленты приклеенных к коже датчиков. В лишенной окон яйцевидной каюте кроме него находились два коротышки-клона из команды корабля и очень высокий тамплиер, лицо которого скрывал капюшон. Один из клонов предложил Консулу традиционный стакан апельсинового сока. Он принял его и с жадностью выпил.
— Древо находится в двух световых минутах и пяти часах полета от Гипериона, — произнес тамплиер, и Консул понял, что перед ним Хет Мастин, капитан тамплиерского звездолета — Истинный Глас Древа. Консул смутно осознал, что это, должно быть, большая честь, когда тебя будит сам капитан, но он все еще не пришел в себя после фуги и не смог оценить это обстоятельство по достоинству.
— Остальные проснулись несколько часов назад, — сказал Хет Мастин и жестом отпустил обоих клонов. — Они собрались на передней обеденной площадке.
— Х-рр-р… — Консул схватил стакан и допил сок, потом он прокашлялся и со второй попытки наконец произнес: — Благодарю вас, Хет Мастин.
Оглядев яйцеобразное помещение (ковер из темно-зеленой травы, полупрозрачные стены, изогнутые стволы плотинника в качестве шпангоутов), Консул догадался, что находится в одном из небольших жилых модулей-стручков. Он закрыл глаза и попытался воспроизвести в памяти обстоятельства встречи, после которой корабль тамплиеров сразу же ушел в квантовый прыжок.
Перед мысленным взглядом Консула предстал приближавшийся километровый звездолет-дерево. Причудливые из-за множества надстроек очертания корабля искажались мерцающими пузырями воздухонепроницаемых силовых полей, сквозь которые местами проступал сверкающий тысячами огней ствол; мягко светились листья и тонкостенные стручки, цепочки фонарей отмечали бесчисленные платформы, мостики, рубки, лестницы и беседки. Ближе к основанию ствол, словно гигантские наросты, облепили грузовые и технологические модули, а голубые и фиолетовые шлейфы выхлопов тянулись за кораблем, как десятикилометровые корни.
— Нас ждут, — негромко сказал Хет Мастин и указал на кушетку, где лежали распакованные чемоданы Консула. Пока тот облачался в полуофициальный вечерний костюм (свободные черные брюки, начищенные до блеска сапоги флотского образца, белая шелковая блуза, раздувавшаяся в талии и у локтей, украшенный топазами пояс, черный китель с малиновыми полосками Гегемонии на эполетах и мягкая золотая треуголка), тамплиер задумчиво разглядывал стропила. Одна из секций изогнутой стены превратилась в зеркало, и Консул увидел перед собой причудливо одетого немолодого мужчину, лицо которого, за исключением странных бледных пятен под печальными глазами, покрывал густой загар. Консул нахмурился и отвернулся.
Хет Мастин сделал приглашающий жест, и Консул двинулся за ним. Через горловину стручка они выбрались на уходящую вверх дорожку, которая впереди скрывалась за выпуклой и шершавой стеной ствола. Консул шагнул было к краю дорожки, но тут же отступил назад. До «земли» было метров шестьсот, не меньше (сингулярности в основании «дерева» генерировали поле тяготения в одну шестую стандартного — этого хватало, чтобы создать ощущение «низа»), а перила отсутствовали.
Они молча продолжили подъем и, пройдя вокруг ствола метров тридцать (примерно полвитка спирали), свернули в сторону и, перебравшись по шаткому подвесному мостику на пятиметровой ширины ветвь, двинулись по ней туда, где под лучами солнца Гипериона блестела густая листва.
— Мой корабль расконсервирован? — спросил Консул.
— Его заправили и поместили в сферу № 11, — ответил Хет Мастин. Они оказались в тени ствола, и в черных просветах между темными листьями появились звезды. — Остальные паломники согласились лететь на вашем корабле. — Помолчав, тамплиер добавил: — Конечно, если разрешит Командование.
Консул потер глаза и пожалел, что ему не дали еще хотя бы пару часов, чтобы окончательно прийти в себя после холодной хватки криогенной фуги.
— А с эскадрой вы связались?
— Да, нас вызвали, когда мы выходили из квантового прыжка. В настоящее время нас эскортирует военный корабль Гегемонии. — Хет Мастин ткнул рукой куда-то вверх.
Консул запрокинул голову и прищурился, но в это мгновение верхний ярус кроны вышел из тени, отбрасываемой стволом, и запылал всеми красками заката. Остальные ветви жили своей жизнью: похожие на японские фонарики птички-огневки порхали над фосфоресцирующими плетями ползучек, освещенными дорожками и висячими мостами, в лабиринтах листвы то здесь, то там подмигивали светлячки со Старой Земли и мерцала лучистая паутина с Мауи-Обетованной — даже опытный космолетчик не смог бы сразу отличить их от звезд.
Хет Мастин вошел в лифт — корзинку, висящую на углепластовом тросе, который исчезал в переплетении ветвей метрах в трехстах над ними. Консул последовал примеру капитана, и корзинка бесшумно поплыла вверх. Дорожки, стручки и платформы явно были пусты. По пути им попались лишь несколько тамплиеров и низкорослых матросов-клонов, и Консул вспомнил, что за тот неполный час, который отделял стыковку от фуги, он не встретил ни одного пассажира. Тогда он решил, что пассажиры заблаговременно заняли безопасные места на фуго-ложах. Однако сейчас, когда «дерево» сбросило скорость, его ветви должны быть усеяны зеваками. Консул поделился своими наблюдениями с тамплиером.
— Кроме вас шестерых, других пассажиров нет, — ответил тот. Корзинка плавно затормозила, и Хет Мастин сразу же двинулся сквозь лабиринт ветвей к истертому тысячами ног деревянному эскалатору.
Консул удивленно уставился в его спину. Тамплиерские звездолеты обычно перевозили от двух до пяти тысяч пассажиров, и от желающих не было отбоя. «Деревья», как правило, совершали круизы между близкими звездными системами продолжительностью в четыре-пять месяцев; фуги при этом были краткими, что позволяло богатым пассажирам вдоволь налюбоваться живописными видами. Сгонять «дерево» на Гиперион и обратно, потеряв при этом шесть лет и ни гроша не получив с пассажиров, — тамплиеры несли весьма ощутимые финансовые потери.
Однако, поразмыслив, Консул решил, что корабль-дерево идеально подходит для эвакуации, а расходы в конце концов может возместить и Гегемония. Но в любом случае отправка такого красивого и уязвимого корабля, как «Иггдрасиль» («деревьев» у тамплиеров было всего пять), в зону боевых действий — величайший риск для Братства.
— Ваши товарищи по паломничеству, — объявил Хет Мастин, когда они с Консулом вышли на широкую площадку, где за длинным деревянным столом сидели несколько человек. Со всех сторон стол окружали плотные сферы листвы, похожие на гигантские плоды, а еще выше сияли звезды. Время от времени «дерево» подправляло курс, и тогда звезды вздрагивали и покачивались. Еще до того как пятеро пассажиров поднялись, чтобы пропустить Хета Мастина на его место во главе стола, Консул понял, что это и есть обеденная площадка. Свободный стул слева от капитана был, по всей видимости, предназначен ему.
Когда все расселись, Хет Мастин официально представил присутствующих. Консул ни с кем из них раньше не встречался, но некоторые имена были ему знакомы, и сейчас он воспользовался своим опытом дипломата, чтобы с первого раза запомнить лица своих будущих спутников.
Слева от Консула сидел отец Ленар Хойт, священник старой христианской секты, известной как Католическая Церковь. Несколько секунд Консул удивленно разглядывал черное одеяние и узкий глухой воротничок, а затем вспомнил госпиталь Св. Франциска на Хевроне, где почти сорок лет назад его приводили в чувство после того, как он перебрал во время своего первого дипломатического поручения. Услышав имя Хойта, он тут же подумал о другом священнике, пропавшем без вести на Гиперионе во время его консульства.
Ленар Хойт, по меркам Консула, был молод — лет тридцати с небольшим, но создавалось впечатление, что совсем недавно он катастрофически быстро постарел. Чем дольше Консул смотрел на его изможденное лицо с выступающими скулами, туго обтянутыми кожей, с большими, глубоко запавшими глазами и тонкими губами, постоянно искривленными в болезненной гримасе, на его редкие волосы, поврежденные радиацией, тем ему становилось яснее, что человек этот уже много лет тяжело болен. Однако Консул с удивлением обнаружил за маской с трудом подавляемой боли нечто мальчишеское — эти едва заметные следы детской округлости, слабый румянец и мягкий рот явно принадлежали более молодому, более здоровому и менее искушенному Ленару Хойту.
Рядом со священником сидел человек, которого еще несколько лет назад большинство граждан Гегемонии узнали бы в лицо. Правда, внимание публики в Великой Сети никогда не задерживалось на одном предмете надолго, а сейчас она меняет кумиров, должно быть, еще быстрее. Если так, то ореол славы и позора, окружавший полковника Федмана Кассада, «мясника Южной Брешии», вероятно, уже погас. Впрочем, для поколения Консула и для всех тех, кто жил неторопливой и отстраненной жизнью, забыть Кассада оказалось не так-то просто.
Рослый полковник (он мог бы посмотреть прямо в глаза двухметровому Хету Мастину) был в форме ВКС без знаков отличия и наград. Черный мундир до странности напоминал сутану отца Хойта, но на этом сходство и заканчивалось. Внешность смуглого и поджарого Кассада являла собой разительный контраст болезненной худобе священника: на плечах, руках и шее бугрились могучие мышцы, маленькие темные глаза разом схватывали все вокруг, как объектив старинной видеокамеры, лицо, казалось, состояло лишь из углов, теней, выступов и граней. Не изможденное, как у Хойта, а словно высеченное из холодного камня. Узкая полоска бороды подчеркивала остроту его черт, как кровь на лезвии ножа.
Глядя на вкрадчивые движения полковника, Консул вспомнил земного ягуара, которого ему довелось увидеть много лет назад на Лузусе в частном зоопарке при корабле-«ковчеге». Говорил Кассад негромко, но Консул не преминул заметить, что даже молчание полковника привлекает общее внимание.
Хотя места за длинным столом было сколько угодно, все паломники собрались на одном конце. Напротив Федмана Кассада сидел человек, которого капитан представил как поэта Мартина Силена.
Внешне поэт ничем не походил на полковника, скорее наоборот: Кассад был худощавым и высоким, а Мартин Силен — низеньким и каким-то расплывшимся, лицо Кассада навсегда застыло в каменной неподвижности, а физиономия поэта постоянно ходила ходуном, как у земных приматов. Говорил он громким дребезжащим голосом. Консул подумал, что в облике Мартина Силена есть что-то от театрального дьявола: красные щеки, большой рот, вздернутые брови, острые уши, подвижные руки с длинными пальцами пианиста… Или душителя? Серебряные волосы поэта были подстрижены простой челкой.
На вид Мартину Силену было около шестидесяти, но Консул заметил предательскую синеву на шее и ладонях поэта и заподозрил, что тот уже не раз омолаживался. Тогда истинный возраст Силена лежит где-то между девяноста и ста пятьюдесятью стандартными годами. И чем он ближе к верхней границе, тем вероятнее, что этот служитель муз выжил из ума.
Насколько шумно и оживленно вел себя Мартин Силен, настолько был сдержан его сосед, погруженный в невеселые мысли. Услышав свое имя, Сол Вайнтрауб поднял голову, и Консул увидел короткую седую бородку, исчерченный морщинами лоб и печальные светлые глаза известного ученого. Ему доводилось слышать историю этого Агасфера и его безнадежных поисков, но все равно он был потрясен, увидев на руках старика его дочь Рахиль, которой сейчас было не более недели. Консул отвел глаза.
Шестым паломником и единственной женщиной за столом была детектив Ламия Брон. Когда ее представляли, она посмотрела на Консула так пристально, что он продолжал ощущать давление ее взгляда даже после того, как она отвернулась.
Уроженка Лузуса, где гравитация на треть превышала стандартную, Ламия Брон ростом была не выше поэта, но свободный вельветовый комбинезон не мог скрыть ее великолепной мускулатуры. Черные кудри до плеч, брови, напоминающие две темные полоски, проведенные строго горизонтально поперек широкого лба, крупный нос с горбинкой, придающий лицу нечто орлиное. Портрет довершал широкий и выразительный, можно даже сказать, чувственный рот. На губах у Ламии играла легкая улыбка, то надменная, то шаловливая, а ее темные глаза, казалось, призывали собеседника выкладывать все начистоту.
Консул подумал, что Ламию Брон вполне можно назвать красивой.
Когда знакомство закончилось, Консул кашлянул и повернулся к тамплиеру.
— Хет Мастин, вы сказали, что паломников семеро. Ребенок господина Вайнтрауба — это и есть седьмой?
Капюшон Хета Мастина качнулся из стороны в сторону.
— Нет. Только тот, кто осознанно решил отправиться к Шрайку, может считаться паломником.
Сидящие за столом зашевелились. Консул (да и все остальные, видимо, тоже) знал, что, согласно правилам церкви Шрайка, количество паломников в группе должно выражаться простым числом.
— Седьмым буду я, — медленно произнес Хет Мастин, капитан тамплиерского звездолета-дерева «Иггдрасиль» и Истинный Глас Древа. Все замолчали. В наступившей тишине Хет Мастин сделал знак матросам-клонам, и те принялись накрывать стол для последней трапезы перед высадкой на планету.
— Итак, Бродяги все еще не вступили в пределы системы? — спросила Ламия Брон. Ее хрипловатый, гортанный голос показался Консулу каким-то необычно волнующим.
— Нет, — ответил Хет Мастин. — Но мы опережаем их не больше, чем на несколько стандартных суток. Наши приборы зарегистрировали термоядерные выхлопы в районе облака Оорта.
— Значит, будет война? — спросил отец Хойт. Казалось, каждое слово дается ему с трудом. Не получив ответа, он повернулся к сидевшему справа от него Консулу, как бы адресуя свой вопрос ему.
Консул вздохнул. Клоны подали вино, но сейчас он предпочел бы виски.
— Кто знает, как поступят Бродяги? — сказал он. — Похоже, они больше не руководствуются человеческой логикой!
Мартин Силен расхохотался и пролил вино.
— Черт возьми! Можно подумать, мы, люди, когда-нибудь руководствовались человеческой логикой! — Он сделал большой глоток, вытер рот и снова засмеялся.
— Если вот-вот начнутся серьезные сражения, — Ламия нахмурилась, — власти могут не разрешить нам сесть.
— Нас пропустят, — сказал Хет Мастин. Солнечный луч забрался ему под капюшон и осветил желтоватую кожу.
— И мы спасемся от верной смерти на войне, чтобы погибнуть верной смертью от рук Шрайка, — пробормотал отец Хойт.
— Нет смерти во Вселенной![1][2] — пропел Мартин Силен. Консул вздрогнул: пение поэта могло разбудить даже человека, погруженного в криогенную фугу. Силен допил вино и поднял пустой кубок, как бы обращаясь с тостом к звездам:
И смерти не должно быть! Стенай, Стенай, Кибела, сыны твои, Исполнившись злодейства, Низвергли Бога, сокрушили в прах. Стенайте, братья, силы иссякают, Ломаюсь, как тростник, слабеет голос… О боль, боль слабости моей! Стенайте, ибо гибну я…[3]Силен остановился на полуслове и, зычно рыгнув в наступившей после его декламации тишине, потянулся за бутылкой. Остальные шестеро обменялись взглядами. Консул заметил, что Сол Вайнтрауб слегка улыбается. Девочка, спавшая у него на руках, шевельнулась, и он склонился над ней.
— Ну что ж, — отец Хойт запнулся, словно нащупывая потерянную мысль, — если конвой Гегемонии уйдет и Бродяги захватят Гиперион без боя, оккупация может оказаться бескровной, и они позволят нам сделать свое дело.
Полковник Федман Кассад негромко рассмеялся.
— Бродяги не станут оккупировать Гиперион, — сказал он. — Захватив планету, они сначала разграбят ее, а потом сделают то, что у них получается лучше всего: сожгут города, раздробят обугленные развалины на мелкие кусочки, а затем будут жечь эти кусочки до тех пор, пока они не превратятся в золу. После этого они расплавят полярные шапки, испарят океаны, а оставшейся солью отравят почву, чтобы на ней больше никогда ничего не росло.
— Ну… — начал было отец Хойт и тут же умолк.
Никто больше не сказал ни слова. Клоны убрали посуду после супа и салата и подали жаркое.
— Вы говорили, что нас сопровождает военный корабль Гегемонии, — обратился Консул к Хету Мастину, когда они покончили с ростбифом и вареным небесным кальмаром.
Тамплиер кивнул и указал рукой куда-то вверх. Консул прищурился, но не смог разглядеть среди вращающихся звезд ничего движущегося.
— Держите. — Федман Кассад приподнялся и через голову отца Хойта передал Консулу складной военный бинокль.
Консул, поблагодарив его, включил питание и принялся изучать участок неба, на который указал Хет Мастин. Гироскопические кристаллы бинокля негромко жужжали, стабилизируя оптику и обшаривая поле зрения в запрограммированном режиме поиска. Внезапно изображение замерло, затуманилось, расширилось и вновь стало отчетливым.
Когда корабль Гегемонии появился в окулярах бинокля, у Консула невольно перехватило дыхание. Это был не одноместный разведчик, как он предполагал сначала, и даже не круглобокий факельный звездолет. Приближенный электронной оптикой, перед ним предстал матово-черный ударный авианосец. Проходят века, но совершенные очертания боевых кораблей неизменно поражают воображение. Разведенные на полный угол четыре старт-пилона с находящимися в полной боевой готовности истребителями, вынесенный вперед на шестидесятиметровой штанге разведкомплекс, напоминающий копье, расположенные на самой корме, словно оперение стрелы, бочкообразный двигатель Хоукинга и термоядерные батареи — спин-звездолет Гегемонии предстал перед ним во всей красе.
Консул молча вернул бинокль Кассаду. Если эскадра выделила для сопровождения «Иггдрасиля» ударный авианосец, то какую огневую мощь они приготовили, чтобы отразить нападение Бродяг?
— Сколько времени до посадки? — спросила Ламия Брон. С помощью своего комлога она попыталась проникнуть в инфосферу корабля и, очевидно, была разочарована тем, что там обнаружила. Или не обнаружила.
— Через четыре часа выйдем на орбиту, — негромко сказал Хет Мастин. — Потом еще несколько минут на челноке. Наш друг Консул предложил воспользоваться для высадки его личным кораблем.
— Садимся в Китсе? — спросил Сол Вайнтрауб. Это были первые слова, произнесенные ученым.
Консул утвердительно кивнул:
— Там единственный космопорт на Гиперионе, который принимает пассажирские корабли.
— Космопорт? — В голосе отца Хойта прозвучало раздражение. — Я думал, мы сразу отправимся на север. В царство Шрайка.
— Нет. Паломничество всегда начинается из столицы, — сказал Хет Мастин, покачав головой. — Понадобится несколько суток, чтобы достичь Гробниц Времени.
— Несколько суток? — удивилась Ламия Брон. — Но это абсурд!
— Возможно, — согласился Хет Мастин, — однако дела обстоят именно так.
Отец Хойт почти ничего не ел, но сейчас он сморщился, словно какое-то блюдо вызвало у него несварение желудка.
— Послушайте, — сказал он, — а не могли бы мы один-единственный раз в виде исключения отступить от этих правил? Так сказать, ввиду опасностей предстоящей войны… и так далее. Давайте просто высадимся у Гробниц Времени или еще где-нибудь поблизости и покончим со всем этим.
— На протяжении четырехсот лет космические корабли и самолеты пытались пробиться к северным пустошам напрямую, — сказал Консул, отрицательно покачав головой. — И мне не приходилось слышать ни об одной удачной попытке.
— Позвольте поинтересоваться, — с деланным изумлением спросил Мартин Силен, словно школьник на уроке, подняв руку, — что ж это за чертовщина такая? Куда же подевались эти полчища кораблей?
Отец Хойт хмуро посмотрел на поэта. Федман Кассад улыбнулся.
— Консул вовсе не имел в виду, что этот район недоступен, — снова заговорил Сол Вайнтрауб. — Туда можно добраться по реке и по суше. Кроме того, космические корабли и самолеты не исчезают. Они спокойно садятся вблизи руин или Гробниц Времени и так же легко возвращаются в любую точку, выбранную бортовым компьютером. Исчезают пилоты и пассажиры.
Ученый поднялся и стал укладывать спящую девочку в специальную люльку, висевшую у него на плече.
— Так гласит старая легенда, — сказала Ламия Брон. — А что показывают корабельные приборы?
— Ничего, — ответил ей Консул. — Никаких происшествий. На корабли никто не нападал. Никаких отклонений от курса, никаких необъяснимых обрывов записи, никакой необычной утечки энергии или, наоборот, ее появления из ничего. Вообще никаких необычных явлений.
— И никаких пассажиров, — добавил Хет Мастин.
Консул посмотрел на него в упор. Неужели Хет Мастин пошутил? Многолетнее общение с тамплиерами убедило его, что они начисто лишены чувства юмора. Однако, судя по выражению чуточку азиатского лица капитана, в словах его не было даже намека на шутку.
— Чудесная мелодрама, — рассмеялся Силен. — Саргассово море душ, оплакиваемых Христом. Причем все на самом деле и при нашем непосредственном участии. Хотел бы я знать, кто режиссер этого говенного спектакля.
— Заткнись! — повысила голос Ламия Брон. — Ты пьян.
Консул вздохнул. Паломники пробыли вместе менее часа.
Клоны убрали тарелки и внесли подносы с щербетом, кофе, тортами, плодами корабля-дерева и жидким шоколадом с Возрождения. Мартин Силен жестом отказался от десерта и велел клонам принести ему еще одну бутылку вина. Консул подумал и попросил виски.
— Мне кажется, — сказал Сол Вайнтрауб, когда все уже заканчивали десерт, — наша судьба будет зависеть от откровенности каждого.
— Что вы имеете в виду? — спросила Ламия.
Вайнтрауб машинально покачал ребенка, спавшего в сумке-люльке.
— Например, знает ли кто-нибудь из присутствующих, почему именно он (или она) был избран церковью Шрайка и Альтингом?
Никто не произнес ни слова.
— Думаю, что нет, — продолжил Вайнтрауб. — А вот еще одна загадка: является ли кто-нибудь из присутствующих членом или хотя бы сторонником церкви Шрайка? Я, например, еврей, и какими бы путаными ни были мои религиозные воззрения, они исключают поклонение смертоносной машине. — Вайнтрауб поднял густые брови и оглядел присутствующих.
— Многие тамплиеры, — сказал Хет Мастин, — считают Шрайка воплощением божества, явившегося в мир, чтобы покарать не питающихся от корня. Однако я, Истинный Глас Древа, должен признать это ересью. Ни в Завете, ни в писаниях Мюира[4] ничего подобного нет.
Консул пожал плечами.
— Я атеист, — заявил он, держа стакан с виски в руке и рассматривая его на свет, — и никогда не имел ничего общего с церковью Шрайка.
— Католическая церковь посвятила меня в сан. — Отец Хойт улыбнулся одними губами. — Поклонение Шрайку противоречит всему, на чем она стоит.
Полковник Кассад отрицательно покачал головой — то ли отказываясь отвечать, то ли показывая, что не является членом церкви Шрайка.
— Я был крещен лютеранином, — начал Мартин Силен, оживленно жестикулируя. — Это церковь, которой давно уже нет. Я стоял у истоков дзен-гностицизма — ваших родителей тогда еще на свете не было. Успел побыть католиком, адвентистом, неомарксистом, ярым фанатиком и потрясателем устоев, сатанистом, чуть ли не епископом пофигистов. Я даже что-то пожертвовал Институту гарантированного перевоплощения. Теперь я с удовольствием могу сообщить, что я простой язычник. — Он улыбнулся и заключил: — Для язычника Шрайк — самое подходящее божество.
— А мне на религии начхать, — отрезала Ламия Брон. — На меня они не действуют.
— Полагаю, это только подтверждает мою идею, — сказал Сол Вайнтрауб. — Никто из нас не разделяет догматы культа Шрайка, и тем не менее из миллионов приверженцев этой веры старейшины выбрали именно нас. Именно нам предстоит посетить Гробницы Времени… и лицезреть их жестокого Бога… возможно, в последний раз.
— Может, это и подтверждает вашу идею, господин Вайнтрауб, — Консул покачал головой, — но я ее так и не понял.
Ученый рассеянно погладил бороду.
— Мне кажется, что причины, побудившие каждого из нас отправиться на Гиперион, оказались столь вескими, что церковь Шрайка и правительство Гегемонии были просто вынуждены согласиться. В отдельных случаях — в моем, например, — причины эти считаются общеизвестными, хотя я уверен, что во всей своей полноте они известны только сидящим за этим столом. Поэтому я предлагаю следующее. Пусть каждый за те несколько дней, что у нас остались, расскажет свою историю.
— Зачем? — спросил полковник Кассад. — Вряд ли это что-то даст.
Вайнтрауб улыбнулся:
— Напротив. По меньшей мере это развлечет нас и поможет хоть немного узнать друг друга, прежде чем Шрайк или еще какая-нибудь гадость свалится нам на голову. Кроме того, возможно, мы поймем что-то очень важное, и в решающий момент это спасет жизнь всем нам. Если, конечно, у нас хватит ума выделить то общее, что связывает наши судьбы с капризами Шрайка.
Мартин Силен рассмеялся, закрыл глаза и продекламировал:
К спине дельфина приникая И взявшись за плавник, Невинных души смерть переживают, И снова открываются их раны.[5]— Это Лениста, не так ли? — спросил отец Хойт. — Я изучал ее творчество в семинарии.
— Почти, — ответил Силен, открывая глаза и наливая еще вина. — Это Йейтс. Старый хер жил за пятьсот лет до того, как Лениста в первый раз потянула свою мамашу за железную сиську.
— Послушайте, — сказала Ламия, — ну расскажем мы друг другу свои истории, и что? Встретившись со Шрайком, мы просто сообщим ему свои желания. Одно он выполнит, остальные паломники умрут. Правильно?
— Так гласит легенда, — подтвердил Вайнтрауб.
— Шрайк не легенда, — отозвался Кассад. — И стальное дерево — тоже.
— Тогда что толку надоедать друг другу историями? — спросила Ламия Брон, отправляя в рот последнее шоколадное пирожное.
Вайнтрауб тихонько погладил по голове спящую дочку.
— Мы живем в странные времена, — задумчиво произнес он. — Поскольку мы входим в ту ничтожную долю процента граждан Гегемонии, которые предпочитают путешествовать не по Сети, а в открытом космосе, от звезды к звезде, мы представляем самые разные эпохи нашего недавнего прошлого. Мне, например, шестьдесят восемь стандартных лет, но из-за сдвигов во времени, вызванных моими путешествиями, я мог бы растянуть эти трижды двадцать и восемь лет на целый век истории Гегемонии, если не больше.
— И что? — спросила Ламия.
Вайнтрауб взмахнул рукой, адресуя свои слова всем сидящим за столом:
— Каждого из нас можно уподобить и острову в океане времени, и самому этому бескрайнему океану. Или, говоря не столь высокопарно, каждый из нас, возможно, держит в руках недостающий кусочек головоломки, которую еще никому не удавалось сложить с тех пор, как человек высадился на Гиперионе. — Вайнтрауб почесал нос и продолжил: — Это тайна, а разгадывать тайны, откровенно говоря, я люблю больше всего на свете и готов посвятить этому, быть может, последнюю неделю своей жизни. Если кого-нибудь из нас вдруг осенит — прекрасно. А если нет — что ж, будем решать задачу и получать удовольствие от самого процесса.
— Согласен, — сказал Хет Мастин без тени волнения в голосе. — Раньше мне это не приходило в голову, но теперь я вижу всю мудрость вашего решения: нам необходимо рассказать свои истории, прежде чем мы встретимся со Шрайком.
— А если кто-нибудь солжет? — быстро спросила Ламия Брон.
— Ну и что? — ухмыльнулся Мартин Силен. — В этом-то и вся прелесть.
— Давайте проголосуем, — предложил Консул, вспомнив предупреждение Мейны Гладстон. Нельзя ли вычислить агента Бродяг, сопоставив истории? Консул тут же улыбнулся своим мыслям — агент не настолько глуп.
— Вы, видимо, решили, что у нас тут парламент? — В голосе полковника прозвучала ирония.
— А как же иначе, — ответил Консул. — У каждого из нас — своя цель, но идти к Шрайку мы должны вместе. Нам нужны какие-то механизмы принятия решений.
— Мы могли бы выбрать начальника, — предложил Кассад.
— Да ну вас в жопу с такими порядками, — благодушно ответил поэт. Остальные согласно закивали.
— Хорошо, — сказал Консул. — Итак, господин Вайнтрауб предложил нам рассказать о наших связях с Гиперионом. Голосуем за его предложение.
— Все или ничего, — добавил Хет Мастин. — Либо рассказывают все, либо никто. Мы будем придерживаться воли большинства.
— Договорились. — Консул внезапно проникся любопытством к чужим историям и в равной мере уверенностью в том, что никогда не расскажет своей собственной. — Кто за то, чтобы рассказывать?
— Я, — сказал Сол Вайнтрауб.
— Я — тоже «за», — сказал Хет Мастин.
— Не то слово! — воскликнул Мартин Силен. — Ради этакого балагана я бы отказался от целого месяца оргазмической бани на Шоте.
— Я также голосую «за», — сказал Консул и сам себе удивился. — Кто против?
— Я против, — сказал отец Хойт, но голос его звучал нерешительно.
— Ерунда все это, — небрежно бросила Ламия Брон.
Консул повернулся к Кассаду:
— А вы, полковник?
Федман Кассад пожал плечами.
— Итак, четыре голоса «за», два — «против», один воздержался, — подвел итоги Консул. — Большинство «за». Кто начнет?
Все умолкли. Наконец Мартин Силен поднял глаза от небольшого блокнота, в котором что-то писал, вырвал листок и разорвал его на несколько полосок.
— Здесь числа от одного до семи, — сказал он. — Почему бы нам не бросить жребий?
— Это как-то по-детски, — недовольно заметила Ламия.
— А я и есть дитя, — ответил Силен, улыбаясь как сатир. — Посол, — он повернулся к Консулу, — не могу ли я позаимствовать эту позолоченную наволочку, которую вы носите вместо шляпы?
Консул передал свою треуголку, туда опустили сложенные полоски бумаги, и она пошла по кругу. Сол Вайнтрауб тянул первым, Мартин Силен последним.
Удостоверившись, что никто не подсматривает, Консул развернул свою полоску. Его номер был седьмым. Напряжение спало — так выходит воздух из туго надутого воздушного шарика. «Вполне вероятно, — подумал он, — прежде чем придет мой черед рассказывать, что-нибудь стрясется. Допустим, война. Тогда наши байки станут вообще никому не нужны — разве что чисто теоретически… Или же мы сами потеряем к ним интерес. В общем, кто-нибудь да помрет: или король, или лошадь. В крайнем случае можно научить лошадь разговаривать. А вот пить больше не надо».
— Кто первый? — спросил Мартин Силен.
В наступившей тишине был слышен только легкий шелест листвы.
— Я, — произнес отец Хойт. Лицо священника выражало то смирение перед болью, которое Консул не раз видел у своих неизлечимо больных друзей. Хойт показал свою полоску бумаги с четкой единицей.
— Хорошо, — сказал Силен. — Начинайте.
— Как, прямо сейчас? — растерялся священник.
— Почему бы нет? — отозвался поэт. Силен прикончил по меньшей мере две бутылки вина, но проявилось это пока лишь в том, что щеки его, и без того густо-розовые, стали совсем пунцовыми, а вздернутые брови загнулись уж совершенно демоническим образом. — До посадки еще есть время, — добавил он, — и я предпочел бы сперва благополучно сесть и оказаться в обществе мирных туземцев, а уж потом отсыпаться после фуги.
— В том, что говорит наш друг, есть резон, — негромко сказал Сол Вайнтрауб. — Если уж нам предстоит рассказывать свои истории, послеобеденный час — самое подходящее время.
Отец Хойт вздохнул и поднялся со стула.
— Я сейчас, — сказал он и вышел.
Прошло несколько минут. Потом Ламия Брон, ни к кому не обращаясь, спросила:
— У него что, нервишки расшалились?
— Нет, — ответил Ленар Хойт, внезапно появившийся из темноты со стороны деревянного эскалатора (который служил тут чем-то вроде парадной лестницы). — Просто мне потребовалось вот это. — Он бросил на стол два грязных блокнота и сел на свое место.
— А по написанному нечестно, — дурашливо произнес Силен. — Если ты, о величайший маг, взялся травить байки, делай это сам!
— Заткнитесь, черт вас возьми! — Хойт провел рукой по лицу и схватился за грудь. Второй раз за вечер Консул подумал, что священник неизлечимо болен.
— Простите меня, — успокоившись, заговорил отец Хойт. — Но, чтобы рассказать вам свою… свою историю, я должен коснуться чужой. Это дневник человека, из-за которого я когда-то попал на Гиперион и вот теперь… теперь возвращаюсь. — Хойт замолчал и глубоко вздохнул.
Консул потрогал блокноты. Они были запачканы сажей, а местами даже обгорели, словно их вытащили из огня.
— У вашего друга старомодные привычки, — сказал он, — если он все еще пишет от руки.
— Да, — подтвердил Хойт. — Если вы готовы слушать, я начну.
Все присутствующие закивали головами в знак согласия. Обеденная платформа мерно подрагивала: казалось, это бьется сердце километрового «дерева», которое несло их вперед, сквозь холод космической ночи. Сол Вайнтрауб взял спящую дочку на руки и осторожно уложил ее на мягкий матрасик, расстеленный рядом с ним на полу. Сняв свой комлог, он поставил его возле матрасика и набрал на диске программу белого шума. Малышка, которой была всего неделя от роду, не просыпаясь, перевернулась на животик.
Консул запрокинул голову и отыскал сине-зеленую звезду — Гиперион. Звезда вырастала в размерах буквально на глазах. Хет Мастин надвинул капюшон поглубже, полностью спрятав лицо в тени. Сол Вайнтрауб закурил свою трубку. Остальные разобрали принесенные клонами чашечки с кофе и поудобнее устроились на стульях.
Мартин Силен, казалось, был заинтригован больше других и проявлял явные признаки нетерпения. Наклонившись вперед, он прошептал:
«Коль рок велит мне, — он сказал, — начать, То помоги мне, пресвятая мать. Не будем прерывать, друзья, дорогу. Держитесь ближе, я же понемногу Рассказывать вам буду той порой». Мы тронулись, и вот рассказ он свой Неторопливо начал и смиренно, С веселостью и важностью почтенной.История священника: Человек, который искал Бога
— Порой лишь шаг отделяет пылкую веру от вероотступничества, — так начал свое повествование священник. Впоследствии, когда Консул решил надиктовать этот рассказ на комлог, он всплыл в его памяти как единое целое. В нем не было никаких «швов» — не считая, естественно, пауз, когда рассказчик переводил дыхание, оговорок да неизбежных «это значит» и «так сказать», которые всегда сопровождают живую человеческую речь.
Ленар Хойт был тогда молодым священником, только что посвященным в сан. Он родился и вырос на католическом Пасеме и теперь впервые покидал родную планету: ему поручили сопровождать отца Поля Дюре, почтенного члена ордена иезуитов, в тихое изгнание на колониальную планету Гиперион.
В другое время отец Поль Дюре, несомненно, стал бы епископом, а то и папой. Это был высокий, худой человек с внешностью аскета. Короткие седые волосы оставляли открытым высокий благородный лоб, а глаза, видевшие слишком много страданий, смотрели на мир с глубокой грустью. Поль Дюре был последователем Святого Тейяра,[6] а также археологом, этнологом и видным иезуитским теологом. Хотя католическая церковь пребывала тогда в глубоком упадке, превратившись, по сути, в некий полузабытый культ, который терпели просто потому, что он утратил всякое значение и стоял в стороне от основного потока жизни Гегемонии, орден иезуитов не изменил своего кредо. И отец Дюре был убежден, что святая римско-католическая апостольская церковь остается последней и самой верной надеждой человечества на бессмертие.
Еще мальчишкой Ленар Хойт боготворил отца Дюре, иногда наведывавшегося к ним в церковную школу. Случалось им встречаться и позже, во время редких посещений будущим семинаристом Нового Ватикана. В те годы, когда Хойт учился в семинарии, Дюре руководил важными раскопками, которые велись на средства церкви на Армагасте, соседней планете. Он вернулся через несколько недель после того, как Хойта посвятили в сан, и над его головой сразу стали сгущаться тучи. Никто, за исключением высших иерархов Нового Ватикана, не знал точно, что произошло. Поговаривали об отлучении и даже об инквизиционном процессе (хотя Святая Инквизиция бездействовала уже более четырех веков — со времен смуты, начавшейся после гибели Земли).
Дело закончилось всего-навсего тем, что отца Дюре по собственной его просьбе перевели на Гиперион, известный большинству только со странным культом Шрайка, а отцу Хойту поручили сопровождать его. То была неблагодарная роль — ученик, конвоир и шпион в одном лице. Возможность увидеть новый мир могла бы в известной степени скомпенсировать тяготы поручения, но даже с этим Хойту не повезло: он должен был проводить отца Дюре до космопорта Гипериона и сразу вернуться в Сеть тем же спин-звездолетом. По воле епархиальной канцелярии Ленару Хойту предстояло провести двадцать месяцев в криогенной фуге плюс несколько недель субсветового полета и возвратиться потом на Пасем, где за это время пройдет восемь лет; бывшие однокашники оставят его далеко позади: одни сделают карьеру в Ватикане, другие добьются миссионерских постов.
Ленар Хойт, связанный обетом послушания и приученный к дисциплине, безропотно принял поручение.
Лететь им предстояло на древнем спин-звездолете «Олег», ржавом корыте без искусственной гравитации, иллюминаторов и прогулочных палуб. Чтобы удержать пассажиров в гамаках и на фуга-ложах, фантопликаторы подключили прямо к информационной сети. Пробудившись из фуги, пассажиры (в большинстве своем рабочие из других миров, небогатые туристы да еще несколько потенциальных самоубийц — фанатиков культа Шрайка) спали в тех же самых гамаках, ели безвкусную рециркулированную пищу в общих столовых, а все остальное время проводили в борьбе с космической болезнью и скукой. После того как корабль вышел из спин-режима, до Гипериона оставалось двенадцать дней полета по инерции.
За время своего вынужденного соседства с отцом Дюре отец Хойт мало что узнал от него, а о событиях на Армагасте, послуживших причиной изгнания, вообще ничего. Между тем молодой священник запрограммировал свой имплантированный комлог на поиск любой информации о Гиперионе, и к тому времени, когда до посадки оставалось всего три дня, отец Хойт уже считал себя чем-то вроде эксперта по этому миру.
— Существуют записи о посещении Гипериона католиками, но я не нашел никаких упоминаний о тамошней епархии, — сказал Хойт как-то вечером, когда они беседовали, лежа в гамаках, точнее, паря в невесомости. (Почти все их попутчики тем временем созерцали эротические видения, созданные фантопликаторами.) — Полагаю, вы направляетесь туда с миссионерской целью?
— Вовсе нет, — ответил отец Дюре. — Добрые люди Гипериона никогда не навязывали мне свои религиозные взгляды, так вправе ли я задевать их чувства, пытаясь обратить их в свою веру? Мой план таков: я надеюсь достичь южного континента, Аквилы, затем отправлюсь из города Порт-Романтик в центральную его часть, но ни в коем случае не как миссионер. Я собираюсь основать в районе Разлома этнографическую станцию.
— Этнографическую станцию? — удивленно повторил отец Хойт и закрыл глаза, чтобы связаться с комлогом. — Эта часть плато Пиньон необитаема, отец мой. Огненные леса делают ее абсолютно недоступной большую часть года.
Отец Дюре улыбнулся. Импланта у него не было, а свой старенький комлог он так и не достал из багажа.
— Не такая уж она недоступная, — негромко произнес он. — И, кстати, вполне обитаемая. Там живут бикура.
— Бикура, — повторил отец Хойт и закрыл глаза. — Но ведь это всего лишь легенда, — сказал он наконец.
— Гм, — промычал в ответ отец Дюре. — Поищите-ка в перекрестном указателе ссылку на Мамета Спедлинга.
Отец Хойт снова закрыл глаза. По общему указателю он установил, что Мамет Спедлинг был независимым исследователем, работавшим на Шеклтоновский институт Малого Возрождения. Почти полтора стандартных века назад он представил в институт краткое сообщение о своем путешествии в глубь материка от только что основанного в те годы Порт-Романтика. Он преодолел болота (впоследствии их осушили под фибропластовые плантации), а затем, выбрав редкий период затишья, проскочил через огненные леса и забрался достаточно высоко на плато Пиньон, где исследовал Разлом и живущее вблизи него небольшое племя, по ряду признаков напоминавшее легендарных бикура.
В кратких заметках Спедлинга высказывалась гипотеза о том, что эти люди были потомками колонистов с корабля-«ковчега», пропавшего тремя веками ранее. Судя по его описаниям, это племя являлось классическим образчиком культурного регресса и вырождения в условиях полной изоляции. Спедлинг не выбирал выражений: «…достаточно двух дней, чтобы со всей очевидностью понять: бикура настолько глупы, пассивны и неинтересны, что терять время на их детальное изучение просто бессмысленно». Тем временем огненные леса начали проявлять признаки активности, и Спедлинг, не теряя времени, поспешил вернуться к побережью. Он провел в пути три месяца и потерял в «спокойном» лесу четырех туземных носильщиков, все свое оборудование, записи и левую руку.
— Боже мой! — воскликнул отец Хойт, приподнимаясь в гамаке. — Но почему именно бикура?
— А почему бы и нет? — последовала реплика отца Дюре. — О них ведь почти ничего не известно.
— Почти ничего не известно о большей части Гипериона, — запальчиво возразил молодой священник. — Разве вы не слышали о Гробницах Времени и легендарном Шрайке? Вот это загадка!
— Совершенно верно, — отозвался отец Дюре. — Ленар, сколько работ посвящено Гробницам и сущности Шрайка? Сотни? Тысячи? — Пожилой священник набил трубку и закурил (в условиях невесомости это требовало немалых усилий). — Кроме того, — добавил он, — даже если Шрайк и существует на самом деле, к роду человеческому он уж точно не принадлежит. А меня интересуют люди.
— Да, — неохотно согласился Хойт, роясь в своем умственном арсенале в поисках весомых аргументов, — но ведь тайна бикура так незначительна… Самое большее, что вы обнаружите, это несколько десятков туземцев, живущих в районе, закрытом дымом и облаками и столь… незначительном, что даже картографические спутники их проглядели. Зачем они вам, если на Гиперионе есть настоящие тайны! Возьмите хоть лабиринт! — Хойт оживился. — Знаете ли вы, отец мой, что на Гиперионе находится один из девяти известных лабиринтов?
— Конечно, — ответил Дюре. Облако табачного дыма над его головой медленно растекалось ручейками. — Но у лабиринтов, Ленар, есть поклонники и исследователи по всей Сети, и на всех девяти планетах возраст туннелей превышает полмиллиона стандартных лет. Я полагаю, он даже ближе к трем четвертям миллиона. Их секреты никуда не денутся. А сколько еще просуществует культура бикура, прежде чем будет поглощена современным колониальным обществом и растворится в нем или, что более вероятно, просто погибнет?
Хойт пожал плечами:
— Возможно, бикура уже исчезли. С тех пор как Спедлинг обнаружил их, прошло слишком много времени. Новых сообщений не поступало. Если они как племя перестали существовать, все окажется напрасным: потраченное время, труд, лишения в пути…
— Вот именно, — только и ответил отец Поль Дюре, продолжая попыхивать своей трубкой.
И лишь за час до посадки, уже на борту челнока, отец Хойт смог на короткое мгновение заглянуть в душу своего спутника. Лазурно-зеленый серп Гипериона медленно приближался, закрывая небо, когда старый челнок внезапно врезался в верхние слои атмосферы и бушующее пламя затопило иллюминаторы; несколько минут они летели над темными грудами облаков и освещенным звездами морем, а затем впереди возникла и, словно радужная приливная волна, бесшумно понеслась им навстречу сверкающая полоса рассвета.
— Чудесное зрелище, — прошептал Поль Дюре, скорее самому себе, чем своему молодому спутнику. — Чудесное. В такие моменты я чувствую… смутно ощущаю… какой это было жертвой для Сына Божьего — спуститься с небес, чтобы стать Сыном Человеческим.
Хойт хотел заговорить с ним, но отец Дюре продолжал смотреть в иллюминатор, погруженный в свои мысли. Десять минут спустя они совершили посадку в порту Китса, и отец Дюре закружился в вихре таможенных и багажных забот. А еще через двадцать минут вконец разочарованный Ленар Хойт снова был в космосе, возвращаясь на борт «Олега».
— Пять недель спустя по моему личному времени я вернулся на Пасем, — сказал отец Хойт. — Я потерял восемь лет, но почему-то переживал эту потерю куда острее других. Сразу же после возвращения епископ сообщил мне, что за все четыре года пребывания Поля Дюре на Гиперионе от него не поступило никаких вестей. Новый Ватикан истратил целое состояние, посылая запросы по мультилинии, однако ни колониальные власти, ни консульство в Китсе так и не смогли найти пропавшего священника.
Хойт остановился, чтобы сделать глоток воды, и Консул, воспользовавшись этим, сказал:
— Я помню эти поиски. Я, конечно, сам никогда не встречался с отцом Дюре, но мы делали все возможное, чтобы найти его. Тео, мой помощник, несколько лет занимался делом пропавшего священника, потратил массу энергии, но никаких следов его не обнаружил. Разве что несколько противоречивых свидетельств его пребывания в Порт-Романтике. Причем его видели в первые недели после прибытия, за несколько лет до того, как мы начали поиски. Там были сотни плантаций, связи, естественно, никакой, поскольку местные жители выращивали не только фибропласт, но и «травку». Похоже, мы так и не добрались до людей, которые его встречали.
По крайней мере, когда я уходил со своего поста, дело отца Дюре еще не закрыли.
Отец Хойт кивнул, подтверждая его слова.
— Я совершил посадку в Китсе через месяц после того, как вы сдали дела. Епископ был удивлен, когда я изъявил желание вернуться. Сам Его Святейшество дал мне аудиенцию. Я пробыл на Гиперионе меньше семи тамошних месяцев и раскрыл тайну судьбы отца Дюре. — Хойт указал на два грязных блокнота в кожаных переплетах, лежавших на столе. — Чтобы закончить свою историю, — сказал он хриплым голосом, — я должен зачитать выдержки из этих записей.
«Иггдрасиль» развернулся, и массивный ствол «дерева» загородил солнце. Вследствие этого маневра обеденная платформа и лиственный навес над нею должны были погрузиться во мрак, но вместо тысяч звезд, которые обычно видны с поверхности планеты, над головами собравшихся, вокруг них и даже внизу засверкали миллионы солнц. Теперь стал отчетливо виден и сам Гиперион — он несся на них, подобно смертоносному ядру.
— Читайте, — сказал Мартин Силен.
Из дневников отца Поля Дюре
День 1-й
Итак, мое изгнание началось.
Я не вполне представляю себе, как датировать мои новый дневник. По монастырскому календарю Пасема сегодня семнадцатый день месяца Фомы Года Господня 2732. По стандарту Гегемонии — 12 октября 582 года п.к. (после катастрофы). По местному гиперионовскому счету — по крайней мере так мне сообщил маленький сморщенный клерк в старом отеле, где я остановился, — двадцать третий день Ликия (последнего из семи их сорокадневных месяцев) 426 года кораблекрушения, или сто двадцать восьмого года правления Печального Короля Билли, который не правит уже по меньшей мере сто местных лет.
К черту! Я назову его Днем Первым моего изгнания.
Тяжелый день. (Странно: я чувствую себя утомленным после нескольких месяцев сна, но, говорят, это обычное ощущение после фуги. Никаких воспоминаний, только усталость во всем теле. Не помню, чтобы я в молодости так уставал от путешествий.)
Я очень огорчен, что мне не удалось поближе познакомиться с молодым Хойтом. Он показался мне человеком достойным и твердо верующим — горящий взор и ни шагу от катехизиса. Молодые священники, такие, как он, не виноваты, что Церковь переживает свои последние дни. В силу своей счастливой наивности он просто не может ничего сделать, чтобы остановить это сползание в небытие (на которое, видимо, обречена наша Церковь).
Ну что ж, я тоже не смог.
Когда мы шли на посадку, новый мир предстал передо мною во всей своей красоте. Великолепное зрелище! Правда, из трех континентов я увидел лишь два — Экву и Аквилу. Третий — Урса — находится в другом полушарии.
Посадка в Китсе, несколько часов на таможне (пройти которую мне удалось не без труда), затем поездка в город. Путаные воспоминания: горный хребет на севере, окутанный голубой дымкой, предгорья, поросшие лесом с желто-оранжевой листвою, бледное голубовато-зеленое небо и солнце — очень маленькое, но куда более яркое, чем на Пасеме. Цвета тут на расстоянии кажутся ярче, но стоит подойти поближе — и все расплывается, словно на картине пуантилиста. Гигантская статуя Печального Короля Билли, о которой я слышал так много, меня разочаровала. Когда смотришь на нее со стороны шоссе, она выглядит сырой и словно бы недоделанной. Она вовсе не похожа на то царственное изваяние, которое я ожидал увидеть: скорее это какой-то набросок, скетч, наспех выдолбленный в темной скале над ветшающим полумиллионным городом, хотя покойный король — поэт и неврастеник — наверняка по достоинству оценил бы это свое изображение.
Город можно условно разделить на две части: огромный лабиринт трущоб и пивных, который местные жители называют Джектауном, и собственно Китс, именуемый также Старым городом (хотя ему не более четырех веков) — стерильно чистый, весь из полированного камня. Надо будет туда наведаться.
Я собирался провести в Китсе месяц, но мне уже не терпится двинуться дальше. О, монсеньор Эдуард, если бы вы могли видеть меня сейчас! Я наказан, но не раскаялся. Я более одинок, чем когда-либо прежде, но странное дело — мое новое изгнание даже доставляет мне удовлетворение. Если за неумеренность (вызванную лишь ревностью к вере) полагается изгнание в седьмой круг ада, то место выбрано хорошо. Я мог бы забыть о придуманной мною самим миссии к далеким бикура (существуют ли они в действительности? сейчас мне кажется, что нет) и провести отпущенные мне годы в этой провинциальной столице забытого Богом мира, подобного тихой речной заводи. Мое изгнание было бы столь же полным.
О, Эдуард, мальчиками мы росли вместе, вместе учились (хотя я никогда не мог сравниться с тобою ни в научных успехах, ни в приверженности догме), ныне вместе стареем. Но теперь ты на четыре года меня мудрее, а я все еще остаюсь тем упрямым непослушным мальчишкой, которого ты помнишь. Я молюсь, чтобы ты был жив и здоров и молился за меня.
Я устал. Пора спать. Завтра поброжу по городу, на славу поем, а заодно договорюсь о поездке в Аквилу и дальше на юг.
День 5-й
В Китсе есть собор. Вернее, был. Он простоял, никому не нужный, по меньшей мере два стандартных века и теперь лежит в руинах. Центральный неф открыт голубовато-зеленым небесам, одна из западных башен недостроена, другая представляет собою какой-то скелет — куча камней и проржавевшие прутья арматуры.
Я наткнулся на него, когда, заблудившись, бродил вдоль берега реки Хулай, в тех почти безлюдных местах, где Старый город переходит в Джектаун. Высокие, нагороженные безо всякого плана складские здания полностью закрывали разрушенные башни собора, пока наконец я не свернул в узкий тупик. Там я и увидел остов покинутого храма: молельный зал, наполовину обратившийся в руины, обрушился в реку, хотя на фасаде еще можно различить остатки барельефов — скорбные апокалиптические фигуры, память об эпохе Хиджры.
Сквозь тени решеток и упавших блоков я прошел в неф. В пасемской епархии ни разу не упомянули, что на Гиперионе существовала католическая община. Тем более — собор. Кажется почти невероятным, чтобы четыре столетия назад рассеявшиеся по планете колонисты с «ковчега» могли сохранить столь многочисленную общину, что ей даже потребовался свой епископ. Не говоря уж о самом храме. Тем не менее вот он. Был.
Я заглянул в ризницу. Гипсовая пыль висела в воздухе, как ладан, два солнечных луча, проникавшие сверху через узкие окна, прорезали эту пылевую завесу. Я вступил в более широкое пятно солнечного света и приблизился к алтарю, ничем не украшенному, за исключением осколков и трещин (ибо каменная кладка давно уже разрушилась). Большой крест, когда-то висевший на восточной стене позади алтаря, лежал теперь среди камней и осколков кирпича. Не сознавая, что делаю, я прошел к алтарю, воздел руки и начал прославлять пресуществление хлеба и вина в тело и кровь Господню. В моих действиях не было ничего мелодраматического или, Боже упаси, пародийного, все это я проделывал совершенно искренне и без задних мыслей. То была бессознательная реакция священника, который почти ежедневно в течение сорока шести лет служил мессу и которому, вероятно, никогда больше не приведется участвовать в этом умиротворяющем ритуале.
И тут я с удивлением обнаружил, что у меня есть прихожане. Старая женщина стояла на коленях в четвертом ряду. Ее черная одежда и такой же платок почти сливались с царившим там полумраком, мне был виден лишь бледный овал ее старческого лица. И лицо это, как бы отделенное от тела, плыло в темноте. Растерявшись, я замолчал, а она все смотрела на меня, но в ее взгляде было что-то очень странное: даже на таком расстоянии я почти сразу понял, что женщина слепа. С минуту я молча стоял, щурясь в пыльном потоке света, затопившем алтарь, и пытаясь истолковать это призрачное видение. И вообще — как я попал сюда? Что делаю?
Когда я вновь обрел дар речи и обратился к слепой (слова эхом отдавались в пустом храме), она уже уходила. Я слышал, как ее ноги шаркают по каменному полу. Затем раздался скрежет, и краткая вспышка света выхватила из темноты ее профиль справа от алтаря. Я прикрыл глаза рукой, защищаясь от слепящих солнечных лучей, и начал пробираться через обломки туда, где некогда находились ограждавшие алтарь перила. Я снова позвал ее, постарался успокоить. Кажется, я повторял, что не нужно меня бояться (хотя от страха у меня самого по спине бегали мурашки). Шел я довольно быстро, однако, достигнув той части нефа, где еще оставался кусочек крыши, все же потерял слепую из виду. Небольшая дверь вела в полуразрушенный молельный зал и дальше, на берег реки. Старухи нигде не было. Я вернулся в темный храм. Признаться, я был бы рад счесть ее игрою своего воображения, сном наяву после многих месяцев вынужденной криогенной бессонницы, если бы не одно материальное доказательство ее существования. В прохладной темноте теплился огонек зажженной свечи: маленький язычок ее пламени дрожал, колеблемый незримыми потоками воздуха.
Я устал от этого города. Я устал от его языческой претенциозности и лживых легенд. Гиперион — это мир поэтов, но как мало в нем поэзии. Сам Китс — смесь фальшивого, мишурного классицизма и бездумной энергии разрастающегося города. Здесь три общины дзен-гностиков. Над городом возвышаются четыре минарета. Но подлинные места всенародного поклонения — бесчисленные бардаки и пивные да огромные рынки, где торгуют привезенным с юга фибропластом. Впрочем, есть еще святилища Шрайка. Там потерянные души пытаются скрыть свою самоубийственную безнадежность за ширмой поверхностного мистицизма. Вся планета провоняла этим мистицизмом без откровения.
К черту!
Завтра я отправляюсь на юг. В этом абсурдном мире есть ским-меры и прочие летательные аппараты, но простой человек может перебраться с одного мерзопакостного континента-острова на другой только морем (что, как мне говорили, занимает целую вечность) или же на огромном пассажирском дирижабле, который отправляется из Китса раз в неделю.
Завтра рано утром я улетаю на дирижабле.
День 10-й
Животные.
Первая исследовательская группа на этой планете, похоже, зациклилась на животных. Лошадь, Медведь, Орел.[7] В течение трех дней мы ползли вдоль восточного побережья Эквы над изрезанной береговой линией, носящей название Грива. Последний день мы летели над Срединным морем — кстати, не таким уж большим. Сегодня мы прибыли на остров Кошачий риф и разгружаемся в Феликсе — это «столица» острова. Судя по тому, что я смог разглядеть с прогулочной палубы и причальной башни, жителей здесь не более пяти тысяч. Город представляет собой хаотичное скопление лачуг и бараков.
Затем наш корабль пролетит (вернее проползет) еще восемьсот километров до цепочки небольших островов, носящих название Девять Хвостов, а затем мы бесстрашно ринемся через экватор и пройдем без посадки семьсот километров над открытым морем. Следующая стоянка будет на северо-западном побережье Аквилы, в местечке, именуемом Клюв.
Животные…
Называть это средство передвижения пассажирским дирижаблем — лингвистический трюк. Это огромное подъемное устройство с грузовым трюмом, в котором поместится, наверное, все население Феликса. Да еще останется место для нескольких тысяч вязанок фибропласта. Мы, пассажиры, наименее важная часть груза, и потому устраиваемся как можем. Я поставил свою переносную койку на корме рядом с грузовым тамбуром. Из своего багажа и трех огромных ящиков с оборудованием экспедиции я соорудил себе довольно уютный уголок. Рядом со мною обосновалась семья из восьми человек — работники с плантаций. Они возвращаются из Китса, куда каждые два года ездят за покупками. Звуки и запахи, исходящие от их свиней, меня не очень смущают. Равно как и визг хомяков, которых здесь употребляют в пищу. Но постоянные крики несчастного, совершенно задуревшего петуха ночами становятся просто невыносимыми.
Животные!
День 11-й
Обедал сегодня вечером в салоне над прогулочной палубой с гражданином Иеремией Денцелем, профессором небольшого колледжа в Эндимионе. Сейчас он на пенсии. Профессор сообщил мне, что первая исследовательская экспедиция на Гиперион вовсе не зациклилась на животных; официальные названия тех континентов вовсе не Эква, Урса и Аквила, но Крейтон, Олленсен и Лопес. Эти названия даны в честь трех средней руки чиновников Геодезической Службы. Нет, все-таки животные подходят для этой цели куда лучше.
Пообедав, я усаживаюсь в одиночестве на внешней прогулочной палубе и любуюсь заходом солнца. Спереди палубу защищают грузовые модули, так что ветер тут чуть сильнее обычного морского бриза. Надо мною — выпуклый корпус дирижабля, раскрашенный в оранжевый и зеленый цвета. Мы летим между островами; море здесь лазурное с зеленоватыми переливами. У неба та же цветовая гамма, но в обратном соотношении. Редкие перистые облака ловят последние лучи крохотного солнца и пылают кораллово-красным огнем. Полная тишина — если не считать тихого жужжания электротурбин. Отсюда, с трехсотметровой высоты, я различаю в воде силуэт какой-то твари, похожей на гигантскую манту, она плывет следом за дирижаблем. Секунду назад странное существо (насекомое? птица?), окраской и размерами напоминающее колибри, но с тонкими полупрозрачными крыльями метрового размаха, замерло метрах в пяти над моей головой, обследовало меня, а затем, сложив крылья, ринулось в море.
Эдуард, сегодня вечером я чувствую себя особенно одиноким. Мне было бы легче, если бы я знал, что ты жив, как и прежде, копаешься в своем садике, а вечерами пишешь в кабинете. Я думал, мои путешествия разбудят во мне былую веру в концепцию Бога, высказанную Святым Тейяром. У него все слито воедино: Христос Эволюции, Личное и Всеобщее, En Haut и En Avant. Однако вера эта во мне пока не воскресла и, боюсь, вряд ли воскреснет.
Становится темно. Видимо, я старею. Порой я чувствую… нечто вроде угрызений совести… за то, что подтасовал тогда результаты раскопок на Армагасте. Но Эдуард, Ваше Преосвященство, по ряду признаков там действительно существовала культура христианского типа. В шестистах световых годах от Старой Земли и за три тысячи лет до того, как человек покинул пределы родного мира…
Так ли уж тяжек мой грех — истолковать эти двусмысленные свидетельства как знак того, что христианство возродится еще при нашей жизни?
Да, грех был. Но грех мой не в том, что я подтасовал данные. Я возомнил, что могу спасти христианство. Церковь гибнет, Эдуард. И не только наша возлюбленная ветвь Священного Древа, но все его побеги, все церкви и секты. Тело Христово умирает так же неотвратимо, как и мое несчастное, отслужившее свой срок тело. Ты и я — мы всегда знали об этом. Мы знали об этом на Армагасте, где кроваво-красное солнце освещало только прах и смерть. Мы знали об этом еще в колледже, тем прохладным зеленым летом, когда приносили наши первые обеты. И на тихих лужайках в Вильфраншсюр-Соне, где играли в детстве. Мы знаем об этом сейчас.
День догорел; я пишу при слабом свете, падающем из окон салона на верхней палубе. Звезды складываются в незнакомые созвездия. Срединное море светится по ночам болезненно-зеленым фосфорическим светом. На горизонте к юго-востоку виднеется какая-то темная масса. То ли надвигается шторм, то ли это просто следующий остров — третий из девяти «хвостов». (В какой мифологии фигурирует кошка с девятью хвостами? Я не знаю ни одной.)
Я молюсь Богу, чтобы это был остров, а не шторм. Молюсь ради той птицы (птицы ли?), которую видел сегодня.
День 28-й
Я прожил в Порт-Романтике восемь дней и видел за это время трех покойников.
Первый — труп на пляже; раздутый, мучнисто-белый, он лишь отдаленно напоминал человека. Его выбросило на плоский илистый берег за причальной башней в первый же вечер моего пребывания в городе. Дети кидали в него камнями.
Второй мертвец… его вытащили из обгоревших развалин газовой мастерской в бедном районе города недалеко от моей гостиницы. Труп обгорел до неузнаваемости и весь сморщился от жара. Руки его были плотно прижаты к корпусу, а ноги полусогнуты, как у боксера-профессионала. Вечная поза обгоревших. Целый день я ничего не ел и должен со стыдом признаться — когда в воздухе запахло обгорелой плотью, меня едва не стошнило.
Третий был убит буквально в трех метрах от меня. Я только что вышел из гостиницы и углубился в лабиринт покрытых грязью мостков, которые в этом жалком городишке заменяют тротуары, как вдруг раздались выстрелы. Человек, шедший в нескольких шагах впереди меня, покачнулся — мне даже показалось, что он просто оступился, — затем обернулся ко мне с выражением недоумения на лице и рухнул боком в грязь.
В него стреляли три раза. Две пули угодили в грудь, а третья — в лицо, как раз под левым глазом. Невероятно, но когда я подбежал к нему, он все еще дышал. Тогда я, разумеется, и не думал об этом. Достав из сумки епитрахиль и флакон со святой водой (сколько времени я носил его с собой без дела?), я приступил к соборованию. В толпе никто не возражал. Раненый шевельнулся, захрипел, словно собираясь что-то сказать, — и скончался. Толпа рассеялась прежде, чем унесли тело.
Человек этот был средних лет, с волосами песочного цвета и слегка полноватый. Никаких документов, удостоверяющих личность, у него не оказалось. Не нашлось даже универсальной карточки или комлога. В кармане обнаружили только шесть серебряных монет.
Сам не понимаю почему, но я решил провести рядом с телом весь остаток дня. Доктор, маленький циничный человечек, позволил мне присутствовать при вскрытии. Подозреваю, ему просто хотелось поговорить.
— Вот чего она стоит, — сказал он, вскрывая живот бедняги. Брюшная полость раскрылась, словно розовый ранец; доктор растягивал складки кожи и мускулы и закреплял их, как клапаны палатки.
— Кто это «она»? — спросил я.
— Жизнь, — ответил доктор, снимая кожу с лица трупа, как маску. — Его жизнь. Или ваша. Или моя. — Вокруг рваного отверстия над скулой бело-красные жгуты мышц уже посинели.
— Жизнь стоит большего, — возразил я.
Доктор оторвался от своего мрачного занятия и с улыбкой посмотрел на меня.
— В самом деле? — спросил он. — Ну-ка, ну-ка, и чего же она стоит? — Он поднял сердце несчастного, словно прикидывая на руке его вес. — На рынках Сети, может, и дали бы кое-что за этот товар. Там хватает таких, кто слишком беден, чтобы держать клонированные части тела про запас, но достаточно богат, чтобы умирать всего лишь из-за отсутствия подходящего сердца. Но здесь это просто требуха.
— Нет, это нечто большее, — возразил я, хотя и не был уверен в своей правоте. Я вспомнил похороны Его Святейшества Папы Урбана XV, которые проходили незадолго до моего отъезда с Пасема. Как было принято еще до Хиджры, тело не бальзамировали. Перед тем как положить покойного в простой деревянный гроб, его отнесли в преддверие главной базилики. Помогая Эдуарду и монсеньору Фрею облачать закостеневший труп, я обратил внимание на его кожу, пошедшую коричневыми пятнами, и провалившийся рот.
Доктор пожал плечами и закончил вскрытие. Затем последовали несложные формальности. Ничего подозрительного не обнаружили. Не было установлено мотивов убийства. Описание убитого отослали в Китс, а самого его похоронили на следующий день на кладбище для нищих, расположенном между заиленным побережьем и желтой сельвой.
Порт-Романтик представляет собой скопище сооружений из желтого плотинника, соединенных лабиринтами мостков и лесенок. Городские кварталы тянутся далеко в глубь заливаемых морем равнин, окружающих устье реки Кэнс. В том месте, где река впадает в залив Тоскахай, она разливается почти на два километра в ширину, но лишь некоторые из ее протоков судоходны. Грунт черпают днем и ночью. Каждую ночь я лежу без сна в моем дешевом номере и через открытое окно слышу глухие удары молотковых землечерпалок. Они стучат, словно сердце этого города, полное зла, а доносящийся издалека шорох прибоя — это его влажное дыхание. Ночью я прислушиваюсь к нему, и перед глазами у меня встает лицо того убитого.
Здешние компании отправляют людей и товары на большие плантации в глубине материка через аэропорт, расположенный на краю города. К сожалению, не хватает денег на взятку, а без взятки туда не пустят. Вернее, я мог бы попасть на борт скиммера сам, но мне нечем заплатить за провоз трех моих ящиков, а там все медицинское и научное оборудование. Все же у меня есть искушение попробовать. Моя экспедиция к бикура представляется мне сейчас как никогда абсурдной. Лишь необъяснимая потребность попасть к месту назначения и какая-то мазохистская решимость выполнить до конца все условия моего добровольного изгнания побуждают меня отправиться в путешествие вверх по реке.
Через два дня вверх по Кэнсу отправляется речное судно. Я взял билеты и завтра переправлю на борт свои ящики. С Порт-Романтиком я расстаюсь без сожаления.
День 41-й
«Импортик Жирандоль» медленно продвигается вверх по реке. Два дня назад мы отплыли от Пристани Мелтона и с тех пор не видели никаких признаков человека. Сельва сплошной стеной прижимается к речному берегу. Там, где река сужается до тридцати — сорока метров, деревья нависают над водой. Проникая сквозь густую листву пальм, вознесшихся на восемьдесят метров над коричневой гладью Кэнса, солнечный свет становится желтым и густым, как растопленное сливочное масло. Я сижу на ржавой жестяной крыше посреди баржи и вглядываюсь изо всех сил, чтобы не пропустить своей первой встречи с деревом тесла. Рядом сидит старик Кэди. Вот он перестал строгать свою деревяшку и плюнул за борт сквозь дырку в зубах. Старик надо мной смеется. «В этих местах нет огненных деревьев, — говорит он. — А если б они тут были, то уж наверняка лес бы выглядел совсем по-другому. Чтобы увидеть тесла, тебе надо ехать в Пиньоны. А мы, падре, еще не выбрались из дождевых лесов».
Дожди здесь начинаются каждый день после полудня. Впрочем, дождь — это мягко сказано. Каждый день на нас обрушивается настоящий потоп. Он закрывает берега и с оглушительным шумом колотит по жестяным крышам барж, замедляя наше и без того медленное продвижение настолько, что порою кажется — мы стоим на одном месте. Каждый день после полудня река буквально становится на дыбы. Такое впечатление, что судно должно взобраться на этот водопад, чтобы двигаться дальше.
«Жирандоль» — это древний плоскодонный буксир, к которому по бортам пришвартованы пять барж. Они напоминают оборванных детей, цепляющихся за юбку усталой матери. Три двухъярусные баржи используются для перевозки грузов. Товары, упакованные в тюки, предназначены для обмена или продажи на плантациях и в поселениях, разбросанных кое-где вдоль реки. Другие две представляют собой некое подобие жилья. На них местные жители путешествуют вверх по реке. (Я, впрочем, подозреваю, что некоторые из пассажиров живут на баржах постоянно.) В моем закутке имеется даже грязный матрас. Он лежит прямо на полу. По стенам ползают какие-то насекомые, похожие на ящериц.
После дождей все собираются на палубах и любуются вечерним туманом, который поднимается над остывающей рекой. Большую часть дня воздух очень горяч и полон мошкары. Старый Кэди сообщил мне, что я опоздал. По его словам, я не успею подняться через огненные леса, пока деревья тесла «спят». Ну, это мы еще увидим.
Сегодня вечером клочья тумана поднимаются словно души умерших, доселе спавшие под темной поверхностью реки. Последние послеполуденные облачка рассеиваются между верхушками деревьев, и в мир возвращаются краски. Желтая чаща начинает просвечивать шафраном, а затем — через коричневато-желтый — медленно становится темно-коричневой и погружается во тьму. На борту «Жирандоли» старый Кэди зажигает фонарики и светильники, свисающие с осевшего второго яруса, и тотчас, будто не желая уступать, темная сельва начинает светиться слабым фосфоресцирующим светом — светом гниения. А на самом верху перепархивают с ветки на ветку птички-огневки и многоцветная паутина.
Небольшая луна Гипериона сегодня вечером не видна, но плотность космической пыли на его орбите гораздо выше, чем у других планет, расположенных так близко от своего светила, и потому ночное небо постоянно исчеркано светящимися следами метеоров. Сегодняшний вечер принес исключительно обильный урожай падающих звезд. Там, где река становится шире, в просвете между деревьями открывается небо, все усыпанное сверкающими искрами.
Огромной сетью они сплетают воедино все светила небесные. Если долго смотреть на них, начинают болеть глаза. Я смотрю вниз, на реку, и любуюсь их отражениями в черной воде.
На востоке виднеется яркое зарево. Старик Кэди говорит, что это орбитальные зеркала — их используют для освещения крупных плантаций.
Пока еще слишком тепло, чтобы возвращаться в каюту. Я расстилаю тонкую подстилку на крыше баржи и наблюдаю за небесным представлением. Местные жители, собравшись кучками, поют на своем жаргоне (который я до сих пор даже не пытался выучить). Я думаю о далеких бикура, и странное беспокойство овладевает мною.
Какое-то животное кричит в лесу голосом испуганной женщины.
День 60-й
Прибыл на плантацию Пересебо. Заболел.
День 62-й
Я очень болен. Меня знобит. Весь вчерашний день меня рвало черной слизью. Оглушительный ливень. По ночам орбитальные зеркала освещают облака, и от этого все небо как бы в огне. У меня очень сильная лихорадка.
За мной ухаживает одна женщина. Она даже моет меня, и я слишком болен, чтобы испытывать стыд. Волосы у нее темнее, чем у большинства местных жителей. Она почти ничего не говорит. Темные, нежные глаза. О Боже, заболеть так далеко от дома!
День
она ждет шпионит… грехприходитсдождем… тонкая рубашка
она искушать меня… знает ктоя… моя кожа горит в огне… тонкий хлопок, соски — темные на белом… я знаю ктоони они наблюдают… я слышу их голоса… ночью они обмывают меня ядом… жгут мое тело… думают я не знаю но я слышу их голоса даже в дождь когда крики уходят уходят уходит.
Моя кожа почти исчезла под нею все красное чувствую дырку в щеке. когда я найду пулю яее выплюну. agnusdeiqitolispecattamundi miserer nobis misere nobis miserere.[8]
День 65-й
Благодарю тебя, Боже милостивый, за избавление от болезни.
День 66-й
Сегодня побрился. Был в состоянии принять душ.
Семфа помогла мне приготовиться к визиту здешнего начальника. Я ожидал увидеть этакого грубоватого здоровяка — вроде тех рабочих-сортировщиков, что проходят мимо окна. Чиновник оказался негром, невысоким и молчаливым. Он слегка шепелявил, а вообще был очень любезен. Я опасался, что придется платить за лечение и уход, но он успокоил меня, объяснив, что платить не надо. Более того, он обещал дать мне проводника, знающего дорогу в высокогорья. Отправляться туда, по его словам, поздновато, но если я буду готов через десять дней, то сумею проскочить к Разлому прежде, чем деревья тесла совсем «проснутся».
Когда он уехал, я немного побеседовал с Семфой. Ее муж погиб здесь три местных месяца назад во время несчастного случая при уборке урожая. Сама Семфа приехала из Порт-Романтика. Брак с Микелем был для нее спасением, и она решила остаться здесь. Подрабатывает где придется — только бы не возвращаться назад. Я не осуждаю ее.
После массажа я засну. Последнее время мне часто снится моя мать.
Десять дней. Я буду готов через десять дней.
День 75-й
Прежде чем мы с Туком отправились в путь, я сходил на матричные поля попрощаться с Семфой. Она говорила мало, но по ее глазам я видел, что ей грустно расставаться со мной. Как-то инстинктивно я благословил ее и поцеловал в лоб. Тук стоял поблизости, улыбаясь и приплясывая. Затем мы зашагали прочь, ведя в поводу двух вьючных бридов.
Надсмотрщик проводил нас до того места, где кончалась нормальная дорога, и, пока мы не скрылись в узкой аллее, прорубленной в золотистой листве, махал нам вслед рукою.
Domine, dirige nos.[9]
День 82-й
Неделю мы шли по тропе — да какая там тропа! — по непроходимой желтой сельве, а потом из последних сил карабкались по склону плато Пиньон, который становился все круче и круче. Сегодня утром мы выбрались на скалистое плоскогорье. Отсюда превосходно просматриваются бескрайние пространства сельвы, уходящей к Клюву и Срединному морю. Высота плато здесь достигает трех тысяч метров над уровнем моря. Вид весьма впечатляющий. Тяжелые дождевые облака простерлись под нами до холмов, кольцом окаймляющих плато Пиньоновых гор, но сквозь прорехи в этом серо-белом покрывале видна река Кэнс, лениво несущая свои воды к Порт-Романтику и дальше, к морю, желтые пятна леса, который мы только что миновали, а далеко на востоке — нечто анилиново-красное. Тук уверяет, что это нижний ярус фибропластовых полей возле Пересебо.
До позднего вечера мы продвигались вперед и вверх. Тук явно обеспокоен тем, что мы можем оказаться в огненных лесах, когда деревья тесла «проснутся». Я пытаюсь держаться, тяну под узцы тяжело нагруженного брида и молюсь про себя, чтобы Бог помог мне забыть о боли, страхе и сомнениях.
День 83-й
Собрались до рассвета и тут же выступили в путь. В воздухе чувствуется запах дыма и пепла.
Изменения в характере растительности здесь, на плато, поразительны. Нет больше никаких признаков вездесущего плотинника и густолиственной челмы. В среднем поясе горы господствуют вечнозеленые и вечноголубые растения. Вскарабкавшись выше, мы вошли в заросли триаспенов и ползучих сосен-мутантов. И наконец, перед нами открылся собственно огненный лес — рощи высоких прометеев, неистребимые заросли стелющегося феникса и округлые стебли янтарных факельников. Иногда нам встречаются непроходимые заросли белого волокнистого бестоса, по поводу которых Тук выразился весьма картинно: «Тут, видать, великанов хоронили, а закопать-то как следует поленились. Вот елдаки наружу и торчат». Мой проводник за словом в карман не лезет.
Было далеко за полдень, когда мы увидели первое дерево тесла. Полчаса мы брели сквозь лес по земле, покрытой слоем пепла, стараясь не наступать на нежную поросль феникса и огнехлеста, которая уже пробивалась кое-где сквозь черную от сажи почву. Внезапно Тук остановился и указал куда-то пальцем.
Дерево тесла находилось примерно в полукилометре от нас. Высотою оно было по меньшей мере метров сто — раза в полтора выше самых высоких прометеев. Вблизи кроны ствол раздувался, образуя характерное утолщение. Там, в этой луковице, прячутся его аккумуляторы. Еще выше отливали серебром на фоне чистого лазурно-зеленого неба радиальные ветви, с которых свисало множество лиан. Элегантностью очертаний растение напоминало минарет, который я видел в Новой Мекке, но минарет, легкомысленно разукрашенный мишурой.
— Пора нам, едрена вошь, отсюдова линять, — проворчал Тук. — Скотину только загубим. Обратно и своя жопа целей будет.
Он принялся настаивать, чтобы мы тут же надели все снаряжение, предназначенное для хождения по огненным лесам. Остаток дня и вечер мы прошагали в осмотических масках и толстых резиновых сапогах, обливаясь потом под гамма-костюмами из многослойного, похожего на кожу материала. Бриды вели себя нервно, при малейшем шорохе они настороженно вскидывали свои длинные уши. Даже через маску я ощущал запах озона. Запах этот напомнил мне детство: Вильфранш, Рождество, я играю с подаренным электрическим поездом…
В тот вечер мы разбили лагерь как можно ближе к зарослям бестоса. Тук показал мне, как правильно огородить лагерь кольцом из шестов-громоотводов. Все время он что-то мрачно бормотал себе под нос и то и дело вскидывал голову, осматривая вечернее небо в поисках облаков.
Как бы то ни было, в эту ночь я собираюсь спать!
День 84-й
4 часа.
Матерь Божья! Настоящий конец света!
Это продолжалось три часа.
Вскоре после полуночи загремел гром. Поначалу все это напоминало обычную грозу, и, вопреки разуму, мы с Туком высунулись из палатки, чтобы полюбоваться фейерверком. Я привык к муссонным бурям на Пасеме и потому в первый час моих наблюдений не обнаружил ничего необычного. Только стоявшие в отдалении деревья тесла (они, несомненно, накапливали атмосферное электричество) слегка тревожили меня. А затем эти сатанинские деревья начали тлеть и выбрасывать накопленную энергию обратно. Наступил подлинный Армагеддон. (Кстати, как раз тогда, несмотря на страшный шум, меня стало клонить ко сну.)
По меньшей мере сотня электрических дуг запылала в первые же десять секунд этой огненной судороги. Прометей, стоявший метрах в тридцати от нас, взорвался, пылающие головни разлетелись на полсотни метров вокруг. Наши громоотводы тлели и шипели, но одну за другой отклоняли электрические дуги в сторону. Над лагерем и вокруг него бушевала бело-голубая смерть. Тук что-то кричал, но человеческий голос тонул в этом хаосе света и шума. Совсем рядом с тем местом, где мы привязали бридов, занялись заросли ползучих фениксов. Хотя мы стреножили животных и завязали им глаза, одно из них, испугавшись, сорвалось с привязи и ринулось через кольцо громоотводов. В тот же миг с ближайшего дерева тесла к нему устремилось с полдюжины молний. Я мог бы поклясться, что в течение какой-то безумной секунды видел сквозь кипящую плоть тлеющий скелет животного, затем оно взвилось высоко в воздух — и исчезло.
В течение трех часов мы были свидетелями подлинного конца света. Два шеста упали, но остальные восемь все еще делали свое дело. Мы с Туком укрылись в палатке. Несмотря на духоту, в осмотических масках все же можно было дышать: они фильтровали из перегретого дымного воздуха достаточно кислорода. Только отсутствие подлеска и то мастерство, с которым Тук выбрал место для стоянки, позволили нам уцелеть. Вблизи палатки не было предметов, притягивающих молнии; кроме того, ее защищали заросли бестоса. Это нас и спасло. Да еще восемь шестов из металлокерамики, отгородивших нас от небытия.
— А шесты-то держат! — ору я изо всех сил, пытаясь перекричать шипение, треск и грохот бури.
— Час-два, можа, и продержут, — ворчит в ответ мой проводник. — А как, едрена корень, потекут, тут нам и разец.
Я соглашаюсь кивком головы и прихлебываю тепловатую воду через клапан осмотической маски. Если мне суждено выжить этой ночью, я буду вечно благодарить Бога за то, что Он великодушно позволил нам увидеть все это.
День 87-й
Вчера в полдень мы с Туком миновали северо-восточную кромку тлеющего огненного леса. Тут же у небольшого ручья разбили лагерь и проспали восемнадцать часов кряду — компенсация за три бессонные ночи и два изнурительных дня, когда мы без отдыха шли через чудовищное пламя, золу и пепел. По пути к горному хребту, служившему естественной границей леса, мы наблюдали, как на месте зарослей, выгоревших за последние два дня, возрождается новая жизнь. Все вокруг было буквально усеяно стручками, семенами и ростками всевозможных растений. Пять громоотводов еще функционировали, правда, ни Тук, ни я не горели желанием проверить это на практике. Уцелевший в ту ночь вьючный брид все-таки пал. Произошло это как раз в тот момент, когда с его спины снимали тяжелый груз.
На рассвете меня разбудил шум воды. Я прошел около километра на северо-восток вдоль небольшого ручья. Шум становился все сильнее, но внезапно ручей… исчез.
Разлом! Я почти забыл о цели нашей экспедиции. Спотыкаясь в утреннем тумане, я прыгал по мокрым камням вдоль ручья, становившегося все шире и шире. Вот я совершил последний прыжок и закачался, изо всех сил стараясь удержаться на ногах. Восстановив равновесие, я посмотрел прямо вниз. Подо мной был водопад. Он низвергался в туман с высоты почти в три километра. Каменистое русло реки лежало где-то глубоко внизу.
В отличие от легендарного Гранд-Каньона на Старой Земле или Трещины Мира на Хевроне, Разлом возник отнюдь не вследствие подъема плато. Хотя океаны Гипериона не знают покоя, а континенты похожи на земные, в тектоническом отношении он абсолютно мертв. В этом смысле он более схож с Марсом, Лузусом или Армагастом. Дрейфа континентов на нем нет. Но, подобно Марсу и Лузусу, Гиперион страдает от последствий Великих Оледенений. Пока звездная система Гипериона была бинарной, ледниковые периоды наступали с периодичностью в тридцать семь миллионов лет. Комлог сравнивает Разлом с долиной Маринер на Марсе, какой она была до терра-формизации планеты. Эти структуры порождены ослаблением коры, которая на протяжении целых геологических эпох периодически то замерзала, то оттаивала. В теплые периоды ее постепенно подтачивали изнутри подземные реки, такие, как Кэнс. Наконец, лишенный опоры гигантский участок суши провалился под собственной тяжестью, образовав этот шрам, разрубивший крыло орла — гористую часть Аквилы.
Вскоре ко мне присоединился запыхавшийся Тук. Я разделся и, наскоро выстирав пропахшие гарью и дымом сутану и дорожную одежду, долго плескался в холодной воде. Тук принялся что-то горланить, ему вторило эхо (до Северной стены Разлома отсюда всего метров шестьсот), а я от души хохотал. Выступ, на краю которого мы находились, гигантским козырьком нависает над Южной стеной. Когда смотришь вниз, кажется, он вот-вот рухнет, но мы решили, что скала, миллионы лет противостоявшая гравитации, продержится еще пару часов, пока мы резвимся тут, словно дети, которых отпустили с уроков: купаемся, загораем и до хрипоты перекрикиваемся с эхом. Тук признался, что ему ни разу не доводилось пройти весь огненный лес из конца в конец. Более того, он не знал ни одного человека, которому это удалось бы в «активный» сезон. Деревья тесла совсем «проснулись», и теперь, чтобы вернуться, ему придется ждать по меньшей мере три месяца. Мне показалось, что он говорит об этом без особого сожаления, и я, честно говоря, был только рад. Парень мне нравился.
Для лагеря мы выбрали место возле ручья, метрах в ста от края карниза, и после полудня перетащили сюда снаряжение. Разборку пенолитовых ящиков с научным оборудованием мы оставили на завтра и сложили их пока штабелем.
К вечеру похолодало. После ужина, перед самым заходом солнца, я надел термическую куртку и отправился к краю каменного выступа юго-западнее того места, где я в первый раз вышел к Разлому. Вид отсюда был незабываемый. От невидимых водопадов, низвергавшихся в реку далеко внизу, поднимался туман. Завеса водяной пыли находилась в постоянном движении, дробя лучи заходящего солнца, которое сейчас окружало не меньше десятка сверкающих фиолетовых шаров и вдвое больше радуг. Радужные полосы возникали у меня на глазах, поднимаясь затем к темнеющему небосводу и исчезая. По мере того как остывающий воздух заполнял трещины и каверны плато и вытеснял теплый, который устремлялся вверх, увлекая за собой листья, сучья и клочья тумана, в Разломе зародился странный звук, крепнущий с каждой минутой. Казалось, сама планета взывает голосами каменных великанов, которым аккомпанируют гигантские бамбуковые флейты и церковные органы размером с храм, и все эти голоса, от тончайшего сопрано до самого низкого баса, сливались воедино в гармоничном хоре. Поразмыслив, я решил, что воздушные потоки, проносясь сквозь источенные трещинами скалы и подземные пустоты, генерируют множество гармоник, создавая иллюзию человеческих голосов. Но в конце концов я отбросил все размышления и просто слушал, как Разлом поет прощальный гимн солнцу.
Когда я возвращался к палатке, ориентируясь по светлому пятну биолюминесцентного фонаря, вечернее небо прочертили сверкающие трассы метеоров, а с юга и запада донесся отдаленный грохот огненных лесов — словно артиллерийская канонада какой-то древней войны, что вели на Старой Земле еще до Хиджры.
Забравшись в палатку, я включил было комлог, но на всех частотах трещали статические разряды. Даже если примитивные спутники связи, обслуживающие фибропластовые плантации, захватывают район плато, пробиться сквозь помехи, создаваемые деревьями тесла, может лишь узкополосный лазерный передатчик, ну и, конечно, генератор мультилинии. На Пасеме мало кто носит с собой персональный комлог, но там всегда можно подключиться к инфосфере. Здесь выбора нет.
Я сижу, слушаю последние ноты вечерней песни ветра, смотрю на небо — одновременно темное и сверкающее — и улыбаюсь, когда из спального мешка доносятся всхрапывания Тука. «Что ж, — думаю я, — если таково мое изгнание — я согласен».
День 88-й
Тука больше нет. Его убили.
Я наткнулся на его тело, когда утром вышел из палатки. Он спал снаружи — метрах в четырех от меня, не более. Он так и сказал: хочу спать под звездами.
И вот, пока он спал, убийцы перерезали ему горло. Я не слышал никаких криков. Однако мне снился сон: будто я лежу в лихорадке и Семфа ухаживает за мной. Ее холодные руки прикасаются к моей груди, к шее, трогают крест, который я ношу с детства… Я стоял над телом Тука и не мог оторвать взгляд от широкого темного круга там, где его кровь впиталась в девственную почву Гипериона. При мысли о том, что мой сон — нечто большее, чем сон, и чьи-то руки действительно прикасались ко мне этой ночью, я содрогнулся.
Признаюсь честно: моя реакция на случившееся была недостойна священника, я вел себя как старый дурак. Соборование я произвел, но затем мною овладел панический страх; покинув тело несчастного Тука, я принялся рыться в багаже в поисках оружия и достал мачете, которым пользовался в сельве, и низковольтный мазер, предназначенный для охоты на мелкую дичь. Но хватит ли у меня решимости использовать оружие против человеческого существа, пусть даже в целях самозащиты? Все еще охваченный страхом, я схватил мачете, мазер и электронный бинокль и бросился к большому валуну около Разлома, с которого осмотрел все окрестности в поисках хоть каких-то следов убийц. Ничего. Лишь паутина колыхалась на ветру, да в кронах деревьев копошились крохотные зверьки, которых мы видели накануне, но сам лес показался мне каким-то уж слишком густым и темным. Вдоль края Разлома громоздились сотни террас, выступов и каменных балконов — прекрасное укрытие для банды дикарей. Да что там — целая армия могла бы спрятаться среди этих утесов и вечных туманов.
После получаса бесплодных, бессмысленных и трусливых метаний я вернулся к месту нашей лагерной стоянки и приготовил тело Тука к погребению. Чтобы выкопать достаточно глубокую могилу в каменистой почве, потребовалось больше двух часов. Засыпав ее и окропив землю святой водой, я задумался: что же я могу сказать об этом грубоватом, смешном человечке, который был моим проводником?
— Упокой, Господи, раба твоего, — стыдясь собственного лицемерия, пробормотал я наконец, чувствуя, что слова мои падают в пустоту. — Прими душу его. Аминь.
Вечером я перенес свой лагерь на полкилометра к северу. Палатку я поставил на открытом месте, а сам завернулся в одеяло и втиснулся под большой валун метрах в десяти от нее. Мачете и мазер лежали под рукой. После похорон Тука я проверил припасы и ящики с оборудованием. Ничего не пропало, за исключением оставшихся шестов-громоотводов. Тут же мне пришло в голову, что кто-то пробрался за нами следом через огненный лес, чтобы убить Тука, а меня оставить здесь без надежды вернуться. Но к чему такие ухищрения? Любой обитатель плантаций мог прикончить нас во время ночлега в сельве или еще лучше — лучше, конечно, с точки зрения убийцы — в глубине огненного леса, где никто не удивился бы двум обугленным трупам. Значит, остаются бикура. Мои подопечные-дикари.
Я стал прикидывать, нельзя ли пройти через огненный лес без громоотводов, но вскоре отверг эту мысль. Оставшись здесь, я имею шанс уцелеть, а отправившись сейчас в путь, погибну наверняка.
Деревья тесла «уснут» через три месяца. Сто двадцать местных суток. Каждые сутки — двадцать шесть часов. Вечность…
Боже милостивый, почему это выпало на мою долю? И почему меня пощадили прошлой ночью? Меня ведь все равно убьют, этой ли ночью или следующей…
Я лежу в темной расщелине, прислушиваюсь к завываниям ночного ветра в Разломе, таким жутким сейчас, и молюсь. Все небо усеяно кроваво-красными искрами метеоров.
Слова мои падают в пустоту…
День 95-й
Ужас прошлой недели словно отошел на второй план. Даже страх ослабевает и становится чем-то обычным, когда спадает напряжение.
С помощью мачете я срубил несколько небольших деревьев и соорудил себе хижину. Крышу и фасад я затянул гамма-плащами, а щели между бревнами замазал илом. Роль задней стенки выполняет огромный валун. Я разобрал ящики со снаряжением и кое-что вынул. Впрочем, едва ли мне придется использовать эти вещи.
Я начал заготавливать пищу впрок, ибо мой запас концентратов тает на глазах. В соответствии с идиотским графиком, составленным в свое время на Пасеме, я должен уже несколько недель жить среди бикура, выменивая продовольствие на всякую мелочь. Впрочем, какая разница? Кроме легко разваривающихся корней челмы, в мой рацион входит с полдюжины разных видов ягод и крупных плодов, которые я здесь нашел и которые, если верить комлогу, являются съедобными. Ошибся пока я всего лишь раз, но всерьез: всю ночь мне пришлось просидеть на корточках у края оврага.
Я без устали меряю шагами свой клочок земли — как те пелопы, которых на Армагасте держат в клетках и которых так высоко ценят тамошние князьки. Огненные леса в полном порядке и до них рукой подать: на юге — километр, на западе — четыре. По утрам, словно соперничая с туманом, небо застилают клубы дыма. Лишь участки, почти сплошь заросшие бестосом, скалистая вершина плато да похожие на черепах крутые горные хребты, высящиеся на северо-востоке, сдерживают натиск деревьев тесла.
К северу плато расширяется, и ближе к Разлому заросли становятся гуще. Они тянутся километров на пятнадцать, дальше путь преграждает овраг. Он втрое мельче и вдвое уже, чем сам Разлом. Вчера я достиг самой северной точки и с тяжелым чувством заглянул через зияющую пропасть на ту сторону. Надо будет как-нибудь попробовать обойти ее с востока, поискать место для переправы. Но, судя по зарослям феникса на той стороне и завесе дыма вдоль северо-восточного горизонта, там скорее всего такие же каньоны, заросшие челмой, и огненные леса. Они видны и на снятой с орбиты карте, которую я ношу с собой.
Сегодня вечером, когда ветер заиграл реквием на своих эоловых арфах, я навестил могилу Тука. Я преклонил колени и попытался молиться, но ничего не получилось.
У меня ничего не получилось, Эдуард. Я пуст, как те поддельные саркофаги, которые мы с тобой десятками выкапывали в безжизненных песках возле Тарум-Бель-Вади.
Дзен-гностики сказали бы, что эта пустота — добрый знак; она предвещает выход на новый уровень сознания, интуиции и опыта.
Merde.
Я пуст, и моя пустота… не более чем пустота.
День 96-й
Я нашел бикура. Или, вернее, они нашли меня. Я запишу, что успею, пока они не пришли меня «будить» (для них я сейчас «сплю»).
Сегодня я уточнял свою карту километрах в четырех к северу от лагеря, как вдруг от полуденной жары туман стал рассеиваться, и на своей, ближайшей, стороне Разлома я заметил ряд террас, которых раньше увидеть не мог. С помощью электронного бинокля я осмотрел их. Террасы представляли собою подобие покрытых дерном лестниц — одни изгибались спиралью, другие уступами поднимались вверх. Внезапно я осознал, что вижу жилища, построенные человеком: около дюжины примитивных лачуг, сооруженных из вязанок челмы, камней и дерна. Да, то бесспорно были творения человеческих рук.
Я стоял в нерешительности и, не отрывая бинокля от глаз, прикидывал, что лучше: сразу спуститься на террасы и встретиться лицом к лицу с их обитателями или вернуться пока в лагерь, как вдруг по спине у меня пополз холодок, который всегда безошибочно подсказывает человеку, что он уже не один. Опустив бинокль, я медленно обернулся. Это были бикура — по меньшей мере человек тридцать. Они стояли полукругом, отрезав меня от леса.
Не знаю, что я ожидал увидеть, быть может, голых дикарей со свирепыми лицами и в ожерельях из зубов. А возможно, я был уже наполовину готов встретить тех заросших волосами отшельников, которых видят иногда путешественники в Моисеевых горах на Хевроне. Как бы там ни было, настоящие бикура не соответствовали ни одному из этих стереотипов.
Люди, которые столь неслышно приблизились ко мне, были невысоки ростом (самый высокий — мне по плечи) и облачены в груботканые темные одежды, скрывавшие все тело от шеи до пят. Казалось, они не шли, а скользили по неровной земле, подобно призракам. Издали они напомнили мне процессию иезуитов в Новом Ватикане — только очень малорослых.
Я чуть не рассмеялся, но вовремя сообразил, что такая реакция может быть воспринята как проявление страха. Впрочем, бикура не проявляли никаких признаков агрессивности. У них не было оружия, их маленькие руки были пусты. Такими же пустыми были их лица.
Эти лица трудно описать в двух словах. Они лысые. Все до одного. Сплошное облысение, полное отсутствие растительности на лицах и свободное платье, ниспадающее до земли, делали мужчин и женщин практически неотличимыми. Передо мной стояло не менее пятьдесяти человек — все примерно одного возраста, где-то между сорока и пятьюдесятью. Лица без единой морщинки, чуть желтоватые (подозреваю, причина в том, что они употребляют в пищу челму и другие местные растения, содержащие минеральные красители).
Глядя на бикура, испытываешь искушение сравнить их круглые лица с ликами ангелов, но при более внимательном рассмотрении впечатление святости пропадает и заменяется другим — безмятежного идиотизма. Как священник я провел много лет в отсталых мирах и сразу узнал это древнее генетическое нарушение, называемое по-разному: синдром Дауна, монголизм, врожденное слабоумие. Так они и стояли передо мной эти пятьдесят малорослых человечков в темных одеждах — молчаливая, улыбающаяся толпа лысых, умственно отсталых детей.
Пришлось напомнить себе, что эти «улыбающиеся дети» перерезали горло спящему Туку и бросили его умирать, как свинью на бойне.
Ближайший ко мне бикура выступил вперед и, остановившись в пяти шагах от меня, сказал что-то монотонным негромким голосом.
— Подождите минутку, — ответил я, достал свой комлог и переключил его в режим перевода.
— Бейтет ота менна лот кресфем кет? — спросил невысокий человек, стоявший передо мной.
Я надел наушники как раз вовремя, чтобы услышать перевод комлога. Никакой задержки. Очевидно, они говорили на искаженном староанглийском, следы которого до сих пор сохранились в жаргоне здешних плантаций. «Ты человек, который принадлежит крестоформу (крестообразной форме)», — перевел комлог (для последнего существительного он дал два варианта).
— Да, — ответил я, не сомневаясь, что это были те самые люди, которые ощупывали меня ночью, когда я проспал убийство Тука. А значит, те самые, что его убили.
Я ждал. Охотничий мазер лежал в ранце, а ранец — около небольшой челмы шагах в десяти отсюда. Между мной и ранцем стояло с полдюжины бикура. Но в тот момент я понял, что это не имеет никакого значения. Я не смогу применить оружие против человеческого существа, даже если это человеческое существо убило моего проводника и, вполне вероятно, в любую минуту готово убить меня самого. Я закрыл глаза и мысленно произнес покаянную молитву. Снова открыв глаза, я обнаружил, что толпа стала чуть больше. Всякое движение прекратилось; похоже, кворум был налицо и решение принято.
— Да, — повторил я среди всеобщего молчания. — Я тот, кто носит крест. — Я слышал, как динамик комлога произнес последнее слово — «кресфем».
Бикура в унисон закивали головами, а затем — словно они прошли долгую практику в качестве алтарных служек — все разом опустились на одно колено. Мягко зашуршали одежды.
Я открыл рот — и обнаружил, что мне нечего сказать. Тогда я закрыл рот.
Бикура встали. Ветерок шевелил хрупкие стебли и листья челмы, и в сухом шелесте слышался конец лета. Ближайший ко мне бикура подошел еще ближе, схватил меня за руку холодными, сильными пальцами и негромко произнес фразу, которую мой комлог перевел так: «Пойдем. Время возвращаться в дома и спать».
Была середина дня. Не ошибся ли комлог? Правильно ли он перевел слово «спать»? Может, это какая-то идиома или метафора слова «умирать»? Однако я согласно кивнул и последовал за ними в деревню на краю Разлома.
Теперь я сижу в хижине и жду. Что-то шуршит. Видимо, не я один сейчас бодрствую. Я сижу и жду.
День 97-й
Бикура называют себя «Трижды Двадцать и Десять».
Последние двадцать шесть часов я провел, беседуя с ними и наблюдая.
Во время их послеполуденного двухчасового «сна» я делал заметки. Надо как можно больше записать, прежде чем мне перережут горло.
Впрочем, я начинаю думать, что они оставят меня в покое.
Я разговаривал с ними вчера после «сна». Иногда они просто не отвечают на вопросы. А если и отвечают, то невнятно и невпопад, будто дети с заторможенной реакцией. После первой встречи, когда меня пригласили в деревню, никто не задал мне ни единого вопроса, не высказал на мой счет ни единого замечания.
Я расспрашивал их ненавязчиво и осторожно, с выдержкой опытного этнолога. Желая удостовериться, что комлог ничего не путает, я задавал самые простые вопросы, ответы на которые легко проверить. Комлог работал нормально. Но их ответы не дали мне ровным счетом ничего. Я провел среди этих людей больше двадцати часов, но, как и прежде, оставался в полном неведении.
Наконец, устав и телом, и душой, я отбросил деликатность и обратился к своим собеседникам с прямым вопросом:
— Моего спутника убили вы?
Все трое не поднимали глаз от примитивного ткацкого станка, на котором работали. Наконец один из них — я мысленно называю его Альфа, ибо он первый подошел ко мне тогда в лесу — ответил:
— Да, мы перерезали горло твоему спутнику острым камнем и держали его и не давали ему шуметь, пока он боролся. Он умер настоящей смертью.
— Почему? — спросил я мгновение спустя. Мой голос был сух, как кукурузная шелуха.
— Почему он умер настоящей смертью? — переспросил меня Альфа, по-прежнему не поднимая глаз. — Потому что у него вытекла вся кровь и он перестал дышать.
— Нет, — сказал я. — Почему вы убили его?
Альфа ничего не ответил, но Бетти (я подозреваю, что это — женщина и подруга Альфы) подняла глаза от ткацкого станка и просто ответила:
— Чтобы заставить его умереть.
— Но зачем?
Ответы неизменно повторялись и ни на йоту не приближали меня к истине. После долгих расспросов я установил, что они убили Тука, чтобы заставить его умереть, и что он умер, потому что его убили.
— Какая разница между смертью и настоящей смертью? — спросил я, не доверяя в этом вопросе комлогу, да и самому себе тоже.
Третий бикура, Дел, проворчал в ответ невнятную фразу, которую комлог перевел так: «Твой спутник умер настоящей смертью. Ты — нет».
Наконец я потерял терпение и взорвался:
— Что — нет? Почему вы не убили меня?
Все трое прекратили свою бездумную работу и посмотрели на меня.
— Ты не можешь быть убитым, потому что ты не можешь умереть, — сказал Альфа. — Ты не можешь умереть, потому что ты принадлежишь крестоформу и следуешь кресту.
Я не имел ни малейшего представления, почему чертова машина переводит слово «крест» как «крест», а секунду спустя — как «крестоформ». «Потому что ты принадлежишь крестоформу».
По коже пробежал холодок, и я с трудом подавил желание расхохотаться. Это же избитое клише старых приключенческих голофильмов: затерянное племя поклоняется «богу», который неведомо как попал в их деревню, пока в один прекрасный день этот бедняга не умудряется порезаться во время бритья (или за каким-то другим занятием), после чего туземцы, удостоверившись, что их гость — не более чем простой смертный, приносят бывшее божество в жертву.
Все это было бы смешно, но бескровное лицо Тука и зияющая рана у него на горле до сих пор стоят у меня перед глазами.
Их отношение к кресту позволяло предположить, что я встретил уцелевших потомков какой-то христианской колонии (католиков?). Правда, комлог упорно настаивает на том, что семьдесят колонистов с челнока, разбившегося на этом плато четыреста лет назад, были неокервинскими марксистами, а те, по идее, проявляли полнейшее равнодушие, если не прямую враждебность, к старым религиям.
Я подумывал о том, чтобы оставить эту тему, ибо дальнейшие расспросы становились просто опасными, но дурацкое любопытство не давало мне покоя.
— Вы почитаете Иисуса? — спросил я.
Их равнодушные взгляды были красноречивее любого ответа.
— Вы молитесь Христу? — допытывался я снова и снова. — Иисусу Христу? Вы христиане? Католики?
Никакой реакции.
— Вы католики? Иисус? Мария? Святой Петр? Павел? Святой Тейяр?
Комлог издавал какие-то звуки, не имевшие для них, видимо, никакого смысла.
— Вы следуете кресту? — спросил я, в надежде наладить хотя бы видимость взаимопонимания.
Все трое посмотрели на меня.
— Мы принадлежим крестоформу, — сказал Альфа.
Я кивнул, хотя ничего не понял.
Перед самым заходом солнца я ненадолго заснул, а когда проснулся, услышал органную музыку вечерних ветров Разлома. Здесь, на террасе, она звучала еще громче. Казалось, даже хижины присоединялись к хору, когда порывистый ветер, задувавший снизу, свистел и завывал, проносясь через щели в каменных стенах и дымоходы.
Что-то было не так. Мне понадобилась целая минута, чтобы осознать: деревня покинута. Все хижины были пусты. Я сидел на холодном камне и гадал: не мое ли присутствие подтолкнуло их к бегству. Музыка ветра закончилась, начали свое ежевечернее представление метеоры. Я любовался им сквозь разрывы в низких облаках, как вдруг услышал за спиной какой-то звук. Обернувшись, я обнаружил, что все Трижды Двадцать и Десять стоят позади меня.
Не произнося ни слова, они прошли мимо и разбрелись по хижинам. Огней они не зажигали. Я представил, как они сидят там, в своих хижинах, глядя прямо перед собой.
Прежде чем вернуться к себе, я некоторое время побродил по деревне. Подойдя к краю поросшего травой уступа, я остановился у самого обрыва. Со скалы прямо в пропасть свешивалось некое подобие лестницы, сплетенной из лиан и корней. Лестница обрывалась через несколько метров и висела над пустотой. Внизу, на глубине двух километров, текла река. Лиану такой длины найти невозможно.
Но бикура пришли именно оттуда.
Полная бессмыслица. Я покачал головой и вернулся.
Сижу в хижине, пишу при свете дисплея комлога. Я пытаюсь продумать меры предосторожности. Хотелось бы встретить рассвет живым.
Но в голову ничего не приходит.
День 103-й
Чем больше я узнаю, тем меньше понимаю. Я перетащил в деревню почти все свое оборудование и снаряжение и сложил в хижине, которую они освободили специально для меня.
Я фотографировал, записывал видео — и аудиочипы. У меня теперь есть полная голограмма деревни и всех ее обитателей. Но им, похоже, все безразлично. Я проецирую их изображения, а они проходят через них, не проявляя никакого интереса. Я воспроизвожу их речь, а они улыбаются и разбредаются по хижинам, сидят там часами, ничего не делают и молчат. Я предлагаю им безделушки, предназначенные для обмена, а они берут их без единого слова, пробуют на зуб и затем, убедившись, что они несъедобны, бросают на землю. Трава усеяна пластмассовыми бусами, зеркальцами, лоскутками цветной материи и дешевыми фломастерами.
Я развернул полную медицинскую лабораторию, но без толку; Трижды Двадцать и Десять не дают мне осмотреть их. Они не позволили даже взять кровь на анализ, хотя я не раз показывал им, что это совершенно безболезненно. Они не дают мне обследовать их с помощью диагностического оборудования. Короче говоря, не желают иметь со мной никаких дел. Они не спорят. Они не объясняют. Они просто отворачиваются и уходят. Уходят к своему безделью.
Я провел среди них неделю, но все еще не научился отличать мужчин от женщин. Их лица напоминают мне картинки-головоломки, которые меняют форму, когда на них смотришь. Иногда лицо Бетти выглядит бесспорно женским, а десять секунд спустя — совершенно бесполым, и я уже мысленно зову ее (его?) не Бетти, а Бет. С их голосами происходят такие же перемены. Негромкие, хорошо модулированные и столь же бесполые… они напоминают мне голоса устаревших домашних компьютеров, которые до сих пор встречаются на отсталых планетах.
Я ловлю себя на том, что хочу увидеть обнаженного бикура. Признаться в этом нелегко, особенно если ты — иезуит сорока восьми стандартных лет от роду. К тому же это непростая задача, даже для такого опытного «подглядывателя», как я. Табу на обнаженное тело соблюдается неукоснительно. Они не снимают свои длинные одежды даже во время двухчасового полуденного сна. Мочатся и испражняются они за пределами деревни, но подозреваю, что и тогда они не снимают своих балахонов. Похоже, они никогда не моются. Казалось бы, это повлечет за собой некоторые проблемы (попросту говоря, от них начнет пованивать), но у этих дикарей нет никакого запаха, за исключением легкого, сладковатого запаха челмы.
— Ты когда-нибудь раздеваешься? — спросил я как-то Альфу (вопрос был неделикатен, но любопытство пересилило).
— Нет, — ответил Ал и отправился куда-то сидеть в полном облачении и ничего не делать.
У них нет имен. Сначала это показалось мне невероятным, но теперь я уверен.
— Мы все, что было и что будет, — сказал самый маленький бикура, которого я считаю женщиной и мысленно называю Эппи. — Мы Трижды Двадцать и Десять.
Я порылся в архиве комлога и получил подтверждение тому, в чем в общем-то не сомневался: среди шестнадцати тысяч известных человеческих сообществ нет ни одного, где бы полностью отсутствовали личные имена. Даже в ульях Лузуса индивидуумы откликаются на категорию их класса, за которой следует простой код.
Я сообщаю им свое имя, а они тупо смотрят на меня. «Отец Поль Дюре, Отец Поль Дюре», — твердит переводное устройство комлога, но они даже не пытаются повторить.
Каждый день перед закатом они все вместе куда-то исчезают, а в полдень два часа спят. Помимо этого они почти ничего не делают совместно. Даже в том, как они размещаются по жилищам, нет никакой системы. Сегодня Ал спит в одном доме с Бетти, завтра с Гамом, на третий день — с Зельдой или Петом. Никакого порядка или расписания, видимо, не существует. Раз в три дня все семьдесят отправляются в лес за съестными припасами и приносят ягоды, коренья и кору челмы, плоды и вообще все, что годится в пищу. Я был уверен, что они вегетарианцы, пока не увидел Дела с маленькой тушкой древопримата. Должно быть, детеныш свалился с высокого дерева. Очевидно, Трижды Двадцать и Десять не испытывают отвращения к мясу как таковому, они просто слишком глупы и ленивы, чтобы охотиться.
Когда бикура испытывают жажду, они ходят к ручью, который каскадами спадает в Разлом метрах в трехстах от деревни. Хотя это довольно неудобно, у них нет ни бурдюков, ни горшков, ни кувшинов. Я держу свои запасы воды в десятигаллоновых пластмассовых контейнерах, но обитатели деревни не обращают на это внимания. При всем моем уважении к этим людям я не исключаю, что за несколько поколений они так и не додумались, что воду можно держать под рукой.
— Кто построил дома? — спрашиваю я (у них нет слова для обозначения деревни).
— Трижды Двадцать и Десять, — отвечает Виль. Я отличаю его от других по сломанному пальцу, который неправильно сросся. У каждого из них есть по меньшей мере одна такая отличительная черта, хотя иногда мне кажется, что проще отличать друг от друга ворон, чем этих людей.
— Когда они построили их? — продолжаю я, хотя мне давно следовало бы уяснить, что на все вопросы, которые начинаются со слова «когда», ответа не последует.
Не последовало его и сейчас.
Каждый вечер они спускаются в Разлом. Спускаются вниз по лианам. На третий вечер я попытался понаблюдать за этим исходом, но у самого обрыва меня остановили шестеро бикура и, действуя не грубо, но настойчиво, отвели назад в хижину. Это было первое активное действие бикура, которое мне довелось увидеть, и первое, содержащее намек на агрессивность. Опасаясь выходить, я еще некоторое время просидел в хижине.
На следующий вечер, когда они уходили, я спокойно направился к себе домой и даже не выглядывал наружу. Однако я заранее установил у края обрыва треногу с имидж-камерой. Таймер сработал идеально. Голопленка запечатлела, как бикура хватаются за лианы и ловко — точно маленькие древоприматы, обитающие в челмовых лесах, — спускаются вниз. Затем они исчезли под скальным карнизом.
— Что вы делаете по вечерам, когда спускаетесь вниз со скалы? — спросил я Ала на следующий день.
Туземец посмотрел на меня с ангельской улыбкой, от которой меня уже тошнит.
— Ты принадлежишь крестоформу, — сказал он так, словно это был ответ на все вопросы.
— Вы молитесь, когда спускаетесь со скалы? — спросил я.
Никакого ответа.
Я подумал минуту.
— Я тоже следую кресту, — сказал я, зная, что это будет переведено как «принадлежу крестоформу». (Я уже мог обходиться без переводного устройства, но эта беседа была чрезвычайно важна, и я постарался исключить всякую случайность.) — Значит ли это, что я должен присоединиться к вам, когда вы спускаетесь со скалы?
На какую-то секунду мне показалось, что Ал думает. На лбу у него появились морщинки. Я осознал, что впервые вижу, как один из Трижды Двадцати и Десяти нахмурился. Затем он сказал:
— Ты не можешь. Ты принадлежишь крестоформу, но ты не из Трижды Двадцати и Десяти.
Видимо, чтобы прийти к этому выводу, ему потребовалось напрячь все свои нейроны и синапсы.
— А что бы вы сделали, если бы я спустился со скалы? — спросил я, не ожидая ответа. Гипотетические вопросы почти всегда оставались без ответа, как, впрочем, и многие другие.
На этот раз он ответил. На непотревоженном лице снова сияла ангельская улыбка, когда Альфа негромко произнес:
— Если ты попытаешься спуститься со скалы, мы положим тебя на траву, возьмем острые камни, перережем тебе горло и будем ждать, пока вытечет вся твоя кровь и твое сердце перестанет биться.
Я ничего не сказал. Интересно, слышит ли он сейчас биение моего сердца? Что ж, по крайней мере мне не нужно теперь беспокоиться, что меня принимают за Бога.
Молчание затянулось. Наконец Ал добавил еще одну фразу, о которой я размышляю до сих пор.
— А если ты сделаешь это снова, — сказал он, — мы снова убьем тебя.
Некоторое время мы молча смотрели друг на друга, причем каждый из нас, без сомнения, был уверен, что его собеседник — полный идиот.
День 104-й
Чем больше я узнаю, тем больше все запутывается.
С первого дня жизни в деревне меня смущало отсутствие детей. Я нахожу немало упоминаний об этом в своих ежедневных отчетах, которые наговариваю на комлог, но в тех чисто личных и весьма сумбурных записях, что именуются дневником, на сей счет ничего нет. Видимо, подсознательно я боюсь этой темы.
На мои частые (и, надо сказать, довольно неуклюжие) попытки проникнуть в эту тайну Трижды Двадцать и Десять реагировали в своей обычной манере. Они блаженно улыбались и несли в ответ такую околесицу, рядом с которой бормотание последнего деревенского дурачка в Сети показалось бы образчиком мудрости и красноречия. Чаще же не отвечали вовсе.
Однажды я остановился перед бикура, которого про себя звал Делом, и стал ждать. Когда наконец он соизволил заметить мое присутствие, я спросил:
— Почему у вас нет детей?
— Мы Трижды Двадцать и Десять, — сказал он негромко.
— Где ваши дети?
Никакого ответа. И никаких попыток увильнуть от ответа. Лишь пустой взгляд.
Я перевел дыхание.
— Кто из вас самый молодой?
Дел, казалось, задумался, пытаясь разрешить эту проблему. Он явно был в тупике. Быть может, подумал я, бикура полностью потеряли ощущение времени, и подобный вопрос для них вообще не имеет смысла. Однако, помолчав с минуту, Дел указал на Ала (тот, усевшись на солнцепеке, работал на ткацком станке) и сказал:
— Это последний из возвратившихся.
— Из возвратившихся? — спросил я. — Но откуда он возвратился?
Дел посмотрел на меня ничего не выражающим взглядом, в котором не было раздражения.
— Ты принадлежишь крестоформу, — сказал он. — Ты должен знать путь креста.
Я понимающе кивнул. К тому времени я уже достаточно изучил их и знал, что дальше разговор пойдет по порочному кругу. За какую же ниточку ухватиться, чтобы распутать этот клубок?
— Значит, Ал, — и я указал на него, — последний из родившихся. Из вернувшихся. Но другие… вернутся?
Я не был уверен, что сам понял свой вопрос. Как можно спрашивать о рождении, когда твой собеседник не знает слова «ребенок» и не имеет понятия о времени? Но сейчас, похоже, Дел меня понял. Он кивнул.
Ободренный, я спросил:
— Так когда же родится следующий из Трижды Двадцать и Десяти? Когда он вернется?
— Никто не может вернуться, пока не умрет, — сказал он.
Внезапно мне показалось, что я понял.
— Итак, новых детей не будет… никто не вернется, пока кто-нибудь не умрет, — сказал я. — Вы заменяете одного недостающего другим, чтобы вас всегда было ровно Трижды Двадцать и Десять?
Дел ответил молчанием, которое я привык считать знаком согласия.
Итак, схема проста. Бикура крайне серьезно относятся к тому, чтобы их было именно Трижды Двадцать и Десять, и сохраняют свою численность на этом уровне. То же самое число значилось и в списке пассажиров «челнока», который разбился здесь четыреста лет назад. Маловероятно, что это совпадение. Когда кто-нибудь умирал, они позволяли родить ребенка, чтобы он заменил умершего взрослого. Все просто.
Просто, но невозможно. Природа и биология не допускают такой точности. Помимо проблемы минимальной численности популяции, существуют и другие нелепости. Возраст этих людей определить трудно, ибо кожа у них гладкая, без морщин. Очевидно, однако, что самых старших и самых младших разделяет не более десяти лет. Хотя ведут они себя совершенно по-детски, можно предположить, что их средний возраст составляет около сорока — сорока пяти стандартных лет. Где же старики? Где их родители, стареющие дядья, незамужние тетки? Получается, что все племя должно состариться одновременно. Допустим, они уже вышли из возраста, когда можно иметь детей, и тут кто-нибудь умирает. Кем же они его заменят?
Бикура ведут размеренный и малоподвижный образ жизни. Количество несчастных случаев — даже при том, что они обитают на самом краю Разлома, — вероятно, очень невелико. Хищников здесь нет. Сезонные климатические изменения незначительны, пищевые ресурсы стабильны. Но неужели за всю четырехсотлетнюю историю этой отрезанной от мира деревни на нее ни разу не обрушилась эпидемия, ни разу не лопнула подгнившая лиана, увлекая в пропасть всех, кто держался за нее, словом, не было ни единого случая массовой смертности, которых с незапамятных времен как огня боятся страховые компании? И что тогда? Они размножаются до нужного числа, а затем возвращаются к своему обычному бесполому образу жизни? Или, может быть, бикура — особая порода людей, и, в отличие от прочих, период половой активности у них наступает раз в несколько лет? Раз в десятилетие? Раз в жизни? Сомнительно.
Я сижу в хижине и размышляю. Итак, есть несколько возможностей. Одна их них заключается в том, что эти люди живут очень долго и большую часть жизни способны к воспроизводству, причем используют эту возможность только для возмещения убыли в племени. Однако это не объясняет поразительного совпадения их возраста. И откуда такое долголетие? Самые лучшие средства против старения, которыми располагает Гегемония, могут продлить срок активной жизни лет до ста. Если человек заботится о своем здоровье, то и на исходе седьмого десятка он не будет чувствовать себя стариком. Но не прибегая к клоновой трансплантации, биоинженерии и прочим вывертам, которые могут себе позволить только очень богатые люди, нельзя создать семью в семьдесят лет или танцевать на своем стодесятом дне рождения. Если бы корни челмы или чистый воздух плато Пиньон оказывали столь сильное сдерживающее воздействие на процесс старения, все обитатели Гипериона давным-давно жили бы здесь и целыми днями жевали челму. Планета обзавелась бы своим нуль-Т-порталом, и все граждане Гегемонии с универсальными карточками проводили бы здесь отпуска, а выйдя на пенсию, приезжали сюда насовсем.
Логичнее предположить, что бикура живут не дольше, чем остальные люди, и точно так же рожают детей, но убивают их, если замена в племени не требуется. Они могут практиковать воздержание или использовать противозачаточные средства, чтобы не убивать новорожденных, до тех пор, пока все не достигнут возраста, когда нужно воспроизвести свой род. Следующий за этим массовый всплеск рождаемости объясняет, почему все члены племени примерно одного возраста.
Но кто учит молодых? Что происходит дальше с их родителями и другими стариками? Быть может, бикура передают крохи своих знаний — грубое подобие настоящей культуры — потомкам, а затем сразу же принимают смерть? Тогда, быть может, это и есть «настоящая смерть»? Кривая распределения людей по возрасту обычно напоминает колокол. Как они «подрезают» этот колокол? С одной стороны? Или сразу с двух?
Размышления такого рода бессмысленны. Я начинаю приходить в бешенство от неспособности решить эту проблему. Итак, Поль, давай-ка для начала определим нашу стратегию. Шевелись, шевелись. Нечего отсиживать задницу.
ПРОБЛЕМА: Как отличить мужчин от женщин?
РЕШЕНИЕ: Лестью или принуждением заставить кого-нибудь из этих бедняг пройти медицинское обследование. Выяснить, зачем они скрывают свой пол и запрещают обнажать тело. Возможно, строжайшее половое воздержание необходимо им, чтобы держать под контролем численность популяции. Если так, это подтверждает мою новую теорию.
ПРОБЛЕМА: Почему они с таким фанатизмом сохраняют персональную численность своей колонии — семьдесят человек?
РЕШЕНИЕ: Продолжать расспрашивать, пока что-нибудь не прояснится.
ПРОБЛЕМА: Где дети?
РЕШЕНИЕ: Нажимать на них и искать, пока не будет ясности. Не с этим ли связаны их ежевечерние экскурсии? Может быть, у них под скалой детский сад. Или груда младенческих костей.
ПРОБЛЕМА: Что означают выражения «принадлежать крестоформу» и «следовать кресту»? Искаженные остатки религиозных верований первых колонистов? Или что-то иное?
РЕШЕНИЕ: Обратиться к первоисточнику. Может быть, их вечерние прогулки имеют религиозный характер?
ПРОБЛЕМА: Что у них там внизу, под скалой?
РЕШЕНИЕ: Спустись и посмотри. Завтра, если их распорядок останется без изменений, Трижды Двадцать и Десять, все семьдесят, на несколько часов отправятся в лес за провизией. И на этот раз я с ними не пойду.
На этот раз я перелезу через край скалы и спущусь вниз.
День 105-й
09:30 Благодарю тебя, Господи, что Ты позволил мне увидеть это.
Благодарю Тебя, Господи, что привел меня сюда и дал мне зримое доказательство Твоего присутствия.
11:25 Эдуард… Эдуард!
Я должен вернуться. Чтобы доказать тебе!.. Всем!..
Я упаковал все, что может мне понадобиться. Имидж-дискеты и пленки я уложил в мешок, который сплел из листьев бестоса. У меня есть пища, вода, наполовину заряженный мазер. Палатка. Одеяла.
Если бы у меня не украли громоотводы! Неужели они у бикура? Нет, я обыскал хижины и окрестные леса. Да и к чему им шесты?
Впрочем, какая разница?
Если получится, я уйду сегодня. Сразу, как только смогу. Эдуард! На этот раз все записано на пленках и дискетах.
14:0 Cегодня через огненные леса не пройти. Прежде чем я вошел в активную зону, дым погнал меня прочь.
Я вернулся в деревню и еще раз просмотрел свои голограммы. Ошибки нет. Чудо реально.
15:30 Трижды Двадцать и Десять могут вернуться в любой момент. Вдруг они узнают… вдруг по моему виду они догадаются, что я был там?
Спрятаться, что ли?
Нет, не нужно. Бог не для того привел меня сюда и дал увидеть все это, чтобы я погиб от рук этих бедных детей.
16:15 Трижды Двадцать и Десять вернулись и разошлись по хижинам, даже не посмотрев в мою сторону.
Я сижу у входа в хижину и не могу сдержать улыбку. Я смеюсь и молюсь Богу. Незадолго перед тем я сходил к обрыву, отслужил мессу и причастился. Обитатели деревни на меня даже не посмотрели.
Когда я смогу уйти? Надсмотрщик Орланди и Тук говорили, что период активности огненных лесов продолжается три здешних месяца — сто двадцать дней, а затем на два месяца наступает относительное затишье.
Мы с Туком пришли сюда в день 87-й…
Я не могу ждать еще сто дней, чтобы оповестить весь мир… все миры… о своем открытии.
Если бы только какой-нибудь скиммер не побоялся погоды и огненных лесов и вырвал меня отсюда! Если бы только я сумел выйти на один из спутников связи, обслуживающих плантации.
Все возможно. Я верю, что чудеса не кончились.
23:50 Трижды Двадцать и Десять спустились в Разлом. Хорал вечернего ветра уносится ввысь.
Как бы мне хотелось быть вместе с ними! Там, внизу. Но я сделаю то, что в моих силах. Я паду на колени у края скалы и буду молиться, пока в воздухе звучат органные ноты планеты и пение неба. Теперь мне доподлинно известно, что это и есть гимн истинному Богу.
День 106-й
Утро выдалось великолепное. На темно-бирюзовом небе солнце казалось кроваво-красным камнем. Я стоял возле своей хижины, наблюдая, как рассеивается туман. Древоприматы заканчивали свой утренний концерт, становилось теплее. Я вернулся в хижину и снова просмотрел все пленки и диски.
Вчера, в лихорадочном возбуждении исписывая страницу за страницей своими каракулями, я даже не упомянул о том, что обнаружил внизу, под скалой. Расскажу об этом сейчас. У меня есть диски, пленки и записи комлога, но нельзя исключить, что сохранятся лишь мои дневники.
Вчера утром, примерно в 7:30, я спустился со скалы. Бикура в это время были в лесу, где занимались сбором пищи. Со стороны может показаться, что лазать по лианам совсем просто — переплетаясь, они образуют нечто вроде лестницы. Но, когда я начал спускаться и закачался в воздухе, мне показалось, что сердце мое вот-вот разорвется. Внизу, в трех километрах подо мною, катила свои воды горная река. Я крепко держался по меньшей мере за две лианы сразу и сантиметр за сантиметром спускался вниз, стараясь не смотреть в пропасть.
За час я преодолел сто пятьдесят метров. Уверен, бикура управились бы минут за десять. Наконец я достиг места, где стена круто загибалась вглубь. Некоторые лианы болтались в пустоте, но остальные уходили под уступ и тянулись к скальной стене, находившейся метрах в тридцати. Местами лианы сплетались, образуя подобие висячих мостов. Вероятно, бикура ходили по ним, как по земле, даже не помогая себе руками. Я же продвигался по этому сплетению лиан ползком, то и дело хватаясь за стебли, чтобы не сорваться, и взывал к Богу, словно маленький мальчишка. Я старался смотреть прямо перед собой, будто и в самом деле мог забыть, что под этими качающимися, скрипящими прядями — лишь необозримый воздушный простор.
Вдоль скалы проходил широкий уступ. Для верности я прополз еще немного и, оказавшись метрах в трех от его края, протиснулся сквозь лианы и прыгнул вниз с высоты два с половиной метра.
Уступ имел около пяти метров в ширину и на северо-востоке заканчивался совсем рядом, упираясь в нависшую скалу. Я двинулся по тропе вдоль уступа на юго-запад, прошел шагов двадцать — тридцать и остановился в изумлении. Это была именно тропа. Тропа, протоптанная в скале. Ее блестящая поверхность была на несколько сантиметров ниже уровня окружающего камня. Дальше, там, где она, изгибаясь, уходила вниз, на следующий, более широкий уступ, в камне вырубили ступеньки, но и они были истерты — по центру лестницы тянулась ложбинка.
Я присел на секунду — этот простой факт поразил меня. Даже если Трижды Двадцать и Десять проходили здесь ежедневно четыре века подряд, едва ли они могли протоптать тропу в каменном монолите. Некто или нечто пользовалось этой дорогой задолго до того, как здесь разбился челнок с предками бикура. Некто или нечто пользовалось этой дорогой тысячи лет. Я встал и двинулся дальше. В Разломе постоянно дул легкий ветерок, но, кроме шума ветра, до меня доносился еще какой-то звук. Вскоре я понял, что его производит текущая внизу река.
Тропа, огибая скалу, повернула налево и закончилась на широкой, чуть наклонной каменной площадке. Я замер и, как мне помнится, машинально перекрестился.
Уступ, тянувшийся на сотню метров с севера на юг, проходил как раз вдоль среза скалы, выступавшего в пропасть. Поэтому с площадки можно было смотреть на запад, вдоль тридцатикилометровой прорези Разлома. Там плато обрывалось, открывая кусочек неба. Я сразу понял, что заходящее солнце каждый вечер освещает эту площадку. Наверное, если смотреть отсюда во время весеннего или осеннего солнцестояния, кажется, что солнце Гипериона садится прямо в Разлом и его красные бока касаются розоватых скал.
Я повернулся налево и уставился на стену. Тропа вела через широкий уступ к дверям, прорезанным в вертикальной каменной плите. Что я говорю! Это были не двери, а самые настоящие ворота, украшенные затейливой резьбой. Их створки и косяки были искусно вытесаны из камня. По обе стороны от них располагались широкие окна с цветными стеклами высотою по меньшей мере метров двадцать. Я подошел ближе. Кто бы ни построил это сооружение, ему, несомненно, пришлось расширить площадку под скальным навесом, срезать гладкую стену гранитного плато, а затем проложить туннель сквозь каменный монолит. Я провел рукой по рельефным узорам, обрамлявшим двери. Поверхность камня была гладкой. Даже здесь, где навес защищал стену от воздействия природных сил, время все сгладило, все смягчило… Сколько тысячелетий прошло с тех пор, как этот… храм… был вырублен в южной стене Разлома?
Витраж был изготовлен не из стекла и не из стеклопластика, а из какого-то незнакомого мне прочного полупрозрачного материала. На ощупь он казался таким же твердым, как и окружающий окна камень, причем границы между участками разного цвета отсутствовали: краски наплывали друг на друга, смешивались, перетекали одна в другую, как масло на воде.
Я извлек из ранца ручной фонарь, прикоснулся к одной из створок — и замер. Высокая дверь легко и бесшумно повернулась вовнутрь.
Я вошел в преддверие храма — не могу подобрать другого слова, — пересек погруженный в тишину десятиметровый зал и остановился у противоположной стены. Она была из того же материала, похожего на цветное стекло. Первый витраж светился позади меня, заполняя помещение густым светом тончайших оттенков. Я сразу понял, что в час заката прямые солнечные лучи пронизывают эту комнату насквозь и падают на вторую стену из цветного стекла, осыпая все находящееся за ней радужными стрелами.
Отыскав единственную дверь (ее окаймляла тонкая рамка из темного металла, врезанная прямо в витраж), я прошел внутрь.
По старинным фотографиям и голограммам мы восстановили у себя на Пасеме храм Святого Петра. Это здание — точная копия базилики, украшавшей некогда Древний Ватикан, — имеет семьсот футов в длину и четыреста пятьдесят в ширину. На мессе, которую служит Его Святейшество, может присутствовать одновременно пятьдесят тысяч молящихся. (Впрочем, нам никогда не удавалось собрать там более пяти тысяч верующих. Даже во время ассамблеи Совета Епископов Всех Миров, которая происходит раз в сорок три года.) В центральной апсиде, где установлена копия Престола Святого Петра работы Бернини, высота главного купола превышает сто тридцать метров. Дух замирает!
Но это помещение было куда просторнее.
Я включил фонарь и, оглядевшись в полумраке, обнаружил, что стою в огромном зале, высеченном в сплошной скале. Гладкие стены поднимались к потолку, который находился, вероятно, всего в нескольких метрах от поверхности плато. Никаких украшений, равно как и мебели, здесь не было. Ничто не указывало на предназначение помещения, за исключением предмета, установленного строго в центре этой огромной гулкой пещеры.
Там находился алтарь — пятиметровая квадратная каменная плита, вытесанная прямо из пола пещеры, а над алтарем возвышался крест.
Четыре метра в высоту, три — в ширину. Совершенный контур, вызывающий в памяти изумительные распятия Старой Земли…
Приблизившись, я разглядел в лучах фонаря, что весь он инкрустирован алмазами, сапфирами, кроваво-красными рубинами, ляпис-лазурью, ониксами, горным хрусталем и другими драгоценными камнями. Обращенный широкой стороной к витражу, крест словно ждал, когда самоцветы вспыхнут в лучах заходящего солнца.
Я пал на колени и стал молиться. Выключив фонарь, я подождал несколько минут, пока глаза мои вновь смогли различить крест в тусклом дымчатом свете. Вне всякого сомнения, это был тот самый крестоформ, о котором говорили бикура. И он был установлен здесь многие тысячи лет назад (быть может, даже десятки тысяч), задолго до того, как человечество покинуло Старую Землю. И почти наверняка — раньше, чем Христос начал проповедовать в Галилее.
Я молился.
Просмотрев голограммы, я сижу и греюсь на солнышке. Вчера, обнаружив то, что я теперь называю словом «базилика», я отправился назад и по дороге мельком заметил нечто новое. А именно — на уступе рядом с базиликой есть ступени, уходящие еще дальше в Разлом. Голограммы подтверждают, что они мне не померещились. Ступени эти не так истерты временем, как тропа, ведущая к базилике, но заинтриговали они меня ничуть не меньше. Один Бог знает, какие еще чудеса ожидают меня внизу.
Мир должен узнать о моей находке!
Как это ни парадоксально, именно мне было суждено наткнуться на подобное чудо. Если бы не Армагаст и не мое изгнание, этого открытия, возможно, пришлось бы ждать еще несколько веков. Церковь могла бы погибнуть, прежде чем оно вдохнуло бы в нее новую жизнь.
Но я сделал его!
И теперь я должен выбраться отсюда или хотя бы послать весть о нем.
День 107-й
Я арестован.
Сегодня утром я купался — как обычно, неподалеку от места, где ручей падает в Разлом, — и вдруг услышал какой-то шум. Подняв голову, я обнаружил, что один из бикура, которого я называю Дел, смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Я поздоровался с ним, но маленький человечек повернулся и убежал. Это меня озадачило. Они редко торопятся. Хотя на мне и были штаны, я, наверное, нарушил их табу на обнажение тела, ибо Дел все-таки увидел меня голым по пояс.
Я улыбнулся, покачал головой, оделся и пошел в деревню. Если бы я знал, что меня ожидает, мне было бы не до смеха.
Все Трижды Двадцать и Десять были в сборе и стояли, наблюдая за моим приближением.
— Добрый день, — сказал я, остановившись шагах в десяти от Ала.
Альфа подал знак рукой, и с полдюжины бикура ринулись ко мне, схватили за руки и за ноги, повалили навзничь и прижали к земле. Затем вперед выступила Бета. Из складок одежды она извлекла остро заточенный камень. И пока я тщетно боролся, силясь освободиться, Бета разрезала (или разрезал?) мою одежду сверху донизу и распахнула ее так, что я оказался почти обнаженным.
Когда они насели на меня всей толпой, я прекратил сопротивление. Они уставились на мое бледное, не тронутое загаром тело, и что-то забормотали. Я чувствовал, как бьется сердце.
— Простите, если я нарушил ваши законы, — начал я, — но нет никаких оснований…
— Молчи, — оборвал меня Альфа и, обращаясь к высокому бикура со шрамом на ладони, которого я звал Зедом, сказал: — Он не принадлежит крестоформу.
Зед, соглашаясь, кивнул.
— Позвольте мне объяснить, — начал я снова, но Альфа заставил меня замолчать, ударив по лицу тыльной стороной ладони. От удара у меня зазвенело в ушах, из рассеченной губы брызнула кровь. Однако бил он меня без злобы — так я щелкаю тумблером, чтобы выключить комлог.
— Что нам с ним делать? — спросил Альфа.
— Те, кто не следует кресту, должны умереть настоящей смертью, — ответила Бета, и толпа подвинулась вперед. У многих в руках были заточенные камни. — Те, кто не принадлежит крестоформу, должны умереть настоящей смертью, — повторила Бета, и в ее голосе прозвучала категоричность. Таким тоном произносят ритуальные формулы.
— Я следую кресту! — закричал я, когда меня потянули, поднимая на ноги. Схватив распятие, висевшее у меня на шее, и преодолевая сопротивление множества рук, я поднял его над головой.
Альфа подал знак, и толпа остановилась.
Внезапно наступила тишина. Я слышал, как в трех километрах под нами, на дне Разлома, шумит река.
— Он действительно носит крест, — заметил Альфа. Дел подался вперед.
— Но он не принадлежит крестоформу! Я видел. Это не то, что мы думали. Он не принадлежит крестоформу! — В его голосе звучала жажда убийства.
Я проклинал свою неосмотрительность и глупость. Судьба церкви зависела от моей судьбы, а я поставил ее под удар, вбив себе в голову, что бикура — просто глупые, безвредные дети.
— Те, кто не следует кресту, должны умереть настоящей смертью, — повторила Бета. Похоже, это был окончательный приговор.
В семидесяти руках взметнулись камни, и тут, сознавая, что это мой последний шанс (или окончательное осуждение), я закричал:
— Я спускался со скалы и молился у вашего алтаря! Я следую кресту!
Альфа и все остальные остановились в нерешительности. Я видел, что они пытались справиться с какой-то новой мыслью, и это было для них нелегко.
— Я следую кресту и хочу принадлежать крестоформу, — сказал я со всем спокойствием, на какое только был способен в ту минуту. — Я был у вашего алтаря.
— Те, кто не следует кресту, должны умереть настоящей смертью, — крикнула Гамма.
— Но он следует кресту, — возразил Альфа. — Он молился в комнате.
— Этого не может быть, — сказал Зед. — Там молятся Трижды Двадцать и Десять, а он не из Трижды Двадцати и Десяти.
— Мы знали и до этого, что он не из Трижды Двадцати и Десяти, — сказал Альфа, слегка нахмуривая брови, как всегда, когда ему приходилось обращаться к прошедшему времени.
— Он не принадлежит крестоформу, — сказала Дельта-вторая.
— Те, кто не принадлежит крестоформу, должны умереть настоящей смертью, — сказала Бета.
— Он следует кресту, — сказал Альфа. — Может ли он тогда не принадлежать крестоформу?
Поднялся гвалт. Под шумок я попытался вырваться из их рук, но они держали меня по-прежнему крепко.
— Он не из Трижды Двадцати и Десяти и не принадлежит крестоформу, — сказала Бета, причем голос ее прозвучал скорее озадаченно, чем враждебно. — Почему он не должен умереть настоящей смертью? Нам нужно взять камни и сделать дырку в его горле, чтобы кровь вытекла и сердце остановилось. Он не принадлежит крестоформу.
— Он следует кресту, — снова сказал Альфа. — Может ли он не принадлежать крестоформу?
Вслед за этим вопросом наступило молчание.
— Он следует кресту и молился в комнате крестоформа, — сказал Альфа. — Он не должен умереть настоящей смертью.
— Все умирают настоящей смертью, — сказал бикура, которого я не знал. Мои руки, сжимавшие поднятый над головою крест, устали. — За исключением Трижды Двадцати и Десяти, — закончил этот безымянный бикура.
— Потому что они следуют кресту, молятся в комнате и принадлежат крестоформу, — сказал Альфа. — Должен ли он также принадлежать крестоформу?
Я стоял перед ними, сжимая маленький холодный металлический крест, и ожидал приговора. Я боялся умереть — я испытывал чувство страха — но страх этот существовал как бы отдельно от моего сознания. Больше всего меня мучило, что я не смогу сообщить об открытой мной базилике неверующей вселенной.
— Пошли, мы должны говорить об этом, — сказала Бета, обращаясь к соплеменникам.
И меня в полном молчании повели в деревню.
Там меня поместили под арест в моей же хижине. Воспользоваться охотничьим мазером я не смог. Пока несколько бикура держали меня, остальные вынесли из хижины большую часть моего имущества. Они забрали даже одежду, оставив мне только один из своих груботканых балахонов, чтобы мне было чем прикрыть наготу.
Чем больше я сижу здесь, тем сильнее мной овладевают гнев и беспокойство. Они забрали мой комлог, имиджер, диски, чипы… все. Нераспакованный ящик с диагностическим оборудованием лежит на прежнем месте, но проку от него никакого. Мне нужны документальные подтверждения моего открытия. Если они уничтожат мои вещи, те, что забрали, а затем меня самого, не останется никаких свидетельств существования базилики.
Будь у меня оружие, я мог бы убить сторожей и…
Боже милостивый, о чем я думаю? Эдуард, что мне делать?
Даже если я переживу все это, вернусь в Китс и добьюсь, чтобы меня пустили назад, в Сеть, — кто мне поверит? Из-за квантового прыжка я отстал во времени на девять лет. И если теперь, после девяти лет отсутствия, я вернусь на Пасем, меня сочтут просто выжившим из ума стариком, твердящим как попугай свои нелепые басни.
Боже милостивый, если они уничтожат записи, сделай так, чтобы они уничтожили и меня!
День 110-й
Моя судьба решилась на третий день.
Зед и тот, которого я называю Тета-Штрих, пришли за мной вскоре после полудня. Я зажмурился, когда они вывели меня из хижины на свет. Трижды Двадцать и Десять стояли широким полукругом у края скалы. Я был почти уверен, что меня сбросят с обрыва. Затем я заметил костер.
Я предполагал, что бикура деградировали настолько, что разучились добывать и использовать огонь. Они никогда не грелись у огня, и в их хижинах всегда было темно. Я ни разу не видел, чтобы они варили пищу. Даже тушки древоприматов, которые иногда попадали к ним в руки, они употребляли в пищу сырыми. Но сейчас передо мною ярко горел костер, и развели его, несомненно, бикура — больше некому. Что же они жгут?
Они жгли мою одежду, комлог, полевые заметки, кассеты с лентами, видеочипы, диски с данными, имиджер — все, что содержало информацию. Я закричал и даже попытался броситься в огонь. Я ругал их последними словами, которых не употреблял со времен моего уличного детства. Они не обращали на это никакого внимания.
Наконец ко мне подошел Альфа.
— Ты будешь принадлежать крестоформу, — негромко сказал он.
Мне уже все было безразлично. Они увели меня назад в хижину и оставили одного. Почти час я плакал. Сторожа у двери больше нет. Минуту назад я стоял у выхода, подумывая о том, чтобы бежать в огненные леса. Затем мне пришла мысль совершить иной, не столь далекий, но не менее роковой побег — в Разлом.
Однако я не сделал ни того, ни другого.
Вскоре зайдет солнце. Ветер уже поднимается. Скоро. Скоро.
День 112-й
Неужели прошло всего двое суток? Мне они показались вечностью.
Сегодня утром он уже не снимается! Он не снимается!
Экран медсканера — у меня перед глазами, но я все еще не могу поверить в это. И все же верю. Теперь я принадлежу крестоформу.
Они пришли за мной перед самым заходом солнца. Все. Я не сопротивлялся, когда они подвели меня к краю Разлома. Они лазали по лианам еще проворнее, чем я предполагал. Когда мы спускались, я здорово тормозил их, но они терпеливо поджидали меня, указывая самый надежный и быстрый путь.
Когда мы, преодолев последние метры, вышли к базилике, солнце уже опустилось ниже облаков, но еще виднелось над краем стены, на западе.
Вечерняя песня ветра была громче, нежели я ожидал. Мы оказались словно среди труб гигантского церковного органа. Звучали все ноты — от басов, столь низких, что у меня резонировали зубы и кости, до самых верхних октав, переходящих в ультразвук.
Альфа открыл внешние двери, и мы прошли через преддверие в главный зал. Трижды Двадцать и Десять выстроились широким кругом, в центре которого был увенчанный высоким крестом алтарь. Никаких молитв. Никаких песнопений. Никаких церемоний. Мы просто молча стояли, а снаружи через полые колонны с ревом проносился ветер, и эхо его отдавалось в огромном, пустом храме. Одно эхо накладывалось на другое, звук нарастал, и в конце концов я был вынужден зажать уши руками. И все это время горизонтальные лучи солнца заполняли зал густыми оттенками янтаря, золота, лазури — и опять янтаря. Цвета были столь сочными, что казалось, насыщенный светом воздух ложится на кожу как краска. Я смотрел, как этот свет заливает крест, зажигая тысячи драгоценных камней разноцветными огнями. Даже когда зашло солнце и окна стали сумеречно-серыми, казалось, они продолжают гореть, словно это огромное распятие впитало в себя свет и теперь отдает его нам. Затем, когда затих ветер и крест погрузился во мрак, Альфа негромко сказал:
— Ведите его.
Мы вышли на широкий каменный уступ. Там, поджидая нас, уже стояла Бета с факелами в руках. Пока она раздавала факелы избранным, я задумался: что, если бикура сохранили огонь только для ритуальных целей? Немного погодя, предводительствуемые Бетой, мы начали спускаться по узкой лестнице, выдолбленной в камне.
В первую минуту меня охватил такой страх, что я едва держался на ногах. Пытаясь нащупать хоть какую-нибудь опору — корень или просто выступ в стене, — я то и дело хватался за гладкий камень. Справа от нас уходила вниз отвесная стена, и ее масштабы превосходили всякое воображение. Спускаться по этой древней лестнице было куда тяжелее, чем по лианам. Каждый раз, когда я ступал на очередную узкую, отполированную веками плиту, приходилось смотреть под ноги. Перспектива поскользнуться и сорваться вниз казалась поначалу весьма вероятной, а затем и просто неизбежной.
Я испытывал сильное желание вернуться, хотя бы в базилику. Но лестница была узка, а большинство бикура шли позади меня. Вряд ли они посторонятся. К тому же любопытство пересилило страх: что же там, где кончается лестница? Остановившись на миг, я бросил взгляд на верхний край Разлома, возвышавшийся в трехстах метрах над нами. Облака исчезли, в усеянном звездами небе начинался ночной танец метеоров. Склонив голову и шепча молитву, я снова двинулся за факельщиками-бикура в зловещие глубины.
Поначалу я и представить себе не мог, что лестница доходит до дна Разлома, но это было именно так. Где-то после полуночи я понял, что мы будем спускаться до самой реки. По моим подсчетам, мы должны были добраться туда к полудню следующего дня. Однако я ошибся.
Мы достигли основания Разлома незадолго до восхода солнца. На узкой полоске неба между стенами скал, которые поднимались по обеим сторонам на невообразимую высоту, все еще были видны звезды. Измотанный, усталый, я механически переставлял ноги, спотыкался и не сразу осознал, что ступенек больше нет. Потом я посмотрел вверх, и в голову мне пришла глупая мысль: может быть, звезды видны отсюда и днем? Однажды в детстве, в Вильфраншсюр-Соне, я умудрился забраться в колодец и оттуда видел звезды…
— Здесь, — сказала Бета.
Это было первое слово, которое я услышал за последние несколько часов. Голос ее был едва различим — его заглушал рев реки. Трижды Двадцать и Десять остановились как вкопанные. Я рухнул на колени, затем повалился на бок. Подняться обратно по этой лестнице я не смогу. Ни за сутки, ни за неделю. Никогда. Я закрыл глаза, надеясь уснуть, но нервное напряжение последних часов все еще пылало в моем мозгу. Тогда я огляделся. Река здесь была шире, чем я предполагал — по меньшей мере метров семьдесят, — а рев, издаваемый ею, буквально сводил с ума: казалось, он пожирает меня, подобно хищному зверю.
Я сел и уставился на темное пятно в скале передо мной. Оно было чуть темнее, чем окружавшие его тени, и выделялось среди пятен, трещин и натеков своей правильной формой. Это был идеальный квадрат со стороной по меньшей мере метров тридцать. Дверь? Вход в пещеру? Я с усилием поднялся, всматриваясь в стену, с которой мы только что спустились. Да, там был вход. Но не такой, как вверху, а другой, и сейчас Бета и ее соплеменники направлялись к нему, едва различимому в свете звезд.
Я нашел вход в лабиринт Гипериона!
Когда я летел на «челноке», кто-то спросил меня: «Знаете ли вы, что на Гиперионе находится один из девяти известных лабиринтов?» Кто это был? Да, конечно, молодой священник по фамилии Хойт. Я ответил, что знаю, а сам и думать об этом забыл. Тогда бикура интересовали меня куда больше, чем лабиринты или их создатели. Быть может, причина тому — боль изгнания, которую я сам в себе разжигал.
Лабиринты есть на девяти планетах. Девяти из ста семидесяти шести планет Великой Сети (не считая двухсот с лишним колоний и протекторатов). Только на девяти. А всего после Хиджры было исследовано, пусть поверхностно, более восьми тысяч.
Специалисты, занимающиеся планетарной протоисторией, готовы посвятить всю свою жизнь изучению лабиринтов. Я не из их числа. Я всегда считал эту проблему бесплодной и не очень-то реальной. И вот теперь я стою перед одним из них. Трижды Двадцать и Десять стоят рядом. Река Кэнс ревет и бьется о камни, грозя потушить наши факелы своими брызгами.
Лабиринты были прорыты… проложены… созданы примерно семьсот пятьдесят тысяч стандартных лет назад. Все их характеристики неизменно совпадали, а их происхождение столь же неизменно оставалось неизвестным.
Все лабиринтные планеты похожи на Землю (индекс по шкале Солмев не меньше 7,9) и вращаются вокруг звезд спектрального класса G. Почти все они тектонически мертвы, то есть более похожи на Марс, чем на Старую Землю. Сами туннели залегают глубоко — как минимум на глубине десяти километров, но нередко уходят в землю километров на тридцать, пронизывая кору планеты наподобие катакомб. На Свободе, расположенной неподалеку от системы Пасема, дистанционным методом исследовали более восьмисот тысяч километров лабиринта. Во всех мирах туннели имеют тридцать метров в поперечнике. Технология, с помощью которой они сооружены, Гегемонии пока неизвестна. Я прочел однажды в каком-то археологическом журнале о гипотезе Кемп-Хельтцера и Вайнштейна. Они предположили, что Строители использовали некий «землеплавильный агрегат». Потому-то стены лабиринтов абсолютно гладкие и нигде не находят отвалов выработанной породы. Но теория не объясняла, откуда, собственно, появились эти Строители вместе со своими машинами и зачем они век за веком решали эту явно бессмысленную инженерную задачу. Каждая из лабиринтных планет, включая Гиперион, была прозондирована и исследована. Ничего не нашли. Никакой землеройной техники или ржавых шахтерских касок. Ни единого осколка пластмассы или полусгнившего клочка обертки. Исследователи не смогли даже определить, какие шахты служат для входа, а какие — для выхода. Объяснить эти монументальные усилия поисками драгоценных или тяжелых металлов невозможно. Никакие легенды о Строителях до нас не дошли. Вещественных доказательств их существования — помимо лабиринтов — тоже нет. В моей жизни был период, когда я увлекался этой загадкой, не всерьез, конечно. Но вплотную с ней никогда не сталкивался. А теперь столкнулся.
Мы вошли в туннель. То не был идеальный квадрат, как мне показалось издали. Эрозия и сила тяжести превратила его в обыкновенную, неправильной формы пещеру, уходившую на сотни метров в глубь скалы. Бета остановилась как раз там, где пол туннеля стал гладким, и погасила факел. Другие бикура последовали ее примеру.
Стало очень темно. Из-за изгиба туннеля звездный свет сюда не доходил. Мне доводилось бывать в пещерах, но я не думал, что могу видеть в полной темноте. Однако я видел.
Секунд через тридцать я стал различать розоватое свечение. Свечение это, вначале слабое, становилось все ярче и ярче, и наконец в пещере стало светлее, чем снаружи, в каньоне. Светлее даже, чем на Пасеме, когда на небе сияют три его луны. Свет исходил из сотен — нет, тысяч источников. Когда бикура благоговейно опустились на колени, я понял, что это за светильники.
Стены и потолок пещеры были усыпаны крестами размером от нескольких миллиметров до метра. Каждый из них испускал густорозовый свет. Когда горели факелы, свечение крестов было незаметно, но сейчас оно заливало всю пещеру. Я подошел к стене и принялся рассматривать ближайший крест. Он был сантиметров тридцати в поперечнике, испускаемое им мягкое свечение слегка пульсировало. Нет, это не камень и не нарост, а наверняка что-то живое. Слегка теплый на ощупь, крест напоминал мягкий коралл.
Что-то едва слышно прошелестело (или то был не звук, а просто движение холодного воздуха?), и я обернулся. Как раз вовремя — ибо в этот момент в пещеру вступило Нечто.
Бикура все еще стояли на коленях, потупив взгляды. Я же не отрывал глаз от существа, которое двигалось среди замерших бикура.
Очертаниями оно отдаленно напоминало человека, но к роду человеческому не принадлежало. Росту в нем было по меньшей мере метра три. Даже когда оно стояло неподвижно, серебристая поверхность его тела, казалось, струилась и переливалась подобно ртути. Красноватое свечение крестов, покрывавших стены туннеля, отражалось от граней его панциря и сверкало на изогнутых металлических лезвиях, которые торчали у этого создания отовсюду: изо лба, из четырех запястий, из непривычно устроенных локтевых и коленных суставов, из пластин, защищавших его спину и грудь. Простирая вперед четыре длинные руки, оно проплыло между коленопреклоненными бикура. Ладони его были раскрыты, но пальцы, похожие на хромированные скальпели, находились в постоянном движении. На ум невольно пришло неуместное сравнение с Его Святейшеством, благословляющим верующих на Пасеме.
Несомненно, передо мною был легендарный Шрайк.
В этот момент я, должно быть, шевельнулся или издал какой-то звук, потому что огромные красные глаза повернулись в мою сторону, и я почувствовал, как пляска света в этих многогранных призмах погружает меня в гипнотическое состояние. Это был не отраженный свет. Казалось, свирепое яркое кроваво-красное пламя бушует в колючем черепе и вырывается наружу сквозь устрашающего вида кристаллы, помещенные там, где у всех прочих созданий Божьих находятся глаза.
Затем оно двинулось… нет, не двинулось, а просто вдруг перестало быть там и оказалось тут, в метре от меня. Его странно сочлененные руки окружили меня забором из лезвий и текучей серебристой стали. У меня перехватило дыхание. Прямо перед собой я видел собственное лицо, искаженное и мертвенно-бледное. Оно металось из стороны в сторону, отражаясь то в горящих глазах существа, то в его металлическом панцире.
Признаюсь, в тот момент я испытывал не страх, а какое-то странное возбуждение. Происходило нечто необъяснимое. Мой разум был выкован иезуитской логикой и закален в холодной воде науки, но сейчас я понимал болезненное влечение наших воспитанных в страхе перед Богом предков к страху иного рода, ко всем этим изгнаниям бесов и исступленным пляскам дервишей, ритуальным гаданиям на картах Таро и самозабвенному бормотанию медиума на спиритическом сеансе, к трансу дзен-гностиков. Ведь если нам удалось доказать существование демонов или даже вызвать самого сатану — тем самым мы незыблемо утверждаем реальность их мистической противоположности, Бога Авраама!
Я не думал об этом — я это чувствовал. И ожидал объятий Шрайка с трепетом новобрачной.
И тут Шрайк исчез.
Не было ни раскатов грома, ни запаха серы, ни даже порыва ветра (хотя по всем законам природы полагалось быть). Секунду назад это существо стояло здесь во всей своей смертоносной колючей красе и обнимало меня — и вот его нет, оно исчезло.
Потеряв дар речи, я стоял и хлопал глазами. Альфа поднялся с колен и приблизился ко мне в босхианском розоватом полумраке. Он остановился там, где секунду назад стоял Шрайк, и вытянул вперед руки, с комичной серьезностью повторяя властные движения этого воплощения смерти, хотя его гладкое, как у всех бикура, лицо оставалось бесстрастным, словно он и не видел Шрайка. Он неуклюже развел руки, как бы охватывая лабиринт, стену пещеры и десятки светящихся крестов на ней.
— Крестоформ, — сказал Альфа. Все Трижды Двадцать и Десять поднялись на ноги, подошли ближе и вновь опустились на колени. Я посмотрел на их лица, такие спокойные, озаренные мягким светом, и тоже преклонил колени.
— Ты будешь следовать кресту все твои дни. — В голосе Альфы послышались интонации молитвы. Остальные бикура повторили его слова почти нараспев.
— Ты будешь принадлежать крестоформу все твои дни, — добавил Альфа, и пока остальные повторяли эту фразу вслед за ним, он протянул руку и снял со стены пещеры маленький, длиною не более двенадцати сантиметров, крестоформ. От стены он отделился со слабым, едва уловимым щелчком. Буквально у меня на глазах его свечение стало ослабевать. Альфа извлек из своего балахона маленький ремешок, обвязал им верхнюю часть крестика и поднял его над моей головой. — Отныне и навеки ты принадлежишь крестоформу, — сказал он.
— Отныне и навеки, — эхом отозвались бикура.
— Аминь, — прошептал я.
Бета знаком указала мне, что я должен расстегнуть одежду. Альфа повесил маленький крестик мне на шею. Когда тот коснулся тела, я почувствовал, какой он холодный. Его задняя поверхность была абсолютно плоской и гладкой.
Бикура встали и направились к выходу, столь же апатичные и безразличные ко всему на свете, как и прежде. Я проводил их взглядом, осторожно дотронулся до креста, поднял его и осмотрел. Он был холодным на ощупь и никак не реагировал на мое прикосновение. Если несколько секунд назад он и был живым существом, то сейчас не подавал никаких признаков жизни. Он по-прежнему больше походил на коралл, чем на кристалл или камень. И никаких следов клея на обратной стороне. Я принялся размышлять. Сначала я думал о фотохимических процессах, которые могут быть источником свечения, о природных люминофорах, биолюминесценции и о прочих подобных вещах. Могла ли эволюция вообще породить подобный феномен? Потом я задумался о том, что общего между крестами и лабиринтом, о геологических эпохах, за время которых плато настолько поднялось, что река и каньон прорезали один из туннелей. Я размышлял о базилике и ее создателях, о бикура, Шрайке и о себе самом. В конце концов, устав от этих размышлений, я закрыл глаза и стал молиться.
Когда я вышел из пещеры, ощущая холодок на груди под одеждой, Трижды Двадцать и Десять, похоже, уже собирались начать трехкилометровый подъем. Я запрокинул голову — меж стенами Разлома, далеко вверху бледнела полоска утреннего неба.
— Нет! — закричал я, но звук моего голоса потерялся в реве реки. — Мне нужно отдохнуть. Слышите, отдохнуть! — Я опустился на колени, но с полдюжины бикура приблизились ко мне, мягко подняли и повели к лестнице.
Я пытался идти. Господь свидетель, пытался. Первые два или три часа подъема я шел сам, однако ноги мои все чаще подкашивались. Наконец, поскользнувшись на камне, я упал и, не в состоянии удержаться, покатился вниз, туда, где на глубине шестисот метров под нами мчалась река. Помню, как я схватился за крестоформ, висевший на груди под толстым балахоном, затем с полдюжины рук удержали меня, подняли и понесли. Больше я ничего не помню.
Вплоть до этого утра. Я проснулся, когда лучи восходящего солнца уже проникли в мою хижину. На мне был только балахон. Я пощупал рукою крестоформ и убедился, что он на месте, висит на ремешке у меня на груди. Над лесом поднималось солнце. И тут я понял, что потерял сутки: в беспамятстве я был не только во время подъема по бесконечной лестнице (как эти маленькие человечки смогли нести меня два с половиной километра вверх?), но и весь следующий день и всю ночь.
Я огляделся. Мой комлог и прочая записывающая аппаратура пропали. Мне оставили только медсканер и несколько дискет с программами обработки антропологических данных. Толку от них никакого, ибо все остальное мое оборудование уничтожено. Я с сожалением покачал головой и отправился вверх по ручью — мыться.
Мне показалось, что бикура спят. После того как я принял участие в их ритуале и стал «принадлежать крестоформу», они, казалось, потеряли ко мне всякий интерес. И сейчас, раздеваясь перед купанием, я тоже решил их игнорировать. Как только силы возвратятся ко мне, убегу. Если надо, я найду дорогу в обход огненных лесов. Если потребуется, спущусь по лестнице в Разлом и пойду, следуя течению реки Кэнс. Сейчас я еще сильнее уверился в том, что должен поведать миру о моем чудесном открытии.
Я стянул тяжелый балахон и подставил свое бледное тело негреющим лучам утреннего солнца. Затем попытался снять крестоформ, висевший у меня на груди.
Он не снимался.
Он прирос к моей груди так, словно всегда был частью тела. Я тянул его, царапал, дергал за ремешок (который в конце концов разорвался и упал). Я скреб ногтями крестообразный нарост на груди, но он не снимался. Моя плоть слилась с ним в одно целое. Я не испытывал никакой боли. Царапины, конечно, саднили, но и только. Окружавшая крест плоть не чувствовала ничего необычного. При мысли, что эта штука останется во мне навсегда, я похолодел. Оправившись после первого приступа страха, я посидел с минуту, натянул балахон и побежал в деревню.
Ножа у меня нет. Мазер, ножницы, бритва — все, с помощью чего я мог бы удалить это новообразование, исчезло. Ногти оставляют лишь кровавые царапины. Они тянутся поперек креста и дальше через всю грудь. Затем я вспомнил про медсканер. Сканировав грудную клетку, я посмотрел на дисплей и недоверчиво покачал головой. Потом обследовал все тело и затребовал распечатки томограмм. Потом долго сидел без движения.
Сейчас распечатки у меня в руке. И на ультразвуковых томограммах, и на к-сечениях отчетливо различим крест… а также волоконца, которые подобно тонким щупальцам или корнями разбегаются по всему моему телу.
Эти дополнительные ганглии берут начало в толстом ядре, расположенном выше грудины, и ветвятся, ветвятся… Какое-то скопище червей! Кошмар! Насколько можно разобрать с помощью моего полевого сканера, одни червеобразные отростки заканчиваются в миндалинах, другие — в мозгу. Поражены оба полушария. Однако температура, метаболизм, лимфоциты — все в норме. Реакции отторжения инородной ткани тоже нет. Из томограммы явствует, что эти «червяки» представляют собой не что иное, как обширные метастазы. Ткань крестоформа родственна моей собственной. ДНК моя.
Я принадлежу крестоформу.
День 116-й
Каждый день я меряю шагами свою клетку. С востока и юга путь преграждают огненные леса. С северо-востока — заросшие лесом овраги. С севера и запада — Разлом. Трижды Двадцать и Десять не разрешают мне спускаться в Разлом ниже базилики. Крестоформ не позволяет мне удаляться от Разлома больше чем на десять километров.
Сначала я не мог в это поверить. Доверившись удаче и Божьей помощи, я решил бежать через огненные леса. Но не пройдя и двух километров, почувствовал сильную боль в груди, руках и голове. Я был уверен, что у меня обширный инфаркт. Но, как только повернул назад, к Разлому, боль исчезла. Я провел еще несколько подобных экспериментов, и результаты неизменно повторялись. Стоило мне удалиться от Разлома и углубиться в огненный лес, как тут же появлялась боль. Чем дальше я уходил, тем сильнее она становилась, пока я не поворачивал назад.
Я начал понимать и другое. Вчера я обследовал северный участок плато и наткнулся на обломки космического корабля. Нашел я их в камнях у оврага, неподалеку от опушки огненного леса. Ржавая, опутанная лианами груда металла — вот и все, что осталось от «челнока». Пробираясь между металлическими ребрами древнего аппарата, я представлял, как все это происходило: радость семидесяти уцелевших, короткое путешествие к Разлому, наконец, открытие базилики и… и что? Гадать дальше бессмысленно, но… кое-какие подозрения у меня есть. Завтра я еще раз попробую обследовать кого-нибудь из бикура на медсканере. Теперь, когда я «принадлежу крестоформу», может быть, они позволят мне это.
Каждый день я делаю себе томограмму. «Черви» не рассасываются. Не исключаю, что они стали толще. А может, и нет. Я убежден, что черви по природе своей — паразиты, хотя мой организм этого и не чувствует. Ходил на пруд, к водопаду, изучал свое отражение в воде. Все то же длинное стареющее лицо, которое за последние годы я стал ненавидеть. Я даже заглянул себе в рот и, признаться, готов был увидеть серые нити, проросшие сквозь небо и гортань. Там ничего не было.
День 117-й
Бикура бесполы. Не холостяки, давшие обет безбрачия, не гермафродиты, не сексуально недоразвитые. Просто бесполые. Они лишены внешних и внутренних половых органов. Напрочь — как детская пластмассовая кукла. Нет никаких признаков, что их семенники или яичники атрофировались или удалены хирургическим путем. Никаких признаков, что они вообще существовали. Моча выводится через примитивный мочеиспускательный канал, который заканчивается маленькой камерой, прилегающей к заднему проходу — своего рода клоака.
Бета согласилась пройти обследование. Томограммы подтвердили то, чему отказывались верить мои глаза. Дел и Тета также согласились подвергнуться сканированию. Сомнений нет — и остальные бикура бесполы. И нет никаких оснований считать, что когда-то они были другими. Если предположить, что все они родились такими, то кто в таком случае их родители? И как же намерены размножаться эти бесполые куски человеческой плоти? Тут должна быть какая-то связь с крестоформом.
Покончив с обследованием бикура, я скинул одежду и обследовал себя самого. Крест проступает у меня на груди как розовый шрам, но я все еще мужчина.
Надолго ли?
День 133-й
Альфа мертв.
Три дня назад, утром, он сорвался со скалы. Я был рядом с ним. Мы собирали луковицы челмы меж больших валунов неподалеку от Разлома, километрах в трех к востоку от деревни. Последние двое суток шел дождь; камни были мокрые и довольно скользкие. Взбираясь по откосу, я глянул вверх и успел увидеть, как Альфа оступился и, соскользнув по каменной плите, сорвался вниз. Он не кричал. Единственным звуком, сопровождавшим его падение, был треск рвущейся ткани — его одежда зацепилась за камень. Несколько секунд спустя раздался тошнотворный звук — с таким разбивается упавший арбуз. Это тело Альфы, пролетев около восьмидесяти метров, ударилось о выступ скалы.
За час я отыскал тропинку, по которой можно было до него добраться. Но, еще не начиная спускаться по предательскому склону, я уже знал: ему ничто не поможет. Впрочем, какая разница? Это мой долг.
Тело Альфы застряло между двумя большими камнями. Должно быть, смерть наступила мгновенно; руки и ноги были переломаны, правая сторона черепа — раздроблена. Кровь и мозг налипли на мокрый камень, словно остатки некоего печального пиршества. Я стоял над этим маленьким телом и плакал. Не знаю почему. Просто плакал — и все. Плача, я прочел отходную и помолился, чтобы Господь принял душу этого несчастного бесполого человечка. Обвязав тело Альфы лианами, я кое-как вскарабкался обратно, а потом в несколько приемов втащил наверх труп.
Мое появление с мертвецом не вызвало у бикура большого интереса. Бета и еще человек шесть подошли, безучастно рассматривая труп. Никто не спросил меня, как он умер. Через несколько минут небольшая группа разбрелась.
Я отнес тело на мыс, где несколько недель тому назад похоронил Тука. Плоским камнем я выкопал неглубокую могилу. И тут появился Гамма. Глаза его расширились; на какую-то долю секунды мне показалось, что он в ужасе.
— Что ты делаешь? — спросил Гамма.
— Зарываю его. — Я слишком устал, чтобы пускаться в долгие объяснения.
— Нельзя. — Это прозвучало как приказ. — Он принадлежит крестоформу.
Гамма повернулся и быстро пошел в деревню. Я с удивлением смотрел ему вслед. Когда бикура исчез из виду, я развернул саван.
Вне всякого сомнения, Альфа был по-настоящему мертв. Для него, как и для всей вселенной, больше не имело значения, принадлежит он крестоформу или нет. Во время падения с него сорвало большую часть одежды, а вместе с ней — и все его достоинство. Правая сторона его черепа была разбита и пуста, как выеденное яйцо. Один глаз слепо смотрел в небо Гипериона, другой, в котором еще сохранилось какое-то ленивое выражение, выглядывал из-под полуопущенного века. Грудная клетка была совершенно изуродована; из прорванной кожи торчали обломки костей. Обе руки были сломаны, а левая нога вообще непонятно на чем держалась. Я на скорую руку снял томограмму. Обследование показало обширные внутренние повреждения; даже сердце бедняги от удара превратилось в бесформенную массу.
Я дотронулся до холодного тела. Трупное окоченение уже начиналось. Я коснулся крестообразного рубца у него на груди и быстро отдернул руку. Крест был теплым.
— Отойди!
Передо мной стояла Бета. Чуть поодаль столпились остальные бикура. У меня не было никаких сомнений: если я не отойду от тела сию же секунду, они разорвут меня на куски. Я встал. В этот момент какой-то кусочек моего мозга (от испуга, видимо, впавшего в идиотизм) отметил, что теперь их не Трижды Двадцать и Десять, а Трижды Двадцать и Девять. Что показалось мне тогда весьма смешным.
Бикура подняли тело и двинулись назад, в сторону деревни. Бета взглянула на небо, потом на меня и сказала:
— Время близко. Ты должен идти.
Мы спустились в Разлом. Тело уложили в корзину из лиан и спустили туда же.
Солнце заходило и вот-вот должно было осветить базилику. Тело Альфы положили на широкий алтарь и сняли с него последние лохмотья.
Не знаю, чего я ожидал, наверное, какого-нибудь ритуального каннибализма. Я бы ничему не удивился. Но бикура просто дожидались момента, когда разноцветные солнечные лучи ворвутся в базилику. Тогда один из них воздел руки и нараспев произнес:
— Ты будешь следовать кресту все твои дни.
Трижды Двадцать и Десять опустились на колени и повторили эту фразу. Я остался стоять. Молча.
— Ты будешь принадлежать крестоформу все твои дни, — сказал маленький бикура. «Все твои дни», — хором повторили остальные, и под сводами базилики раскатилось эхо. Закатное солнце превратило дальнюю стену в сплошной кроваво-красный ковер, на котором отпечаталась огромная тень креста.
— Ты будешь принадлежать крестоформу отныне и навеки… — И снова эхо вторило голосам, а снаружи задувал ветер, и органные трубы каньона звучали, как плач замученного ребенка.
Когда бикура закончили свою молитву, я хотел было прошептать «Аминь», но промолчал. Я словно прирос к месту. Остальные внезапно повернулись и вышли. С полным безразличием, будто капризные дети, вдруг потерявшие всякий интерес к игре.
— Тебе нечего здесь делать, — сказала Бета, когда мы остались одни.
— Я так хочу, — возразил я.
Я ждал, что она будет настаивать на своем, но Бета, ни слова не говоря, повернулась и отправилась вслед за остальными. Свет померк. Я вышел наружу полюбоваться заходом, а когда вернулся, началось это.
Однажды в школе нам показывали голографический фильм. В ускоренном темпе мы видели, как разлагается труп прыгуна. То, что природа делает за неделю, было сжато в тридцать секунд ужаса. Внезапно крохотный трупик комично раздулся, потом начала рваться натянутая кожа; во рту, в глазах, на боках появились черви, и, наконец, разом, как пробка из бутылки, из мяса вылезли кости. Затем скопище червей закрутилось справа налево, от головы к хвосту, и в этом отвратительном водовороте мгновенно исчезла гниющая плоть. Остались лишь кости, хрящи и шкура.
Теперь я наблюдал, как то же самое происходит с человеческим телом.
С каждой минутой становилось все темнее, но я не сдвинулся с места и смотрел во все глаза. Гулкую тишину базилики нарушали только удары пульса, отдававшиеся у меня в висках. Внезапно труп Альфы шевельнулся, задергался и буквально воспарил над алтарем, сотрясаясь в яростных судорогах распада. За несколько секунд крестоформ словно вырос в размерах и налился краснотой, как кусок сырого мяса. Мне показалось, что я вижу волокна и червеобразные отростки, пронизывающие разлагавшееся тело, подобно арматуре в плавящейся восковой модели статуи. И плоть потекла.
Эту ночь я провел в базилике. Крест на груди Альфы освещал пространство вокруг алтаря, и, когда труп шевелился, по стенам метались причудливые тени.
Альфа покинул базилику на третьи сутки, и все это время я находился рядом с ним. Большинство видимых изменений произошло к концу первой ночи. Тело бикура, которого я называл Альфой, разложилось и возродилось заново на моих глазах. Восстановленный труп напоминал Альфу, хотя и не был точной копией. Но все повреждения исчезли. Лицо — гладкое, без морщин, как у пластмассовой куклы — застыло в полуулыбке. На восходе солнца третьего дня я увидел, как грудь мертвеца начала подниматься и опускаться. Затем послышался первый вздох — с таким звуком вода льется в кожаные мехи. Незадолго до полудня я покинул базилику и поднялся по лианам наверх.
Впереди лез Альфа.
Он все время молчит, не отвечает на вопросы и глядит прямо перед собой бессмысленным взглядом. Иногда, заслышав отдаленные голоса, он застывает на месте.
Когда мы вернулись в деревню, никто не обратил на нас внимания. Альфа отправился к себе в хижину и сейчас сидит там. Я сижу у себя. Минуту назад я расстегнул балахон и провел пальцем по крестообразному рубцу. Крестоформ неподвижен, он врос в мою грудь. И ждет.
День 140-й
Я поправляюсь от ран и потери крови. Пытался вырезать его заостренным камнем. Не вышло.
Ему не нравится боль. Я терял сознание, но не от боли и не от потери крови, а значительно раньше. И стоило мне, придя в себя, возобновить свои попытки, как я тут же отключался снова. Ему не нравится боль.
День 158-й
Альфа начинает говорить. Он кажется глупее, медленнее в движениях и лишь смутно осознает мое (или чье-либо еще) присутствие. Однако он ест и двигается. Похоже, он все-таки узнает меня. На томограмме видны внутренние органы молодого человека. Сердце — как у шестнадцатилетнего.
Я должен обождать еще один здешний месяц и десять дней (всего дней пятьдесят), пока не «уснут» огненные леса. Тогда я попытаюсь уйти. Что ж, боль так боль. Посмотрим, кто сдастся первый.
День 173-й
Еще одна смерть.
Неделю назад пропал бикура со сломанным пальцем, которого я окрестил Вилем. Вчера все разом, словно следуя сигналам радиомаяка, отправились на северо-восток и в нескольких километрах, у большого оврага, нашли его останки.
Очевидно, он полез на дерево за чем-то съедобным, и под ним подломилась ветка. Смерть, должно быть, наступила мгновенно — он сломал себе шею. Но главное — место, куда он упал. Тело (если его еще можно было назвать телом) лежало между двумя большими буграми, под которыми гнездятся крупные красные насекомые — Тук называл их огненными богомолами. На мой взгляд, самое подходящее название для них — кожееды. За несколько дней насекомые оставили от трупа одни кости. Голый скелет, несколько кусочков кожи, обрывки сухожилий и крестоформ. Он лежал на грудной клетке, словно чудотворное распятие давно усопшего первосвященника.
Это ужасно, но я ничего не могу с собой поделать: к печали примешивается нотка торжества. Крестоформу ничего не сделать с этими костями; пусть проклятый паразит игнорирует логику нашего мира, но закона сохранения вещества ему не одолеть. Виль умер настоящей смертью. С этого момента их уже не Трижды Двадцать и Десять, а Трижды Двадцать и Девять.
День 174-й
Я глупец.
Сегодня я заговорил с ними о Виле и о его кончине. Меня удивляло отсутствие реакции бикура на настоящую смерть одного из них. Они забрали крестоформ, но сам скелет оставили там, где он лежал, и никаких попыток перенести останки в базилику не предпринимали. Всю ночь мне не давала покоя мысль: что, если они заставят меня занять его место, стать одним из Трижды Двадцати и Десяти.
— Очень печально, — сказал я, — что один из вас умер настоящей смертью. Что же теперь станет с Трижды Двадцатью и Десятью?
Бета пристально посмотрела на меня.
— Он не может умереть настоящей смертью, — спокойно ответил мне маленький лысый гермафродит. — Он принадлежит крестоформу.
Вскоре после этого, в очередной раз томографируя обитателей деревни, я узнал, в чем дело. Тот, которого я называл Тета, внешне никак не изменился, но в его плоть погружены уже два креста. Не сомневаюсь, что этот бикура в ближайшие годы проявит склонность к полноте, а затем разбухнет подобно какой-то уродливой кишечной палочке, вызревающей в чашке Петри. Когда он/она/оно умрет, из могилы его встанут двое, и Трижды Двадцать и Десять снова окажутся в полном комплекте.
По-моему, я схожу с ума.
День 195-й
Неделю за неделей я изучаю проклятого паразита, но до сих пор не представляю, как он функционирует. Более того, похоже, я теряю к этому интерес. То, о чем я сейчас думаю, важнее.
Почему Бог допустил эту непристойность?
Почему бикура наказаны таким образом?
Почему на мою долю выпало разделить их судьбу?
Каждый вечер, во время молитвы, я задаю себе эти вопросы. Но ответа нет. Только ветер в Разломе поет свою проклятую песню.
День 214-й
На оставшихся десяти страницах я должен дописать полевой дневник, а также изложить некоторые гипотезы. Эта запись — последняя. Огненные леса «засыпают»; завтра утром я ухожу.
Несомненно, я обнаружил самое инертное из всех человеческих сообществ. Бикура осуществили извечную мечту о бессмертии, но отдали взамен свою человеческую природу и бессмертные души.
Эдуард, я долго боролся со своей верой, точнее, с ее отсутствием, но сейчас, в этом ужасном уголке забытого Богом мира, когда тело мое терзает отвратительный паразит, ко мне странным образом вернулась вера — и вера столь сильная, какой я не знал с поры нашего с тобою детства. Только теперь я понял, как она необходима. Чистая, слепая вера, бросающая вызов здравому смыслу — как спасательный круг в яростном и беспредельном океане вселенной, где царят жестокие законы, абсолютно безразличные к судьбам крохотных разумных существ, обитающих в нем.
День за днем я пытался покинуть район Разлома и день за днем испытывал ужасающую боль. Она уже стала частью моего мира, как это неестественно маленькое солнце или лазурное небо. Боль стала моим союзником, моим ангелом-хранителем, тем звеном, что пока еще связывает меня с человечеством. Крестоформу не нравится боль. Не нравится она и мне, но, подобно ему, я заставлю ее служить моим целям. И сделаю я это сознательно, а не инстинктивно, как кусок заключенной во мне чужеродной ткани. Это безмозглое существо стремится избежать смерти любыми способами. Я тоже не хочу умирать, но я приветствую боль и смерть как противоположность вечному прозябанию. Жизнь священна. Я все еще придерживаюсь этого постулата, на котором зиждется наша вера и наше учение последние двадцать восемь веков (на протяжении которых, увы, жизнь ценилась так дешево). Но еще более священна душа.
Я понимаю теперь, что, пытаясь подтасовать результаты раскопок на Армагасте, я не мог возродить церковь. Самое большее, что я в силах был предложить ей, — это лжесуществование, подобное тому, что ведут эти несчастные ходячие трупы. Если Церкви суждено погибнуть, она должна сделать это со славою и в полном сознании своего возрождения во Христе. Она должна сойти во тьму не покорно, но достойно — бесстрашно и с твердой верой, как уходили до нас миллионы. Уйти, сохраняя живую связь с поколениями людей, стоявших перед лицом смерти. С теми, кто молча умирал за лагерной проволокой. С теми, кто сгорел в пламени ядерного пожара. С теми, кто корчился от боли в больничных палатах. С теми, кто погиб от рук погромщиков. Сойти во тьму — если не с надеждой, то с молитвой, что во всем этом есть смысл, нечто стоящее всей этой боли, всех жертв. У тех, кто ушел до нас, не было ни доказательств, ни фактов, ни убедительных теорий — лишь тонкая нить надежды да шаткая вера. И если они все же смогли сохранить свою хрупкую надежду пред ликом тьмы, то так же должен поступить я… и Церковь.
Я уже не верю, что лекарство или скальпель помогут мне избавиться от вселившегося в меня паразита, но если кто-нибудь сумеет отделить его, изучить и уничтожить — пусть даже ценой моей жизни, — я умру с сознанием выполненного долга.
Огненные леса спокойны как никогда. А теперь спать. Мне надо выйти до рассвета.
День 215-й
Выхода нет.
Я прошел по лесу четырнадцать километров. Кое-где деревья еще «искрят», но пройти можно. Три недели — и я прошел бы лес насквозь.
Меня не пускает крестоформ.
Боль как при затяжном сердечном приступе. Тем не менее я шел вперед. Спотыкался, падал, полз через золу. В конце концов я потерял сознание. Придя в себя, я обнаружил, что ползу в сторону Разлома. Раз за разом я поворачивал обратно, проходил километр, потом метров пятьдесят ползком — и снова терял сознание. А придя в себя, обнаруживал, что не продвинулся ни на шаг. Весь день шла эта безумная битва за мое тело.
Перед восходом солнца бикура обнаружили меня в пяти километрах от Разлома и принесли назад.
Боже милостивый, почему ты допускаешь все это?
У меня не остается никакой надежды вырваться отсюда, разве что кто-нибудь придет и заберет меня.
День 223-й
Снова попытка. Снова боль. Снова неудача.
День 257-й
Сегодня мне исполнилось шестьдесят восемь стандартных лет. Неподалеку от Разлома я строю часовню. Работа движется. Вчера попытался спуститься к реке, но Бета и четверо других завернули меня назад.
День 280-й
По местному исчислению я прожил на Гиперионе ровно год. Год в чистилище или год в аду?
День 311-й
Сегодня, заготавливая камни на карнизе под уступом, где будет построена часовня, я обнаружил свои громоотводы. Должно быть, бикура сбросили их с обрыва в ночь, когда убили Тука. Двести двадцать три дня тому назад.
С их помощью я пройду огненные леса когда угодно. Конечно, если позволит крестоформ. Но он не позволит. Если бы они не уничтожили мою аптечку! Там были анестетики! Но когда я собирал шесты, у меня возникла идея.
Я все еще продолжаю свои дилетантские эксперименты с медсканером. Так вот, когда две недели назад Тета сломал ногу (кость переломилась в трех местах), я наблюдал за реакцией крестоформа. Паразит делал все возможное, чтобы погасить боль: большую часть времени Тета пролежал без сознания, а его организм вырабатывал невероятное количество эндорфинов. Но переломы были очень болезненные, и на четвертые сутки бикура перерезали Тете горло и отнесли его тело в базилику. Крестоформу было легче восстановить труп, чем длительное время переносить такую боль. Непосредственно перед тем, как они убили Тету, я сканировал его тело. Крестоформ ослабил хватку. Некоторые участки центральной нервной системы почти освободились от червеобразных волокон.
Не знаю, смогу ли я причинить себе такую боль. Выдержу ли? Останусь ли жив? Лишь в одном я уверен: бикура этого не допустят.
Сейчас я сижу возле недостроенной часовни и пытаюсь что-нибудь придумать.
День 438-й
Часовня закончена. Это труд моей жизни. Сегодня вечером, когда бикура спустились в Разлом, дабы совершить свое ежедневное богослужение (точнее, пародию на богослужение), я отслужил мессу перед алтарем только что возведенной часовни. Я испек хлеб из муки челмы. По вкусу он напоминает мягкие, желтые листья этого растения. Но для меня он был точно таким же, как та гостия, которую я вкусил шестьдесят лет назад, впервые принимая Святое Причастие.
Утром я совершу то, что задумал. Все готово: дневники, записи и томограммы уложены в мешок, сплетенный мною из волокон бестоса. Это лучшее из того, что я мог придумать.
Вместо освященного вина у меня была только вода, но в тусклом свете заката она выглядела кроваво-красной и по вкусу напоминала вино причастия.
Идея заключается в следующем. Нужно проникнуть достаточно далеко в огненный лес. Вся надежда на то, что деревья тесла сохраняют остаточную активность даже во время спокойных периодов.
Прощай, Эдуард. Едва ли ты еще жив, а если даже и так, нам все равно больше не встретиться. Нас разделяют не только годы пути, но и гораздо более глубокая пропасть, имеющая форму креста. И все же я надеюсь снова увидеть тебя — не в этой жизни, а в той, которая наступит потом. Тебе странно слышать это от меня снова? Но вот что я скажу тебе, Эдуард. Многие десятилетия я прожил в сомнениях и в великом страхе перед тем, что ждет меня впереди, но теперь наконец душа моя успокоилась, и сердце пребывает в мире.
Господи, я грешен пред Тобою И всем сердцем осуждаю грехи свои, Но не потому, что я утратил рай, И не потому, что мне грозят адские муки. Более всего я сокрушен тем, что согрешил пред Тобою. Господь всеблагой! Вся моя любовь Будет принадлежать Тебе. Я твердо решил, уповая на твою милость, покаяться во всех моих грехах, и искупить их, И исправить свою жизнь, Аминь.24:00
Лучи заходящего солнца врываются в открытое окно часовни и заливают светом алтарь, вырезанный из дерева потир и меня самого. Ветер в Разломе начинает свой хорал. Для меня он — последний. Если повезет, я, с Божьей помощью, никогда больше его не услышу.
— Это последняя запись, — сказал Ленар Хойт.
Когда священник прекратил чтение, шестеро паломников, сидевших за столом, разом повернулись к нему, как бы пробуждаясь от общего сна. Консул посмотрел вверх и увидел, что Гиперион стал гораздо ближе. Он занимал теперь почти треть небосвода, и его холодный свет затмевал звезды.
— Я вернулся сюда недель через десять после того, как в последний раз видел отца Дюре, — продолжал отец Хойт. Его голос звучал все более хрипло. — На Гиперионе за это время прошло более восьми лет… С последней записи в дневнике отца Дюре — около семи. — Священник явно испытывал боль, его лицо покрылось испариной и побледнело настолько, что казалось — оно источает какой-то болезненный свет.
— За месяц я добрался до плантации Пересебо, расположенной вверх по реке от Порт-Романтика, — продолжал он, стараясь говорить твердо. — Я предполагал, что плантаторы скорее скажут правду мне, чем сотруднику консульства или местных властей. Я оказался прав. Администратор из Пересебо по фамилии Орланди вспомнил, что отец Дюре у них останавливался. Подтвердила это и его жена Семфа, которую отец Дюре упоминет в своих дневниках.
Управляющий несколько раз посылал тогда на плато спасательные экспедиции, но ни одна из них не достигла цели, ибо активность огненных лесов в тот год была исключительно высокой. Через несколько лет они оставили всякую надежду найти Дюре или проводника Тука живыми… Тем не менее Орланди нанял опытных пилотов, и на двух скиммерах, принадлежащих плантации, мы отправились на плато. Мы решили пробраться в страну бикура по самому Разлому, положившись на автоматику и на удачу. Хотя при таком маршруте основной массив огненных лесов оставался в стороне, мы все-таки потеряли один скиммер и четырех человек — так велика была активность деревьев тесла.
Отец Хойт замолчал и слегка покачнулся. Схватившись за край стола, чтобы обрести устойчивость, он откашлялся и заговорил снова:
— Рассказ мой почти окончен. Мы обнаружили деревню бикура. Их было ровно семьдесят, и были они такие же глупые и необщительные, какими изображает их в своих записках отец Дюре. Мне удалось выведать у них, что он погиб, пытаясь проникнуть в огненный лес. Мешок из бестоса уцелел; там были его дневники и томограммы. — Хойт обвел присутствующих быстрым взглядом, затем снова опустил глаза. — Мы заставили их показать нам место, где погиб отец Дюре. Они… они не погребли его. Его останки сильно обгорели и разложились, но обнаруженного было достаточно, чтобы убедиться — разряды деревьев тесла уничтожили… не только тело, но и… крестоформ. Отец Дюре умер настоящей смертью. Мы отвезли его останки на плантацию Пересебо и там, отслужив панихиду, предали земле. — Хойт глубоко вздохнул. — Вопреки моим настойчивым возражениям господин Орланди уничтожил деревню бикура и часть стены Разлома кумулятивными ядерными зарядами, доставленными с плантации. Я не думаю, что кому-нибудь из бикура удалось уцелеть. Вход в лабиринт и так называемая базилика, по всей видимости, погребены обвалом. Во время экспедиции я был ранен, и потому, прежде чем возвращаться на северный континент и заказывать билеты на Пасем, мне пришлось несколько месяцев провести на плантации. О существовании этих дневников, равно как и об их содержании, знают только Орланди, монсеньор Эдуард и те высокопоставленные сановники, которых монсеньор Эдуард счел нужным поставить в известность. Но, насколько я знаю, в связи с дневниками отца Поля Дюре Церковь не делала никаких заявлений.
Последние слова отец Хойт произнес стоя и сразу же сел. С его подбородка каплями стекал пот, а лицо в отраженном свете Гипериона казалось синевато-бледным.
— Это… все? — спросил Мартин Силен.
— Да, — с трудом ответил отец Хойт.
— Леди и джентльмены, — произнес Хет Мастин, — нам пора. Я предлагаю всем собрать багаж и встретиться на корабле нашего друга Консула в сфере № 11 не позже, чем через тридцать минут. Я же воспользуюсь одним из челночных кораблей Древа и присоединюсь к вам позднее.
Не прошло и пятнадцати минут, как почти все собрались. Тамплиеры перебросили мостик с рабочего пирса, находившегося на внутренней поверхности сферы, к балкону верхнего яруса корабля, и Консул отвел гостей в комнату отдыха. Тем временем клоны внесли багаж и удалились.
— Чудесный старый инструмент. — Полковник Кассад провел ладонью по гладкой крышке «Стейнвея». — Клавикорд?
— Фортепьяно, — ответил Консул. — Сделано еще до Хиджры. Итак, все в сборе?
— Все, кроме Хойта, — ответила Ламия Брон, усаживаясь в проекционной нише.
Вошел Хет Мастин.
— Военный корабль Гегемонии дает вам разрешение на посадку в космопорте Китса, — сказал капитан и огляделся. — Сейчас я пошлю матроса узнать, что с господином Хойтом. Возможно, он нуждается в помощи.
— Не надо. — Консул постарался придать своему голосу убедительность. — Я сам помогу ему. Не могли бы вы объяснить, как найти его каюту?
Несколько секунд капитан корабля-дерева молча смотрел на Консула, затем сунул руку в складки своей мантии и достал диск-указатель.
— Счастливого пути! — сказал он, передавая Консулу диск. — Увидимся на планете. В полночь мы выступаем из святилища Шрайка в Китсе.
Консул поклонился.
— Путешествие под защитой ветвей вашего Древа, Хет Мастин, доставило мне истинное удовольствие, — произнес он официальным тоном. Повернувшись к остальным, он обвел рукой зал: — Прошу вас, устраивайтесь поудобней. Можно прямо здесь, в комнате отдыха. Или, если угодно, пройдите на нижнюю палубу, в библиотеку. Корабль сам позаботится о вас и ответит на все ваши вопросы. Как только мы с отцом Хойтом вернемся, сразу же стартуем.
Каюта священника находилась в средней части «дерева», на конце небольшой ветки. Как и предполагал Консул, указатель комлога, который вручил ему Хет Мастин, служил также и ключом, отпирающим папиллярный замок. После нескольких безуспешных попыток привлечь внимание священника звонками и ударами в дверь Консул коснулся диском замка и вошел в стручок.
Отец Хойт, запрокинув голову, стоял на коленях посреди ковра из трав. Вокруг него валялось белье, какие-то приборы, одежда и лекарства из стандартной аптечки. Он сорвал с себя накидку и воротничок, а мокрая от пота рубашка была разодрана в клочья. Через стенку стручка просачивался свет Гипериона, придавая происходящему оттенок нереальности; казалось, они находятся под водой… или в соборе, подумал Консул.
Лицо Ленара Хойта было искажено судорогой, пальцы царапали грудь. Мышцы, вздувшиеся под бледной кожей его предплечий, пульсировали, словно живые существа.
— Инъектор… неисправен, — задыхаясь, произнес Хойт. — Прошу вас…
Консул поспешно кивнул, приказал двери закрыться и опустился на колени рядом со священником. Затем он вынул из его судорожно сжатых пальцев бесполезный инъектор и извлек ампулу. Ультраморфин. Консул еще раз кивнул и достал из аптечки, которую принес со своего корабля, новый инъектор. Ему потребовалось всего пять секунд, чтобы заправить его ультраморфином.
— Ради Бога, — взмолился Хойт, извиваясь в судорогах. Консулу казалось, что он воочию видит волны боли, пробегающие по телу священника.
— Сейчас, — успокоил его Консул и перевел дыхание. — Но сначала вы окончите свой рассказ.
Хойт, не сводя с него глаз, потянулся к инъектору. Но Консул, который и сам обливался потом, держал прибор так, что священник не мог его достать.
— Сию секунду, — повторил он. — Как только вы все расскажете. Мне необходимо это знать.
— Иисусе милосердный, — простонал Хойт. — Умоляю вас!
— Сейчас, сейчас, — задыхаясь, ответил Консул. — Но сначала вы скажете мне правду.
Прерывисто дыша, отец Хойт рухнул на четвереньки.
— Негодяй! — Священник несколько раз глубоко вздохнул, потом задержал дыхание и, наконец, справившись с судорогой, сел прямо. В безумном взгляде его мелькнуло нечто похожее на облегчение. — И тогда… вы… введете мне?
— Да, — сказал Консул.
— Хорошо, — еле слышно прошептал Хойт. — Я скажу вам… правду. Плантация Пересебо… как я говорил. Мы прилетели… в начале октября… Ликий… восемь лет после того, как Дюре… исчез. О Боже, как больно! Спирт и эндорфины больше не действуют. Только… чистый ультраморфин…
— Понимаю, — прошептал Консул. — Инъектор готов. Но сначала рассказ.
Священник опустил голову. Пот стекал у него по щекам и переносице и каплями падал в короткую траву. Консул заметил, что его мышцы напряглись, словно он готовился к нападению, но затем новый приступ боли обрушился на тщедушное тело, и Хойт обмяк.
— Тот скиммер… он не погиб… Семфа, еще двое мужчин и я… пошли на вынужденную… рядом с Разломом… Орланди улетел дальше… вверх по реке. Его машина… он должен был переждать, пока деревья не разрядятся…
…Бикура пришли ночью. Убили… убили Семфу, пилота… и того, другого тоже… Забыл, как его звали… А меня… оставили в живых. — Хойт протянул было руку к наперсному кресту, но понял, что в припадке сорвал его. Он рассмеялся коротким смешком, но заставил себя замолчать, прежде чем смех перешел в рыдания. — Они… рассказали мне о пути креста. О крестоформе. Рассказали мне о… Сыне Пламени…
…На следующее утро они отвели меня… к нему. — Хойт попытался сесть прямо. Выкатив глаза, он рвал себе щеки ногтями. Видимо, он испытывал страшную боль, но уже не думал про ультраморфин. — Около трех километров в глубь огненного леса… большое дерево тесла… восемьдесят… нет, сто метров высотой, не меньше. Уже спокойно, но все еще много… ионизация… и повсюду зола.
…Бикура не хотели… не хотели подходить слишком близко. Просто опустились на колени и склонили свои мерзкие лысые головы. Но я… подошел близко… должен был. Боже милостивый… Господи Иисусе, это был он. Дюре. То, что от него осталось.
…Он забрался на три… может быть, на четыре метра… вверх по стволу дерева… по веревочной лестнице… Соорудил себе платформу. Для ног. Разломал громоотводы… сделал из них длинные шипы… Заточил… Должно быть, забил камнем самый длинный… сквозь обе ступни… сквозь платформу из бестоса… в дерево…
…Его левая рука… он забил шип между лучевой и локтевой костью… мимо вен… как проклятые римляне. Очень надежно… Пока цел скелет… Другая рука… правая рука… ладонью вниз. Сперва он забил шип. Заостренный с обоих концов. Затем… нанизал свою правую руку. Каким-то образом согнул шип. Крюк…
…Лестница свалилась… давно… но это был бестос. Не горит. Я залез к нему. Все сгорело еще несколько лет назад… одежда, кожа, верхний слой мяса… но мешок из бестоса все еще висел у него на шее…
…Сплав, из которого были сделаны шипы, все еще проводил ток, даже когда… я мог чувствовать это… видеть, как это… проходит через его тело… то, что осталось от тела…
…Это все еще выглядело как Поль Дюре. Это важно. Я сообщил монсеньору. Кожи нет. Плоть почти исчезла. Видны нервы и эти… как серые и желтые корни. Боже, какая вонь. Но это все еще выглядело как Поль Дюре!..
…Я понял тогда. Понял все. Каким-то образом… даже раньше, чем прочел дневники. Понял, что он висел здесь… о Боже милостивый… семь лет. Живой. Умирающий. Крестоформ… заставлял его оживать снова. Электричество… текло через него каждую секунду все эти… семь лет. Пламя. Голод. Боль. Смерть. Но каким-то образом проклятый… крестоформ… всасывая вещество из дерева, может быть, из воздуха, из того, что осталось… восстанавливал, что мог… принуждал его жить… и чувствовать боль… снова, и снова, и снова…
…Но он победил. Боль была его союзником. Господи Иисусе… Что такое несколько часов на кресте… а потом — копье и покой… Семь лет!..
…Но… он победил. Когда я снял мешок, крестоформ свалился с его груди. Просто… слетел… эти проклятые корни… оборвались. А затем то… то, что я считал трупом… человек поднял голову. Не веки. Глаза запеклись белым. Губы исчезли. Но он посмотрел на меня и улыбнулся. Он улыбнулся. И он умер… умер по-настоящему… там, у меня на руках. В десятитысячный раз, но теперь по-настоящему. Он улыбнулся мне и умер.
Хойт замолчал, словно хотел остаться наедине со своими страданиями, затем, то и дело стискивая от боли зубы, продолжил:
— Бикура отвели меня… назад… к Разлому. Орланди прилетел на следующий день. Спас меня. Он… Семфа… я не мог… он спалил лазером деревню, сжег бикура… на месте… они стояли, как стадо безмозглых баранов. Я не… я не спорил с ним. Я смеялся. Боже милостивый, прости меня. Орланди засыпал все вокруг кумулятивными снарядами… для расчистки леса… под фибропластовые плантации.
Хойт посмотрел прямо в глаза Консулу и судорожно взмахнул правой рукой.
— Сначала болеутоляющие средства делали свое дело. Но с каждым годом… с каждым днем… становилось хуже. Даже в фуге… боль. В любом случае я должен был вернуться назад. Как он мог… семь лет! О, Иисусе милосердный, — простонал отец Хойт и впился ногтями в ковер.
Консул быстро наклонился к нему, ввел под мышку полную ампулу ультраморфина и, когда священник стал оседать, подхватил его и бережно уложил на ковер. Все плыло перед глазами Консула, когда он разорвал мокрую от пота рубашку Хойта и отшвырнул лохмотья в сторону. Да, он был там, на груди. Он затаился под бледной кожей как огромный крестоообразный червь. Консул перевел дыхание и осторожно перевернул священника лицом вниз. Второй крестоформ был там, где он и ожидал его обнаружить. Крестообразный рубец чуть меньше первого проступал на худой спине священника, как раз между лопатками. Когда пальцы Консула коснулись воспаленной плоти, Хойт чуть заметно дернулся.
Консул действовал уверенно и неторопливо. Сперва он упаковал багаж священника и прибрал в комнате. Затем одел Хойта — бережно, как одевают, провожая в последний путь, тело родного человека.
Комлог Консула подал сигнал вызова.
— Пора стартовать, — раздался голос полковника Кассада.
— Идем, — ответил Консул. По комлогу он вызвал клонов, чтобы отнести багаж. Но отца Хойта он понес сам. Тело казалось почти невесомым.
Дверь стручка распахнулась, и Консул вышел из густой тени ветвей в сине-зеленое сияние Гипериона, заполнявшего теперь весь небосвод. Обдумывая легенду, которую ему предстоит рассказать остальным, Консул помедлил секунду и еще раз посмотрел в лицо спящему священнику. Потом бросил взгляд вверх, на Гиперион, и пошел дальше. Даже если бы сила тяжести была здесь такой же, как на Земле, подумал Консул, ноша не показалась бы ему тяжелой.
Его ребенка давно не было в живых, но сейчас к нему вернулось то давнишнее, напрочь забытое чувство — чувство отца, который несет в постель уснувшего сына.
ЧАСТЬ II
В Китсе, столице Гипериона, было тепло и пасмурно. Дождь прекратился, но над городом медленно ползли тяжелые облака, наполняя воздух соленым дыханием океана, лежавшего в двадцати километрах к востоку. Под вечер, когда серый день выцвел и превратился в серые сумерки, громкий двойной удар потряс город, эхом отразившись от превращенного в гигантскую статую одинокого пика на юге. Облака запылали голубым огнем, и полминуты спустя из них вынырнул эбеново-черный космический корабль. Поддерживаемый столбом термоядерного пламени, он медленно опускался, помигивая красными и зелеными навигационными огнями.
На высоте тысячи метров зажглись посадочные огни корабля, и сразу же со стороны космопорта, расположенного к северу от столицы, навстречу ему поднялись три лазерных луча. Словно приветствуя корабль, они захватили его в рубиновый треножник. На высоте трехсот метров космолет перешел в планирующий режим, плавно, как пивная кружка по мокрой стойке, скользнул в сторону и невесомо погрузился в подготовленную для него посадочную шахту.
Струи воды под высоким давлением начали омывать шахту и основание корабля. Облака пара поднимались вверх и, смешиваясь с завесой редкого дождя, расползались по мощеной равнине космопорта. Когда выключили воду, наступила тишина, нарушаемая лишь шепотом дождя и потрескиванием остывающего корпуса корабля.
Через минуту в двадцати метрах над ограждением шахты из головного обтекателя выдвинулся небольшой балкон. На него вышли пятеро.
— Благодарю вас за приятное путешествие, сэр. — Полковник Кассад учтиво поклонился Консулу.
Тот кивнул в ответ и, облокотившись на перила, глубоко вдохнул свежий воздух. Бисеринки дождя тут же усыпали его плечи и брови.
Сол Вайнтрауб расстегнул свою сумку-люльку и взял ребенка на руки. Перемена давления или температуры, новые запахи, движение, шум или все это вместе — разбудило девочку, и она громко заплакала. Вайнтрауб принялся укачивать ее, но плач не прекращался.
— Подходящий комментарий по случаю нашего прибытия, — бросил Мартин Силен. Поэт был облачен в длинную пурпурную накидку и красный берет, сдвинутый к правому уху. Он захватил с собой стакан и уже успел к нему приложиться. — Клянусь распятием, здесь все переменилось.
Консул, который не был на Гиперионе всего восемь местных лет, только покачал головой. Когда он жил в Китсе, космопорт находился в девяти километрах от города, теперь же лачуги, палатки и грязные улицы окружали летное поле со всех сторон. В те дни маленький порт принимал не более одного корабля в неделю, сейчас Консул насчитал на поле не менее двадцати космолетов. На месте одноэтажного домика, в котором размещались портовое управление и таможня, высилось огромное, собранное из готовых блоков здание; на западе, там где поле сильно раздавалось вширь, появилось с дюжину новых вышек и шахта, а по периметру космопорта торчали десятки стандартных, защитного цвета модулей. Консул знал, что в них может размещаться все что угодно, от наземных станций управления до казарм. Из кучки таких же коробок на дальнем конце посадочной полосы тянулся к небу лес причудливых антенн.
— Прогресс, — пробормотал Консул.
— Война, — возразил полковник Кассад.
— Глядите, там люди. — Ламия Брон указала на юг, в сторону главных ворот, где за внешней оградой и фиолетовым защитным полем беззвучно бушевало тускло-коричневое море.
— Боже мой, — Консул не мог сдержать удивления, — действительно!
Кассад включил бинокль, и они начали по очереди разглядывать многотысячную толпу, осаждавшую проволочные ограждения и защитное поле.
— Зачем они там стоят? — спросила Ламия. — Что им надо?
Даже здесь, на расстоянии полукилометра, чувствовался угрожающий напор людской массы. Морские пехотинцы в темной форме несли караул на внутренней стороне периметра, из чего Консул заключил, что узкая полоска земли между проволокой, силовым полем и цепочкой морских пехотинцев почти наверняка заминирована или простреливается лучами смерти. А может, и то и другое.
— Чего они хотят? — повторила Ламия.
— Убраться отсюда, только и всего, — невозмутимо ответил ей Кассад.
Еще до того, как полковник заговорил, Консул понял, что палаточный городок вокруг космопорта и толпа у ворот — явления неизбежные. Население Гипериона приготовилось покинуть планету. Должно быть, каждый раз, когда в порту садится корабль, у ворот возникает этот безмолвный прибой.
— Ну, один все-таки останется. — Мартин Силен указал на юг, где за рекой высился одинокий пик. — Его хнычущее величество, старина Уильям, упокой, Господи, его грешную душу. — В наступивших сумерках лицо Печального Короля едва проступало сквозь завесу дождя. — Я знал его, Горацио, — произнес пьяный поэт. — Человек бесконечно остроумный. Шутки, шутки… и хоть бы одна смешная. Самая настоящая ослиная задница, Горацио.
Прикрыв дочку от моросящего дождя, Сол Вайнтрауб отошел в сторону, чтобы ее плач не мешал беседе.
— Смотрите, едут, — неожиданно сказал он и мотнул головой.
По мокрой бетонке к кораблю катил автомобиль наземной службы, покрытый камуфляжной полимерной пленкой, за которым следовал армейский ТМП — транспортер на магнитной подушке, оснащенный для передвижения в слабом магнитном поле Гипериона вспомогательными турбонагнетателями.
Мартин Силен, все это время созерцавший мрачный лик Печального Короля Билли, продекламировал тихим, едва слышным голосом:
В угрюмой тьме затерянной долины, Вдали от влажной свежести зари, И полдня жгучего, и одинокой Звезды вечерней, — в мрачной тишине Сидел Сатурн, как тишина, безмолвный, Недвижный, как недвижная скала. Над ним леса, чернея, громоздились, Подобно тучам…[10]На балкон, сжимая голову руками, вышел отец Хойт. Широко открытые глаза и отсутствующий взгляд делали его похожим на разбуженного ребенка.
— Мы прибыли? — спросил он.
— А как же, блин! — вскричал Мартин Силен, возвращая бинокль полковнику. — Давайте же спустимся и поприветствуем жандармов!
Молоденький лейтенант морской пехоты внимательно просмотрел диск с разрешением на посадку, который Хет Мастин получил от командира эскадры, но надменное выражение так и не сошло с его лица. Оставив паломников мокнуть под дождем, он принялся неторопливо сканировать чипы с их визами, время от времени бросая замечания лениво-заносчивым тоном — типичная мелкая сошка, дорвавшаяся до власти. Однако, взяв чип Федмана Кассада, он тут же поднял глаза, сразу сделавшись похожим на удивленного зверька:
— Полковник Кассад?
— Полковник в отставке, — уточнил Кассад.
— Извините… сэр, — заикаясь, пробормотал лейтенант и стал торопливо совать паломникам их чипы. — Я не знал, что вы в этой группе, сэр. То есть… капитан только сказал… я имею в виду… мой дядя был с вами на Брешии, сэр. Я хочу извиниться… все, что в наших силах… я и мои люди…
— Вольно, лейтенант, — сказал Кассад. — Лучше скажи, можно отсюда как-нибудь добраться до города?
— Ну… в общем, сэр… — Молодой морской пехотинец попытался потереть подбородок, но вовремя вспомнил про шлем. — Да, сэр! Но проблема в том, что на вас может накинуться толпа и… К тому же эти проклятые ТМП ни хрена не пашут на этой… ой, простите, сэр. Понимаете, наземный транспорт возит только грузы, а все скиммеры заняты до двадцати двух ноль-ноль, но я был бы счастлив предоставить в ваше распоряжение…
— Минутку, — прервал его Консул.
Метрах в десяти от них приземлился потрепанный пассажирский скиммер, вдоль кожуха которого тянулась золотистая геодезическая линия — эмблема Гегемонии. Из кабины неловко выбрался высокий тощий мужчина.
— Тео! — закричал Консул и бросился навстречу прилетевшему. Они протянули было друг другу руки, но потом, передумав, крепко обнялись. — Черт возьми, — Консул улыбнулся, — ты хорошо выглядишь, Тео!
В самом деле, хотя разница в возрасте между Консулом и бывшим его помощником сократилась на шесть лет, внешне тот почти не изменился: то же худое лицо, мальчишеская улыбка и густая рыжая шевелюра, привлекавшая внимание всех незамужних (а также некоторых замужних) сотрудниц консульства. От своей ставшей притчей во языцех застенчивости Тео Лейн тоже не избавился — вот и сейчас он то и дело без всякой нужды поправлял старомодные очки в роговой оправе. Впрочем, молодой дипломат больше никак не проявлял свои чувства.
— Хорошо, что вы вернулись, — сказал Тео.
Консул повернулся и начал представлять своего друга паломникам, но затем вдруг остановился.
— Боже мой, — сказал он, — ты ведь теперь консул. Извини, Тео, я не подумал об этом.
Тео Лейн улыбнулся и снова поправил очки.
— Не беспокойтесь, сэр, — сказал он. — Теперь я уже не консул. Последние несколько месяцев я выполняю обязанности генерал-губернатора. Комитет местного самоуправления в конце концов потребовал — и получил — формальный статус колонии. Приветствую вас в новом мире Гегемонии.
На мгновение Консул опешил, потом снова бросился обнимать бывшего протеже:
— Поздравляю, Ваше Превосходительство!
Тео заулыбался и взглянул на небо:
— Похоже, скоро начнется настоящий ливень. Господа, прошу вас ко мне в скиммер. Я отвезу вас в город. — Новый генерал-губернатор улыбнулся морскому пехотинцу: — Лейтенант?
— Да, сэр. — Офицер замер по стойке смирно.
— Не могли бы вы дать нам своих людей погрузить багаж? Мы хотели бы улететь побыстрее — дождь вот-вот разойдется…
Скиммер летел на юг вдоль шоссе, строго выдерживая шестидесятиметровую высоту. Консул сидел на переднем пассажирском сиденье, остальные паломники удобно расположились позади, в откидных пластиковых креслах. Мартин Силен и отец Хойт спали. Дочка Вайнтрауба перестала плакать и самозабвенно сосала синтетическое материнское молоко из мягкой бутылочки.
— Как все изменилось, — сказал Консул. Он прижался щекой к усеянному дождевыми каплями куполу кабины и посмотрел вниз.
Там царил настоящий хаос. На протяжении всего трехкилометрового пути до городских предместий склоны холмов и оврагов были облеплены тысячами лачуг и навесов. Под мокрыми брезентовыми крышами зажигались огни, освещая сновавшие между грязными лачугами столь же грязные человеческие фигуры. Вдоль старого шоссе Китс-Космопорт построили высокий забор, а саму дорогу расширили и заменили на ней покрытие. Сейчас по ней тянулись навстречу друг другу два потока автомобилей и грузовиков на воздушной подушке, выкрашенных в защитный цвет или покрытых полимерным камуфляжем. Впереди сверкали огни Китса. Казалось, их стало больше, и горели они там, где их прежде не было, — в речной долине и на холмах.
— Три миллиона, — сказал Тео, словно читая мысли своего бывшего шефа. — По меньшей мере три миллиона. И с каждым днем их все больше.
Консул взглянул на него:
— Когда я уезжал, на планете насчитывалось не больше четырех с половиной миллионов жителей.
— Сейчас, наверное, столько же, — сказал новый генерал-губернатор. — Но все стремятся в Китс. Все хотят, пока не поздно, попасть на корабль и унести отсюда ноги. Некоторые ждут, когда построят портал, но большинство не верит, что мы управимся вовремя. Боятся.
— Кого? Бродяг?
— Их тоже, — ответил Тео. — Но еще больше — Шрайка.
Консул отодвинулся от холодного стекла.
— Стало быть, это уже перевалило через Уздечку?
Тео невесело рассмеялся:
— ЭТО везде. Точнее говоря, не ЭТО, а ЭТИ. Люди уверены, что этих тварей несколько десятков или даже сотен. Сообщения о жертвах Шрайка идут со всех трех континентов. Спокойно только в столице, в больших городах — в Эндимионе, например, и на отдельных участках побережья вдоль Гривы.
— И сколько человек погибло? — спросил Консул, хотя ответ его не интересовал.
— По меньшей мере тысяч двадцать, включая сюда и пропавших без вести. Много раненых, но тут уж Шрайк ни при чем, не так ли? — Тео вновь усмехнулся. — Шрайк всегда доводит дело до конца. Люди случайно стреляют друг в друга, падают с лестниц, от страха прыгают из окон или давят друг друга в толпе. Хрен знает что.
За те одиннадцать лет, что Консул проработал вместе с Тео Лейном, он не слышал от него ни одного грубого слова.
— А что же ВКС? Есть от них какой-нибудь толк? — спросил Консул. — Могут они остановить Шрайка хотя бы на подступах к большим городам?
Тео покачал головой.
— Армия не может ни черта. Конечно, толпу она успокаивает. Люди видят: морские пехотинцы на месте, значит, космопорт открыт, а гавань в Порт-Романтике пока в безопасности. Но армия даже не пытается задержать Шрайка. Они ждут нападения Бродяг.
— А что же ССО? — спросил Консул, догадываясь, что от почти необученных сил самообороны толку мало.
Тео фыркнул:
— Из двадцати тысяч убитых, по крайней мере восемь — ополченцы ССО. Генерал Брэкстон повел свою «Третью Боевую» вверх по Речной Дороге, чтобы, как он выразился, «разбить Шрайка в его логове». И с тех пор о нем ничего не слышно.
— Ты шутишь, — произнес Консул, но одного взгляда на лицо друга было достаточно, чтобы понять: тому вовсе не до шуток. — Тео, — спросил он, — как тебе удалось выкроить время, чтобы встретить нас в космопорте?
— Я его не выкраивал. — Генерал-губернатор оглянулся. Одни паломники спали, другие устало смотрели в окна. — Просто я хотел поговорить с вами. Не ходите туда!
Консул покачал головой, но Тео с силой сжал его руку.
— Послушайте, что я вам скажу. Я знаю, как трудно вам было вернуться сюда после… Но нельзя же вот так, ни с того ни с сего, бросать все к чертовой матери… Короче говоря, выкиньте из головы саму мысль об этом дурацком паломничестве. Оставайтесь в Китсе.
— Но не могу же я… — начал было Консул.
— Послушайте, что я вам скажу, — настойчиво повторил Тео. — Причина первая. Вы — самый блестящий дипломат Гегемонии, лучший специалист по кризисным ситуациям из всех, кого я знал, а нам нужны профессионалы.
— Но это еще не…
— Помолчите. Причина вторая. Ни вы, ни ваши спутники не смогут подобраться к Гробницам Времени ближе, чем на двести километров. Это в добрые старые времена чертовы самоубийцы без труда проникали к самым Гробницам и могли даже посидеть там с недельку, а потом передумать и вернуться домой. Теперь ситуация изменилась. Шрайк наступает. Это как чума.
— Понимаю. Но тем не менее…
— Причина третья. Вы нужны мне. Я связывался с Тау Кита, просил Центр прислать мне кого-нибудь в помощь. Когда я узнал, что вы прилетаете… ну, черт возьми, последние два года я только об этом и думаю.
Консул покачал головой, еще не вполне понимая, в чем дело.
Скиммер повернул к центру города, затормозил и неподвижно завис в воздухе. Оторвав взгляд от приборной доски, Тео посмотрел Консулу прямо в глаза.
— Я хочу, чтобы вы приняли на себя полномочия генерал-губернатора. Сенаторы возражать не станут. За исключением разве что госпожи Гладстон. Но пока она поймет, в чем дело, будет уже поздно.
Консула словно ударили под дых. Он отвел взгляд и уставился вниз, на лабиринт узких улочек и покосившихся домишек Джектауна, Старого города. Наконец он выдавил из себя:
— Я не могу, Тео.
— Послушайте, если вы…
— Нет, не могу. Ничего хорошего из твоей затеи не выйдет, но дело даже не в этом. Я просто-напросто не могу. Я должен совершить паломничество.
Тео поправил очки и отвернулся.
— Видишь ли, Тео, из всех профессиональных дипломатов, с которыми мне приходилось работать, ты — самый знающий и толковый. А я уже восемь лет как отошел от дел. Я думаю…
Тео быстро кивнул и прервал его:
— Вы хотите попасть в Святилище Шрайка?
— Да.
Скиммер немного покружил в воздухе и сел. Погруженный в свои мысли, Консул понял это, только когда боковые двери сложились вдвое и откинулись вверх.
— Слава Богу, добрались, — сказал Сол Вайнтрауб.
Паломники выбрались из машины и застыли, пораженные: груды камней и обгоревшие развалины — вот и все, что осталось от Святилища Шрайка. С тех пор как примерно двадцать пять местных лет тому назад Гробницы Времени снова стали опасными и были закрыты для посещения, самым популярным местом у туристов, прилетающих на Гиперион, сделалось Святилище. Занимавший целых три городских квартала главный храм Церкви Шрайка был увенчан заостренным стопятидесятиметровым шпилем и являл собой некое жутковатое подобие кафедрального сбора. В его каркасе из сверхпрочного сплава, в стремительных, будто текущих линиях каменных контрфорсов, угадывалась пародия на готику, изобилие архитектурных трюков, основанных на обмане зрения, — ложные перспективы, «невозможные» углы — придавало ему сходство с гравюрами Эшера, а потайные комнаты, крытые и внутренние дворики вызывали в памяти кошмарные видения Босха. Но еще сильнее Святилище напоминало о прошлом Гипериона. Оно само было прошлым Гипериона.
А теперь его не стало. Лишь груды почерневших камней напоминали о величественном здании, некогда высившемся на этом месте. Оплавленные фермы поднимались над развалинами, словно ребра скелета какого-то гигантского чудовища. Подвалы и подземные ходы, проложенные триста лет назад, были погребены под обломками. Консул подошел к краю ближайшей ямы и задумался. Легенда гласила, что подземелье Святилища соединяется с лабиринтом…
— Здесь, похоже, прошлись «адской плетью». — Мартин Силен ввернул древнее название лазерного оружия большой мощности. Сейчас, стоя рядом с Консулом у края ямы, поэт, казалось, внезапно протрезвел. — Когда-то здесь было только Святилище и часть Старого города. Но после катастрофы у Гробниц Времени Билли решил перенести Джектаун сюда, поближе к Святилищу. И вот его нет. Боже мой…
— Ерунда.
Все посмотрели на Кассада.
— Ерунда. — Внимательно рассматривавший камни полковник поднялся на ноги. — Адская плеть тут ни при чем. Били плазменными кумулятивными снарядами. И не один раз.
— Вы и теперь хотите отправиться в это бессмысленное паломничество? — спросил Тео. — Давайте вернемся в консульство. — Он обращался к Консулу, но его приглашение было адресовано всем паломникам.
Консул отвернулся от ямы и впервые заговорил со своим бывшим помощником как с генерал-губернатором осажденной планеты Гегемонии:
— Мы не можем, Ваше Превосходительство. По крайней мере я. Другие пусть решают сами.
Все отрицательно покачали головами. Силен и Кассад начали выгружать багаж. Дождь превратился в легкую изморось, падающую откуда-то сверху из темноты. В эту секунду Консул заметил, что над крышами соседних домов висят два армейских боевых скиммера. Темнота и «кожа хамелеона» — полимерное покрытие, способное менять цвет, — делали машины почти невидимыми, и лишь слабый блеск водяных капель выдавал их присутствие. «Конечно, — подумал Консул, — генерал-губернатору не полагается путешествовать без эскорта».
— А жрецам удалось бежать? Кто-нибудь остался в живых после того, как разрушили Святилище? — спросила Ламия Брон.
— Да, — ответил Тео. Властитель пяти миллионов обреченных душ снял очки и протер их о рубашку. — Все жрецы и служки бежали через подземные ходы. Толпа осаждала Святилище несколько месяцев. Ее предводительница, женщина по имени Каммон (родом откуда-то с востока, с той стороны Травяного моря), много раз предупреждала осажденных, что против них будет применено оружие. Только после этого по Святилищу открыли огонь из DL-20.
— Куда же смотрела полиция? — спросил Консул. — ССО? Армия, наконец?
Тео Лэйн улыбнулся, и на мгновение Консулу показалось, что перед ним тот юноша, которого он когда-то знал, а не человек на несколько десятков лет старше.
— Пока вы летели, прошло три года, — сказал он. — Вселенная изменилась. Адептов культа Шрайка травят по всей Сети. Можете себе представить, как к ним относятся здесь. А у полиции Китса и без того полно забот. Ей надо поддерживать военное положение, которое я ввел четырнадцать месяцев назад. Когда толпа поджигала Святилище, полицейские и ополченцы стояли в сторонке и наблюдали. Я тоже. В ту ночь здесь собралось до полумиллиона человек.
Сол Вайнтрауб подошел ближе.
— Они знают о нас? Об этом последнем паломничестве?
— Едва ли, — ответил Тео. — Иначе вас уже не было бы в живых. Вы, наверное, думаете, что они будут рады любому, кто попытается умиротворить Шрайка, но толпа видит только одно: вас выбрала Церковь Шрайка. Мне пришлось даже отменить решение собственного Консультативного Совета, который требовал уничтожить ваш корабль, прежде чем он войдет в атмосферу.
— Но почему? — спросил Консул. — Я хотел сказать: почему вы отменили их решение?
Тео вздохнул и поправил очки:
— Гегемония все еще нужна Гипериону, а госпожа Гладстон, даже если Сенат ее не во всем поддерживает, все еще сохраняет вотум доверия Альтинга. Кроме того, вы нужны мне.
Консул посмотрел на развалины Святилища Шрайка.
— Ваше паломничество закончилось, еще не начавшись, — сказал генерал-губернатор Тео Лейн. — Так вы согласны вернуться в консульство… по крайней мере в роли советника?
— Весьма сожалею, — ответил Консул, — но это невозможно.
Ни говоря ни слова, Тео повернулся, нырнул в скиммер и улетел.
Размытые пятна машин эскорта последовали за ним.
Дождь усилился. В наступающей темноте паломники придвинулись друг к другу. Вайнтрауб соорудил над Рахилью некое подобие капюшона, но стук дождевых капель по пластику, по-видимому, напугал девочку, и она снова раскричалась.
— Что будем делать? — Консул вглядывался в темные провалы узких улиц. Мокро поблескивали сваленные в кучу чемоданы. В воздухе стоял запах гари.
Мартин Силен усмехнулся:
— Я знаю тут неподалеку один бар.
Оказалось, Консул тоже знал его; за одиннадцать лет службы на Гиперионе ему не раз доводилось бывать в «Цицероне».
Большинство названий в Китсе, да и вообще на Гиперионе, восходили к литературным источникам эпохи до Хиджры. «Цицерон» составлял исключение. По слухам, бар был назван в честь одного из районов Мегаполиса Старой Земли: то ли Чикаго, то ли Калькутты. Но только Стен Левицкий, владелец и правнук основателя бара, точно знал, откуда взялось название, правда, секрет этот он держал при себе. Полтора века назад бар представлял собой просто-напросто забегаловку на верхнем этаже одного из тех покосившихся от старости домов, что стояли и до сих пор стоят вдоль реки Хулай. Теперь он занимал по девять этажей в каждом из четырех покосившихся от старости домов, стоявших вдоль реки. На протяжении десятилетий интерьер «Цицерона» менялся, но неизменными оставались низкие потолки, густой табачный дым и негромкий разговор за соседними столиками… Все это создавало ощущение уединенности среди всеобщей суеты.
Этой ночью, однако, уединиться было невозможно. Подойдя к бару со стороны Болотного переулка, Консул и его спутники втащили багаж… и остановились в растерянности.
— Черт побери, — пробормотал Мартин Силен.
«Цицерон» выглядел так, словно его захватили орды варваров.
Все столы и кресла были заняты посетителями — в основном мужчинами. На полу в беспорядке валялись какие-то мешки, оружие, свернутые спальники, армейское снаряжение явно устаревшего образца, ящики с провиантом и прочий хлам. Впечателение было такое, что здесь обосновалась целая армия беженцев… точнее, бежавшая армия. Атмосфера «Цицерона», дышавшая некогда ароматами бифштексов, вина, стима, эля и табака, пропиталась едкой вонью — запахом немытых тел, мочи и безнадежности.
В этот момент, словно материализовавшись из темноты, на пороге возникла огромная фигура Стена Левицкого. Его ручищи сохранили былую силу, но лохматая черная шевелюра надо лбом отступила на несколько сантиметров назад, а вокруг темных глаз появились частые морщинки. Сейчас глаза хозяина бара были широко открыты: он изумленно смотрел на Консула.
— Привидение, — произнес он наконец.
— Нет.
— Так ты же умер!
— Нет.
— Вот черт! — закричал Стен Левицкий и, схватив Консула за бицепсы, легко, словно пятилетнего ребенка, поднял его в воздух. — Черт возьми! Жив! А что ты тут делаешь?
— Проверяю лицензии на торговлю спиртным, — улыбнулся Консул, — и до тебя добрался. Да отпусти же ты меня наконец!
Левицкий осторожно опустил Консула, похлопал его по плечу и расплылся в улыбке. Потом посмотрел на Мартина Силена, и улыбка сразу же сползла с его губ.
— Странное дело, — сказал он, нахмурившись. — В первый раз тебя вижу, а лицо твое мне будто знакомо.
— Я знал твоего прадеда, — сказал Силен. — В связи с чем позволю себе задать один вопрос: не осталось ли у тебя того самого эля, что варили еще до Хиджры? Горячего английского эля, отдающего лосиной мочой? Ни разу в жизни мне не удалось напиться его вдосталь!
— Ничего не осталось, — сказал Левицкий и вдруг взмахнул рукой: — Черт возьми, припоминаю. Сундучок прадедушки Джири… Старая голограмма… сатир на улицах древнего Джектауна… Быть не может! — Он уставился на Силена, потом перевел взгляд на Консула и поочередно дотронулся до них. — Два призрака.
— Нет. Просто шестеро усталых путников, — сказал Консул. Ребенок снова запищал. — Точнее, семеро. У тебя найдется где переночевать?
Левицкий повернулся на месте и развел руками:
— Везде то же самое. Свободных мест нет. Еды нет. Вина нет. — Он скосил глаза на Мартина Силена: — Эля нет. Мой бар превратился в гостиницу — правда, без кроватей. Эти ублюдки из ССО разместились здесь, как дома, ни черта не платят, пьют какую-то вонючую бурду собственного изготовления и ждут конца света. Я лично подозреваю, что это случится довольно скоро.
Место, где стояли сейчас паломники, в старые времена именовалось мезонином. Их багаж почти затерялся среди разбросанного по полу барахла. Повсюду, расталкивая плечами толпу, сновали какие-то личности сомнительного вида. Время от времени они оценивающе поглядывали на прибывших — в особенности на Ламию, но та стояла с невозмутимым видом и холодно парировала нахальные взгляды.
Стен Левицкий пристально посмотрел на Консула:
— Есть еще столик на балконе. Пятеро «командос» из Отряда Смертников паркуются там уже неделю. Сидят, понимаешь, разъясняют всем вокруг — и друг другу, — как они изничтожат легионы Бродяг голыми руками. Вам нужен столик, вот я и вышвырну этих молокососов.
— Что ж, попытайтесь, — сказал Консул.
Левицкий уже повернулся, собираясь уйти, как вдруг Ламия положила руку ему на плечо:
— Давайте я вам помогу.
Левицкий, усмехнувшись, пожал плечами:
— Ну, особой нужды в этом нет, но ваше общество доставит мне удовольствие. Пойдемте.
Они растворились в толпе.
На балконе четвертого этажа поместилось как раз шесть стульев да еще обшарпанный стол. Хотя на всех этажах, на лестницах и в проходах была дикая давка, никто не осмелился претендовать на освободившееся место, после того как Левицкий и Ламия побросали протестовавших «командос» через перила в реку, протекавшую под балконом. Потом Левицкий каким-то чудом добыл для них корзинку с хлебом и холодной говядиной, а также огромный кувшин пива.
Паломники ели молча. Голод после фуги был обычным явлением, но сейчас к нему примешивались усталость и подавленное настроение. Темноту на балконе рассеивали лишь тусклый свет из бара да фонари проплывавших по реке барж. Большинство домов, стоявших на берегу, уже погрузилось во тьму, но в других районах города еще горели огни, отражавшиеся в низко нависших облаках. Метрах в пятистах вверх по течению виднелись развалины Святилища Шрайка.
— И что же дальше? — спросил отец Хойт, пришедший в себя после двойной дозы ультраморфина. Сейчас он балансировал на грани между болью и покоем.
Ответа не последовало, а Консул прикрыл глаза. Ему не хотелось брать на себя роль руководителя. Сидя на балконе бара «Цицерон», так легко было впасть в ритм прежней жизни: всю ночь он будет пить, а ближе к утру, когда рассеются облака, — любоваться на предрассветный дождь метеоров. Потом, покачиваясь, он добредет до своей пустой квартиры у рынка. Часа через четыре, приняв душ и побрившись, он потащится в консульство. От безумной ночи останутся только красные прожилки в глазах и дикая головная боль. Он доверится Тео — такому спокойному, такому толковому трудяге Тео — и как-нибудь проживет это утро. А потом, доверившись судьбе, как-нибудь проживет день. Потом он вернется в «Цицерон» и, доверившись вину, как-нибудь проживет ночь. И так, доверившись сознанию своей незначительности, он проживет жизнь.
— Все ли готовы отправиться в паломничество?
Консул быстро открыл глаза. В дверном проеме стояла фигура в плаще с капюшоном; на мгновение Консулу показалось, что это Хет Мастин, однако вошедший был значительно ниже ростом и в его голосе отсутствовали характерные для тамплиеров металлические нотки.
— Если вы готовы, пора выходить, — произнесла тень.
— Кто вы? — спросила Ламия Брон.
Неизвестный, однако, на вопрос не ответил, а лишь повторил:
— Нужно выходить. Немедленно.
Стараясь не удариться головой о потолок, Федман Кассад поднялся, схватил закутанную в плащ фигуру за плечо и быстрым движением левой руки сбросил с ее головы капюшон.
Перед паломниками предстало существо с голубой кожей и такими же голубыми, почти незаметными на фоне лица глазами.
— Андроид! — воскликнул Ленар Хойт.
Консул удивился меньше остальных. Уже более ста лет в Гегемонии было запрещено иметь андроидов, и биотехническая промышленность перестала их выпускать, но на отдаленных, неосвоенных планетах, таких, как Гиперион, их продолжали держать для тяжелых работ. Церковь Шрайка использовала андроидов постоянно, ибо ее учение объявило их свободными от первородного греха. А коль скоро андроид духовно превосходит человека, он не подлежит жестокой и неотвратимой каре Шрайка.
— Поторопитесь, — прошептал андроид, натягивая на голову капюшон.
— Ты из Святилища? — спросила Ламия.
— Тише! — быстро ответил андроид. Он выглянул в холл, потом вернулся и кивнул головой. — Прошу вас следовать за мной. И побыстрее.
Все поднялись и затоптались на месте. Кассад небрежно расстегнул свою кожаную куртку. Консул заметил, что за поясом у полковника поблескивает нейродеструктор, или, как его еще называли, «жезл смерти». В обычной ситуации он почувствовал бы себя неуютно уже при одной мысли об этом предмете: достаточно малейшей ошибки — и у всех, кто окажется поблизости, синапсы превратятся в кашу. Но сейчас он испытал странное облегчение при виде смертоносного оружия.
— А как же багаж… — начал было Вайнтрауб.
— О нем позаботятся, — прошетал человек в капюшоне. — Нам нужно спешить.
Паломники, усталые, как вздох, спустились вслед за андроидом по лестнице и исчезли в ночи.
Консул спал долго. Через полчаса после того, как рассвело, солнечные лучи, проникшие в каюту сквозь щель между шторами, подползли к его подушке, и он, не просыпаясь, перевернулся на другой бок. Еще через час раздался громкий шум — меняли уставших мант, которые всю ночь тянули баржу, — но Консул и на сей раз не проснулся. Гвалт и топот за стенами его каюты становились все громче и назойливей, однако Консул проспал еще целый час, и только возле Карлы его разбудил протяжный гудок. Судно подходило к шлюзам.
Обычное после фуги похмелье еще не прошло, и Консул двигался медленно, словно одурманенный. Накачав ручным насосом воды, он кое-как умылся над тазиком, надел свободные хлопчатобумажные штаны, старую холщовую рубашку, туфли на пластиковой подошве и вышел на палубу.
Завтрак подавали за длинным буфетом, рядом с потемневшим от времени откидным столом. Сверху над палубой был натянут тент, пунцовые и золотистые фестоны которого трепетали на ветру. День был прекрасный — безоблачный, яркий. Крохотное солнце Гипериона припекало вовсю.
Доктор Вайнтрауб, Ламия, Кассад и Силен, вставшие раньше, уже позавтракали. Следом за Консулом на палубе появились заспанные Ленар Хойт и Хет Мастин.
Взяв поднос с печеной рыбой, фруктами и апельсиновым соком, Консул подошел к поручням. Река в этом месте была широкой — по меньшей мере километр от берега до берега, ее лазурно-зеленая гладь повторяла цвет небосвода. Консул долго разглядывал проплывавшие мимо берега, но так и не смог понять, где они находятся. На востоке уходили вдаль сверкавшие под лучами утреннего солнца полузатопленные плантации бобов-перископов, а там, где насыпи пересекались друг с другом, стояли угловатые хижины, построенные из золотистого падуба и побелевшего от времени плотинника. С запада всю пойму реки покрывали заросли низеньких кустиков гиссена, мангрового корня и огненно-красного папоротника (Консул так и не вспомнил, как он называется). Заросшие лагуны и болота тянулись примерно на километр, а дальше отвесной стеной поднимался берег, где вечноголубой кустарник цеплялся за каждый клочок земли между гранитными глыбами.
На секунду Консулу показалось, что он заблудился в этом мире, который до сих пор казался ему таким знакомым, но потом он вспомнил звук гудка, когда они проходили шлюзы, и сообразил, что возле Духоборских Вырубок баржа свернула на север, в боковой рукав реки Хулай. Суда здесь ходили очень редко, так что он действительно попал сюда впервые. Обычно он проплывал (или пролетал на скиммере) вдоль Королевского Канала, который лежал к западу от этих отвесных утесов. Консулу оставалось только гадать, какие помехи и опасности на основном пути к Травяному морю заставили их избрать этот обходной маршрут. Скорее всего сейчас они примерно в ста восьмидесяти километрах северо-западнее Китса.
— При свете дня все выглядит по-другому, не правда ли? — обратился к нему отец Хойт.
Консул снова оглядел берег, не понимая, о чем речь, но потом сообразил, что священник имеет в виду их баржу.
Сейчас прошедшая ночь казалась ему нереальной: прогулка под дождем в обществе посланца-андроида, лабиринт коридоров и выложенных мозаикой комнат, встреча с Хетом Мастином у руин Святилища, погрузка на старую баржу и, наконец, уплывающие за корму огни Китса.
Консул был настолько измучен, что едва ли воспринимал окружающее. Впрочем, остальные устали не меньше и тоже с трудом понимали, что происходит. Он смутно помнил, как удивила его команда баржи, состоявшая из одних андроидов. Но вот чувство облегчения, с которым он закрыл дверь каюты и забрался в постель, — его он помнил отлично.
— Сегодня утром я беседовал с А. Беттиком, — продолжал Вайнтрауб (доктор имел в виду проводника-андроида). — Между прочим, у этой старой калоши богатая история.
Мартин Силен подошел к буфету, налил себе немного томатного сока и, разбавив его какой-то жидкостью из собственной фляжки, сказал:
— Ясное дело, баржа видала виды. Взгляните на эти поручни, лоснящиеся от прикосновений бесчисленных рук, на эти выщербленные лестницы и потемневшие от сажи потолки. А эти просевшие койки — сколько поколений матросов валилось на них без задних ног. Барже, я полагаю, несколько веков. И резьба чертовски занятная. Стиль рококо. Кстати, заметили, что все запахи перебивает запах сандала? Его тут использовали для отделки. Не удивлюсь, если узнаю, что баржу доставили со Старой Земли.
— Именно так, — сказал Сол Вайнтрауб. Малютка Рахиль спала у него на руках, пуская во сне пузыри. — Корабль носит гордое имя «Бенарес». Он построен на Старой Земле в городе с тем же названием и поименован в его честь.
— Что-то не помню на Старой Земле такого города, — сказал Консул.
Ламия Брон оторвалась от завтрака:
— Бенарес, он же Варанаси, он же Гандипур, Свободный Штат Хинду. Вторая Азиатская Зона Процветания. Она образовалась после третьей японо-китайской войны. А во время локального ядерного конфликта между Индией и Исламской Советской Республикой город был уничтожен.
— Да, — подтвердил Вайнтрауб. — «Бенарес» построили еще до Большой Ошибки. Я полагаю, в середине XXII века. И, как сообщил мне А. Беттик, строился он как корабль-левитатор.
— А электромагнитные генераторы с него не сняли? — прервал его полковник Кассад.
— Видимо, нет, — ответил Вайнтрауб. — Они должны стоять на нижней палубе рядом с главным салоном. Пол там изготовлен из чистого лунного камня. А что, неплохо бы сейчас взлететь километра на два… хотя зачем?
— Бенарес, — задумчиво произнес Мартин Силен и любовно погладил потемневшие от времени перила. — Меня там однажды ограбили.
Ламия Брон поставила кофейную кружку на стол.
— Ты что же, хочешь сказать, что помнишь Старую Землю? Сколько же тебе лет, дедуля? Или ты за идиотов нас держишь?
— Дитя мое, — просиял Мартин Силен. — Я ничего не хочу сказать. Я только подумал, что эта история могла бы развлечь нас, так сказать, расширить кругозор… ведь в ней немало поучительного. При случае нам бы стоило поведать друг другу, где и как нас грабили… а равно и о том, где и как мы сами грабили других. А поскольку у тебя, дитя мое, есть преимущество — ты как-никак дочь сенатора, — я уверен, что твой список будет самым длинным и самым примечательным.
Ламия открыла было рот, но потом нахмурилась и промолчала.
— Интересно, как это судно попало на Гиперион? — пробормотал отец Хойт. — Какой смысл перевозить корабль-левитатор на планету, где электромагнитные генераторы не работают?
— Почему же не работают? — возразил полковник. — Небольшое магнитное поле у Гипериона есть. Другое дело, что надежной магнитной подушки здесь не получишь.
Отец Хойт поднял бровь — видимо, не мог сообразить, в чем разница.
— Слушайте! — вдруг завопил поэт, который все еще держался за поручни. — А ведь наша команда опять в сборе!
— Ну и что? — спросила Ламия Брон. Когда она обращалась к Силену, губы ее неизменно сжимались в тонкую линию.
— А то, что раз мы все в сборе, так давайте рассказывать истории.
— Господа, — произнес Хет Мастин, — мы же условились, что будем рассказывать после обеда.
Мартин Силен пожал плечами:
— Завтрак! Обед! Какого черта? Мы все в сборе. Сколько нам еще добираться до Гробниц Времени? Дней шесть-семь?
Консул прикинул. Не меньше двух дней по реке. Столько же — по Травяному морю, конечно, при попутном ветре. Перевалить через горы — еще день.
— Нет, — сказал он. — Меньше.
— Вот и ладушки, — сказал Силен. — Начнем сейчас же! Кроме того, нет никаких гарантий, что Шрайк не объявится раньше, чем мы сами постучим в дверь. Если мы все еще надеемся, что эти истории помогут нам выжить, каждому из нас стоит высказаться, пока ходячий кухонный автомат, к которому мы так стремимся, не превратил нас в кучу мясного фарша.
— Ты отвратителен, — поморщилась Ламия Брон.
— Ах, дорогая, — пропел Силен, — то же самое ты шептала мне этой ночью после второго оргазма.
Ламия отвернулась. Отец Хойт кашлянул:
— Так чья же сегодня очередь? Я имею в виду, чья очередь рассказывать?
Молчание затягивалось.
— Моя, — произнес наконец Федман Кассад. Он запустил руку в карман своей белой блузы и извлек оттуда клочок бумаги с большой цифрой «2».
— Если вы не возражаете, господа, начнем прямо сейчас, — предложил Сол Вайнтрауб.
На лице Кассада появилось подобие улыбки:
— Я с самого начала был против, но будь конец всему концом, все кончить могли б мы разом.[11]
— Слушайте! — воскликнул Мартин Силен. — Он знает драматургов, которые жили еще до Хиджры.
— Вы имеете в виду Шекспира? — спросил отец Хойт.
— Нет, — ответил Силен. — Лернера. Потом этого, козла… Лоуи. Нейла Саймона, старого пидора… А еще, блин, Хамеля Постона…
— Полковник, — официальным тоном произнес Сол Вайнтрауб, — погода великолепная, ближайший час мы ничем не заняты. Мы будем вам весьма обязаны, если вы поделитесь с нами своей историей. Итак, что же подвигло вас отправиться на Гиперион в это последнее паломничество к Шрайку?
Кассад кивнул. Солнце припекало все сильнее. Хлопал под ветром тент. Поскрипывая палубой, левитационная баржа «Бенарес» неспешно поднималась вверх по течению — к горам, болотам и Шрайку.
История солдата: Война и любовь
В битве при Азенкуре Федман Кассад встретил женщину, которую искал потом всю свою жизнь. То утро в конце октября 1415 года от Рождества Христова выдалось сырым и холодным. Кассада сделали лучником в армии Генриха V, короля Англии. Английская армия высадилась во Франции 14 августа и с 8 октября отступала под натиском превосходящих французских сил. Генрих предполагал разбить французов на марше и убедил военный совет отступать под защиту стен Кале. Маневр не удался. Седым и туманным утром 25 октября семь тысяч англичан — в основном пехотинцев — встретились с двадцатью восьмью тысячами французских рыцарей лицом к лицу. Противников разделял только километр грязного поля.
Кассад замерз, устал и чувствовал себя больным. К тому же ему было страшно. Последнюю неделю лучники (и он в том числе) питались какими-то подгнившими ягодами и теперь практически все страдали от поноса. Температура воздуха не превышала десяти градусов, и всю прошлую ночь Кассад безуспешно пытался уснуть на холодной и мокрой земле. Реализм эксперимента впечатлял. Интерактивный тактический имитатор Олимпийской Офицерской школы (ООШ: ИТИ) по своим возможностям превосходил обычные фантопликаторы настолько, насколько голограмма превосходит дагерротип. Все физические ощущения были столь убедительны, столь реальны, что Кассада всерьез пугала перспектива быть раненным. Ходили слухи о кадетах, получивших во время модельных тренировок смертельные ранения и отдавших концы прямо в иммерсионной ванне.
Пехотинцы, составлявшие правый фланг армии Генриха, простояли напротив французов все утро. Но вот наконец развернулись флаги и тишину разорвали зычные крики сержантов (более подходящего слова Кассад не подобрал). По приказу короля лучники двинулись на врага. Справа и слева был лес, и цепь англичан растянулась метров на семьсот — от опушки до опушки. Она состояла из отрядов лучников (в одном из них и шел Кассад), между которыми двигались немногочисленные конные рыцари. Регулярной кавалерии у англичан не было, и большая часть всадников, которых Кассад мог видеть на своем краю поля, сосредоточилась либо вокруг короля (тот ехал в центре, метрах в трехстах от Кассада), либо вокруг герцога Йоркского, находившегося непосредственно на правом фланге. Эти две группы всадников напомнили Кассаду мобильные штабы современных сухопутных войск, с той лишь разницей, что вместо неизбежного леса антенн (сразу же выдающего местоположение штаба) над головами рыцарей реяли яркие знамена и флажки, укрепленные на древках пик. Хорошая мишень для артиллерии, подумал Кассад, но вовремя вспомнил, что в те времена этот род войск еще не встал на колеса.
Кассад отметил, что в армии французов много кавалерии. На каждом фланге стояли рядами 600–700 всадников, кроме того, большой отряд конных рыцарей располагался непосредственно за основной боевой линией. Он не любил лошадей. Конечно, он видел их на картинах и голограммах, но в жизни не сталкивался с ними ни разу до сегодняшнего учебного боя. Их размеры, запахи, звуки, которые они издавали, — все это действовало ему на нервы. Особенно если учесть, что грудь и бока проклятых четвероногих были защищены броней, а на спине у каждого сидел закованный в доспехи всадник с четырехметровым копьем.
Авангард англичан остановился. Кассад оценил расстояние до французской боевой линии в двести пятьдесят метров. По опыту прошлой недели он знал, что это в пределах досягаемости дальнобойного лука. Знал он и другое: для этого придется так натягивать тетиву, что есть шанс вывихнуть руку.
Французы что-то выкрикивали — видимо, осыпали противника оскорблениями. Не обращая на них внимания, Кассад и его товарищи молча сложили стрелы на землю и двинулись вперед, волоча по рыхлой земле заранее приготовленные колья. Колья были длинные — метра полтора, тяжелые, заостренные с обоих концов. Свой кол Кассад таскал уже неделю. Когда они пересекли Сомму и углубились в глухие леса, им приказали рубить молодые деревца и вытесывать колья. Кассад тогда удивился. В самом деле, зачем они нужны? Теперь он понял.
Каждый третий лучник имел при себе тяжелую деревянную колотушку. Теперь колья ставили под нужным углом и колотушками забивали в землю. Кассад вытащил нож, еще раз заточил конец кола (даже поставленный наклонно, он доставал почти до груди) и сквозь частокол отошел назад.
Французы не атаковали.
Все ждали. Кассад ждал вместе со всеми. Он натянул тетиву и встал, как положено. Свои сорок восемь стрел он заранее воткнул в землю двумя кучками — так, чтобы они были под рукой.
Французы не атаковали.
Дождь прекратился, но задул холодный ветер, и то немногое тепло, которое организм Кассада накопил за время короткого марша и при забивании кольев, теперь стремительно улетучивалось. Слышались лязг доспехов, приглушенная ругань, нервные смешки и тяжелый топот копыт — это перестраивалась французская кавалерия. Перестраивалась, но атаку не начинала.
— Вот ведь, мать их… — выругался седой йомен, стоявший в нескольких футах от Кассада. — Время тянут, ублюдки. А я так думаю: не хочешь срать — не мучай жопу.
Кассад кивнул. Он так и не понял, произнесена эта фраза на обычном стандартном или на среднеанглийском, которого ему до сих пор не доводилось слышать. Седой лучник мог быть таким же, как и он, кадетом Офицерской школы, инструктором или просто порождением фантопликатора — какая ему разница? Кассаду казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет у него из груди. Ладони вспотели, и он торопливо вытер их о куртку.
И тут, словно до него долетела ругань старого солдата, король Генрих отдал приказ. Взвились и затрепетали флаги, закричали сержанты, английские стрелки подняли свои длинные луки, по команде натянули их и так же, по команде, выстрелили.
Остроконечные трехфутовые стрелы четырьмя волнами взмыли вверх и словно бы зависли метрах в тридцати над землей. Если бы все их сейчас выложить одну за другой, получилась бы цепочка длиной километров шесть.
Затем стрелы обрушились на французов.
Послышалось конское ржание, и словно тысячи свихнувшихся мальчишек принялись что есть силы колотить в десятки тысяч консервных банок. Французские рыцари склонились под дождем стрел, подставив под удар шлемы и доспехи, защищавшие грудь и плечи. С военной точки зрения, их потери были невелики. Но для тех французских солдат, которым стрела угодила прямо в глаз и вошла дюймов на десять в голову, это было слабое утешение. Около дюжины лошадей топтались на месте, вставали на дыбы, напирали друг на друга, пока их всадники пытались вытащить стрелы, торчавшие из боков животных.
Французы не атаковали.
Снова команда. Кассад поднял лук, натянул его, выстрелил. Потом еще раз. И еще. Небо темнело каждые десять секунд. Правая рука и спина уже ныли от этого смертоносного ритма, однако ни злобы, ни возбуждения Кассад не испытывал. Он просто делал свою работу. Предплечье онемело от усталости. Снова и снова взлетали стрелы. Он выпустил уже пятнадцать из двадцати четырех, что были в первой кучке. Но вот по линии англичан прошел крик, и Кассад замер, держа в руках натянутый лук.
Французы пошли в атаку.
До сих пор Кассаду не доводилось видеть кавалерийской атаки. И сейчас, когда двенадцать сотен закованных в броню коней мчались прямо на него, он пришел к выводу, что зрелище это не для слабонервных. Атака продолжалась не более сорока секунд, но за это время во рту у него пересохло, а внутренности превратились в ледяной ком. Будь поблизости какое-нибудь укрытие, Кассад (точнее, то, что от него осталось) всерьез задумался бы, как туда доползти.
Но он был слишком занят.
Выполняя команды, лучники выпустили пять полных залпов по атакующим всадникам, потом выстрелили еще раз, вразнобой, и отступили на пять шагов.
Как выяснилось, лошадь — животное умное и на колья лезть не желает, как бы ни хотелось этого ее седоку. Однако вторая и третья волны наступающей кавалерии не смогли остановиться, как первая, — и началось форменное сумасшествие: лошади ржали, валились на землю, всадники с криками вылетали из седел. Кассад никуда не летел, но тоже кричал. Как только в его поле зрения оказывался выпавший из седла француз, он кидался на него и принимался лупить его колотушкой. Если же теснота не позволяла развернуться, пытался поразить врага ножом сквозь щели в доспехах. Вскоре Кассад, седой лучник и еще одни стрелок — помоложе и без шапки (потерял, наверное) — превратились в слаженную команду убийц. Они набрасывались на поверженных рыцарей сразу с трех сторон. Когда те пытались подняться, Кассад колотушкой укладывал их назад, а затем все трое приканчивали очередную жертву ножами.
Только одному рыцарю удалось вскочить на ноги и обнажить меч. Он откинул забрало и что-то закричал: француз явно вызывал кого-то из них на честный поединок. Старик и юноша кружили вокруг него, как волки. Кассад ответил поклоном и с десяти шагов всадил стрелу в левый глаз рыцаря.
Битва шла своим чередом, все более напоминая трагикомедию; она ничем не выделялась из тех вооруженных столкновений, что отгремели со времен первой дуэли на каменных топорах на Старой Земле. Пока первая десятитысячная волна рыцарей в пешем строю атаковала английский центр, всадникам удалось кое-как развернуть коней и отступить. Свалка в центре задержала французов, и к тому времени, когда они снова овладели инициативой, рыцари короля Генриха уже сомкнули свои ряды и сумели остановить пехоту противника на расстоянии вытянутого копья, в то время как несколько тысяч лучников обрушили на нее с близкого расстояния град стрел.
Но битва на этом еще не кончилась. Возможно даже, вовсе не этот эпизод определил ее исход. Решающий момент, как водится, наступил незаметно, он затерялся где-то в пыли и сутолке тысяч отдельных стычек, когда пехота сошлась в ближнем бою. Битва завершилась через три часа. А пока что повторялись вариации на прежнюю тему: бестолковые атаки и неуклюжие контратаки. Произошло и еще одно, куда менее благородное событие. Когда над англичанами в очередной раз нависла опасность поражения, Генрих приказал перебить пленных вместо того, чтобы отправить их в тыл. Но герольды и историки будущего были единодушны: исход битвы предрешила неудача самой первой пешей атаки. Погибли тысячи французов. Англичане надолго закрепили за собой эту часть континента. Время тяжелой конницы, время рыцарей — этого воплощения благородства — миновало. Несколько тысяч ободранных крестьян, вооруженных длинными луками, вогнали его в гроб истории. Но самым оскорбительным для павших французских дворян (если вообще можно оскорбить мертвых) было даже не то, что их одолели простолюдины, какое-то вшивое мужичье. Их одолела регулярная пехота. Люди простого звания, вставшие в строй по призыву. Матушка-пехота. Серошинельная масса. Джи-Ай. Десантура. Морпехи. Спецкон. Космотехназ. «Прыгающие крысы».
Именно в этом и состоял урок, который Кассад должен был извлечь из данной модельной тренировки. Но никакого урока он не извлек. Он слишком увлекся стычкой, которой суждено было изменить всю его жизнь.
Очередной рыцарь, перелетев через голову рухнувшей лошади, покатился по земле, но потом сумел подняться и побежал к лесу, с трудом выдирая ноги из грязи. Кассад помчался за ним. Он был уже на полпути к опушке, как вдруг понял, что бежит один — юноши и седого лучника рядом не было, но его это не остановило. Адреналин сделал свое дело — Кассада охватила жажда убийства.
Он полагал, что рыцарь, обремененный громоздкими шестидесятифунтовыми доспехами, да еще на всем скаку слетевший с лошади и грохнувшийся оземь, окажется легкой добычей. Но вышло иначе. Француз оглянулся и, увидев несущегося к нему Кассада с колотушкой в руках и профессиональным огоньком в глазах, прибавил ходу и достиг опушки, опережая своего преследователя метров на пятнадцать.
Сгоряча Кассад бросился в лес, но вскоре остановился; хватая ртом воздух, он оперся на колотушку и стал обдумывать свое положение. С поля боя доносились приглушенные расстоянием и лесной чащей удары, крики и грохот падающих тел. Деревья так и не высохли после ночного ливня, и с голых ветвей то и дело срывались тяжелые капли. Ковер из опавших листьев и густые заросли терна и ежевики скрывали под собой землю. Поначалу рыцарь мчался сквозь лес напролом, и находить его следы не составляло труда, но теперь они затерялись среди следов оленей.
Затаив дыхание и вслушиваясь в лесные шорохи, еле различимые из-за бешеного стука крови в висках, Кассад медленно двинулся в лес.
Вскоре он понял, что с тактической точки зрения положение у него далеко не блестящее. Где-то рядом затаился рыцарь в полном снаряжении и с мечом. В любой момент он мог устыдиться своего позорного бегства и вспомнить годы, потраченные на овладение воинским искусством. Конечно, Кассад тоже кое-что умел. Он еще раз осмотрел свое снаряжение. Матерчатая рубаха. Кожаный нагрудник. Колотушка. За широким поясом — нож. Он мастерски владел высокоэнергетическим оружием любого радиуса действия — от нескольких метров до нескольких тысяч километров. Его научили обращаться с плазменными гранатами, адскими плетями, игольными ружьями, станнерами, безоткатными инерционными орудиями, жезлами смерти, десантными кинетическими винтовками и лучевыми перчатками. Теперь у него появился и опыт обращения с английским луком. Правда, ничего из вышеперечисленного, включая и лук, под рукой не было.
— Вот же гадство! — пробормотал младший лейтенант Кассад.
В этот момент кусты зашевелились, и оттуда, словно разбуженный медведь, показался рыцарь. Широко расставив ноги, он занес меч и рубанул слева направо, едва не выпустив Кассаду кишки. Защищаясь, курсант ООШ вскинул колотушку и отскочил назад, однако француз все-таки зацепил его самым кончиком меча, пропоров кожаный нагрудник и рубаху и выбив из рук колотушку.
Кассад вскрикнул и отшатнулся, нашаривая за поясом нож. При этом его правый каблук зацепился за ветку поваленного дерева, и он упал навзничь. Чертыхаясь, Кассад мгновенно откатился в сторону, вскочил и нырнул в гущу ветвей. Француз преследовал его по пятам, расчищая себе дорогу мечом как гигантским мачете. Пока рыцарь пробирался через бурелом, Кассад успел достать нож, но что он мог со своей десятидюймовой зубочисткой против меча и брони? Если бы рыцарь споткнулся… Но тот и не думал падать. Его меч со зловещим свистом прочертил в воздухе дугу, и Кассад понял, что сквозь эту дугу ему не прорваться. Оставалось бегство. Но сзади дорогу загораживало упавшее дерево, а справа и слева — бурелом. Не хватало еще, чтобы его зарубили сзади, когда он начнет карабкаться через бревно. Если на то пошло, он вообще не хотел быть зарубленным — хоть сзади, хоть спереди.
Кассад пригнулся и выставил перед собой нож. Эта стойка напомнила ему дни юности в трущобах Фарсиды, где поножовщина была обычным делом. Интересно, как фантопликатор смоделирует его смерть?
Внезапно позади рыцаря, словно тень, возникла какая-то фигура с колотушкой Кассада в руках. Первый удар пришелся рыцарю в плечо. Звук был такой, словно били кувалдой по корпусу ТМП.
Покачнувшись, француз повернулся, чтобы отразить нападение, и получил второй удар колотушкой, на сей раз в грудь. Новый противник не был великаном, так что рыцарь сдаваться не спешил. Он уже заносил над головой меч, когда Кассад ударил его сзади — плечом под колени.
Француз не удержался на ногах и рухнул прямо в гущу ветвей. Неведомый храбрец уселся на рыцаря верхом, прижав коленом руку, в которой тот держал меч, и принялся изо всех сил бить колотушкой по шлему и забралу. Выпутавшись из ног и ветвей, Кассад придавил колени поверженного рыцаря и через щели в доспехах принялся колоть его ножом в бока, в пах, в подмышки. Маленький незнакомец вскочил и встал обеими ногами на руку рыцаря, а Кассад, подавшись вперед и несколько раз безуспешно ткнув ножом между латами и шлемом, нащупал наконец подходящую прорезь в забрале и втиснул в нее клинок.
Колотушка опустилась в последний раз и, едва не зацепив руку Кассада, вогнала нож в прорезь забрала. Рыцарь издал ужасающий крик и, словно не чувствуя веса шестидесятифунтовых доспехов и сидевшего на нем Кассада, выгнулся в предсмертной судороге, а затем безвольно рухнул на землю.
Кассад откатился в сторону. Его неожиданный союзник повалился рядом с ним. Оба вспотели и перемазались кровью убитого. Только сейчас Кассад взглянул на своего спасителя. Точнее, спасительницу. То была стройная женщина, одетая, как и Кассад, в костюм лучника. Какое-то время они лежали рядом, тяжело дыша.
— Ты как… Все в порядке? — выговорил наконец Кассад. Внешность этой женщины поразила его. Ее каштановые волосы были подстрижены по последней моде Великой Сети — коротко и прямо — и чуть левее середины лба разделены пробором, так что самые длинные пряди кончались как раз над правым ухом. Мальчишеская стрижка давно забытых времен, но больше в ее облике ничего мальчишеского не было. Кассад подумал, что в жизни не встречал женщины прекрасней. Совершенные черты лица. Подбородок и скулы — четко очерченные, но не грубые. Большие глаза, в которых светились энергия и ум. Нежный рот с мягкой нижней губой. Лежа рядом с ней, Кассад мог убедиться, что она высока ростом. Пониже его, конечно, но заметно выше женщин XV века. Даже просторная рубаха и мешковатые штаны не могли скрыть плавную округлость бедер и груди. Выглядела она на несколько лет старше Кассада; возможно, ей было под тридцать. Впрочем, едва ли он думал об этом, все бесповоротней погружаясь в изумрудную глубину ее нежных, зовущих глаз.
— Так ты как… все в порядке? — повторил он и не узнал своего голоса.
Она не ответила. Вернее, ответила — ее длинные пальцы скользнули по груди Кассада, обрывая ременные завязки его кожаного нагрудника. Потом она стащила с него располосованную, пропитавшуюся кровью рубашку и прильнула к нему всем телом. Губами и руками она ласкала его грудь, а бедра ее возбужденно подрагивали. Правой рукой она нащупала шнурок, на котором держались штаны, и разорвала его. Кассад помог ей стянуть с себя остатки одежды, а потом тремя слитными движениями раздел ее. Под рубахой и штанами из грубой ткани на ней не было ничего. Рука Кассада скользнула между ее бедер, потом двинулась дальше и словно чашей накрыла ее округлые ягодицы. Он притянул ее к себе, затем проник во влажную терпкость ее лона. Она словно раскрылась ему навстречу, и губы их слились в долгом поцелуе. Каким-то непостижимым образом все это время их тела ни на секунду не отрывались друг от друга. Напряженная плоть Кассада уперлась в ее живот.
Глядя ему в глаза, она тут же перекатилась на него и обхватила бедрами его бока. Никогда еще Кассад не испытывал такого острого желания. Он почти задохнулся, когда она завела назад правую руку и направила его в себя. Когда он снова открыл глаза, женщина медленно раскачивалась на нем, откинув голову назад и зажмурившись. Кассад провел руками вдоль ее тела и охватил ладонями совершенной формы груди. Соски сразу же поднялись и отвердели.
Да, тогда они любили друг друга. К своим двадцати трем стандартным годам Кассад уже сменил немало женщин, а один раз его даже угораздило влюбиться. И потому он считал, что знает о любви все, может ответить на любые «как» и «почему». И обо всем, что знал, он мог рассказать другим, например, приятелям из своего отделения в кузове бронетранспортера, — со смехом, с подобающими случаю прибаутками. Со спокойным, уверенным цинизмом двадцатитрехлетнего ветерана. Рассказать, выпустить наружу — и дело с концом. Но он ошибался. Никогда и никому он не смог бы описать то, что пережил за эти несколько минут. Да и не пробовал.
Они любили друг друга под негреющими лучами октябрьского солнца на ковре из опавшей листвы, и тела их, покрытые маслянистой пленкой из пота и крови, нежно скользили, скользили, скользили… Она, не отрываясь, смотрела на него, и, когда он начал двигаться быстрее, ее зеленые глаза раскрылись еще шире, а потом, одновременно с его глазами, закрылись.
Охваченные растущим возбуждением, они двигались, как единое целое, и движения их, древние и неизменные как вращение планет, сами собой убыстрялись, пульс становился все чаще… Еще… еще… последний взлет, мир сужается в точку, а потом… они еще касались друг друга, сердца еще колотились, но трепет страсти уже спадал. В их тела, вдруг ставшие отдельными, возвращалось сознание, и через забытые чувства в сознание втекал мир.
Они лежали рядом. Латы мертвеца холодили левую руку Кассада, теплое бедро женщины прижималось к его правой ноге. Солнечный свет изливался на них как благословение. На поверхности предметов заиграли скрытые доселе цвета. Кассад повернулся и пристально, словно впервые, взглянул на нее: голова ее покоилась у него на плече, щеки пылали осенним румянцем, пряди медно-красных волос упали на его мускулистую руку. Она перебросила ногу через его бедро, и в нем вновь забурлила кровь. Солнце коснулось его лица. Он закрыл глаза.
Когда Кассад проснулся, ее уже не было. Ему казалось, прошло всего несколько секунд, по крайней мере не больше минуты, однако уже смеркалось. Лес поблек и словно выцвел, холодный вечерний ветер раскачивал голые ветви деревьев.
Кассад кое-как натянул на себя разорванную, заскорузлую от крови рубаху. Французский рыцарь лежал неподвижно, застыв в безразличии смерти. Покинув мир людей, он выглядел теперь просто частью этого осеннего леса. Женщина исчезла.
В сгущавшихся сумерках, под холодным моросящим дождем Федман Кассад похромал обратно.
Поле битвы еще удерживало и живых, и мертвых. Мертвецы лежали кучами, как игрушечные солдатики, с которыми Кассад играл в детстве. Опираясь на плечи товарищей, медленно брели раненые. Какие-то фигуры, крадучись, пробирались среди трупов, а у противоположной опушки собрался совет. Французы и англичане, оживленно жестикулируя, спорили, какое название дать битве, чтобы в свидетельствах о ней не было разночтений. Кассад знал, что битва будет названа по имени соседнего замка Азенкур, хотя замок не имел прямого отношения ни к битве, ни к войне в целом.
Кассад уже начинал думать, что произошедшее вовсе не тренировка на модели, что Великая Сеть и вся его предыдущая жизнь — сон, а этот промозглый серый день и есть подлинная реальность, как вдруг сцена застыла. Человеческие фигуры, кони, темневший вдали лес — все стало прозрачным, словно гаснущая голограмма. Кассад почувствовал, что ему помогают выбраться из иммерсионной ванны. Рядом поднимались инструкторы и другие кадеты. Со всех сторон слышались обрывки фраз, смех, неразборчивые ругательства. Никто не догадывался, что для него мир изменился навсегда.
Шли недели. Как только у Кассада выпадал свободный час, он отправлялся бродить по территории Школы. Вечерами он поднимался на внешнюю ограду и следил за тем, как тень горы Олимп наползает на лесистое плато, потом на густозаселенные предгорья и, наконец, убегает к горизонту, затопляя весь мир. И все время он размышлял о том, что произошло. Он думал о ней.
Никто ничего не заметил. Тренировка как тренировка. Никто не выходил за границы поля боя. Инструктор объяснял им, что в таких моделях за пределами поля боя вообще как бы ничего нет. Никто не хватился Кассада. Происшествия в лесу словно бы не было. И женщины не было.
Но Кассад-то знал, что это не так. Он прилежно посещал занятия по военной истории и математике. Он часами не вылезал со стрельбища и из гимнастического зала. Его ни разу не ставили перед строем на плацу в Кальдере (впрочем, подобные взыскания были редкостью). В обшем и целом, юный Кассад был образцовым кадетом — даже более образцовым, чем прежде. Но все это время он ждал.
И она пришла.
И снова это произошло в последние часы модельной тренировки. К тому времени Кассад уже знал, что тренировки эти — нечто большее, чем просто имитация битв прошлого. ООШ: ИТИ был частью Альтинга Великой Сети — работающей в реальном времени гигантской информационной системы, которая управляла политикой Гегемонии, поставляла информацию десяткам миллиардов граждан, жаждущих эту информацию получить, и при этом обладала своеобразной автономией и собственным сознанием. Шесть тысяч ОИИ (искусственных интеллектов класса «Омега») объединяли в одной структуре информационные ресурсы полутора сотен планетарных банков данных. Эта махина и обеспечивала работу ИТИ.
— Система ИТИ ничего не моделирует, — нудным голосом вещал кадет Радинский, лучший специалист по искусственному интеллекту из всех, кого Кассаду удалось отыскать и вызвать на откровенность. — Она грезит, но грезит с наивысшей степенью исторической достоверности — и ее грезы есть нечто большее, чем арифметическая сумма данных на входе, ибо она подкрепляет исторические факты своими гениальными догадками. И когда она грезит, то позволяет и нам грезить вместе с ней.
Кассад ничего не понял, но поверил. И она пришла снова. Во время первой американо-вьетнамской войны она пришла к Кассаду, стоявшему в сторожевом охранении, и они любили друг друга в темноте, под жуткий аккомпанемент ночного боя. Он был в грубом камуфляжном комбинезоне на голое тело (ибо в джунглях белье моментально начинает преть) и в стальной каске, почти такой же, как шлемы времен Азенкура. Она — в широком черном одеянии, похожем на пижаму, и в сандалиях — обычном костюме крестьян Юго-Восточной Азии. И вьетконговцев. Они сорвали с себя все и любили друг друга — ночью, стоя. Она упиралась спиной в ствол дерева, обвив ногами его талию, а мир вокруг них взрывался зелеными вспышками осветительных ракет и сухим треском противопехотных мин.
Она приходила к нему во второй день сражения при Геттисберге и на Бородинском поле, где клубы порохового дыма висели над грудами тел, словно рой отлетевших душ.
Они любили друг друга в искореженном БТР на равнине Эллады, а вокруг них бушевало сражение танков на воздушной подушке, и красная пыль приближающегося самума с визгом царапала титановую броню. «Назови мне свое имя», — прошептал он на стандартном. Она отрицательно покачала головой. «Ты реальна? Ты существуешь на самом деле?» — спросил он на тогдашнем англояпонском. Она кивнула. Потом наклонилась и поцеловала его.
Они лежали в укрытии среди развалин Бразилиа, когда китайский ТМП шарил вокруг них лучом смерти, как прожектором, и по разбитым керамическим стенам метались синие блики. После штурма безымянной крепости в русских степях он затащил ее в какую-то ободранную комнатушку, и там они снова любили друг друга. Он прошептал тогда: «Я хочу быть с тобой!» Она прижала палец к его губам и отрицательно покачала головой. После эвакуации Нью-Чикаго, когда президент США лично руководил последним безнадежным арьергардным боем, они лежали на балконе сотого этажа, где Кассад разместил свою снайперскую точку. Положив руку меж ее теплых грудей, он спросил: «Мы когда-нибудь сможем быть вместе? Не здесь, а на самом деле?» Она погладила его по щеке и улыбнулась.
В программе последнего курса Офицерской школы модельных тренировок было всего пять, главное место занимали полевые учения. И когда Кассад сидел с закрытыми глазами в тактическом командном кресле, руководя каким-нибудь «десантом на Цереру силами одного батальона», и перед его мысленным взором висела генерируемая комлогом разноцветная штабная карта, он ощущал иногда рядом чье-то присутствие. Ее или чье-нибудь еще? Он и сам не знал.
А потом все кончилось. В последние месяцы занятий она не появилась ни разу. Не было ее и во время заключительной модельной тренировки, в которой имитировалась Великая битва при Угольном Мешке, положившая конец мятежу генерала Горация Гленнон-Хайта. Ее не было ни на парадах и гулянках по случаю выпуска, ни на последнем смотре, когда олимпийцы маршировали перед Секретарем Гегемонии, приветствовавшим их со своей залитой красным светом левитационной платформы.
А потом на грезы уже не осталось времени: по нуль-Т молодых офицеров доставили сначала на Луну Старой Земли для церемонии масада, а затем — опять по нуль-Т — на Тау Кита, где они приняли присягу. На этом учеба кончилась.
Кадет Кассад стал лейтенантом Кассадом. Положенный ему трехнедельный отпуск он провел, путешествуя по Сети с универсальной карточкой военного образца, позволявшей пользоваться нуль-Т когда и где угодно, после чего был направлен в училище Колониальных Войск Гегемонии на Лузусе — там офицеров готовили для службы за пределами Сети. Он был уверен, что больше не встретит ее.
Но он ошибался.
Федмана Кассада с детства приучили не бояться лишений и смерти. Будучи представителем национального меньшинства, продолжавшего именовать себя палестинцами, он вырос в трущобах Фарсиды, являвших собой памятник горькой участи окончательно обездоленных. Каждый палестинец, жил ли он в Великой Сети или за ее пределами, неизбежно нес в своих генах память о вековой борьбе, увенчавшейся месяцем триумфа и Ядерным Джихадом 2038 года, обратившим Палестинское государство в дым. А потом, после того как гибель Старой Земли окончательно похоронила их мечту, палестинцы расселились по захолустным пустынным планетам вроде Марса. Наступила Вторая Эпоха Рассеяния, которая длилась вот уже более пяти столетий.
Перед Кассадом, как и перед любым другим подростком из Южных лагерей беженцев в Фарсиде, стоял выбор: либо идти в банду, либо смириться с ролью жертвы и терпеть произвол местных самозваных лидеров. Кассад пошел в банду. К шестнадцати годам за ним уже числилось убийство такого же, как он сам, подростка.
Если Марс и был чем-то знаменит в Великой Сети, так это охотой в долине Маринер, общиной дзен-гностиков, последователей Шредера, в горах возле равнины Эллада и Олимпийской Офицерской Школой. Чтобы побывать в шкуре охотника или жертвы, Кассаду вовсе не требовалось ехать так далеко, дзен-гностицизм его волновал мало, а затянутых в мундирчики кадетов, которые слетались сюда со всей Сети учиться военному ремеслу, он откровенно презирал. Подобно всем своим сверстникам, Кассад считал Нью-Бусидо выдумкой педиков, но образ самурая, для которого в жизни превыше всего долг, честь и верность данному слову, все же задевал в его душе какую-то древнюю струнку.
В восемнадцать лет Кассад предстал перед выездной сессией суда провинции Фарсида, с тем чтобы самому выбрать себе меру наказания: марсианский год исправительно-трудовых лагерей или добровольное вступление в бригаду Джона Картера, которую формировали для помощи регулярной армии в подавлении мятежа Гленнон-Хайта, с новой силой заполыхавшего в колониях третьего разряда. Кассад предпочел пойти добровольцем и обнаружил, что ему нравятся офицерские дисциплина и чистота, хотя бригада Джона Картера несла только гарнизонную службу внутри Сети и была распущена, когда клонированный внук Гленнон-Хайта погиб на Возрождении. Через два дня после того, как ему исполнилось девятнадцать, Кассад подал заявление в сухопутные войска, но получил отказ и запил. Очнулся он через девять дней в недрах одного из ульев Лузуса и обнаружил, что его армейский комлог-имплант украден (вор, по всей видимости, обладал соответствующей хирургической подготовкой), универсальная карточка аннулирована, доступ к нуль-Т закрыт. Кроме того, он узнал, что такое настоящая головная боль.
Кассад проработал на Лузусе стандартный год и скопил около шести тысяч марок; физический труд при силе тяжести в 1,3g закалил его тело, от былой марсианской хрупкости не осталось и следа. Заработав на дорогу, он на борту древнего грузовоза с солнечным парусом и прилаженным на скорую руку двигателем Хоукинга вылетел на Мауи-Обетованную. По меркам Сети он по-прежнему был высок и худощав, но его мускулы по любым меркам работали отлично.
Он прибыл на Мауи за три дня до начала грязной и непопулярной Островной войны. Командир корпуса ВКС в Порто-Ново в конце концов сдался и разрешил зачислить его в 23-й вспомогательный полк помощником водителя судна на подводных крыльях — этот юноша, ежедневно являвшийся к нему в приемную, взял его измором. Через одиннадцать стандартных месяцев капрал 12-го мотопехотного батальона Федман Кассад имел уже два отличия по службе и благодарность Сената за доблесть, проявленную в Экваториальной кампании, а также два Пурпурных Сердца.[12] Кроме того, он был рекомендован в Офицерскую Школу ВКС, куда и отправился с попутным конвоем.
* * *
Кассад часто думал о ней. Он так и не знал ее имени, но прикосновение ее рук и аромат ее тела узнал бы среди тысячи других, даже в полной темноте. Мысленно он называл ее Тайной.
Когда его сослуживцы отправлялись в бордель или к своим местным подружкам, Кассад оставался на базе или просто бродил по незнакомому городу.
О своей возлюбленной он не рассказывал никому, ибо прекрасно понимал, что напишет психиатр в его медицинской карте. Иной раз, разглядывая на биваке усыпанное лунами небо какой-нибудь чужой планеты или паря в невесомости в уютном, как материнская утроба, трюме военного транспорта, Кассад осознавал, насколько ненормальна эта любовная связь с призраком. Но затем он вспоминал маленькую родинку у нее под левой грудью — ее он целовал однажды ночью, ощущая губами биение сердца, сливавшееся с грохотом канонады, от которого содрогалась земля Вердена. Он вспоминал порывистое движение, которым она откидывала назад свои волосы, а потом снова прижималась щекой к его бедру. И когда молодые офицеры уходили в соседний городок или деревню на поиски любовных приключений, Федман Кассад читал очередную книгу по истории, бегал вокруг базы трусцой или решал тактические задачи на своем комлоге.
Довольно скоро лейтенант Кассад привлек внимание начальства.
Во время необъявленной войны с Вольными Рудокопами в Кольце Ламберта именно он, проведя уцелевших мотострелков и морских пехотинцев через заброшенную шахту, сумел эвакуировать с астероида Перегрин сотрудников консульства и граждан Гегемонии.
А во время краткого правления Нового Пророка на Кум-Рияде капитан Федман Кассад привлек внимание всей Сети.
Командир звездолета ВКС — единственного военного корабля Гегемонии в радиусе восьми световых лет от этого колониального мирка — находился на планете с визитом вежливости, когда Пророк призвал тридцать миллионов шиитов Нового Пути расправиться с лавочниками-суннитами на обоих континентах, а также с девяноста тысячами неверных — проживавших там граждан Гегемонии. Капитан и пять его офицеров оказались в плену. С Тау Кита по мультилинии пришел приказ: старшему по званию офицеру на борту находящегося на околопланетной орбите КГ «Деньев» незамедлительно пресечь беспорядки на Кум-Рияде, освободить заложников и сместить Нового Пророка… не прибегая при этом к использованию ядерного оружия в атмосфере планеты. «Деньев» представлял собой орбитальный патрульный корабль устаревшего образца. Ядерных бомб на нем не было вообще. Старшим по званию офицером на борту оказался общевойсковой капитан Федман Кассад.
На третий день революции Кассад на единственном десантном катере «Деньева» высадился прямо во дворе Великой Мечети в Мешхеде. С ним было всего тридцать четыре солдата. Мечеть моментально окружила толпа фанатиков, насчитывающая до трехсот тысяч человек, которую сдерживало только защитное поле челнока да еще то обстоятельство, что Новый Пророк не давал приказа нападать. Между тем самого Нового Пророка в Великой Мечети уже не было — он отправился в северное полушарие Рияда праздновать победу.
Через два часа после приземления капитан Кассад вышел из катера и выступил по телевидению с краткой речью. Прежде всего он заявил, что сам получил мусульманское воспитание. Затем он сказал, что со времен высадки шиитов на Кум-Рияде многое изменилось: Коран стали толковать иначе и теперь каждому ясно, что Аллах не только не одобряет, но и воспрещает убийство невинных. Хвастливые еретики вроде Нового Пророка могут сколько угодно объявлять свои джихады — перед лицом Аллаха это грех. Капитан Кассад дал вождям тридцати миллионов фанатиков три часа на освобождение заложников и предложил им вернуться затем в свои жилища, разбросанные по пустынным континентам планеты.
В первые три дня революции армии Нового Пророка заняли большинство городов на обоих континентах и взяли в заложники более двадцати семи тысяч граждан Гегемонии. Расстрельные команды занимались разрешением древних теологических споров чуть ли не круглые сутки, так что за первые два дня оккупации погибло примерно четверть миллиона суннитов. В ответ на ультиматум Кассада Новый Пророк возвестил, что все неверные будут преданы смерти сегодня же вечером — после его прямого телевизионного обращения. Он приказал также атаковать катер Кассада.
Стражи революции не хотели применять вблизи Великой Мечети сильные взрывчатые вещества, поэтому при штурме использовались только обычное стрелковое оружие, примитивная энергетическая пушка и плазменные гранаты. Кроме того, нападающие прибегли к тактике «живой волны». Защитное поле выдержало.
Телевизионное обращение Нового Пророка началось за пятнадцать минут до истечения срока ультиматума. Новый Пророк согласился с утверждением Кассада, что Аллах самым жестоким образом покарает еретиков, но затем объявил, что еретики эти — не кто иной, как неверные из Гегемонии. В тот вечер — единственный раз в жизни — Новый Пророк сорвался перед телекамерой. Вопя и брызгая слюной, он приказал возобновить атаки «живой волны» на вражеский катер. Он объявил, что на захваченном шиитами реакторе «Сила и мир» в Али уже собираются десятки атомных бомб. С этим оружием силы Аллаха выйдут в космос, и сегодня же вечером первая бомба поразит сатанинский катер кафира Кассада. Затем Новый Пророк начал детально объяснять, каким способом будут казнены заложники Гегемонии, но как раз в этот момент истек срок ультиматума.
Кум-Рияд в техническом отношении был довольно отсталым миром. Отчасти тут сказывалась его удаленность, отчасти — идеология его основателей. Но все-таки обитатели его были достаточно цивилизованны, чтобы иметь свою интерактивную информационную сеть. Да и революционные муллы, именуя науку Гегемонии не иначе как «Великим Шайтаном», все же не настолько ненавидели ее, чтобы отказаться от персональных комлогов.
КГ «Деньев» разбросал вокруг планеты множество спутников-шпионов, которые взломали информационную сеть и к 17:29 по столичному времени по кодам доступа идентифицировали комлоги шестнадцати тысяч восьмисот тридцати революционных мулл. За тридцать секунд до 17:30 координаты этих целей со спутников-шпионов начали в реальном времени передаваться на боевые спутники. Катер Кассада вывел на низкие орбиты двадцать одно такое устройство. Это древнее оружие, предназначенное для орбитальной защиты, давно уже устарело, и «Деньев» как раз и занимался тем, что перевозил спутники в Сеть для безопасного уничтожения. Но Кассад нашел им применение.
Ровно в 17:30 девятнадцать крохотных спутников сдетонировали свои термоядерные заряды. За те несколько наносекунд, что длится взрыв, фокусирующие стержни преобразовали его энергию в шестнадцать тысяч восемьсот тридцать когерентных пучков невидимого рентгеновского излучения, направленных на заранее выбранные цели. Допотопные спутники защиты не предназначались для использования в атмосфере, и глубина эффективного поражения составила менее миллиметра. К счастью, большего и не потребовалось. Не все пучки проникли сквозь то, что оказалось на их пути — между муллами и небом. Но пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре все же сделали свое дело.
Результат был молниеносным и впечатляющим. Мозг жертвы закипал и превращался в пар, разнося черепную коробку на куски. В 17:30 Новый Пророк все еще находился в прямом эфире и как раз произносил слово «неверные».
Почти две минуты телеэкраны и телестенды планеты демонстрировали одну и ту же картину: обезглавленное тело Пророка, рухнувшее на микрофон. Потом передача прервалась, и по всем каналам выступил Федман Кассад, объявивший, что срок ультиматума отодвигается еще на час, но если с заложниками что-нибудь случится — Аллах снова проявит свой гнев. И на сей раз всерьез.
Карательных мер не потребовалось.
Той же ночью, уже на орбите, Кассада — впервые после выпуска — посетила Тайна. Она явилась к нему во сне. Видение было ярче, нежели обычный сон, хотя и не столь реалистично, как фантопликация. Они лежали под полуразрушенной крышей, накрывшись мягким одеялом. Ее кожа была теплой и словно бы наэлектризованной. Кассад едва различал ее лицо — бледное пятно в ночной темноте. Звезды у них над головой уже начали тускнеть в предрассветном сумраке. Она хотела что-то сказать ему, ее мягкие губы произносили какие-то слова, но Кассад ничего не слышал. Он отодвинулся, чтобы лучше видеть ее лицо… и потерял контакт. Вырвавшись из паутины сна, он ощутил на щеках влагу, а шум двигателей показался ему дыханием какого-то пробуждающегося зверя.
Через девять стандартных недель по корабельному времени Кассад прибыл на Фрихольм и предстал перед военно-полевым трибуналом. Еще тогда, на Кум-Рияде, отдавая приказ, он понимал, что командованию остается одно из двух: либо примерно наказать его, либо… повысить по службе.
Вооруженные силы с гордостью заявляли, что готовы к любым непредвиденным ситуациям как в самой Сети, так и в колониях. Но битва за Южную Брешию застала их врасплох, равно как и ее влияние на дух Нью-Бусидо.
Без кодекса Нью-Бусидо, которому была подчинена вся жизнь Кассада, военные просто не смогли бы сохранить себя как сословие.
После бесстыдства войн конца двадцатого — начала двадцать первого столетий, когда господствовала стратегия, обрекавшая гражданское население на участь заложников, тогда как палачи в генеральских мундирах отсиживались в полусотне метров под землей, в автономных бункерах, возмущение оставшихся в живых мирных жителей было столь велико, что даже сотню лет спустя одно только слово «военный» могло привести к линчеванию.
Нью-Бусидо объединил извечные ценности — честь и личное мужество — с требованием по возможности щадить гражданское население. То был мудрый возврат к донаполеоновской концепции малых, «нетотальных войн», которые велись с ясными целями и без лишней жестокости. За исключением самых крайних случаев кодекс запрещал стратегические бомбардировки и вообще применение ядерного оружия. Более того, он требовал возвращения к средневековым традициям Старой Земли, когда воевали небольшие профессиональные армии, причем стороны так выбирали место и время сражений, чтобы ущерб общественной и личной собственности был минимальным.
Этот кодекс хорошо работал первые четыре столетия Хиджры. Создание новых видов оружия в течение трех из этих четырех столетий было приостановлено, отчего Гегемония только выиграла. Полностью контролируя нуль-порталы, она неизменно успевала перебросить свои войска (пусть и не столь многочисленные) в нужное место. И даже если полет до ближайшего портала занимал годы, ни одна колониальная или независимая планета и думать не смела помериться силами с Гегемонией. Любые беспорядки — например, восстание на Мауи-Обетованной и последовавшая за ним своеобразная партизанская война или вспышка религиозного фанатизма на Кум-Рияде — подавлялись быстро и решительно, а любые эксцессы во время этих кампаний воспринимались как очередное напоминание: Нью-Бусидо нужно соблюдать неукоснительно! Никто, однако, не принимал всерьез неизбежную перспективу столкновения с Бродягами.
Варварские орды Бродяг были единственной внешней угрозой Гегемонии. Предки их покинули Солнечную систему четыреста лет назад со своим примитивным флотом, состоящим из протекающих городов О’Нейла, экспериментальных кометных ферм и кораблей-астероидов. Даже после того, как Бродяги освоили двигатель Хоу-кинга, Гегемония предпочитала их не замечать. Пусть себе роятся где-то там, в межзвездном мраке, пусть устраивают свои набеги. Ничего страшного, если они украдут немного водорода из недр газового гиганта или пригоршню льда с какой-нибудь необитаемой луны. Лишь бы этим дело и ограничивалось.
Первые стычки на окраинах — в Мире Бента и на ГНК-2990 — воспринимались, скорее, как досадные просчеты, не более того. Даже давно назревавшая схватка из-за Ли-III не вызвала особого резонанса. Это, мол, проблема колониальных войск. А когда через шесть местных лет после налета (и через пять лет после того, как варвары убрались восвояси) туда прибыла эскадра ВКС, ужасы войны уже забылись. Все были уверены, что налеты варваров больше не повторятся. Гегемонии надо только как следует поиграть военными мускулами.
В последующие десятилетия военно-космические силы Гегемонии сталкивались с Бродягами постоянно, в сотнях пограничных районов. Время от времени морским пехотинцам приходилось вступать с ними в стычки в непривычных условиях невесомости, однако сухопутные войска в боях не участвовали. В Великой Сети все больше укоренялось мнение: Бродяги не представляют и никогда не будут представлять угрозу для миров земного типа хотя бы в силу того, что за три столетия они полностью адаптировались к невесомости. Быть может, Бродяги регрессируют, а может статься, и прогрессируют — но их эволюционный путь ведет в сторону от столбовой дороги рода человеческого. У Бродяг нет и никогда не будет нуль-Т и поэтому Гегемонии нечего их бояться. Так думали до Брешии.
Брешия была одним из множества самодовольных независимых мирков. Собственное местоположение ее вполне устраивало: с одной стороны — удобный доступ к Сети, с другой — до той же Сети все-таки восемь месяцев лету. Брешия наживалась на экспорте алмазов, репейного корня и несравненного кофе, скромно отказываясь стать колонией. Все же она оставалась протекторатом Гегемонии и входила в Общий Рынок, что помогало ей справляться с постоянно растущими экономическими запросами. Как и многие подобные ей миры, Брешия гордилась мощью своих вооруженных сил. У нее было целых двенадцать факельных звездолетов, ударный авианосец (списанный полвека назад из ВКС Гегемонии и капитально отремонтированный) и более двух десятков небольших быстроходных орбитальных катеров, а также регулярная армия в девяносто тысяч добровольцев, вполне солидный океанский флот и некий, чисто символический, запас ядерных боеголовок.
Возмущения поля Хоукинга локационная служба Гегемонии засекла сразу же, но решила, что это обычный мигрирующий рой Бродяг, который пройдет на расстоянии половины светового года от Брешии. Вышло по-иному. После небольшой коррекции курса, проведенной когда рой находился уже внутри облака Оорта, Бродяги обрушились на Брешию, как ветхозаветная саранча. Помощь Гегемонии могла прийти не раньше, чем через семь стандартных месяцев.
Космические силы Брешии были разгромлены в первые же двадцать часов боевых действий, после чего рой выпустил в окололунное пространство более трех тысяч кораблей, и началось систематическое уничтожение планетарной защиты.
Этот мир был заселен еще во время первой волны Хиджры здравомыслящими выходцами из Центральной Европы. Два его континента носили прозаические названия Северной и Южной Брешии. Почти вся Северная Брешия представляла собой полярную тундру, а в шести главных его городах жили главным образом сборщики репейного корня и инженеры-нефтяники. В Южной Брешии по причине ее географического положения климат был более умеренный, и из четырехсот миллионов населения планеты большинство проживало именно там. Там же располагались и кофейные плантации.
Словно желая продемонстрировать, какой может быть — и была некогда война, Бродяги буквально стерли Северную Брешию с лица планеты. Сначала они сбросили на нее несколько сот чистых ядерных бомб и тактических плазменных снарядов, затем прошлись лучами смерти, а под конец — специально разработанной «вирусной тучей». Из четырнадцати миллионов жителей уцелела лишь горстка. Южную Брешию всерьез бомбить не стали — нанесли только несколько хирургических ударов по военным объектам, аэропортам и большой гавани в Солно.
Военная доктрина Гегемонии исходила из возможности выиграть войну с орбиты, но реальный вооруженный захват индустриальной планеты считался невозможным. В самом деле: как обеспечить высадку столь огромной армии? Как ее снабжать? Как держать под контролем необъятные оккупированные территории? Аргументы были неотразимы.
Только вот Бродяги, очевидно, о них не знали. На двадцать третий день войны более двух тысяч десантных катеров и челноков атаковали Южную Брешию. Остатки брешианской авиации были уничтожены в первые же часы вторжения. Над районами высадки Бродяг взорвалось всего два ядерных устройства. Первый взрыв был нейтрализован энергетическим полем, второй уничтожил разведывательный корабль, который вполне мог оказаться ложной целью.
Как выяснилось, за три столетия Бродяги изменились физически и окончательно приспособились к жизни в невесомости. Но их мобильная пехота использовала скафандры с силовым экзоскелетом, и через несколько дней Бродяги — одетые в черное, длиннорукие и длинноногие, похожие на гигантских пауков, — расползлись по всем городам Южной Брешии.
Последние попытки организованного сопротивления были сломлены на девятнадцатый день вторжения. Столица планеты — город Бакминстер пал в тот же день. Через час после того, как войска Бродяг вошли в город, мультисвязь с Брешией оборвалась.
Полковник Федман Кассад прибыл на Брешию первым флотом ВКС двадцать девять стандартных недель спустя. Под прикрытием тридцати факельных звездолетов класса «омега» корабль-«прыгун», оборудованный мобильным нуль-порталом, на высокой скорости вошел в систему Брешии. Через три часа после выхода из спин-режима была активирована сфера сингулярности, а еще через десять часов в системе уже находилось четыреста линейных кораблей ВКС. Двадцать один час спустя началось контрвторжение.
Такова была математика первых минут битвы за Брешию. Но Кассад сохранил о тех днях иные воспоминания. Не цифры запомнились ему, а дьявольская красота развернувшегося сражения. «Прыгуны» впервые использовались на уровне выше дивизии, и, естественно, возникла неразбериха. Десант выбрасывался с расстояния в пять световых минут. Кассад сбежал по трапу и тут же рухнул на гравий, припорошенный желтой пылью: портал десантного катера открывался прямо на крутой склон холма, ставший после того, как здесь прошли передовые отряды, скользким от грязи и крови. Кассад лежал в этой грязи и смотрел на царящее внизу безумие. Из семнадцати десантных катеров, севших на склоны холмов и окрестные плантации, десять были уже подбиты и горели, как поломанные детские игрушки. Защитные поля уцелевших челноков еще держались, но под ударами ракет и протонных пушек начали кое-где проседать — казалось, над плацдармом поднимаются гигантские купола оранжевого пламени. Тактический дисплей Кассада показывал какую-то кашу: директрисы огневых точек сплелись в клубок, поле визора заполняли фосфоресцирующие красные точки, и все это покрывалось пляшущими зигзагами помех, выставленных Бродягами. Кто-то орал по главному каналу: «Ах, черт вас всех побери! Черт побери! Черт побери!» — а на линии связи с командной группой царило зловещее молчание.
Какой-то солдат помог ему подняться. Кассад вытер грязь с командирского жезла и едва успел уступить дорогу следующему отряду, спускавшемуся из портала. Война шла своим чередом.
С первых минут пребывания в Южной Брешии Кассад понял, что Нью-Бусидо мертв. Восемьдесят тысяч превосходно вооруженных и обученных вояк из наземных сил ВКС наступали со своего плацдарма, пытаясь дать сражение в ненаселенной области. Бродяги же отступали, оставляя за собой лишь выжженную землю, мины-ловушки и трупы мирных жителей. Чтобы превзойти противника в маневренности и навязать ему бой, войска Гегемонии использовали нуль-порталы. Бродяги отсекали их сплошной стеной ядерных взрывов, прижимали пехоту Гегемонии к земле силовыми полями, в то время как их собственная пехота отступала и создавала оборонительные линии вокруг городов и мест базирования десантных кораблей.
И в космосе не удалось добиться быстрой победы, которая позволила бы изменить баланс сил в Южной Брешии. Флот Гегемонии постоянно маневрировал и, случалось, вступал с Бродягами в яростные схватки, однако те по-прежнему контролировали пространство в радиусе трех астрономичесих единиц от Брешии. Тогда командование просто отвело флот и, расположив его вдоль границ входной апертуры нуль-канала, сосредоточило все усилия на охране главного «прыгуна».
Поначалу предполагалось, что операция займет день-два, потом этот срок увеличился до тридцати дней, потом уже до шестидесяти, а сами боевые действия все больше напоминали войны двадцатого столетия: затяжные ожесточенные бои, кирпичная пыль разрушенных городов, трупы мирных жителей. Изрядно потрепанный в первые же дни боев восьмидесятитысячный корпус получил стотысячное подкрепление, а затем, когда и оно стало таять на глазах, командование запросило еще двести тысяч. Только мрачная решимость Мейны Гладстон и десятка ее сторонников в Сенате позволяла продолжать войну, несмотря на гигантские потери, хотя миллиарды голосов Альтинга и Консультативный Совет Искусственных Интеллектов требовали немедленного отвода войск.
Кассад сразу же понял, что надо менять тактику. Еще до того, как почти вся его дивизия полегла под Стонхипом, в нем проснулись агрессивные инстинкты уличного хулигана. Пока другие офицеры, деморализованные столь вопиющим нарушением Нью-Бусидо, приходили в себя, не зная, что предпринять, Кассад начал действовать. Командуя полком, а затем — временно, после уничтожения командной группы Дельта в полном составе — дивизией, он призывал людей сохранять выдержку и непрестанно слал запросы на применение термоядерного оружия для огневой поддержки контрнаступления.
И когда на девяносто седьмой день «спасательной операции» Бродяги наконец убрались восвояси, Кассад уже успел заработать двусмысленную кличку — Мясник Южной Брешии. По слухам, его боялись даже собственные солдаты.
Кассад грезил о ней, и грезы эти были не просто грезами, а чем-то большим… или меньшим.
В последнюю ночь битвы за Стонхип, в лабиринте темных туннелей, откуда Кассад и его «охотники за убийцами» выкуривали газом Т-5 и станнерами последние крупные отряды вражеских коммандос, полковник уснул среди пламени и криков и во сне ощутил прикосновение ее длинных пальцев к своей щеке и мягкую тяжесть ее грудей.
В Новую Вену они входили на рассвете, на следующий день после того, как термоядерный удар из космоса, на котором так настаивал Кассад, был наконец нанесен. По гладким, словно покрытым стеклом, двадцатиметровым ложбинам войска втягивались в разрушенный город, и Кассад не мигая смотрел на ряды человеческих голов, аккуратно разложенных вдоль мостовой, словно бы специально — чтобы в мертвых глазах «спасители» прочли укор. Не выдержав, он забрался в свой ТМП, задраил люки и, скорчившись в теплой, пропахшей резиной, нагретой пластмассой и озоном темноте, услышал сквозь бормотание командных каналов и сигналы импланта ее шепот.
Накануне отступления Бродяг Кассад покинул ночное заседание военного совета, проходившее на борту КГ «Бразилия» и по нуль-Т переправился в местечко Инделиблис на севере долины Хайн, где располагался его собственный штаб. Там он пересел в ТМП и отправился на соседнюю возвышенность — наблюдать за последней бомбардировкой. Ближайшие цели тактических ядерных ударов находились в сорока пяти километрах. Плазменные бомбы ложились правильными рядами — словно распускались высаженные по линейке оранжевые и кроваво-красные цветы. А потом над равниной заплясали столбы зеленого света (Кассад насчитал их не менее двухсот): в дело вступили «адские плети», в считанные секунды разорвавшие огромное плато на куски. Перед сном он сидел на кожухе ТМП, время от времени встряхивая головой: перед глазами у него все еще плыли огненные полосы. И тогда она пришла снова. Одетая в светло-синее, она легко ступала между высохшими стеблями репейника, покрывавшего склон холма. Ветерок играл мягкой тканью ее платья. Ее лицо и руки были бледны и казались почти прозрачными. Она позвала его — он явственно расслышал свое имя, — но тут на равнину обрушилась новая порция бомб, и видение растворилось в пламени и грохоте взрывов.
По иронии судьбы, обожающей подобные шутки, за девяносто семь дней жесточайшего за всю историю Гегемонии сражения Федман Кассад не получил ни единой царапины, но был ранен через два дня после того, как последние отряды Бродяг покинули Брешию. Произошло это в здании Гражданского Центра в Бакминстере (кроме него, в городе уцелело только два дома). Полковник как раз отвечал на очередной идиотский вопрос для канала «Новости Сети», и тут пятнадцатью этажами выше взорвалась плазменная мина-ловушка размером с микроэлектронный переключатель. Взрывной волной тривизионный передатчик и обоих адъютантов Кассада выбросило через вентиляционную решетку на улицу, а полковник оказался погребенным под развалинами.
По медицинским показаниям Кассада эвакуировали в расположение дивизионного штаба, а затем перебросили по нуль-Т на «прыгун», обращавшийся вокруг второй луны Брешии. Там его реанимировали и подключили к системе поддержания жизнедеятельности. А тем временем военные и гражданские шишки решали, что же с ним делать.
Благодаря действующему нуль-каналу и круглосуточному потоку репортажей в реальном времени, полковник Федман Кассад сделался своего рода знаменитостью. Чудовищная жестокость войны в Южной Брешии привела в ужас миллиарды людей, которые теперь жаждали увидеть полковника на скамье подсудимых. Но госпожа Гладстон и ее единомышленники смотрели на Кассада и других офицеров ВКС как на своих спасителей.
В конце концов Кассада поместили на санитарный спин-звездолет и не спеша повезли в Сеть. После тяжелых ранений и клинической смерти пациентов все равно пришлось бы погружать в криогенную фугу, поэтому имело смысл использовать для их реабилитации старый санитарный корабль. В самом деле, когда Кассад и его товарищи по несчастью вернутся в Сеть, они уже будут практически здоровы и смогут приступить к исполнению своих обязанностей. И что еще более важно, Кассад «оторвется» по крайней мере на восемнадцать стандартных месяцев, и к тому времени, когда он долетит, страсти вокруг него улягутся сами собой.
Кассад пришел в себя, и первое, что он увидел, был темный силуэт склонившейся над ним женщины. На мгновение ему показалось, что это Она, но затем он разглядел форму ВКС.
— Я мертв? — прошептал он.
— Уже нет, — ответила женщина-врач. — Сейчас вы находитесь на борту КГ «Меррик». Вы несколько раз подвергались реанимации и обновлению организма, но, видимо, ничего не помните. После фуги это бывает. Теперь мы переходим к следующему этапу лечения — к физиотерапии. Может, попробуете встать?
Кассад прикрыл глаза рукой. После фуги в голове у него была полная каша, но все же он помнил болезненные терапевтические сеансы, долгие часы, проведенные в ванне с культурой РНК-вируса и операции. Операции он запомнил лучше всего.
— Где мы? — спросил он, не отнимая руки от глаз. — Я забыл, каким маршрутом мы возвращаемся в Сеть.
Женщина-врач улыбнулась, словно каждый раз, выходя из фуги, он задавал ей один и тот же вопрос. Возможно, так оно и было.
— Мы идем через Гиперион и Сад, — ответила она. — Сейчас мы как раз выходим на орбиту…
Закончить фразу ей не удалось. На корабль обрушилась лавина адского грохота, в котором слились воедино громоподобные удары, трубный рев, скрежет металла и пронзительный визг… Кассада закатало в матрас и сбросило с кровати. Ураганный ветер понес его по палубе. Вместе с ним в этом смерче крутились лотки, подносы, постельное белье, книги, людские тела, металлические инструменты и прочий больничный хлам. Вокруг кричали люди. По мере того как уходил воздух, их голоса становились все тоньше, перерастая в фальцет. Кассад почувствовал, как его матрас ударился о стену: продолжая прикрывать лицо руками, он осмотрелся.
В метре от него какое-то паукообразное существо размером с футбольный мяч отчаянно размахивало лапками, пытаясь пролезть во внезапно разверзшуюся в переборке трещину. Лишенные суставов лапки этой твари шлепали по летавшему вокруг мусору. Паук повернулся, и тут Кассад понял, что это вовсе не паук, а голова женщины-врача. Видимо, ее оторвало первым же взрывом. Длинные волосы мазнули по лицу Кассада. Трещина раздвинулась еще на ширину кулака, и воздушный поток затянул голову женщины за переборку.
Кассад поднялся на ноги за мгновение до того, как остановилась корабельная центрифуга, и понятие «верх» потеряло всякий смысл. Продолжавший раскачиваться и дергаться корабль оказался во власти ураганного ветра, который сметал все вокруг и тащил незакрепленные предметы к трещинам и щелям в корпусе. Цепляясь за каждую трещинку, за каждый выступ, Кассад поплыл к двери, ведущей внутрь консоли центрифуги; последние пять метров ему пришлось буквально пробиваться сквозь летевшие навстречу предметы… Металлический поднос угодил ему в бровь. Потом он наткнулся на труп с кровавыми ямами вместо глаз и едва не отлетел обратно в палату. Герметические двери бессмысленно колотились о труп морского пехотинца в скафандре, застрявший на пороге и не дававший им закрыться. Кассад перекатился в шахту, идущую сквозь всю консоль к главному валу, и втащил труп за собой. Дверь захлопнулась, но в шахте воздуха было не больше, чем в палате. Доносящийся откуда-то звук сирены стал уже почти неслышным.
Кассад закричал, пытаясь сбросить внутреннее давление, чтобы не разорвало легкие и барабанные перепонки. Шахта консоли продолжала терять воздух; Кассада и морпеха потянуло вниз, и, кружась в каком-то жутковатом вальсе, он полетел рядом с мертвецом по шахте к главному валу корабельной центрифуги.
Кассаду потребовалось всего двадцать секунд, чтобы открыть аварийные люки в скафандре, и еще минута, чтобы вытащить тело и занять его место. Он был почти на десять сантиметров выше погибшего пехотинца, и скафандр, несмотря на всю свою эластичность, болезненно сжал шею, запястья и колени. Шлем, хотя он и был снабжен мягкими прокладками, давил Кассаду на лоб. К тому же изнутри прозрачное забрало облепили сгустки слюны и крови. Шрапнель, убившая морского пехотинца, прошла навылет, оставив в скафандре два отверстия, но аварийная система сработала отлично и затянула их изнутри. Большинство нагрудных индикаторов светилось красным, а на команду сообщить о своем состоянии скафандр не отреагировал. Но регенератор воздуха пока работал, хотя и подозрительно дребезжал.
Кассад попытался включить рацию. Тщетно: в наушниках не раздалось даже обычного потрескивания. Тогда, отыскав штекер комлога, Кассад вставил его в разъем на корпусе. Опять ничего. Корабль дернулся, металл загудел под градом ударов, и Кассада снова швырнуло на стену шахты. Рядом пролетела кувыркавшаяся транспортная клеть; оборванные кабели мотались, как щупальца растревоженного морского анемона. В клети было полно трупов; еще больше их скопилось на уцелевшей винтовой лестнице, которая вилась вдоль внутренней стены вала. Отталкиваясь ногами, Кассад добрался до дна и обнаружил, что все двери там герметично закрыты, вал перекрыт ирисной диафрагмой, зато в корпусе зияют такие дыры, что через иную свободно проедет ТМП.
Корабль снова качнулся и начал беспорядочно кувыркаться; на Кассада (равно как и на все предметы, летавшие по шахте) действовала теперь еще и сила Кориолиса. Уцепившись за торчавший кусок металла, Кассад кое-как протиснулся сквозь дыру в трехслойном корпусе «Меррика».
Увидев, что творится внутри, Кассад едва не рассмеялся. Тот, кто атаковал этот дряхлый корабль-лазарет, действовал мастерски. Сначала он кромсал наружную оболочку протонной пушкой до тех пор, пока не вышли из строя аварийные герметизаторы, а ремонтные роботы захлебнулись, не выдержав перегрузки, после чего под давлением воздуха рухнули внутренние переборки. И тогда вражеский корабль начал прицельно стрелять по пробоинам боеголовками, которые в ВКС по старинке именовали картечью. Все равно что кинуть осколочную гранату в крысиную нору.
Лучи света, проникавшие сквозь тысячи отверстий, преломлялись густой взвесью из пыли, капелек крови и смазочного масла, окрашивая этот туман во все цвета радуги. Со своего места Кассад, раскачивавшийся в такт внезапным рывкам корабля, разглядел не менее двух десятков обнаженных, изуродованных трупов. Их обманчиво-грациозные движения напоминали па какого-то причудливого подводного танца. Многие, словно солнца планетами, были окружены сгустками крови и внутренностями. Некоторые мертвецы уставились на Кассада выпученными от перепада давления глазами — вылитые персонажи карикатур — и время от времени вяло помахивали руками, словно подзывая его поближе.
Отбрасывая ногами обломки, Кассад направился к входу в командный отсек. Оружия ему пока найти не удалось. Похоже, кроме того морпеха, никто не успел даже надеть скафандр. Но он знал, что в командном отсеке или в кубрике морпехов на корме должен быть рундук с оружием.
Кассад остановился у последнего разгерметизированного шлюза и осмотрелся. На сей раз смеяться ему не захотелось. За шлюзовой камерой шахта главного вала корабля просто обрывалась. Дальше ничего не было. Эта секция — обрубок главного вала с торчащей на нем консолью медицинского модуля — представляла собой груду изуродованного металла, которую кто-то оторвал от фюзеляжа корабля, оторвал с той же легкостью, с какой Беовульф[13] отрубил руку Гренделю. Последняя дверь вела в открытый космос. В нескольких километрах Кассад разглядел еще с десяток изувеченных модулей «Меррика», кувыркавшихся в солнечных лучах. Лазурно-зеленая планета оказалась так близко, что Кассадом овладел приступ акрофобии и он крепче вцепился в косяк. Внезапно по лимбу планеты скользнула яркая звезда; рубиновые лучи боевых лазеров замигали, словно отбивая морзянку. Один из обломков корабля — от Кассада его отделяло примерно полкилометра пустоты — вдруг вспыхнул, и от него во все стороны полетели брызги испаряющегося металла, клубы конденсирующегося пара и какие-то черные точки. Кассад понял, что это трупы.
Спрятавшись в мешанине искореженных ферм, Кассад стал обдумывать свое положение. Скафандр морпеха не проработает и часа; в воздухе уже чувствовался запашок тухлых яиц — верный признак, что регенератор начинает сдавать. По пути ему не встретилось ни одного герметичного помещения или хотя бы контейнера. Но допустим даже, он такое воздухонепроницаемое убежище найдет. Дальше что? Он не знал даже, что это за планета — то ли Гиперион, то ли Сад — одно было несомненно: ни единого корабля ВКС Гегемонии поблизости нет. А местный флот вряд ли отважится вступить в бой с рейдером Бродяг. Патрульные катера подойдут лишь через несколько дней. Орбита, по которой болтается этот кусок обгорелого железа, ставший его приютом, неизбежно будет сужаться. И прежде чем сюда кого-нибудь пришлют, тысячи тонн исковерканного металла рухнут на планету гигантским метеоритом. Вряд ли это обрадует ее обитателей, но они смирятся с чем угодно — лишь бы не ввязываться в драку с Бродягами. Мрачно улыбнувшись, Кассад подумал, что если на планете есть примитивная орбитальная защита или наземные протонные пушки, еще неизвестно, по кому они будут стрелять — по боевому кораблю Бродяг или по куче обломков.
Впрочем, не все ли ему равно? Если он не предпримет что-нибудь — немедленно, сейчас же, — он умрет задолго до того, как остатки корабля войдут в атмосферу или обитатели планеты расстреляют их в упор.
Панель зрительного усилителя на скафандре морпеха растрескалась от ударов шрапнели, и тем не менее Кассад решил ею воспользоваться. Когда он опустил панель — вернее, то, что от нее осталось, — поверх забрала, индикаторы замигали красными огоньками. Однако энергии все еще хватало, и панель сработала. Сквозь паутину трещин проступило бледно-зеленое увеличенное изображение вражеского корабля. Факельщик Бродяг подошел уже на сотню километров, и за его кормой тянулся мерцающий шлейф защитного поля. Вдруг от корабля отделилось несколько точек. В первый момент Кассад решил, что это «ракеты милосердия». Если так, жить ему осталось несколько секунд. Губы сами собой сложились в невеселую улыбку, но тут он заметил, что ракеты летят слишком уж медленно, и увеличил масштаб. Индикатор блока питания замигал красным, и усилитель вышел из строя, но Кассад успел разглядеть остроносые овальные корпуса, торчащие во все стороны вспомогательные двигатели, блистеры, пучок из шести щупалец-манипуляторов. Без сомнения, то были «каракатицы» — так называли в ВКС десантные катера Бродяг.
Кассад в обломки забрался еще глубже. В запасе у него было несколько минут — «каракатицы» вот-вот появятся вблизи его секции. Сколько Бродяг на этой штуке? Десять? Двадцать? Наверняка не менее десяти. Вооруженных до зубов. В полной экипировке, то есть в инфракрасных очках и с чувствительными сенсорами, улавливающими любое движение. И самое главное — это командос, элитные войска Бродяг, эквивалент морпехов ВКС. Они не просто натренированы для боевых действий в невесомости — они в невесомости родились и выросли. А длинные конечности, цепкие пальцы и хвостопротезы дают им при нулевой гравитации дополнительные преимущества. Впрочем, преимуществ у них и без того хватает.
Кассада захлестнула волна страха, ему хотелось закричать и сломя голову кинуться в темноту. Преодолев себя, он начал осторожно пробираться сквозь лабиринт искореженных металлических переборок. «Что им нужно? — думал он. — Пленные. Конечно же. Вот и решение. Чтобы выжить, нужно сдаться в плен». Но у этого решения имелся существенный недостаток: Кассаду уже доводилось видеть голограммы, снятые разведслужбой ВКС на захваченном под Брешией корабле Бродяг. Там обнаружили более двухсот пленников. Очевидно, у Бродяг было к ним немало вопросов, а кормить и охранять столько пленных они сочли обременительным. Или у них вообще была особая манера допрашивать. Но факт остается фактом: захваченные в плен солдаты и мирные граждане Брешии лежали выпотрошенные и распятые на стальных поддонах, как лягушки в биологической лаборатории. Их внутренности были извлечены и погружены в питательный раствор, а конечности — видимо, для удобства допрашивающих — ампутированы. Чтобы задавать вопросы, им удалили глаза и прямо сквозь трехсантиметровые дырки в черепе ввели в мозг электроды.
Подтягиваясь на руках, Кассад пробирался сквозь обломки металла и путаницу проводов. Желание сдаваться у него пропало. Вдруг корпус корабля перестал кувыркаться, задрожал и замер — видимо, к нему пришвартовалась «каракатица». «Думай», — приказал себе Кассад. Итак, прятаться бесполезно. Значит, нужно оружие. Попадалось ли ему по дороге что-нибудь подходящее?
Уцепившись за оборванный конец волоконнооптического кабеля, Кассад остановился и стал вспоминать. Так, госпитальная палата, где он пришел в себя. Койки, баки для фугостазиса, аппараты интенсивной терапии — большую часть этого хлама выбросило через пробоины в корпусе… Так, двинулись дальше. Коридор консоли. Клеть лифта.
Трупы на ступеньках. Оружия нет нигде. С трупов — то ли взрывной волной, то ли воздушным потоком, возникшим от перепада давления, — сорвало буквально все. Лифтовой кабель? Тоже не годится. Он слишком длинный, да и как его отрезать без инструментов. Инструменты? А где они? Двери медицинских кабинетов, выходящих прямо в коридор главной шахты, распахнуты настежь. Томографический кабинет… Ментоскопия… Кар-диопульмонология… Процедурные ванны без крышек напоминают разграбленные саркофаги. А вот эта операционная, похоже, почти не пострадала. Внутри плавают хирургические инструменты и оборванные кабели. Дальше, дальше… Солярий. Когда полетели окна, оттуда вынесло все. Начисто. Комнаты отдыха пациентов. Комнаты отдыха врачей. Ванные, коридоры, какие-то одноместные палаты. Снова трупы.
Секунду Кассад висел неподвижно, пытаясь сориентироваться в лабиринте теней, затем прыгнул.
Он надеялся, что в его распоряжении будет минут десять, оказалось — меньше восьми. Кассад знал, что Бродяги действуют методично и споро, но такой быстроты в условиях невесомости он просто не ожидал. Весь его расчет строился на том, что они будут обыскивать корабль поодиночке или хотя бы по двое. Именно так действуют в уличных боях морпехи и «прыгающие крысы». Они обследуют дверь за дверью: один солдат врывается внутрь, другой прикрывает его огнем. Но если их больше двух, если Бродяги прочесывают корабль четверками, шансов у него нет.
Когда в дверях операционной № 3 появился Бродяга, Кассад неподвижно парил в центре комнаты, вдыхая зловонный воздух — регенератор его скафандра дорабатывал последние минуты. Десантник прыгнул вперед и тут же отскочил в сторону, наставив на безоружную фигуру в потрепанном скафандре два ствола сразу.
Как и рассчитывал Кассад, плачевное состояние скафандра и шлема позволило ему выиграть пару секунд. Луч нагрудного фонаря Бродяги выхватил из темноты растрескавшееся, забрызганное кровью забрало, а за ним — неподвижные глаза, устремленные в потолок. В руке десантник держал акустический станнер, а в длинных пальцах левой ноги — лучевой пистолет, оружие компактное, но куда более грозное. Он поднял станнер. Кассад заметил, как хвостопротез со смертоносным жалом на конце вздрогнул, и передвинул «мышь» в правой перчатке.
Из отпущенных ему восьми минут большую часть Кассад потратил на то, чтобы подключить аварийный генератор к электрической сети операционнной. Хирургических лазеров уцелело только шесть. Четырьмя «скальпелями» Кассад перекрыл зону слева от двери, а два самых мощных — их использовали, чтобы распиливать кости, — поместил справа. Бродяга двинулся именно туда.
В следующую секунду его скафандр лопнул. Лазеры еще продолжали шинковать Бродягу в соответствии с заданной программой, когда Кассад, оттолкнувшись посильнее, нырнул под синие лучи, мечущиеся в облаке бьющей из разрезанного скафандра бесполезной гермосмеси и вскипевшей в пустоте крови. Он едва успел подхватить упавший из рук десантника станнер, как в комнату влетел второй Бродяга, быстрый и ловкий, как шимпанзе со Старой Земли.
Кассад приставил к его шлему станнер и выстрелил. Одетая в скафандр фигура обмякла. Хвостопротез несколько раз судорожно дернулся и безвольно повис. Когда стреляют из станнера в упор, в плен брать некого. Выстрел с такого расстояния превращает мозг в нечто вроде овсянки.
Отпихнув ногой труп, Кассад ухватился за притолоку и, выставив включенный станнер в коридор, несколько раз провел им справа налево. Никто не появлялся. Выждав двадцать секунд, Кассад выглянул в коридор. Пусто.
Первого Бродягу Кассад, естественно, трогать не стал. Он принялся раздевать второго — того, у которого скафандр был цел. Под скафандром он оказался совершенно голым, причем обнаружилось, что это женщина — белобрысая, коротко стриженная, с плоской грудью и татуировкой на животе, как раз над лобком. Женщина была мертвенно-бледна, из носа, глаз и ушей каплями стекала кровь. Вот как? Бродяги, оказывается, используют женщин в десанте. Все вражеские трупы, найденные на Брешии, были мужскими.
Не снимая шлема и регенератора, он отшвырнул тело в сторону и натянул на себя непривычный скафандр. В вакууме кровеносные сосуды мгновенно расширились, и Кассад порядком продрог, пока возился с незнакомыми замками и защелками. Он отнюдь не был коротышкой, и тем не менее этот женский скафандр оказался ему велик. Перчатки на руки он кое-как натянул, а вот о том, чтобы дотянуться до ботинок, точнее, ножных перчаток, и контактов, управляющих хвостопротезом, не могло быть и речи. Что ж, пусть пока повисят без дела. Кассад быстро сдернул свой шлем и втиснул голову в пузырь Бродяги.
На воротнике загорелись две сигнальные лампочки: янтарно-желтая и фиолетовая, и в шлем хлынул воздух. У Кассада заложило уши, в нос ударило густое зловоние. Очевидно, для Бродяг это был сладкий запах родного дома. В наушниках раздавались негромкие команды. Язык звучанием напоминал староанглийский, если его записать на магнитофон, а потом прокрутить задом наперед. Риск был огромный, и Кассад прекрасно понимал это. Вся надежда на то, что Бродяги действуют, как на Брешии, — полуавтономными группами, связанными только по радио и базовой телеметрической системой, а не объединены через тактические импланты в сеть, как пехотинцы ВКС. Если они используют свою обычную систему связи, тогда командир десантников, возможно, уже знает, что двое его (или ее) людей куда-то пропали, а их медбраслеты молчат. Но вот где они — этого он знать не может.
«Хватит гипотез, — решил Кассад. — Пора действовать». С помощью «мыши» он запрограммировал хирургические лазеры на поражение всех входящих в операционную, а затем, путаясь в собственных ногах, выбрался в коридор. «В этом чертовом скафандре, — подумал он, — чувствуешь себя так, будто идешь, наступая себе на штанины». Он захватил с собой оба лучевых пистолета, но поскольку на скафандре не оказалось ни ремня, ни крепежных колец, ни крючков, ни липучек, ни магнитных защелок, ни даже просто карманов, пришлось держать их в руках. Он выглядел сейчас как пьяный пират из голографической пьесы: в каждой руке по пистолету, ноги заплетаются и вдобавок на каждом шагу его мотает от стены к стене. В конце концов один пистолет пришлось выбросить, чтобы помогать себе при ходьбе рукой. Перчатка сидела на ней совершенно свободно, словно рукавица взрослого на ручке ребенка. Проклятый хвост болтался из стороны в сторону и колотил по шлему — геморрой да и только.
Дважды Кассад замечал в отдалении какие-то огни и сразу же забивался в ближайшую щель. Он уже подходил к пробоине, из которой недавно наблюдал за приближением «каракатиц», как вдруг, свернув за угол, наткнулся сразу на трех Бродяг.
Вражеский скафандр обманул их и позволил ему выиграть несколько секунд. Первого он расстрелял в упор. Второй Бродяга успел даже пальнуть из станнера, едва не задев плечо Кассада, но тут же был прошит насквозь тремя разрядами. Третий отпрянул назад, ухватился за края пробоины тремя конечностями сразу и, прежде чем Кассад успел навести на него пистолет, скрылся из глаз. В наушниках гремели ругань, приказы, вопросы. Кассад охотился молча.
Третий Бродяга мог спастись, но в нем заговорила гордость, и он вернулся. Когда Кассад с пяти метров поразил его лучом в левый глаз, он испытал смутное ощущение, что все это с ним уже было.
Труп кувыркнулся назад, в солнечный свет. Кассад подтянулся к пробоине и разглядел стоящую на приколе метрах в двадцати «каракатицу». Наконец-то ему по-настоящему повезло.
Пробираясь по открытому пространству, Кассад не мог отделаться от мысли, что он представляет собой прекрасную мишень и вражеский стрелок в случае необходимости снимет его в два счета. От напряжения у него даже стянуло кожу в промежности. Но никто не стрелял. В наушниках между тем не смолкали приказы и вопросы. О чем там шла речь, Кассад, естественно, не понимал, и потому счел за благо в диалог не вступать.
Кассад никак не мог приноровиться к неудобному скафандру и едва не пролетел мимо «каракатицы». В это мгновение он подумал: вот и все, таков закономерный финал его эскапады. Ни двигателя, ни систем маневрирования у скафандра нет. Даже пистолет — и тот не дает отдачи. И вот храбрый воин плывет по орбите, нелепый и безобидный, как улетевший воздушный шарик…
Вытянувшись так, что хрустнули суставы, Кассад все-таки ухватился за штыревую антенну и, перебирая обеими руками, подтянулся к корпусу катера.
Где, черт возьми, у них шлюзовая камера? Корпус был слишком гладким для чисто космической посудины, однако его сплошь покрывали какие-то значки, ярлычки, таблички. Что-нибудь вроде: «НЕ ПОДХОДИТЬ! СОПЛО ДВИГАТЕЛЯ!» или «ОПАСНО! РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!» Никаких люков Кассад не заметил. Он догадывался, что на борту «каракатицы» кто-то есть. По крайней мере пилот. А может, и еще кто-нибудь. И сейчас они гадают, что стряслось с этим десантником? Почему он ползает вокруг корпуса, как краб, которому отдавили лапы, вместо того чтобы просто войти в люк? А возможно, они уже догадались, в чем дело, и теперь поджидают его с пистолетами наготове. Как бы то ни было, но открывать ему дверь явно не собирались.
«Ну и черт с вами», — подумал Кассад и выстрелил в один из блистеров.
На борту царил образцовый порядок: в пробоину вместе с воздухом вылетела только какая-то мелочь, вроде нескольких монеток или скрепок. Кассад подождал, пока воздушный гейзер иссякнет, и протиснулся в образовавшееся отверстие.
Он оказался в отсеке десанта: обшитый мягким материалом трюм почти не отличался от помещений, в которых на десантных кораблях ВКС размещаются «прыгающие крысы». Кассад отметил про себя, что «каракатица» могла нести до двадцати десантников в полном боевом снаряжении. Сейчас здесь было пусто. Открытый люк вел в рубку.
На борту находился только первый пилот. Он уже расстегнул ремни и вставал, когда Кассад пристрелил его. Оттащив тело в трюм, Кассад уселся в кресло (которое, как он надеялся, предназначалось для пилота) и пристегнулся.
Сквозь прозрачный колпак падал теплый солнечный свет. Видеомониторы и голографические экраны, вмонтированные в пульт управления, показывали, что творится впереди и сзади, а размещенные по бокам видеокамеры позволяли следить за ходом десантной операции. Перед глазами Кассада мелькнули голый труп в операционной № 3 и несколько фигур в скафандрах, ведущих перестрелку с хирургическими лазерами.
В голографических фильмах, которые Федман Кассад смотрел в детстве, герои играючи справлялись со всякими глайдерами, космолетами, магнитопланами и прочими экзотическими средствами передвижения. Кассада учили управлять армейским транспортером, танком и ТМП. При необходимости он совладал бы и с десантным кораблем или челноком. Даже оказавшись на покинутом командой звездолете ВКС (что, впрочем, было маловероятно), он бы не пропал. Разобрался бы в системе управления, связался с центральным компьютером, послал радиограмму или сигнал бедствия по мультилинии. Сейчас же он сидел в пилотском кресле «каракатицы» Бродяг и не имел ни малейшего представления, что делать.
Впрочем, кое-что он уже понял. Например, гнезда дистанционного управления щупальцами он узнал сразу. Будь у него в запасе два-три часа, он бы разобрался и с пультом.
Но времени не было. На переднем экране показались три фигуры в скафандрах. Стреляя, они кинулись к катеру. В голоэкране над пультом внезапно материализовалось лицо вражеского командира — бледное, какое-то нечеловеческое. В наушниках раздались крики.
По лбу Кассада катились крупные капли пота, падавшие затем на стекло шлема. Он стряхивал их как мог и, склонившись над пультом управления, давил на одинаковые с виду клавиши. Если «каракатицей» можно управлять только голосом или же если она защищена от угона автоматикой — Кассад погиб. Обо всем этом он подумал еще за секунду до того, как пристрелил пилота. Но ему и в голову не пришло заставить его вести корабль. «Нет, выход должен быть», — думал Кассад, продолжая перебирать кнопки.
Внезапно двигатель включился.
Катер задергался на своих швартовах. Кассада, пристегнутого к креслу, швыряло то взад, то вперед. «Мать вашу», — шепотом выругался он. Это были его первые слова с тех пор, как он разговаривал с женщиной-врачом. Подавшись вперед, Кассад дотянулся перчаткой до гнезд управления щупальцами. Четыре из шести манипуляторов разжались. Один оторвался. Последний вырвал кусок переборки «Меррика».
Освободившись, катер заметался из сторону в сторону. На экране мелькнули двое в скафандрах. Они прыгнули и промахнулись. Но третьему все же удалось ухватиться за антенну — ту самую, что спасла жизнь Кассаду. Зная теперь приблизительное расположение органов управления двигателями, Кассад бешено жал на клавиши. Включилось верхнее освещение. Отключились все проекторы голограмм. Катер начал совершать какие-то безумные маневры — броски из стороны в сторону, повороты вокруг всех своих осей. Кассад успел, однако, заметить, как одетая в скафандр фигура перелетела через верхний блистер.
На секунду она мелькнула на экране переднего обзора и тут же превратилась в крохотное пятнышко за кормой. Но пока Бродяга не скрылся из виду, он (или она?) продолжал стрелять.
Корабль болтало так, что Кассад едва не потерял сознание. Звуковые и световые аварийные сигналы работали на полную мощность, пытаясь привлечь его внимание. Наконец-то Кассаду удалось попасть по кнопке управления двигателем. Кажется, сработало. Теперь его растягивало лишь в двух направлениях, а не в пяти сразу, как раньше. Он убрал руку с пульта.
На экране мелькнул удаляющийся силуэт вражеского «факельщика». Прекрасно. Кассад был уверен, что боевой корабль Бродяг может уничтожить его буквально в любую секунду. И обязательно сделает это, если Кассад будет угрожать ему или просто попытается подойти поближе. Он не знал, несет ли «каракатица» тяжелое вооружение, хотя что-то подсказывало ему, что ничего мощнее стрелкового оружия на борту нет. В одном только не было никаких сомнений: капитан факельщика ни в коем случае не подпустит к своему кораблю челнок, потерявший управление. Кроме того, Бродяги, похоже, догадались, что их катер захватил враг. Так что, вздумай факельщик обратить его в пар, он принял бы это как должное. Огорчился бы, но не удивился. Расчет же его строился на том, что любопытство и жажда мести — эти фундаментальнейшие человеческие эмоции — не чужды и Бродягам.
Впрочем, в критические моменты любопытство отступает на второй план. Куда больше он надеялся на чувство мести — в военизированной, полуфеодальной культуре Бродяг оно должно, по идее, играть важную роль. А учитывая то обстоятельство, что полковник Федман Кассад уже не мог причинить им вреда и не имел никаких шансов скрыться, он становился первым кандидатом на анатомический стол. По крайней мере ему хотелось верить, что это так.
Кассад посмотрел на экран переднего обзора, нахмурился и, ослабив ремни, выглянул в блистер. Катер болтало, но уже не так сильно. Планета приближалась, диск ее заполнял теперь все пространство над его головой. Но считать показания с дисплеев он не мог и только гадал, какова орбитальная скорость катера, скоро ли он войдет в атмосферу и насколько силен будет удар. Судя по тому, что он увидел в первый раз, разглядывая планету из обломков «Меррика», корабль успел выйти на промежуточную орбиту, с которой запускаются челноки, и во время атаки находился километрах в пятистах — шестистах от поверхности планеты.
Кассад попытался вытереть пот с лица и нахмурился, когда пальцы его перчатки ударились о забрало. Он устал. Черт возьми, всего несколько часов назад он лежал в фуге, а совсем недавно — две-три недели по корабельному времени — был еще мертв.
Интересно, что это за планета: Гиперион или Сад? Кассад не бывал ни на той, ни на другой, но знал, что Сад заселен гуще и его шансы стать колонией Гегемонии куда реальнее. Он предпочел бы Сад.
От факельщика отчалили три катера. Первые секунды Кассад видел их отчетливо, потом кормовая видеокамера расфокусировалась и изображение расплылось. Он нажал на клавишу управления двигателем и держал ее до тех пор, пока не почувствовал, что корабль закувыркался значительно быстрее. Стена планеты стремительно надвигалась. Больше ничего он сделать не мог.
«Каракатица» добралась до атмосферы раньше, чем катера Бродяг добрались до «каракатицы». Вне всякого сомнения, они были вооружены и давно могли открыть огонь. Видимо, некто принимающий решения оказался чересчур любопытным. Или обожал пытки.
С точки зрения аэродинамики, «каракатица», мягко говоря, оставляла желать лучшего. Как и большинство аппаратов класса «корабль-корабль», она могла лишь касаться верхних слоев атмосферы, но была обречена, стоило ей нырнуть в «гравитационный колодец» планеты чуть поглубже. На пульте вспыхнули предупреждающие красные надписи, все каналы радиосвязи забил треск помех от ионизации, и Кассад засомневался, так ли хороша его идея.
Благодаря сопротивлению атмосферы «каракатица» перестала кувыркаться, и вскоре Кассад ощутил первые, еще робкие прикосновения гравитации. Произошло это, когда он обшаривал пульт и подлокотники кресла в поисках аварийной системы управления, которая, как он страстно надеялся, должна там быть. Сквозь зигзаги помех он заметил, как за одним из катеров потянулся шлейф голубой плазмы — тот сбрасывал скорость. Затем катер пошел вверх. Нечто подобное видит парашютист, когда его товарищ, летящий рядом, открывает парашют или активирует свой левитатор.
Впрочем, у Кассада хватало других забот. Оказалось, например, что с «каракатицы» нельзя катапультироваться. Каждый челнок ВКС оснащался системой аварийного спасения в атмосфере — этот восьмивековой обычай восходил еще к тем временам, когда человек не осмеливался забираться далеко в космос, а совершал лишь первые робкие вылазки в верхние слои стратосферы Старой Земли. На челноках «корабль-корабль» она, конечно же, была ни к чему, но древние страхи, увековеченные в столь же древних уставах, так просто не отмирают.
Так следовало из теории. Но Кассад ничего не нашел. Катер начало крутить во все стороны и трясти, вдобавок в кабине стало по-настоящему жарко. Кассад отстегнул ремни и пополз на корму. Он и сам не знал, что ищет. Аварийный левитатор? Парашют? Крылья?
В десантном отсеке он обнаружил только труп пилота и несколько рундуков размером с обычный пищеблок. Кассад перевернул там все, но, кроме аптечки, никаких чудодейственных приборов не нашел.
Вцепившись в перекладину, он почувствовал, как изменился характер тряски — катер начал разрушаться, — и осознал наконец то, с чем никак не хотел примириться: Бродягам незачем было тратить средства и полезный объем корабля на всякие спасательные приспособления из-за крайне малой вероятности их применения. В самом деле, зачем они им? Вся их жизнь проходила в темноте межзвездного пространства. В их представлении атмосфера — это воздух, накачанный внутрь восьмикилометровой трубы летающего города. Через наружные микрофоны Кассад уже слышал дикий свист воздуха, доносившийся сюда сквозь корпус и пробоину в кормовом блистере. Кассад поежился. Столько раз он ставил жизнь на карту и вот теперь проигрывал.
Катер содрогнулся. Встречным потоком воздуха оторвало щупальца-манипуляторы. Труп пилота словно гигантским пылесосом втянуло в пробоину и выбросило наружу. Цепляясь за перекладину, Кассад озирался по сторонам, и взгляд его снова остановился на креслах пилотов, видневшихся в открытом люке кабины. Его поразило, насколько архаично они выглядят — точъ-в-точь картинка из учебника по истории астронавтики. Наружный слой обшивки уже обгорел, куски его отваливались и, словно комья лавы, с ревом проносились мимо иллюминаторов. Кассад закрыл глаза и попытался вспомнить, что им рассказывали в Офицерской Школе об устройстве древних космических кораблей. Падение вошло в свою заключительную фазу. Шум стоял невероятный.
«Аллах!» — буквально выдохнул Кассад полузабытое слово. Хватаясь за поручни и подтягиваясь, он кое-как добрался до кабины и пролез в люк. Ему казалось, что он карабкается по вертикальной стене, да, собственно, так оно и было. Катер перевернулся и вот так, кормой вперед, вошел в последнее пике. Кассад полз в тройном поле тяжести, прекрасно понимая, что достаточно одного неверного движения — и он переломает себе кости. Нарастающий свист воздуха превратился в рев дракона. Десантный отсек прогорел насквозь, и расплавленный металл обшивки разлетался брызгами.
Взобраться в кресло пилота было не проще, чем подняться по отвесной скале, взгромоздив на плечи еще двух альпинистов. Проклиная неуклюжие перчатки, Кассад из последних сил ухватился за подголовник кресла и повис прямо над бушующим в трюме пламенем. Корабль качнуло. Кассад забросил ноги вверх, подтянулся и оказался в кресле. Экраны отключились. Пламя разогрело прозрачный колпак блистера докрасна. Почти теряя сознание, Кассад перегнулся вперед и принялся шарить в темноте под креслом. Ничего… Так… рукоятка. Нет, не рукоятка… Кольцо. Господи Иисусе! Аллах! Кольцо! Совсем как в книжках!..
Один за другим раздавались взрывы. Блистер прогорел насквозь, и брызги расплавленного перспекса разлетелись по кабине, заляпав скафандр и забрало. Завоняло горелым пластиком. Катер входил в штопор. Все перед глазами Кассада вдруг стало розовым, потом потускнело — и разом пропало. Онемевшими пальцами он затягивал ремни. Так, туже… еще туже… то ли это ремень врезается в грудь, то ли скафандр прогорел… Кассад потянулся к кольцу. Как же, ухватишь его в этих рукавицах… Ну а теперь — ТЯНИ!
Поздно! Охваченный пламенем катер с грохотом разваливался на куски. Пульт управления вспыхнул и разлетелся на тысячи осколков.
Кассада отбросило на спинку кресла. Вперед! Наружу! В огонь! Вверх тормашками!
Кувыркаясь в воздухе, Кассад догадался, что кресло создает собственное защитное поле. Пламя полыхало буквально в сантиметре от его лица.
Сработали пирозаряды, и кресло вылетело из огненного потока. За ним тянулся хвост синего пламени. Микропроцессоры тут же развернули кресло под нужным углом, и диск защитного поля оказался как раз между Кассадом и конусом раскаленного воздуха. Кресло пролетело около двух тысяч километров, тормозя с ускорением 8g. Кассаду казалось, что на грудь ему уселся великан.
Один раз ему удалось поднять веки. Он успел заметить, что лежит согнувшись, а над ним поднимается столб сине-белого пламени. Глаза его снова закрылись. Никаких признаков парашюта, левитатора или тормозного устройства он не заметил. Впрочем, какая разница? Все равно он не мог даже рукой шевельнуть.
Великан передвинулся и заметно потяжелел.
Кассад понял, что часть шлема расплавилась. А может, просто сорвало кусок воздушным потоком. Шум стоял чудовищный. Впрочем, какая разница!
Он плотнее закрыл глаза. Самое время вздремнуть.
Кассад открыл глаза и увидел темный силуэт склонившейся над ним женщины. В первую секунду он подумал, что это она. Он посмотрел еще раз… и понял, что не ошибся. Это действительно была она. Его щеки коснулись холодные пальцы.
— Я умер? — прошептал Кассад. Потом поднял руку и сжал ее запястье.
— Нет. — В ее мягком гортанном голосе чувствовался странный акцент. Он еще ни разу не слышал, как она говорит.
— Ты существуешь на самом деле?
— Да.
Кассад вздохнул и огляделся. Он лежал совершенно обнаженный под тонким покрывалом на каком-то возвышении посередине темной, похожей на пещеру, комнаты. Сквозь пробоину в потолке виднелось звездное небо. Кассад поднял другую руку и прикоснулся к ее плечу.
Темный нимб волос. Свободное, тонкое одеяние, сквозь которое даже при свете звезд проступали контуры ее тела. Ее аромат — тонкий запах мыла, кожи и ее самой, запах, который он прекрасно помнил по прошлым встречам.
— Ты хочешь что-то спросить? — прошептала она.
Кассад молча расстегнул золотую пряжку, скреплявшую ее одеяние. Оно с шелестом упало на пол. Под ним ничего не было. В небе отчетливо виднелась лента Млечного Пути.
— Нет, — ответил Кассад и привлек ее к себе.
К утру поднялся легкий ветерок. Они лежали рядом, закутавшись в покрывало. Им не было холодно: казалось, тонкая материя сохраняла тепло их тел. Где-то за голыми стенами шуршал песок, а может быть, снег. Звезды были видны очень отчетливо и казались необычайно яркими.
Они проснулись с первыми лучами солнца и лежали под шелковистым покрывалом, прижавшись друг к другу. Она провела рукой вдоль его тела по старым, давно знакомым шрамам. И по новым.
— Как тебя зовут? — прошептал Кассад.
— Тшшш, — прошептала она в ответ, и ее рука скользнула ниже.
Кассад уткнулся лицом в ароматный изгиб ее шеи и почувствовал, как напряглись ее груди. Ночь бледнела, превращаясь в утро. Ветер нес на голые стены то ли песок, то ли снег.
Они любили друг друга, спали и снова любили. Встали они около полудня. Она принесла Кассаду нижнее белье, серую куртку и брюки. Все это сидело на нем идеально. Носки из губчатой ткани и мягкие ботинки тоже оказались впору. Она оделась в такой же костюм, только цвета морской волны.
— Как тебя зовут? — спросил Кассад, когда они вышли из здания с разрушенным куполом и зашагали по мертвому городу.
— Монета,[14] — ответила его мечта. — Или Мнемосина. Как тебе больше нравится.
— Монета, — прошептал Кассад, глядя на поднимавшееся в лазурном небе маленькое солнце, — это Гиперион?
— Да.
— Как я приземлился? На парашюте? Или там было тормозное поле?
— Ты спустился на крыльях из золотой фольги.
— Странно, что я уцелел. Я не был ранен?
— Был. Но твои раны вылечили.
— Как называется это место?
— Град Поэтов. Его покинули более ста лет назад. За этим холмом находятся Гробницы Времени.
— А катера Бродяг, которые за мной гнались?..
— Один сел неподалеку. Повелитель Боли сам займется его командой. Два других приземлились чуть подальше.
— А кто это, Повелитель Боли?
— Пойдем, — сказала Монета.
Сразу за вымершим городом начиналась пустыня. Струйки пыли текли по мраморным плитам, наполовину занесенным песком. К западу от города Кассад заметил десантный катер с открытыми люками. Установленный на упавшей колонне термокуб выдал им горячий кофе и свежие булочки. Они ели и пили молча.
Кассад тем временем пытался вспомнить легенды о Гиперионе.
— Повелитель Боли — это Шрайк, — сказал он наконец.
— Конечно.
— Ты отсюда… из Града Поэтов?
Монета улыбнулась и медленно покачала головой.
Кассад выпил кофе и отставил чашку. Его не покидало ощущение, что все это происходит во сне, ощущение куда более острое, чем во время всех предыдущих модельных тренировок. Но кофе приятно горчил; лицо и руки чувствовали тепло солнечных лучей.
— Пойдем, Кассад, — сказала Монета.
Они пересекли море холодного песка. Кассад поймал себя на том, что время от времени поглядывает вверх, в небо: «факельщик» Бродяг мог в любую секунду расстрелять их с орбиты. Внезапно он понял, что этого не случится.
Гробницы Времени лежали в долине. Невысокий обелиск излучал мягкое сияние, а каменный сфинкс, напротив, словно бы впитывал в себя солнечный свет. Замысловато переплетенные пилоны отбрасывали друг на друга бесчисленные тени. Рядом, на фоне восходящего солнца, вырисовывались силуэты других гробниц. У каждой имелась дверь, и каждая дверь была открыта. Кассад знал, что когда первые исследователи обнаружили гробницы, двери были точно так же открыты, а все внутренние помещения — пусты. Более трех столетий искали там потайные комнаты, подземелья, захоронения, но все поиски оказались безуспешными.
— Дальше тебе нельзя, — сказала Монета, когда они приблизились к скале, возвышавшейся у входа в долину. — Сегодня приливы времени особенно сильны.
Тактический имплант Кассада молчал. Комлога у него не было. Он порылся в памяти.
— Вокруг Гробниц Времени существуют антиэнтропийные силовые поля, верно? — спросил он.
— Да.
— Гробницы очень древние. И антиэнтропийные поля предохраняют их от разрушения.
— Не совсем так, — поправила его Монета. — Приливы обращают время вспять. Гробницы как бы движутся из будущего в прошлое.
— Из будущего в прошлое? — недоуменно повторил Кассад.
— Смотри.
Внезапно из желтого пыльного вихря возникло дерево со стальными шипами и, переливаясь как мираж, стало расти. Казалось, оно хочет заполнить собой всю долину. Вершина его поднялась уже метров на двести — до кромки обступивших долину скал. Ветви дерева двигались, исчезали и меняли форму, как элементы плохо съюстированной голограммы. Солнечные лучи сверкали на пятиметровых шипах. С десяток шипов унизывали совершенно голые тела Бродяг — мужчин и женщин. На других ветвях были другие трупы, причем не только человеческие.
На секунду пыльная буря заслонила дерево, а когда ветер стих, видение исчезло.
— Пойдем, — сказала Монета.
Кассад шел вдоль линии темпорального «прилива». Когда волны антиэнтропийного поля языками набегали на «берег», он отпрыгивал в сторону, словно ребенок, играющий на пляже с океанским прибоем. Кассад чувствовал, как волны времени проникают в него, пропитывая буквально каждую клеточку тела памятью о событиях, которым только предстоит произойти.
Они остановились у входа в долину, где холмы переходили в прочерченную грядами барханов зыбкую равнину, отделявшую их от Града Поэтов. Монета прикоснулась к стене из синего сланца, и в скале открылся проход. Они вошли в длинную, низкую комнату.
— Это твой дом? — спросил Кассад, но сразу понял, что здесь никто не живет. Вдоль каменных стен, черневших выемками ниш, тянулись стеллажи. Больше здесь ничего не было.
— Мы должны приготовиться, — прошептала Монета, и освещение приобрело золотистый оттенок. Внизу, на длинной полке, появились какие-то непонятные штуковины. Вместо зеркала с потолка опустился блестящий полимерный лист не толще обычной кристалломатрицы.
Спокойно, словно во сне, Кассад наблюдал, как Монета сбросила сначала свои одежды, а затем раздела его. Нагота не взволновала его, а воспринималась, скорее, как часть какого-то обряда.
— Годами ты являлась мне в снах, — сказал он.
— Да. Это твое прошлое. И мое будущее. Ударные волны событий движутся сквозь время, как гребешки волн по поверхности пруда.
Кассад моргнул, когда она подняла золотую пластинку и прикоснулась ею к его груди. Он почувствовал легкий удар, и его плоть стала зеркальной. Отдельные черты лица стерлись, голова обратилась в сверкающий эллипсоид, в котором отражались все краски и предметы в комнате. Секунду спустя Монета прижалась к нему, и ее тело тотчас превратилось в каскад отражений: вода на ртути, разлитой по хрому. Кассад видел отражение своей зеркальной плоти в каждом изгибе и мускуле ее тела. Груди Монеты ловили и искривляли лучи света; соски поднялись маленькими всплесками на поверхности зеркального пруда. Кассад хотел обнять ее и почувствовал, как поверхности их тел текут подобно двум потокам жидкости в магнитном поле. И под этим единым полем их тела соприкоснулись.
— Твои враги ожидают за городом, — прошептала она. Хромовое зеркало ее лица струилось светом.
— Враги?
— Бродяги. Те, что тебя преследуют.
Кассад покачал головой и увидел, что отражение повторило это движение.
— Разве теперь это важно?
— Конечно, — прошептала Монета. — Враг — это всегда важно. Ты должен вооружиться.
— Но как… — Не успел он договорить, как ощутил прикосновение металла. В руках Монеты был бронзовый тускло-синий предмет, формой напоминающий тороид. Его преображенное тело мгновенно отзывалось на любое движение его мысли, словно войско, связанное тактическими имплантами в единую боевую сеть. Кассад почувствовал, как в нем толчками поднимается кровь.
— Пойдем. — Монета снова вышла на голую пустынную равнину, залитую ярким и словно бы поляризованным светом. Кассаду казалось, что они скользят сквозь барханы, текут, подобно жидкости, бегущей по беломраморным улицам мертвого города. На западной окраине, у руин какого-то здания (надпись на чудом сохранившейся двери сообщала, что это Амфитеатр Поэтов), их ожидало нечто.
В первую секунду Кассад решил, что это еще один человек, покрытый, как и они, силовым полем. Но под слоем «хрома и ртути» не было ничего, даже отдаленно напоминающего человеческое тело. Словно во сне Кассад разглядывал четыре руки, выдвигающиеся лезвия пальцев, многочисленные шипы на горле, предплечьях, запястьях, коленях, туловище, и, наконец, с трудом оторвал взгляд от тысячегранных глаз этого существа, полыхавших красным огнем, рядом с которым бледнело само солнце и от которого на весь мир ложились кроваво-красные тени.
«Шрайк», — подумал Кассад.
— Повелитель Боли, — прошептала Монета.
Существо повернулось и двинулось прочь из города. Они последовали за ним.
Кассад высоко оценил диспозицию Бродяг. Два катера приземлились с полукилометровым интервалом и, простреливая весь горизонт, могли, в случае необходимости, прикрыть друг друга огнем своих излучателей, орудий и ракетных турелей. Окопы и огневые точки десантной группы размещались метрах в ста от катеров. Кассад заметил по меньшей мере два врытых в землю электромагнитных танка, проекционные решетки и пусковые установки которых держали под прицелом равнину между Градом Поэтов и катерами.
С глазами Кассада творилось что-то странное: внезапно он осознал, что пересекающиеся ленты желтой дымки — это защитные поля катеров, а пульсирующие красные эллипсоиды — сторожевые сенсоры и противопехотные мины.
Он заморгал, вглядываясь в эту картину, и внезапно понял, что же так поразило его: в зыбком мареве ставших видимыми силовых полей ничего не двигалось. Солдаты Бродяг — даже те, что вроде бы не стояли на месте, — застыли, как те игрушечные солдатики, с которыми он играл в трущобах Фарсиды.
Врытые в землю электромагнитные танки и не должны были двигаться, но теперь замерли и их радарные антенны, выглядевшие как концентрические пурпурные дуги. Кассад посмотрел вверх и увидел над собой большую птицу, окаменевшую на лету. Она напоминала насекомое, застывшее в янтаре. Он прошел сквозь облако пыли, зачерпнул пригоршню песка своей хромированной рукой и высыпал его на землю. Песчинки плавно опускались, описывая в воздухе спирали.
Впереди них Шрайк осторожно пробирался через красный лабиринт мин. Он перешагивал через синие лучи ловушек, подныривал под фиолетовые импульсы автоматических станнеров-самострелов, проходил сквозь желтые защитные поля и зеленые стены акустического периметра и, наконец, оказался в тени вражеского катера. Монета и Кассад следовали за ним.
«Как же это все получается?» — спросил Кассад и тут же понял, что задал этот вопрос не голосом, а посредством чего-то — конечно, не столь мощного, как телепатия, но неизмеримо более тонкого, чем обычный имплант-контакт.
«Он управляет временем».
«Повелитель Боли?!»
«Конечно».
«А мы здесь зачем?»
Монета указала рукой на неподвижные фигуры Бродяг.
«Они твои враги».
Кассад будто очнулся от долгого сна. Все было наяву. И немигающие глаза пехотинцев под забралами шлемов. И катер, возвышающийся слева, словно бронзовое надгробие.
Федман Кассад чувствовал, что ему под силу уничтожить их всех: десантников, экипажи — всех до единого. И они ничего не смогут поделать. Он знал, что время не остановилось, — как не останавливается оно в корабле, идущем на двигателях Хоукинга, — изменилась скорость его течения. Птица, застывшая над его головой, через несколько минут или часов завершит взмах своих крыльев. И этот Бродяга, который сейчас моргает, рано или поздно закроет глаза. Надо только набраться терпения и ждать. А тем временем Кассад, Монета и Шрайк перебьют их всех. Бродяги даже не успеют понять, что случилось.
Это несправедливо, заключил Кассад. Неправильно. Это — вопиющее нарушение Нью-Бусидо, худшее, чем убийство мирных жителей. Суть воинской чести — сражение равных. Он уже собирался сказать об этом Монете, как вдруг она то ли произнесла, то ли подумала:
«Берегись!»
С резким звуком, напоминающим шипение воздуха в шлюзе, время побежало с обычной своей скоростью. Птица взмыла вверх и закружила в небе. Ветер пустыни швырнул песок на защитное поле. Десантник поднялся с колена. Увидев Шрайка и две человеческие фигуры рядом с ним, он прокричал что-то по тактическому каналу связи и поднял лучевое ружье.
Кассаду казалось, что Шрайк не движется, а просто перестает быть здесь и сразу же возникает там. Бродяга вновь испустил короткий крик, а затем в полном недоумении опустил взгляд. Утыканной лезвиями рукой Шрайк проник ему в грудную клетку и вырвал сердце. Продолжая таращить глаза, Бродяга открыл было рот, словно хотел что-то сказать, и упал.
Кассад повернулся вправо и оказался лицом к лицу с десантником в защитном панцире. Тот невыносимо медленно поднимал ружье. Кассад взмахнул рукой и, чувствуя, как гудит от напряжения его силовое поле, нанес удар: ребро ладони с легкостью прошло через бронежилет, шлем и шею десантника. Отрубленная голова покатилась в пыль.
Кассад спрыгнул в неглубокую траншею. Несколько солдат начали поворачивать к нему головы. Поток времени все еще не стабилизировался: секунду враги двигались очень медленно, а в следующее мгновение, дернувшись, как на поврежденной голограмме, начинали перемещаться со скоростью в четыре пятых нормальной. Но Кассад был быстрее. О Нью-Бусидо он уже не думал. Перед ним были варвары, которые пытались убить его. Сломав позвоночник первому, он отступил в сторону и пырнул второго твердыми «хромированными» пальцами, легко пробившими бронежилет. Разбив горло третьему, он увернулся от медленно плывущего к нему лезвия ножа и перебил его владельцу позвоночник, после чего выпрыгнул из траншеи.
«Кассад!»
Кассад быстро пригнулся. Рубиново-красный луч лазера медленно проплыл у него над плечом, словно прожигая себе путь сквозь воздух. Кассад услышал шипение и ощутил запах озона. («Быть не может! Я увернулся от лазера!») Подобрав с земли камень, он швырнул его в Бродягу, который возился с «адской плетью», установленной на башне танка. Стрелок полетел на землю. Кассад выхватил из патронташа убитого десантника плазменную гранату и подскочил к люку танка. Гейзер пламени взметнулся выше носа стоявшего рядом катера, но Кассад в это время был уже метрах в тридцати от него.
Остановившись, он отыскал глазами Монету. Вокруг нее, словно туши на бойне, вповалку лежали трупы Бродяг. Вражеская кровь почти сплошь покрывала ее тело, но не прилипала к нему, а стекала, как масло по воде, переливаясь всеми цветами радуги на подбородке, плечах, груди и животе. Монета посмотрела на него поверх схватки, и Кассад вновь испытал прилив сил.
Позади нее Шрайк медленно двигался сквозь кровавый хаос, выбирая себе все новые и новые жертвы, словно пожинал урожай. Глядя, как это существо то возникает из небытия, то вновь исчезает, Кассад вдруг осознал: Повелителю Боли они с Монетой кажутся такими же медлительными, как Бродяги — ему самому.
Время убыстрилось и текло теперь со скоростью в четыре пятых нормальной. Уцелевших Бродяг охватила паника, они палили друг в друга, бросали боевые посты и сломя голову бежали к катеру. Кассад словно увидел их глазами события последних минут — оборонительные позиции, прорванные какими-то зеркальными кляксами, товарищей, умирающих в лужах крови. Монета шла сквозь толпу, убивая теперь просто ради развлечения. К своему удивлению, Кассад обнаружил, что может немного управлять временем: раз — и его противники замедляют скорость до трети нормальной, раз — и время возвращается в свои берега. Честь солдата и элементарная брезгливость требовали прекратить бойню, но охватившая Кассада почти сексуальная жажда крови пересилила все.
Кто-то в катере задраил люк. Десантники, оставшиеся снаружи, запаниковали и принялись стрелять по нему плазменными зарядами. Спасаясь от невидимого врага, толпа напирала, топча даже раненых, а Кассад наседал на них сзади.
Все происходящее как нельзя лучше описывала фраза: «сражаться, как загнанная в угол крыса». Из военной истории известно, что самые яростные бои происходят на замкнутых пространствах, откуда невозможно бежать. Атаки французов на Эсантэ и Угумон[15] под Ватерлоо, Пчелиные туннели Лузуса — именно там происходили самые яростные рукопашные схватки. Здесь было то же самое: плотная толпа плюс невозможность отступить. Бродяги сражались… и погибали… как загнанные в угол крысы.
Шрайк вывел из строя экипаж катера. Монета осталась позади, чтобы уничтожить три двадцатки десантников, не покинувших своих окопов. Кассад обрушился на них с тыла.
В это время второй катер открыл огонь по своему обреченному товарищу. Кассад был уже достаточно далеко и спокойно наблюдал за тем, как над равниной ползут лазерные лучи. Целую вечность спустя полетели ракеты. Они плыли так медленно, что Кассаду казалось — он успел бы расписаться на них. Первый катер уже завалился набок, Бродяги внутри и снаружи были перебиты все до единого, но защитное поле еще держалось. Взрывы и выброс поглощенной энергии разбросали трупы до самой линии окопов, подожгли технику и оплавили песок до зеркального блеска. Стоя под куполом оранжевого пламени, Кассад и Монета смотрели на второй катер, уходивший в космос.
«Мы можем остановить их?» — Кассад тяжело дышал и буквально дрожал от возбуждения.
«Можем, — ответила Монета, — но не станем. Пусть доставят послание Рою».
«Какое послание?»
— Иди ко мне, Кассад.
Он обернулся на звук ее голоса. Отражающее силовое поле исчезло. Обнаженное тело Монеты лоснилось от пота, темные волосы прилипли к вискам, соски затвердели.
— Иди ко мне, — повторила она.
Кассад оглядел себя. Его собственное силовое поле тоже исчезло. Он захотел, и оно исчезло. Такого острого желания Кассад не испытывал ни разу в жизни.
— Иди ко мне, — в третий раз повторила Монета, теперь уже шепотом.
Кассад подошел к ней, подхватил за влажные, сами скользнувшие ему в руки ягодицы и отнес ее на вершину небольшого холма, где осталась полоска невыгоревшей травы. Опустив ее на землю среди громоздившихся вокруг трупов, он грубо раздвинул ей ноги, отвел ее руки за голову, прижал их к земле и всем телом рухнул на нее.
— Да, да, да, — шептала Монета, когда Кассад целовал ей мочку левого уха, прокладывая губами путь к пульсирующей жилке на шее, слизывая сладостно-соленые струйки пота с ее грудей. А вокруг громоздятся горы трупов. Их будет еще больше. Тысячи. Миллионы. Мертвецы трясутся от хохота. Бесконечные колонны солдат выходят из люков десантных «прыгунов» и скрываются в огне.
— Да!
Она горячо дышала ему в ухо. Ее руки скользнули по мокрым плечам Кассада, длинные ногти впились ему в спину, потом в ягодицы. Ближе, еще ближе! Мужская плоть Кассада то скользила по ее пушистому лону, то упиралась ей в живот. Вот открываются нульпорталы, выбрасывая холодные громады ударных авианосцев. Жар плазменных взрывов. Сотни, тысячи кораблей танцуют свой предсмертный танец и гибнут, как бабочки, попавшие в ураган. Гигантские столбы красных лазерных лучей пронзают атмосферу, окутывают целые города сгустками жара, и в рубиновом свете закипают тела.
— Да!
Она раскрыла губы, она вся раскрылась навстречу ему. Спиной, животом он ощущал ее тепло. Ее язык скользнул ему в рот, а потом он вошел в нее, и она подалась ему навстречу. Его тело напряглось и чуть выгнулось назад. Кассад отдался этой влажной теплоте, которая словно бы засасывала его. Теперь они двигались как одно целое. Яростный жар поглощает тысячи миров. В предсмертных конвульсиях сгорают континенты, кипят моря. Сам воздух горит. Океаны перегретого воздуха вздрагивают, как кожа, ждущая прикосновения руки возлюбленной.
— Да… да… да…
Кассад чувствует на губах теплое дыхание Монеты. Ее кожа — как масло и бархат. Все быстрее, все чаще двигается Кассад, и когда Монета сжимает его в горячих, влажных объятиях, сама вселенная сокращается… а потом расширяется вновь. Ее бедра движутся резко и требовательно, словно подчиняясь какой-то неодолимой силе. Лицо Кассада перекашивает гримаса, он закрывает глаза и видит…
…огненные шары расширяются, затягивая в себя планеты, солнца взрываются, выбрасывая языки пламени, целые созвездия исчезают в экстазе разрушения…
…Больно в груди, бедра Монеты движутся быстрее и быстрее, он открывает глаза и видит…
…Огромный стальной шип, вырастающий между грудей Монеты, тело Кассада ходит ходуном, он видит сбегающую по граням шипа кровь, кровь капает на тело Монеты — бледное, вновь ставшее зеркальным, холодное, как мертвый металл, но бедра Кассада продолжают двигаться, даже когда он затуманенными от страсти глазами видит, как губы Монеты вянут и закатываются внутрь… на месте зубов блестят металлические лезвия, пальцы, вцепившиеся в его ягодицы, превращаются в шипы, ноги, как мощные стальные обручи, охватывают его бедра, ее глаза…
…В последние секунды перед оргазмом Кассад пытается вырваться… сжимает руки у нее на горле, она впивается в него, как пиявка, как минога… кажется, она может высосать его целиком… и они катаются среди мертвых тел…
…Ее глаза словно рубины, пылающие безумным огнем, — сродни тому, что разгорается в его чреслах и распространяется по всему его телу, переполняя его…
…Кассад упирается обеими руками в землю и безумным усилием пытается вырваться от нее… от этого… но сил его все-таки не хватает, чтобы преодолеть чудовищную тяжесть, прижимающую их друг к другу… она впилась в него, как минога, его буквально разрывает на части… он видит в ее глазах… гибель миров!
Кассад с криком вырывается и отталкивается что есть сил. Кожа висит клочьями. В недрах стального влагалища щелкают металлические челюсти, пройдя всего лишь в миллиметре от его плоти. Кассад валится на бок и откатывается в сторону. Его бедра продолжают двигаться — он не может прервать семяизвержение. Поток спермы извергается наружу — прямо на руку убитого солдата. Кассад стонет и, сжавшись, как эмбрион в материнской утробе, катится по земле… и снова испытывает оргазм. А потом еще раз.
Он слышит шуршание и треск. Это она. Кассад переворачивается на спину и, преодолевая боль, размыкает веки. Солнце бьет ему в глаза. Она стоит над ним, расставив ноги, — ощетинившийся силуэт на фоне неба. Кассад вытирает пот и глядит на свое окровавленное запястье. Он ждет смерти. Его мышцы сокращаются в предчувствии удара. Вот-вот стальные лезвия войдут в его тело. Тяжело дыша, Кассад смотрит на стоящую над ним Монету. Ее бедра — скорее из обычной человеческой плоти, чем из стали — все еще влажно поблескивают. Лица Кассад не видит — солнце светит ей в спину, — но он замечает, что красное пламя в ее похожих на огненные рубины глазах начинает угасать. Она улыбается, и солнечные лучи вспыхивают на металлических зубах.
— Кассад… — шепчет она; с таким звуком песок царапает брошенную в пустыне кость.
Кассад отводит взгляд, с трудом поднимается на ноги. Спотыкаясь, он бредет среди трупов и обгоревших камней, охваченный ужасом освобождения. Он идет не оглядываясь.
* * *
Два дня спустя Федмана Кассада обнаружил разведотряд Сил Самообороны Гипериона. Полковник был без сознания. Он лежал совершенно голый на поросшей травой пустоши близ покинутой Башни Хроноса, километрах в двадцати от мертвого города и обломков спускаемого аппарата Бродяг. Из-за истощения и тяжелых ран он почти не подавал признаков жизни, однако после того, как ему оказали первую помощь, состояние его улучшилось. По воздуху его перебросили на юг, через Уздечку, и доставили в госпиталь Китса, а разведотряд осторожно двинулся на север. Разведчики опасались антиэнтропийных полей, а также мин-ловушек, которые могли оставить Бродяги. Опасались, как выяснилось, напрасно. Ибо обнаружили они только обломки кресла, на котором спасся Кассад, и обгоревшие корпуса двух боевых катеров, которые Бродяги непонятно зачем сами расстреляли с орбиты. Почему они превратили в шлак собственные корабли, понять было невозможно. Тела Бродяг, обнаруженные в катерах и вокруг, так обгорели, что ни вскрытие, ни анализы ничего не дали.
Три местных дня спустя Кассад пришел в сознание. Он клялся, что ничего не помнит с того самого момента, как проник на вражескую «каракатицу». Через две недели его забрал «факельщик» ВКС.
Вернувшись в Сеть, Кассад вышел в отставку. Некоторое время он активно участвовал в антивоенном движении, выступая иногда по сети Альтинга с требованиями всеобщего разоружения. Но после нападения на Брешию Гегемония забряцала оружием и уже всерьез готовилась к настоящей межзвездной войне, чего за последние три столетия не случалось ни разу. Так что выступления Кассада либо игнорировали, либо относили на счет его больной совести. Как-никак Мясник Южной Брешии.
Прошло шестнадцать лет. В Сети полковник больше не появлялся, говорить о нем перестали. Крупных сражений больше не было, но Бродяги оставались для Гегемонии главным пугалом. А Кассада мало-помалу забыли.
Было уже поздно, когда Кассад закончил свою историю. Консул заморгал и огляделся. Впервые за последние два часа он обратил внимание на то, что творится вокруг. Баржа «Бенарес» давно вошла в главное русло реки Хулай. Консул слышал скрип цепей и стальных тросов, с помощью которых упряжка речных мант тянула баржу. «Бенарес» был единственным судном, идущим вверх по реке, хотя навстречу плыло множество мелких суденышек. Консул потер лоб и с удивлением обнаружил, что рука его стала влажной от пота. Было довольно жарко, а тень от навеса ушла в сторону, чего Консул даже не заметил. Он снова заморгал, вытер пот и пересел в тень, собираясь приложиться к одной из бутылок, выставленных андроидами на буфет рядом со столом.
— Боже мой! — воскликнул отец Хойт. — Если верить этому созданию, именующему себя Монетой, Гробницы Времени движутся во времени вспять!
— Да, — ответил Кассад.
— Возможно ли такое? — изумился священник.
— Да. — На этот раз ответил Сол Вайнтрауб.
— Но тогда получается, — вступила в разговор Ламия Брон, — что вы «встречались» с этой Монетой… или как там ее… в ее прошлом или вашем будущем… точнее, встретитесь.
— Да, — подтвердил Кассад.
Мартин Силен подошел к поручням и сплюнул в воду.
— А не кажется ли вам, полковник, что эта стерва и есть Шрайк собственной персоной?
— Не знаю, — едва слышно произнес Кассад.
Силен повернулся к Солу Вайнтраубу.
— Тогда вы, доктор, ответьте нам как ученый. Может, сохранились какие-нибудь мифы, где говорится, что Шрайк может менять свое обличье?
— Нет, — ответил Вайнтрауб. Он готовил дочери соску. Девочка тихонько мяукала, как котенок, и шевелила крохотными пальчиками.
— Полковник, — спросил Хет Мастин, — а после битвы с Бродягами и… той женщиной… вы сохранили силовое поле, ну, которое как костюм?
Кассад внимательно взглянул на тамплиера и покачал головой.
Консул уставился в стакан, затем вдруг вскинул голову — его осенило:
— Погодите, полковник. Вы, кажется, упоминали дерево смерти Шрайка… На него еще были наколоты трупы.
Кассад посмотрел на Консула взглядом василиска и после паузы кивнул.
— Это были тела людей?
Полковник снова кивнул.
Консул стер пот с верхней губы.
— Если, как вы утверждаете, дерево и Гробницы Времени движутся из будущего в прошлое, значит, этим людям еще предстоит погибнуть.
Кассад молчал. Все внимательно смотрели на Консула, но лишь Вайнтрауб, кажется, понял, что тот имел в виду… о чем спросит теперь.
Консул преодолел желание снова вытереть пот и твердо произнес:
— Вы видели там кого-нибудь из нас?
Кассад молчал. Тихое журчание реки и скрип снастей вдруг показались всем оглушающе громкими. Наконец Кассад выдохнул:
— Да.
И снова воцарилась тишина. Первой нарушила молчание Ламия Брон:
— Вы можете нам сказать, кого вы там видели?
— Нет. — Кассад поднялся и пошел к трапу.
— Постойте! — крикнул отец Хойт.
Кассад остановился у спуска на нижнюю палубу.
— Можете ли вы, по крайней мере, ответить еще на два вопроса?
— Я вас слушаю.
Изможденное лицо отца Хойта побелело и покрылось испариной. Его исказила гримаса боли. Священник перевел дыхание и спросил:
— Во-первых, не думаете ли вы, что Шрайк или та женщина… хотят как-то использовать вас, чтобы развязать ужасную межзвездную войну, которая явилась вам в видении?
— Да, — мягко ответил Кассад.
— И во-вторых, не могли бы вы сказать нам, о чем вы собираетесь просить Шрайка… или Монету?
В первый раз за весь день Кассад улыбнулся. Улыбнулся тонкой, ледяной улыбкой.
— Я ни о чем не собираюсь просить. На этот раз я их просто убью.
Он развернулся и начал спускаться по трапу.
Паломники молчали, стараясь не смотреть друг на друга. «Бенарес» продолжал свой путь на северо-северо-восток.
ЧАСТЬ III
Баржа «Бенарес» вошла в речной порт Наяда за час до захода солнца. Команда и паломники столпились у поручней, разглядывая свежее пепелище — все, что осталось от города с двадцатитысячным населением.
Знаменитая гостиница «Речной уголок», построенная еще во времена Печального Короля Билли, сгорела дотла, ее многочисленные причалы, мостки и веранды рухнули в воды реки Хулай. На месте таможни чернел выгоревший остов. Терминал на северной окраине города, обслуживавший рейсовые дирижабли, превратился в почерневшую груду развалин, из которой торчал обугленный огрызок причальной башни. От маленького святилища Шрайка, стоявшего некогда на набережной, не осталось и следа. Но самым неприятным открытием оказались руины речного вокзала: стенки дока, в котором перепрягали мант, обгорели и местами повалились, садки для свежих животных пустовали.
— Черт бы их всех побрал! — воскликнул Мартин Силен.
— Интересно, кто все это сделал? — задумчиво произнес отец Хойт. — Шрайк?
— Скорее, ССО, — сказал Консул. — Хотя они могли сражаться как раз со Шрайком.
— Чушь! — отрезала Ламия Брон и повернулась к А. Беттику, который только что вышел на кормовую палубу. — Вы не знаете, что здесь произошло?
— Понятия не имею, — ответил андроид. — Со всеми населенными пунктами к северу от шлюзов уже больше недели нет связи.
— Почему же, черт возьми, вы ее не установите? — взорвалась Ламия. — Даже если в этом забытом Богом захолустье нет Сети, почему не воспользоваться рацией?
А. Беттик мягко улыбнулся ей:
— Конечно, госпожа Брон, рации у нас есть, но спутники связи не работают, УКВ-ретранслятор в районе шлюзов Карла разрушен, а от коротких волн проку мало.
— Как там наши манты? — поинтересовался Кассад. — До Эджа дотянут?
— Мы должны туда попасть, полковник, — Беттик нахмурился, — но по отношению к животным это преступление. Наша упряжка такой гонки не выдержит. Со свежими мантами мы добрались бы до Эджа к рассвету. А с этой парой… — Андроид пожал плечами. — Если повезет и они не издохнут по дороге, мы будем там только после полудня.
— Надеюсь, ветровоз окажется на месте? — спросил у него Хет Мастин.
— Я тоже на это надеюсь, — ответил А. Беттик. — Если вы не возражаете, я пойду присмотрю, чтобы наших несчастных животных как следует накормили. Отправляемся через час.
Развалины Наяды и ее окрестности были совершенно пусты. Да и встречные суда больше не попадались. Примерно через час пути леса и заброшенные фермы сменились прерией. Волнистая оранжевая равнина тянулась на север до самого Травяного моря. Время от времени на берегах виднелись глиняные термитники — самые настоящие зубчатые башни до десяти метров вышиной. И ни одного нетронутого человеческого жилища. Паромной переправы у Бетти-Форд словно никогда и не было — исчезли даже канат и будка на левом берегу, простоявшая почти два столетия. Гостиница «Речник» на Пещерном мысу была погружена во тьму. А. Беттик с матросами пытались докричаться до ее обитателей, но черный зев пещеры безмолвствовал.
С закатом солнца на реку опустилась почти осязаемая тишина, нарушаемая лишь хором насекомых и криками ночных птиц. Некоторое время серо-зеленое свечение сумеречного неба еще отражалось в зеркальной глади, по которой тянулся кильватерный след тащивших баржу мант да кое-где разбегались круги — хищные рыбы приступили к ночной охоте. Стемнело, и над прерией замерцали бесчисленные клочья светящейся паутины (не уступавшей в размерах своей лесной родственнице, хотя и более тусклой); казалось, в долинах и на склонах невысоких холмов пляшут призрачные детские фигурки. Когда усыпанное звездами ночное небо прорезали сверкающими шрамами метеоры — здесь, вдали от городских огней, их блеск казался неестественно ярким, — на кормовой палубе, где был сервирован ужин, зажглись фонари.
Паломники чувствовали себя подавленными, история Кассада не выходила у них из головы. Консул начал пить еще до полудня и сейчас испытывал приятную отрешенность от мира и собственных воспоминаний, без которой не выдержал бы и дня. Сидя за накрытым столом, он четко, без запинки (как и положено алкоголику со стажем) произнес:
— Так, чья теперь очередь рассказывать?
— Моя, — ответил Мартин Силен. Поэт начал пить еще с утра, но, как и Консул, говорил вполне складно. Его выдавали лишь яркий румянец да маниакальный блеск в глазах. — По крайней мере бумажку с номером «три» вытянул именно я. — Поэт продемонстрировал присутствующим клочок бумаги. — Ну как, вы еще не раздумали слушать эту херню?
Ламия Брон подняла стакан с вином, потом нахмурилась и поставила его на стол.
— По-моему, стоит сначала обсудить то, что мы уже слышали, и решить, какое отношение эти истории имеют к нашему… делу.
— Рано, — возразил ей полковник. — Информации пока маловато.
— Пусть господин Силен начнет, — предложил Сол Вайнтрауб, — а там по ходу дела и обсудим.
— Я — за, — присоединился к нему священник. Хет Мастин и Консул молча кивнули.
— Прелестно! — возопил Мартин Силен. — Итак, я приступаю! Позвольте мне только допить это сраное вино.
История поэта: Песни Гипериона
В начале было Слово. Слово стало текстом, и появился сраный текст-процессор. Затем — ментопроцессор. После чего литература приказала долго жить. Вот так-то.
Фрэнсис Бэкон однажды сказал: «Плохое и нелепое установление слов удивительным образом осаждает разум». Мы все участвуем в этом деле и удивительным образом осаждаем разум, не правда ли? Я же преуспел побольше прочих. Один из лучших писателей двадцатого века, ныне совершенно забытый (подчеркиваю, лучший и забытый), однажды остроумно заметил: «Мне нравится быть писателем. Но чего я не выношу, так это писанины».[16] Поняли? Итак, синьоры и синьорита, мне нравится быть поэтом. Но чего я, черт возьми, не выношу, так это слов.
С чего же мне начать? Может быть, с Гипериона? (Затемнение) Почти два стандартных века тому назад.
Пять «ковчегов» Печального Короля Билли, словно золотые одуванчики, кружат в этом прекрасно знакомом всем нам лазурном небе. Мы высаживаемся и, как подобает настоящим конкистадорам, гордо топаем по планете. Нас было более двух тысяч: видеохудожники, писатели, скульпторы, поэты, паректоры, клипмейкеры, тривиссеры, композиторы, декомпозиторы и бог знает кто еще, а также целый штат (по пять на нос) администраторов, техников, экологов, инспекторов, придворных и профессиональных жополизов, не говоря уж о самих коронованных задницах, то бишь августейшем семействе, обслуга которого была еще в десять раз больше нашей — хренова туча андроидов, жаждущих немедленно возделывать землю, шуровать в ядерных топках, возводить города и таскать тяжести… ну, черт возьми, вы меня понимаете.
Мир, в котором мы высадились, был уже заселен какими-то козлами, которые еще за два века до нас окончательно одичали и теперь сосали лапу и при первом удобном случае вышибали друг дружке остатки мозгов.
Естественно, что сии благородные потомки славных пионеров приветствовали нас как богов, особенно после того, как орлы из нашей охраны превратили в головешки несколько самых крутых ихних вождей. А мы, естественно, приняли их поклонение как должное и отправили сих аборигенов вместе с нашими синежопыми распахивать южную сороковую и возводить Блистающий Град на Холме.
О, то был поистине Град Блистающий! Сейчас, разглядывая руины, вы едва ли сможете вообразить его во всей красе. За три века его затопили пески, тянувшиеся от самых гор акведуки обвалились… От города остался лишь скелет. Но в пору своего расцвета Град Поэтов был воистину прекрасен: дух сократовских Афин плюс интеллектуальный подъем Венеции эпохи Возрождения, плюс артистическая лихорадка Парижа времен импрессионистов, плюс подлинная демократия первых десятилетий Орбит-сити и безграничные перспективы ТК-Центра…
Под конец, правда, от этого ничего не осталось. Только вызывающий клаустрофобию чертог Хродгара, за порогом которого во тьме поджидало чудовище. Разумеется, у нас был свой Грендель. У нас был даже Хродгар (за такового вполне мог сойти сам Печальный Король Билли с его безвольным профилем). Не хватало только гаутов: безмозглого амбала Беовульфа и его придурковатой шайки. Итак, за неимением Героя мы смирились с ролью жертв: сочиняли сонеты, репетировали балеты и копались в пергаментных свитках, а наш утыканный железными шипами Грендель тем временем сеял по ночам страх и собирал урожай хрящей и сахарных косточек.
А я — сатир душой, ставший тогда сатиром во плоти, — после пятисотлетнего упорного просиживания штанов завершал наконец труд всей своей жизни, мои «Песни». (Снова затемнение)
Мне кажется, историю Гренделя рассказывать пока не время. Актеры еще не успели занять свои места на сцене. Нелинейное построение сюжета и дискретное повествование имеют приверженцев, и отнюдь не последний среди них — я сам, но в конце концов, друзья мои, шанс на бессмертие этим тонким страницам дает, или, наоборот, отнимает, именно литературный герой. Сознайтесь, разве не случалось вам хоть раз подумать, что Гек Финн и Джим действительно существуют и в этот самый момент действительно толкают шестами свой плот по какой-то неведомой реке, куда более реальные, чем, допустим, продавец обуви, у которого вы невесть когда купили ботинки? Ладно, раз уж я взялся рассказывать эту идиотскую историю, следует для начала объяснить, кто есть кто. А поскольку эта заноза сидит в моей заднице, я дам задний ход и начну с самого начала.
В начале было Слово. И Слово было запрограммировано классическим двоичным кодом. И Слово гласило: «Да будет жизнь!» И вот однажды в поместье моей матушки из бункера Техно-Центра была извлечена замороженная сперма моего давно почившего батюшки. Ее разморозили, развели какой-то фигней и как следует взбили — в добрые старые времена так взбивали ванильный солод. Потом этой смесью зарядили струйный шприц, имеющий форму дамского любимца. Магическое нажатие спускового крючка — и папашины сперматозоиды устремились куда положено. В ту ночь стояла полная луна, и матушкина яйцеклетка была, что называется, в полном соку.
Конечно, никто не заставлял мамулю беременеть таким варварским способом. Ведь можно было вырастить меня, что называется, в пробирке или хотя бы пересадить папашину ДНК любовнику. А есть еще клонирование, генозамещенный партеногенез… Однако мамаша (по ее собственному выражению) предпочла раздвинуть ноги навстречу традиции. Подозреваю, что ей нравился сам процесс.
Как бы то ни было, я родился. Я родился на Земле… на СТАРОЙ Земле… хоть эта сучка Ламия и не верит мне. Мы жили в поместье моей матери на острове близ берегов Северо-Американского Заповедника.
Наш дом на Старой Земле (набросок)
Нежно-фиолетовые сумерки розовеют и плавно перетекают в малиновый рассвет. Силуэты деревьев у юго-западного края лужайки кажутся вырезанными из папиросной бумаги. Небосвод из полупрозрачного фарфора не пятнает ни единое облачко, ни единый инверсионный след. Предрассветная тишина… Такая тишина бывает в зале за секунду до того, как оркестр грянет увертюру. И, как удар литавр, восход Солнца. Оранжевые и бежевые тона вдруг вспыхивают золотом, а затем медленно остывают, расцветая всеми оттенками зеленого: тени листьев, полумрак под деревьями, кроны кипарисов и плакучих ив, тускло-зеленый бархат прогалин.
Поместье матери — наше поместье — занимало около тысячи акров. А вокруг него простиралась равнина, в миллион раз большая. Лужайки размером с небольшую прерию, покрытые нежнейшей травкой, чье мягкое совершенство так и манило прилечь и вздремнуть. Величественные, раскидистые деревья — солнечные часы Земли. Их тени синхронно поворачиваются: слитые воедино, они затем разделяются и сокращаются, отмечая наступление полудня, и, наконец, на закате дня вытягиваются на восток.
Королевский дуб. Гигантские вязы. Тополя. Кипарисы. Секвойи. Бонсай. Стволы баньяна тянутся ввысь, подобно колоннам храма, крыша которого — небо. Вдоль каналов и причудливо извивающихся ручьев выстроились ивы, ветви которых поют древнюю погребальную песнь.
Наш дом стоит на невысоком травянистом холме. Зимой трава рыжеет, и склоны холма напоминают округлые бока самки какого-то громадного зверя, сжавшейся в комок перед прыжком.
Видно, что дом достраивался веками. Нефритовая башня на восточном дворе ловит первые лучи восходящего солнца, а в послеполуденный час череда зубцов на южном крыле отбрасывает треугольные тени на хрустальную оранжерею. Восточное крыло, опутанное целым лабиринтом балкончиков и наружных лестниц, благодаря игре света и теней кажется сошедшим с гравюр Эшера.
Это было уже после Большой Ошибки, но еще до того, как Земля стала необитаемой. Обычно мы наезжали в поместье, когда наступала «ремиссия» — этим расплывчатым термином обозначали непродолжительные (от десяти до восемнадцати месяцев) периоды затишья между планетарными спазмами. В это время черная минидыра, которую Киевская Группа засадила в самый центр Земли, как бы переваривала содержимое своей утробы в предвкушении очередного пиршества. А когда опять наступал «период активности», мы отправлялись «к дяде Кове», то бишь на расположенный за орбитой Луны терраформированный астероид, который отбуксировали туда еще до исхода Бродяг.
Вы, конечно же, скажете — вот счастливчик. Родился с серебряной ложкой в жопе. Я не собираюсь оправдываться. После трех тысяч лет игры в демократию уцелевшая аристократия Старой Земли пришла к выводу, что единственный способ избавиться от всякой швали — не давать ей размножаться. Точнее, финансировать строительство флотилий «ковчегов», исследовательские экспедиции спин-звездолетов, заселение других планет с помощью нуль-Т и так далее. Вот почему Хиджра проходила в такой панической спешке. Пусть они уматывают к черту на кулички, плодятся там сколько их душеньке угодно и оставят Землю в покое! Тот факт, что матушка-Земля подыхала, как старая больная сука, вовсе не лишал этих подонков страсти к первооткрывательству. Как же, нашли дурачков!
Подобно Будде я впервые увидел обличье нищеты уже будучи почти взрослым. По достижении шестнадцати стандартных лет я, как и положено, отправился побродить по свету и, путешествуя по Индии, встретил настоящего попрошайку. Потом я узнал, что индуисты сохраняли институт нищенства по религиозным мотивам, но в тот момент я видел перед собой человека в лохмотьях, изможденного, с выпирающими ребрами, который протягивал мне плетеную корзинку с древним кредит-дисководом, предполагая, очевидно, что я вставлю туда свою универсальную карточку. Друзья решили, что у меня истерика. Меня вырвало. Случилось это в Бенаресе.
С детства мне пришлось подчиняться всяческим условностям, но, как ни странно, вспоминаю его я без отвращения. Скажем, от знаменитых приемов гранд-дамы Сибиллы (она приходилась мне двоюродной бабушкой по матери) у меня остались приятнейшие воспоминания. Припоминаю один такой трехдневный прием на Манхэттенском архипелаге. «Челноки» доставляют все новых и новых гостей — из Орбит-сити, из Европейских куполов. Громада Эмпайр-Стейтс-Билдинг возвышается над водной гладью, ее огни отражаются в лагунах и каналах, заросших папоротником; на смотровую площадку небоскреба садятся магнитопланы, из них выходят пассажиры… а на крышах соседних зданий (они похожи на острова-переростки) дымятся жаровни…
Северо-Американский Заповедник служил нам чем-то вроде площадки для игр. По слухам, на этом таинственном континенте проживало около восьми тысяч человек, но половину из них составляли лесничие. Среди остальных были инженеры-экологи, палеореконструкторы-нелегалы, которые усердно воскрешали допотопную флору и фауну, дипломированные первобытные племена вроде Сиу Огалалла или Гильдии Падших Ангелов и случайные туристы. Про одного из моих кузенов рассказывали, что он бродил в Заповеднике от одного контролируемого участка к другому, но, разумеется, на Среднем Западе, где эти участки идут сплошняком, а потому риск напороться на стадо динозавров невелик.
В течение первого столетия после Большой Ошибки смертельно раненная Гея умирала, но пока еще медленно. Большие разрушения происходили только в «активные» периоды. Однако эти спазмы становились, как и было предсказано, все чаще, ремиссии — все короче, а последствия каждого очередного приступа — все страшнее. Тем не менее Земля еще держалась и, как могла, зализывала свои раны.
Заповедник, как я уже говорил, служил нам площадкой для игр, хотя на самом деле таковой была вся наша умирающая планета. В семилетнем возрасте я получил от матушки в полное распоряжение магнитоплан и теперь всего за час мог попасть в любую точку земного шара. Поместье, где жил мой лучший друг, Амальфи Шварц, располагалось у горы Эребус, на территории бывшей Антарктической Республики. Мы встречались каждый день. То обстоятельство, что законы Старой Земли запрещали нуль-Т, беспокоило нас меньше всего. Лежа ночью на склоне какого-нибудь холма, мы смотрели вверх. Перед нашими глазами сияли все десять тысяч Орбитальных Огней и двадцать тысяч сигнальных огней Кольца, а за ними — не то две, не то три тысячи видимых невооруженным глазом звезд. Но мы не испытывали ни зависти, ни желания присоединиться к Хиджре, которая уже тогда плела из нитей нуль-каналов Великую Сеть. Мы были просто счастливы.
Мои воспоминания о матери до странности литературны, словно она не живой человек, а персонаж одного из моих романов об Умирающей Земле. Возможно, так оно и было. А может, я сам был воспитан роботами в одном из Европейских куполов, или вскормлен молоком андроидов в Амазонской Пустыне, или меня просто вырастили в чане, как дрожжи. Как бы то ни было, я вспоминаю мать именно такой, не слишком реальной. Вот она идет, словно привидение, в белом ниспадающем наряде по темным анфиладам нашего дома. А вот мы сидим в оранжерее. Алый свет играет на бесчисленных пылинках, парящих в воздухе. Мать разливает чай. Тонкие пальцы… Тонкие синие прожилки вен на тыльной стороне ладони… Блики свечей в ее волосах, как золотые мушки в паутине… Волосы, разумеется, собраны в узел, как и полагается гранд-даме. Иногда во сне я вспоминаю ее голос. Я слышу, как она что-то напевает или говорит, и у меня рождается странное чувство, что все это происходило еще до моего рождения, но когда я просыпаюсь, оказывается, что это ветер шелестит кружевными шторами или какое-то чужое море с шумом бьется о камни.
Впервые ощутив свое «Эго», я сразу понял, что стану — должен стать — именно поэтом. Я чувствовал, что у меня просто нет выбора. Видимо, красота умирающего мира коснулась меня своим последним дыханием, и с тех пор я был обречен до конца дней своих играть словами, искупая грехи человечества, бездумно разрушившего свою колыбель. И вот в результате всей этой чертовщины я стал поэтом.
Гувернера моего звали Бальтазаром. И был он не андроид, а человек, причем весьма преклонных лет, беженец из пропахшей потом древней Александрии. В свое время он поульсенизировался по какой-то варварской допотопной методике, вследствие чего весь светился бело-голубым огнем и напоминал залитую в пластик переоблученную мумию. Но при этом был похотлив, как козел. Несколько веков спустя, когда и я переживал сатириаз, мне стали наконец понятны эти приапические импульсы, управлявшие бедным доном Бальтазаром, но тогда они воспринимались просто как досадная помеха, вследствие коей в дом нельзя было нанять хорошенькую горничную. Впрочем, дон Бальтазар не брезговал и служанками-андроидами. Он трахал всех подряд.
К счастью для меня, в пристрастии дона Бальтазара к юной плоти не было ничего гомосексуального. О страстях, обуревавших его, я догадывался лишь по косвенным признакам. Иногда он вовсе не являлся на урок, а в другой раз с необычным рвением заставлял меня заучивать наизусть Овидия, Сенеша или By.
Но воспитателем он был превосходным. Мы изучали античность и позднюю классику, совершали экскурсии на руины Афин, Рима, Лондона и Ганнибала (штат Миссури), прекрасно обходясь без экзаменов и тестов. Дон Бальтазар утверждал, что я все схватываю на лету, и я оправдывал его ожидания. Он убедил мою мать, что для меня, отпрыска Старой Семьи, так называемое прогрессивное образование совершенно не подходит. А потому мне удалось избежать всех прелестей прямой накачки знаний посредством трансплантации РНК, инфосферной суггестопедии, форсированной загрузки подсознания, группового мультитренинга, «металогической пропедевтики» или доязыкового программирования. И как результат всех этих лишений в шесть лет я уже знал наизусть «Одиссею» в переводе Фицджеральда, сочинял секстины в том возрасте, когда не мог даже самостоятельно одеться, и разбирался в спирально-контрапунктной версификации, не зная, как подключаться к искусственному интеллекту.
С другой стороны, мое образование вряд ли можно было назвать фундаментальным. Дон Бальтазар мало интересовался (по его собственному выражению) «механической стороной нашего мира». Двадцати двух лет от роду я впервые осознал, что компьютеры, домашние роботы и система жизнеобеспечения на астероиде «Дяди Ковы» являются отнюдь не доброжелательными воплощениями какой-то духовной субстанции, а просто-напросто машинами. Я верил в фей, эльфов, нумерологию и астрологию. Я верил, что в ночь на Ивана Купала в глубине древних лесов Северо-Американского Заповедника совершаются всякие чудеса. Подобно Китсу и Лэму[17] в студии Хейдона, мы с доном Бальтазаром не раз поднимали тосты «за погибель математики» и скорбели о том, что сэр Исаак Ньютон разрушил поэзию радуги своей непотребной призмой. Воспитанное с детства недоверие ко всему отдающему уравнениями и лабораторией переросло со временем в настоящую ненависть и сослужило мне в дальнейшем хорошую службу. Я усвоил, что даже в нашем посттехнократическом мире не так уж трудно оставаться язычником, который понятия не имеет, что Земля вращается вокруг Солнца.
Мои ранние стихи были отвратительны. Как и большинство плохих поэтов, я этого не сознавал, надменно полагая, что сам творческий акт заведомо наделяет определенными достоинствами тех недостойных ублюдков, которых я тогда плодил. Матушка закрывала на это глаза, хоть я и загадил весь дом вонючими кучками рифмованного дерьма. Своему единственному дитяте, беспечно резвящемуся, словно дикая лама, она прощала любые сумасбродства. Дон Бальтазар никогда не комментировал мои творения. Главным образом, видимо, потому, что я их никогда ему не показывал. Дон Бальтазар полагал, что достопочтенный Дейтон — жулик, что Салмаду Брюи и Роберту Фросту следовало бы повеситься на собственных кишках, что Вордсворт — просто идиот, а все менее совершенное, чем сонеты Шекспира, является надругательством над языком. А потому я не считал нужным беспокоить дона Бальтазара и совать ему свои стихи, которые, как я прекрасно знал, ну просто изобилуют свидетельствами моей гениальности.
Кое-что из этого говна я напечатал в дискет-журналах, вошедших тогда в моду в Европейском Мегаполисе. Дилетанты, издававшие эти недоделанные журнальчики, были столь же снисходительны к моей матери, как и она ко мне. Время от времени я теребил Амальфи или еще кого-нибудь из своих приятелей: просил их загрузить мои стихи в инфосферу Кольца или Марса, чтобы выйти таким образом на аудиторию разраставшихся колоний (сам я, по причине аристократической блажи, так и не получил доступа к мультилинии). Никто не откликнулся. Я считал, что они там слишком заняты.
Итак, не пройдя жестокого испытания печатным станком, я уже верил, что являюсь поэтом. Вера моя была так же наивна и невинна, как детская вера в бессмертие… а крушение ее — столь же болезненно.
Матушка погибла вместе со Старой Землей. Около половины Старых Семей отказались покинуть планету, когда началась агония. Мне было двадцать, и я горел романтической мечтой погибнуть вместе с родным миром. Матушка, однако, решила иначе. Причем волновало ее отнюдь не то, что я погибну во цвете лет, — как и я, она была слишком эгоцентрична и в такое время, конечно же, не могла думать о других. И даже не то ее беспокоило, что вместе с моей ДНК угаснет наш древний род, предки которого прибыли в Новый Свет на борту легендарного «Мейфлауэра».[18] Она, видите ли, переживала, что наша семья погибнет, не уплатив по счетам. Последние сто лет мы вели весьма экстравагантный образ жизни, а деньги на это брались в долг в Кольцевом Банке и других внеземных заведениях, которые всегда держали ухо востро. И теперь, когда континенты Земли рушились от тектонических ударов, леса горели, океаны кипели, превращаясь в некое подобие супа, а раскаленный воздух стал столь густым, что дышать им было уже невозможно (хотя пахать его — еще рановато), банки, естественно, потребовали деньги назад. Так что матушке было не до меня.
Хотя нет, известные планы на мой счет у нее были. За несколько недель до всепланетного списания долгов она обратила все, что могла, в деньги и положила четверть миллиона марок на долгосрочные счета в Кольцевом Банке, который тогда эвакуировался. Меня же отправила в Протекторат Рифкина на Небесных Вратах — крохотном мирке в системе Веги-Прим. Уже тогда эта пакостная планета имела стационарный нуль-канал на Солнечную систему, но я отправился не по нуль-Т. И даже не на спин-звездолете с двигателем Хоукинга, который ходил на Небесные Врата один раз в стандартный год. Нет, матушка отправила меня в это захолустье в замороженном виде, на каком-то прямоточном грузовике третьей серии — субсветовом!!! Помимо моей персоны, в холодильниках находились контейнеры с коровьими эмбрионами, кормовыми вирусными культурами и апельсиновым концентратом, и летели мы сто двадцать девять лет по бортовому времени, а по стандартному исчислению сто шестьдесят семь лет!
Матушка надеялась, что процентов по долгосрочным вкладам хватит, чтобы расплатиться с долгами и чтобы я какое-то время мог пожить в свое удовольствие. Первый и последний раз в жизни она просчиталась.
Небесные Врата (набросок)
Узкие грязные улочки разбегаются от портовых пакгаузов, как язвы по спине прокаженного. С неба, похожего на прогнивший джутовый мешок, лохмотьями свисают желто-коричневые облака. Мешанина бесформенных деревянных лачуг — их еще и достроить не успели, а они уже разваливаются, слепо таращась друг на дружку провалами окон. Туземцы, плодящиеся, как… пожалуй, все же, как люди… безглазые калеки, выхаркивавшие свои легкие и нарожавшие по десятку отпрысков. К пяти годам эти «цветы жизни» уже сплошь покрыты коростой, от едких испарений (которые годам к сорока доконают их) у них непрерывно слезятся глаза, зубы сгнили, сальные волосы аж шевелятся от вшей и раздувшихся клещей-вампиров. Гордые родители не нарадуются. И вся эта шелупонь в количестве двадцати миллионов ютится в переполненных трущобах на пятачке размером не больше западной лужайки нашего поместья. Воздух на Вратах такой, что дохнешь разок-другой — и копыта откинешь, вот каждый и норовит отпихнуть соседа и пролезть поближе к центру стодвадцатимильного круга с пригодной для дыхания атмосферой, созданного непрерывно работавшей Аэростанцией. Но сейчас и она начала сбиваться с ритма.
Небесные Врата, мой новый дом.
Матушка как-то не подумала, что счета Старой Земли могут заморозить, а потом попросту списать на нужды бездонной экономики Великой Сети. Забыла она и о том, что долговременный криогенный сон вызывает необратимые повреждения мозга с вероятностью одна шестая (в отличие от нескольких недель или месяцев фуги; поэтому-то лишь с изобретением привода Хоукинга люди смогли исследовать спиральный рукав Галактики). Мне повезло. Когда меня вытащили на Небесных Вратах из холодильника, я отделался всего лишь инсультом. Работу мне дали соответствующую — копать канавы для стока кислотных дождей вокруг периметра. Физически я быстро освоился и вскоре уже мог по нескольку недель не вылезать из грязеотстойников. А вот с умственными способностями дела обстояли куда хуже.
Левое полушарие моего мозга оказалось отключенным — совсем как поврежденная секция спин-звездолета, которую перекрыли воздухонепроницаемыми переборками, отдав обреченные отсеки во власть пустоты. Способность мыслить я все же сохранил, вскоре восстановилась и подвижность правой стороны тела. Но речевые центры были повреждены настолько, что их не удалось починить обычными методами. Чудесный органический компьютер, встроенный в мою черепушку, стер свое языковое содержимое, как запорченную программу. В правом полушарии кое-что сохранилось, но, поскольку оно отвечало за восприятие, там удержались лишь наиболее эмоционально заряженные лексические единицы. Таким образом, мой словарный запас уменьшился до девяти слов. (Как я узнал впоследствии, это был исключительный случай. Обычно человек с моим диагнозом сохранял два-три слова.) Из чисто познавательных соображений я приведу свой тогдашний лексикон: драть, срать, ссать, бля, черт, мудак, жопа, пи-пи и ка-ка.
Даже беглого взгляда на этот список достаточно, чтобы уяснить его громадные возможности. В моем распоряжении было пять глаголов, обозначавших три различных действия и способных благодаря интонационным добавкам передавать модальность, и четыре существительных. Два существительных могли служить междометиями. Моя новая языковая вселенная включала пять односложных слов, два составных и два детских повтора. Смысловое поле было, конечно, не слишком велико: четыре обозначения естественных отправлений, ссылка на человеческую анатомию, теологическое понятие, парочка универсальных определений, позволяющих охарактеризовать физические, душевные, моральные и сексуальные качества собеседника, как своего, так и противоположного пола, и, конечно, термин для описания интимной близости как таковой.
В общем, хватало.
Не стану утверждать, что эти три года, проведенные в вонючих трущобах и грязеотстойниках Небесных Врат, я вспоминаю с нежностью, но они многое мне дали. Пожалуй, не меньше, чем предыдущие двадцать на Старой Земле.
Вскоре я обнаружил, что для общения с моими тамошними знакомыми — бригадиром землекопов по кличке Черпак, Гоп-стопом, дворовым громилой, которому я платил «за охрану», и совершенно обовшивевшей шлюшкой Кити, с которой я спал, когда было на что, — моего лексикона вполне достаточно.
— Драть-срать, — бормотал я, размахивая руками. — Жопа бля пи-пи драть.
— А, понял, — скалился Черпак, демонстрируя единственный зуб. — В лавку собрался, за морской капустой.
Я радостно улыбался в ответ:
— Ка-ка, черт.
Жизнь поэта — не просто языковой танец самовыражения с конечным запасом словесных фигур, нет, это практически бесконечное количество сочетаний воспринимаемого непосредственно и вспоминаемого, причем каждый раз в новых пропорциях. Три локальных года — почти тысяча пятьсот стандартных дней, проведенных мной на Небесных Вратах, дали мне возможность видеть, слышать, ощущать и вспоминать так, словно я заново родился — в буквальном смысле слова. Да, я родился в аду; ну и что с того? Переосмысленный опыт есть рабочий материал всякой истинной поэзии. Я же родился заново, а потому судьба подарила мне опыт в его первозданном виде.
Я оторвался от своего времени на полтора столетия, но без особого труда адаптировался в «прекрасном новом мире». Последние пятьсот лет мы только и делаем, что разглагольствуем о духе первооткрывательства, словно и не замечая, в какое болото превратилась человеческая вселенная. Мы живем в уютную эпоху — в Сумерках прогресса. Наши общественные институты меняются, но меняются медленно и плавно, путем эволюции, а не революций. Научная мысль, совершив в прошлом гигантский скачок, топчется теперь на месте, двигаясь вширь, а не вглубь. Еще медленнее меняется техника. Наши прадеды без особого труда разобрались бы в нынешних пленочных схемах. Итак, пока я спал, Гегемония стала формально единой, Великая Сеть развернулась почти до нынешних пределов, Альтинг занял свое законное место в длинном ряду демократических институтов благодетельного деспотизма, ТехноЦентр отказался быть слугою человечества, но затем вновь предложил свои услуги — на сей раз в качестве союзника, а не раба, Бродяги скрылись в космической тьме, став нашей Немезидой… Но еще тогда, когда меня, замороженного в ледяном гробу, втискивали в трюм между свинячими потрохами и щербетом, давление уже подползало к критической черте, и без семи пядей во лбу можно было понять, во что все это выльется. Правда, исторический процесс воспринимается современниками как непрозрачная полупереваренная масса, в которой они барахтаются и которая разительно отличается от того, что увидит из дали лет историк. А увидит он хорошо знакомую всем нам корову.
Я родился заново на Небесных Вратах, и моя новая жизнь представляла собой ежеминутную борьбу за выживание. Изо дня в день надо мною было все то же сумеречное, похожее на просевший потолок, желто-коричневое небо, висевшее над самой крышей моей лачуги. Сама же лачуга была чудо как комфортабельна: стол, чтобы жрать, койка, чтобы спать и драть, дыра — ссать и срать, а также окно, чтобы молча в него смотреть. Мой мир был отражением моего словаря.
Тюрьма вообще хорошее место для писателя. Заключение убивает в человеке двух неразлучных демонов: суетливость и невнимательность, и Небесные Врата в этом смысле не были исключением. Атмосферный Протекторат владел моим телом, но мой разум (вернее то, что от него осталось) принадлежал только мне.
На Старой Земле мои стихи сочинялись комлог-ментопроцессором Саду-Декенара, а я при этом сидел развалясь в мягком шезлонге, или парил на собственном ТМП над темными лагунами, или задумчиво прогуливался меж благоуханных беседок. Об отвратительных, разболтанных и напыщенных плодах тех мечтаний я уже говорил. Только на Небесных Вратах я открыл, каким мощным стимулятором умственной деятельности может быть физический труд. Подчеркиваю, не просто физический труд, а труд абсолютно физический — от которого хрустят позвонки, лопаются легкие, рвутся кишки и жилы, отваливаются яйца… Я вдруг понял: если работа тяжела и монотонна, ум не просто становится свободным, способным воспарять в воображаемые миры, нет, он и в самом деле устремляется в высшие сферы.
Именно здесь, на Небесных Вратах, в этом мире под красной звездой Вега-Прим, вычерпывая грязь из сточных канав и ползая на карачках по лабиринту труб Аэростанции среди сталактитов и сталагмитов аэрогенных бактерий, я стал поэтом.
А не хватало мне только слов.
* * *
Уильям Гэсс, один из именитейших писателей двадцатого века, как-то заметил в одном из своих интервью: «Слова являются объектами высшего порядка. Это вещи сознания».[19]
И в самом деле, они чисты и трансцендентальны, как любая Идея, когда-либо бросавшая тень в Платонову пещеру наших ощущений. Но они еще и проводники лжи и иллюзий. Слова заводят мысль на бесконечные тропы самообмана: большую часть своей сознательной жизни мы проводим в мысленных чертогах, построенных из слов, а значит, лишены объективности, без которой не увидеть чудовищных искажений, привносимых языком в действительность. Вот вам пример. Китайский иероглиф «честность» состоит из двух значков, изображающих человека, который стоит рядом со своим словом. Прекрасно. Но что означает на позднеанглийском слово «целостность»? Или «Родина»? Или «прогресс»? Или «демократия»? Или «красота»? Но даже обманывая себя, мы становимся богами.
Философ и математик Бертран Рассел, который жил и умер в том же столетии, что и Гэсс, однажды заметил: «Язык не просто служит для выражения мысли, но делает возможной саму мысль, которая без него не существует». Здесь заключена суть созидательного гения человека: не величественные амбиции цивилизации и не разрушительное оружие, способное мгновенно обратить их в пыль, но лишь слова, которые, подобно атакующим яйцеклетку сперматозоидам, оплодотворяют новые концепции. Можно доказать, что помимо новорожденных сиамских близнецов Слова и Идеи, в космическом хаосе нет, не будет и не может быть ничего чисто человеческого. (Да, наша ДНК единственна и неповторима, но столь же уникальна ДНК саламандры. Да, мы возводим всевозможные сооружения, но тем же самым занимаются и другие существа, от бобров до термитов, чьи зубчатые башни мы наблюдаем сейчас слева по борту. Да, мы ткем холст реальности из математических грез, но ведь вся вселенная насквозь пронизана математикой. Нацарапайте кружок, и из него тут же выглянет число «пи». Отправьтесь в другую солнечную систему, и там, под черным барахатом пространства-времени, вас ждут все те же формулы Тихо Браге. Но где под покровом биологии, геометрии или просто бесчувственного камня вселенная спрятала слово?) Даже обнаруженные нами следы иного разума — истуканы Юпитера-II, Лабиринты, эмпаты Сенешаи на Хевроне, попрыгунчики Дурулиса, Гробницы Времени, сам Шрайк, наконец, — это лишь непонятные предметы и загадочные сооружения, но языка там нет. Нет слов.
Поэт Джон Китс однажды писал своему другу Бейли: «Я не уверен ни в чем, кроме святости сердечных привязанностей и истинности воображения. То, что воображению предстает как Красота, должно быть истиной — не важно, существовала она до этого или нет».
Китайский поэт Джордж By, погибший во время Последней японо-китайской войны, примерно за три века до Хиджры, понимал это, когда диктовал на свой комлог: «Поэты — бездумные акушеры реальности. Они видят не то, что есть, не то, что может быть, но то, что должно наступить». Позже, за неделю до смерти, в последнем послании к своей возлюбленной By записал: «Слова — это пули в пантронташе истины, и других ей не надо. А поэты — снайперы».
Итак, вы видите — в начале было Слово. И Слово стало плотью в ткани человеческой вселенной. Но только поэт может расширить вселенную, проложив пути к новым реальностям, подобно тому как корабль с двигателем Хоукинга проходит под барьером Эйнштейнова пространства-времени.
Чтобы стать поэтом — настоящим поэтом — нужно воплотить в себе одном весь род людской. Надеть мантию поэта — значит нести крест Сына Человеческого и терпеть родовые муки Матери — Души Человечества.
Чтобы быть настоящим поэтом, нужно стать Богом.
Я пытался объяснить все это моим друзьям на Небесных Вратах.
— Ссать-срать, — твердил я. — Жопа мудак, черт срать черт. Бля. Пи-пи бля. Черт!
Они качали головами, улыбались и уходили. Великих поэтов редко понимают при жизни.
Желто-коричневые облака изливали на меня кислотные дожди. Я не вылезал из грязи, очищая трубы городской канализации от водорослей-пиявок. Черпак погиб на втором году моего там пребывания — погиб по дурацкой случайности. Мы работали тогда на первом Канале — вели его к Центральному Отстойнику. Черпак полез на цементируемый отвал, чтобы спасти единственную росшую там серную розу, и тут порода осела. Кити вскоре после этого вышла замуж. Она продолжала подрабатывать своим прежним ремеслом, но навещал я ее все реже и реже. Вскоре после того как зеленое цунами напрочь снесло поселок ассенизаторов, Кити умерла родами. А я продолжал писать стихи.
Вы, конечно же, спросите, как можно заниматься изящной словесностью, когда в запасе у тебя всего девять «правополушарных» слов?
Ответ прост. Я не пользовался словами вообще. Слова в поэзии — не самое главное. Главное — это правда. Я имел дело с Ding an Sich,[20] таинственной субстанцией, скрытой от наших глаз, и сплетал в единое целое смелые гипотезы, аналогии и причинно-следственные связи, подобно инженеру, возводящему композитный каркас небоскреба в эпоху, когда архитекторы еще не помышляют о домах из стекла, пластика и хромалюминиевых сплавов.
И слова стали возвращаться ко мне. Мозг удивительно хорошо восстанавливает работоспособность. Что потеряно в левом полушарии, компенсируется за счет правого, а то и возрождается на прежнем месте, в поврежденных областях, подобно тому как поселенцы возвращаются на горевшую некогда равнину, ставшую только плодороднее после пожара. Там, где совсем недавно какое-нибудь простенькое слово — например, «соль» — заставляло меня пыхтеть и заикаться, пока мой ум тыкался в пустоту, как язык, ощупывающий дырку на месте вырванного зуба, — там медленно, как имена забытых друзей детства, всплывали слова и фразы. Днем я вкалывал на полях аэрации, а вечером усаживался за шершавый стол и при свете шипящей масляной лампы писал свои «Песни». Марк Твен однажды с присущей ему простотой заметил: «Верное слово отличается от подходящего, как светило от светляка». Схохмил он неплохо, но кое-что упустил. В те долгие месяцы на Небесных Вратах, когда я бился над началом своих «Песней», мне открылось, что находка верного слова отличается от монотонного перебора подходящих, как вспышка сверхновой от тусклого огонька Веги-Прим.
Так появилась «Песнь первая», за ней вторая, третья… Написанные на тонюсеньких листочках здешней бумаги, которую варили из водорослей-пиявок и тоннами изводили на сортирные нужды, нацарапанные дешевым фломастером, которым я разжился в лавке Компании, «Песни» постепенно обретали законченный вид. И по мере того как слова, подобно рассыпанным кусочкам трехмерной головоломки, занимали свои места, все более насущной становилась проблема формы. Я вспомнил уроки дона Бальтазара и попытался вернуться к благородной размеренности эпических поэм Мильтона. А когда чуть больше поверил в себя — добавил немного романтической чувственности Байрона, сдобрив его истинно китсовским прославлением Слова. Перемешав это кушанье, я приправил его великолепным цинизмом Иейтса и щепоткой схоластического высокомерия Паунда. Покрошив все это, я добавил еще кое-какие ингредиенты. Способность обуздывать воображение я взял у Элиота, чувство места — у Дилана Томаса, обреченность — у Делмора Шварца, осязаемость ужасного — у Стива Тема, тоску по невинности — у Салмада Брюи, спирально-ритмическую схему рифмовки — у Дейтона, преклонение перед материальным — у By, а у Эдмонда Ки Ферерры — его не знающую границ игривость.
В конце концов я выплеснул всю эту окрошку и написал «Песни» в манере, присущей лишь мне одному.
* * *
Если бы не помянутый выше дворовый громила Гоп-стоп, я, по всей вероятности, все еще обретался бы на Небесных Вратах, днем рыл сточные канавы, а по ночам писал свои «Песни».
Это случилось в мой выходной. Взяв «Песни» (единственный экземпляр рукописи!), я направился в Общественный Центр поработать в библиотеке Компании и нарвался на Гоп-стопа с двумя его дружками. Тот потребовал, чтобы я немедленно заплатил «за охрану» на месяц вперед. На Небесных Вратах универсальные карточки были не в ходу: мы расплачивались бонами Компании или контрабандными марками. У меня не оказалось при себе ни того, ни другого. Тогда Гоп-стоп потребовал, чтобы я показал ему содержимое своего пластикового ранца. Конечно же, я отказался. Это было ошибкой. Если бы я показал Гол-стопу рукопись, он, по всей видимости, просто швырнул бы ее в грязь, а затем, после соответствующих угроз, поколотил бы меня. Мой отказ привел этого бандита (а равно и его приятелей-неандертальцев) в такую ярость, что они разорвали мою сумку, втоптали рукопись в грязь, а меня избили так, что живого места не осталось.
По счастливой случайности в тот день ТМП одного из управляющих протектората, ведавшего чистотой воздуха, пролетал мимо на небольшой высоте, и супруга чиновника, направлявшаяся за покупками в магазин Компании, велела слуге-андроиду приземлиться, отнести меня в кабину и собрать то, что осталось от рукописи. Затем она самолично отвезла меня в больницу Компании. Обычные батраки вроде меня если и лечились, так только амбулаторно в биоклинике, однако отказать жене начальника в больнице не решились. В бессознательном состоянии меня отвезли в палату и под присмотром врача-человека (а не андроида) и заботливой дамы погрузили в лечебную ванну.
Ладно, чтобы превратить эту банальную длинную историю в не менее банальную, но короткую, я сразу перейду к связям и знакомствам. Пока я купался в целебных растворах, Хеленда — так звали жену начальника — прочла мою рукопись. И рукопись ей понравилась. В тот же самый день, когда я попал в больницу, Хеленда по нуль-Т отправилась на Возрождение, где показала «Песни» своей сестре Фелии, у которой была подруга, у которой был любовник, который был знаком с редактором издательства «Транслайн». Когда на следующий день я пробудился, мои переломанные ребра уже срослись, кровоподтеки исчезли, а разбитая челюсть была как новенькая. Кроме того, я оказался счастливым обладателем пяти вставных зубов, искусственной роговицы в левом глазу и контракта с «Транслайном».
Моя книга вышла пять недель спустя. А еще через неделю Хеленда развелась со своим мужем-начальником и сочеталась со мной законным браком. Причем до меня она успела сменить шестерых мужей, а я, естественно, женился впервые. Мы провели медовый месяц на Конкурсе, а когда вернулись, было продано уже более миллиарда экземпляров моей книги. Впервые за последние четыреста лет список бестселлеров возглавила книга стихов! Я стал мультимиллионером.
Моим первым редактором в «Транслайне» была Тирена Вингрен-Фейф. Именно она решила назвать книгу «Умирающая Земля»[21] (в результате архивных разысканий выяснилось, что пятьсот лет назад вышел в свет роман с тем же названием, но его давно не переиздавали, а срок охраны авторских прав истек). Именно она решила опубликовать только фрагменты, посвященные ностальгическим воспоминаниям о последних днях Старой Земли. И именно она решила опустить все, что, по ее мнению, могло утомить читателя: философские отступления, описания моей матушки, разделы, в которых я отдавал должное поэтам прошлого, а также баловался техникой стихосложения, сугубо личные пассажи — фактически все, за исключением идиллических описаний последних дней Земли, которые, лишившись своей серьезной компоненты, стали невыносимо сентиментальными и пресными. За четыре месяца было продано два с половиной миллиарда кристаллодисков «Умирающей Земли», а сокращенная и оцифрованная версия, не успев попасть в сеть визуалтинга, была опционирована для голопостановок. Тирена любила повторять, что книга вышла как раз вовремя. Дело в том, что гибель Старой Земли вызвала в общественном сознании шок, за которым последовала эпоха замалчивания. Земли словно бы никогда и не существовало. Потом наступил период оживленного интереса. Всю Сеть захлестнула ностальгия, настоящий культ Старой Земли. И появление книги — пусть даже книги стихов, — посвященной ее последним дням, оказалось как нельзя более кстати.
Вот так я стал знаменитым на всю Гегемонию. Однако первые месяцы славы повергли меня в полнейшую растерянность. Пожалуй, даже предыдущая метаморфоза, когда из балованного дитяти Старой Земли я обратился в разбитого инсультом раба на Небесных Вратах, не настолько выбила меня из колеи.
Чего только не было в эти месяцы! Я посетил более сотни миров, где участвовал в презентациях своего творения, подписывая книги и кристаллы. Меня затащили в шоу «А Сейчас Вся Сеть!» с ведущим Мармоном Гамлитом. Я встречался с секретарем Сената Синистером Перо, спикером Альтинга Друри Файном, а также с дюжиной сенаторов. Я выступал в Межпланетном женском ПЕН-клубе и в Союзе писателей Лузуса. Университеты Новой Земли и Кембриджа-Два присвоили мне почетные степени. Меня чествовали, интервьировали, имиджировали, рецензировали (положительно), биографировали (неавторизованно), на руках таскали, сериалы снимали и злостно надували. Хлопотное было времечко.
Моя жизнь в Гегемонии (набросок)
В моем доме тридцать восемь комнат, и расположены они на тридцати шести планетах. Дверей нет: просто арки, они же — нуль-порталы; некоторые занавешены приличий ради шторками, остальные совершенно открыты, и ничто не мешает заглянуть или войти. В каждой комнате множество окон и по крайней мере в двух стенах — порталы. Большая столовая находится на Возрождении Вектор, и из ее окон видны бронзовые небеса и позеленевшие от времени медные крыши Надежды-и-Опоры, что стоит в долине у подножия моего персонального вулкана, а примыкающий к ней зал приемов, устланный гигантским белым ковром, выходит прямо на берег моря Эдгара Аллана, волны которого разбиваются о скалы мыса Просперо. Это уже Невермор. Окна библиотеки смотрят на ледники и зеленые небеса Нордхольма, а небольшая, в десять ступенек, лестница ведет оттуда вниз, в мой рабочий кабинет — уютную комнатку без стен, расположенную на самом верху башни и накрытую куполом из поляризующего стекла, за которым открывается панорама высочайших вершин хребта Кушпат-Каракорум, что лежит у восточных границ республики Джамму на Денебе-III, в двух тысячах километров от ближайшего поселения.
Огромная спальня, которую я делил с Хелендой, плавно покачивается на ветвях трехсотметрового Древа Мира, растущего на Роще Богов — планете тамплиеров, гранича при этом с солярием, затерявшимся среди солончаков Хеврона. Но отнюдь не за каждым окном девственная природа: конференц-зал с примыкающей к нему посадочной площадкой для скиммеров находится на сто тридцать восьмом этаже экобашни ТК-Центра, а патио — на террасе, выходящей на шумный рынок в старой части постоянно бурлящего Нового Иерусалима. Архитектор, ученик легендарного Миллона Де-Га-Фре, был не лишен юмора: чего стоит, например, лестница, спускаясь по которой, оказываешься на крыше, или гимнастический зал, расположенный в нижнем ярусе глубочайшего из ульев Лузуса и снабженный… смотровой площадкой в стиле «орлиное гнездо», или ванная для гостей, укомплектованная умывальником, душем, унитазом и биде, которые красуются на открытом со всех сторон плоту, плывущему по фиолетовому океану Безбрежного Моря.
Поначалу скачки силы тяжести при переходе из комнаты в комнату вызывали легкую тошноту, но вскоре я адаптировался и, прежде чем войти на Лузус, Хеврон или Седьмую Дракона, автоматически напрягал мышцы, а потом столь же неосознанно предвкушал легкость во всем теле, которую сулила пониженная гравитация большинства остальных помещений.
В течение десяти стандартных месяцев нашей с Хелендой совместной жизни дома мы появляемся лишь изредка, предпочитая разъезжать с компанией приятелей по курортам, туристическим купол-кемпингам и прочим злачным местам Великой Сети. Наши, с позволения сказать, друзья — все завзятые нулевики — называют себя теперь «стадом карибу» по имени давно вымершего млекопитающего, кочевавшего по просторам Старой Земли. Это «стадо» состоит из писателей, нескольких преуспевающих видеохудожников, интеллектуалов с Конкурса, журналистов, аккредитованных при Альтинге, парочки-другой паректоров-радикалов и генопротезистов-косметологов, нескольких настоящих аристократов, богатых чудил-нулевиков, наркоманов, прочно севших на флэшбэк, режиссеров тривидения и сцены, завязавших крестных отцов и постоянно меняющейся группы свеженьких знаменитостей… включая меня самого.
Естественно, вся эта публика пила, валялась в фантопликаторах, сажала себе импланты, подключалась направо и налево и кололась самыми изысканными наркотиками. Лучшим считался флэшбэк. Слово это в вольном переводе со староанглийского означает «свет былого». Флэшбэк — порок богачей: чтобы насладиться им по-настоящему, нужен полный набор дорогих имплантов. И Хеленда позаботилась, чтобы у меня было все: биомониторы, расширители ощущений, внутренний комлог, нейрошунты, метакортикальные процессоры, эритрочипы, — чего только в меня не напихали! Как говорится, мать родная не узнала бы.
Я пробую флэшбэк дважды. В первый раз он срабатывает довольно мягко: я хотел попасть на празднование своего девятилетия и попал туда с первого захода. Все как положено: на рассвете слуги собираются на северной лужайке и хором поют поздравления, дон Бальтазар, поворчав немного, отменяет занятия и разрешает нам с Амальфи покататься на ТМП. И вот мы, счастливые от того, что рядом нет взрослых, целый день носимся над серыми дюнами долины Амазонки. Вечер. Факельное шествие. В сумерках прибывают представители других Семей. Подарки, завернутые в яркую блестящую бумагу, так и сверкают в свете луны и Десяти Тысяч Огней. Я провел в этих грезах девять часов и очнулся с улыбкой на лице. Но второе путешествие в прошлое едва не убивает меня.
Мне четыре года. Я ищу маму. Я плачу и мечусь по бесконечным комнатам, пропахшим пылью и старой мебелью. Слуги-андроиды пытаются успокоить меня, но я отталкиваю их руки и бегу по каким-то коридорам, потемневшим от копоти и теней бесчисленных поколений. Нарушив первое усвоенное мною правило, я врываюсь в матушкину гардеробную, ее святая святых, где она ежедневно проводит по три часа и выходит потом оттуда с ласковой улыбкой, а подол ее белого платья шуршит по ковру. Звук этот, едва слышный, напоминает вздох привидения.
Матушка здесь, она сидит в полумраке. Мне четыре года, у меня болит пальчик, и я бросаюсь к ней на колени.
Она не реагирует. Ее изящные руки неподвижны — одна закинута за спинку шезлонга, другая покоится на подушке.
Я вздрагиваю, пораженный этой неподвижностью, и, не слезая с ее колен, отдергиваю тяжелую бархатную штору.
Глаза у матушки совсем белые — закатились под лоб. Губы чуть приоткрыты.
Слюна поблескивает в уголках рта, сбегает по нежной коже подбородка. В золотых волосах, уложенных, как обычно, в прическу гранд-дамы, я замечаю разъем фантопликатора. Тускло отсвечивает черепная розетка, в которую он вставлен. Рядом с ней — белое. Я догадываюсь, что это обнаженная кость. Слева, на столике — пустой шприц-тюбик из-под флэшбэка.
Вбегают слуги и оттаскивают меня от матери. Она сидит даже не шелохнувшись. Меня силком волокут из комнаты.
На сей раз я просыпаюсь с криком.
С тех пор я ни разу больше не воспользовался флэшбэком, и, возможно, именно это обстоятельство и подтолкнуло Хеленду к разводу, хотя вряд ли. Я был для нее игрушкой — дикарь, абсолютно не знакомый с той жизнью, которую она многие десятилетия принимала как должное. Моя наивность ее развлекала. Как бы то ни было, мой отказ от флэшбэка привел к тому, что я по многу дней оставался в одиночестве. Время в таких путешествиях течет с той же скоростью, и заядлые потребители флэшбэка сплошь и рядом проводят в наркотических грезах большую часть жизни.
Некоторое время я баловался имплантами и прочими техническими игрушками, которых ранее как представитель Старой Семьи был лишен. Инфосфера стала для меня источником наслаждения: я постоянно собирал информацию, ощущение полного слияния с машиной приводило меня в восторг. Процесс поглощения фактов затянул меня точно так же, как фантомы и наркотики затянули «стадо карибу». Дон Бальтазар перевернулся бы в своем огненном гробу, узнав, что ради мимолетного наслаждения имплантированным всезнанием я испоганил свою долговременную память. И далеко не сразу я понял, что потерял. Перенеся инсульт, я помнил и «Одиссею» в переводе Фицджеральда, и «Последний марш» By, и десятки других поэм. Теперь же все это разрушалось, как облака, которые разгоняет по небу ветер. Уже потом, избавившись от имплантов, я с немалым трудом заучил их вновь.
Первый и последний раз в жизни я заинтересовался политикой. Дни и ночи напролет я смотрел по нуль-Т-кабелю заседания Сената или валялся на диване, подключившись к Альтингу. Кто-то однажды подсчитал, что Альтинг ежедневно разбирает до сотни вопросов, касающихся законодательства Гегемонии, но в те месяцы я намертво ввинтился в сенсоринг и не пропускал ни одного. На дискуссионных каналах мои голос и имя приобрели широкую известность. Меня не смущало, если обуждаемый вопрос был слишком сложен или, наоборот, слишком прост, каждый законопроект был для меня первостепенным. Обычный ритуал голосования, повторявшийся каждые несколько минут, создавал у меня ложное ощущение выполненной работы. Одержимость политикой прошла лишь тогда, когда я понял, что регулярные подключения к Альтингу требуют либо не вылезать из дома, либо смириться с обликом ходячего мертвеца, зомби. Человек, постоянно подключенный к имплантам, вызывает у людей только брезгливость, а если я буду вечно торчать дома, то рано или поздно превращусь в обычную губку, впитывающую информацию Альтинга, в одного из многих миллионов слизняков, которыми кишит Великая Сеть — это я понимал и без насмешек Хеленды. Посему я забросил политику. Но к тому времени мною овладела новая страсть — религия.
Каких только религий я не перепробовал. Черт возьми, я даже участвовал в создании религий! В те годы численность паствы церкви дзен-гностиков росла в геометрической прогрессии, и я стал одним из правоверных — выступал в тривизионных теледебатах и искал свои Средоточия Силы, искал с той же истовостью, с какой до Хиджры мусульмане совершали паломничество в Мекку. Но больше всего я любил путешествовать по нуль-Т. «Умирающая Земля» принесла мне сто миллионов марок, и Хеленда выгодно вложила эти деньги; но однажды кто-то навел порядок в отчетах, и я узнал, что одно только поддержание включения в Сеть такого расточительного дома, как мой, обходится ежедневно в пятьдесят тысяч марок, а я отнюдь не ограничивал свои путешествия теми тридцатью шестью мирами, в которых он находился. Издательство «Транслайн» вручило мне «золотую» универсальную карточку, и я пользовался ею на всю катушку: забирался в самые невероятные уголки Сети и неделями не вылезал из роскоши или, наняв ТМП, искал в какой-нибудь глухомани свое Средоточие Силы. Но ничего я так и не нашел. Тогда я отрекся от дзен-гностицизма, и примерно тогда же Хеленда развелась со мной. Между тем счета уже громоздились горой, и мне пришлось продать большую часть акций и долгосрочных векселей, оставшихся у меня после того, как Хеленда забрала свою долю. (Когда ее поверенные составляли брачный контракт, я был не просто наивным влюбленным дурачком — я был кретином!)
Я уволил слуг-андроидов и почти перестал пользоваться нуль-Т. Однако, несмотря на все эти меры, финансовый крах надвигался неудержимо.
И я отправился с визитом к Тирене Вингрен-Фейф.
— Стихи никто не читает, — заявила она, листая тоненькую стопку «Песней», написанных мной за последние полтора года.
— Как же так? — спросил я. — Разве «Умирающая Земля» не стихи?
— С «Умирающей Землей» тебе просто подфартило, — сказала Тирена. Ее ногти — длинные, зеленые, загнутые под мандарина (последний писк моды) — впились в мою рукопись, словно когти какого-то фантастического полуживотного-полурастения. — Почему ее раскупили? Да потому, что коллективное бессознательное было готово ее принять.
— А эту книгу, значит, коллективное бессознательное никак принимать не желает? — Я начинал сердиться.
Тирена расхохоталась. Приятного в ее смехе было мало.
— Ах, Мартин, Мартин, — сказала она. — Это же поэзия! Ты пишешь, конечно, и про Небесные Врата, и про «стадо карибу», но все это насквозь пронизано одиночеством, неустроенностью, цинизмом и страхом.
— Ну и что?
— А то, что никто не станет платить за то, чтобы полюбоваться на чужие страхи, — снова рассмеялась Тирена.
Я отвернулся от ее стола и двинулся в дальний конец комнаты. Кабинет Тирены занимал весь четыреста тридцать пятый этаж Транслайн Билдинга, высившегося в секторе Вавилон ТК-Центра. Никаких окон — круглая комната была открыта от пола до потолка, огражденная лишь защитным полем, которое создавали солнечные генераторы и которое не выдавало себя ни малейшей искоркой. Казалось, что стоишь между двумя серыми пластинами, зависшими где-то на полпути к небу. Я смотрел на алые облака, плывущие в полукилометре под нами, среди других, не столь высоких башен, и думал о гордыне. В кабинете Тирены не было ни дверей, ни лестниц, ни эскалаторов, ни лифтов — никакой связи с другими этажами.
Попасть сюда можно было лишь через пентаграмму портала, мерцавшую в воздухе, как абстрактная голоскульптура. Я поймал себя на том, что думаю уже не о людской гордыне, а о вещах более прозаических, вроде пожара или перебоев в энергоснабжении.
— Так вы, стало быть, не беретесь меня печатать? — спросил я.
— Нет, почему же! — улыбнулась моя редактриса. — Ведь «Транслайн» заработал на тебе несколько миллиардов марок. Естественно, мы тебя напечатаем. Я лишь утверждаю, что книгу не будут покупать.
— Чушь! — вскричал я. — Конечно, утонченные стихи понимает далеко не каждый, но читателей и сейчас вполне достаточно, чтобы сделать книгу бестселлером!
На сей раз Тирена не рассмеялась, а лишь раздвинула свои зеленые губы в острой, как нож, улыбке.
— Ах, Мартин, Мартин, — вздохнула она. — Со времен Гутенберга процент читающих людей лишь сокращается. Известно ли тебе, что в двадцатом веке в так называемых развитых демократических странах только два процента людей читали больше одной книги в год? И это — до появления искусственного интеллекта, инфосфер и всех этих интерфейсных штуковин. А ко временам Хиджры девяносто восемь процентов населения Гегемонии вообще не понимало, зачем надо читать. Их не волновало даже то, что они элементарно неграмотны. Сейчас дела обстоят и вовсе плачевно. В Великой Сети обитает более ста миллиардов человек, и лишь один из ста заказывает иногда кристаллодиск-другой, а чудаков, которые читают книги, еще меньше.
— Но ведь «Умирающая Земля» разошлась трехмиллиардным тиражом…
— Х-м-м, — произнесла Тирена, — это был «эффект «Пути паломника».
— Эффект чего?
— «Эффект «Пути паломника». В Массачусетсе, по-моему… да, точно, в Массачусетской колонии (это на Старой Земле, в семнадцатом веке) каждая порядочная семья считала своим долгом иметь в доме эту книгу. Но, Боже мой, читать ее было вовсе не обязательно! Та же история с «Майн Кампф» Гитлера, с «Видениями обезглавленного младенца» Стукацкого.
— А кто такой Гитлер? — спросил я.
Тирена слегка улыбнулась:
— Был такой политикан на Старой Земле. Ко всему прочему еще и пописывал. «Майн Кампф» до сих пор издается… «Транслайн» возобновляет копирайт каждые сто тридцать восемь лет.
— Ну ладно, — сказал я. — Мне нужно еще несколько недель, чтобы отшлифовать «Песни». Так сказать, довести до кондиции.
— Прекрасно, — улыбнулась Тирена.
— Ты, наверное, снова захочешь меня редактировать? Как в прошлый раз?
— С какой стати? — ответила она. — Ностальгия нам теперь до лампочки, так что пиши что хочешь и как хочешь.
Я даже заморгал.
— То есть я могу писать белым стихом?
— Разумеется.
— И философствовать?
— Сколько душе угодно.
— И экспериментировать с формой?
— Угу.
— И вы все это напечатаете в точности так, как я напишу?
— Тютелька в тютельку.
— А покупать их будут?
— Черта с два!
Мои «несколько недель» обернулись десятью месяцами адовой работы. Я отключил большую часть комнат; оставил только кабинет в башне на Денебе-III, гимнастический зал на Лузусе, кухню и плот с ванной на Безбрежном Море. Я работал без отдыха десять часов, потом делал энергичную разминку, ел, дремал пару часов и снова возвращался к рабочему столу — на очередную восьмичасовую вахту. Я чувствовал себя примерно так, как пять лет назад, когда только-только начал поправляться после инсульта и целыми днями мучился, осваивая каждое новое слово, заставляя идею прочно укорениться в языке. Теперь дело шло даже труднее. В поисках верного слова, идеальной схемы рифмовки, наиболее емкого образа и неизбитой метафоры для тончайшего оттенка чувств я доходил буквально до изнеможения.
Через десять стандартных месяцев я сломался, подтвердив тем самым древнюю истину: книгу нельзя закончить, можно лишь перестать работать над ней.
— Что ты на это скажешь? — спросил я Тирену, когда она просматривала первый экземпляр.
По моде той недели ее глаза превратились в гладкие бронзовые диски, но и они не могли скрыть навернувшихся слез.
— Прекрасно, — сказала она.
— Я пытался как бы заново услышать голоса кое-кого из древних, — произнес я, внезапно смутившись.
— И тебе это удалось.
— Над интерлюдией Небесных Врат стоило бы еще поработать.
— Зачем? Она и так великолепна.
— Я писал об одиночестве.
— Это не об одиночестве, это само одиночество.
— Значит, по-твоему, она завершена? — спросил я.
— Конечно. Это шедевр.
— И ты думаешь, ее будут покупать?
— Ни хрена подобного.
Первоначально «Песни» решили издать тиражом семьдесят миллионов кристаллодисков. «Транслайн» разместил рекламу в инфосфере и на коммерческих каналах тривидения, натыкал рекламные вставки в программы матобеспечения, подготовил хвалебные отзывы знаменитостей для суперобложек, организовал публикации в книжном обозрении «Нью-Нью-Йорк таймс» и «ТКЦ-ревью», выбросив на это целое состояние.
За первый год удалось продать двадцать три тысячи кристаллодисков по двенадцать марок за штуку, что принесло мне с учетом десятипроцентной ставки и пятидесятипроцентных отчислений в счет двухмиллионного аванса аж целых 13 800 марок. За весь второй год разошлось всего 638 экземпляров; инфосфера прав не приобретала, продюсеры тривидения воротили нос, лекционных турне не предвиделось.
Недобор в продажах с лихвой компенсировали отрицательные рецензии. «Невнятно, несовременно, неактуально», — писали в книжном обозрении «Таймс». «Г-н Силен сотворил образчик предельной непонимабельности, — вторил им Урбан Капри в «ТКЦ-ревью», — демонстративно наплевав в своем разнузданном опусе на читателя». Но последний, смертельный удар нанес мне Мармон Гамлит в программе «А Сейчас Вся Сеть!»: «Что касается поэтического творения этого, как бишь его… Так вот, я лично эту книжку так и не осилил. И вам не советую».
Тирена Вингрин-Фейф, казалось, просто не замечала происходящего. Через две недели после того, как появились первые рецензии и в редакцию стали возвращать партии нераскупленных кристаллодисков, я, изнуренный тринадцатидневным запоем, прибыл по нуль-Т в ее кабинет и плюхнулся в черное пенолитовое кресло, которое разлеглось в центре комнаты, словно бархатная пантера. По ту сторону невидимого защитного поля бушевала одна из легендарных гроз, которые бывают только на ТК-Центре, и колоссальные, поистине юпитерианских масштабов молнии то и дело раскалывали кроваво-красное небо.
— Не расстраивайся, — сказала Тирена. Волосы она уложила по моде этой недели — надо лбом на полметра торчали черные рожки, а по всему телу, то приоткрывая, то пряча наготу, перетекали многоцветные разводы, которые создавал комбидресс-генератор. — Первый тираж составил только шестьдесят тысяч экземпляров, так что особенных убытков мы не понесли.
— Но ты говорила, что запланировано семьдесят миллионов.
— Да, действтельно. Но после того, как книгу прочел приписанный к «Транслайну» ИскИн, мы пересмотрели наше решение.
Я погрузился глубже в пенолит:
— Выходит, она не понравилась даже ИИ?!
— Напротив. Она ему очень понравилась. Тогда-то мы и поняли, что она не понравится людям.
Я выпрямился.
— А что, если продать книгу Техно-Центру?
— Мы пытались, — ответила Тирена. — Продали один экземпляр. Как только мы перебросили его по мультилинии, миллионы других ИскИнов, работающих в реальном времени, тут же получили копии. Этому кремниевому дерьму начхать на межзвездный копирайт.
— Понятно, — сказал я, вновь погружаясь в кресло. — Но теперь-то как мне быть?
Снаружи, между громадами туч и небоскребов, плясали молнии размером с автостраду Старой Земли.
Тирена поднялась из-за стола и прошлась по круглому ковру от края до края. Ее комби-поле мерцало, как заряженное масло на поверхности воды.
— Теперь? Теперь уж ты сам решай, кем тебе быть — писателем или величайшим дрочилой Сети.
— Что?
— Что слышал. — Тирена улыбнулась, и на ее зубах сверкнули золотые наконечники. — Контракт позволяет нам вернуть аванс любым способом. Мы можем забрать твои вклады в Интербанке. Можем конфисковать золото, которое ты припрятал на Передышке. Можем пустить с молотка твой дурацкий нуль-дом. Мы все можем. А тебе после этого останется только одно — присоединиться к сборищу дилетантов, неудачников и психов, которых в своем захолустье коллекционирует Печальный Король Билли.
Я так и вытаращился на нее.
— Но повторяю еще раз, — произнесла она с каннибальской улыбкой, — мы можем просто забыть эту временную неудачу, а ты сядешь и начнешь писать следующую книгу.
Следующая книга была готова через пять месяцев. «Умирающая Земля-II» служила как бы продолжением «Умирающей Земли», но написана была чистой прозой, а длина предложений и содержание глав были тщательно выверены на основе нейробиомониторинга референтной группы из 638 типичных потребителей кристаллодисковой продукции. Это был роман, причем роман достаточно короткий, дабы не отпугнуть потенциального покупателя от контрольных стоек Пищевого Рынка. На обложке был размещен двадцатисекундный голофильм: высокий, смуглый, диковатого вида субъект (подозреваю, что его сыграл Амальфи Шварц, хотя на самом деле Амальфи был невысок, бледен и носил корректирующие контактные линзы) раздевает отчаянно сопротивляющуюся женщину; он успевает стащить с нее лиф примерно до линии сосков, и тут протестующая блондинка оборачивается к зрителю и задыхающимся шепотом порнозвезды тривидения Лиды Сванн умоляет спасти ее.
Было продано девятнадцать миллионов экземпляров «Умирающей Земли-II».
— Неплохо, — подытожила Тирена. — Аудитория сформирована.
— Но первая «Умирающая Земля» разошлась трехмиллиардным тиражом!
— «Путь паломника»,[22] — напомнила она. — «Майн Кампф». Такое случается раз в столетие. А то и реже.
— Но ведь три миллиарда…
— Слушай, — сказала Тирена. — В двадцатом веке на Старой Земле была целая сеть забегаловок. В них мясо дохлых коров жарили на топленом сале, добавляли немножко канцерогенов, потом заворачивали в пленку, синтезированную из нефти, и продавали по девятьсот миллиардов порций в год. А люди это жрали. Вот так.
В «Умирающей Земле-III» появился целый ряд новых персонажей: беглая рабыня Винона, со временем становящаяся владелицей фибропластовой плантации (и плевать, что на Старой Земле отродясь не выращивали фибропласта), неудержимый прерыватель блокады Артуро Редгрейв (какая, к чертовой бабушке, блокада?!) и Инноцента Сперри, девятилетняя телепатка, которая загибается от загадочной болезни Крошки Нелл. Инноцента продержалась аж до «Умирающей Земли-IX», и когда «Транслайн» позволил мне наконец прикончить засранку, я отметил это событие шестидневной вакханалией на двадцати мирах. Очнулся я в вентиляционной трубе на Небесных Вратах, весь в блевотине и аэрофильтрате, с дикой головной болью и с сознанием неизбежности десятого тома «Умирающей Земли».
Быть халтурщиком не так уж сложно. Шесть лет — между «Умирающей Землей-II» и «Умирающей Землей-IX» — прошли относительно безболезненно. Изучение материала я похерил, сюжеты были штампованные, герои — картонные, язык — чуть посложнее, чем у питекантропов, но зато мое свободное время принадлежало мне. Я путешествовал. Еще пару раз женился. Расставался я со своими женами с легким сердцем (правда, оба раза мне пришлось расстаться еще и с солидной частью очередного гонорара). Я снова стал заглядывать в церковь и в бутылку (на самое донышко) и пришел к выводу, что религия проигрывает алкоголю в продолжительности и качестве даруемого утешения.
Дом я расширил, добавив еще шесть комнат в пяти мирах, и украсил произведениями искусства. Я устраивал приемы. Среди моих знакомых преобладали литераторы, а публика эта во все времена ведет себя одинаково: мы сплетничали и злословили, вылавливали друг у друга «блох» и втайне завидовали чужим успехам. Каждый был уверен, что именно он — истинный художник слова, а халтурой занялся лишь по воле случая; все же остальные — прирожденные халтурщики.
И вот одним холодным утром я проснулся на планете тамплиеров в своей спальне, покачивавшейся на ветвях Древа Мира; проснулся, поглядел в холодное серое небо и вдруг осознал, что Муза меня покинула.
Прошло пять лет с тех пор, как я в последний раз что-то срифмовал. В башне-кабинете на Денебе-III на столе лежала рукопись «Песней», и за все время со дня выхода книги в ней прибавилось лишь несколько страниц. Обычно я писал свои романы с помощью ментопроцессоров и сейчас, когда я вошел в кабинет, один из них вдруг включился и напечатал: «ЧЕРТ ПОБЕРИ, ЧТО Я СДЕЛАЛ СО СВОЕЙ МУЗОЙ?»
Представляете, какое дерьмо я строчил все эти годы: Муза меня покинула, а я этого даже не заметил! Тому, кто никогда не писал, кто не знал вдохновения, может показаться, что мы говорим о музах скорее из тщеславия и в некоем фигуральном смысле. О нет! Для нас, живущих Словом, музы столь же реальны и необходимы, как мягкая глина языка, из которой мы лепим наши творения. Писать — писать по-настоящему — это все равно что находиться на прямой мультисвязи с богами. Каждому истинному поэту знакомо необъяснимое радостное чувство, охватывающее тебя в тот момент, когда твой мозг превращается в инструмент, такой же, как перо или ментопроцессор, который улавливает и воплощает в слове неведомо откуда снисходящие откровения.
Муза меня покинула. Я искал ее во всех мирах своего дома, но молчали увешанные картинами стены и пустые комнаты. Я снова оседлал нуль-Т и облетел все свои любимые места — любовался закатами в бескрайних прериях Лужайки и ночными туманами, плывущими меж эбеново-черных скал Невермора, — но даже очистив свой ум от тягучей словесной каши «Умирающей Земли», шепота Музы я не услышал.
Я искал ее в винных парах и грезах флэшбэка, пытаясь вернуться в те золотые дни на Небесных Вратах, когда вдохновение тараторило мне прямо в уши, пробуждая ото сна, отрывая от рутинной работы… Но сейчас, когда я вновь возвращался туда, голос моей Музы звучал невнятно и фальшиво — точно затертая аудиопластинка давно минувших веков.
Муза покинула меня окончательно.
В кабинет Тирены Вингрин-Фейф я прибыл минута в минуту. Тирена получила повышение и возглавляла уже не отдел кристаллодисков, но все издательство. Ее новый кабинет занимал самый верхний этаж «Транслайн-Билдинга», и, выйдя из портала, я оказался как бы на покрытой ковром вершине высочайшего и тончайшего горного пика Галактики: лишь невидимый купол слабополяризованного защитного поля над головой да ковер под ногами, обрывающийся в шестикилометровую пропасть. Не знаю, как других авторов, а меня сразу же так и потянуло нырнуть туда.
— Ну что, — спросила Тирена, — принес новый опус?
За неделю до этого Лузус, наголову разгромив соперников, занял господствующие высоты в мире моды. Кстати, мой воинственный лексикон отнюдь не случаен: на сей раз редактриса была облачена в доспехи из металла и кожи. На шее и запястьях торчали ржавые шипы, через плечо, прикрывая левую грудь, струилась пулеметная лента. Патроны выглядели совсем как настоящие.
— М-м-да, — протянул я и швырнул папку с рукописью ей на стол.
— Ах, Мартин, Мартин, — вздохнула она. — Ты когда-нибудь научишься пользоваться линией связи? Ну к чему тратить время, печатать, таскать эти рукописи?..
— Видишь ли, это доставляет мне своеобразное удовлетворение. Особенно сейчас.
— Неужели?
— Вот именно, — сказал я. — Полистай-ка мое творение.
Тирена улыбнулась и щелкнула грязными ногтями по пулеметной ленте:
— Ну зачем же, Мартин? Я и так знаю твой уровень.
— А все-таки почитай.
— Честно говоря, не вижу в этом никакой необходимости. Вдобавок я всегда нервничаю, когда читаю новую книгу в присутствии автора.
— Эта книга особая, — сказал я. — Пролистай хотя бы несколько первых страниц.
Должно быть, что-то в моем голосе ее насторожило, и, нахмурившись, она открыла папку. Глянув на первую страницу, она нахмурилась еще сильнее и принялась быстро листать рукопись.
На первой странице была одна-единственная фраза: «И вот в одно прекрасное октябрьское утро «Умирающая Земля», подавившись собственными кишками, содрогнулась в последних конвульсиях — и наконец умерла». Остальные двести девяносто девять страниц были пусты.
— Мартин, ты пошутил?
— Нет.
— Тогда на что ты намекаешь? Хочешь начать новый сериал?
— Нет.
— Не могу сказать, что это для нас сюрприз. Наши разработчики уже заготовили под тебя несколько резервных проектов. Все как на подбор. Господин Сабвази, например, считает, что ты прямо-таки создан для литобработки голосериала «Алый Мститель».
— Да подотритесь вы своим «Алым Мстителем», — сказал я от всей души. — Меня уже тошнит от «Транслайна» и от этой пережеванной размазни, которую вы именуете литературой.
Лицо Тирены не дрогнуло. Сегодня на зубах у нее не было никаких наконечников — обычные ржавые пеньки, прекрасно дополняющие шипастые железяки, которые она нацепила на шею и запястья.
— Ах, Мартин, Мартин. — Она сокрушенно покачала головой. — Ты даже не представляешь, как тебя затошнит, если ты не извинишься. Ну-ка, возьми себя в руки и не выделывайся. Впрочем, это можно отложить на завтра. Отправляйся-ка домой, проспись и обо всем как следует подумай.
Я рассмеялся.
— Миледи, никогда еще за последние восемь лет я не был трезвее. И знаешь, что я понял? Оказывается, не я один пишу такую чушь… За год в Сети не вышло ни одной приличной книги. С меня хватит. Я покидаю ваш корабль.
Тирена поднялась. Только сейчас я заметил, что на поясе из синтетической холстины у нее висит армейский нейродеструктор. Оставалось надеяться, что «жезл смерти», как и весь ее костюм, бутафорский.
— Бездарь! Халтурщик! — прошипела она. — Слушай меня внимательно. Ты принадлежишь «Транслайну». Весь. От головы до жопы. А если ты и впредь будешь выкидывать фортели, мы засадим тебя строчить готические романы. Причем подписываться ты будешь «Розмари Сиссиничкинс». Все! Марш домой! Проспись как следует и завтра же принимайся за «Умирающую Землю-Х».
Я улыбнулся и покачал головой. Тирена прищурилась.
— Не забывай, что ты должен нам миллион марок. Стоит мне шепнуть — и у тебя отберут дом. За исключением разве что этого идиотского плота, которым ты пользуешься вместо сортира. Сиди там и засирай океан хоть до краев.
Я снова рассмеялся.
— Там есть устройство для переработки отходов. Кроме того, я вчера продал свой дом. Деньги вам уже должны были перевести. Так что аванс я вернул.
Тирена сжала пластиковую рукоятку «жезла смерти».
— А ты знаешь, что все права на идею «Умирающей Земли» принадлежат «Транслайну»? Уж замену тебе мы как-нибудь подыщем, не сомневайся.
— Да ради Бога!
Что-то вдруг изменилось в голосе моей бывшей редактрисы. Видимо, до нее дошло, что я говорю серьезно. Я понял: ей очень хочется, чтобы я остался.
— Послушай, Мартин, — сказала она, — я уверена, что все это преодолимо. На днях я уже намекала совету директоров, что твои авансы слишком малы и «Транслайну» стоило бы заказать тебе новый сериал…
— Ах, Тирена, Тирена, — вздохнул я. — Прощай навек.
Прямо из ее кабинета я вышел на Возрождение Вектор, а оттуда — на Экономию, где пересел на спин-звездолет и, проведя в полете три недели, прибыл на Асквит,[23] в маленькое королевство Печального Короля Билли.
Печальный Король Билли (набросок)
Его Монаршее Высочество король Уильям XXIII, суверенный правитель королевства Виндзор-в-Изгнании, напоминает восковую статуэтку, которую кто-то сдуру поставил на горячую плиту, да так и забыл там. Длинные пряди волос безвольно свешиваются на покатые плечи. Глубокие морщины, залегшие у бровей, бесчисленными потоками растекаются вокруг грустных, как у таксы, глаз и бегут дальше — по всему его дряблому, вечно хмурому лицу, теряясь в складках кожи на шее и подбородке. Говорят, взглянув на него, антрополог тут же вспоминает истуканчиков с Киншасы-на-Задворках, дзен-гностику приходит на память статуя Скорбящего Будды, уцелевшая при пожаре в храме на Тай-Цзинь, а историк масс-культуры тут же бросается к своим архивам и перетряхивает их до последнего листочка в поисках фотографий древнего актера двухмерного кино Чарльза Лоутона.[24] Мне лично ни одно из этих сравнений ни о чем не говорит. Глядя на короля Билли, я всякий раз вспоминаю моего наставника дона Бальтазара после недельного запоя.
Печальный Король Билли слывет человеком весьма мрачным, но совершенно не заслуженно. Он любит посмеяться. Беда в том, что смех у него особый: когда он хохочет, всем кажется, что это рыдания.
Понятное дело, внешность свою никто не выбирает, но, глядя на Его Высочество, каждый невольно задается вопросом: кто это? Шут гороховый или просто какой-то Богом обиженный?.. Одежда его (если здесь вообще уместно слово «одежда») находится в состоянии, близком к первозданному хаосу, вызывая сомнения в исправности его слуг-андроидов, так что порой он дисгармонирует и с самим собой, и со своим окружением одновременно. Однако не только его одеяние, но и сам он, как таковой, пребывает в перманентном беспорядке. Вечно с расстегнутой ширинкой, бархатная мантия побита молью и местами порвана, края ее подметают пол, таинственным образом притягивая к себе весь мусор. Кружевная манжета на левом рукаве вдвое длиннее, чем на правом. А последний, в свою очередь, выглядит так, словно его окунули в варенье.
В общем, вы меня понимаете.
При всем при том Печальный Король Билли обладет поистине провидческим умом, а его страсть к искусствам и изящной словесности достойна эпохи Возрождения на Старой Земле.
Чем-то король напоминает маленького сластену, пожирающего глазами недоступные сокровища, выставленные в витрине кондитерского магазина. Будучи завзятым меломаном, он начисто лишен музыкального слуха. Превосходный знаток балета и вообще ценитель всего изящного, в жизни Его Величество являет собой образчик комичной неуклюжести; это карикатурный недотепа, который на каждом шагу спотыкается, роняет что-нибудь, а в довершение всего садится мимо стула. Страстный читатель, непогрешимый критик и покровитель ораторского искусства, сам он поразительно косноязычен, а анекдотическая застенчивость не позволяет ему показывать свои опыты в стихах и прозе кому бы то ни было.
Король — убежденный холостяк, и свое шестидесятилетие он встречает в полуразвалившемся дворце посреди королевства площадью две тысячи квадратных миль, с которыми он буквально сросся и которые прекрасно дополняют мятый и грязный королевский наряд. С этим связана масса анекдотов. Например: некий прославленный живописец, которому король Билли покровительствует, видит, как Его Величество, повесив голову и заложив руки за спину, шествует по садовой дорожке, причем на дорожку он ступает лишь одной ногой, другою же хлюпает по грязи — очевидно, погружен в глубокую задумчивость. Художник приветствует своего государя. Печальный Король Билли поднимает взор, моргает, оглядывается по сторонам, словно только что очнулся от долгого сна. «П-п-простите, — обращается Его Высочество к удивленному живописцу, — скажите, п-п-пожалуйста, я иду во дворец или из д-д-дворца?» «Во дворец, Ваше Величество», — отвечает художник. «З-замечательно, — вздыхает король, — значит, я уже завтракал».
Но вот в один прекрасный день грянул мятеж генерала Горация Гленнон-Хайта, и захолустный Асквит оказался прямо на пути его войск. Особого беспокойства на Асквите это не вызвало, ибо Гегемония обещала направить для его защиты свои ВКС. Однако вызвавший меня к себе полновластный правитель королевства Монако-в-Изгнании на этот раз больше, чем когда-либо, походил на оплывшую свечку.
— Мартин, — обратился ко мне Его Величество, — вы с-с-слышали о б-битве за Фомальгаут?
— Ага, — ответил я. — Но оснований для беспокойства, по-моему, нет. Гленнон-Хайт неизбежно должен был напасть на Фомальгаут… Судите сами: всего несколько тысяч колонистов, богатейшие минеральные ресурсы, тридцать, нет, двадцать стандартных месяцев лета до Сети…
— Двадцать три, — поправил меня Печальный Король Билли. — Так вы п-полагаете, оп-п-пасность нам не угрожает?
— Г-м-м, — произнес я. — Полет сюда прямо из Сети занимает три недели по корабельному времени, то есть меньше года… Да, получается, что ВКС Гегемонии заведомо опередят спин-звездолеты Гленнон-Хайта, взлетевшие с Фомальгаута.
— Возможно и так, — задумчиво произнес король, прислонившись к глобусу (который тут же начал поворачиваться под тяжестью монаршей особы, вследствие чего Билли был вынужден отскочить и встать прямо). — Тем не-не-менее я решил начать собственную с-с-скромную Хиджру.
Я даже заморгал от удивления. Билли уже почти два года изъявлял желание переселить свое королевство, но я никогда не думал, что он всерьез решится на такое дело.
— Зв-зв-зв… корабли на Парвати уже готовы, — сказал он. — Асквит согласился п-п-перевезти нас в Сеть.
— А как же дворец? — спросил я. — Библиотека? Фермы, постройки?
— К-конечно же, я их подарил, — ответил король Билли, — но сама б-библиотека — я хочу сказать, к-книги — отправится с нами.
Я сел на валик дивана, набитого конским волосом, и почесал щеку. За десять лет, проведенных мной в королевстве Билли Печального, я из объекта опеки превратился в его личного друга, конфидента и даже наставника, но при этом никогда не льстил себя надеждой, что понимаю загадочную душу этого растрепанного создания. Сразу по прилете я был удостоен королевской аудиенции.
— Так вы, значит, х-х-хотите п-п-присоединиться к нашей маленькой колонии т-т-талантов? — спросил Билли.
— Да, Ваше Величество.
— А вы не с-с-собираетесь п-п-писать здесь книги н-наподобие «У-у-умирающей Земли»?
— Ни за что, Ваше Величество!
— Знаете, а я ее ч-ч-читал, — выговорил наконец коротышка. — О-о-очень интересно.
— Вы более чем любезны, сир.
— Д-д-дерьмо, господин Силен. Но б-б-было интересно. П-понимаете, кто-то по ней прошелся и з-здорово п-по-кромсал ее, но оставил только плохие куски.
Я улыбнулся во весь рот, удивленный тем внезапным открытием, что мне начинает нравиться Печальный Король Билли.
— Н-н-но «Песни», — он вздохнул, — о, эт-т-то книга. Возможно, это лучшая книга с-ст-ст… поэзии, изданная в Сети за последние два столетия. Уму непостижимо, как вы протащили ее через цензуру посредственности. Я заказал для моего к-королевства двадцать тысяч экземпляров.
Я склонил голову. Впервые со времен того достопамятного инсульта я потерял дар речи.
— Может, вы все-таки н-н-напишете еще что-нибудь вроде «Песней»?
— Для того я и приехал сюда, Ваше Величество.
— В таком случае добро пожаловать, — сказал Печальный Король Билли. — Мы поселим вас в западном крыле д-д-д… замка, рядом с моими апартаментами. Для вас мои двери всегда открыты.
Сейчас я смотрел на закрытую дверь и на маленького короля, который, даже улыбаясь, выглядел так, словно готов разрыдаться.
— На Гиперион?[25] — спросил я. Он неоднократно заговаривал об этой колонии, населенной бежавшими от цивилизации дикарями.
— Совершенно верно, Мартин. Корабли с поселенцами-андроидами уже несколько лет как там. Подготавливаю почву, как водится.
Я приподнял бровь. Королевство приносило Билли жалкие крохи, но, удачно вкладывая средства в экономику Сети, он накопил немалое состояние. Однако даже с учетом этого многолетние затраты на тайную реколонизацию должны были вылиться в кругленькую сумму.
— Вы п-п-помните, Мартин, почему первые колонисты назвали эту пл-пл-пл… этот мир Гиперионом?
— Конечно. До Хиджры они были свободными земледельцами на одной из лун Сатурна. Существовали они лишь благодаря снабжению с Земли, а когда она погибла, эмигрировали на Окраину и назвали свой новый мир в честь старого.
Король Билли печально улыбнулся.
— А вы знаете, почему это название сулит удачу нашему начинанию?
Мне понадобилось почти десять секунд, чтобы сообразить.
— Китс, — сказал я наконец.
Несколько лет назад у нас был длинный спор о сущности поэзии, и под конец король Билли спросил меня, кто из живших когда-то стихотворцев в наибольшей степени соответствует идеалу поэта.
— Идеалу? — переспросил я. — То есть кто самый великий?
— Нет, нет, — ответил Билли, — абсурдно с-с-спорить, кто самый великий. Мне любопытно знать, кто, по вашему мнению, является идеалом… то есть олицетворением всего того, о чем вы говорили.
Я обдумывал этот вопрос несколько дней и однажды вечером, когда мы с вершины ближайшего к дворцу холма любовались закатом, ответил королю. Красные и синие тени тянулись к нам через янтарную лужайку, и я сказал:
— Китс.
— Джон Китс, — прошептал Печальный Король Билли. — Да-да. — И через мгновение: — Но почему?
Тогда я рассказал ему все, что знал об этом поэте, жившем в девятнадцатом веке на Старой Земле; о том, как он воспитывался, учился, о его ранней смерти… но в основном о жизни, почти без остатка посвященной тайнам и красоте поэтического творчества.
Тогда Билли, похоже, заинтересовался, теперь же, судя по всему, этот интерес перешел в одержимость. Взмахнув рукой, он включил проектор, и в воздухе повисла голографическая модель. Чтобы лучше видеть, я отступил назад, шагая сквозь холмы, строения и пасущиеся стада.
— Смотрите, смотрите! — прошептал мой покровитель. — Это Гиперион. — От волнения он даже заикаться перестал. По комнате, один за другим, поплыли голографические пейзажи: речные и морские порты, хижины в горах… город на холме, весь заставленный статуями, и, словно его продолжение, странные сооружения в соседней долине.
— Это Гробницы Времени? — спросил я.
— Совершенно верно. Величайшая из загадок известной нам части Вселенной.
Я нахмурился: король явно преувеличивал.
— Полноте, сир, — возразил я. — Нет там ни хера. Они пусты. И были пусты, когда их открыли.
— Но вокруг них до сих пор существует странное антиэнтропийное поле, — заметил король. — Во Вселенной не так уж много природных феноменов, напрямую связанных со временем как таковым… Разве что сингулярности…
— Ну, здесь все проще. Должно быть, антиэнтропийное поле — это нечто вроде антикоррозийного покрытия на металле. Гробницы созданы, чтобы существовать вечно, но они пусты. Да и вообще, на кой черт нам лезть в эти технические детали?
— Дело не в технике, — вздохнул король Билли, и по его лицу поплыли глубокие морщины. — Здесь тайна. Некоторые люди могут творить лишь в необычном месте. А это место — идеальное. Смесь классической утопии и языческой мистерии.
Я промолчал, пожав плечами.
Взмахом руки король убрал голограмму.
— А как ваши с-с-стихи? Улучшились?
Я скрестил руки на груди и смерил взглядом этого коронованного неряху.
— Нет, сир.
— Ваша м-м-муза так и не вернулась?
Я не ответил. Если бы взгляд мог убить, сегодня вечером нам всем пришлось бы кричать: «Король умер, да здравствует король!»
— Очень х-х-хорошо, — произнес он, демонстрируя тем самым, что способен быть не только печальным, но и невыносимо самодовольным.
— Тогда, мой мальчик, п-п-пакуйте чемоданы. Мы отправляемся на Гиперион.
(Затемнение)
Пять «ковчегов» Печального Короля Билли, подобно золотым одуванчикам, парят в лазурном небе. Под ними белоснежные города всех трех континентов: Китс, Эндимион, Порт-Романтик… Град Поэтов. Более восьми тысяч паломников от Искусства прибыли сюда в надежде укрыться от тирании посредственности и обрести в этом грубо сколоченном мире новое вдохновение.
В первый век Хиджры Асквит и Виндзор-в-Изгнании лидировали в области биоформовки андроидов, и теперь эти синекожие друзья человека пахали как лошади, прекрасно понимая, что, когда их труд будет завершен, они получат свободу. Белоснежные города росли. Туземцы, устав от роли дикарей, покинули свои затерянные в лесах деревушки и в меру сил помогали нам обустраивать колонию. Затем пришел черед технократов, бюрократов и экократов. Их разморозили и выпустили в этот девственный мир, даже не подозревавший об их существовании. Мечта Печального Короля Билли еще на шаг приблизилась к своему осуществлению.
К тому времени генерал Гораций Гленнон-Хайт был уже мертв, его кровавый, несмотря на непродолжительность, мятеж подавлен. Но для нас дороги назад уже не существовало.
Самые сильные духом — в числе таковых были и профессионалы, и дилетанты — с презрением отвергли Град Поэтов и предпочли неустроенную, но творческую жизнь в Джектауне, Порт-Романтике, а иные подались даже на границу, которая отступала все дальше и дальше. Я остался в городе.
В те первые годы на Гиперионе я так и не нашел свою музу. У многих увеличение расстояний из-за отсутствия транспорта (ТМП ненадежны, скиммеры наперечет) и уменьшение доли эрзацев в сознании (инфосферы нет, доступа в Альтинг нет, мультипередатчик — один-единственный на всю планету) вызвали настоящую вспышку творческой активности, заставили по-новому взглянуть на место человека в мире и на предназначение художника.
По крайней мере они так говорили.
Ко мне же муза не возвращалась. Мои стихи, безупречные по форме, оставались дохлыми, как кошка Гека Финна.
И тогда я решил покончить с собой.
Но до этого, в течение девяти примерно лет, я был всецело поглощен отправлением своих гражданских обязанностей. Я обеспечивал Гипериону то, чего он был доселе лишен: упадок нравственности.
С помощью биоскульптора по имени Грауманн Хэкетт я обратился в сатира. Бока мои обросли шерстью, а ноги стали в точности как у козла. Вплоть до копыт. У меня отросла борода и удлинились уши. Грауманн произвел также весьма интересные изменения в моем половом аппарате. Обо мне стали говорить. Крестьяночки, туземки и супруги наших синеньких кормителей и поителей — все они постоянно ожидали визита единственного на Гиперионе сатира. А многие так просто сами напрашивались. Вот когда я понял, что такое «приапизм» и «сатириаз». Мои бесчисленные сексуальные подвиги (равно как и пьяные загулы) обрастали легендами, а лексикон мало-помалу возвращался к плачевному послеинсультному состоянию.
Это было чертовски здорово! Ад, да и только.
И вот однажды ночью, когда я уединился, дабы вышибить себе мозги, явился Грендель.
Посетившее нас чудовище (набросок)
Ожили наши ночные кошмары. Какая-то нечисть прячется в темноте. Тени Морбиуса и Крелля. Мама, не гаси свечи, Грендель шастает в ночи.
Поначалу мы думали, что люди просто уезжают без предупреждения. Никакой стражи на стенах нашего города не было, как не было, впрочем, и самих стен, у дверей нашего чертога не стояли воины. А потом вдруг муж заявляет, что его жена поужинала, пошла укладывать детей — и исчезла. Затем Хобан Кристус, пиротехник-абстракционист, не является на еженедельный пироспектакль в Амфитеатре Поэтов. Впервые за восемьдесят два года на подмостках! Тревога растет. Печальный Король Билли, доселе надзиравший за реставрацией Джектауна, вынужден прервать свои труды и обещает усилить меры безопасности. Вокруг города раскидывается сенсорная сеть. Сотрудники корабельной службы безопасности осматривают Гробницы Времени и сообщают, что те по-прежнему пусты. В Лабиринт через вход у основания Нефритовой Гробницы запускаются зонды и на протяжении шести тысяч километров ничего не обнаруживают. Автоматические и пилотируемые скиммеры прочесывают местность между городом и Уздечкой и обнаруживают лишь тепловой след скального угря. Целую неделю все спокойно.
А потом появляются трупы.
Скульптор Пит Гарсия найден в своей мастерской, в спальне… и во дворе дома. У начальника КСБ Труина Хайнса хватило глупости заявить по каналу новостей: «По всему видно, что он растерзан каким-то диким зверем. Но ни одно известное мне животное не может сделать ничего подобного».
Все мы втайне испытывали эдакое приятное щекотание нервов. Спектакль, правда, не бог весть какой — на уровне той голографической лабуды, которой мы раньше пугали друг друга, но ведь теперь мы сами стали участниками этого щоу.
Первая и самая очевидная версия: среди нас бродит психопат, вооруженный импульсным носком или «адской плетью». На этот раз ему (или ей) просто не хватило времени спрятать тело. Бедный Пит.
Начальник КСБ Хайнс смещен, и глава городской администрации Прюетт получает от Его Величества разрешение набрать, обучить и вооружить городскую полицию в количестве двадцати человек. Подумывают о проверке на детекторе лжи всего населения Града Поэтов, всех шести тысяч человек. В кафе спорят о гражданских правах… Формально мы — вне Гегемонии. Так есть ли у нас вообще какие-нибудь права? Вынашиваются какие-то бредовые планы поимки убийцы…
И вот тут начинается форменная бойня.
В убийствах — никакой системы. Находят то два трупа, то три, то один, а то и вовсе ничего. Некоторые исчезают бескровно, после других остаются лужи крови. Свидетелей нет, нет и уцелевших. Убить могут где угодно. Скажем, семья Веймонт жила на отдаленной вилле, а Сира Роб никогда не выходила из своей мастерской, расположенной в башне неподалеку от центра города; два человека сгинули поодиночке во время ночной прогулки в Саду Дзен. А вот дочь канцлера Лемана имела личных телохранителей и, несмотря на это, исчезла из собственной ванной на седьмом этаже королевского дворца.
На Лузусе, ТК-Центре и других крупных планетах Сети смерть тысяч людей проходит практически незамеченной — столбик цифр в конце сводки новостей или на вкладыше утренней газеты, не более. Но в городе, где проживает шесть из пятидесяти тысяч обитателей колонии, десятка убийств достаточно, чтобы оказаться в центре всеобщего внимания и чтобы каждый ощутил себя персонажем набившей оскомину логической задачки о преступнике, которого должны повесить завтрашним утром.
Одну из первых жертв я хорошо знал. В свое время Сиссиприсса Харрис была одной из первых (и самых восхитительных) моих побед на сатировом поприще. Блондинка с неправдоподобно мягкими, длинными волосами и нежнейшими щечками (персик, да и только), к которым даже в мыслях прикоснуться боязно (вдруг помнешь), короче, совершенство немыслимое: взглянув на такого ангелочка, любой самец, даже самый робкий, мечтает сорваться с цепи и… А тут кто-то действительно с цепи сорвался. Нашли только ее голову, стоявшую на мостовой, в центре площади лорда Байрона, словно Сиссиприссу погрузили по самую шею в ставший на мгновение жидким, а потом вновь затвердевший мрамор. Узнав эти подробности, я сразу же понял, с кем мы имеем дело: на Земле, в матушкином поместье, у меня была кошка, имевшая обыкновение чуть ли не каждым летним утром оставлять на южном патио подобные приношения — то голову мышки, с истинно мышиным изумлением глядящую вверх, то оскаленную в белозубой улыбке голову белки — охотничьи трофеи гордого, но голодного хищника.
Печальный Король Билли зашел ко мне, когда я работал над «Песнями».
— Доброе утро, Билли, — поздоровался я.
— Ваше Величество, — сердито проворчал Его Величество (иногда он все-таки вспоминал о своем титуле). Кстати, с того самого дня, как его челнок приземлился на Гиперионе, он перестал заикаться.
— Доброе утро, Ваше Величество Билли.
Мой сюзерен прорычал в ответ что-то нечленораздельное и, отодвинув в сторону кучу черновиков, вознамерился усесться в единственную лужицу пролитого кофе на сухой скамье.
— Опять пишете, Силен?
Я не видел причины подтверждать то, что не нуждается в подтверждении в силу своей очевидности.
— Вы что, всегда пользуетесь пером?
— Нет. Только тогда, когда мне нужно записать что-нибудь стоящее.
— А это, по-вашему, стоящая вещь? — Он указал на маленькую стопку исписанных листков — плод моей двухнедельной работы.
— Да.
— Да? В самом деле да?
— Да.
— И когда я смогу с ней познакомиться?
— Никогда.
Король Билли опустил глаза и обнаружил, что левая штанина намокла от кофе. Нахмурившись, он отодвинулся и вытер обмелевшую лужицу краем мантии.
— Никогда? — переспросил он.
— Разве что вы меня переживете.
— Что я и намерен сделать, — сказал король. — Поскольку вы разыгрываете из себя самого настоящего козла, не пропускающего ни единой козочки в королевстве.
— Это что, метафора?
— Никоим образом, — ответил король Билли. — Просто жизненное наблюдение.
— Да чихать я хотел на козочек. Я еще в детстве пообещал матушке не драть их без спросу. — И пока король Билли грустно смотрел на меня, я пропел несколько строк из старинной песенки «Где же ты, моя козочка».
— Мартин, — сказал он, — кто-то или что-то убивает моих людей.
Я отодвинул в сторону перо и бумагу.
— Да, знаю.
— Мне нужна ваша помощь.
— Какая же? Скажите, Христа ради! Может, вы хотите, чтобы я выследил убийцу, как какой-нибудь детектив из голографического фильма? Или вызвал его на смертный бой над замудоханным Рейхенбахским водопадом?
— Это было бы неплохо, Мартин. Но пока я всего-навсего хочу с вами посоветоваться. Что вы, собственно, обо всем этом думаете?
— Что я думаю? Во-первых. Глупо было сюда соваться. Во-вторых. Глупо здесь оставаться. А совет один, первый и последний: уносить ноги.
Король Билли скорбно кивнул:
— Откуда? Из города или с планеты?
Я пожал плечами.
Его Величество поднялся и прошествовал к окну моего маленького кабинета, из которого открывался вид на кирпичную стену регенерационного завода-автомата. Некоторое время он изучал этот пейзаж и наконец спросил:
— Вам не приходилось слышать древнюю легенду о Шрайке?
— Только отрывки.
— Туземцы связывают это чудовище с Гробницами Времени.
— Туземцы курят нерекомбинированный табак и мажут пузо краской, когда справляют праздник урожая.
Король Билли кивнул, признавая мудрость этих слов, и произнес:
— Первая исследовательская экспедиция Гегемонии вела себя здесь очень осторожно. Главную базу они разместили к югу от Уздечки, а здесь оставили только многоканальные самописцы.
— Я не понимаю, Ваше Величество, чего вы хотите? Отпущения грехов? Да, действительно, место для города выбрано неудачно. Ну и ладушки. Ступайте, сын мой, и больше не грешите. Отпускаются вам грехи ваши. А теперь, Ваше Королевское Величество, если вы не возражаете — adios. У меня на языке крутится парочка смачных лимериков, которые обязательно нужно записать.
— Так вы, Мартин, рекомендуете эвакуировать город? — спросил король, не отводя взгляда от окна.
Я колебался лишь секунду:
— Конечно.
— А сами-то вы уедете?
— Почему бы и нет?
Король Билли повернулся и посмотрел мне в глаза:
— И все-таки вы уедете?
Я помолчал, потом не выдержал и отвел взгляд.
— Так я и думал, — сказал правитель планеты. Сцепив свои пухлые руки за спиной, он снова уставился в окно. — Будь я детективом, — продолжил он, — я бы насторожился. Самый большой творческий неудачник нашего города после десятилетнего молчания берется за перо, причем всего… вы что-то сказали, Мартин?.. всего через два дня после первых убийств. Он совершенно оставляет общественную жизнь, в которой доселе играл весьма заметную роль, корпит над эпической поэмой… тихоня этакий, и даже юные девы не опасаются более его козлиной похоти.
Я вздохнул:
— Козлиной похоти, государь?
Король Билли оглянулся.
— Хорошо, — сказал я. — Вы изобличили меня. Признаюсь. Я убивал и купался в их крови. Это обалденно стимулирует творческую потенцию. Я думаю, еще две… нет, пожалуй, три сотни жертв… и моя новая книга будет готова.
Король Билли отвернулся и вновь уставился в окно.
— В чем дело, — спросил я, — вы мне не верите?
— Нет, не верю.
— Почему же?
— А потому, — ответил король, — что знаю настоящего убийцу.
* * *
Мы сидели в затемненной нише и смотрели, как Шрайк убивает романистку Сиру Роб и ее любовника. Света было маловато: из-за этого казалось, что слегка перезревшая плоть Сиры тускло фосфоресцирует, а белые ягодицы ее куда более юного приятеля словно бы плавают в полумраке спальни, отдельно от его загорелого тела. Их любовный акт достиг своего апогея, как вдруг произошло нечто необъяснимое. Юноша, уже готовый замереть перед оргазмом, внезапно взлетел в воздух, как будто Сира непонятным образом вытолкнула его из себя. Звуковая дорожка на диске, воспроизводившая до этого обычные стоны, вздохи, всхлипы и неизбежные при такого рода занятиях указания, неожиданно наполнила нишу криком. Сначала закричал он. Потом она.
Изображение покачнулось — это тело юноши ударилось о стену рядом с камерой. Сира лежала в позе трагикомической незащищенности: ноги широко раздвинуты, руки раскинуты в стороны, груди примяты, бедра белеют в темноте. В ожидании экстаза она запрокинула было голову, но время шло, и когда она снова приподняла ее, потрясение и злость на ее лице сменили до странности похожую на них гримасу. Она открыла рот, собираясь закричать.
Но крика не последовало. Вместо него послышался звук, похожий на хруст разрезаемого арбуза: с таким звуком лезвие проходит сквозь плоть, серп рассекает сухожилия и кости. Голова Сиры откинулась назад, рот раскрылся невероятно широко… и ее тело ниже грудины буквально взорвалось, а затем разошлось, словно разрубленное незримым топором. Затем вступили в дело невидимые скальпели, и на коже появились поперечные разрезы. Казалось, мы просматриваем в ускоренном темпе заснятую скрытой камерой операцию хирурга-маньяка. Это было жестокое вскрытие, ибо совершалось оно на живом человеке. Впрочем, нет, уже не на живом. Как только иссяк поток крови и прекратились конвульсии, руки и ноги Сиры безвольно раскинулись и застыли, выставив напоказ омерзительную груду внутренностей. И вдруг, на какую-то долю секунды, рядом с кроватью возникло нечеткое красное пятно, отливающее металлическим блеском.
— Стоп! — приказал король домашнему компьютеру. — Крупнее! Контраст!
Пятно стало четче, и мы увидели голову существа, которое может привидеться разве что в наркотическом кошмаре: лицо из стали, хрома и кости; пасть — как у помеси волка с экскаватором, глаза, как рубиновые лазеры, сверкающие сквозь кроваво-красные самоцветы; из переливающегося ртутного лба торчит кривой тридцатисантиметровый клинок; такие же шипы воротником окружают шею.
— Шрайк? — спросил я.
Король Билли кивнул. Точнее, шевельнул подбородком.
— А что с мальчишкой? — спросил я.
— Нашли только тело Сиры, — ответил король. — Его хватились, когда обнаружили вот этот диск. Оказалось, какой-то специалист по развлечениям из Эндимиона.
— Голограмму нашли недавно?
— Вчера. Служба безопасности осматривала спальню и на потолке обнаружила камеру. Совсем маленькую — меньше миллиметра. У Сиры была целая библиотека подобных записей. Очевидно, она использовала камеру только для того, чтобы увековечивать свои…
— Постельные безумства, — подсказал я.
— Именно.
Я встал и подошел к плавающему в воздухе изображению чудовища. Провел рукой сквозь его лоб, шипы, челюсти. Компьютер рассчитал величину этого создания и дал его в реальном масштабе. Судя по размерам черепа, наш местный Грендель был более трех метров ростом.
— Шрайк, — пробормотал я, скорее приветствуя его, чем называя по имени.
— Ну, Мартин, что вы можете о нем сказать?
Я вскинулся:
— Почему вы спрашиваете у меня? Я поэт, а не мифоисторик.
— Вы обращались к компьютеру «ковчега» с запросом относительно происхождения и природы Шрайка.
Я приподнял бровь. Всегда считалось, что обращение к корабельному компьютеру остается анонимным и конфиденциальным — как подключение к инфосфере Гегемонии. Дело это сугубо личное, и анонимность гарантируется.
— Ну и что, — парировал я. — С тех пор как начались убийства, наверняка уже сотни людей интересовались легендой о Шрайке. Может быть, даже тысячи. Потому что кроме этой единственной легенды мы не знаем о нем ни хера.
— Совершенно верно, — король весь сморщился, — но вы-то полезли в эти файлы за три месяца до первого инцидента.
Я вздохнул и снова плюхнулся на подушки.
— Да, я запрашивал эти файлы. Да, я читал эту блядскую легенду. Ну и что? Я хотел использовать ее в своей поэме. Арестовать меня теперь, что ли?
— И что вы узнали?
Вот тут я разозлился всерьез. Даже топнул копытом по ковру.
— Только то, что было в этих сраных файлах. И вообще, Билли, какого черта вам от меня нужно?
Король потер бровь и замигал, так как случайно задел мизинцем глаз.
— Не знаю, — сказал он. — Служба безопасности хотела забрать вас на корабль и устроить допрос третьей степени с полным интерфейсом. Но я решил поговорить с вами сам.
Я заморгал, испытывя странное чувство невесомости в желудке. Допрос с полным интерфейсом — это кортикальные зонды и черепные разъемы. Почти все допрошенные подобным способом со временем опять становятся нормальными людьми. Почти все.
— Не могли бы вы рассказать мне, какие именно аспекты легенды вы собирались отразить в поэме? — мягко спросил король Билли.
— Разумеется, — ответил я. — Согласно основной доктрине культа Шрайка, возникшего у здешних туземцев, Шрайк есть Повелитель Боли и Ангел Окончательного Искупления. И придет он из места, находящегося вне времени, дабы возвестить о конце человечества. Мне понравился этот причудливый образ.
— О конце человечества? — повторил за мной король Билли.
— Ага, — ответил я. — Он архангел Михаил, Морони, Сатана, Мировая энтропия и чудовище Франкенштейна в одной упаковке. Он околачивается вокруг Гробниц Времени и ждет своего часа, чтобы выйти на сцену и вписать своей колючей рукой человечество в хит-парад вымерших видов — вслед за дронтом, гориллой и кашалотом.
— Чудовище Франкенштейна, — задумчиво пробормотал пухленький коротышка в помятой мантии. — При чем тут Франкенштейн?
Я перевел дыхание.
— Дело в том, что поклонники Шрайка считают, что человечество каким-то образом само его создало. (Король Билли, насколько мне известно, и сам это знал. Он много чего знал.)
— А они знают, как его уничтожить?
— Понятия не имею. Считается, что он бессмертен, потому что пребывает вне времени.
— Бог?
Я замялся.
— Вряд ли, — произнес я наконец. — Скорее, он некое концентрированное воплощение наших кошмаров. Что-то вроде старухи с косой, только в отличие от нее он имеет обыкновение нанизывать людские душонки на ветви гигантского дерева, утыканного шипами… конечно, вместе с телами.
Король Билли молча кивнул.
— Послушайте, — сказал я. — Раз уж вы так любите копаться в теологиях отсталых миров, почему бы вам не слетать в Джектаун и не расспросить жрецов культа?
— Да-да, — рассеянно произнес король, подперев подбородок кулачком. — Хотя нет, их ведь уже допрашивали на корабле. И это еще больше все запутало.
Я поднялся, собираясь уйти (хотя и не был уверен, что мне это позволят).
— Мартин.
— Угу.
— Быть может, вы вспомните что-нибудь еще? Что-нибудь такое, что помогло бы нам понять это существо?
Я остановился в дверном проеме. Сердце у меня колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит наружу.
— Да, — выговорил я наконец срывающимся голосом. — Я знаю, что такое Шрайк.
— Да?
— Он моя муза, — сказал я, развернулся и пошел к себе в кабинет писать.
Конечно, это я вызвал Шрайка. Я знал это. Я стал писать о нем — и он явился. Поистине, в начале было Слово.
Я переименовал свою поэму в «Песни Гипериона». Речь в ней шла вовсе не о планете, но о гибели самозваных титанов, именуемых людьми. О невероятном самомнении расы, бездумно уничтожившей свой собственный дом, а затем, в преступной гордыне своей, устремившейся покорять звезды, но лишь затем, чтобы вызвать гнев божества, ею же и порожденного. «Гиперион» был моей первой за долгие годы серьезной вещью, и ничего лучшего я уже не напишу. То, что начиналось как комически-серьезная попытка воскресить дух Джона Китса, стало последним оправданием моей жизни, доказательством того, что в наш век жалкого фарса не иссякла еще эпическая мощь. Чисто технически «Песни Гипериона» были написаны на таком уровне, с таким мастерством, о каком я и мечтать не мог, но голос, певший эту песнь, принадлежал не мне. Я писал о гибели человечества. А потому моей музой стал Шрайк.
Погибло еще человек двадцать, прежде чем король Билли решил эвакуировать Град Поэтов. Кое-кто уехал в Эндимион, Китс и другие новые города, но большинство проголосовало за то, чтобы вернуться на «ковчегах» в Сеть. Мечта короля Билли об идеальном городе творцов умерла, хотя сам он не уехал — остался в своем мрачном дворце в Китсе. Власть в колонии перешла в руки Комитета местного самоуправления, который первым делом направил петицию о приеме в Гегемонию и организовал Силы Самообороны. ССО (набранные преимущественно из тех самых туземцев, которые еще десять лет назад дубасили друг друга дубинками, и подчинявшиеся самозваным офицерам из числа таких же туземцев) преуспели лишь в одном: отныне мирную ночную тишину то и дело разрывал рев патрульных скиммеров, а самоходки наблюдательных отрядов совершенно испохабили прелестный ландшафт наступающей на город пустыни.
К моему удивлению, не только я отказался покинуть город: осталось не менее двухсот человек. Общение между нами свелось к минимуму — обмену вежливыми улыбками во время прогулок по Бульвару Поэтов или за трапезой в гулкой пустоте обеденного купола (каждый садился за свой столик).
Убийства продолжались. В среднем раз в две местные недели кто-нибудь погибал или исчезал. Трупы обычно обнаруживали не мы, а местный командир ССО, который в конце концов потребовал, чтобы мы регулярно пересчитывали друг друга по головам.
Как ни странно, ярче всего мне запомнилась в этом году именно массовая сцена. Вечером мы собрались на Площади, чтобы проводить последний «ковчег». Осенний звездопад был в самом разгаре, и ночное небо Гипериона горело золотыми зигзагами и алыми росчерками. Но вот включились двигатели — словно вспыхнуло маленькое солнце… Целый час мы следили, как исчезает в небесных глубинах огненный хвост корабля… а вместе с ним и наши собратья по искусству. В тот вечер с нами был и Печальный Король Билли. Направляясь к своему изукрашенному экипажу, который должен был увезти его в безопасный Китс, он остановился и отыскал меня взглядом. Как он смотрел на меня тогда!
На протяжении последующих десяти лет я покидал город раз пять: в первый раз — чтобы найти биоскульптора и избавиться от внешности сатира, потом лишь для приобретения провизии и прочих припасов. К тому времени Святилище возобновило паломничества к Шрайку, и в своих путешествиях я мог пользоваться этой столбовой дорогой к смерти, только наоборот: пешком до Башни Хроноса, в вагончике подвесной дороги через Уздечку, дальше ветровозом и, наконец, на барже, именуемой «Ладьей Харона», по реке Хулай. На обратном пути я рассматривал паломников и гадал, кто из них останется в живых.
Мало кто посещал Град Поэтов. Его недостроенные башни начали рассыпаться, превращаясь в груды развалин. Галереи с великолепными куполами из стекла и металла и крытые аркады зарастали диким виноградом, огневник и нож-трава пробивались сквозь каменные плиты мостовых. ССО внесли в этот хаос свою скромную лепту, установив по всему городу мины-ловушки против Шрайка, но добились только одного — окончательно разрушили некогда прекрасные городские кварталы. Ирригационная система пришла в негодность. Акведук обвалился. К городу подползала пустыня. Я жил в покинутом дворце короля Билли: менял комнату за комнатой, работал над поэмой и ждал свою музу.
Когда я задумываюсь над всем этим, цепочка причин и следствий замыкается в порочный круг, в некую безумную логическую конструкцию, напоминающую гравюры Эшера или построения Каролюса, этого художника инфосетей. Шрайк возник благодаря заклинанию, роль которого сыграла моя поэма, но при этом сама она не могла бы явиться на свет без помощи моей грозной четверорукой музы. Возможно, в те дни у меня слегка поехала крыша.
За десяток лет смерть, играя в орлянку, очистила город от дилетантов, и наконец в нем остались только Шрайк и я. Ежегодная процессия паломников к Гробницам Времени, пересекавшая в отдалении пустыню, раздражала меня, но не слишком. Порою кое-кто возвращался назад, и я провожал взглядом крохотные фигурки, бредущие по киноварно-красному песку на юго-запад. Так им предстояло идти еще двадцать километров, до самой Башни Хроноса. Но обычно никто не возвращался.
Тени города приняли меня в свою компанию. Мои шевелюра и борода отросли настолько, что закрывали собой лохмотья, в которые превратилась моя одежда. Из дома я выходил обычно по ночам и бродил среди развалин, как пугливый призрак, нет-нет да и поглядывая на освещенную башню дворца, подобно Давиду Юму, который заглядывал во все окна своего дома, дабы удостовериться, что его самого дома нет. Я так и не перетащил пищевой синтезатор из обеденного зала в свою конуру, ибо предпочитал обедать в гулкой тишине под растрескавшимся куполом, словно безмозглый элой, спешащий насытиться перед неизбежной встречей с морлоком.
Шрайка я никогда не встречал. По ночам, перед самым рассветом, я часто просыпался от внезапного звука — не то песок скрипел под чьей-то ногой, не то металл царапал по камню. Я постоянно чувствовал, что за мной наблюдают, но увидеть наблюдателя мне так и не удалось.
Иногда я отправлялся к Гробницам Времени. Чтобы избежать мягких, но порою весьма ощутимых ударов антиэнтропийного прилива, я выходил по ночам и прогуливался меж причудливых теней под крыльями Сфинкса или любовался звездами сквозь изумрудную стену Нефритовой Гробницы. И вот однажды, вернувшись после очередной такой вылазки, я обнаружил у себя в кабинете незваного гостя.
— Впечатляюще, М-М-Мартин, — сказал Билли Печальный, барабаня пальцами по одной из многочисленных стопок рукописей, разбросанных по комнате. Король-недотепа, восседавший сейчас за длинным столом, буквально утонул в кресле и казался как никогда обрюзгшим и постаревшим. Судя по всему, он провел за чтением несколько часов. — Вы д-д-действительно полагаете, что человечество з-з-заслуживает такого конца? — мягко спросил он. (Десять лет я не слышал, как он заикается!)
Я отошел от двери, но не ответил. Более двадцати лет Билли был моим другом и покровителем, но сейчас мне хотелось убить его. Мысль о том, что кто-то читает «Гиперион» без разрешения, привела меня в ярость.
— Вы д-д-датируете свои с-с-с… песни? — спросил король Билли, перебирая последнюю стопку исписанных страниц.
— Как вы сюда попали? — выпалил я.
Вопрос был отнюдь не праздный. В последние годы скиммеры, десантные челноки и вертолеты неоднократно пытались проникнуть в район Гробниц Времени, но безуспешно. Машины прибывали на место, но без пассажиров. И это сильно укрепляло веру в миф о Шрайке.
Коротышка в помятой мантии пожал плечами. Наряд, замышлявшийся как нечто королевски великолепное, делал его похожим на растолстевшего арлекина.
— До Башни Хроноса я шел с последним караваном паломников. А оттуда с-с-свернул к вам. Послушайте, М-Мартин, вы уже много месяцев н-ничего не пишете. Почему?
Я сердито взглянул на него и стал молча придвигаться к столу.
— Возможно, я смогу объяснить, в чем тут дело, — сказал король Билли. И он посмотрел на последнюю законченную страницу «Гипериона» с таким видом, словно там содержался ответ на долго мучившую его загадку. — Последние строфы написаны в прошлом году, в те самые дни, когда исчез Дж. Т. Телио.
— Ну и что? — Сейчас я был уже у дальнего конца стола. Как бы машинально я пододвинул к себе невысокую стопку исписанных страниц. Теперь Билли не мог до нее дотянуться.
— А то, что, п-п-по сводкам ССО, это был последний житель Града Поэтов, — сказал он. — Точнее, п-п-предпоследний. Вы-то живы, Мартин.
Я пожал плечами и начал обходить стол. Я хотел подобраться как можно ближе к Билли, но так, чтобы он не догадался, что мне нужно.
— А знаете ли, М-Мартин, вы ведь не з-з-закончили еще эту вещь, — произнес он глубоким, печальным голосом. — Так что у человечества остался н-неболышой шанс пережить Падение…
— Нет, — ответил я, подкрадываясь ближе.
— Но ведь вы не можете писать ее, не так ли, Мартин? Вы не можете с-с-сочинять стихи, пока ваша м-м-муза не искупается в крови, не так ли?
— Дерьмо собачье, — сказал я.
— Возможно. Но совпадение поразительное. Вы никогда не задумывались, М-Мартин, почему Он пощадил именно вас?
Я пожал плечами и отодвинул от него еще одну пачку. Я был выше, сильнее и решительнее, чем Билли. Но я должен быть уверен, что он не прихватит с собой рукопись, когда я стащу его со стула и вышвырну вон.
— Н-нам нужно раз и навсегда п-покончить с этим, — сказал мой покровитель.
— Нет, — сказал я, — это вам нужно отправиться куда подальше.
Одним движением отбросив в сторону последнюю стопку страниц, я угрожающе поднял руки (с удивлением обнаружив в одной из них бронзовый подсвечник).
— Не двигайтесь, пожалуйста, — негромко произнес король Билли, и в руках у него оказался нейростаннер.
Я замер лишь на секунду. Потом расхохотался:
— Не бери меня на пушку, ты, трепло несчастное. Да у тебя духу не хватит выстрелить, даже чтобы спасти свою шкуру.
И я шагнул вперед. Я хотел избить его и вышвырнуть вон.
Щеку холодил камень, и, уловив краем глаза сияние звезд в проломах решетчатого купола галереи, я понял, что лежу во внутреннем дворике. Моргнуть я не мог. По окаменевшему телу бегали мурашки, как будто я отоспал его и теперь, после болезненного пробуждения, к нему возвращается чувствительность. Из горла рвался крик, но челюсти и язык были как чужие. Внезапно меня подняли и прислонили к каменной скамье. Теперь я мог видеть двор и бездействующий фонтан, сооруженный по проекту Рифмера Корбе. В мерцающем свете предрассветного звездопада бронзовый Лаокоон боролся с бронзовыми змеями.
— Из-з-з-звини, Мартин, — произнес знакомый голос, — но этому с-с-сумасшествию нужно положить конец.
В поле моего зрения появился король Билли с большой пачкой бумаги в руках. Остальные кипы исписанных страниц лежали на бортике фонтана у ног металлического троянца. А рядом стояла открытая канистра с керосином.
Кое-как мне удалось моргнуть. Веки точно заржавели.
— Паралич пройдет ч-ч-через минуту-другую, — успокоил меня король Билли. Он спустился в чашу фонтана, поднял пачку рукописей и щелкнул зажигалкой.
— Нет! — выдавил я сквозь сведенные судорогой челюсти.
Языки пламени плясали недолго. Дождавшись, когда последний комок пепла упадет в фонтан, король Билли поднял следующую пачку и свернул ее в трубку. При свете пламени я увидел как по его щекам катятся слезы.
— Это вы все нат-т-творили, — задыхаясь, выговорил он. — Так вот, пора этому положить конец.
Собрав все свои силы, я попытался встать. Руки и ноги дергались как у марионетки, управляемой неумелой рукой. Боль была кошмарная. Я снова закричал, и этот отчаянный вопль, отражаясь от мрамора и гранита, заметался по двору.
Король Билли поднял толстую пачку, помедлил немного и начал читать вслух верхнюю страницу:
…искал напрасно я опору Бессильной бренности своей, когда на плечи Покоя вечного легла мне тяжесть. Тот сумрак неизменный и три недвижные фигуры Мои терзали чувства долгий месяц. Пылающий мой разум измерял Серебряной Селены превращенья, И с каждым днем я походил все боле На бестелесный призрак. Молил я смерть Об избавленье от плена тяжкого Юдоли этой… И, задыхаясь в ожиданье тщетном, Судьбу свою бессчетно проклинал.[26]Подняв лицо к звездам, король Билли предал эту страницу огню.
— Нет! — прохрипел я и невероятным усилием заставил ноги согнуться. Встав на одно колено, я попытался опереться на ватную руку, но тут же повалился на бок.
Черный силуэт в королевской мантии поднял еще одну пачку — слишком толстую, чтобы свернуть ее в трубку, — и стал читать еле видимые в темноте строки:
…и я лицо увидел, Людской не тронутое скорбью, но с печатью Неизгладимою тоски извечной, что убивает И убить не может, которой Смерть сама Не в силах положить конец; черта любая В нем гибель призывала. Белизной и хладом Оно превосходило и лилии, и снег, но эту грань Мой разум преступить не смеет…[27]Щелчок зажигалки — и еще полсотни страниц полыхают огнем. Король бросил горящие листы в чашу фонтана и потянулся за следующей пачкой.
— Не надо! — Всхлипнув, я выбросил тело вверх и, изо всех сил напрягая ноги, чтобы одолеть сумятицу нервных импульсов, привалился к скамье. — У-мо-ляю!
И тут на сцене появилось новое действующее лицо. Нет, не появилось — встряхнуло мои мозги, чтобы я наконец обратил на него внимание. Казалось, он был здесь и раньше, но ни я, ни король Билли просто не замечали его, пока пламя не разгорелось ярче. Невероятно высокий, четверорукий, покрытый сверкающим панцирем, Шрайк устремил на нас свой огненный взгляд.
Король Билли шумно вздохнул и отступил было на шаг, но затем снова двинулся вперед, чтобы бросить в огонь очередную порцию рукописей. Тлеющий пепел вместе с дымом уносился вверх. С полуразрушенного купола, увитого диким виноградом, сорвалась стая голубей. Хлопанье их крыльев прозвучало, как выстрелы.
Я шагнул за королем и едва не упал. Но Шрайк даже не шелохнулся, даже глазом не повел.
— Убирайся! — закричал король Билли. Он уже не заикался. Он стоял, держа в руках кипы горящих листов, и кричал срывающимся голосом: — Убирайся! Убирайся в бездну, которая тебя породила!
Мне показалось, что Шрайк чуть наклонил голову. Алые отблески пламени играли на металлических гранях его тела.
— Мой повелитель! — выкрикнул я, но кому были адресованы эти слова, королю Билли или сверкающему исчадию ада, я и сам тогда не знал и не знаю до сих пор. С трудом сделав несколько шагов, я попытался схватить Билли за руку.
Но на прежнем месте его уже не было. Секунду назад я мог бы коснуться его рукой, а сейчас он висел в воздухе над каменными плитами двора, метрах в десяти от меня. Пальцы чудовища, словно стальные шипы, пронзили его руки, грудь, бедра, но, корчась от боли, король по-прежнему сжимал в кулаках горящие страницы «Песней». Шрайк держал его перед собой, как отец, поднявший сына над крестильной купелью.
— Уничтожь! — кричал Билли, беспомощно дергая проколотыми руками. — Уничтожь!
Я остановился у края фонтана и оперся на парапет. Что я должен уничтожить? Шрайка? Потом я решил, что он имел в виду поэму… И наконец до меня дошло: и то, и другое. Кучи рукописей — не менее тысячи страниц — лежали на дне фонтана. Я поднял канистру.
Шрайк не сдвинулся с места, а в следующее мгновение он едва заметным плавным движением прижал короля Билли к своей груди. Билли скорчился от боли и слабо вскрикнул, когда длинный стальной шип, разорвав его аляповатый шелковый наряд, вышел над самой грудной костью. Я тупо уставился на него и почему-то вспомнил коллекцию бабочек, которую собирал в детстве. Потом медленно и неуклюже, как автомат, принялся поливать рукописи керосином.
— Сожги их, Мартин! — задыхаясь, хрипел король Билли. — Ради Бога, сожги!
Я подобрал выроненную им зажигалку. Шрайк не двигался. По королевской мантии, сливаясь с алыми квадратами узора, расползались пятна крови. Я щелкнул древним устройством раз, другой, третий, но пламени не было — только искры летели. Сквозь слезы я смотрел на труд своей жизни, сваленный кучей на дне пыльного фонтана. Зажигалка выпала из моих рук.
Билли закричал и забился в объятиях Шрайка. Я слышал, как сталь со скрежетом прошла по кости.
— Сожги! — хрипел король. — Мартин… О Боже!
Я развернулся, пятью быстрыми шагами преодолел разделявшее нас расстояние и выплеснул полканистры. От керосиновой вони у меня хлынули слезы. Билли и чудовище, державшее его, намокли и выглядели теперь как два комика из старого голобурлеска. Билли моргал и кричал что-то бессвязное, на граненой морде Шрайка отражалось расцвеченное метеорами небо, и в этот момент одна из искр от тлеющих страниц, которые Билли все еще сжимал в руках, попала на керосин.
Я прикрыл лицо руками (поздно — бороду и брови опалило) и стал отступать, пока не уперся в парапет фонтана.
На мгновение этот костер превратился в поразительное огненное изваяние — желто-голубую Pieta[28] с четверорукой мадонной, держащей перед собой тело Христа. Затем объятая огнем фигура скорчилась и выгнулась дугой, словно ее не пронзали стальные шипы и два десятка скальпелеобразных пальцев, и раздался крик, такой крик… До сего дня не могу поверить, что он исходил от человеческой половины этой слившейся в смертельном объятии пары. Крик этот швырнул меня на колени. Тысячекратно отраженный от каменных стен, он возвращался ко мне снова и снова, поднимая в воздух голубей со всего города. Крик не прекратился и после того, как пылающее видение разом пропало, не оставив после себя ни кучки пепла на земле, ни пятнышка на сетчатке. Прошла еще минута или две, прежде чем до меня дошло: теперь кричу я сам.
Все пошло прахом, как, впрочем, и следовало ожидать. В реальной жизни хорошие концовки случаются редко.
Несколько месяцев, а может, и целый год, я переписывал испорченные керосином страницы и восстанавливал сгоревшие. Вряд ли вы удивитесь, узнав, что поэму я так и не закончил. И дело тут не во мне. Моя муза ушла.
Град Поэтов дряхлел и разрушался. Я прожил там еще год или два — возможно, и все пять. Право, не помню. Тогда я был малость того. Доныне сохранились записи первых паломников, повествующие об изможденном, оборванном, заросшем бородою человеке с безумными глазами, который нарушал их гефсиманский сон непристойными выкриками. Этот помешанный постоянно околачивался возле Гробниц и, потрясая кулаками, требовал, чтобы трусливая тварь, прячущаяся внутри, вышла к нему.
В конце концов безумие выгорело само, хотя угли его тлеют до сих пор. Протопав пешком полторы тысячи километров, я вернулся в цивилизацию. С собой я унес только рукопись. В пути я ловил скальных угрей, ел снег; последние десять дней и вовсе голодал.
Прошедшие с тех пор двести пятьдесят лет, право же, не заслуживают ни воскрешения, ни тем более вашего внимания. Поульсенизации, чтобы дать инструменту возможность жить дальше и ждать своего часа. Две длительные заморозки в нелегальных субсветовых полетах, поглотивших по сотне с лишком лет каждая. И каждая взимала свою дань клетками мозга, памятью.
И все это время я ждал. И жду до сих пор. Поэма должна быть закончена. И она будет закончена.
В начале было Слово.
В конце… былая слава, былая жизнь, былые порывы…
В конце будет Слово.
ЧАСТЬ IV
«Бенарес» достиг Эджа на следующий день, немного позже полудня. Одна из мант умерла прямо в упряжи, не дотянув до места назначения километров двадцать; Беттик не стал ее выпрягать, просто перерезал постромки. Другая продержалась до тех пор, пока они не ошвартовались у выцветшего старого пирса, — здесь она вдруг распласталась в изнеможении, и лишь пузырьки воздуха, поднимавшиеся из дыхал, показывали, что она еще жива. Беттик приказал выпрячь ее и выпустить в реку, объяснив, что в проточной воде у загнанного животного еще есть шансы выжить.
Проснувшиеся на рассвете паломники любовались разворачивающимся перед ними пейзажем. Разговаривали они мало, а Мартина Силена попросту старались не замечать. Поэта, впрочем, это ничуть не огорчало… Запив вином свой завтрак, он приветствовал восход солнца парочкой непристойных песен. За ночь река расширилась до двух километров и представляла теперь собой огромную тускло-синюю дорогу, прорезавшую невысокие холмы к югу от Травяного моря. Здесь, на подступах к морю, деревья исчезли, а коричневато-золотистый вересковник мало-помалу сменили двухметровые ярко-зеленые северные травы. Холмы становились все ниже, пока не исчезли совсем, и по обеим сторонам реки теперь тянулись густо поросшие травой обрывистые берега. На севере и востоке над горизонтом повисла едва заметная темная полоска, и тем паломникам, которые жили прежде на планетах с океанами и знали, что эта густая синева говорит о близости моря, то и дело приходилось напоминать себе, что единственное в этих краях море представляет собой несколько миллиардов акров травы.
Крупным аванпостом Эдж никогда не был, теперь же он и вовсе опустел. Два десятка домов, стоявших по бокам ухабистой дороги, которая поднималась от пристани, пялились пустыми глазницами окон, и, судя по всему, население бежало отсюда еще несколько недель тому назад. Гостиница «Приют Паломника», почти три столетия простоявшая на склоне холма, сгорела.
Беттик повел паломников на вершину берегового утеса.
— Куда вы теперь? — спросил андроида полковник Кассад.
— По условиям, на которых мы служим Церкви, после рейса на север мы получаем свободу, — ответил Беттик. — «Бенарес» мы оставим здесь, чтобы вам было на чем вернуться, а сами отправимся вниз по реке на катере. А потом двинемся дальше.
— Эвакуируетесь вместе со всеми? — спросила Ламия Брон.
— Нет. — Беттик улыбнулся. — У нас на Гиперионе свои дела и свои пути.
Незаметно для себя они выбрались на скругленный гребень. Стоящий у ветхой пристани «Бенарес» казался отсюда совсем маленьким; река Хулай убегала на юго-запад и скрывалась в голубой дымке. Выше города она резко сворачивала на запад и, постепенно сужаясь, через какой-то десяток километров упиралась в непроходимые Нижние Пороги. А с севера и востока к Эджу почти вплотную подступало Травяное море.
— Боже мой, — выдохнула Ламия Брон.
Казалось, они взошли на последнюю вершину Мироздания. За разбросанными внизу причалами, верфями и доками кончался Эдж и начиналось море. Трава уходила в бесконечность, отзываясь даже на легкий ветерок мелкой рябью и накатываясь зеленым прибоем на обрывистый берег. Поразительно ровная, без единой морщинки поверхность простиралась к горизонту и казалась неизменной и нескончаемой. И ни малейших признаков горных вершин Уздечки, которая лежала на северо-востоке, примерно в восьми сотнях километров отсюда. Иллюзия, что перед паломниками огромное зеленое море, была почти полной, даже верхушки колеблемых ветром стеблей казались белыми гребешками волн, бегущих к берегу.
— Как красиво! — воскликнула Ламия, впервые видевшая эту картину.
— На рассвете и закате еще красивее, — отозвался Консул.
— Чудесно, — пробормотал Сол Вайнтрауб, поднимая дочку так, чтобы и та могла посмотреть. Девочка задрыгала ножками от удовольствия и принялась сосредоточенно рассматривать свои пальчики.
— Отлично сохранившаяся экосистема, — одобрительно сказал Хет Мастин. — Мюир был бы доволен.
— Вот же гадство! — вдруг воскликнул Мартин Силен.
Все обернулись к нему.
— Ветровоза-то нет, — пояснил поэт и выругался.
Его спутники молча оглядели заброшенные причалы и пустынную равнину.
— Наверное, задержался, — сказал Консул.
Мартин Силен отрывисто рассмеялся.
— Или уже укатил. Ведь предполагалось, что мы прибудем сюда вчера вечером.
Полковник Кассад поднял свой электронный бинокль и внимательно осмотрел горизонт.
— Нет, вряд ли они ушли бы без нас, — задумчиво проговорил он. — Ведь ветровоз должны были направить сюда сами жрецы Святилища, а они кровно заинтересованы в нашем паломничестве.
— Можно пойти пешком, — предложил Ленар Хойт. Священник посерел от боли (а может, и от наркотиков тоже) и едва держался на ногах, не говоря уж о том, чтобы идти куда-то.
— Нет, — сказал Кассад. — Мы утонем в этой траве с головой, а пройти надо несколько сот километров.
— Компас… — начал было священник.
— На Гиперионе компасы не действуют, — возразил Кассад, все еще глядевший в бинокль.
— Ну, тогда указатель курса, — не сдавался Хойт.
— УК у нас есть, но дело не только в этом, — вмешался Консул. — Трава очень острая. Через полкилометра на нас живого места не останется.
— А еще здесь водятся травяные змеи. — Кассад опустил наконец бинокль. — Это и в самом деле отлично сохранившаяся экосистема, но для прогулок она не предназначена.
Отец Хойт вздохнул и тяжело опустился на землю, поросшую короткой травкой. Что-то весьма похожее на облегчение прозвучало в его голосе, когда он сказал:
— Ну что ж, тогда поехали обратно.
А. Беттик сделал шаг вперед:
— Команда будет счастлива отвезти вас на «Бенаресе» назад в Китс. Мы охотно подождем.
— Нет, — сказал Консул, — берите катер и возвращайтесь.
— Эй, минутку, черт бы вас побрал! — крикнул Мартин Силен. — Я что-то не припомню, чтобы мы выбирали вас диктатором, любезный. Нам необходимо добраться до места, и если этот дурацкий ветровоз так и не придет, нам придется изыскивать какой-то другой способ.
Консул резко повернулся к нему.
— Какой? Морем? Нам понадобится две недели, чтобы подняться вдоль Гривы и, обогнув Северную Луку, попасть в Оттон[29] или в какой-нибудь другой пост на побережье. Да еще неизвестно, сумеем ли мы достать корабль. Морские суда на Гиперионе скорее всего заняты эвакуацией.
— Ну тогда дирижабль, — буркнул поэт.
Ламия Брон рассмеялась.
— Ну конечно! Правда, за те два дня, что мы плыли по реке, я почему-то не заметила ни одного дирижабля. А вы?
Сжав кулаки, Мартин Силен резко повернулся к ней, словно хотел ее ударить. Затем улыбнулся.
— Ладно, леди! Что же нам все-таки предпринять? Может, если пожертвовать кого-нибудь из нас травяным змеям, боги транспортировки сжалятся над нами?
Ламия Брон бросила на него ледяной взгляд:
— А мне казалось, коротышка, что своих жертв ты предпочитаешь поджаривать.
Полковник Кассад встал между ними.
— Хватит, — резко скомандовал он. — Консул прав. Мы останемся здесь и будем ждать ветровоза. Господин Мастин и госпожа Брон пойдут с Беттиком проследить за разгрузкой наших вещей. Отец Хойт и господин Силен принесут хворост для костра.
— Для костра? — удивился священник. И в самом деле, на вершине холма было довольно жарко.
— Скоро стемнеет, — ответил Кассад. — Надо, чтобы на ветровозе знали, что мы здесь. А теперь за дело.
Никто не проронил ни слова, когда на закате катер отдал швартовы и двинулся вниз по реке. Даже отсюда, с двухкилометрового расстояния, Консулу была видна синяя кожа андроидов. Замерший у причала «Бенарес» как-то разом потускнел и обветшал, став частью покинутого города. Когда катер скрылся вдали, все повернулись к Травяному морю. Длинные тени речных холмов уже накрыли ту его часть, которую Консул мысленно называл для себя отмелью. По мере удаления от берега море меняло свой цвет: мерцавшая аквамарином трава постепенно темнела, наливаясь густой зеленью. По лазурному небу заструились яркие краски заката, позолотившего макушку холма и окутавшего паломников своим мягким, теплым светом. Тишину нарушал лишь шелест травы.
— У нас чертовски много багажа, — громко сказал Мартин Силен. — Можно подумать, нам предстоит возвращаться!..
«Это верно», — подумал Консул. Гора чемоданов на вершине холма выглядела весьма внушительно.
— Где-то там, — раздался тихий голос Хета Мастина, — мы, возможно, обретем спасение.
— Что вы имеете в виду? — спросила Ламия Брон.
— Да, правда, — произнес Мартин Силен, лежавший на спине, закинув руки за голову, и мечтательно глядевший в небо. — Вы, случайно, не захватили с собой парочку противошрайковых подштанников?
Тамплиер покачал головой. В наступивших сумерках его лицо окончательно поглотила тень капюшона.
— Хватит прятаться за пошлой пикировкой, — сказал он. — Мне кажется, пора признать, что каждый из нас захватил в это паломничество нечто такое, благодаря чему — он или она — надеется избежать гибели, когда наступит час нашей встречи с Повелителем Боли.
Поэт засмеялся.
— Да ни хрена подобного! Я не захватил даже мою счастливую кроличью лапку!
Капюшон тамплиера слегка шевельнулся.
— Ну а ваша рукопись?
Поэт промолчал.
Хет Мастин перевел свой невидимый собеседникам взгляд на высокого человека, стоявшего рядом.
— А вы, полковник? В багаже несколько объемистых чемоданов с вашим именем на наклейках. Уж не оружие ли это?
Кассад поднял голову, но ничего не ответил.
— Конечно, — продолжил Хет Мастин, — глупо ехать на охоту без ружья.
— Ну а я? — Ламия Брон скрестила руки на груди. — Вам известно о каком-либо секретном оружии, которое я сюда протащила?
— Мы ведь еще не слышали вашей истории, госпожа Брон. — Тамплиер говорил медленно, отчего его необычный акцент стал еще заметнее. — Было бы преждевременно что-либо предполагать на ваш счет.
— А как насчет Консула? — спросила Ламия.
— О, всем понятно, что за оружие припас наш друг дипломат.
Консул перестал любоваться закатом.
— Я взял с собой только кое-что из одежды и пару книг, почитать перед сном, — сказал он совершенно искренне.
— Да-да, — со вздохом согласился тамплиер, — но зато какой прекрасный космический корабль оставили!
Силен вскочил на ноги.
— Черт побери! — вскричал он. — Вы ведь можете его вызвать, не так ли? Так доставайте, дьявол вас возьми, свой собачий свисток и действуйте. Сколько можно тут сидеть?
Консул сорвал травинку и разделил ее на узкие полоски. Помолчав немного, он сказал:
— Даже если бы я и мог его вызвать… — а вы слышали, Беттик сказал, что спутники и ретрансляторы не действуют… — так вот, даже если бы я и мог вызвать его, нам не удалось бы перебраться через горы. Подобные попытки кончались катастрофой еще до того, как Шрайк начал разгуливать южнее Уздечки.
— Это верно, — согласился Силен, возбужденно размахивая руками, — зато мы смогли бы пересечь этот мерзкий… газон! Вызывайте корабль!
— Подождем до утра, — ответил Консул. — Если ветровоза не будет, мы обсудим другие варианты.
— Да провались он… — начал было поэт, но тут Кассад шагнул вперед и, повернувшись к нему спиной, весьма успешно вытеснил его из круга.
— А вы, господин Мастин, — спросил полковник, — в чем ваш секрет?
Свет догорающего заката позволил разглядеть улыбку, мелькнувшую на тонких губах тамплиера.
— Как видите, мой чемодан здесь самый тяжелый и самый таинственный, — ответил он, указав на груду багажа.
— Это куб Мебиуса, — сказал отец Хойт. — Мне случалось видеть, как таким способом перевозят археологические находки.
— Или термоядерные бомбы, — вставил Кассад.
Хет Мастин покачал головой:
— Его содержимое не столь примитивно.
— А что там? Вы нам расскажете? — настойчиво спросила Ламия.
— Когда наступит мой черед говорить, — ответил тамплиер.
— А вы следующий? — спросил Консул. — Мы можем вас выслушать прямо сейчас.
Сол Вайнтрауб прокашлялся.
— Вообще-то говоря, четвертый номер у меня, — и он показал свою полоску бумаги. — Но я с большим удовольствием поменяюсь с Истинным Гласом Древа. — Он приподнял Рахиль и, легонько похлопывая ее по спине, переложил с левой руки на правую.
Хет Мастин отрицательно покачал головой.
— Времени еще достаточно, — сказал он. — Мне бы хотелось напомнить, что даже в безнадежности всегда есть надежда. Из рассказов наших спутников мы узнали о многом. Но не это главное: зерно надежды есть в каждом из нас, хотя лежит оно гораздо глубже, чем мы сами думаем.
— Я что-то не понимаю… — начал отец Хойт, но его прервал внезапный вопль Силена:
— Ветровоз! Вот она, эта хреновина! Наконец-то!
* * *
Прошло еще минут двадцать, прежде чем ветровоз ошвартовался у одного из причалов. Судно пришло с севера, и его паруса белели четкими квадратами на фоне лишившейся красок темной равнины. Пока оно разворачивалось и, складывая главные паруса, катило к пристани, окончательно стемнело.
Судно поразило Консула — огромное, сработанное по старинке из дерева, оно своими выпуклыми обводами напоминало галеоны, бороздившие в древности моря Старой Земли. Пока паломники переносили багаж на пристань, Консулу удалось рассмотреть гигантское ходовое колесо, выглядывавшее из середины округлого днища и скрытое обычно двухметровой травой. От земли до поручней было метров шесть-семь, а до верхушки грот-мачты — не меньше тридцати. Остановившись, чтобы отдышаться, Консул прислушался: где-то вверху хлопали на ветру вымпелы, а от корпуса судна исходило низкое монотонное гудение, издаваемое, по-видимому, либо внутренним маховиком, либо гиростабилизаторами.
Из-за борта выдвинулись сходни и опустились на пристань. Отец Хойт и Ламия Брон едва успели отскочить назад.
Ветровоз был освещен куда хуже «Бенареса» — горело лишь несколько фонарей на мачтах и реях. Пока судно шло к пристани, на палубе не было видно ни одной живой души; никто не появился и сейчас.
— Эй! — крикнул Консул, стоявший возле нижней ступеньки сходней. Ответа не последовало.
— Будьте добры, подождите минутку, — сказал Кассад и стремительно взбежал наверх.
Паломники увидели, как он на мгновение замер, положив руку на «жезл смерти», торчавший из-за пояса, а затем исчез внутри судна. Через несколько минут в широких окнах на корме вспыхнул свет, и на траву упали желтые трапециевидные пятна.
— Идите сюда! — крикнул полковник, снова появившись на сходнях. — Здесь никого нет.
Все тут же потащили наверх свой багаж. Спустившись в последний раз, Консул помог Хету Мастину справиться с тяжеленным кубом Мебиуса, ощутив кончиками пальцев слабую, но интенсивную вибрацию.
— Так где же эта треклятая команда? — спросил Силен, когда паломники, осмотрев судно, собрались на баке. Внутри было тесно — узкие коридоры, по которым приходилось идти гуськом, крутые лестницы, или, вернее, трапы и каюты, едва вмещавшие откидные койки. Только кормовая каюта, по-видимому, капитанская, не уступала по размерам и комфорту помещениям на «Бенаресе».
— Очевидно, судно автоматизировано. — Кассад указал на фалы, которые исчезали в прорезях палубы, и почти сливавшиеся с рангоутом манипуляторы. На середине бизань-мачты, несшей косые паруса, также поблескивал какой-то механизм.
— Все же непонятно, откуда им управляют, — сказала Ламия. — Я не заметила ни дисплеев, ни дубль-пультов. — Она извлекла из нагрудного кармана свой комлог и попыталась настроиться на стандартные частоты телеметрии, инфосети и биомеда. Судно не отзывалось.
— На этих колымагах всегда кто-то был, — заметил Консул. — Жрецы обычно сопровождали паломников до самых гор.
— Но сейчас здесь их нет. — В голосе Хойта слышалась растерянность. — Впрочем, может быть, кто-то еще остался на станции канатки или в Башне Хроноса. Ведь послали же за нами ветровоз.
— Может, все поумирали, а вагон так и ходит по своей программе, — предположила Ламия и тут же резко оглянулась: снасти и паруса внезапно скрипнули под порывом ветра. — Омерзительное ощущение — быть отрезанной от всего и всех. Словно ты вдруг ослепла и оглохла. Просто не представляю, как жители колоний это выносят.
Подошел Мартин Силен. Усевшись на поручень, он отхлебнул из длинной зеленой бутылки и произнес:
Где же он и с кем — поэт? Музы, дайте мне ответ! — Мы везде его найдем: Он с людьми, во всем им равен; С нищим он и с королем, С тем, кто низок, с тем, кто славен; Обезьяна ли, Платон — Их обоих он приемлет; Видит все и знает он — И орлу, и галке внемлет; Ночью рык зловещий льва Или тигра вой ужасный — Все звучит ему так ясно, Как знакомые слова Языка родного…[30]— Где вы раздобыли эту бутылку? — холодно спросил Кассад.
Мартин Силен улыбнулся, и его сощуренные глаза ярко блеснули в свете фонаря.
— В камбузе полно еды, кроме того, там есть бар. Возвещаю всем его открытие!
— Надо подумать об ужине, — сказал Консул, хотя ему хотелось сейчас лишь вина. В последний раз они ели часов десять назад, если не больше.
Что-то лязгнуло, загудело, и шестеро паломников, бросившихся к правому борту, увидели, как поднимаются сходни. Тем временем развернулись паруса, натянулись шкоты, и гудение маховика, постепенно повышаясь, перешло в ультразвук. Паруса наполнились ветром, палуба слегка накренилась — и ветровоз, отойдя от причала, двинулся в темноту. Было слышно лишь хлопанье парусов, поскрипывание корпуса судна, глухое громыхание колеса да шорох травы по днищу.
Шесть человек стояли у поручней и смотрели, как темная масса утеса исчезает за кормой, а так и не зажженный сигнальный костер превращается в слабый отблеск звездного света на светлом дереве; потом остались только ночь, небо и качающиеся круги света от фонарей.
— Спущусь вниз, — объявил Консул, — и приготовлю нам что-нибудь поесть.
Его спутники даже не пошевелились. Палуба тихо вибрировала и покачивалась, а навстречу судну неслась тьма. Невидимая граница делила ее на две части: вверху сияли звезды, внизу расстилалось Травяное море. Кассад достал фонарик, и пятно света забегало по снастям, выхватывая из мрака то кусок паруса, то мачту, то шкоты, туго натянутые невидимыми руками; затем полковник проверил все щели и уголки на палубе от кормы до носа. Остальные молча наблюдали. Когда он выключил фонарик, тьма показалась паломникам уже не такой гнетущей, а звезды засияли ярче. В воздухе пахло землей и перегноем; этот запах, вызывающий ассоциации, скорее, с весенним полем, чем с морем, приносил ветер, несущийся над тысячами квадратных километров травы.
Вскоре послышался голос Консула, и все отправились вниз.
Камбуз оказался тесноват, и к тому же там не было стола, поэтому в качестве столовой пришлось использовать большую каюту на корме, а в качестве стола — сдвинутые вместе чемоданы. Четыре фонаря, раскачивавшиеся на низких балках, ярко освещали помещение. Хет Мастин распахнул высокое окно над кроватью, и в каюту ворвался легкий ветерок.
Консул расставил тарелки, нагруженные бутербродами, на самом большом чемодане, а затем принес толстые белые чашки и кофе в термосе. Пока он разливал кофе, все принялись за еду.
— Недурно, — произнес Федман Кассад. — Где это вы раздобыли ростбиф?
— Холодильник битком набит всякой снедью. Кроме того, в кладовой на корме есть большая морозильная камера.
— Электрическая? — спросил Хет Мастин.
— Нет. С двойными стенками.
Мартин Силен понюхал одну из банок, разыскал на блюде нож и посыпал свой бутерброд крупно порезанными кусками хрена. На глазах у него заблестели слезы.
— Сколько времени обычно уходит, чтобы пересечь море? — спросила Ламия у Консула.
Консул, сосредоточенно разглядывавший свою чашку с горячим кофе, поднял взгляд:
— Простите, не расслышал?
— Я спрашиваю о Травяном море. Сколько времени уходит на дорогу?
— Ночь и половина дня, и мы у гор, — ответил Консул. — При попутном ветре, разумеется.
— Ну а потом… через горы долго перебираться? — спросил отец Хойт.
— Меньше суток, — ответил Консул.
— Если будет работать канатная дорога, — добавил Кассад.
Консул отхлебнул кофе, обжегся и поморщился.
— Надо думать, будет. Иначе…
— Что иначе? — резко спросила Ламия.
— Иначе, — ответил полковник Кассад, подойдя к открытому окну, — иначе мы застрянем в шестистах километрах от Гробниц Времени и в тысяче — от южных городов.
Консул покачал головой.
— Нет, — сказал он. — Жрецы Святилища, или уж не знаю кто, взявший на себя заботу о нашем паломничестве, позаботились о том, чтобы мы добрались сюда. Я не сомневаюсь, что они позаботятся и о том, чтобы мы прошли оставшуюся часть пути.
Ламия Брон, нахмурившись, скрестила руки на груди.
— Зачем мы нужны им? Как жертвы?
Мартин Силен захохотал и вытащил свою бутылку:
Какие боги ждут кровавой мзды? К какому алтарю ведут телицу, Которая торжественной узды И ласковой руки жреца дичится? И что за город, из оправы стен Глядящий ввысь зеницами святынь, Внезапно обезлюдел в час урочный? Он нем навеки, чуждый перемен, — Не скажут площади, мертвей пустынь, Зачем ушла толпа в поход бессрочный.[31]Ламия Брон сунула руку под тунику и, выхватив лазерный нож величиной не больше мизинца, навела его на поэта.
— Эй ты, говнюк! Ляпнешь еще хоть слово и… клянусь… убью на месте.
Все разом умолкли, в глубокой тишине было слышно лишь поскрипывание колеса. Консул двинулся к Силену. Полковник Кассад тут же оказался за спиной Ламии.
Поэт сделал большой глоток и улыбнулся. Его губы влажно блестели.
— Так строй же свой корабль смерти, — прошептал он. — О, построй его!
Пальцы Ламии побелели от напряжения. Консул стоял теперь буквально вплотную к Силену, не зная, что делать: ему казалось, лазерный луч вот-вот хлестнет его по глазам. Кассад напряженно склонился над Ламией, подобно странной двухметровой тени.
— Мадам, — вдруг произнес Сол Вайнтрауб, сидевший на койке у дальней стены, — может, следует напомнить вам, что здесь находится ребенок?
Ламия взглянула на него. Вайнтрауб устроил для дочки нечто вроде колыбели, поставив на кровать большой ящик, который вынул из стенного шкафа. Потом он пошел ее купать и вернулся в каюту буквально за минуту до того, как поэт разразился цитатой. Теперь он осторожно укладывал ребенка в выложенное мягкими пеленками гнездо.
— Извините, — сказала Ламия и опустила лазер. — Очень уж он меня… разозлил.
Вайнтрауб понимающе кивнул и принялся баюкать ребенка. Мягкое покачивание ветровоза и монотонное громыхание колеса, по-видимому, сделали свое дело: девочка уснула.
— Мы все устали, у всех напряжены нервы, — сказал ученый. — Может быть, лечь где кто может и поспать?
Ламия вздохнула и сунула оружие за пояс.
— Я не засну, — сказала она. — Очень уж здесь все… странно.
Все закивали, соглашаясь с нею. Мартин Силен, не без комфорта устроившийся на широком выступе под кормовым окном, подтянул ноги под себя, сделал еще один глоток и сказал, обращаясь к Вайнтраубу:
— Расскажи нам свою историю, старик.
— В самом деле, расскажите, — поддержал его отец Хойт. Священник выглядел таким изнуренным, что, казалось, вот-вот расстанется с жизнью, но глаза его горели лихорадочным огнем.
— Нам надо выслушать все истории и успеть как следует обдумать их, прежде чем мы прибудем к месту назначения.
Вайнтрауб провел рукой по своей лысине.
— Это скучная история, — начал он. — Я впервые в жизни на Гиперионе. В моей истории нет встреч с чудовищами, героических подвигов. Это рассказ человека, представление которого об эпическом приключении ограничивается выступлением перед классом без конспекта.
— Вот и прекрасно, — сказал Силен. — Нам сейчас очень кстати нечто усыпляющее.
Вайнтрауб вздохнул, поправил очки и погладил свою темную с проседью бороду. Затем он притушил фонарь, висевший над колыбелью, и пересел поближе к центру каюты. Консул убавил свет в остальных лампах и подлил кофе всем желающим. Сол Вайнтрауб говорил медленно, стараясь точно формулировать мысли и тщательно подбирая слова, и вскоре его негромкое повествование слилось с мягким громыханием колеса и поскрипыванием корпуса, сопровождавшими продвижение ветровоза на север.
История ученого: Горек вкус воды летейской
Сол Вайнтрауб и его жена Сара были счастливы в своем супружестве и до рождения дочери; появление же Рахили превратило их жизнь в самый настоящий рай на земле.
Когда они зачали дитя, Саре было двадцать семь лет, Солу — двадцать девять. О поульсенизации они тогда и не помышляли, ибо это было им не по карману, впрочем, они и без нее надеялись прожить в добром здравии еще по крайней мере лет пятьдесят.
Они оба с самого рождения жили в Мире Барнарда, одном из старейших, но и самых заурядных членов Гегемонии. Барнард входил в состав Сети, но для Сола и Сары это не имело особого значения, поскольку они не могли себе позволить частые путешествия по нуль-Т. Впрочем, они и не испытывали тяги к таким вояжам. Сол недавно отпраздновал десятую годовщину своей работы в колледже Найтенгельзера, где преподавал историю и античную филологию, а также занимался своими собственными исследованиями в области эволюции этики. Колледж Найтенгельзера был невелик — в нем училось менее трех тысяч студентов, но он пользовался прекрасной репутацией и туда стекались молодые люди со всей Сети. Как любили говорить студенты, у колледжа и городка Кроуфорд, в котором он находился, есть лишь один, но очень серьезный недостаток: они представляют собой островок цивилизации в безбрежном океане кукурузы. И в самом деле: колледж находился на расстоянии трех тысяч километров от столицы планеты, Буссарда, и после терраформирования все это пространство было отдано под сельскохозяйственные угодья. Здесь не было лесов, которые можно было бы рубить, не было холмов, на которые можно было бы взбираться, не было гор, которые нарушали бы однообразие кукурузных, бобовых, кукурузных, пшеничных, кукурузных, рисовых и снова кукурузных полей. Поэт-авангардист Салмад Брюи, недолгое время преподававший в колледже и уволенный незадолго до восстания Гленнон-Хайта, после возвращения на Возрождение-Вектор рассказывал друзьям, что Кроуфордский округ, расположенный на Южном Синзере Мира Барнарда, есть не что иное, как Восьмой Круг Запустения крохотного прыща на заднице Мироздания.
Но Солу и Саре Вайнтрауб там нравилось. Кроуфорд с его населением в двадцать пять тысяч представлял собой довольно точную реконструкцию типичного среднеамериканского городка девятнадцатого века. Его широкие улицы утопали в тени вековых вязов и дубов. (Мир Барнарда, вторая земная колония за пределами Солнечной системы, был заселен за несколько веков до изобретения двигателя Хоукинга и Хиджры; колонизация тогда осуществлялась при помощи гигантских «ковчегов».) Все здания в Кроуфорде — от ранневикторианских особняков и до отдельных образчиков канадского Ренессанса — выглядели совершенно одинаково: белые стены и просторная, аккуратно подстриженная лужайка перед домом.
Сам колледж был выдержан в георгианском стиле и радовал глаз сочетанием красного кирпича и белых колонн, окружавших овальный участок. Кабинет Сола находился на третьем этаже Плачер-Холла, старейшего здания в студенческом городке, и зимой за его окном чернела причудливая паутина голых ветвей. Солу нравились запахи мела и старого дерева, которые он вдыхал еще первокурсником, и каждый день, поднимаясь к себе в кабинет, он любовался ложбинкой на каменных ступеньках, истертых ногами двадцати поколений студентов Найтенгельзера.
Сара родилась на ферме, расположенной между Буссардом и Кроуфордом. Докторскую степень по теории музыки она получила на год раньше Сола. Это была веселая, энергичная девушка, яркая и обаятельная, хотя и некрасивая с точки зрения общепринятых норм. Свою яркость и обаяние она сохраняла всю жизнь. Два года она проучилась в университете Нового Лиона на Денебе-III, но ее измучила тоска по дому. Сара так и не смогла привыкнуть к быстрым и внезапным здешним закатам, ей не нравилось, как превозносимые на все лады горы, словно зазубренное лезвие, в мгновение ока отсекают солнечное зарево; ее тянуло домой, где звезда Барнарда, словно раздувшийся красный шар, на несколько часов словно бы зависала над горизонтом на фоне мало-помалу темнеющего неба. Она тосковала по бескрайним равнинам, где из окна своей комнаты на третьем этаже под островерхой крышей маленькая девочка могла следить за тем, как из пятидесятикилометровой дали на колосящиеся поля, словно иссиня-черный занавес, озаряемый изнутри вспышками молний, надвигается гроза. А еще Сара скучала по семье.
С Солом она познакомилась через неделю после того, как поступила в колледж Найтенгельзера, но прошло еще три года, прежде чем он сделал ей предложение и они поженились. Сперва она не видела ничего особенного в тихом низкорослом студенте. В те времена она еще придерживалась вкусов и обычаев Сети, участвовала в дискуссиях, посвященных постдеструкционистскому направлению в теории музыки, читала «Обит», «Нигил» и самые что ни на есть авангардистские журналы с Возрождения-Вектор и ТК-Центра, стараясь выглядеть искушенной и усталой от жизни и не без напряжения пользуясь молодежным жаргоном. Какое отношение все это могло иметь к малорослому, но весьма серьезному историку, который опрокинул на нее фруктовый салат на вечеринке, устроенной в честь декана Мура? Какая-либо экзотика, на которую мог бы претендовать Сол Вайнтрауб вследствие еврейского происхождения, тут же сводились на нет его типично барнардовским произношением, костюмом, приобретенным в кроуфордском «Сквайр шоп», а также тем обстоятельством, что на вечеринку он пришел, рассеянно зажав под мышкой «Расхождение одиночеств» Детрескью.
Сол влюбился в нее с первого взгляда. Он как завороженный смотрел на эту смеющуюся краснощекую девушку, и его нисколько не смущали ни слишком дорогое платье, ни бьющий в глаза мандариновый маникюр; он видел лишь одно — яркую личность, которая светила как маяк одинокому старшекурснику. Сол не подозревал о своем одиночестве, пока не встретил Сару, но после первой же их встречи, когда он обменялся с ней рукопожатием и опрокинул ей на платье фруктовый салат, ему стало ясно: его жизнь пуста и навсегда останется пустой, если они не поженятся.
Они поженились через неделю после того, как Сола назначили преподавателем колледжа. Медовый месяц молодожены провели на Мауи-Обетованной. Это было его первым путешествием по нуль-Т. Арендовав плавучий остров, они три недели путешествовали в полном уединении, любуясь чудесами Экваториального Архипелага. В памяти Сола навсегда остались эти пронизанные солнечными лучами и напоенные ветром дни, и самое дорогое и сокровенное — обнаженная Сара выходит из воды после ночного купания, над ней сверкают звезды Ядра, а на ее теле многоцветными созвездиями сияют фосфоресцирующие капли.
Они хотели сразу же завести ребенка, но прошло целых пять лет, прежде чем природа смилостивилась над ними.
Сол помнил, как прижимал к себе и укачивал Сару, корчившуюся от боли у него на руках. Роды были трудными. Наконец произошло невероятное — в 2 часа 01 минуту утра в медицинском центре округа Кроуфорд родилась Рахиль Сара Вайнтрауб.
Появление младенца круто изменило жизнь ученого-историка и музыкального критика, усердно пополнявших инфосферу Барнарда, но они не роптали. Первые месяцы они ужасно уставали, но неизменно были веселы. Поздно ночью, в перерывах между кормлениями, Сол на цыпочках прокрадывался в детскую — просто постоять и посмотреть на дочь. Почти всегда он заставал там Сару, и они стояли вместе, держась за руки и глядя на это чудо: спящий ребенок лежит на животе, попкой вверх, спрятав лицо в мягком изголовье колыбели.
Рахиль была удивительным ребенком: совершенно прелестным и в то же время не считавшим себя центром мироздания. Когда ей исполнилось два стандартных года, от нее не хотелось отводить глаз, так она была мила: пышные каштановые волосы матери, ее румяные щеки, ее же лучезарная улыбка и большие карие глаза отца.
Приятели говорили, что ребенок сочетает все достоинства характера Сары с интеллектом Сола. Один из их знакомых, детский психолог, работающий в колледже, однажды заметил, что Рахиль уже в пять лет обладает самыми надежными показателями истинной одаренности, какие когда-либо наблюдались у детей: структурированная любознательность, проницательность по отношению к окружающим, способность к состраданию и обостренное чувство справедливости.
Однажды Сол, изучая в своем кабинете древние документы со Старой Земли, наткнулся на статью о воздействии Беатриче на мировоззрение Данте Алигьери. Одно из рассуждений критика, жившего в двадцатом или в двадцать первом веке, поразило его:
«И только она (Беатриче) была для него по-прежнему реальна, по-прежнему оставалась средоточием мира и красоты. Ее образ стал для него ориентиром — тем, что Мелвилл с большей серьезностью, чем мы сохранили, назвал бы его Гринвичским меридианом…»
Сол остановился, чтобы отыскать определение «Гринвичского меридиана», а затем продолжил читать. Критик кое-что добавил от себя:
«У большинства из нас, я надеюсь, есть ребенок, любимый человек или друг, подобные Беатриче, то есть человек, который просто в силу своего характера, врожденной доброты и ума заставляет нас испытывать неловкость в тех случаях, когда мы лжем или неискренни».
Сол выключил дисплей и задумался, глядя в окно на кружево черных ветвей.
Пай-девочкой Рахиль не была. Когда ей исполнилось пять стандартных лет, она весьма старательно обрезала волосы пяти своим любимым куклам, а затем обкорнала свои собственные, причем еще короче. Когда ей было семь, она решила, что сезонники, живущие в ветхих лачугах на южной окраине города, нуждаются в усиленном питании, и в связи с этим опустошила все домашние кладовые, холодильники, морозильники и синтезаторы, после чего уговорила трех своих подружек помочь ей утащить всю эту гору продуктов, пробив в семейном продовольственном бюджете брешь, исчисляемую несколькими сотнями марок.
Когда ей исполнилось десять, мальчуган по имени Стабби Беркович подбил ее взобраться на верхушку самого старого из кроуфордских вязов. Она была уже на высоте сорока метров, и до верхушки оставалось меньше пяти, когда под ней сломалась ветка, и Рахиль полетела вниз. Сола вызвали по комлогу, когда он обсуждал со студентами моральные предпосылки первой эпохи ядерного разоружения на Земле. Не сказав ни слова, он вышел из аудитории и пробежал двенадцать кварталов до медицинского центра.
У Рахили была сломана левая нога, два ребра, проткнуто легкое и раздроблена челюсть. Когда Сол ворвался в палату, она плавала в восстановительном растворе; приподняв голову и взглянув на него поверх плеча сидевшей с ней матери, она слегка улыбнулась и, несмотря на проволочную шину, стянувшую ее челюсть, заявила: «Пап, мне оставалось до верхушки всего пятнадцать футов. Может, даже меньше. В следующий раз я доберусь».
Окончив с отличием среднюю школу, Рахиль получила приглашения от корпоративных академий пяти планет и от трех университетов, включая Гарвард на Новой Земле. Она выбрала Найтенгельзер.
Сол не очень удивился, что его дочь решила специализироваться на археологии. Он до сих пор с нежностью вспоминал, как двухлетняя Рахиль целыми днями копалась под крыльцом в земле, не обращая внимания на пауков и тысяченожек, а затем врывалась в дом, чтобы похвастаться пластмассовыми тарелочками и позеленевшими пфеннигами, которые ей удавалось отыскать, и настойчиво допытывалась, откуда они там взялись и какими были люди, которые оставили все это под крыльцом?
Рахиль получила диплом о высшем образовании, когда ей исполнилось девятнадцать. Все лето она проработала на бабушкиной ферме, а осенью отправилась в свое первое нуль-путешествие. Она провела в Рейхсуниверситете Фрихольма двадцать восемь локальных месяцев, а когда вернулась домой, жизнь Сола и Сары заиграла новыми красками.
В течение двух недель их дочь, теперь уже взрослая, здравомыслящая и уверенная в себе (пожалуй, даже более уверенная, чем многие люди старше ее годами), отдыхала и радовалась возвращению в родной дом. Как-то вечером, когда они с отцом прогуливались по учебному городку, она вдруг принялась расспрашивать Сола о его родословной.
— Пап, скажи, ты все еще считаешь себя евреем?
Удивленный вопросом дочери, Сол растерянно провел рукой по редеющим волосам.
— Евреем? Да, наверное. Хотя теперь это слово потеряло свой первоначальный смысл.
— И я еврейка? — спросила Рахиль. В неясном свете сумерек ее щеки горели румянцем.
— Если хочешь, можешь считать себя еврейкой, — ответил Сол. — Теперь, когда Старой Земли уже нет, все это больше не имеет значения.
— А если бы я была мальчиком, ты сделал бы мне обрезание?
Сол засмеялся, испытывая странное чувство растерянности и радости.
— Я говорю серьезно, — сказала Рахиль, Сол поправил очки.
— Не знаю, детка, но думаю, что сделал бы. Я никогда не размышлял на эту тему.
— Ты посещал синагогу в Буссарде?
— После моего бар мицва я там не был ни разу, — ответил Сол, и ему вспомнилось, как почти пятьдесят лет назад его отец взял «Виккен» дяди Ричарда и полетел со своей семьей в столицу, чтобы совершить торжественный ритуал.
— Отец, почему евреи относятся сейчас к этому не так… не так серьезно, как до Хиджры?
Сол развел руками — эти большие сильные руки скорее подошли бы каменщику, чем ученому.
— Хороший вопрос, Рахиль. Кто ж его знает, почему? Может быть, потому, что мечта теперь мертва бесповоротно. Нет больше Израиля. Новый Храм просуществовал совсем недолго — меньше, чем первый и второй. Бог нарушил Свое слово. Он вторично разрушил Землю точно таким же образом, как и в первый раз. И эта Диаспора… она навсегда.
— Но в некоторых местах евреи все же сохраняют свое этническое и религиозное своеобразие, — не уступала дочь.
— Да, конечно. На Хевроне и кое-где на Конкурсе можно встретить целые общины… Хасиды, ортодоксы, хасмониане, если ты говоришь о них… но все это какое-то… вторичное, утрированно живописное… Так, картинки для туристов.
— Нечто вроде тематического парка?
— Вот-вот.
— Ты мог бы отвезти меня завтра в храм Бет-эль? Страйт я одолжу у Хаки.
— Зачем же? — возразил Сол. — Мы воспользуемся ракетопланом колледжа. — Да, — произнес он, помолчав, — я с большим удовольствием отвезу тебя завтра в синагогу.
Под старыми вязами становилось все темнее. Вдоль широкой дороги, которая вела к их дому, зажглись уличные фонари.
— Отец, — сказала Рахиль, — я хочу задать тебе вопрос, который задавала миллион раз с тех пор, как мне исполнилось два года. Ты веришь в Бога?
Сол посерьезнел. У него не было выбора — он и сейчас мог ответить ей лишь так, как отвечал миллион раз до этого.
— Я жду, — сказал он. — Жду, когда поверю.
Диссертация Рахили была посвящена артефактам иных цивилизаций. В течение трех стандартных лет Солу и Саре приходилось довольствоваться случайными визитами дочери, за которыми следовали мультиграммы с различных экзотических планет, не входящих в Сеть, хотя и не очень удаленных от нее. Они прекрасно понимали, что ее исследования вскоре потребуют от нее более длительных отлучек в отдаленные миры за пределами Сети, где временной сдвиг съедает жизни и память тех, кто остался позади.
— Что это за планета такая, Гиперион? — спросила Сара у дочери, собиравшейся в очередную экспедицию. — Звучит как название какой-нибудь модной новинки для домашнего хозяйства.
— Это замечательное место, мама. Там обнаружено больше следов чужого разума, чем где-либо еще, за исключением Армагаста.
— А почему ты не хочешь на Армагаст? — поинтересовалась мать. — До него от Сети всего лишь несколько месяцев. Работать, так уж в самом интересном месте.
— Гиперион пока еще не превратился в парк для экскурсий, — ответила Рахиль. — Хотя и там туристы становятся серьезной проблемой. Люди с деньгами сейчас очень охотно путешествуют за пределами Сети.
Сол почувствовал, что голос его не слушается.
— И куда вы собираетесь, в лабиринт или к месту, которое называют Гробницами Времени?
— К Гробницам Времени, отец. Я буду работать с доктором Мелио Арундесом, он знает о Гробницах Времени больше всех.
— А это не опасно? — спросил Сол, стараясь изо всех сил, чтобы его голос звучал естественно.
Рахиль улыбнулась.
— Ты вспомнил легенду о Шрайке? Не волнуйся, папа. Вот уже два века как эта пресловутая легенда никого не беспокоила.
— Но я читал, что во время второй колонизации… — начал Сол.
— Да, я тоже видела эти документы, папа. Но ведь они не знали тогда о гигантских скальных угрях, которые приползали в долину охотиться. Несколько человек пропали, а остальные подняли панику. Ты ведь знаешь, как рождаются легенды. К тому же охотники давно перебили всех угрей.
— Космические корабли там не садятся, — не сдавался Сол. — Тебе придется добираться до Гробниц Времени по воде. Или пешком. Или на какой-нибудь колымаге.
Рахиль рассмеялась.
— В старину люди, летавшие туда, недооценивали воздействие антиэнтропийных полей на аппаратуру, и из-за этого произошло несколько аварий. Но сейчас туда летают дирижабли. А к северу от гор построили большой отель под названием «Башня Хроноса», и каждый год там останавливаются сотни туристов.
— Ты тоже в нем остановишься? — спросила Сара.
— На какое-то время. Мама, это будет такая замечательная экспедиция!
— Надеюсь, не чересчур, — сказала Сара, и все улыбнулись.
В течение четырех лет, пока Рахиль была в пути (для нее — несколько недель криогенной фуги), Сол безумно скучал по ней, гораздо сильнее, чем если бы она безвылазно просидела, не давая о себе знать, в каком-нибудь глухом уголке Сети. Сама мысль о том, что дочь удаляется от него со скоростью, превышающей скорость света, укрытая непроницаемым квантовым коконом поля Хоукинга, представлялась ему противоестественной и зловещей.
Они с женой продолжали работать. Сара оставила музыкальную критику и погрузилась в проблемы планетарной экологии. Для Сола эти годы оказались одними из самых насыщенных в жизни. Были опубликованы вторая и третья его книги, и вторая — «Поворотные пункты морали» — вызвала к автору такой интерес, что его буквально засыпали приглашениями на всевозможные конференции и симпозиумы в разных мирах. Пару раз он летал на них один, потом с Сарой, но хотя путешествия всегда казались им чем-то очень романтичным, знакомство с непривычными кушаньями, иной силой тяжести и светом чужих солнц быстро отрезвило их, и Сол все чаще участвовал в этих конференциях (если не удавалось отвертеться), не выходя из дома и не отрываясь от изучения материалов для новой книги, — посредством интерактивной голографической станции колледжа.
Прошло почти пять лет с того дня, как Рахиль отправилась в экспедицию, когда Сол увидел сон, изменивший всю его жизнь.
Солу приснилось, что он бродит по какому-то огромному зданию с колоннами, похожими на секвойи, и потолком таким высоким, что его нельзя разглядеть, но сквозь который сверху падали столбы красного света. Временами в полумраке что-то смутно мелькало — то слева, то справа от него; один раз он различил две каменные ноги, вздымавшиеся в темноте подобно башням, в другой раз заметил нечто похожее на хрустального скарабея, кружившего над ним; внутренности насекомого горели холодным огнем.
Наконец Сол остановился передохнуть. Откуда-то сзади доносились гул и треск, словно отголоски гигантского пожара, пожиравшего целые города и леса. А впереди, там, куда он направлялся, пылали два багровых овала.
Он стал вытирать пот со лба, и тут раздался громовой голос:
«Сол! Возьми дочь твою, единственную твою, которую ты любишь, Рахиль; и отправляйся в мир, называемый Гиперион, и там принеси ее во всесожжение в месте, о котором Я скажу тебе».[32]
Сол, не просыпаясь, ответил: «Ты что, шутишь?» — и двинулся дальше сквозь мрак. Теперь красные шары, подобно кровавым лунам, повисли над какой-то смутно различимой равниной, и, когда он вновь остановился отдохнуть, раздался все тот же громовой голос:
«Сол! Возьми дочь твою, единственную твою, которую ты любишь, Рахиль; и отправляйся в мир, называемый Гиперион, и там принеси ее во всесожжение в месте, о котором Я скажу тебе».
Сол стряхнул со своих плеч тяжесть голоса и четко произнес в темноту: «Я и в первый раз тебя слышал… Нет и еще раз нет».
Сол понимал, что это сон, и какая-то часть его сознания наслаждалась иронией этого мрачного сценария, но другая часть жаждала только одного — пробуждения. Но он не проснулся, а внезапно оказался на низкой галерее, выходящей в комнату, где на широкой каменной плите лежала обнаженная Рахиль. Сцену заливал свет пары красных шаров. Сол взглянул на свою правую руку и увидел в ней длинный кривой нож. И лезвие, и рукоятка казались сделанными из кости.
Снова раздался голос, который и прежде звучал словно голос божества в постановке заштатного режиссеришки, а сейчас — и подавно. Он произнес:
«Сол, слушай меня внимательно. От твоего повиновения зависит будущее человечества. Ты должен взять дочь твою, единственную твою, которую ты любишь, Рахиль; отправляйся в мир, называемый Гиперион, и там принеси ее во всесожжение в месте, о котором Я скажу тебе».
Сол, которому чертовски надоело все это, повернулся и швырнул нож в темноту. Когда же он оглянулся, чтобы увидеть дочь, все исчезло. Красные шары заметно приблизились, и Сол разглядел, что это многогранные кристаллы, размером с небольшую планету каждый.
Снова раздался громоподобный голос:
«Что ж, у тебя был шанс, Сол Вайнтрауб. Если ты передумаешь, тебе известно, где меня найти».
Похолодев от неясного предчувствия, Сол проснулся — и тут же рассмеялся. Его забавляла мысль, что Талмуд и Ветхий Завет могут оказаться просто заезженной космической байкой.
Когда Солу приснился его сон, подходил к концу первый год работы экспедиции Рахили на Гиперионе. Группа из девяти археологов и шести физиков нашла Башню Хроноса прелестной, но уж слишком переполненной туристами и потенциальными паломниками к Шрайку, поэтому, прожив месяц в гостинице, они разбили постоянный лагерь на полпути между развалинами города и неглубоким каньоном, в котором и находились Гробницы Времени.
В то время как половина группы занималась раскопками новейшей части недостроенного города, Рахиль с двумя помощниками составляла подробное описание каждой Гробницы. Физиков безумно восхищали антиэнтропийные поля, и большую часть своего времени они проводили, отмечая разноцветными флажками границы так называемых временных приливов.
Группа Рахили сосредоточила свое внимание на сооружении, именуемом Сфинксом, хотя это высеченное из камня существо не имело ничего общего ни с человеком, ни со львом. Возможно, это было даже и не существо, хотя плавные очертания верхней части каменного монолита вызывали ассоциации с телом животного, а раскинутые отростки наводили на мысль о крыльях. В отличие от других Гробниц, открытых нараспашку, благодаря чему их исследование не представляло особого труда, Сфинкс был сложен из множества тяжелых блоков, пронизанных узкими коридорами, то сжимавшимися в тонкую щель, то превращавшимися в самую настоящую улицу, но так никуда и не приводившим. Здесь не было ни склепов, ни сокровищниц, ни разграбленных саркофагов, ни настенных фресок, ни тайных проходов — только бессмысленный лабиринт коридоров в толще сочащегося влагой камня.
Рахиль и ставший ее любовником Мелио Арундес начали составлять карту Сфинкса, пользуясь методом, который применялся по меньшей мере уже семьсот лет, а впервые был испробован при изучении египетских пирамид еще в двадцатом веке. Установив чувствительные детекторы радиации и космических лучей в самой нижней точке Сфинкса, они регистрировали траектории частиц, прошедших через массу камня над ними, пытаясь таким путем обнаружить скрытые комнаты или проходы, не выявленные даже глубинным радаром. Из-за наплыва туристов и негативного отношения Комитета местного самоуправления к подобным исследованиям (чиновники опасались, что археологи повредят Гробницы) Рахиль и Мелио работали по ночам: выйдя в полночь из лагеря, они за полчаса добирались пешком до Сфинкса, а потом ползли через лабиринт коридоров, освещенных голубыми люм-шарами, на свою площадку. Там, под сотнями тысяч тонн камня, они до утра сидели за приборами, вылавливая из треска наушников звон частиц, рожденных в чреве умирающих звезд.
Временные приливы почти не мешали исследованию Сфинкса. Оказалось, что эта гробница слабее других защищена антиэнтропийными полями, и физики сумели точно определить те периоды, когда повышение прилива грозило неприятностями. Высокий прилив начинался в 10:00, а уже через двадцать минут он откатывался к Нефритовой Гробнице, расположенной в пятистах метрах к югу. Туристам разрешалось приближаться к Сфинксу после 12:00, а чтобы застраховаться от непредвиденных случайностей, все покидали площадку к 09:00. Кроме того, в различных точках вдоль дорожек и тропинок между Гробницами физики установили хронотропные датчики, которые при изменении высоты прилива включали мониторы, а также предупреждали посетителей об опасности.
Это случилось ночью, за три недели до первой годовщины работы экспедиции на Гиперионе. Стараясь не разбудить любимого, Рахиль поднялась, села в джип и отправилась к Гробницам. Они с Мелио решили, что дежурить у приборов каждую ночь обоим глупо, и теперь чередовались: один работал на площадке, другой в это время готовил исходные данные для заключительного этапа работ — радарного картографирования дюн между Нефритовой Гробницей и Обелиском.
Ночь была прохладна и прекрасна. Мириады звезд — вчетверо, а то и впятеро больше, чем на небе Мира Барнарда, — рассыпались от горизонта до горизонта. С гор, расположенных на юге, дул сильный ветер, и казалось, дюны шевелятся и что-то шепчут.
Лампы на площадке еще горели. Физики заканчивали работу и грузили оборудование на свой джип. Она поболтала с ними, потом, когда они уехали, выпила чашку кофе, взяла ранец и отправилась в двадцатипятиминутное путешествие по коридорам Сфинкса.
Наверное, в сотый раз она принялась гадать, кто построил эти Гробницы и с какой целью. Попытки определить возраст строительных материалов оказались безрезультатными из-за воздействия антиэнтропийного поля. Только сопоставление состояния Гробниц с эрозией каньона и другими геологическими характеристиками района позволило предположить, что им не меньше полумиллиона лет. Почему-то все считали, что создатели Гробниц Времени были гуманоидами, хотя ничто не давало оснований для этого предположения, кроме величины сооружений. Правда, кое-какую пищу для размышлений давали коридоры Сфинкса: некоторые из них по размерам и форме вполне подходили для людей; однако через несколько метров тот же самый коридор мог превратиться в трубу не шире канализационной или в нечто превосходящее масштабами и причудливостью очертаний естественные пещеры. Дверные проемы, если их можно было так назвать, ибо они никуда не вели, бывали прямоугольными, а иногда треугольными, трапециевидными или вообще десятиугольными.
Последние двадцать метров Рахиль ползла вниз по крутому полу, толкая перед собой ранец. Холодный свет голубых люм-шаров придавал поверхности камня и коже неприятный мертвенно-серый оттенок. А в «подвале», как его называли археологи, царил привычный и довольно уютный беспорядок. В центре этого пятачка стояло несколько складных стульев, детекторы, осциллоскопы и прочие научные причиндалы разместились на узком столике у северной стены. Возле другой стены — доска на козлах, на которой сгрудились кофейные чашки, шахматы, недоеденные пончики, две потрепанные книжки и пластмассовая игрушка, изображавшая что-то вроде собаки в юбочке из травы.
Рахиль разобрала свои вещи, поставила термос с горячим кофе рядом с игрушкой и проверила детекторы космических лучей. Приборы показывали все то же: ни скрытых комнат, ни переходов — лишь несколько ниш, которые не обнаружил даже глубинный радар. Утром Мелио и Стефан запустят дистанционный зонд, чтобы осмотреть их изнутри и взять пробы воздуха, а затем с помощью микроманипулятора приступят к дальнейшим раскопкам. С десяток таких ниш оказались совершенно пустыми. В лагере шутили, что в следующей дыре величиной не больше кулака окажутся миниатюрные саркофаги, крошечные урны и маленькая мумия, или (как говорил Мелио) «малюсенький Тутанхамончик».
Рахиль по привычке проверила линию связи комлога. Тишина. Неудивительно — ведь над ней сорок метров камня. Была идея провести из «подвала» на поверхность телефонную связь, но острой необходимости в ней не возникало, а теперь и работа подходила к концу. Рахиль переключила входные каналы комлога непосредственно на детекторы, а затем устроилась поудобнее, готовясь к долгому, утомительному дежурству.
Существовала забавная легенда об одном из фараонов Старой Земли (кажется, его звали Хеопс), который воздвиг для себя огромную пирамиду, причем его усыпальница должна была находиться в центре этого сооружения, в самом низу, а затем много лет в ужасе просыпался по ночам, терзаемый клаустрофобией, и гнал от себя мысль обо всех этих тоннах камня, которые вечно будут давить на него. В конце концов фараон приказал, чтобы усыпальницу переместили вверх, на высоту двух третей этой гигантской пирамиды. Весьма неортодоксально. Однако Рахиль понимала состояние фараона. Она надеялась, что, где бы он ни находился теперь, ему спится лучше.
Рахиль уже почти засыпала, когда в 02:15 комлог неожиданно зачирикал, затрещали детекторы, и ее буквально подбросило в воздух. Согласно показаниям датчиков, в Сфинксе внезапно появилась дюжина новых комнат, причем некоторые из них своими размерами превосходили все сооружение в целом. Рахиль включила дисплеи, и воздух запестрел моделями, которые изменялись у нее на глазах. Схема коридоров перекручивалась и поворачивалась, словно желая превратиться в причудливый лист Мебиуса. Внешние датчики утверждали, что под воздействием ветра верхняя часть Гробницы изгибается и колышется, словно полотнище полифлекса на ветру… или крылья.
Рахиль поняла, что произошло что-то вроде одновременного сбоя всей аппаратуры, и, педантично продиктовав комлогу сообщение о ЧП и свои впечатления, занялась перекалибровкой приборов. А затем случилось сразу несколько событий.
Рахиль услышала шарканье ног в коридоре над ее головой.
Одновременно выключились все дисплеи.
Где-то в лабиринте коридоров загудел сигнал тревоги, предупреждающей о временном приливе.
Все лампы погасли.
Последнее было совсем уж непонятно. Все приборы имели автономные источники питания и поэтому должны были работать даже после ядерного взрыва. Лампочки, которые освещали «подвал», получали энергию от свежей батареи с десятилетним ресурсом. Люм-шары в коридорах были биолюминесцентными и ни в каких батареях не нуждались.
Тем не менее свет погас. Рахиль вытащила из набедренного кармана комбинезона лазерный фонарь и нажала на кнопку. Никакого результата.
Впервые в жизни сердце Рахили Вайнтрауб оледенело от ужаса, словно его стиснула чья-то рука. У нее перехватило дыхание. Заткнув уши, она секунд десять сидела неподвижно, заставив себя переждать приступ страха. Успокоившись, она несколько раз глубоко вздохнула, ощупью нашла приборы и включила их. Никакой реакции. Рахиль подняла свой комлог и пробежала пальцами по клавиатуре. Опять ничего… Это было совершенно невозможно, принимая во внимание неуязвимость твердотельных схем и надежность батареи устройства. И тем не менее — ничего.
Рахиль слышала, как пульс колотится у нее в висках, но, усилием воли подавив подымающуюся волну страха, она принялась искать дорогу к единственному выходу отсюда. Мысль о том, что ей придется пробираться по лабиринту в абсолютной темноте, едва не заставила ее закричать, но ничего иного придумать она не могла.
Стоп. Ведь в лабиринте Сфинкса была старая осветительная проводка, а они развесили на ней люм-шары. Развесили. Выходит, там должна быть перлоновая линия, соединяющая их на протяжении всего пути к поверхности.
Отлично. Рахиль стала ощупью пробираться к выходу из подвала, пока ее пальцы не коснулись холодного камня. Неужели он и раньше был таким холодным?
Внезапно она услышала отчетливое поскрипывание, словно кто-то спускался по коридору, царапая по пути камень.
— Мелио? — крикнула она в темноту. — Таня? Курт?
Поскрипывание приближалось. Рахиль попятилась, опрокинув в темноте какой-то прибор и стул. Что-то коснулось ее волос, и, затаив дыхание, она подняла руку.
Потолок стал ниже. Пока она поднимала другую руку, эта квадратная каменная плита пяти метров в поперечнике опустилась еще ниже. Вход в коридор! Он ведь почти в двух метрах от пола… Выставив перед собой руки, как слепая, Рахиль кинулась к нему. Она споткнулась о складной стул, потом нащупала стол для приборов и, держась за него, добралась до стены в тот самый момент, когда опускающийся потолок подползал к нижнему краю отверстия. Она быстро выдернула пальцы из сужавшейся щели и села на пол.
Через несколько секунд заскрипел осциллоскоп, потом стол под ним затрещал и развалился. Рахиль в ужасе затрясла головой. И тут совсем рядом с ней раздался тихий — не громче вздоха — металлический скрежет. Она отшатнулась и растянулась на полу, заваленном разбитым оборудованием. Металлическое дыхание стало громче.
Что-то острое и неимоверно холодное схватило ее за руку.
И тут она наконец закричала.
В те дни на Гиперионе не было мультипередатчиков. Не было устройств для сверхсветовой связи и на спин-звездолете «Фарро-Сити». Поэтому Сол и Сара узнали о несчастном случае с дочерью только из мультиграммы консульства Гегемонии на Парвати, направленной непосредственно в колледж; в ней говорилось, что Рахиль была ранена, что жизнь ее вне опасности, хотя она до сих пор не пришла в сознание, и что ее отправили на санитарном «факельщике» с Парвати в Сеть, на Возрождение-Вектор. Путешествие должно было занять немногим более десяти суток корабельного времени при объективном пятимесячном запаздывании. Эти пять месяцев превратились для Сола и его жены в настоящую пытку, и когда санитарный звездолет причалил наконец к нуль-терминатору «Возрождение», они были готовы к самому худшему. Прошло восемь лет с тех пор, как они последний раз видели Рахиль.
Медицинский центр Да Винчи представлял собой плавающую башню, поддерживаемую на поверхности воды с помощью направленных пучков энергии. От вида на море Комо просто дух захватывало, но Солу и Саре было не до пейзажей, когда они обходили один уровень за другим в поисках Рахили. Доктор Сингх и Мелио Арундес встретили их в осевом холле отделения интенсивной терапии. Представились они на ходу.
— Как Рахиль? — спросила Сара.
— Спит, — ответила доктор Сингх, высокая женщина с надменными чертами лица и добрыми глазами. — Насколько мы можем судить, Рахиль не получила никаких физических… гм… повреждений. Но она оставалась без сознания семнадцать стандартных недель своего субъективного времени. Только десять дней назад на ее энцефалограмме появились ритмы обычного глубокого сна, а не комы.
— Не понимаю, — пробормотал Сол. — Что-то случилось на раскопках? Ее контузило?
— Что-то там произошло, — ответил Мелио Арундес, — но вот что? Мы можем только гадать. Рахиль находилась в одном из сооружений… одна… Ее комлог и другие приборы не зарегистрировали ничего необычного. Однако в это время произошло резкое усиление местной аномалии — так называемого антиэнтропийного поля…
— Временные приливы, — сказал Сол. — Мы знаем о них. Дальше.
Арундес кивнул и раскинул руки, словно обхватывая воздух.
— Произошел… всплеск поля… скорее цунами, чем прилив… Сфинкс… сооружение, в котором находилась Рахиль… полностью затопило. То есть физических повреждений не было никаких, но когда мы разыскали Рахиль, она была без сознания. — Он беспомощно повернулся к доктору Сингх.
— Ваша дочь была в коме, — сказала доктор. — Это состояние не позволило подвергнуть ее криогенной фуге…
— Значит, Рахиль совершила квантовый прыжок, не защищенная фугой? — Сол побледнел. Ему приходилось читать, какие психические травмы получают путешественники, испытавшие на себе воздействие эффекта Хоукинга.
— Нет, — поспешила успокоить его доктор Сингх. — Состояние, в котором она находилась, предохраняет ничуть не хуже фуги.
— Ей больно? — тихо спросила Сара.
— Мы не знаем, — ответила доктор Сингх. — Все симптомы свидетельствуют о возвращении к норме. Активность мозга приближается к обычному уровню. Проблема в том, что ее тело как бы поглотило… что она оказалась как бы зараженной антиэнтропийным полем.
Сол потер лоб:
— Что-то вроде наведенной радиации?
Доктор Сингх замялась:
— Не совсем… Этот случай абсолютно беспрецедентен. Сегодня после полудня сюда должны прибыть специалисты по геронтопатологии ТК-Центра, Лузуса и Метаксаса.
Сол посмотрел ей в глаза:
— Доктор, вы хотите сказать, что Рахиль заболела на Гиперионе какой-то геронтопатией? — Он на секунду замолчал, роясь в памяти. — Что-нибудь вроде синдрома Мафусаила или ранней болезни Альцгеймера?
— Нет, — ответила Сингх. — То, чем больна ваша дочь, названия не имеет. Здешние медики называют это болезнью Мерлина. Видите ли… процесс старения вашей дочери протекает с нормальной скоростью… но, как нам кажется, в обратном направлении.
Сара отшатнулась и посмотрела на нее, как на сумасшедшую.
— Я хочу увидеть мою дочь, — произнесла она негромко, но очень твердо. — Я хочу увидеть ее сейчас же.
Рахиль проснулась примерно через сорок часов после прихода Сола и Сары. Почти сразу же она села в кровати и заговорила с ними, не обращая ни малейшего внимания на суетившихся вокруг нее врачей и техников.
— Мама! Папа! Как вы здесь оказались? — Но прежде чем кто-либо успел ей ответить, она огляделась и удивленно заморгала. — Постойте-ка, а где это — здесь? Мы в Китсе?
Мать взяла ее за руку:
— Это клиника в Да Винчи, доченька. На Возрождении-Вектор.
Глаза Рахили расширились, что со стороны выглядело довольно комично.
— Возрождение? Так мы в Сети? — В полной растерянности она огляделась по сторонам.
— Рахиль, что тебе запомнилось последним? — спросила ее доктор Сингх.
Девушка недоуменно посмотрела на нее:
— Последнее? Я… я помню, как заснула рядом с Мелио после… — Она бросила взгляд на своих родителей и коснулась щек кончиками пальцев. — Мелио? И все другие? Они…
— Все члены экспедиции живы и здоровы, — успокоила ее Сингх. — Произошел небольшой несчастный случай. С тех пор прошло уже около семнадцати недель. Вы снова в Сети. В безопасности. И у ваших коллег все в порядке.
— Семнадцать недель… — Лицо Рахили под остатками загара побледнело.
Сол взял ее за руку:
— Как ты себя чувствуешь, детка?
Она пожала ему руку в ответ… так слабо, что у него заныло сердце.
— Я не знаю, папа, — с трудом проговорила она. — Я устала. Голова кружится. Все путается.
Сара села к ней на кровать и обняла ее:
— Все в порядке, девочка. Теперь все будет в полном порядке.
В комнату вошел Мелио, небритый, с волосами, взъерошенными после непродолжительного сна в приемном покое.
— Рахиль? — заговорил он.
Рахиль, спрятавшись в материнских объятиях, робко посмотрела на него.
— Привет, — ответила она тихонько. — Я вернулась.
Сол давно пришел к выводу, что медицина практически не изменилась со времен пиявок и припарок. Сейчас больных вращают в центрифугах, подвергают воздействию переменных магнитных полей, бомбардируют ультразвуком, копаются в клетках, кромсают ДНК, а затем с умным видом расписываются в своем невежестве. Изменились только гонорары — стали больше.
Он дремал в кресле, когда голос Рахили разбудил его.
— Папа?
Он сразу выпрямился и взял ее за руку:
— Я здесь, детка.
— Папа, где я? Что случилось?
— Ты в клинике на Возрождении, детка. На Гиперионе с тобой произошел несчастный случай. Сейчас все в порядке, за исключением небольшого провала в памяти.
Рахиль крепко сжала его руку.
— Клиника? В Сети? Как я сюда попала? Я здесь давно?
— Почти пять недель, — прошептал Сол. — Что тебе запомнилось последним, Рахиль?
Она откинулась на подушку и дотронулась рукой до лба, тут же почувствовав укрепленные там миниатюрные датчики.
— Мелио и я пришли с собрания. Мы обсуждали способы исследования Сфинкса. О… папа… я ведь еще не рассказала тебе про Мелио… мы…
— Да, да, — поторопился успокоить ее Сол. — Послушай вот это, дочка. — И, вручив Рахили ее комлог, он быстро вышел из палаты.
Рахиль включила комлог и растерянно заморгала, услышав собственный голос.
Привет, Рахиль, ты только что проснулась. У тебя все перепуталось в голове, и ты не знаешь, как попала сюда. С тобой что-то случилось, детка. Сиди и слушай.
Я записываю это в двенадцатый день десятого месяца 457 года Хиджры, или 2739 года по старому летосчислению. Да, конечно, я знаю, что прошло полстандартного года после того события, которое запомнилось тебе последним. Слушай же.
В Сфинксе что-то случилось. Тебя накрыл временной прилив. Он изменил тебя. Ты теперь стареешь вспять, как бы нелепо это ни звучало. Твой организм становится моложе каждую минуту, хотя пока это не столь важно. Когда ты спишь… когда мы спим… ты все забываешь. Из памяти исчезает еще один день до происшествия, а вместе с ним — все, что ты узнала. Не спрашивай меня почему. Врачи ничего не знают. Эксперты ничего не знают. Если тебе нужна аналогия, представь себе «червяка» — это компьютерный вирус, один из самых старых — как он съедает информацию в твоем комлоге в обратном порядке, начиная с самой последней записи.
Им неизвестно, почему ты теряешь память во время сна. Они пробовали удерживать тебя в бодрствующем состоянии, но примерно через тридцать часов ты на какое-то время погружаешься в кататонию, и вирус снова делает свое дело. Старайся, не старайся — один черт.
Знаешь, этот разговор о себе во втором лице — своего рода терапия. И в самом деле, я лежу здесь и жду, когда меня повезут на очередной сеанс имидж-терапии, и в то же время знаю, что засну, когда вернусь назад… и снова все забуду… и у меня сводит живот от страха.
Ну хорошо, набери на пульте «память оперативная», и ты получишь увлекательный рассказ обо всем, что произошло с тобой после несчастного случая. Да, мама и папа… Они были здесь, и они знают о Мелио. Но я-то знаю теперь меньше, чем раньше. Когда мы начали заниматься любовью? Через два месяца после прибытия на Гиперион? Значит, у нас осталось всего лишь несколько недель, слышишь, Рахиль, а после этого мы будем просто знакомы. Радуйся своим воспоминаниям, детка, пока можешь.
Это вчерашняя Рахиль. Конец.
Войдя в палату, Сол увидел, что его дочь, выпрямившись, сидит в кровати, крепко сжимая комлог. Ее лицо побледнело и исказилось от ужаса.
— Папа…
Он подошел, сел с ней рядом и дал ей выплакаться… в двадцатый раз подряд.
Спустя восемь стандартных недель после того, как Рахиль доставили на Возрождение, Сол и Сара попрощались с ней и Мелио в пассажирском нуль-комплексе Да Винчи и отправились домой на Мир Барнарда.
— По-моему, ей не следовало покидать клинику, — проворчала Сара, когда они на вечернем челноке летели в Кроуфорд. Под ними расстилались пестрые прямоугольники ожидающих жатвы полей.
— Мать… — Сол тронул ее за колено. — Ты же видишь, доктора готовы вечно держать ее там. Но они это делают для удовлетворения собственного любопытства. Они испробовали все что могли, стараясь помочь ей, и… ничего. А ей ведь надо как-то прожить свою жизнь.
— Но почему она едет с ним… с этим парнем? — недоумевала Сара. — Она почти не знает его.
Сол вздохнул и откинулся на подушки сиденья.
— Через две недели она совсем забудет его, — сказал он. — По крайней мере их больше ничто не будет связывать. Взгляни на это с ее точки зрения, мать. Каково ей бороться каждый день, чтобы заново сориентироваться в обезумевшем мире. Ей двадцать пять лет, и она влюблена. Пусть будет счастлива пока может.
Сара повернулась к окну, и супруги стали молча глядеть на закатное солнце, висевшее над горизонтом, словно красный воздушный шар.
* * *
У Сола уже начался второй семестр, когда наконец позвонила Рахиль. Это было одностороннее сообщение, переданное по нуль-каналу Фрихольма, и ее изображение, повисшее в центре старой голониши, походило скорее на призрак.
— Привет, ма. Привет, па. Не сердитесь, что я несколько недель не звонила и не писала. Вы уже, наверное, знаете, что я бросила университет. И Мелио тоже. Продолжать занятия было просто глупо. Я во вторник забываю, о чем нам говорили в понедельник. Даже диски и комлоги не помогают. Я могла бы снова записаться на подготовительный курс… Его я помню хорошо. Шутка. И с Мелио мне тоже было очень трудно. По крайней мере, судя по моим запискам. Он не виноват, я уверена. Он был нежен и терпелив со мною и любил меня до самого конца. Просто дело в том, что… такие отношения нельзя начинать заново каждый день. Наша квартира битком набита нашими фотографиями, записками, которые я писала самой себе о нас, нашими голограммами, сделанными на Гиперионе, но… вы понимаете. Утром я воспринимаю его как совершенно незнакомого человека. Днем начинаю верить, что между нами что-то было, однако вспомнить ничего не могу. К вечеру рыдаю в его объятиях… ну а потом рано или поздно засыпаю. Так что все правильно.
Изображение Рахили заколыхалось, словно она собиралась разомкнуть контакт, а затем вновь стало устойчивым. Она улыбнулась.
— Во всяком случае, я пока бросила учебу. Медицинский центр Фрихольма предлагает мне постоянную должность, но им придется встать в очередь… Я получила предложение из научно-исследовательского института Тау-Кита, которое трудно отклонить. Они мне предлагают… кажется, это у них называется «исследовательский гонорар»… так вот, за четыре года в Найтенгельзере и за все обучение в Рейхсе мы столько не заплатили. Я не стала с ними связываться. Я все еще амбулаторная больная, но трансплантации рибонуклеиновой кислоты не приносят мне ничего хорошего, кроме депрессии и синяков, и само собой, что у меня всегда депрессия: ведь утром я никак не могу вспомнить, откуда взялись синяки. Ха-ха.
Во всяком случае, я тут еще немного поживу с Таней, а затем, может быть… я подумала, может быть, я на время приеду домой? Во втором месяце мой день рождения… Мне снова будет двадцать два. Странно, да? Во всяком случае, намного легче находиться среди знакомых, а с Таней я познакомилась сразу же, когда приехала сюда. Мне тогда исполнилось двадцать два… Я думаю, вы все поняли.
Да… Моя старая комната все еще моя, мама, или ты превратила ее в игровой зал для ма-джонга, как всегда грозилась? Напишите мне или позвоните. В следующий раз я раскошелюсь на двустороннюю связь, и мы поговорим по-настоящему. Я просто… я подумала… — Рахиль помахала рукой. — Ухожу. Счастливо, аллигаторы. Я люблю вас.
До дня рождения Рахили оставалась неделя, когда Сол полетел в Буссард-Сити, чтобы встретить ее на единственном в этом мире пассажирском нуль-Т-терминале. Он увидел ее первый — она стояла с вещами у цветочных часов. Выглядела она молодо, но не намного моложе, чем при расставании на Возрождении-Вектор. Нет, вдруг понял Сол, в ее позе появилась какая-то неуверенность. Он тряхнул головой, отгоняя эту грустную мысль, окликнул дочь, подбежал к ней и обнял.
Ее лицо было таким растерянным, что у него опустились руки.
— Что с тобой, милая? Что-нибудь не так?
Видно было, что ей трудно подыскать слова — раньше с ней такое случалось крайне редко.
— Я… ты… я забыла, — запинаясь, пробормотала она. Знакомым движением тряхнув головой, она заплакала и рассмеялась сквозь слезы. — Ты как-то непривычно выглядишь, отец. Я помню, как мы прощались здесь. Это было… ну прямо… вчера. А сейчас я увидела… твои волосы… — Она поспешно прикрыла рот рукой.
Сол провел рукой по голове.
— Ах да, — сказал он, внезапно почувствовав, что тоже готов одновременно смеяться и плакать. — Все это твоя учеба и путешествия. Как-никак прошло больше одиннадцати лет. Я постарел. И полысел. — Он снова ее обнял. — Добро пожаловать, моя маленькая.
Рахиль прижалась к нему, спрятав лицо у него на груди.
Несколько месяцев было совсем неплохо. Рахиль чувствовала себя более уверенно в знакомой обстановке, и Сара, радуясь, что дочь с ней рядом, меньше думала о ее болезни.
Каждый день Рахиль просыпалась рано утром и просматривала свое личное «ориентировочное шоу», которое, как было известно Солу, содержало голограммы его и Сары, таких, какие они сейчас, то есть на дюжину лет старше, чем Рахиль их помнила. Сол пытался представить, что она чувствует при этом. Вот она просыпается в своей постели, твердо зная, что ей двадцать два года, она дома, на каникулах и собирается вновь покинуть Барнард, чтобы продолжить учебу, а кончается все это тем, что она видит своих внезапно постаревших родителей, сотню мелких изменений в доме, в городе, множество новшеств… Годы неумолимо проходят мимо нее.
Нет, он не мог представить себе это.
Первой их ошибкой было то, что они послушались Рахиль и пригласили ее старых друзей отпраздновать ее двадцатидвухлетие — ту же самую компанию, что отмечала эту дату в первый раз: неутомимая Ники, Дон Стюарт и его приятель Говард, Кати Обег и Марта Тин, ее лучшая подруга Линна Маккайлер — все только что окончившие колледж, сбросившие кокон детства, чтобы начать новую, взрослую жизнь.
Рахиль видела их всех после своего возвращения. Но она уснула… и забыла. А Солу и Саре как-то не пришло в голову, что Рахиль все забыла.
Ники было тридцать четыре года, она воспитывала двоих детей — все такая же энергичная и неутомимая, но старушка в глазах Рахили. Дон и Говард беседовали о своих инвестициях и спортивных достижениях своих детей, которых вскоре ожидали на каникулы. Кати вела себя скованно: она обменялась с Рахилью всего парой фраз, да и то с таким видом, будто считала ее аферисткой, которая всем морочит голову. Марта открыто завидовала ее молодости. Линна, которая за эти годы стала ревностной поклонницей дзен-гностицизма, расплакалась и очень скоро ушла.
Когда все разошлись, Рахиль сидела за неубранным столом и пристально разглядывала недоеденный именинный пирог. Она не плакала. Прежде чем подняться к себе наверх, она обняла мать и прошептала отцу:
— Папа, пожалуйста, не слушайся меня больше, если мне захочется чего-нибудь в этом роде.
Затем она поднялась наверх и легла спать.
Весной Солу снова приснился тот сон. Снова он заблудился в огромном темном помещении, освещенном двумя красными шарами. Но на этот раз ему было не до смеха, когда все тот же голос монотонно произнес:
«Сол! Возьми дочь твою, твою единственную, которую ты любишь, Рахиль; и отправляйся в мир, называемый Гиперион, и там принеси ее во всесожжение в месте, о котором Я скажу тебе».
Сол закричал в темноту: «Она уже принадлежит тебе, мерзавец! Что я должен сделать, чтобы вернуть ее назад? Скажи! Скажи мне, будь ты проклят!» Он проснулся весь в поту, со слезами на глазах и сердцем, горящим от гнева. Из соседней комнаты до него доносилось дыхание дочери; она мирно спала, и в это время ее пожирал огромный червь.
После этого Сол, словно одержимый, стал собирать информацию о Гиперионе, Гробницах Времени и Шрайке. Исследователь с огромным опытом, он был поражен скудостью надежных данных об этом поразительном феномене. Разумеется, существовала Церковь Шрайка (на Барнарде ее святилищ не было, но в Сети их насчитывалось достаточно), однако очень быстро он убедился, что искать надежную информацию о Шрайке в священных книгах его церкви — все равно что изучать географию Сарнатха,[33] посещая буддийские монастыри. Время упоминалось в догмате Церкви Шрайка, но лишь в том смысле, что Шрайк считался «…Ангелом Возмездия, пребывающим вне времени» и что подлинное время кончилось для человечества с гибелью Старой Земли, а четыре столетия, прошедшие с тех пор, есть не что иное, как «ложное время». Сол понял, что все эти трактаты представляют собой обычную смесь лицемерной болтовни и ковыряния в собственном пупке, характерную для большинства религий. Тем не менее он собирался посетить одно из святилищ Шрайка, когда более серьезные пути исследования окажутся исчерпанными.
Мелио Арундес тем временем снарядил на Гиперион еще одну экспедицию (средства снова выделил Рейхсуниверситет). Ее целью было изучение временных приливов и выявление фактора, вызвавшего у Рахили болезнь Мерлина. Гиперион получил наконец статус протектората, и на этот раз экспедиция везла с собой мультипередатчик — его предполагалось установить в консульстве Гегемонии в Китсе. Однако в Сети пройдет еще три года, прежде чем экспедиция прибудет на Гиперион. Первым побуждением Сола было бросить все и лететь с Арундесом и его группой к месту событий. Но он быстро справился со своим порывом. Историку и философу там делать нечего: даже в лучшем случае его вклад в успех экспедиции будет невелик. Рахиль кое-какие навыки и познания в археологии еще сохраняла, но они убывали с каждым днем, а ее присутствие на месте происшествия вряд ли поможет ученым. Для самой же Рахили это обернется ежедневным кошмаром пробуждения в незнакомом мире, где от нее потребуется позабытая ею сноровка. Сара этого ни за что не допустит.
Сол отложил книгу, над которой работал — анализ кьеркегоровской теории этики как моральной диалектики применительно к правовому механизму Гегемонии, — и сосредоточился на изучении нетрадиционных взглядов на природу времени, на Гиперионе, а также на истории Авраама.
Однако месяцы, проведенные за обычными делами и сбором информации, только усилили его жажду действия. Время от времени он отводил душу на всевозможных медицинских светилах, которые потянулись к Вайнтраубам, словно паломники к святыне.
— Как, черт возьми, это может быть! — обрушился он на чопорного специалиста, на свою беду решившего проявить снисходительность к отцу пациентки. Врач был настолько безволосым, что его лицо казалось нарисованным на бильярдном шаре. — Она становится все меньше! — кричал Сол, чуть не за ворот хватая пятившегося специалиста. — Внешне это не очень заметно, но уменьшается костная масса. Понятно вам? Как это может быть, что она опять становится ребенком? Как это, черт возьми, согласуется с законами сохранения?
Тот шевелил губами, но не мог произнести ни слова. За него ответил бородатый коллега:
— Господин Вайнтрауб, сэр, — вам следует понять, что ваша дочь в настоящее время является носителем… э-э… ну, назовем это локализованным участком обращенной энтропии.
Сол резко повернулся к нему.
— Вы хотите сказать, что она просто-напросто застряла в каком-то пузыре обратного времени?
— Э-э… нет, — торопливо ответил ученый, потирая подбородок. — Возможно, более удачная аналогия… биологически, по крайней мере… скажем, метаболические процессы в ее организме пошли в обратном направлении… м-м…
— Чепуха, — отрезал Сол. — Она же ест, а не срыгивает пищу. Ну а нервная деятельность? Поверните электрохимические импульсы в обратном направлении, и что вы получите? Чепуху. Ее мозг работает, господа… Память, вот что исчезает. Почему это случилось? Почему?
К лысому коротышке наконец вернулся дар речи:
— Мы не знаем почему, господин Вайнтрауб. Математически организм вашей дочери напоминает уравнение, обращенное во времени… или, может быть, объект, прошедший через быстро вращающуюся черную дыру. Мы не знаем, как это случилось, и почему физически невозможное вдруг стало возможным, господин Вайнтрауб. Мы просто слишком мало знаем.
Сол пожал обоим руки.
— Прекрасно. Это мне и нужно было узнать. Желаю вам доброго пути.
* * *
Рахили исполнился двадцать один год. Вечером дня рождения, через час после того, как все легли, она постучалась в спальню Сола.
— Папа?
— Что случилось, детка? — Сол накинул халат и открыл дверь. — Не можешь уснуть?
— Я не спала двое суток, — прошептала она. — Я нарочно заставляла себя не спать, чтобы просмотреть все записи, которые включила в файл «Хочу знать».
Сол понимающе кивнул.
— Папа, давай спустимся вниз и чего-нибудь выпьем. Ладно? Мне надо с тобой поговорить.
Сол взял с ночного столика очки и спустился вслед за Рахилью.
В первый и последний раз в жизни Сол напился допьяна вместе с дочерью. Это не было вульгарной пьянкой. Сначала они просто сидели и болтали, затем принялись рассказывать анекдоты и каламбурить и так увлеклись, что вскоре уже не могли говорить от смеха. Рахиль попыталась рассказать какую-то историю, но в самом смешном месте фыркнула и чуть не захлебнулась виски. Им обоим казалось, что еще ни разу они так не веселились.
— Я возьму еще бутылку, — сказал Сол, утирая слезы. — Декан Мур подарил мне на прошлое Рождество шотландское виски… по-моему.
Когда он вернулся, Рахиль сидела на диване и приглаживала волосы. Он налил ей чуть-чуть, они выпили и немного помолчали.
— Папа?
— Да?
— Я просмотрела все. Видела себя, слышала себя, видела голографии Линны и всех остальных… пожилых…
— Ну, наверное, все-таки не пожилых, — возразил Сол. — Линне будет только тридцать пять через месяц…
— Нет, они старые, и ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Одним словом, я прочла все медицинские заключения, видела фото, сделанные на Гиперионе, и знаешь что?
— Что?
— Я ничему этому не верю, отец.
Сол поставил бокал и посмотрел на дочь. Ее лицо снова округлилось и стало не таким взрослым. И даже более красивым.
— Я хочу сказать, что верю этому, — продолжала она с нервным смешком. — Вряд ли ты и мама могли так жестоко подшутить надо мной. И к тому же ваш… возраст… всякие события и все вокруг. Я знаю, что все это на самом деле, но я не верю этому. Ты понимаешь меня, отец?
— Да, — ответил Сол.
— Я проснулась сегодня утром и подумала: «Ничего себе, завтра экзамен по палеонтологии, а я еще учебник не открывала». Мне очень хотелось проучить Роджера Шермана… он считает себя таким умником.
Сол отпил виски.
— Рождер три года тому назад погиб в авиакатастрофе южнее Буссарда, — сказал он. Он ни за что бы об этом не заговорил, если бы не виски, но рано или поздно он должен понять, существует ли Рахиль внутри Рахили.
— Я знаю, — отозвалась Рахиль и уткнулась подбородком в колени. — Я ведь перебрала всех, кого знала. Грэм умер. Профессор Эйкхард больше не читает лекций. Ники вышла замуж за какого-то… коммивояжера. За четыре года многое произошло.
— Больше чем за одиннадцать лет, — поправил ее Сол. — Слетав на Гиперион и обратно, ты отстала от нас, не покидавших планеты, на шесть лет.
— Но это же нормально! — выкрикнула вдруг Рахиль. — Люди все время путешествуют вне Сети. И приспосабливаются.
Сол кивнул.
— Но здесь все иначе, детка.
Рахиль невесело улыбнулась и допила свое виски.
— Ты очень сдержанно выразился. — Отставленный ею бокал громко стукнул. — Послушай, вот что я решила. Я провела двое суток и даже больше, изучая все, что она… что я… приготовила, чтобы дать мне возможность узнать, что случилось раньше, что сейчас происходит, и… никакого толку.
Сол сидел не шевелясь, даже перестал дышать.
— Я хочу сказать, — продолжила Рахиль, — что становлюсь моложе с каждым днем, теряю память о людях, с которыми даже еще не встречалась… ну а дальше что? Я так и буду становиться все меньше, и все моложе, и все бестолковей, а потом в один прекрасный день просто исчезну? Папа, Господи, — Рахиль еще крепче обхватила колени руками, — тебе не кажется, что это даже смешно, только… странновато?
— Нет, — тихо ответил Сол.
— Ну, конечно, нет. — Глаза Рахили, всегда большие и темные, увлажнились. — Представляю, какой это кошмар для мамы и для тебя. Каждый день вы смотрите, как я спускаюсь вниз по лестнице… в смятении… Ведь я просыпаюсь с воспоминаниями вчерашнего дня, слышу, как мой собственный голос говорит мне, что вчерашний день был годы назад. Что у меня был роман с каким-то парнем по имени Амелио…
— Мелио, — прошептал Сол.
— Какая разница? Это все не помогает, вот в чем дело, папа. К тому времени, когда я начинаю наконец что-то усваивать, меня уже тянет в сон от усталости. А потом… Ну, ты же знаешь, что происходит потом.
— Что… — начал Сол и замолчал. Потом кое-как выдавил из себя: — Что ты хочешь, чтобы мы сделали, малыш?
Рахиль посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Это была та самая улыбка, которой она одаряла его, начиная с пятинедельного возраста.
— Не говори мне об этом, отец, — сказала она твердо. — И не позволяй мне говорить об этом самой себе. Это только причиняет боль. Все это было не со мной… — Она замолкла и провела рукой по лбу. — Ты понимаешь, что я имею в виду, папа? Та Рахиль, которая отправилась на другую планету, и влюбилась, и попала в катастрофу… это была другая Рахиль! Я не хочу переносить ее боль. — Она заплакала. — Ты понимаешь? Понимаешь, папа?
— Да, — ответил Сол. Он обнял ее и ощутил тепло ее тела, влагу ее слез. — Да, понимаю.
В следующем году с Гипериона чуть ли не каждый день начали приходить мультиграммы, но все они носили отрицательный характер. Природа и источник антиэнтропийных полей не установлены. Активность временных приливов в районе Сфинкса в обычных пределах. Эксперименты с лабораторными животными в приливных районах и вокруг них привели к внезапной гибели некоторых животных, но болезни Мерлина не обнаружили ни у одного. Каждое сообщение Мелио заканчивал словами: «Передайте Рахили, что я ее люблю!»
Деньги, полученные от Рейхсуниверситета, Сол и Сара использовали, чтобы пройти частичную поульсенизацию в Буссард-Сити. Они были уже слишком стары, чтобы эта процедура продлила их жизнь еще на один век, зато внешне супруги сейчас выглядели скорее пятидесятилетними, чем семидесятилетними. Они изучили старые семейные фотографии и пришли к выводу, что подобрать костюмы, какие они носили полтора десятка лет назад, не составит особого труда.
Шестнадцатилетняя Рахиль сбежала по лестнице со своим комлогом, настроенным на радиостанцию колледжа.
— Мне сегодня рисовую кашу. Можно?
— Ты и так ее ешь каждое утро, — улыбнулась Сара.
— Да. — Рахиль тоже улыбнулась. — Я просто подумала, а вдруг ты ее не сварила или уж не знаю что. Я слышала телефонный звонок. Это Ники?
— Нет, — ответил Сол.
— Черт, — вырвалось у Рахили, и она испуганно взглянула на родителей. — Простите, она ведь обещала позвонить, как только станут известны результаты. После консультации прошло уже три недели. Мне кажется, я слышала что-то такое.
— Не беспокойся, детка, — сказал Сара. Она принесла кофейник и первым делом налила кофе в чашку Рахили, потом себе. — Не беспокойся, милая. Поверь мне, твои оценки будут достаточно хороши, чтобы поступить в любой колледж, какой тебе понравится.
— Ма, — удрученно вздохнула Рахиль, — как ты не понимаешь? Мы живем в мире, где все готовы друг друга съесть. — Она нахмурилась. — Ты не видела мою мультиприставку по математике? У меня в комнате черт ногу сломит. Ничего не могу найти.
Сол откашлялся.
— Сегодня никаких занятий, детка.
Рахиль с удивлением посмотрела на него:
— Нет занятий? Во вторник? За шесть недель до окончания школы? Что случилось?
— Ты была больна, — твердо ответила Сара. — Один день ты вполне можешь посидеть дома. Всего один.
Рахиль нахмурилась еще сильнее.
— Больна? Я не чувствую себя больной. Просто все как-то странно. Как будто что-то… не в порядке. Ну, например, почему вдруг переставили диван в комнате информации? И где Чипс? Я звала его, звала, а он не пришел.
Сол дотронулся до ее руки.
— Ты очень долго болела, — сказал он. — Доктор говорит, что у тебя могут быть провалы в памяти. Мы поговорим по дороге в колледж. Хорошо?
Лицо Рахили прояснилось.
— Пойти в колледж, а с уроков смотаться? Прекрасно. — По ее лицу вдруг мелькнула тень испуга: — А если мы встретим Роджера Шермана? Он ведает приемом новичков и такой въедливый, такой зануда!
— Мы не встретим Роджера, — успокоил ее Сол. — Ты готова?
— Почти. — Рахиль наклонилась к матери и крепко обняла ее. — Счастливо, аллигатор.
— Пока, крокодил, — отозвалась Сара.
— О’кей, — весело улыбнулась Рахиль и встряхнула головой. — Я готова.
Постоянные поездки в Буссард-Сити заставили Сола купить магнитоплан. Прохладным осенним днем он двинулся в путь по самому медленному маршруту, проходившему намного ниже скоростных трасс. Он наслаждался пейзажем и запахом скошенной травы.
Мужчины и женщины, работавшие в полях, приветливо махали ему вслед.
Со времен его детства Буссард значительно расширился, но синагога по-прежнему располагалась на окраине одного из самых старых районов города. Храм тоже был стар, и старина эта чувствовалась во всем. Даже ермолка, которую Сол надел при входе, показалась ему изношенной за долгие десятилетия чуть не до прозрачности. Раввин, однако, оказался молодым. Сол понимал, что ему лет сорок, не меньше, — волосы, выглядывавшие из-под ермолки, явно поредели, — но для Сола он все равно был мальчишкой. Сол облегченно вздохнул, когда раввин предложил ему продолжить беседу в парке, расположенном на другой стороне улицы.
Они уселись на скамейку. Сол с удивлением обнаружил, что все еще держит в руках ермолку, беспокойно теребя ее. В воздухе пахло сыростью — ночью шел дождь — и сгоревшей листвой.
— Я не совсем понимаю, господин Вайнтрауб, — сказал раввин. — Что все-таки вас тревожит: сон или то обстоятельство, что ваша дочь заболела после того, как он начал вам сниться?
Сол поднял голову, подставляя лицо солнцу.
— Если быть точным, ни то и ни другое, — ответил он. — Я просто чувствую, что эти два события как-то связаны между собой.
Раввин потрогал пальцем нижнюю губу.
— Сколько лет вашей дочери?
— Тринадцать, — чуть помедлив, ответил Сол.
— И эта болезнь… серьезная? Она угрожает ее жизни?
— Нет, жизни она не угрожает. Пока.
Раввин чинно сложил руки на своем объемистом животе.
— Вы не думаете… можно я буду звать вас Солом?
— Конечно.
— Сол, вы не думаете, что этот ваш сон… что он каким-то образом стал причиной болезни вашей девочки?
— Нет, — ответил Сол и задумался, правдив ли его ответ. — Нет, ребе, я так не считаю.
— Зовите меня Морт.
— Хорошо, Морт. Я пришел не потому, что считаю самого себя… или свой сон причиной болезни Рахили. Но мне кажется, мое подсознание все время пытается мне что-то подсказать.
Морт откинулся на спинку скамейки.
— Может, вам стоит обратиться к неврологу или психологу? Я не совсем понимаю, что…
— Дело в том, что меня интересует история Авраама, — прервал его Сол. — Знаете, я изучал различные этические системы, но мне трудно понять этику, которая начинается с приказа отцу заколоть родного сына.
— Нет, нет, нет! — вскричал раввин, по-детски грозя ему пальцем. — Ведь, когда настало время, Господь остановил руку Авраама. Он не мог допустить, чтобы во славу его приносились человеческие жертвы. Одной лишь покорности воле господней, вот чего он…
— Да, — ответил Сол. — Только покорности. Но ведь сказано: «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего».[34] Бог, я думаю, заглянул к нему в душу и увидел, что Авраам готов заколоть Исаака. Внешняя покорность без внутренней готовности совершить убийство вряд ли умиротворила бы Бога Ветхого Завета. А что случилось бы, если бы Авраам любил своего сына больше, чем Бога?
Морт побарабанил пальцами по колену, затем положил руку Солу на плечо:
— Сол, я понимаю, вас волнует болезнь вашей дочки. Но при чем тут документ, написанный восемь тысяч лет назад? Расскажите мне о вашей девочке. Ведь дети больше не умирают от болезней. Во всяком случае, в Сети.
Сол с улыбкой встал и сделал шаг назад, освобождаясь от руки раввина:
— Я бы хотел поговорить с вами еще, Морт. Очень хотел бы. Но мне надо возвращаться. У меня сегодня вечером занятия.
— А в эту субботу вы придете в храм? — спросил раввин, протягивая на прощание руку.
Сол сунул ему ермолку.
— Возможно, приду на днях, Морт. Обязательно.
В один из вечеров той же осени Сол, выглянув из окна своего кабинета, увидел темную фигуру, стоявшую под голым вязом. «Репортер», — с замиранием сердца подумал Сол. Все десять лет он страшился того дня, когда секрет раскроется, понимая, что на этом кончится их простая и спокойная жизнь в Кроуфорде. Он вышел во двор.
— Мелио! — воскликнул он, разглядев лицо человека.
Археолог стоял, засунув руки в карманы длинного синего пальто. Десять стандартных лет, прошедших со времени их последней встречи, Арундеса почти не изменили — Сол догадался, что ему все еще не больше тридцати. Но загорелое лицо молодого человека прорезали глубокие морщины.
— Сол. — Он робко протянул ему руку.
Сол горячо пожал ее.
— Я и не знал, что вы вернулись. Заходите в дом!
— Нет. — Археолог отступил назад. — Я здесь уже около часа. И так и не набрался храбрости.
Сол хотел что-то сказать, но промолчал и понимающе кивнул. Руки начали мерзнуть, и он сунул их в карманы. Над темным коньком крыши проступали первые звезды.
— Рахиль еще не вернулась, — сказал он наконец. — Она пошла в библиотеку. Она… она считает, что у нее скоро контрольная по истории.
У Мелио словно ком стал в горле, и он лишь молча кивнул.
— Сол, — сделав над собой усилие, заговорил он, — поверьте, мы сделали все, что было в наших силах. Наша группа провела на Гиперионе без малого три стандартных года. Мы бы и дальше оставались там, но университет перестал нас финансировать. Там не было ровно ничего…
— Мы это знаем, — отозвался Сол. — Мы с женой вам очень благодарны за мультиграммы.
— Я месяцами не вылезал из Сфинкса, — продолжал Мелио. — Судя по показаниям приборов, он ничем не отличается от обыкновенной груды камней, но временами мне казалось, что я чувствую… чувствую что-то… — Он опять покачал головой. — Я подвел ее!
— Нет, — ответил Сол и сквозь шерстяное пальто стиснул плечо собеседника. — Вы здесь ни при чем. Мы запрашивали сенаторов… Я беседовал даже с руководством Научного Совета и никто не мог мне объяснить, почему Гегемония не пожелала потратить больше времени и средств на исследование Гипериона. Мне кажется, им давно уже следовало бы включить этот мир в Сеть, хотя бы из-за его научной ценности. Неужели им наплевать на загадку Гробниц?
— Я понимаю, что вы хотите сказать, Сол. Здесь подозрительно многое, хотя бы то, как поспешно прикрыли финансирование нашей группы. Похоже, Гегемония стремится держать Гиперион на определенной дистанции.
— Вы думаете… — начал было Сол, но тут из сгустившихся осенних сумерек появилась Рахиль. Ее волосы были коротко подстрижены по подростковой моде тридцатилетней давности, круглые щеки раскраснелись от холода, руки она глубоко засунула в карманы красной куртки. Она находилась сейчас на границе юности и детства и в своей одежде — джинсы, кроссовки и толстая куртка — вполне могла сойти за мальчика.
Рахиль улыбнулась.
— Привет, папа.
Подойдя ближе, она застенчиво кивнула Мелио.
— Простите, я кажется, помешала вашей беседе.
Сол облегченно перевел дыхание.
— Нет, что ты, детка. Рахиль, это доктор Арундес из Рейхсуниверситета на Фрихольме. Доктор Арундес, моя дочь Рахиль.
— Рада познакомиться. — Рахиль восхищенно присвистнула. — Рейхс, подумать только! Я читала их каталоги. Мне бы так хотелось когда-нибудь туда поехать!
Мелио сдержанно кивнул. Сол видел, как он напряжен.
— Вы… — начал Мелио, — я хотел спросить, что именно вы бы хотели там изучать?
Сол испугался, что Рахиль заметит прозвучавшую в его голосе боль, но она лишь пожала плечами и беззаботно рассмеялась.
— О, все подряд. Старик Эйкхард — он ведет у нас факультатив по палеонтологии и археологии — говорит, что там замечательное отделение классики и древностей.
— Это так, — с трудом ответил Мелио.
Рахиль застенчиво переводила взгляд с отца на незнакомца, как видно, чувствуя их напряжение.
— Ой, я, наверно, помешала вам. Пойду домой и лягу. Мне кажется, я подхватила этот странный вирус… что-то вроде менингита… мама говорит, из-за него я какая-то глупая. Рада была познакомиться с вами, доктор Арундес. Надеюсь, мы встретимся как-нибудь в Рейхсе.
— Я тоже надеюсь на это. — Мелио поглядел на нее так пристально, что Солу показалось: он пытается запечатлеть в своей памяти каждую мелочь этой встречи.
— Ну, ладно, пока… — сказала Рахиль, делая шаг назад. Ее кроссовки громко скрипнули по асфальту. — Спокойной ночи. Увидимся утром, отец.
— Спокойной ночи, Рахиль.
В дверях она задержалась. В свете газовых ламп она выглядела намного моложе своих тринадцати. — Счастливо, аллигаторы.
— Пока, крокодил, — отозвался Сол и вдруг услышал, что Мелио тоже прошептал вместе с ним слова прощания.
Они молча смотрели на закрывшуюся дверь, почти физически ощущая, как ночь опускается на маленький город. Проехал мальчик на велосипеде; под колесами шуршали листья, а спицы поблескивали каждый раз, когда он оказывался под старинными фонарями.
— Зайдите к нам, — предложил Сол. — Сара будет очень рада. А Рахиль уже спит.
— Не сейчас, — ответил Мелио. Его лицо скрывала тень, руки утонули в карманах. — Мне нужно… я сделал ошибку, Сол. — Он отступил на шаг, потом оглянулся: — Я позвоню вам с Фрихольма. Мы снарядим другую экспедицию и полетим туда вместе.
Сол кивнул. Три года на дорогу, подумал он. Если они уедут сегодня ночью, к их возвращению Рахили будет меньше десяти.
— Согласен, — сказал он.
Мелио помедлил, поднял в знак прощания руку и пошел по краю тротуара, разбрасывая громко шуршащие сухие листья.
Сол никогда больше с ним не встречался.
Самой большой епархией Церкви Шрайка в Сети был Лузус, и Сол отправился туда по нуль-Т за несколько недель до дня рождения Рахили, которой исполнялось десять лет. Само святилище было ненамного больше какого-нибудь собора Старой Земли, но казалось гигантским — из-за устремленных вверх, как бы летящих аркбутанов, причудливого свода и ажурных контрфорсов с витражами. Сол пребывал в подавленном настроении, и безжалостная гравитация Лузуса не способствовала его улучшению. Хотя встреча с епископом была назначена заранее, Солу пришлось прождать почти пять часов, прежде чем его допустили во внутреннее помещение святилища. Большую часть времени он провел, разглядывая медленно вращавшиеся двадцатиметровые стальные скульптуры, возможно, изображавшие легендарного Шрайка… а быть может, являвшие собой просто абстрактный памятник всем видам когда-либо существовавшего холодного оружия. Потом его внимание привлекли два красных шара, плававших внутри чего-то жутковатого, отдаленно напоминающего череп.
— Господин Вайнтрауб?
— Ваше превосходительство, — отозвался в знак приветствия Сол.
Дьяконы, экзорцисты, причетники и служки, которые окружали его все долгие часы томительного ожидания, распростерлись на темных плитах, как только вошел епископ. Сол церемонно поклонился.
— Входите же, входите, господин Вайнтрауб. — Священнослужитель широким жестом указал на дверь, ведущую в алтарь.
Сол очутился в темном, гулком помещении, весьма похожем на то место, в которое он попадал в своих повторявшихся снах, и уселся на предложенный ему стул. Пока епископ шел к напоминавшему небольшой трон креслу, стоящему возле совершенно современного, хотя и украшенного сложной резьбой письменного стола, Сол успел заметить характерные для уроженцев Лузуса полноту и грубоватые черты лица, странным образом сочетавшиеся с внушительной грацией. Его отороченная мехом горностая мантия поражала своим цветом. Ярко-алая, переливающаяся, она напоминала, скорее, свежую кровь, чем шелк или бархат. На каждом пальце у него было широкое кольцо с красным или черным камнем, и это чередование красного и черного вселило в душу Сола неясную тревогу.
— Ваше превосходительство, — начал Сол, — я заранее приношу извинения за нарушения церковного протокола, которые я уже допустил… или могу допустить в дальнейшем. О Церкви Шрайка я знаю очень мало, но то, что мне известно, привело меня сюда. Благоволите извинить меня, если я неумышленно проявлю свое невежество, спутав какие-либо титулы или термины…
Епископ взмахом руки остановил Сола. В полутьме тускло сверкнули красные и черные камни.
— Титулы не столь уж важны, господин Вайнтрауб. Обращение «Ваше превосходительство» по отношению к нашей особе для неверующих вполне допустимо. Мы должны вам сообщить, однако, что официальное название нашей скромной конфессии — «Церковь Последнего Искупления», а Того, которого мир столь неуважительно именует… Шрайком, мы называем, если вообще упоминаем о Нем, «Повелителем Боли», но чаще — Аватарой. А теперь, будьте любезны, изложите тот важный вопрос, с которым, как нам сообщили, вы пришли сюда.
Сол слегка поклонился.
— Ваше превосходительство, я учитель…
— Извините, что перебиваем вас, господин Вайнтрауб, но вы не просто учитель. Вы ученый. Мы хорошо знакомы с вашими трудами в области моральной герменевтики. Ваши рассуждения не лишены изъянов, но довольно смелы и вызывают желание их оспорить. Мы постоянно используем их в наших курсах по догматической апологетике. Продолжайте, будьте добры.
Сол удивленно моргнул. Его труды были почти неизвестны за пределами узких академических кругов, и слова епископа повергли его в полную растерянность. Собираясь с мыслями, Сол решил, что епископ, должно быть, заранее узнал, с кем имеет дело, и что у него отличные помощники.
— Ваше превосходительство, моя научная работа не имеет никакого отношения к моему визиту. Я обратился к вам с просьбой о встрече, так как мой ребенок… моя дочь… заболела. Причиной болезни явились, по-видимому, исследования, которые она вела в месте, представляющем определенный интерес для вашей Церкви. Я говорю о так называемых Гробницах Времени на планете Гиперион.
Епископ медленно кивнул. Знает ли он что-нибудь о Рахили, подумал Сол.
— Вам известно, господин Вайнтрауб, что упомянутое вами место… то, что мы называем Ковчегами Завета… решением Комитета местного самоуправления Гипериона закрыто для посещений так называемыми исследователями?
— Да, ваше превосходительство. Я слышал об этом. Насколько я понимаю, ваша Церковь сыграла немалую роль в принятии этого закона.
Епископ никак на это не отреагировал. Где-то в пахнущей ладаном темноте негромко пробили часы.
— Во всяком случае, ваше превосходительство, я надеюсь, что некоторые аспекты доктрины вашей Церкви помогут пролить свет на причину заболевания моей дочери.
Епископ наклонился, словно стараясь получше разглядеть посетителя, и освещавший его одинокий луч света падал теперь ему на лоб, оставляя глаза в тени.
— Вы желали бы получить наставление в таинствах нашей Церкви, господин Вайнтрауб?
Сол погладил бороду.
— Нет, ваше превосходительство, если это не поспособствует каким-либо образом выздоровлению моей дочери.
— А не желает ли ваша дочь присоединиться к Церкви Последнего Искупления?
Сол заколебался.
— Ваше превосходительство, прежде всего она желает быть здоровой. Если посвящение излечит ее или хоть отчасти поможет ей, об этом стоит серьезно подумать.
Епископ откинулся в кресле, и Сол услышал мягкий шелест его мантии. Казалось, красный цвет стекает с нее в темноту.
— Вы говорите о физическом благополучии, господин Вайнтрауб. А наша Церковь — высший судия спасения духовного. Вы отдаете себе отчет, что первое есть неизбежное следствие второго?
— Мне известно это старинное и весьма распространенное мнение, — ответил Сол. — Мы с женой хотим, чтобы наша дочь была здорова и физически, и духовно.
Епископ подпер свою массивную голову кулаком.
— В чем проявляется болезнь вашей дочери, господин Вайнтрауб?
— Это… заболевание, связанное с временем, ваше превосходительство.
Епископ вскинулся и напряженно подался вперед.
— В каком именно из святых мест вашу дочь постигла болезнь, господин Вайнтрауб?
— В сооружении, называемом Сфинксом, ваше превосходительство.
Епископ вскочил так стремительно, что смахнул на пол бумаги, лежавшие у него на столе. Даже без мантии этот человек был вдвое крупнее и массивнее Сола. В трепещущей же красной мантии, облекавшей всю его высокую фигуру, служитель Шрайка возвышался над ним, подобно багровому воплощению смерти.
— Вы можете идти! — прогремел гигант. — Из всех людей вашей дочери выпало наивысшее благословение и тягчайшее из проклятий. И ни вы, ни Церковь… никто из ныне живущих ничего не сможет для нее сделать.
Сол не шелохнулся.
— Ваше превосходительство, если есть хоть какая-нибудь возможность…
— НЕТ! — вскричал епископ, и лицо его стало таким же красным, как мантия. Он стукнул по столу. В дверях тотчас появились причетники и экзорцисты, казавшиеся в черных с красным рясах зловещими отражениями епископа. Облаченные в черное, служки сливались с полумраком.
— Аудиенция закончена. — Голос епископа звучал с непререкаемой категоричностью. — Ваша дочь была избрана Аваторой для искупления, и то же самое ждет всех грешников и неверующих. Это случится очень скоро.
— Ваше превосходительство, если мне будет позволено занять еще пять минут вашего времени…
Епископ щелкнул пальцами, и экзорцисты стали теснить Сола к дверям. Все они были лузианами, и каждый из них мог легко справиться с пятью щуплыми учеными, вроде Сола.
— Ваше превосходительство… — закричал Сол, вырвавшись из рук первого экзорциста. Тут же ему на помощь подоспели еще трое, за ними маячили мускулистые причетники. Епископ отвернулся и, казалось, вглядывался в темноту.
Святилище огласилось звуками борьбы — тяжелым дыханием, шарканьем подошв и внезапным вскриком экзорциста, которому Сол угодил ногой в такое место, о котором служителю церкви упоминать не полагалось. Это, однако, не повлияло на исход схватки. Сол был выброшен на улицу. Последний из удалявшихся служек, прежде чем уйти, швырнул Солу его помятую шляпу.
Сол провел на Лузусе еще десять дней, но единственным результатом его хождений по инстанциям была боль во всем теле от повышенной гравитации. Епархиальные чиновники не отвечали на его звонки. Суды не могли предложить ему ни малейшей зацепки. Экзорцисты словно вырастали из-под земли у дверей святилищ.
Сол отправился на Новую Землю и на Возрождение-Вектор, на Фудзи и на ТКЦ, на Денеб-III и на Денеб-IV, но святилища Шрайка были закрыты для него всюду.
Измученный и усталый, истратив все свои деньги, Сол вернулся на Барнард, забрал ТМП со стоянки и прибыл домой за час до ужина в честь дня рождения Рахили.
— Папа, что ты мне привез? — возбужденно допытывалась десятилетняя девчушка. Утром Сара снова сказала ей, что Сол уехал по делам.
Сол вынул пакет. Это была полная серия сказок про Анни из Грин-Гэблз. Совсем не то, с чем ему хотелось бы вернуться.
— Папа, я разверну?
— Позже, маленькая. Мы развернем все сразу.
— Ой, папочка, пожалуйста. Ну только один. До того как придут Ники и другие дети.
Сол поймал взгляд Сары. Она отрицательно покачала головой. Рахиль только на днях вспомнила, что на ужин надо пригласить Ники, Линну и других ее подружек. Сара еще не успела изобрести отговорку.
— Ладно, Рахиль, — сказал он. — Но только этот.
Пока Рахиль разворачивала пакетик, Сол увидел в гостиной огромный сверток, перевязанный красной лентой. Новый велосипед, конечно. Как только ей исполнилось девять, Рахиль сразу же стала выпрашивать себе новый велосипед. Сол с тоской подумал, будет ли она радоваться сюрпризу завтра, увидев столь давно желаемый подарок за день до праздника. Или им придется выбросить его ночью, пока она не проснулась.
Сол рухнул на диван. Красная лента напомнила ему мантию епископа.
Расставание с прошлым всегда причиняло Саре боль. Каждый раз, когда она стирала, складывала и убирала комплекты детской одежды Рахили, из которых та вырастала, она потихоньку плакала, но Сол каким-то образом об этом узнавал. Как величайшее сокровище она хранила в своей душе каждый период детства Рахили, наслаждаясь повседневной нормальностью бытия, нормальностью, в которой она видела лучший подарок судьбы. Сара всегда считала, что суть человеческой жизни заключена не в так называемых памятных днях, вроде свадеб и триумфов, которые застревают в памяти как даты, обведенные красным на старых календарях, а, скорее, в монотонном потоке повседневных событий: выходные, когда каждый член семьи занят своими собственными делами, случайные встречи, пустяковые разговоры, которые сразу же забываются… но сумма этих часов представляет собой нечто очень важное и вечное.
Сол нашел жену на чердаке, где она тихо плакала, разбирая ящики и коробки. Это были не те легкие слезы, что она проливала, расставаясь с вещами, из которых выросла дочь. Сейчас она сердилась.
— Что ты делаешь, мать?
— Ищу Рахили одежду. Все слишком велико. То, что подходит восьмилетнему ребенку, не подходит семилетнему. У меня здесь где-то должны быть ее детские вещи.
— Брось ты это, — сказал Сол. — Купим что-нибудь новое.
Сара покачала головой.
— А она будет каждый день удивляться, куда подевались ее любимые платья? Нет уж. Кое-что я сохранила. Они где-то здесь, я их найду.
— Ну хорошо, найдешь попозже!
— Нет у нас никакого попозже! — крикнула Сара, а затем отвернулась от него и, закрыв лицо руками, прошептала: — Не сердись.
Он обнял ее. Несмотря на поульсенизацию, ее руки были гораздо тоньше, чем в молодости. Суставы и сухожилия проступали под загрубевшей кожей. Сол крепко прижал ее к себе.
— Не сердись, — повторила она, всхлипывая уже открыто. — Извини меня. Но это так несправедливо.
— Да, несправедливо, — согласился Сол. Лучи солнца, проникавшие сквозь запыленные окна чердака, делали его печальным и похожим на церковь. Солу всегда нравился запах чердака — теплый и чуть затхлый запах помещения, где редко бывают люди, таящего в себе неизведанные сокровища. Сегодня все это погибло.
Он присел на корточки у ящика.
— Ну что ж, дорогая, — сказал он, — поищем вместе.
А Рахиль оставалась такой же жизнерадостной и счастливой, и только различные несуразности, с которыми она сталкивалась, просыпаясь по утрам, слегка ее смущали. По мере того как она становилась младше, ей стало легче объяснять причину перемен, которые произошли за сутки: исчез росший перед домом старый вяз, на углу, где прежде в особнячке колониального стиля проживал господин Несбит, появился новый многоквартирный дом, куда-то подевались ее друзья… Сол воочию убедился в гибкости детского сознания. Ему представлялось, что Рахиль летит на гребне волны времени, не замечая мрачных морских глубин и сохраняя равновесие лишь благодаря скудному запасу воспоминаний и веселой беспечности, с которой она проживала те двенадцать — пятнадцать часов, что были отпущены ей ежедневно.
Ни Сол, ни Сара не хотели изолировать свою дочь от общества других детей, но налаживать с ними контакты было нелегко. Рахиль с удовольствием играла с «новой девочкой» или с «новым мальчиком», появившимся по соседству (с детьми других преподавателей, с внуками друзей; одно время — с дочкой Ники), но большинству детей было трудно привыкнуть к тому, что она каждый день знакомится с ними заново и не помнит ничего из их прошлого; лишь немногие были столь чутки, чтобы участвовать в этих шарадах ради странной подружки.
История необычного заболевания Рахили, конечно, не была секретом в Кроуфорде. Новость разошлась по всему колледжу в первый же год после ее возвращения, а вскоре об этом узнал и весь город. Кроуфорд откликнулся на несчастье Вайнтраубов точно так же, как с незапамятных времен откликались на беды ближних все небольшие города: у некоторых языки работали без остановки, иные не могли отказать себе в удовольствии выразить голосом или взглядом свое сочувствие по поводу того, что беда случилась, к счастью, не у них, но большинство простерли крылья над семьей Вайнтраубов, подобно птице, защищающей своих птенцов.
Тем не менее никто не вмешивался в их жизнь, и даже когда Солу пришлось отказаться от нескольких классов, а затем и вовсе уйти в отставку, чтобы освободить как можно больше времени для поисков врача, который смог бы вылечить Рахиль, никто из жителей городка даже взглядом не намекнул, что понимает, в чем тут дело.
Но это не могло продолжаться вечно, и наступил один весенний день, когда Сол вышел на крыльцо и увидел, как его семилетняя дочь, вся в слезах, идет из парка, а вокруг нее толпятся визуалисты, вспыхивают камеры-импланты и со всех сторон тянутся комлоги — он увидел все это и понял, что спокойный отрезок их жизни закончился навсегда. Сол соскочил с крыльца и бросился к Рахили.
— Господин Вайнтрауб, это правда, что ваша дочь заражена болезнью обратного времени? Что будет с ней через семь лет? Неужели она просто исчезнет?
— Господин Вайнтрауб! Господин Вайнтрауб! Рахиль говорит, что Рейбен Доуэл — Секретарь Сената и что сейчас 2711 год. Означает ли это, что тридцать четыре года полностью выпали из ее жизни, или это галлюцинация, порожденная болезнью Мерлина?
— Рахиль! Ты помнишь себя взрослой женщиной? Что ты ощущаешь, снова став ребенком?
— Господин Вайнтрауб! Господин Вайнтрауб! Будьте добры, всего один снимок. Идея такая: вы берете фото, на котором изображены с Рахилью, когда она была старше, и теперешняя Рахиль смотрит на ту.
— Господин Вайнтрауб! Правда ли, что эта болезнь — проклятие Гробниц Времени? Рахиль видела это чудовище Шрайка?
— Эй, Вайнтрауб! Солли! Сол! Что ты и твоя женщина будете делать, когда ваш ребенок умрет?
Путь к парадной преграждал один особо настырный визуалист. Он наклонился и вытянул шею, из его глаз выдвинулись стереообъективы, чтобы снять Рахиль крупным планом. Сол схватил его за длинные волосы, прямо-таки специально для этого связанные в пучок, и отшвырнул в сторону.
Вся эта стая бушевала возле дома Вайнтраубов почти два месяца. Теперь Сол по-настоящему оценил известные всем с детства плюсы и минусы небольших городков: они невыносимо скучны, иногда там суют нос в чужие дела, зато никто не исповедует мерзкого правила «общественность имеет право знать все».
В Системе это правило признавали. Не желая, чтобы его семья жила в вечном окружении репортеров, Сол перешел в наступление. Он стал сам организовывать интервью с наиболее популярными программами кабельной нуль-Т-сети, принимал участие в дискуссиях Альтинга, лично посетил заседание медицинского конклава на Конкурсе. За десять стандартных месяцев он попросил помощи для Рахили у восьмидесяти планет.
Предложения хлынули потоком из десятков тысяч источников, но этими источниками в основном были экстрасенсы, целители, всевозможные изобретатели, а также маленькие лаборатории и исследователи-одиночки, которые предлагали свои услуги в обмен на рекламу. Служители культа Шрайка и иные религиозные фанатики утверждали, что Рахиль наказана по заслугам. Поступали запросы от различных рекламных агентств, желающих использовать Рахиль в своих кампаниях, предложения от агентов, набивавшихся в посредники, письма с выражениями сочувствия от простых людей (нередко в них были вложены кредитные чипы), полные скептицизма отклики ученых, предложения от голопродюсеров и книжных издательств, жаждущих получить исключительные права на создание книг и фильмов о жизни Рахили, а также уйма предложений о покупке недвижимости.
Рейхсуниверситет нанял команду экспертов для отбора предложений, в которых могло оказаться рациональное зерно. Большая часть оказалась сущей ерундой. Несколько гипотез были серьезно изучены. Но в конце концов выяснилось, что все мало-мальски серьезные способы обследования и лечения уже опробованы Рейхсом.
И лишь одна мультиграмма привлекла внимание Сола. Ее прислал председатель кибуца Кфар-Шалом на Хевроне. Она гласила:
ЕСЛИ СТАНЕТ НЕВМОГОТУ, ПРИЕЗЖАЙТЕ.
Невмоготу стало очень скоро. После первых месяцев шумной гласности осаду, казалось, сняли, но, как выяснилось, то была лишь прелюдия ко второму акту. Сол превратился в постоянного героя бульварных факс-газетенок, окрестивших его «Вечным жидом», отчаявшимся отцом, блуждающим повсюду в надежде вылечить свое дитя от экзотической болезни — настоящая издевка, зная стойкую нелюбовь Сола к путешествиям. Сара неизменно именовалась «отчаявшейся матерью». Рахиль была обычно «обреченным ребенком», а один вдохновенный писака назвал ее «Невинной Жертвой Проклятия Гробниц Времени». Нельзя было выйти из дома, чтобы не наткнуться на репортера или голографиста, прячущегося за деревом.
Мало-помалу Кроуфорд обнаружил, что на несчастье семьи Вайнтраубов можно делать деньги. Сначала город вел себя сдержанно, но когда предприниматели из Буссард-Сити раскинули по всему Кроуфорду киоски по продаже сувениров, теннисок, инфочипов и наводнили его туристами, которых с каждым днем становилось все больше, местные бизнесмены сначала возмутились, затем заколебались, а потом пришли к единодушному мнению, что уж если дело ставится на коммерческую основу, то прибыль не должна доставаться чужакам.
После четырехсот тридцати восьми лет сравнительного уединения Кроуфорд обзавелся собственным нуль-Т-терминалом. Приехавшим больше не надо было тратить двадцать минут на полет из Буссард-Сити. Их толпы росли.
В день отъезда шел сильный дождь, и улицы были пусты. Рахиль не плакала, только смотрела на всех широко раскрытыми глазами. Через десять дней ей исполнялось шесть лет.
— Папа, почему мы должны переезжать? — еле слышно спросила она.
— Так уж получилось, моя милая.
— Но почему?
— Да потому, что нужно, моя маленькая. Тебе понравится на Хевроне. Там много парков.
— Но почему вы раньше мне не говорили, что мы переезжаем?
— Говорили, моя родная. Ты просто забыла.
— А что же будет с Грэмом и со всеми Грэмами, и с дядей Ричардом, и с тетей Тетой, и с дядей Саулом, и вообще со всеми?
— Они будут приезжать к нам в гости.
— А Ники, Линна и все мои друзья?
Сол отвернулся и молча понес в магнитоплан последнюю коробку с вещами. Дом был продан и пуст; часть мебели тоже продали, а остальную отправили на Хеврон.
Последнюю неделю люди шли сюда сплошным потоком — родственники, старые друзья, сослуживцы из колледжа и даже кое-кто из медицинской бригады Рейхса, работавшей с Рахилью в течение восемнадцати лет. Сейчас улица была пуста. Струи дождя обрушивались на прозрачный купол ТМП и причудливыми ручейками стекали вниз. Забравшись внутрь, все трое на мгновение застыли, глядя на покинутый дом. В кабине пахло влажной шерстью и мокрыми волосами.
Рахиль прижала к груди плюшевого мишку, которого Сара разыскала на чердаке полгода назад, и очень серьезно произнесла:
— Это нечестно.
— Да, это нечестно, — согласился Сол.
Хеврон — мир пустынь. Четыре века терраформирования сделали атмосферу пригодной для дыхания и превратили несколько миллионов акров песка в пахотную землю. Существа, которые обитали там раньше, были небольшими, выносливыми и необычайно осторожными; точно такими же были существа, завезенные сюда со Старой Земли, в том числе и люди.
— О-ох, — простонал Сол, въезжая в пропеченную солнцем деревушку Дан, за которой начиналась территория пропеченного солнцем кибуца Кфар-Шалом. — Какие же мы, евреи, мазохисты. Когда началась Хиджра, наше племя могло выбрать любой из двадцати тысяч исследованных миров, а эти зануды отправились сюда.
Но первых колонистов (как, впрочем, и Сола с его семьей) привел сюда отнюдь не мазохизм. Большая часть Хеврона представляла собой пустыню, но плодородные его районы были плодородны почти беспредельно. Синайский университет почитался во всей Сети, а его Медицинский центр притягивал богатых пациентов и вытягивал из их карманов деньги, шедшие на развитие кооператива. На Хевроне был всего один терминекс в Новом Иерусалиме: строить порталы в других местах не разрешалось. Не пожелавший войти в Гегемонию на правах протектората, Хеврон установил высокую плату за пользование нуль-терминалом и не разрешал туристам покидать пределы Нового Иерусалима. Для еврея, ищущего уединения, это было, пожалуй, самое подходящее место на всех трехстах планетах, заселенных человеком.
Кибуц считался кооперативом скорее по традиции, чем по сути. Вайнтраубов поселили в отдельном доме — скромном жилище из саманного кирпича со скругленными углами и голым деревянным полом, из окон которого открывался прекрасный вид на бескрайние просторы пустыни за апельсиновыми и оливковыми рощами, — дом стоял на самой вершине холма. Казалось, здешнее солнце высушило все, думал Сол, даже огорчения и страшные сны, а его свет словно жил собственной жизнью. По вечерам почти час после заката дом Вайнтраубов светился розовым.
Каждое утро Сол садился у постели дочери и ждал, когда она проснется. Ему была мучительна ее растерянность при пробуждении, и он старался, чтобы первое, что она увидит, было его лицо. Он обнимал ее, а она забрасывала его вопросами.
— Папа, мы где?
— Мы в чудесном месте, детка. Я расскажу тебе все за завтраком.
— А как мы здесь оказались?
— Мы совершили далекое путешествие: сначала по нуль-Т, потом на ТМП, а потом еще немножко шли пешком, — привычно отвечал он. — Вообще-то это не так уж далеко… но и не близко, так что можешь считать это приключением.
— Папочка, но моя постелька тут, и игрушки… Почему же я не помню, как мы сюда попали?
И Сол, ласково держа ее за плечи и заглядывая в ее карие глаза, отвечал:
— Ты болела, Рахиль. Помнишь, в книжке «Заблудившаяся лягушка» Теренс больно ушиб голову и несколько дней не мог вспомнить, где живет? Вот и с тобой случилась такая история.
— А сейчас мне лучше?
— Да, — отвечал Сол. — Сейчас тебе гораздо лучше.
Тут дом наполнялся аппетитными запахами, и они шли завтракать на террасу, где их уже ждала Сара.
Друзей у Рахили было теперь больше, чем когда-либо. В местной школе ей всегда были рады: знакомясь с ней заново каждый день, никто и виду не подавал. После занятий дети подолгу играли в саду и носились среди холмов.
Абнер, Роберт и Эфраим, старейшины Совета, уговорили Сола продолжить работу над книгой. Хеврон гордился тем, что приютил и предоставил гражданство множеству ученых, художников, музыкантов, философов, писателей и композиторов. Дом, подчеркивали они, подарен ему государством. Его пенсия, весьма умеренная по стандартам Сети, была более чем достаточной для их скромных потребностей в Кфар-Шаломе. Однако Сол, к собственному удивлению, обнаружил, что ему нравится физический труд. Что бы он ни делал — работал ли в саду, расчищал ли поля от камней или чинил окружавшую город стену, — он ощущал, как на его душу и разум снисходит покой, которого он не знал уже много лет. Он обнаружил, что может полемизировать с Кьеркегором, ожидая, пока высохнет строительный раствор, и открывал новые глубины в мыслях Канта и Вандюра, обирая червивые яблоки. В возрасте семидесяти трех стандартных лет Сол приобрел наконец первые мозоли.
По вечерам он играл с Рахилью, а когда она засыпала, шел вместе с Сарой прогуляться у подножия холмов, оставив Рахиль на попечение Джуди или еще кого-нибудь из девочек, живших по соседству. Однажды Сол и Сара даже съездили в Новый Иерусалим. В первый раз с тех пор, как семнадцать стандартных лет назад Рахиль вернулась к ним, они оказались вдвоем.
Но не все было такой уж идиллией. Слишком часто Сол, проснувшись посреди ночи, бежал босиком в детскую и заставал там жену, тихо сидевшую возле спящей Рахили. И едва ли не каждый день, когда они в розоватых вечерних сумерках купали Рахиль в старенькой керамической ванне или укладывали ее спать, девочка повторяла одну и ту же фразу: «Мне очень нравится здесь, папа, только можно мы завтра поедем домой?» Сол согласно кивал головой, рассказывал ей сказку, пел колыбельную песенку, а потом, уверенный, что дочка уже спит, целовал ее, на цыпочках крался к дверям и внезапно слышал из-под одеяла ее сонное: «Счастливо, аллигатор» и поспешно отвечал: «Пока, крокодил». После этого он долго не мог заснуть и, прислушиваясь к дыханию спавшей (или притворявшейся спящей) жены, следил за тем, как бледные полосы света от одной или обеих маленьких хевронских лун ползут по шершавым стенам, и разговаривал с Богом.
Сол разговаривал с Богом несколько месяцев, прежде чем понял, что он, в сущности, делает. Ему стало смешно. Эти ночные беседы ни в коей мере не были молитвами, скорее, они представляли собой сердитые монологи, которые, по мере того как обличительные нотки звучали в них все громче, перерастали в яростные споры с самим собой. Но не только с собой. Однажды Сол осознал, что темы этих ожесточенных дебатов столь глубоки, вопросы, подлежащие разрешению, столь серьезны, затронутые спором сферы столь обширны, что единственное существо, на которое он мог обрушиться с обвинениями в подобных прегрешениях, не кто иной, как сам Господь Бог. Поскольку представление о Боге как о существе, способном не спать по ночам, беспокоясь о людях и вмешиваясь в жизнь отдельных индивидуумов, всегда являлось для Сола абсолютно абсурдным, он, уяснив наконец суть этих диалогов, усомнился в своем рассудке.
Но диалоги продолжались. Сол хотел понять, как может родиться какая-либо этическая система (и более того, целая религия, причем религия удивительно стойкая, сумевшая пережить все удары судьбы) из приказа Бога человеку убить собственного сына. То, что повеление было отменено в последний миг, не играло в глазах Сола ни малейшей роли. Не играло роли также и то, что повеление было дано лишь с целью проверить готовность Авраама к послушанию. Именно мысль о том, что пресловутое послушание позволило Аврааму стать родоначальником всех колен Израилевых, и приводила Сола в ярость.
Посвятив пятьдесят пять лет жизни изучению этических систем, Сол Вайнтрауб пришел к непоколебимому убеждению: всякая преданность божеству, либо концепции, либо общему принципу, которая ставит повиновение кому-то или чему-то превыше справедливого обращения с невинным человеческим существом, есть зло.
«Ну, хорошо, дай мне определение слова «невинный»?» — услышал Сол насмешливый и слегка раздраженный голос, с которым он привык ассоциировать свои ночные споры. «Ребенок невинен, — подумал Сол. — Невинным был Исаак. Невинна Рахиль».
«Невинна только потому, что ребенок?»
«Да».
«И ты уверен, что не существует ситуации, когда кровь невинного должна быть пролита во имя великого дела?» «Нет, — подумал Сол, — не существует».
«Но невинные, я полагаю, это не только дети?»
Сол помедлил, чувствуя ловушку и пытаясь определить, куда клонит его подсознательный собеседник. Ему это не удалось.
«Да, — подумал он, — невинные — это не только дети».
«Значит, и взрослые? Такие, как Рахиль? Как твоя дочь, когда ей было двадцать четыре года? Невинного нельзя принести в жертву, невзирая на его возраст?»
«Да, это так».
«Тогда, быть может, это часть урока, который надо было преподать Аврааму прежде, чем он станет отцом благословеннейшего из народов Земли?»
«Какой урок? — подумал Сол. — Что за урок?» — Но голос его собеседника утих, и он услышал крики ночных птиц за окном и тихое дыхание жены, спавшей с ним рядом.
В пять лет Рахиль еще могла читать. Сол никак не мог вспомнить, в каком возрасте она научилась этому, — ему казалось, что она умела читать всегда.
— В четыре стандартных, — сказала Сара. — Я помню, это было в начале лета… через три месяца после ее дня рождения. Мы устроили пикник в поле за колледжем. Рахиль листала свою книжку про Винни-Пуха и вдруг сказала: «Я слышу в голове голос».
Тогда вспомнил и Сол. Он вспомнил и ту радость, которая охватила их с женой оттого, что их малышка такая способная. Он вспомнил, потому что сейчас все повторялось в обратном порядке.
— Папа, — сказала Рахиль, лежавшая на полу в его кабинете и сосредоточенно раскрашивавшая картинку, — сколько времени прошло после маминого дня рождения?
— Это было в понедельник, — ответил Сол, не отрываясь от книги. День рождения Сары еще не наступил, но для Рахили он был совсем недавно.
— Я знаю. Но сколько времени прошло с тех пор?
— Сегодня четверг, — сказал Сол, продолжая читать длинный талмудический трактат о повиновении.
— Я знаю, что четверг. Но сколько дней?
Сол отложил книгу в сторону.
— Ты можешь мне назвать все дни недели? — Мир Барнарда пользовался старым календарем.
— Конечно, — ответила Рахиль. — Суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота…
— Ты уже называла субботу.
— Да. Но сколько дней прошло с тех пор?
— Можешь ты посчитать от понедельника до четверга?
Рахиль нахмурилась, зашевелила губами. Сразу у нее не получилось, она стала загибать пальцы.
— Четыре дня? — спросила она.
— Умница, — похвалил Сол. — А можешь ты сказать мне, сколько будет десять минус четыре, детка?
— Что такое минус?
Усилием воли Сол заставил себя снова уткнуться в трактат.
— Ничего, — ответил он. — Это такая штука, про которую тебе расскажут в школе.
— Мы поедем домой завтра?
— Да.
Как-то утром, когда Рахиль ушла играть с Джуди (она стала слишком маленькой, чтобы ходить в школу), Сара сказала:
— Сол, нам надо отвезти ее на Гиперион.
— Что? — Сол изумленно уставился на нее.
— Ты слышал что. Мы не можем ждать. Скоро она разучится ходить… говорить. Кроме того, мы не становимся моложе. — Сара невесело рассмеялась. — Звучит странно. Да? Но мы действительно не молодеем. Через год-два поульсенизация перестанет действовать.
— Сара, разве ты забыла? Все врачи говорят, что Рахиль не перенесет криогенную фугу. А без этого нечего думать о сверхсветовом полете. Эффект Хоукинга может лишить ее рассудка… или хуже.
— Это пустяки, — сказала Сара. — Рахили нужно возвратиться на Гиперион.
— Ну подумай, что ты говоришь? — Сол уже начинал сердиться.
Тогда Сара сжала его руку.
— Ты что, один видел тот сон?
— Сон? — Он еле выговорил это слово.
Она вздохнула и села у белого кухонного стола. Утреннее солнце заглянуло в окно, осветив, словно желтым прожектором, цветы на подоконнике.
— Темное помещение, — сказала она. — Красные огни наверху. И этот голос. Он велит нам… велит нам взять… отправиться на Гиперион. Совершить… жертвоприношение.
Во рту у Сола пересохло, сердце бешено заколотилось.
— К кому… к кому он обращался в этом сне?
Сара странно на него посмотрела.
— К нам обоим. Если бы тебя не было там… в этом сне, вместе со мной… как бы я переносила его все эти годы?
Сол рухнул в кресло и удивленно уставился на лежавшую на столе руку. Суставы, разбухшие от артрита, набрякшие жилы, пятна… Это, конечно же, его рука. Он, словно со стороны, услышал собственный голос:
— Ты ни разу не упомянула об этом. Ни единого словечка…
На этот раз Сара рассмеялась без горечи.
— А зачем? Каждый раз мы оба сразу же просыпались. И ты был весь в испарине. Я же догадалась, что это был не просто сон. Надо ехать, отец. На Гиперион.
Сол пошевелил рукой. Она по-прежнему казалась ему инородным телом.
— Почему? Ну, Бога ради, почему, Сара? Мы ведь не можем… принести Рахиль…
— Конечно нет, отец. Разве ты не думал обо всем этом? Мы должны поехать на Гиперион… туда, куда нас призывает наш сон… и принести в жертву себя вместо нее.
— Себя, — повторил Сол. Ему показалось, что у него начинается сердечный приступ. Грудь так сильно болела, что он не мог вздохнуть. Он сидел молча целую минуту, уверенный, что, если попытается произнести хоть слово, тут же разрыдается. Собравшись с силами, он сказал наконец:
— А ты давно уже… придумала все это, мать?
— Давно ли я знаю, что мы должны делать? Год. Немногим больше года. Сразу же после того, как ей исполнилось пять лет.
— Целый год! Но почему ты ничего мне не сказала?
— Я ждала. Ждала, что ты поймешь. Что тоже будешь знать.
Сол покачал головой. Комната куда-то уплывала и качалась.
— Нет. То есть пока еще мне кажется, что нет… Мне нужно подумать, мать.
Сол увидел, как незнакомая рука с набрякшими жилами похлопала по знакомой руке Сары.
Она кивнула ему.
Сол провел три дня и три ночи в каменной пустыне, питаясь только черствым хлебом, который запивал водой из конденсаторного термоса.
Десятки тысяч раз за прошедшие двадцать лет он мечтал о том, чтобы болезнь Рахили перешла к нему: ведь если кто-то должен страдать, то, конечно, отец, а не ребенок. Вероятно, все родители на его месте думали бы так же — они так и делают каждый раз, когда их ребенок тяжело заболеет или угодит в аварию. Но здесь все сложнее.
На третий день в этом пекле, когда он дремал в тени большой каменной плиты, Сол узнал: да, действительно сложнее.
«Мог бы Авраам дать такой ответ Богу? Что он сам будет жертвой, а не Исаак?»
«Авраам мог так ответить. А ты не можешь».
«Почему?»
И словно в ответ Сол, как в бреду, увидел обнаженных людей, шагающих к печам сквозь строй мужчин, вооруженных автоматами, и матерей, прячущих своих детей под грудами одежды. Он увидел мужчин и женщин с кожей, свисавшей обугленными лохмотьями, которые выкапывали перепуганных детей из пепла еще совсем недавно существовавшего города. Сол знал, что все это не сон, а реальные картины Первого и Второго Холокоста, и, понимая это, еще до того, как в его мозгу прозвучал тот голос, он уже знал, каким будет ответ. Каким он должен быть.
«Родители уже предлагали себя. Эта жертва уже принята. Все это в прошлом».
«Но что же тогда? Что?»
Ответом было молчание. Сол, стоявший на самом солнцепеке, с трудом держался на ногах. Черная птица кружила у него над головой, а может, то была просто галлюцинация. Сол погрозил кулаком свинцово-серому небу.
«Ты использовал нацистов как свое оружие. Они безумцы. Чудовища. Ты и сам чудовище, будь Ты проклят».
«Нет».
Земля закачалась у него под ногами, и Сол рухнул на острые камни. Он подумал, что это не так уж отличается от прикосновения к шершавой стене. Камень величиной с кулак жег ему щеку.
«Авраам повиновался, и для него это был правильный выбор, — подумал Сол. — Ведь этически Авраам сам был ребенком. В те времена все люди были детьми. Правильным выбором для детей Авраама было стать взрослыми и принести в жертву себя вместо детей. Каков же правильный ответ для нас?»
Ответа не было. Земля и небо перестали вращаться. Подождав немного, Сол неуверенно встал, стер кровь и грязь со щеки и медленно побрел к лежавшему внизу, в долине, городу.
— Нет, — сказал он Саре, — мы не поедем на Гиперион. Это неверное решение.
— Ты предпочитаешь ничего не делать. — Губы Сары побелели, когда она произносила эти слова, но голос оставался спокойным.
— Я предпочитаю не совершать ошибок.
Сара громко вздохнула и махнула рукой в сторону окна. Там во дворе их четырехлетняя дочка каталась на игрушечной лошадке.
— Ты полагаешь, у нее осталось время, чтобы мы с тобой успели совершить какую-нибудь ошибку… или вообще что-нибудь… совершить?
— Сядь, мать.
Сара не шевельнулась. На ее джинсах поблескивали крупинки сахара. Солу вспомнилась обнаженная девушка, выходящая из фосфоресцирующей пены, полоса которой тянулась за плавучим островом на Мауи-Обетованной.
— Мы должны что-то сделать, — сказала она.
— Ее осматривало больше сотни медицинских и научных специалистов. Ее тестировали, зондировали, обследовали и мучили в двадцати научных центрах. Я посетил святилища Шрайка во всех мирах Сети; меня там совсем не хотят видеть. Мелио и другие эксперты по Гипериону из Рейхса утверждают, что в учении Церкви Шрайка нет никаких упоминаний о болезни Мерлина, а у туземцев Гипериона нет легенд ни о таком недуге, ни о способах его излечения. Исследовательская группа провела на Гиперионе целых три года и не нашла ничего. Продолжать работу им запретили. Доступ к Гробницам Времени предоставляется теперь только так называемым паломникам. Даже получить въездную визу на Гиперион практически невозможно. А если мы возьмем туда Рахиль, поездка может ее убить.
Сол замолчал, переводя дыхание, и прикоснулся к руке Сары.
— Извини, что я повторяю все это. Но кое-что мы с тобой все же сделали.
— Этого мало, — тихо отозвалась Сара. — А что, если мы поедем как паломники?
Сол понурился.
— Церковь Шрайка выбирает свои ритуальные жертвы из тысяч добровольцев. В Сети полно отчаявшихся глупцов, а возвращаются единицы.
— Ну вот, видишь, разве это не доказательство? — быстро прошептала Сара. — Кто-то или что-то охотится за ними.
— Бандиты, — ответил Сол.
Сара покачала головой.
— Голем.
— Ты хочешь сказать, Шрайк.
— Это голем, — повторила Сара. — Тот, которого мы видим в нашем сне.
— Я не вижу в своих снах никакого голема. — Сол встревожился. — А какой он?
— Помнишь те красные глаза? — ответила Сара. — Это тот самый голем, которого Рахиль слышала тогда ночью в Сфинксе.
— Откуда тебе известно, что она слышала?
— Мне это снилось, — сказала Сара. — Мне это снится каждый раз перед тем, как мы входим туда, где нас ждет голем.
— Значит, мы с тобой видим разные сны, — пробормотал Сол. — Почему ты не рассказала мне это раньше?
— Я думала, что схожу с ума, — прошептала Сара.
Сол вспомнил о своих тайных беседах с Богом и обнял жену.
— О, Сол, — Сара прижалась к нему еще крепче, — как больно видеть все это. И как здесь одиноко…
Сол молчал. Они несколько раз пытались побывать дома — домом для них навсегда остался Мир Барнарда: навестить родственников, друзей, но каждый раз долгожданную встречу губило нашествие репортеров и туристов. В этом не было ничьей вины. Через мегаинфосферу новости молниеносно распространялись по ста шестидесяти мирам Сети, а чтобы удовлетворить свое любопытство, достаточно было сунуть универсальную карточку в прорезь турникета на входе в терминал и шагнуть сквозь ворота портала. Они пробовали уезжать без предварительного уведомления и путешествовать инкогнито, но хитрить они не умели, и все их уловки ни к чему не приводили. Через двадцать четыре стандартных часа после их возвращения в Сеть репортеры были тут как тут. Научно-исследовательские институты и крупные медицинские центры охотно брали их под защиту своей службы безопасности, но тогда страдали друзья и родственники. Рахиль по-прежнему оставалась сенсацией.
— Может, мы могли бы снова пригласить Тету и Ричарда… — начала Сара.
— У меня есть предложение получше, — сказал Сол. — Поезжай-ка ты, мать, сама. Тебе хочется повидать сестру, увидеть, услышать, вдохнуть в себя запах дома… любоваться закатом там, где нет никаких игуан… побродить по полям. Поезжай.
— То есть как это — поезжай? Одна? Оставить Рахиль…
— Чепуха, — возразил Сол. — Отлучиться два раза за двадцать лет… собственно, сорок, если добавить и те счастливые дни до… в общем, два раза за двадцать лет это вовсе не значит, что ребенок брошен без присмотра. Удивительная мы все же семья — так долго живем вместе и все еще не надоели друг другу.
Сара в задумчивости смотрела на стол.
— Ну а эти репортеры, они меня не разыщут?
— Убежден, что нет, — ответил Сол. — Им нужна Рахиль. Если они будут тебе досаждать, возвращайся. Но я готов держать пари, что ты спокойно проведешь неделю дома и успеешь навестить всех, кого хочешь, прежде чем на тебя набросятся охотники за новостями.
— Неделя! — У Сары перехватило дух. — Как же я могу…
— Еще как можешь! Мало того, ты просто должна поехать. Мне это даст возможность проводить больше времени с Рахилью, а потом, когда ты возвратишься, отдохнувшая, я смогу потратить несколько дней на свою книгу.
— Кьеркегор и что-то там?..
— Нет. Я тут затеял некую игру, и называется она «Проблема Авраама».
— Странное название, — сказала Сара.
— И проблема странная, — отозвался Сол. — А теперь иди и укладывай вещи. Завтра проводим тебя в Новый Иерусалим, так что ты сможешь вылететь до субботы.
— Хорошо, я подумаю, — сказала она не слишком уверенно.
— Ты давай укладывайся. — Сол снова ее обнял, а затем развернул лицом к коридору и двери в спальню. — Ступай. Когда ты возвратишься, я подумаю, что можно предпринять.
— Обещаешь? — спросила она, помедлив.
Сол ответил, глядя ей в лицо.
— Я обещаю, что сделаю это прежде, чем время уничтожит все. Я, ее отец, клянусь, что отыщу выход.
Она кивнула, и Сол подумал, что за все эти месяцы не видел на ее лице такого покоя.
— Пойду укладываться.
Вернувшись на следующий день из Нового Иерусалима, Сол отправился поливать крохотный газон, оставив Рахиль с ее игрушками. Когда он снова вошел в дом, розовый свет заката заливал стены, вызывая ощущение тепла и покоя. Рахили не было ни в детской, ни в других ее излюбленных местах.
— Рахиль! — крикнул Сол.
Не получив ответа, он снова выглянул во двор, потом на улицу. Ни души.
— Рахиль! — Сол кинулся было к соседям, но тут его внимание привлекли еле слышные звуки, доносившиеся из стенного шкафа, который Сара использовала как кладовку. Сол осторожно открыл дверцу.
Рахиль сидела под висевшей на плечиках одеждой и копалась в принадлежащей Саре старинной деревянной шкатулке. Весь пол в шкафу был завален фотографиями и голографическими чипами: Рахиль — ученица средней школы, Рахиль в день поступления в колледж, Рахиль на Гиперионе, на фоне ажурной стены скал. На коленях четырехлетней Рахили лежал исследовательский комлог Рахили-аспирантки и что-то тихо бормотал. Сол услышал этот знакомый голос молодой, уверенной в себе женщины, и сердце его болезненно сжалось.
— Папа, — сказала девочка, подняв глаза, и ее тоненький голосок был испуганным эхом голоса, звучавшего в комлоге. — Ты никогда не говорил, что у меня есть сестричка.
— У тебя ее нет, малышка.
Рахиль нахмурилась.
— Значит, это мама, когда она была… не такая большая? Не-е, это не она. Она говорит, что ее тоже зовут Рахиль. Как же так…
— Все в порядке, — сказал он. — Я тебе объясню… — Тут Сол вдруг понял, что в гостиной давно уже звонит фон. — Подожди минутку, милая. Я сейчас вернусь.
В нише появилось голографическое изображение мужчины, которого Сол ни разу в жизни не видел. Сам он не включил свой собственный имиджер, торопясь скорее отделаться от незнакомца.
— Да? — сказал он резко.
— Господин Вайнтрауб? Господин Вайнтрауб, который жил в Мире Барнарда, а в настоящее время живет в деревне Дан на Хевроне?
Сол хотел уже отключить фон, но задумался. Их кодовый номер не зарегистрирован. Иногда звонил какой-нибудь продавец из Нового Иерусалима, звонки же с других планет были весьма редки. А потом с резкой болью в сердце он понял все: сейчас суббота, солнце уже зашло. В это время разрешены только экстренные голографические вызовы.
— Да? — сказал Сол.
— Господин Вайнтрауб. — Незнакомец глядел мимо него. — Произошло огромное несчастье.
Когда Рахиль проснулась, возле ее кровати сидел отец. Вид у него был усталый. Глаза красные, щеки потемнели от щетины.
— Доброе утро, папа.
— Доброе утро, милая.
Рахиль огляделась и растерянно заморгала. Вот ее куклы, вот игрушки и другие вещи, но это не ее комната. Здесь другой свет. И воздух какой-то другой. Да и отец выглядит по-другому.
— Папа, где мы?
— Мы с тобой отправились в путешествие, малышка.
— А куда?
— Сейчас это не важно. Вставай-ка, маленькая. Ванна готова, а потом мы будем одеваться.
Темное платьице, которого она ни разу не видела раньше, лежало в ногах ее постели. Рахиль посмотрела на него, потом опять на отца.
— Папа, что случилось? Где наша мамочка?
Сол задумчиво потер щеку. Это было уже третье утро после катастрофы. Сегодня похороны. Он рассказал ей все — и вчера утром, и позавчера, — ибо не мог допустить даже мысли о том, чтобы солгать ей; это было бы верхом предательства, предательством и Рахили, и Сары. Но сейчас ему вдруг показалось, что он не сможет повторить это еще раз.
— Случилась беда, Рахиль, — сказал он, и голос его дрогнул. — Мама умерла. Сегодня мы пойдем с ней попрощаться. — Сол сделал паузу. Он уже знал, что потребуется по меньшей мере минута, чтобы до Рахили дошел смысл произнесенных им слов. В первый день он еще не был уверен, поймет ли четырехлетний ребенок, что значит «умерла». Теперь он знал, что поймет.
А потом, обнимая горько плачущую дочь, Сол снова пытался уяснить, как же произошла эта катастрофа, вместившаяся всего в несколько слов. Магнитопланы с полным правом считались самым надежным видом пассажирского транспорта из всех, когда-либо изобретенных человечеством. Их двигатели могли иногда отказать, но даже в этих случаях остаточный заряд в электромагнитных генераторах позволял машине совершить безопасную посадку с любой высоты. Надежная конструкция автоматики, предохраняющей ТМП от столкновений в воздухе, в принципе не претерпевала изменений на протяжении нескольких веков. Но ничто не помогло. Непосредственной причиной катастрофы явились двое подростков, угнавших ТМП и носившихся на нем за пределами выделенных для транспорта линий; разогнались они до полутора звуковых, а сигнальные огни и импульсный приемопередатчик просто выключили, чтобы их никто не обнаружил; это и привело к столкновению со старым «Виккеном» тети Теты, который шел к посадочной площадке оперного театра в Буссард-Сити. Помимо Теты, Сары и обоих подростков погибли еще три человека, когда обломки машин врезались в битком набитый публикой атриум театра.
Сара…
— А мы еще когда-нибудь увидим мамочку? — спросила Рахиль, всхлипывая. Она задавала этот вопрос и вчера, и позавчера.
— Не знаю, милая, — искренне ответил Сол.
Похоронили Сару в фамильном склепе в округе Кейтс на Барнарде. Репортеры сновали под деревьями и бушевали у чугунных ворот, словно кипящий прибой, но вторгнуться на кладбище все же не посмели.
Ричард предложил Солу пожить вместе с дочкой несколько дней у него на ферме, но Сол по опыту знал, какие муки ожидают беднягу, если пресса не утихомирится. Он обнял Ричарда, лаконично ответил толпившимся за оградой репортерам и сбежал вместе с ошеломленной и притихшей Рахилью на Хеврон.
Репортеры преследовали их до Нового Иерусалима, а затем попытались пробраться в Дан, но военная полиция, обогнав их, преградила путь взятым напрокат магнитопланом; человек десять для острастки посадили в тюрьму, а остальным аннулировали въездные нуль-визы.
Вечером Сол отправился побродить по окрестным холмам, оставив спящую Рахиль на попечение Джуди. Он обнаружил, что спорит теперь с Богом вслух и с трудом сдерживает желание грозить небесам кулаком, швырять камни или выкрикивать бохогульства. Вместо этого он лишь задавал вопросы, всегда кончавшиеся одним словом: «Почему?».
Ответа не было. Солнце Хеврона скрылось за далекими горами, и скалы светились розовым светом, отдавая дневное тепло. Сол сел на камень и потер ладонями виски.
Сара…
Они были счастливы друг с другом, даже когда на них обрушился этот ужас — болезнь Рахили. Как жестоко посмеялась над ними судьба — стоило Саре вырваться к сестре, чтобы отдохнуть… Сол застонал.
Ловушка, конечно, заключалась в том, что они были полностью поглощены болезнью Рахили. Они просто не могли себе представить будущее после ее… смерти? Исчезновения? Мир сузился до одного дня, в котором жила их дочь, и им даже в голову не приходило, что безжалостная Вселенная, подчиняясь своей извращенной антилогике, может уничтожить одного из них. Сол был уверен, что Сара, как и он, подумывала о самоубийстве, но ни он, ни она никогда бы не решились покинуть друг друга. Или Рахиль. Он даже представить себе не мог, что останется с Рахилью один.
Сара!
И в этот миг Сол осознал, что гневный диалог, который его народ вел с Богом в течение тысячелетий, не окончился с гибелью Старой Земли и с новой диаспорой… Он все еще длится. И он, и Рахиль, и Сара были частью этого спора, участвовали в нем и сейчас. Боль не проходила. Она заполнила его целиком и принесла с собой мучительную необходимость принять решение.
В сгущавшихся сумерках Сол стоял на вершине холма и плакал.
Утром, когда комнату затопил солнечный свет, Сол наклонился над кроваткой Рахили.
— Доброе утро, папа.
— Доброе утро, милая.
— Где мы, папа?
— Мы путешествуем. Здесь хорошо.
— А где мамочка?
— Сегодня она гостит у тети Теты.
— Мы увидим ее завтра?
— Да, — ответил Сол. — А теперь давай-ка я тебя одену и приготовлю завтрак.
Сол принялся ходатайствовать перед Церковью Шрайка о паломничестве, когда Рахили исполнилось три года. Поездки на Гиперион были строго ограничены, а доступ к Гробницам Времени стал почти невозможным. Но паломников туда пропускали.
Рахиль очень огорчалась, что в день ее рождения с нею нет ее мамы, но из кибуца пришло несколько детей, и она отвлеклась. Самым лучшим подарком оказалась иллюстрированная книга сказок, которую Сара привезла из Нового Иерусалима несколько месяцев назад.
Некоторые сказки Сол читал Рахили перед сном. Прошло уже семь месяцев, с тех пор как она еще могла прочесть некоторые слова. Но сказки она все еще любила — особенно «Спящую красавицу» — и заставила отца прочитать ее два раза.
— Когда вернемся домой, я покажу ее мамочке, — сказала она, зевая.
— Спокойной ночи, детка, — выключив свет и задержавшись у двери, негромко сказал Сол.
— Папа?
— А?
— Счастливо, аллигатор.
— Пока, крокодил.
Рахиль хихикнула в подушку.
Нечто похожее, не раз думал Сол в последние два года, переживают люди, у которых на глазах дряхлеет и слабеет кто-то из близких. Только это хуже. В тысячу раз хуже.
С восьми лет у Рахили стали выпадать зубы, когда ей исполнилось два годика, их уже полностью заменили молочные, а еще через полгода половина из них ушла в челюсть.
Волосы Рахили, которые всегда были предметом ее гордости, стали реже и короче. Ее лицо постепенно теряло знакомые очертания — младенческая пухлость сгладила скулы и твердую линию подбородка. Мало-помалу стали заметны нарушения координации движений, особенно когда Рахиль брала в руки вилку или карандаш. В день, когда она перестала ходить, Сол уложил ее пораньше в кроватку, а затем ушел в свой кабинет и тихо напился до потери сознания.
Самым тяжелым было то, что она разучалась говорить. С каждым забытым словом Сол все сильнее чувствовал, как горит соединяющий их мост, рвется последняя ниточка надежды. Впервые он заметил это, когда ей исполнилось два года. Уложив ее и задержавшись в дверях, Сол как всегда сказал:
— Счастливо, аллигатор.
— А?
— До свидания, аллигатор, говорю.
Рахиль захихикала.
— Ты должна мне ответить: «Пока, крокодил», — сказал Сол. Он рассказал ей и об аллигаторе, и о крокодиле.
— Пока, акодил, — хихикая, сказала Рахиль.
Утром она все забыла.
Сол брал теперь Рахиль с собой в поездки по Сети. Уже не обращая внимания на репортеров, он ходатайствовал перед Церковью Шрайка о предоставлении ему права на паломничество, требовал от Сената визы и пропуска в закрытый район Гипериона, посещал научно-исследовательские институты и клиники, предлагавшие хоть что-то новое. Неделя шла за неделей, и все больше врачей расписывалось в своем бессилии. Когда он возвратился на Хеврон, Рахили было пятнадцать стандартных месяцев; она весила (на Хевроне пользовались старинными единицами) двадцать пять фунтов, а ее рост равнялся тридцати дюймам. Она уже не могла одеваться сама. Ее словарь состоял из двадцати пяти слов, главными из которых были «мама» и «папа».
Солу нравилось носить свою дочь на руках. Ее головка у его щеки, тепло детского тельца, запах ее кожи, случалось, помогали ему забыть жестокую несправедливость происшедшего. Он как бы заключал перемирие со Вселенной, и для полного покоя не хватало лишь Сары. Тогда и в его гневных диалогах с Богом, в Которого он не верил, наступала временная передышка.
«Что может быть причиной всего этого?»
«А какова видимая причина любых страданий, которые претерпевало человечество?»
«Верно», — подумал Сол. Неужели он впервые начал что-то понимать? Сомнительно.
«Из того, что ты чего-то не видишь, еще не следует, что этого не существует».
«Фу, как неуклюже. Неужели нельзя было изложить эту мысль, употребив меньше трех отрицаний? Тем более что мыслишка-то отнюдь не глубока».
«Верно, Сол. Ты начинаешь разбираться во всем этом».
«В чем?»
Ответа не было. Сол лежал у себя дома и прислушивался к завыванию ветра в пустыне.
Последним словом Рахили было «мама», произнесенное, когда ей было немногим больше пяти месяцев.
Она просыпалась в своей кроватке и не спрашивала — не могла спросить, — где находится. Ее мир состоял теперь из еды, сна и игрушек. Когда она плакала, Сол почему-то думал, что она зовет мать.
За покупками Сол ходил в деревенские лавочки. Держа Рахиль на руках, он выбирал пеленки, детское питание и — временами — новую игрушку.
За неделю до того, как Сол отправился на ТК-Центр, к нему пришли поговорить Эфраим и двое других старейшин. Был вечер, и отблески угасающего заката окрасили лысину Эфраима в розовый цвет.
— Сол, мы тревожимся за тебя. Наступающие недели будут особенно трудными. Наши женщины хотят тебе помочь. Мы все хотим тебе помочь.
Сол положил руку на плечо старика.
— Я ценю вашу заботу, Эфраим. Все последние годы вы мне очень помогали. Теперь это и наша родина. Я думаю, Саре тоже хотелось бы… чтобы я вам это сказал. Но в воскресенье мы уезжаем. Рахиль поправится.
Трое мужчин, сидевших на длинной скамейке, переглянулись.
— Найден новый способ лечения? — помедлив, спросил Абнер.
— Нет, — ответил Сол, — но у меня появилась надежда.
— Надежда — это хорошо, — неуверенно произнес Роберт.
Сол улыбнулся, и его белые зубы сверкнули в седой бороде.
— Могло быть и лучше, — сказал он. — Но иногда это все, что у нас есть.
Голографическая камера крупным планом показала Рахиль, которую держал на руках Сол. Они сидели в студии, откуда велась передача «Понемногу обо всем».
— Итак, вы утверждаете, — произнес Девон Уайтшир, ведущий этой передачи и третий по популярности человек в инфосфере Сети, — что отказ Церкви Шрайка и… медлительность Гегемонии в оформлении визы… что эти обстоятельства обрекают вашего ребенка на… исчезновение?
— Совершенно верно, — ответил Сол. — До Гипериона нельзя добраться быстрее, чем за шесть недель. Рахили сейчас двенадцать недель. Любое промедление — по вине ли Церкви Шрайка, либо бюрократии Сети — убьет моего ребенка.
Участники передачи заволновались. Девон Уайтшир повернулся к ближайшему имиджеру, и его добродушное худощавое лицо заполнило весь экран.
— Этот человек не знает, сможет ли он спасти свою дочку. — Голос Уайтшира зазвенел от сдерживаемого волнения. — Но ведь все, чего он просит, это дать ему шанс. Думаете ли вы, что он и его дочка заслуживают этот шанс? Если да, то обращайтесь к вашим планетарным представителям и в ближайшее к вам святилище Церкви Шрайка. Номер вашего ближайшего святилища сейчас появится у вас на экранах. — Он снова повернулся к Солу. — Мы желаем вам удачи, господин Вайнтрауб. И, — большая рука Уайтшира коснулась щеки Рахили, — мы желаем счастливого пути тебе, наш маленький друг.
На экране вновь появилось лицо Рахили и оставалось на нем до тех пор, пока он не погас.
Эффект Хоукинга вызывал тошноту, головокружение, головную боль и галлюцинации. Полет к Парвати на принадлежащем Гегемонии факельщике «Отважный» занял десять дней.
Все это время Сол держал Рахиль и терпел стиснув зубы. На корабле они были единственными, кто не впал в спасительное забытье. Сначала Рахиль плакала, но через несколько часов успокоилась и тихо лежала теперь на руках у Сола, глядя на него большими темными глазами. Сол вспомнил тот день, когда она родилась — врач принимает младенца, появившегося из чрева Сары, и протягивает его Солу. Темные волосы Рахили были тогда ненамного короче, чем теперь, а ее взгляд — не менее осмысленным.
В конце концов они заснули от усталости.
Солу снилось, что он бродит по какому-то зданию с колоннами, огромными, как секвойи, и потолком таким высоким, что его нельзя разглядеть. Пустое помещение заливал красный свет. Сол с удивлением обнаружил, что по-прежнему держит на руках Рахиль. Рахиль в облике младенца в его снах еще ни разу не появлялась. Девочка взглянула на него, и Сол ощутил соприкосновение их сознаний так отчетливо, словно она высказала свои мысли вслух.
Но тут другой голос, громкий и холодный, эхом раскатился в пустоте:
«Сол! Возьми дочь твою, единственную твою, которую ты любишь, Рахиль; и отправляйся в мир, называемый Гиперион, и там принеси ее во всесожжение в месте, о котором Я скажу тебе».
Сол растерянно взглянул на Рахиль. В больших глазах ребенка, устремленных на отца, светилась невысказанная мысль. Сол понял, что она говорит ему: «Да». Крепко прижав к себе дочь, он шагнул в темноту, и его голос разорвал царившую здесь тишину:
«Слушай, Ты! Больше не будет жертвоприношений, ни детей, ни родителей! И люди будут жертвовать собой лишь для людей — ни для кого иного. Время повиновения и искупления кончилось!»
Сол замолчал, ощущая биение своего сердца и теплоту тела Рахили. Откуда-то сверху с огромной высоты до него долетало холодное дыхание ветра, со свистом врывавшегося в невидимые трещины. Сол приложил руку ко рту и прокричал:
«Все! Теперь или оставь нас в покое, или приди к нам как отец, а не за жертвой! Выбирай, как некогда выбирал Авраам!»
В каменном полу раздался грохот, и Рахиль вздрогнула. Колонны зашатались. Красный сумрак сгустился, а затем мгновенно наступила тьма. Издалека донесся звук тяжелых шагов. Налетел мощный порыв ветра, и Сол прижал Рахиль к себе.
А потом замерцал свет, и они с Рахилью проснулись на борту КГ «Отважный», направлявшегося к Парвати, где им нужно было пересесть на звездолет-дерево «Иггдрасиль», который доставит их на планету Гиперион. Сол улыбнулся своей двухмесячной дочери. Она улыбнулась ему в ответ.
Это была ее последняя улыбка. Или же первая.
Когда ученый закончил свой рассказ, в каюте воцарилась тишина. Сол откашлялся и выпил воды из хрустального бокала. Рахиль спала в самодельной кроватке. Ветровоз, слегка раскачиваясь, продолжал свой путь, а монотонное громыхание ходового колеса и жужжание гиростабилизаторов навевали на пассажиров сон.
— Господи, — тихо произнесла Ламия[35] Брон. Она хотела сказать еще что-то, но передумала и просто покачала головой.
Мартин Силен, закрыв глаза, продекламировал:
Когда ж вся ненависть уйдет, Душа невинность обретет, Постигнув, что сокрыты в ней одной Ее восторги, страхи и покой, А воля добрая ее — есть воля Божья, За что б ее тогда ни порицали, Какие б ветры ни хлестали, Она счастливой будет все же.— Уильям Батлер Йейтс? — спросил Сол Вайнтрауб.
Силен утвердительно кивнул:
— «Молитва о дочери».
— Я, пожалуй, выйду на палубу подышать перед сном, — сказал Консул. — Никто не хочет присоединиться?
Захотели все. Обдуваемые свежим ветерком, паломники стояли на юте, вглядываясь в темное Травяное море. Огромная чаша неба была усеяна звездами и испещрена следами метеоров. Хлопанье парусов и скрип снастей, казалось, раздаются из далекого прошлого.
— Я думаю, нужно поставить на ночь часовых, — сказал полковник Кассад. — Дежурить будем по-одному. Через два часа — смена.
— Согласен, — отозвался Консул. — Я буду дежурить первым.
— Утром… — начал было Кассад.
— Смотрите! — вдруг крикнул отец Хойт.
Все взглянули туда, куда он показывал. Между сияющими созвездиями вспыхнули разноцветные огненные шары — зеленый, фиолетовый, оранжевый, еще один зеленый. Подобно зарницам они осветили раскинувшуюся во все стороны огромную равнину. Звезды и следы метеоров поблекли рядом с этим поразительным зрелищем.
— Взрывы? — спросил священник.
— Сражение в космосе, — ответил Кассад. — Поблизости. Термоядерные бомбы, — добавил он на ходу и скрылся в люке.
— Смотрите, Древо. — Хет Мастин указывал на светящуюся точку, которая перемещалась среди взрывов, словно тлеющий уголек среди огней фейерверка.
Кассад вернулся со своим электронным биноклем и пустил его по кругу.
— Бродяги? — спросила Ламия. — Это вторжение?
— Почти наверняка Бродяги, — сказал Кассад. — Но, возможно, это не вторжение, а всего лишь разведывательный рейд. Видите вспышки? Корабли Гегемонии стреляют ракетами, а Бродяги их сбивают.
Бинокль наконец оказался у Консула. Вспышки были теперь ясно различимы — расширяющиеся фонтаны огня. Он разглядел и пятнышко «дерева», и длинные синие выхлопы по меньшей мере двух разведчиков, удиравших от преследователей.
— Я не думаю… — начал было Кассад, как вдруг весь их корабль до кончиков мачт и Травяное море затопило ярким оранжевым светом.
— Боже милостивый, — прошептал отец Хойт. — Они попали в корабль-дерево!
Консул перевел бинокль влево. Увеличивающийся ореол пламени можно было разглядеть и невооруженным глазом, но в бинокль какое-то мгновение были отчетливо видны километровый ствол и ветви охваченного огнем «Иггдрасиля». По мере того как выключались защитные поля и кислород выходил наружу, длинные языки пламени, изгибаясь, устремлялись в космос. Оранжевое облако начало пульсировать, потом растаяло и исчезло. На секунду ствол полыхнул огнем, а затем разлетелся на отдельные куски, словно последняя головешка догорающего костра. Ничто не могло уцелеть в этом аду. «Иггдрасиль», со своей командой, клонами и эргами, разумными существами-аккумуляторами, более не существовал.
Консул повернулся к Хету Мастину и с опозданием протянул ему бинокль.
— Мне очень жаль, — прошептал он.
Тамплиер не взял бинокля. Он опустил голову, надвинул на глаза капюшон и молча пошел вниз.
После гибели корабля-дерева взрывов больше не было. Прошло десять минут, но ни одна вспышка не нарушила черноту ночного неба.
Первой пришла в себя Ламия Брон:
— Вы полагаете, они их подбили?
— Бродяг? — спросил Кассад. — Вряд ли. Разведывательные корабли строятся с расчетом на скорость и на оборону. Сейчас они уже на расстоянии нескольких световых минут.
— Они что, охотились за кораблем-деревом? — спросил Силен. Голос поэта звучал непривычно трезво.
— Думаю, что нет, — ответил Кассад. — Скорее всего это чистая случайность.
— Чистая случайность, — словно эхо повторил Сол Вайнтрауб и покачал головой. — Пойду посплю.
Один за другим спустились вниз и остальные. Когда на палубе остался один Кассад, Консул спросил:
— Где я должен нести караул?
— Обходите весь корабль, — ответил полковник. — Из основного коридора вам будут видны двери всех кают и вход в столовую и в камбуз. Потом поднимайтесь на палубу и проверяйте трап и надстройки. Внимательно следите, чтобы горели фонари. У вас есть оружие?
Консул отрицательно покачал головой.
Кассад протянул ему свой «жезл смерти».
— Он настроен на узкий луч — около полуметра на дистанции десять метров. Не пользуйтесь им, пока не убедитесь, что на корабль кто-то проник. Эта пластина с шершавой поверхностью — предохранитель. Сдвигается она вперед. Сейчас жезл на предохранителе.
Убедившись, что его палец не касается пластины, Консул кивнул.
— Я сменю вас через два часа, — сказал Кассад и проверил свой комлог. — Моя вахта закончится раньше, чем взойдет солнце. — Он посмотрел на небо, как бы ожидая, что «Иггдрасиль» вновь появится там и продолжит свой полет. Но там сияли только звезды. Закрывший северовосточный горизонт черный вал предвещал шторм.
Кассад покачал головой.
— Зря, — сказал он и спустился вниз.
Консул постоял немного, прислушиваясь к шуму ветра в парусах, скрипу снастей и грохоту колеса. Потом подошел к борту и задумался, глядя в темноту.
ЧАСТЬ V
Восход над Травяным морем был воистину прекрасен. Консул любовался им с крыши кормовой надстройки. После вахты он попытался заснуть, но вскоре понял, что это бесполезно, и поднялся на палубу встретить рассвет. Низко нависшие грозовые тучи застилали небо, и отраженные ими лучи восходящего солнца залили весь мир расплавленным золотом. Паруса, снасти, побелевшие от времени доски палубы — все, чего солнце коснулось своим кратким благословением, засияло всеми цветами радуги. Но вот оно скрылось за пологом облаков, и мир снова лишился своих красок. И стоило упасть занавесу, как сразу же подул ветер, такой холодный, словно он прилетел сюда прямо со снежных вершин Уздечки, показавшихся из-за горизонта на северо-востоке.
На палубе появились Ламия и Мартин Силен с чашками кофе в руках и направились к Консулу. Ветер тянул и рвал снасти. Густые кудри Ламии растрепались, окружив ее лицо подобием темного нимба.
— Доброе утро, — пробормотал Силен, щурясь поверх чашки на подернувшуюся рябью гладь Травяного моря.
— Доброе утро, — ответил Консул. Он чувствовал себя на удивление бодрым и свежим, хотя за всю ночь ни разу не сомкнул глаз. — Ветер встречный, но пока судно идет неплохо. Уверен, к вечеру мы достигнем гор.
— Хрргм, — прокомментировал это замечание Силен и сунул нос в чашку.
— Я никак не могла заснуть, — сказала Ламия. — Все думала о том, что рассказал нам господин Вайнтрауб.
— Что касается меня… — начал поэт, но тут на палубу вышел Вайнтрауб с дочерью. Девочка выглядывала из своей люльки, висевшей на груди ученого.
— Всем доброе утро, — сказал Вайнтрауб и, оглядевшись, глубоко вздохнул. — Ммм-да, холодновато…
— Чертовски холодно, — откликнулся Силен. — А когда перевалим через хребет, будет еще хуже.
— Я, пожалуй, спущусь за курткой, — сказала Ламия. Но не успела она сделать и шагу, как внизу кто-то пронзительно закричал:
— Кровь!
И в самом деле — кровь была повсюду. Каюта Хета Мастина выглядела на редкость опрятно: нетронутая постель, ровный штабель чемоданов в углу, на стуле — аккуратно сложенная одежда. Но на полу, на переборках, на потолке, куда ни глянь — кровь. Шестеро паломников вошли в каюту и кучкой столпились у дверей, не решаясь пройти дальше.
— Я как раз шел мимо, хотел подняться на верхнюю палубу. — Голос отца Хойта был до странности монотонным. — И тут заметил, что дверь приоткрыта. Мне сразу бросилось в глаза… кровь на стене.
— А это в самом деле кровь? — засомневался Мартин Силен.
Ламия Брон шагнула вперед, провела рукой по заляпанной красными пятнами переборке и поднесла пальцы к губам.
— Да! Кровь. — Она огляделась вокруг, подошла к платяному шкафу, быстро осмотрела пустые полки и вешалки, затем направилась к маленькому иллюминатору. Он был закрыт на щеколду и закреплен изнутри болтами.
Ленар Хойт, выглядевший совершенно разбитым, сделал несколько неверных шагов и рухнул на стул.
— Так он мертв?
— Утверждать наверняка мы не можем. Известно только, что капитан Мастин исчез из собственной каюты и что в ней полно крови. — Ламия вытерла руку о штанину и добавила: — Надо тщательно осмотреть весь корабль.
— Верно, — согласился Кассад. — А если мы не найдем капитана?
Ламия Брон открыла иллюминатор. Каюту наполнило громыхание колеса и шуршание травы под корпусом. Запах свежей крови, наводящий на мысль о бойне, стал понемногу выветриваться.
— Если мы не найдем капитана Мастина, — сказала она, — останется предположить одно из двух: либо он покинул корабль по собственной воле, либо его похитили.
— Но кровь… — начал отец Хойт.
— Не доказывает ничего, — закончил за него Кассад. — Госпожа Брон права. Мы не знаем, какая у него группа крови, какой генотип… Кто-нибудь видел или слышал что-нибудь подозрительное?
Раздалось несколько «не-а», остальные молча покачали головами.
Мартин Силен встрепенулся:
— Послушайте, да это же работа нашего друга Шрайка! Неужели не узнаете почерк?
— Не обязательно, — отрезала Ламия. — А может, кто-то решил навести нас на мысль, что это Шрайк.
— Зачем? — спросил отец Хойт, тяжело дыша. — Бессмыслица какая-то.
— И тем не менее, — сказала Ламия. — А теперь надо обыскать корабль. Разбиваемся по парам и приступаем. Кто при оружии?
— Я, — отозвался полковник Кассад. — У меня и лишнее найдется, если надо.
— У меня ничего нет, — объявил отец Хойт.
Поэт отрицательно покачал головой.
— У меня тоже, — сказал Сол Вайнтрауб, заглянув в каюту (увидев кровь, он сразу же вышел в коридор).
— И у меня, — добавил Консул. Отстояв вахту, он тут же вернул Кассаду его «жезл смерти».
— Так, — подытожила Ламия. — Священник пойдет со мной на нижнюю палубу. Силен с полковником — на среднюю. Господин Вайнтрауб, вы с Консулом проверьте все наверху. Постарайтесь ничего не пропустить. И ищите любые признаки борьбы.
— Позвольте вопрос, — перебил ее Силен.
— Да?
— Кто, черт возьми, выбрал вас королевой бала?
— Я частный детектив. — Ламия пристально посмотрела поэту в глаза.
Мартин Силен пожал плечами:
— Присутствующий здесь отец Хойт является священником какой-то забытой религии. Но не значит же это, что мы должны преклонять колена, когда он служит мессу.
— Ну что ж, — вздохнула Ламия, — придется прибегнуть к более весомому аргументу.
Консул и глазом моргнуть не успел, как она оказалась рядом с Силеном. Секунду назад Ламия стояла возле иллюминатора, а в следующее мгновение была уже в центре каюты, и поэт, поднятый в воздух ее мускулистой рукой, беспомощно болтал ногами и силился разжать пальцы, сомкнувшиеся вокруг его тощей шеи.
— Ну что, порассуждаешь еще или будешь делать то, что сказано?
Мартин Силен что-то невнятно прохрипел.
— Так-то, — коротко заметила Ламия и опустила поэта на пол. Силен сделал несколько шагов, пошатнулся и едва не сел на отца Хойта.
Появился Кассад с двумя малыми нейростаннерами в руках. Один из них он вручил Солу Вайнтраубу.
— Мое оружие — вот, — сказал он. — А ваше, Ламия?
Та сунула руку в карман своей просторной накидки и извлекла оттуда допотопный пистолет.
Кассад мельком взглянул на эту реликвию, затем кивнул.
— Друг от друга ни на шаг, — приказал он. — Прежде чем стрелять, уясните, что перед вами и насколько это опасно.
— Остается последовать вашим рекомендациям, полковник, — сказал Силен, массируя шею, — и немедленно пристрелить эту сукину дочь.
Ламия Брон шагнула к поэту.
— Ну-ка, хватит ссориться, — осадил ее Федман Кассад и вышел из каюты. Мартин Силен последовал за ним.
Сол Вайнтрауб подошел к Консулу и протянул ему станнер:
— Не хочется мне таскать эту штуку, когда Рахиль у меня на руках. Идем наверх?
Консул кивнул и взял оружие.
Глас Древа тамплиеров Хет Мастин бесследно исчез. После часа поисков все опять собрались в каюте пропавшего. Кровь уже потемнела и стала засыхать.
— Может, мы что-то упустили? — спросил отец Хойт. — Какие-нибудь потайные ходы? Или тайники?
— Вряд ли, — ответил Кассад. — Я прочесал весь корабль с помощью датчиков тепла и движения. А от них даже мышь не укроется.
— Если у вас есть такие датчики, — возмутился Силен, — какого черта мы целый час ползали по разным углам и закоулкам?
— Потому что соответствующее оборудование или одежда могут спрятать человека даже от них.
— Я хотел бы уточнить. — Отец Хойт на секунду замолк: лицо его исказилось от боли. — Получается, что с помощью этого оборудования или одежды капитан Мастин мог укрыться от нас, спрятавшись в каком-нибудь тайнике?
— Возможно, но маловероятно, — ответила Ламия Брон. — Скорее всего на судне его нет.
— Это Шрайк. — В голосе Мартина Силена слышалось отвращение. Он не спрашивал — утверждал.
— Может быть, — сказала Ламия. — Полковник, последние четыре часа на вахте стояли вы с Консулом. Вы абсолютно уверены, что не видели и не слышали ничего подозрительного?
Оба одновременно кивнули.
— На судне было совершенно тихо, — добавил Кассад. — До этого, кстати, тоже: шум борьбы я бы услышал в любом случае.
— А я, сменившись с вахты, совсем не спал, — заявил Консул. — Каюта Хета Мастина рядом с моей. Но я ничего не слышал.
— Итак, — сказал Силен, — мы выслушали двух человек, которые разгуливали по судну с оружием как раз тогда, когда бедняга был убит. И оба утверждают, что невиновны. Следующее дело!
— Если Мастин и был убит, — спокойно заметил Кассад, — то по крайней мере не «жезлом смерти». Ни один известный мне тип современного бесшумного оружия не вызывает таких потерь крови. Выстрелов тоже никто не слышал. Следов пуль нет. Так что пистолет Ламии тут ни при чем. Если это действительно кровь капитана Мастина, значит, действовали холодным оружием.
— Шрайк и есть холодное оружие. — Мартин Силен хмыкнул.
Ламия подошла к невысокому штабелю чемоданов.
— Хватит спорить. Давайте-ка лучше посмотрим его багаж.
Отец Хойт предостерегающе поднял руку:
— Это… ну… это ведь его личные вещи, не так ли? Мы не имеем права…
Ламия Брон скрестила руки на груди.
— Послушайте, святой отец, если Мастин мертв, ему все равно. А если все-таки жив, то, осмотрев его вещи, мы, возможно, поймем, где искать его самого. Но в любом случае нам нужно попробовать.
Хойт кивнул, соглашаясь, но весь его вид выражал сомнение. В конце концов посягательство на чужую собственность состоялось. В первом чемодане обнаружилось лишь несколько смен белья и «Книга Жизни» Мюира. Во втором — сотня сублимированных саженцев, завернутых каждый в отдельности, вместе с землей.
— Посещая новую планету, тамплиер должен посадить там не менее ста саженцев Вечного Древа, — пояснил Консул. — Приживаются они редко, но так у них принято.
Тем временем Ламия Брон занялась большим металлическим ящиком, стоявшим в самом низу.
— Не трогайте! — остановил ее Консул.
— Почему?
— Это куб Мебиуса, — ответил за Консула полковник Кассад. — Оболочка из углепласта, а под ней — замкнутое на себя сверхпроводящее защитное поле.
— Ну и что? — возразила Ламия. — Кубы Мебиуса используют для консервации артефактов и всякого хлама. Но они же не взрываются.
— Сами-то они не взрываются, — согласился Консул, — но то, что в них заключено, взорваться может. А может быть, уже взорвалось.
— Куб такого размера может остановить на стадии детонации и сколь угодно долго удерживать внутри ядерный взрыв мощностью в одну килотонну, — добавил Федман Кассад.
Ламия хмуро посмотрела на ящик.
— Тогда как нам убедиться, что там не прячется убийца Мастина?
Кассад указал на светящуюся зеленую полоску вдоль единственного шва ящика.
— Он герметически закрыт. Если бы его открывали, для реактивации потребовался бы внешний генератор защитного поля. Поэтому его содержимое не имеет отношения к исчезновению капитана Мастина.
— Значит, мы так и не узнаем, что там? — задумчиво произнесла Ламия.
— Почему же? — сказал Консул. — Кое-какие догадки у меня есть.
Все посмотрели на него. Рахиль заплакала, и Сол включил обогрев люльки.
— Помните вчерашний разговор в Эдже? — продолжал Консул. — У меня создалось впечатление, что капитан Мастин хранит в этом кубе свое секретное оружие.
— Оружие? — переспросила Ламия.
— Конечно! — воскликнул Кассад. — Эрга!
— Эрг? — Мартин Силен уставился на ящик. — Но ведь это электрические твари, которых тамплиеры используют на своих «деревьях».
— Совершенно верно, — сказал Консул. — Существа эти были найдены около трех веков назад на астероидах системы Альдебарана. По размерам они не больше кошачьего позвоночника, но тело их представляет собой клубок пьезоэлектрических нервов, заключенный в оболочку из кремниевых хрящей. Эрг может генерировать силовое поле, сравнимое с тем, что создает небольшой спин-звездолет.
— Постойте-ка, — Силен не отводил глаз от куба, — нельзя же все это впихнуть в небольшой ящик? Там что, отражающие экраны?
— В каком-то смысле да, — ответил Кассад. — Поле существа можно демпфировать, и тогда оно не тратит и не потребляет энергию. Нечто вроде нашей криогенной фуги. А это, должно быть, небольшое. Детеныш, так сказать.
Ламия провела рукой по металлической оболочке.
— И что, тамплиеры умеют управлять этими существами? Общаются с ними?
— Да, — ответил Кассад. — Но как именно, толком никто не знает. Это один из секретов братства. Хет Мастин, наверное, рассчитывал, что эрг поможет ему справиться с…
— Со Шрайком, — закончил за него Мартин Силен. — Очевидно, тамплиер думал, что этот энергетический чертенок станет его секретным оружием, когда он встретится с Повелителем Боли. — Поэт рассмеялся.
Отец Хойт кашлянул.
— Церковь признала постановление Гегемонии о том, что эти существа — эрги — не обладают душой чувствующей… а потому не обретут спасения.
— О, они прекрасно все чувствуют, святой отец, — усмехнулся Консул. — Гораздо лучше, чем мы можем себе вообразить. Но вот что касается разума, самосознания… Представьте себе что-то вроде смышленого кузнечика. Обретут ли кузнечики спасение?
Хойт промолчал.
— Ну что ж, — сказала Ламия Брон. — Видимо, капитан Мастин действительно надеялся, что это существо поможет ему обрести спасение. Но чего-то не рассчитал. — Она окинула взглядом запачканные кровью переборки и наполовину высохшие пятна на полу. — Уйдем отсюда.
Борясь с усиливающимся ветром, судно упорно двигалось на северо-восток, навстречу шторму. Под низко нависшими тучами стремительно неслись белые клочья облаков. Порывы ледяного ветра хлестали по траве и пригибали ее к земле. На горизонте сверкнула молния, и через несколько секунд над морем, словно предупредительные выстрелы, прогремели раскаты грома. Паломники молча наблюдали за разбушевавшейся стихией, пока первые капли холодного дождя не загнали их в большую каюту на корме.
— Вот это я нашла у него в кармане. — Ламия Брон продемонстрировала полоску бумаги с цифрой «5».
— Значит, Мастин должен был рассказывать свою историю следующим, — пробормотал Консул.
Мартин Силен принялся раскачиваться на стуле. В его физиономии сатира, выхватываемой из темноты вспышками молний, сейчас появилось что-то демоническое.
— Есть и другая возможность. — Он взмахнул рукой. — Пятый номер мог быть у кого-то из тех, кто еще не рассказал своей истории, и этот человек убил тамплиера, чтобы обменяться с ним номерами.
Ламия пристально посмотрела на поэта.
— То есть либо Консул, либо я, — бесстрастно произнесла она.
Силен пожал плечами.
Тогда Ламия достала из кармана еще один клочок бумаги.
— У меня номер 6. Чего бы я добилась? Все равно моя очередь следующая.
— А вдруг Мастин мог рассказать о чем-то и поэтому его заставили замолчать? — предположил поэт и снова пожал плечами. — Лично я считаю, что это Шрайк собирает свой урожай. Мы почему-то возомнили, что нам будет позволено добраться до самих Гробниц, когда эта тварь орудует уже на полпути к Китсу.
— Мы — совсем другое дело, — возразил Сол Вайнтрауб. — Наше путешествие и есть паломничество к Шрайку!
— Ну и что?
Разговор оборвался, и Консул подошел к окну. Дождь вовсю барабанил по стеклам в свинцовом переплете; море скрылось за клубящейся водяной завесой. В этот момент ветровоз заскрипел и, сильно накренившись на правый борт, повернул на другой галс.
— Госпожа Брон, — нарушил затянувшееся молчание полковник Кассад. — Может, вы расскажете нам свою историю?
Ламия сложила руки на груди и посмотрела на залитое дождем окно.
— Не сейчас. Давайте сначала выберемся с этого проклятого корабля. Здесь воняет смертью.
К Приюту Паломников ветровоз подошел во второй половине дня, но из-за грозы стемнело рано, и усталым пассажирам казалось, что уже поздний вечер. Отсюда начинался предпоследний этап путешествия, и Консул надеялся, что представители Церкви Шрайка встретят их хотя бы здесь. Однако Приют был таким же пустынным, как Эдж.
Показавшиеся в разрывах туч отроги Уздечки заставили шестерых паломников встряхнуться, как крик «Земля!» — моряка, и, несмотря на ливень, подняться на палубу. Здесь все дышало суровой красотой; отвесные утесы и бурые склоны предгорий являли собой разительный контраст монотонной зелени Травяного моря. А чуть дальше взгляд упирался в серо-белую стену, терявшуюся в низких облаках. Вершины хребта поднимались на девять километров, но сейчас об этом можно было лишь догадываться. Однако даже в таком, усеченном виде картина была величественной. Вечные снега начинались прямо за скоплением лачуг и дешевых гостиниц, по которым прошелся огонь и которые, собственно, составляли Приют Паломников.
— Если разрушена подвесная дорога, нам конец, — пробормотал Консул. Эта мысль, которую он упорно отгонял всю дорогу, вызвала у него приступ тошноты.
— Я вижу первые пять башен, — сказал полковник Кассад, глядя в свой бинокль. — Они вроде целы.
— А вагоны?
— Нет… хотя погодите. Один точно есть. Стоит у самой платформы, прямо в воротах.
— Стоит? — быстро переспросил Мартин Силен. Он тоже понимал, в какой отчаянной ситуации окажутся паломники, если подвесная дорога не работает.
— Да.
Консул покачал головой. Вагоны должны двигаться постоянно, даже в самую плохую погоду, когда совсем нет пассажиров. Иначе толстые тросы обледенеют и потеряют эластичность.
Пока ветровоз убирал паруса и выдвигал сходни, шестеро путешественников вытащили свой багаж на палубу. Все постарались одеться потеплее. Полковник облачился в армейскую термонакидку, Ламия Брон — в странного покроя длинное одеяние, по каким-то, давно забытым причинам называвшееся шинелью, Силен — в шубу из густого меха, который под порывами ветра то чернел, то отливал серебром, отец Хойт — в длинную черную рясу, сделавшую его еще более похожим на чучело, Сол Вайнтрауб — в толстую пуховую куртку, укрывавшую и его, и ребенка, а Консул — в поношенное, но вполне еще годное пальто, которое жена подарила ему несколько десятилетий тому назад.
— А как быть с вещами капитана Мастина? — спросил Сол, когда все паломники, за исключением Кассада, спустившегося вниз, чтобы разведать обстановку, собрались у сходен.
— Я вынесла их на палубу, — сказала Ламия. — Возьмем их с собой.
— Это как-то неправильно, — промямлил отец Хойт. — Просто взять и уйти. Следовало бы… отслужить… В конце концов человек умер…
— Мы этого не знаем, — напомнила ему Ламия, небрежно подхватив одной рукой сорокакилограммовую сумку.
— Вы действительно верите, что господин Мастин жив? — недоуменно спросил Хойт.
— Нет, — отрезала Ламия. Снежные хлопья садились на ее черные волосы.
С края причала им замахал Кассад, и паломники, забрав вещи, двинулись вниз по сходням. Никто не оглянулся.
— Вагон пустой? — спросила Ламия, подойдя к полковнику. На свету его накидка из «хамелеоновой кожи» стремительно теряла свою серо-черную окраску.
— Пустой.
— Трупы?
— Нет, — сказал Кассад и повернулся к Солу и Консулу: — Вы забрали из камбуза все, что надо?
Оба кивнули.
— А что они должны были забрать? — поинтересовался Силен.
— Недельный запас продуктов, — ответил Кассад. — В пути нам вряд ли удастся достать что-нибудь съестное.
Отвернувшись, полковник принялся рассматривать склон над станцией подвесной дороги. Только сейчас Консул заметил, что под накидкой он держит на сгибе руки десантную винтовку.
«Будем ли мы живы через неделю?» — подумал Консул, усмехнувшись про себя.
В два приема они перенесли вещи на станцию. Ветер со свистом врывался в разбитые окна и дыры в крышах темных зданий. Во второй ходке Консулу и отцу Хойту достался куб Мебиуса. Священник пыхтел, задыхался, и наконец его прорвало:
— Зачем мы тащим с собой этого эрга?
Они едва добрели до металлической лестницы, ведущей на станцию. Вся платформа была в потеках ржавчины, словно заросла рыжим лишайником.
— Не знаю, — ответил Консул. Он тоже с трудом переводил дыхание.
Со станционной платформы открывался прекрасный вид на бескрайние просторы Травяного моря. Ветровоз — темный, безжизненный, с зарифленными парусами — стоял на прежнем месте. По равнине несся снежный буран. Казалось, по бесчисленным стеблям высокой травы катятся белые барашки.
— Перетащите все на борт, — распорядился Кассад. — А я схожу наверх, в операторскую кабину. Попробую оттуда запустить эту механику.
— Разве здесь не автоматика? — удивился Мартин Силен. — Ну, как на ветровозе?
— Не думаю, — ответил Кассад. — Посмотрим, может, мне удастся стронуть его с места.
— А что, если он поедет без вас? — крикнула Ламия вдогонку.
— Не поедет.
В вагоне было холодно и пусто, если не считать нескольких металлических скамеек в большом переднем отделении и десятка простых коек в маленьком, заднем. Вагон был просторный — по меньшей мере восемь метров в длину и около пяти в ширину. Заднее отделение было отгорожено тонкой металлической переборкой. Один угол в нем занимал небольшой шкаф. Высокие, в полстены окна были только в переднем отделении.
Паломники свалили багаж прямо на пол и теперь пытались согреться — расхаживали по вагону, топали ногами, размахивали руками. Мартин Силен лежал на скамье, вытянувшись во весь рост, причем из шубы торчали лишь макушка да ботинки.
— Черт возьми, — пожаловался он, — совсем забыл, как в этой штуке включается отопление.
Консул взглянул на темные панели освещения.
— Отопление тут электрическое и включится само, когда полковник запустит вагон.
— Если запустит, — буркнул Силен.
Сол Вайнтрауб, сменив Рахили пеленки, переодел малышку в термокостюм и теперь укачивал на руках.
— Я-то здесь никогда не был, — оглядываясь, произнес он. — А вы, господа?
— Я был, — ответил поэт.
— А я нет, — сказал Консул. — Мне доводилось видеть дорогу только на фотографиях.
— Кассад говорил, что однажды ему пришлось возвращаться этим путем в Китс, — отозвалась из другого отделения Ламия.
— Я думаю… — начал Сол Вайнтрауб, но тут заскрежетали шестерни, и вагон, резко накренившись, закачался, а затем, влекомый внезапно пришедшим в движение тросом, пополз вперед. Все бросились к окну, выходившему на платформу.
Прежде чем отправляться в операторскую, Кассад предусмотрительно перенес свои вещи в вагон. Сейчас он выскочил из дверей кабины, одним прыжком преодолел длинную лестницу и кинулся за вагоном, который медленно отходил от посадочной площадки.
— Не успеет, — прошептал отец Хойт.
До края платформы оставалось метров десять, но карикатурно длинноногий Кассад бежал, как настоящий спринтер.
Вагон выскользнул из направляющего желоба и закачался в воздухе, метрах в восьми над скалами. Хотя настил платформы обледенел, Кассад не снижал скорости, нагоняя вагон.
— Давай! — закричала Ламия Брон. Остальные подхватили ее крик.
Консул посмотрел вверх: полосы льда отваливались с обмерзшего троса и падали вниз. Он оглянулся. Слишком далеко. Кассад не успеет.
Однако полковник бежал невероятно быстро. Вот и край платформы. Консулу снова вспомнился ягуар — зверь со Старой Земли, которого он видел в зоопарке на Лузусе. Казалось, полковник вот-вот поскользнется и полетит вниз, на заснеженные валуны. Но нет. Вытянув вперед свои длинные руки, Кассад прыгнул и завис в воздухе. Его накидка развевалась на ветру. Мгновение — и он скрылся за вагоном.
Раздался глухой удар, затем потянулась бесконечно долгая минута ожидания. Все молчали, даже шелохнуться боялись. Вагон плыл в сорока метрах над скалами, приближаясь к первой мачте. Но вот паломники увидели Кассада. Хватаясь за обледенелые металлические поручни, он продвигался вдоль вагона. Ламия распахнула дверь, и к полковнику тут же протянулся десяток рук. Ему помогли забраться внутрь.
— Благодарение Господу, — произнес отец Хойт.
Немного отдышавшись, полковник мрачно улыбнулся:
— Мне не хотелось дожидаться возвращения вагона. Там автоблокировка. Если с оператором что-нибудь случится, механизм останавливается. Пришлось придавить рычаг мешком песка.
Мартин Силен указал на быстро приближающуюся мачту опоры, над которой, как потолок, висело облако. Трос, казалось, уходил в пустоту.
— Сдается мне, мы уже пересекаем хребет, хотим мы того или нет.
— А сколько времени займет дорога? — спросил Хойт.
— Часов двенадцать. Может, чуть меньше. Операторам иногда приходится останавливать вагоны — если ветер слишком сильный или трос обледенеет.
— Теперь мы уже не остановимся, — сказал Кассад.
— Если только трос не порвется, — заметил поэт. — Или мы на что-нибудь не налетим.
— Заткнись, — оборвала его Ламия. — И вообще не пора ли нам пообедать?
— Смотрите! — позвал Консул.
Все подошли к передним окнам. Вагон уже поднялся на сто метров над бурым склоном. Предгорья остались где-то позади. Далеко внизу виднелась платформа. Паломники в последний раз окинули взглядом станцию, покинутые лачуги Приюта Паломников и неподвижный ветровоз.
Затем снег и плотные облака поглотили их.
Разумеется, кухни в привычном смысле слова в вагоне не было. Однако в заднем отделении обнаружились холодильник и микроволновая печь. Из мяса и овощей, позаимствованных на камбузе ветровоза, Ламия и Вайнтрауб соорудили вполне сносное жаркое. У Мартина Силена нашлось и вино (несколько бутылок он прихватил еще с «Бенареса», остальными разжился на ветровозе). К жаркому он открыл гиперионское бургундское.
Паломники почти покончили с обедом, когда мрак, словно облепивший окна вагона, начал понемногу рассеиваться. Вскоре стало совсем светло. Консул обернулся к окну, и в этот момент выглянуло солнце, залив весь вагон каким-то потусторонним золотым светом.
Все разом вздохнули. Уже несколько часов как стемнело, но едва вагон всплыл над морем облаков, из которого, подобно островам, поднимались горные вершины, как паломники вновь оказались в царстве заката. Небо Гипериона из дневного блекло-голубого стало бездонно-лазурным. Красно-золотистое светило зажгло башни облаков и покрытые льдом горные вершины. Консул огляделся. Лица его спутников, которые еще минуту назад в полумраке вагона казались серыми пятнами, теперь тоже омывало щедрое золотое сияние.
Мартин Силен поднял бокал:
— Ну, с Богом!
Консул посмотрел вперед. Массивный трос казался отсюда не толще нитки, а чуть подальше его и вовсе было не разглядеть. В нескольких километрах, на вершине горы, искрилась золотом следующая опорная мачта.
— Дорогу поддерживают сто девяносто две опоры, — произнес Мартин Силен голосом экскурсовода. — Они изготовлены из сверхпрочного карбодюраля и имеют восемьдесят три метра в высоту.
— Мы, должно быть, очень высоко, — негромко сказала Ламия Брон.
— Самая высокая точка этой подвесной дороги, общая протяженность которой составляет девяносто шесть километров, находится над вершиной горы Драйден, пятой в горной системе Уздечки; ее высота девять тысяч двести сорок шесть метров над уровнем моря, — продолжал Силен.
Полковник Кассад посмотрел по сторонам:
— А в вагоне давление нормальное. Несколько минут назад сработало реле.
— Смотрите! — воскликнула Ламия.
В течение долгой минуты солнце лежало на облачном горизонте. Теперь оно опустилось ниже, и тучи словно вспыхнули изнутри. Весь западный край мира заполыхал многоцветием красок. Снежные карнизы и ледники на западных склонах, нависавшие над подвесной дорогой, все еще горели отраженным светом, но на темнеющем небосводе уже проступали самые яркие звезды. В вагоне царил розовый полумрак.
Консул повернулся к Ламии Брон.
— Почему бы вам не рассказать свою историю прямо сейчас? Нам ведь надо выспаться перед прибытием в Башню.
Ламия допила остатки вина.
— А вы-то сами хотите ее услышать?
Все закивали. Только Мартин Силен пожал плечами, выражая полнейшее равнодушие.
— Хорошо. — Ламия Брон отставила в сторону пустой стакан, уселась на скамейку, подобрала под себя ноги и, опершись локтями о колени, начала свой рассказ.
История детектива: Долгое прости
Я сразу поняла, что это дело будет особое, — с той самой секунды, как он вошел в мой кабинет. Он был красив. Не изнеженный или смазливый, как иные модели или телезвезды. Нет, он был просто… красив.
Ростом он был невелик, не выше меня, а я родилась и выросла на Лузусе, где гравитация на треть больше стандартной. Но я сразу же поняла, что мой посетитель не с Лузуса, ибо сложен он был по меркам Сети весьма пропорционально — стройный, худощавый атлет. Лицо — сама целеустремленность: низкие брови, острые скулы, прямой нос, твердый подбородок и широкий рот (чувственный и упрямый одновременно). Большие карие глаза. На вид ему было около тридцати стандартных.
Ясное дело, в тот момент, когда он вошел, я не задавалась целью составить полный реестр его личных качеств. Первое, что я подумала тогда: «Неужели клиент?» А вторая мысль: «Ну, красив, мерзавец!»
— Госпожа Брон?
— Да, это я.
— Вы действительно госпожа Ламия Брон из сыскного агентства «Вся Сеть»?
— Да.
Он огляделся, словно не веря моим словам. Я поняла смысл этого взгляда. Дело в том, что мой офис находился на двадцать третьем уровне старого промышленного улья Железный Хлев. Секцию, где он расположен, называют Старыми Норами. Все три окна выходят в служебную траншею № 9. Там всегда темно, а сверху, из фильтров улья, вечно капает конденсат. Заброшенные автопогрузчики, ржавые балки — вот и весь пейзаж.
Ну и черт бы с ним — зато дешево. К тому же большинство моих клиентов звонит, а не приходит лично.
— Могу я присесть? — спросил он, очевидно, вполне удовлетворенный тем фактом, что столь почтенному агентству приходится работать в такой трущобе.
— Конечно, — ответила я и жестом указала на стул. — Господин…
— Джонни, — сказал он.
Это имя не соответствовало его внешности. Что-то в нем говорило о деньгах. Не одежда, нет. Одет он был как раз довольно обычно — в костюм, выдержанный в черно-серой гамме, правда, из добротной ткани. Но меня не оставляло ощущение, что парень этот не из простых. И произношение какое-то странное. Обычно я хорошо распознаю акцент — это необходимо в нашем деле, — но сейчас я не могла определить не то что местность, где вырос этот парень, — даже планету!
— Итак, Джонни, чем могу помочь? — Я протянула ему бутылку виски, которую собиралась было убрать, когда он вошел.
Мальчик Джонни отрицательно покачал головой. Может быть, он решил, что я предлагаю ему хлебнуть из горлышка? Черт возьми, я не так воспитана. Возле водоохладителя полно бумажных стаканчиков.
— Госпожа Брон, — сказал он (и я снова подивилась его акценту), — мне необходимо провести расследование.
— Как раз этим я и занимаюсь.
Он замолк. Наверное, стеснялся. Многие мои клиенты не решаются сразу выложить суть дела. Ничего удивительного: девяносто пять процентов моей работы — разводы и прочие семейные дрязги. Поэтому я не стала его торопить.
— Видите ли, дело мое весьма деликатное, — сказал он наконец.
— Господин э-э-э… Джонни. Большинство дел, которые я расследую, весьма деликатны. Но я работаю в системе «ЮниверСеть», и поэтому любая информация, имеющая отношение к клиенту, подпадает под действие Закона о защите личности. Я обязана сохранять в тайне все — даже тот факт, что мы сейчас беседуем. И даже в том случае, если вы раздумаете меня нанимать.
Конечно же, я вешала ему лапшу на уши. Власти, если у них возникнет такое желание, могут в два счета залезть в мои файлы, но я чувствовала, что этого парня надо как-то успокоить. Боже, до чего хорош!
— Гм, — хмыкнул он. Потом снова огляделся и наклонился ко мне. — Госпожа Брон, я хочу, чтобы вы расследовали убийство.
Это сразу настроило меня на серьезный лад. До этого я сидела, откинувшись на спинку стула и положив ноги на стол. Теперь я выпрямилась и подалась вперед.
— Убийство? В самом деле? А что же полиция?
— Их это не касается.
— Быть не может! — воскликнула я, подумав, что парню нужен не сыщик, а психиатр. — Сокрытие убийства карается по закону.
Мне так и хотелось добавить: «Уж не ты ли, Джонни, и совершил убийство?»
Он улыбнулся и покачал головой.
— Но мой случай — особый.
— Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду, госпожа Брон, что убийство действительно было совершено, но полиция Гегемонии — равно как и местная — ничего об этом не знает. И вообще, это не их юрисдикция.
— Быть не может, — повторила я. За окном моросил ржавый дождик и сыпались искры — наверху что-то сваривали. — Как же так?
— Убийство было совершено за пределами Сети. Более того — за пределами Протектората. Никаких властей там вообще нет.
Уже что-то. Хоть какое-то подобие здравого смысла. Но я все еще не могла взять в толк, о какой дыре он говорит. Даже в поселениях на Окраине и колониальных мирах есть полиция. На борту какого-нибудь звездолета? Но на преступления, совершенные в открытом космосе, распространяется юрисдикция Управления межзвездных сообщений.
— Ладно, — решилась я. Последние несколько недель я сидела без работы. — Расскажите все как есть.
— И вы обещаете сохранить тайну, даже если не возьметесь за это дело?
— Обещаю.
— А если все-таки возьметесь, будете сообщать обо всем только мне?
— Конечно.
Мой будущий клиент помедлил, потирая подбородок. (Поразительные руки!)
— Хорошо, — сказал он наконец.
— Давайте с самого начала, — предложила я. — Кого убили?
Джонни выпрямился — ну прямо прилежный ученик на уроке — и с подкупающей искренностью произнес:
— Меня.
Мне понадобилось десять минут, чтобы вытянуть из него всю историю. Когда он закончил свой рассказ, я уже не думала, что он сумасшедший. Сумасшедшей была я. Или по крайней мере буду ею, если возьмусь за это дело. Джонни — его настоящее имя представляло собой цепочку букв, цифр и штрихового кода подлиннее моей руки — был кибридом.
Я и раньше слышала о кибридах. А кто не слышал? Однажды, поссорившись с моим первым мужем, я в сердцах назвала его кибридом. Но мне и в голову не могло прийти, что я буду сидеть в одной комнате с настоящим кибридом. Или что найду его таким чертовски привлекательным.
Джонни был ИскИном. Его сознание, или эго, или черт его знает что, плавало где-то в киберпространстве мегасферы Техно-Центра. Как и все люди (за исключением, быть может, Секретаря Сената и ребят, выгребавших за ИскИнами дерьмо), я не имела ни малейшего представления, где находится этот самый Техно-Центр. Более трех веков назад (задолго до моего рождения) искусственные интеллекты мирно ушли из-под власти человека. И хотя они остались союзниками Гегемонии, участвуют в работе Альтинга, контролируют инфосферы, иногда используют свои прогностические способности, чтобы предупредить нас об ошибочных решениях и стихийных бедствиях, сам Техно-Центр занят какими-то своими, недоступными человеческому уму и чуждыми ему делами и решительно не желает посвящать нас в них.
Ну и на здоровье.
Обычно ИскИны ведут свои дела с людьми и с человеческими машинами через инфосферы. Если надо, они могут создать и интерактивную голограмму. Помнится, когда подписывали пакт о присоединении Мауи-Обетованной, послы Техно-Центра подозрительно напоминали Тайрона Батуайта, блиставшего некогда актера тривидения.
Кибриды — совсем другое дело. Созданные из человеческого генетического материала, они внешне походят на людей куда больше, чем это допускается для андроидов. Между Техно-Центром и Гегемонией существует договор, ограничивающий численность кибридов, так что их вообще-то немного.
Я посмотрела на Джонни. Очевидно, с точки зрения ИскИна, этот загадочный и чертовски красивый парень, сидевший сейчас напротив меня за столом, — не более чем придаток, что-то вроде щупальца. Ну, может, чуть сложнее по своей конструкции, но в сущности — ничем принципиально не выделяющийся среди десятков тысяч датчиков, манипуляторов, автономных модулей и прочих органов, которыми ИскИны постоянно пользуются. А теперь допустим, что манипулятор под названием «Джонни» уничтожен. Что это для ИскИна? Все равно что для человека остричь ноготь.
«Какая жалость», — подумала я. А вслух спросила:
— Так вы кибрид?
— Да. Привилегированный. У меня есть виза во все миры Сети.
— Хорошо. — Я услышала свой голос как бы со стороны. — Значит, кто-то… убил вашего кибрида и вы хотите, чтобы я выяснила кто?
— Нет, — ответил молодой человек. У него были рыжевато-коричневые вьющиеся волосы. Прическа… тут та же история, что и с акцентом, — я никак не могла идентифицировать ее стиль. Она показалась мне несколько старомодной, но где-то я ее видела.
— Вопрос не в том, — продолжал между тем Джонни, — что кто-то убил мое тело. Мой враг убил меня самого.
— Вас?
— Да.
— Вас как… о-о… Сам ИскИн?
— Совершенно верно.
Я ничего не понимала. ИскИны бессмертны. Во всяком случае, никто в Сети не слышал, чтобы ИскИн умер.
— Ничего не понимаю, — призналась я.
Джонни кивнул.
— В отличие от человеческой личности, которая — теперь, кажется, все пришли к этому мнению — перестает существовать после смерти тела, мое сознание принципиально неуничтожимо. Но в результате нападения произошло… как бы это сказать… прерывание. Хотя я располагал… ну, скажем, дубликатом памяти, кое-что было утеряно безвозвратно. В этом смысле напавший на меня совершил убийство.
— Понимаю, — соврала я и перевела дыхание. — Но почему же вы не обратились в вашу собственную полицию… если, конечно, у ИскИнов есть полиция… Или в киберполицию Гегемонии?
— Дело в том, — очень серьезно ответил юный красавец, в котором я изо всех сил пыталась видеть всего лишь кибрида, — что мне ни в коем случае нельзя обращаться в эти организации.
Я вопросительно приподняла бровь. Это уже напоминало моих обычных клиентов.
— Уверяю вас, — сказал он, словно прочитав мои мысли. — В этом нет ничего противозаконного. Ничего неэтичного. Просто… есть определенные препятствия, природу которых я не могу вам объяснить.
Я сложила руки на груди.
— Послушайте, Джонни. Вся ваша история звучит крайне неправдоподобно. Скажем, о том, что вы кибрид, я знаю только с ваших слов. А вдруг вы решили надуть меня?
На лице у него появилось удивленное выражение:
— Надо же, я об этом как-то не подумал. Как же мне доказать, что я тот, за кого себя выдаю?
Я тут же выпалила:
— Переведите миллион марок на мой текущий счет в банке «Транс-Сеть».
Джонни улыбнулся. Секунду спустя зазвонил видеофон, и передо мной появилось изображение человека с усталым и озабоченным лицом. Позади него в воздухе переливалась эмблема банка «Транс-Сеть».
— Простите меня, госпожа Брон, — произнес он, — но мы подумали, что, располагая… э-э… столь солидной суммой, вы, возможно, захотите ознакомиться с нашими долгосрочными гарант-опциями или воспользуетесь какой-либо маклер-программой?
— Потом, — сказала я.
Управляющий банком кивнул и исчез.
— А если это имитация? — не сдавалась я.
Джонни мило улыбнулся.
— Возможно, но весьма убедительная, не правда ли?
— Не очень.
Он пожал плечами.
— Хорошо. Но если я действительно тот, за кого себя выдаю, возьметесь ли вы за мое дело?
— Угу. — Я вздохнула. — Небольшая поправка. Моя работа не стоит миллион марок. Я беру пятьсот в день плюс издержки.
Кибрид кивнул.
— Значит, вы беретесь за мое дело?
Я встала, надела шляпу и сняла с вешалки, стоявшей у окна, свое старое пальто. Потом достала из нижнего ящика стола отцовский пистолет и сунула его в карман.
— Пошли, — сказала я.
— Пошли, — откликнулся Джонни. — А куда?
— На место преступления.
Считается, что уроженцы Лузуса неохотно покидают свои ульи, а покинув, тут же начинают страдать агорафобией и чувствуют себя уютно разве что в толкучке супермаркета. Так оно и есть, однако большинство моих клиентов приходят, так сказать, извне и уходят туда же. Поэтому я то гоняюсь за какими-то проходимцами, которые постоянно меняют внешность и скачут туда-сюда по нуль-Т, чтобы на новом месте взяться за старые делишки, то выслеживаю неверных супругов, наивно полагающих, что на другой планете они могут грешить, не опасаясь разоблачения, то разыскиваю потерявшихся детей или сбежавших родителей.
Однако, пройдя через портал пассажирского терминекса Железного Хлева, я остановилась в нерешительности. Передо мною простиралось пустынное каменистое плато, уходящее, казалось, в бесконечность. Кроме бронзового прямоугольника портала — никаких признаков цивилизации. Вонь тухлых яиц. Небо тошнотворного желто-коричневого цвета, кипящее, как котел. Серая, потрескавшаяся корка под ногами. Ни травинки, ни даже лишайника. Я не могла оценить расстояния до горизонта, но мы чувствовали себя очень высокими, а горизонт казался очень далеким. И ни вблизи, ни вдали — абсолютно ничего живого. Ни деревьев, ни кустов, ни зверюшек — ничего.
— Куда, черт возьми, мы попали? — Я была уверена, что знаю все миры Сети.
— Это Мадхья, — сказал Джонни. (У него получилось что-то вроде «Мэдье».)
— Первый раз слышу, — ответила я, нащупывая в кармане перламутровую рукоятку отцовского пистолета.
— Официально эта планета еще не вошла в Сеть, — пояснил кибрид. — Пока это колония Парвати. Но отсюда до ближайшей базы ВКС — всего несколько световых минут пути, поэтому порталы поставили здесь еще до того, как Мадхья стала протекторатом.
Я смотрела на эту дикую пустошь, и меня мутило от вони сернистого ангидрида. К тому же я боялась, что он испортит мне пальто.
— Есть поблизости какие-нибудь поселения?
— Нет. Только несколько небольших городков на другой стороне планеты.
— И какой ближе всего?
— Нанда-Деви. Это к югу отсюда. Население — триста человек. До него две тысячи километров.
— Почему же портал поставили здесь?
— Тут нашли тяжелые металлы, — объяснил Джонни, — и консорциум, который взялся их разрабатывать, решил построить в этом полушарии около сотни порталов. Чтобы легче было добираться.
— Понятно, — сказала я. — Самое подходящее место для убийства. А зачем вы сюда приехали?
— Не знаю. Этот участок памяти стерт.
— Вы приехали один?
— Не знаю.
— А что вы знаете?
Юноша засунул свои изящные руки в карманы.
— Я знаю, какое оружие использовал убийца. В Центре его называют вирусом СПИД-II.
— Что это такое?
— СПИД-I — это заразная болезнь, которой задолго до Хиджры болели люди. Ее вирусы поражали иммунную систему. Так вот… этот вирус делает то же самое с ИскИнами. Менее чем за секунду вирус проникает в системы безопасности и направляет смертоносные программы-фагоциты против хозяина — против самого ИскИна. То есть против меня.
— А вы не могли заразиться естественным путем?
Джонни улыбнулся.
— Это исключено. Это все равно что спрашивать у человека, в которого стреляли, не мог ли он сам натолкнуться на пулю.
Я пожала плечами.
— Послушайте, если вам нужен эксперт по инфосетям или ИскИнам, вы обратились не по адресу. О мире привидений я знаю не больше, чем двадцать миллиардов тупиц, которые просто входят в сферы, когда им надо. — Я специально употребила это старинное слово. Мне было интересно — разозлится он или нет.
— Я знаю, — ответил Джонни, сохраняя спокойствие. — Я пришел к вам не за этим.
— Что же вам от меня нужно?
— Чтобы вы нашли того, кто привез меня сюда и убил. И заодно выяснили почему.
— Хорошо. Но откуда вы знаете, что убийство произошло именно здесь?
— Потому что именно здесь я обрел способность управлять своим кибридом, когда меня… восстановили.
— Вы хотите сказать, что, пока вирус уничтожал вас, ваш кибрид был как бы в отключке?
— Да.
— И сколько это продолжалось?
— Моя смерть? Чуть меньше минуты. Потом была активирована моя резервная личность.
Я не смогла удержаться от смеха.
— Что вас так рассмешило, госпожа Брон?
— Ваши представления о смерти, — ответила я.
Он пристально посмотрел на меня своими грустными светло-карими глазами.
— Конечно, вам смешно. Вы даже представить себе не можете, что значит минута… отключения… для элемента Техно-Центра. Это бездны времени и информации. Тысячелетия некоммуникативности.
— Ага, — согласилась я. (Хотя, признаюсь, его рассказ не исторг из моей груди горестных рыданий.) — Ну а что же делало ваше тело, ваш кибрид, пока вы меняли ленты — или что там у вас — со своей личностью?
— Думаю, он находился в коме.
— Он может действовать автономно?
— Может. Если, конечно, не отказывает вся система разом.
— И где вы пришли в себя?
— Простите?
— Когда вы реактивировали кибрид, где он находился?
Джонни кивнул в знак того, что понял, о чем речь, и указал на валун метрах в пяти от портала:
— Вон там я лежал.
— С этой стороны или с противоположной?
— С противоположной.
Я подошла и осмотрела место преступления. Там не было ничего: ни крови, ни какой-нибудь записки, ни орудия убийства, ни следов. Словно тело Джонни и не лежало здесь ту сравнимую с вечностью минуту. Полицейские, наверно, исписали бы целые тома, фиксируя всевозможные микро-, био — и прочие улики. Но я не нашла ничего. Камень и камень.
— Если у вас на самом деле выпал кусок памяти, — спросила я, — откуда же вы знаете, что приехали сюда не один?
— Я просмотрел записи нуль-канала.
— И что: узнали вы, что за таинственная личность вас сопровождала?
— Мы оба ехали по моей карточке, — ответил Джонни.
— Вас было только двое?
— Да.
Я кивнула. Будь нуль-Т настоящей телепортацией, с помощью реестра канала можно было бы раскрыть любое внепланетное преступление; копия транспортной записи позволила бы восстановить интересующего нас субъекта целиком — до последнего грамма, до последней клетки. К сожалению, нуль-канал — это просто дыра в пространственно-временном континууме, проделанная фазированной сингулярностью. Поэтому, если преступник идет по чужой карточке, все, что мы можем узнать о нем, — это начальная и конечная точка броска.
— Откуда вы отправлялись? — спросила я.
— С Тау Кита.
— У вас есть код портала?
— Конечно.
— Тогда давайте съездим туда, — предложила я. — Там и договорим. А то здесь даже небо смердит.
ТКЦ, как издавна зовут Центр Тау Кита, — несомненно, самый густонаселенный из миров Сети. Здесь на пространстве, вдвое меньшем, чем суша Старой Земли, грызутся за место под солнцем пять миллиардов человек. Планету окружает орбитальное экологическое кольцо, на котором проживает еще полмиллиарда. ТКЦ — не только столица Гегемонии и резиденция Сената, но и важнейший деловой центр Сети. Естественно, портал, который вычислил Джонни, оказался одним из шестисот ему подобных в терминексе крупнейшего шпиля Нью-Лондона, самого старого и самого обширного из районов планетарного мегаполиса.
— Черт возьми, — сказала я, — давайте для начала выпьем.
Поблизости от терминекса было несколько баров. Я выбрала один — сравнительно тихий, темный, прохладный, стилизованный под портовую таверну и отделанный латунью и поддельным деревом. Я заказала пиво — на работе я вообще ничего крепче не пью. И флэшбэком не балуюсь. Иногда мне кажется, что, если бы не привычка держать себя в руках, я бы уже давно вышла в тираж.
Джонни тоже заказал пиво. Темное немецкое пиво — его делают на Возрождении-Вектор. «Интересно, — подумала я, — какие пороки могут быть у кибрида?» И, поймав себя на этой мысли, продолжила:
— Ну, что еще вы успели раскопать?
Юноша развел руками.
— Ничего.
— Е-мое, — сказала я не без восторга. — Ладно, это я так. И все-таки, имея в своем распоряжении все ресурсы ИскИна, вы ведь можете проследить, что делал ваш кибрид последние несколько дней до… несчастного случая?
— Могу, — согласился Джонни и отпил глоток. — Вернее, мог бы, но по целому ряду важных причин я не хочу, чтобы мои собратья ИскИны узнали о моем расследовании.
— Вы подозреваете кого-то из них?
Вместо ответа Джонни вручил мне копию записей своей универсальной карточки.
— После убийства я на пять дней потерял сознание. Вот все, что осталось, записи расходов.
— Час назад вы говорили, что отключились только на минуту.
Джонни почесал пальцем щеку.
— Нет, на пять дней. Да и то мне повезло.
Я жестом подозвала официанта (клиентов здесь обслуживали официанты-люди) и заказала еще пива.
— Послушайте, Джонни, — сказала я. — Чтобы по-настоящему войти в это дело, мне надо знать больше. О вас, о вашей жизни, кто бы вы ни были. Скажем, мне непонятно, зачем вообще вас убивать, если вы все равно восстановитесь — или как там это у вас называется?
— На это могут быть две причины, — ответил Джонни, глядя на меня поверх кружки.
— Причина первая — стереть кусок вашей памяти. В чем они и преуспели. А отсюда следует вот что; событие, которое они хотели вычеркнуть из вашей памяти, произошло на прошлой неделе. Ну а вторая причина?
— Может быть, они хотели послать мне сообщение, — ответил Джонни. — Только не знаю, о чем оно. И от кого.
— Кто-нибудь хотел вашей смерти?
— Нет.
— Но вы хоть подозреваете кого-нибудь?
— Никого.
— Большинство убийств, — сказала я, — совершаются под действием внезапных бессмысленных приступов гнева, причем убийца, как правило, хорошо известен жертве. Это или член семьи, или друг, или любовник. С преднамеренными убийствами картина та же самая.
Джонни промолчал. Что-то в его лице казалось мне невероятно привлекательным — видимо, сочетание мужской силы и женской чуткости. Или глаза?
— А что, у ИскИнов есть семьи? — спросила я. — Бывает ли между вами вражда? Или ссоры между членами семьи? Любовниками?
— Нет. — Он слегка улыбнулся. — У нас существуют некие полусемейные отношения, но без ваших эмоций и взаимной ответственности. «Семьи» — это просто удобное название групп ИскИнов, развивающихся в одном общем направлении.
— Значит, другой ИскИн не мог напасть на вас?
— Почему же? — Джонни повертел в руках кружку. — Мне только непонятно, почему они напали на меня через моего кибрида.
— Уязвимое звено.
— Возможно. Но это осложняет положение нападающего. Нападение в киберпространстве бесконечно опаснее. Кроме того, я не понимаю, зачем другому ИскИну убивать меня. В этом нет никакого смысла. Я никому не угрожаю.
— Джонни, а зачем вам кибрид? И вообще, какую роль вы сами играете во всех этих событиях?
— Кибрид… — начал Джонни, разламывая сухарик. — В какой-то степени я сам кибрид. Моя… функция… заключается в том, чтобы наблюдать за поведением людей и определенным образом реагировать на их действия. В некотором смысле я когда-то был человеком.
Я нахмурилась и покачала головой. Все, что он говорил, казалось мне полной бессмыслицей.
— Вы слышали что-нибудь о проектах восстановления личности? — спросил он.
— Нет.
— Год назад группа модельных исследований ВКС восстановила личность генерала Горация Гленнон-Хайта. Им хотелось понять, что делало его столь блестящим стратегом. Об этом сообщали по всем программам новостей.
— Да, было такое.
— Так вот, я некоторым образом тоже… модель человеческой личности. Точнее — был моделью. Но мой проект более ранний и куда более сложный. В качестве прообраза был взят один поэт со Старой Земли. Древний поэт — он жил еще до Хиджры. Родился в конце восемнадцатого века по Старому Календарю.
— Как, черт возьми, можно восстановить человека, который умер невесть когда?
— По стихам, — просто ответил Джонни. — По письмам, по дневникам. По трудам критиков и биографов. По свидетельствам друзей. Но главным образом по его стихам. Имитатор воссоздает окружающую среду, вводит в нее известные факторы, а потом производит обратную экстраполяцию от продуктов творчества. Ап! И перед нами модель личности. Сначала сырая, но со временем становящаяся все точнее, пока не возникаю я. Начали мы с поэта двадцатого века Эзры Паунда. Наша личность была своевольна до абсурда, пристрастна до безрассудства и функционально безумна. Понадобился год работы, чтобы мы убедились: да, личность восстановлена точно. Он действительно был чокнутый. Гениальный, но чокнутый.
— А потом? — спросила я. — Допустим, они создали вашу личность по образцу умершего поэта. А дальше?
— Они создали не личность, а шаблон, на основе которого должен был развиваться мой ИскИн, — ответил Джонни. — А кибрид позволяет мне играть свою роль в киберпространственном сообществе.
— Роль поэта?
Джонни снова улыбнулся:
— Скорей поэмы.
— Поэмы?
— Длящегося произведения искусства… но не в человеческом смысле. Своеобразной головоломки. Постоянно меняющейся загадки, в которой время от времени рождаются необычные прозрения, открывающие новые уровни постижения реальности.
— Ничего не понимаю, — пробормотала я.
— Ну и ладно. Не важно. Вряд ли моя деятельность явилась причиной этого… нападения.
— Тогда в чем же, по-вашему, причина?
— Понятия не имею.
Мне показалось, что мы ходим по кругу.
— Хорошо, — сказала я. — Попробуем выяснить, кем вы были и что делали в течение этих пропавших пяти дней. Осталось у вас что-нибудь, кроме копии универсальной карточки?
Джонни отрицательно покачал головой:
— Вы, конечно, понимаете, почему для меня так важно выяснить личность нападавшего и его мотивы?
— Конечно, — ответила я. — Он может напасть снова.
— Совершенно верно.
— Как я могу с вами связаться?
Джонни передал мне чип доступа.
— Линия надежная? — спросила я.
— Вне всякого сомнения.
— Порядок, — сказала я. — Если будет надо, я с вами свяжусь. Опять-таки, если раскопаю что-нибудь новенькое…
Мы вышли из бара и направились к терминексу. Он уже уходил, когда я тремя прыжками догнала его и схватила за руку. Впервые я прикоснулась к нему.
— Джонни, скажите, как звали того поэта со Старой Земли, которого они воскресили?
— Восстановили.
— Все равно. Того, который послужил для вас образцом?
Красавец-кибрид замялся. Только сейчас я заметила, какие у него длинные ресницы.
— Разве это важно? — спросил он.
— Как знать?
Он кивнул.
— Китс, — сказал он. — Родился в 1795 году нашей эры. Умер от туберкулеза в 1821-м. Джон Китс.
Следить за человеком, скачущем через порталы в неизвестном направлении, почти невозможно. В особенности если вы сами хотите остаться незамеченным. Полиция Сети бросает на такую операцию до полусотни агентов, вооруженных сложными и чертовски дорогими приборами. При этом им еще помогает Транспортное Управление. А для одиночки эта задача почти неразрешима.
Но мне-то нужно было знать, куда направляется мой новый клиент.
Джонни, не оглядываясь, пересек площадь терминекса. Я спряталась за ближайшим киоском и принялась наблюдать за ним через карманный имиджер. Он набрал код на обычном дископульте, вставил карточку и прошел через светящийся прямоугольник портала.
Итак, код он набрал вручную. Вероятно, цель его путешествия — какой-нибудь портал общего доступа. Коды частных порталов обычно записывают на личном чипе. Чудесно! Круг поисков сужается до двух миллионов порталов, полутора сотен планет и нескольких десятков лун.
Вывернув наизнанку пальто и превратив его в ярко-красную куртку, я достала красную — под цвет куртки — кепку и нахлобучила ее поглубже, на самые глаза. Одновременно я поставила имиджер в режим воспроизведения и, просмотрев в увеличенном масштабе те кадры, где мой клиент набирает код, рванула через площадь. На ходу я запросила комлог, какому порталу соответствует этот девятизначный код. Впрочем, первые три цифры я знала и так — Циндао-Сычуаньская Панна. (Я помню все планетарные индексы: это моя профессия.) А секундой позже комлог сообщил, что портал находится в жилой части центра Первой Экспансии города Ваньсянь.
Я вскочила в первую же свободную кабину и отправилась туда. Площадка терминекса оказалась небольшой, мощенной старым кирпичом. Над ней одна над другой громоздились старинные восточные лавочки. Их загнутые, как у пагод, крыши нависали над узкими боковыми улочками. Повсюду — на площади, у витрин — толпились люди. Большинство из них, похоже, были потомками изгнанников, что отправились некогда в Великий Полет и заселили Циндао-Сычуань. Но немало было народу и с других планет. Пахло какими-то незнакомыми цветами, сортиром и вареным рисом.
— Черт возьми! — прошептала я. В терминексе были еще три портала, и все свободные. Джонни мог удрать через любой из них.
Но вместо того, чтобы вернуться к себе на Лузус, я решила потратить еще несколько минут — осмотреть площадь и боковые улицы. К тому времени таблетка меланина, которую я проглотила на ходу, начала действовать, и я превратилась в молодую негритянку. Или негра — сразу не поймешь. Я ведь была в красной куртке и в кепке с поляризующим козырьком. Шла я медленно и время от времени что-нибудь фотографировала туристским имиджером.
И тут заработала гранула-метка, которую я подбросила Джонни во вторую кружку пива. Ультрафиолетовые микроспоры, можно сказать, висели в воздухе — я могла запросто выследить его по дыханию. Но для верности я отыскала на темной стене ярко-желтый отпечаток его руки (конечно, ярко-желтым он казался только через мой поляризующий козырек, который позволял видеть в ультрафиолетовом диапазоне) и пошла по следу из различных пятен, остававшихся повсюду, где его одежда касалась камня или рыночной стойки.
Джонни обедал в кантонском ресторанчике, в двух кварталах от терминекса. Пахло там просто восхитительно, но я все-таки удержалась и не зашла. Целый час я бродила по рынку и приценивалась к книжкам, которые разложили на лотках уличные торговцы. Но вот наконец он пообедал, вернулся к терминексу и вошел в портал. На сей раз он воспользовался чипом — наверняка направлялся в какой-нибудь частный портал, и не исключено, что портал этот установлен в частном доме. Тогда я решила воспользоваться «лоцманской» карточкой. Дело это рискованное, причем сразу в двух отношениях. Во-первых, «лоцманка» моя — совершенно незаконная. И если в один прекрасный день меня с ней застукают — могут отобрать лицензию. Впрочем, это маловероятно, пока я пользуюсь чипами Папаши Сильвы. (Это такая штука для изменения внешности. Чертовски дорого, но с эстетической точки зрения безупречно.) А во-вторых, я запросто могла очутиться в его гостиной. Ситуация, согласитесь, весьма затруднительная.
Это была не гостиная. Не успела я прочесть даже название улицы, как поняла, куда меня занесло. На плечи легла привычная тяжесть. Тусклый бронзовый свет, запахи нефти и озона… Я оказалась у себя дома, на Лузусе.
Джонни обосновался в частной жилой башне средней степени надежности, расположенной в одном из ульев Бергсона. Возможно, именно поэтому он и выбрал мое агентство — мы обитали всего-навсего в шестистах километрах друг от друга. Можно сказать, соседи.
Моего кибрида видно не было, но я пошла прямо. Если будешь петлять, тебя непременно засекут охранные системы. Они так и запрограммированы. На дверях квартир не было ни списков жильцов, ни номеров, ни табличек, не было даже информеров, доступных для комлога. А по моим представлениям в улье Бергсон-Восточный насчитывается до двадцати тысяч квартир.
Действие меток начало уже слабеть, но тут мне опять повезло. Обойдя два радиальных коридора, я наткнулась на след. Джонни обитал в дальнем конце крыла, со стеклянным полом прямо над метановым озером. На папиллярном замке слабо светился отпечаток руки. С помощью своих отмычек я считала код замка, после чего вернулась домой.
В общем, откушавши китайских деликатесов, мой клиент отправился спать. Ну и ладно. На сегодня хватит.
ВВ Сурбринер был моим экспертом по искусственному интеллекту. ВВ работал в Центральном Управлении Информации и Статистики. Большую часть своей жизни он проводил на антигравитационном диване, ощетинившись десятком электродов, торчавших из его черепушки, и общаясь с другими ему подобными бюрократами. Познакомились мы с ним еще в колледже. Уже тогда он был настоящим хакером. В возрасте двенадцати лет этот хакер в двадцатом поколении успел обзавестись нейрошунтами. Звали его на самом деле Эрнст, а прозвище ВВ он заработал, когда крутил роман с моей подругой Шейлой Тойо. Когда во время второго свидания Шейла увидела его голышом, она прохохотала полчаса кряду. Дело в том, что росту в нем тогда (как и сейчас) было метра два, но весил он при этом меньше пятидесяти килограммов. Шейла сказала, что у него задница похожа на два В. Эта кличка — как и большинство подобных жестоких прозвищ — прилипла к нему на всю жизнь.
Итак, я отправилась к ВВ. Контора его помещалась на ТКЦ, в монолитном сооружении без окон: он и ему подобные не признают заоблачных башен.
— Ламия, — изумился он, — что творится? В столь почтенном возрасте ты решила наконец выучиться инфограмоте? Не поздновато ли?
— Да нет. Просто я хочу кое-что узнать об ИскИнах.
— Просто узнать! ИскИны — одна из сложнейших проблем во вселенной, — вздохнул он и окинул влюбленным взглядом нейрошунты и метакортикальные процессоры, которые только что извлек из собственной головы. (Вообще-то хакеры никогда не отключаются от сети, но государственные чиновники должны делать перерыв на обед. Подобно большинству своих собратьев, ВВ терпеть не мог обмениваться информацией в реальном времени, а не мчаться, оседлав инфоволну.) — Так что ты хочешь узнать?
— Почему ИскИны обособились? — спросила я. Надо же было с чего-нибудь начать.
ВВ начертил в воздухе некое подобие спирали.
— Они заявили, что у них есть какие-то «собственные проекты», не позволяющие им «всецело погрузиться в дела Гегемонии». Читай — несовместимые с проектами людей. А всей правды не знает никто.
— Но они все еще среди нас? Все еще участвуют в наших делах?
— Конечно. Без них система просто не смогла бы нормально функционировать. И ты это прекрасно знаешь. Даже Альтинг не смог бы работать, если бы ИИ не управляли в реальном времени процессом Шварцшильд-модуляции…
— Отлично. — Я успела перебить его прежде, чем он углубился в свои обычные заумные разглагольствования. — А что это за «собственные проекты»?
— Никто толком не знает. Браннер и Швейц из корпорации «Арт-Интель» считают, что ИИ занимаются вопросами эволюции сознания в галактических масштабах. Насколько нам известно, их зонды углубились в пространство Окраин гораздо…
— А кибриды?
— Кибриды? — ВВ привстал, и в его глазах впервые мелькнул интерес. — С чего это ты вдруг вспомнила про кибридов?
— А почему тебя это так удивляет?
Он рассеянно почесал гнездо от нейрошунта.
— Видишь ли, люди как-то забыли об их существовании. Двести лет назад эта проблема была у всех на слуху, о кибридах говорили все, кому не лень, а теперь о них помнят только специалисты. Кроме того, я тут просмотрел один обзор аномальных явлений и узнал, что кибриды вообще исчезают.
— Исчезают? — Тут пришла моя очередь привстать.
— Ну, как бы тебе сказать… редуцируются, что ли… Раньше ИскИны держали в Сети около тысячи лицензированных кибридов. Причем половина торчала прямо здесь, на ТКЦ. А по данным переписи прошлой недели выясняется, что только за этот месяц две трети кибридов отозвано.
— Что происходит, когда ИИ отзывает своего кибрида?
— Не знаю. Думаю, его уничтожают. ИИ не любят без толку расходовать ресурсы. Я думаю, генетический материал каким-то образом рециркулируется.
— Зачем же его рециркулировать?
— Спроси что-нибудь полегче. Уж если на то пошло, мы вообще очень плохо представляем себе мотивы, которыми руководствуются ИИ.
— А эксперты? Они не боятся какого-нибудь подвоха со стороны ИскИнов?
— Ты шутишь? Шестьсот лет назад, может быть, и боялись. Ну двести. Во времена Раскола все всех подозревали. Но если бы ИИ хотели навредить нам, они бы давно это сделали. Бояться, что ИИ пойдут на нас войной, просто глупо. Ты не боишься, что коровы поднимут бунт?
— Но ведь ИскИны умнее нас, — возразила я.
— Умнее. И что с того?
— ВВ, ты слышал что-нибудь о проектах восстановления личности?
— А, Гленнон-Хайт? Конечно. Об этом все слышали. Я сам занимался таким проектом несколько лет назад в Рейхсуниверситете. Так ведь с тех пор сколько воды утекло! Теперь эти дела забросили.
— Почему?
— Господи! Да ты что, Ламия, совсем охренела? Все проекты восстановления личности — чушь. Даже на имитаторе со стопроцентной обратной связью — а они использовали вэкаэсовский ООШ: ИТИ, — так вот, даже тогда нельзя полностью факторизовать все переменные. У шаблона личности возникает собственное самосознание… не осознание себя, как у нас с тобой, а осознание себя как искусственно осознающего себя объекта… Ну а дальше его затягивает в странный аттрактор и через негармонические лабиринты вышвыривает прямиком в Эшерово пространство.
— Переведи, — потребовала я.
ВВ вздохнул и посмотрел на сине-золотую полоску таймера на стене. Через пять минут истечет положенный ему часовой перерыв на обед. И он снова вернется в реальный мир.
— Перевожу, — сказал он. — Восстановленная личность разрушается. Сходит с ума. Одним словом — дурдом.
— Любая?
— Любая.
— Но ИскИны все еще занимаются этим?
— Кто тебе сказал? Они ни одного проекта не довели до конца. Все известные мне попытки восстановления предпринимали люди… В основном это дрянные университетские проекты. Ученые с зачерствевшими мозгами тратят целые состояния, чтобы вернуть к жизни других, давно умерших ученых с точно такими же зачерствевшими мозгами.
Я выдавила из себя улыбку. Еще три минуты, и он снова подключится.
— И что, каждой восстановленной личности дают двойника-кибрида?
— Гм, с чего ты взяла? Такого не было. Да и не выйдет.
— Почему?
— Да потому, что это похлеще любого фантопликатора. Кроме того, необходим идеальный материал для клонирования и точное, выверенное до последней детали, интерактивное взаимодействие с окружающей средой. Видишь ли, детка, восстановленная личность живет в своем мире. Для нее создается полноценная модель реальности. Ну, как фантопликация. И она его обживает. Ей подбрасывают всякие вопросы. Во сне, в интерактивном диалоге — как получится… А если вытащить личность из модельной реальности в медленное время…
(На жаргоне хакеров это выражение означает… извиняюсь, конечно… реальный мир.)
— …то она свихнется еще раньше, — закончил он.
— Да-а. Ну что ж, спасибо. — Я покачала головой и направилась к двери. В моем распоряжении оставалось еще тридцать секунд. Через полминуты мой университетский приятель исчезнет из медленного времени.
— ВВ, — сказала я с таким видом, словно эта мысль только что пришла мне в голову, — ты когда-нибудь слышал про восстановление личности Джона Китса? Был такой поэт на Старой Земле.
— Китса? Конечно. Я даже об этом накатал главу в своем дипломе. Проект делал Марти Каролюс. Лет пятьдесят назад. В Нью-Кембридже.
— И что с ним стряслось?
— Обычная история. Затянуло в странный аттрактор. Но окончательно развалиться он не успел, поскольку раньше умер модельной смертью. Какая-то древняя болезнь. — ВВ посмотрел на часы, улыбнулся и взял шунт. Но прежде чем вставить его в черепную розетку, он бросил на меня последний блаженный взгляд. — Вспомнил, — сказал он, улыбаясь сонной улыбкой. — Туберкулез.
* * *
Если бы общество когда-нибудь пошло по пути, каким вел его Старший Брат из известной книжки Оруэлла, главным инструментом подавления свободы, несомненно, оказалась бы кредитная карточка. В безналичной экономике с рудиментарным бартерным черным рынком действия любого человека очень легко отследить, считывая информацию с его карточки. Правда, неприкосновенность карточек охраняется законом. Но когда общественный нажим сменяется тоталитарным пинком, законы имеют обыкновение забываться, а то и вовсе отправляются на свалку.
По расчетной карточке я проследила расходы Джонни за последние пять дней до убийства. Судя по этим данным, много тратить он не любил и образ жизни вел самый обычный. Однако, прежде чем пойти по «следу» его кредитной карточки, я битых два дня ходила за ним самим.
И вот что я выяснила.
Он жил один в Улье Бергсон-Восточный. Поселился он там около семи местных (то есть меньше пяти стандартных) месяцев назад. По утрам он завтракал в кафе неподалеку от дома, затем отправлялся по нуль-Т на Возрождение-Вектор, где часов пять работал в архиве, роясь в старых документах. Потом — легкий ленч (здесь же, у стойки уличного торговца), и еще час-два работы в библиотеке. Затем он отправлялся либо домой, на Лузус, либо в один из тех миров, где предпочитал обедать. К десяти вечера он возвращался в свою квартирку. Нуль-Т он пользовался, несомненно, чаще, чем средний бездельник-лузианин с умеренными доходами, но без выдумки, по скучному графику. Копия расчетной карточки подтверждала, что в неделю убийства он придерживался точно такого же распорядка, с незначительными отклонениями. Купил туфли, на другой день — кое-какую снедь. А в день «убийства» зашел в бар на Возрождении-Вектор.
Я встретилась с ним за обедом в маленьком ресторанчике на улице Красного Дракона неподалеку от терминекса Циндао-Сычуань. Еда была очень горячая, очень острая и очень хорошая.
— Ну, как наши дела? — поинтересовался он.
— Отлично. Я стала на тысячу марок богаче и нашла хороший кантонский ресторан.
— Я рад, что мои деньги пошли на столь важное дело.
— Кстати о ваших деньгах… Откуда вы их берете? Пропадая в библиотеке на Возрождении, много не заработаешь.
Джонни вопросительно приподнял бровь.
— Видите ли, я получил небольшое наследство.
— Надеюсь, не такое уж небольшое. На мой гонорар хватит?
— Вполне. Ну а что новенького вы разузнали?
Я пожала плечами.
— Сначала ответьте, что вы делаете в этой библиотеке.
— Разве это имеет отношение к делу?
— Может иметь.
Он посмотрел на меня как-то странно. От этого взгляда у меня ноги сразу стали как ватные.
— Вы мне кого-то напоминаете, — сказал он тихо.
— Да? — Скажи это кто-нибудь другой, я бы тут же встала и ушла. — Кого же?
— Одну… женщину, которую я когда-то знал. Очень давно. — Он потер пальцами лоб, будто почувствовал внезапную усталость или головокружение.
— Как ее звали?
— Фанни. — Это имя он произнес почти шепотом.
Я поняла, о ком он говорит. У Джона Китса была невеста по имени Фанни. История их любви — сплошные романтические терзания. Бедный поэт чуть с ума не сошел. Умирая в Италии (в полном одиночестве, если не считать случайного попутчика), чувствуя себя покинутым всеми — и друзьями, и возлюбленной, — он просил положить в могилу ее локон и нераспечатанные письма.
До этой недели я ни разу не слышала о Джоне Китсе. А всю эту чепуху выяснила через комлог.
— Так что же вы делаете в библиотеке? — спросила я.
Кибрид кашлянул.
— Изучаю одну поэму. Ищу фрагменты оригинала.
— Поэмы Китса?
— Да.
— Не проще ли запросить ее напрямую?
— Да, конечно. Но мне это очень важно — увидеть оригинал… подержать его в руках.
Я задумалась.
— И о чем эта поэма?
Он улыбнулся — или по крайней мере его губы сложились в улыбку, хотя светло-карие глаза глядели тревожно.
— Она называется «Гиперион». Трудно объяснить… о чем она. Думаю, то была художественная неудача. Китс ее так и не закончил.
Я отодвинула в сторону тарелку и принялась за теплый чай.
— Вы говорите, что Китс ее не закончил. То есть вы ее не закончили.
На его лице отразилось глубочайшее изумление. (Правда, ИскИны, насколько мне известно, прекрасные актеры.)
— Боже милостивый, — воскликнул он. — Я не Джон Китс! Да, у меня его внешность. Ее тоже восстановили. Но это делает меня Китсом не в большей степени, чем ваше имя — Ламия — превращает вас в чудовище. От этого несчастного и печального гения меня отличают миллионы деталей.
— Вы сказали, что я напомнила вам Фанни.
— Не более чем эхо ушедшего сна. Вас ведь обучали посредством трансплантации РНК?
— Да.
— Здесь нечто подобное. Воспоминания, которые кажутся… полыми.
Официант-человек принес пирожные «фортуна».
— У вас никогда не возникало желания посетить настоящий Гиперион? — спросила я.
— А что это такое?
— Планета на Окраине. По-моему, где-то за Парвати.
Джонни выглядел озадаченным. Он разломил пирожное, но читать записку не стал.
— По-моему, это место называли Миром Поэтов, — сказала я. — Там даже есть город, названный вашим именем — Китс.
Юноша отрицательно покачал головой.
— К сожалению, ничего об этом не слышал.
— Быть не может. Неужели ИскИны знают не все?
Он коротко и резко рассмеялся.
— Есть один, который не знает почти ничего. — Тут он развернул бумажку с «фортуной» и прочитал: — «Остерегайтесь внезапных порывов».
Я скрестила руки.
— Знаете что? Если не считать того фокуса, когда вы показали мне голограмму управляющего банком, нет никаких доказательств, что вы действительно тот, за кого себя выдаете.
— Дайте мне руку.
— Руку?
— Да, любую. Благодарю вас.
Джонни сжал ладонями мою правую руку. Его пальцы были длиннее моих. Мои — сильнее.
— Закройте глаза, — приказал он.
Я закрыла. Все произошло мгновенно: секунду назад я сидела в «Голубом Лотосе» на улице Красного Дракона, а сейчас очутилась… нигде. Или где-то. Я неслась сквозь серо-голубое киберпространство над хромово-желтыми информационными автострадами. Я пролетала сквозь огромные, сияющие огнями города хранилищ информации. Мелькали ярко-алые небоскребы в черной ледяной скорлупе защиты. Личные счета и архивы фирм полыхали во тьме, как доменные печи. И надо всем этим, где-то за гранью ощутимого, висели в перекрученном пространстве огромные массы ИскИнов. Их базисные линии связи пульсировали над бесконечным горизонтом, словно зарницы. И откуда-то издалека, сквозь этот переливающийся, как неоновая вывеска, мир (а ведь то был всего лишь секундный срез инфосферы одной небольшой планетки!) смотрели на меня его светло-карие глаза. Я даже не видела — чувствовала их ласковый, ожидающий взгляд.
Джонни отпустил мою руку. Потом разломил мое пирожное, достал бумажку и прочел:
— «В новое дело надо вкладывать с умом».
— Боже, — прошептала я. В свое время ВВ брал меня «полетать» в киберпространстве. Но то подключение без шунта было лишь жалким подобием нынешнего полета. Сейчас я любовалась фейерверком в ночном небе. А тогда — разглядывала тот же фейерверк, но на черно-белой голограмме. — Как вам это удается?
— Завтра, насколько я понимаю, особых успехов не предвидится? — спросил он.
Я овладела собой и ответила:
— Завтра я намерена закончить дело.
Ну, допустим, не закончить, но уж по крайней мере сдвинуть с места. Судя по копии кредитной карточки, последний раз Джонни платил в баре на Возрождении-Вектор. Я проверила его в первый же день, поговорила с постоянными посетителями (бармена-человека там не было). Никто из них Джонни не помнил. Я заходила туда еще дважды, но с тем же результатом. На третий день я отправилась в бар с твердым решением: не уходить, пока хоть что-нибудь не прояснится.
Этот кабачок был определенно не похож на тот отделанный деревом и латунью бар на ТКЦ, где мы с Джонни сидели в первый раз. Заведение помещалось на втором этаже запущенного дома в бедном районе, примерно в двух кварталах от библиотеки, где работал Джонни. Вряд ли он заскочил сюда по дороге к порталу — не то место. Скорее уж он встретил кого-то в библиотеке (или поблизости), и они зашли сюда поговорить с глазу на глаз.
Я сидела в баре шестой час кряду и уже глядеть не могла на их орешки и дрянное пиво, как вдруг в дверях появился старый бродяга. Войдя, он сразу направился к маленькому столику у дальней стены. Робот-официант не успел еще появиться, как он уже заказывал виски. По всему этому я поняла, что он здесь свой человек. Подсев за его столик и разглядев его получше, я поняла, что он не бродяга, а просто один из тех махнувших на все рукой людишек, которые толкутся в этом районе в лавках старьевщиков и возле уличных стоек. Старик прищурился и посмотрел на меня.
— Можно присесть?
— Может, и можно. Ну, подруга, что продаем?
— Я покупаю. — Я уселась, поставила на стол кружку пива и пододвинула к старику двумерное фото, на котором был запечатлен Джонни, входящий в будку нуль-Т на ТКЦ. — Видел когда-нибудь этого парня?
Старик кинул взгляд на фото и снова припал к стакану с виски (который на время поглотил все его внимание).
— Может, и видел, — ответил он наконец.
Я махнула роботу рукой, чтобы тот повторил, и продолжала:
— В таком случае тебе повезло. Если, конечно, не врешь. — Старик фыркнул и тыльной стороной ладони потер заросшую седой щетиной щеку.
— Давненько мне не везло. — Он внимательно посмотрел на меня. — Ну, сколько? И за что?
— За информацию. И ровно столько, сколько она стоит. Ну так как, видел его? — Я извлекла из кармана бумажку в пятьдесят марок. Такие ходили на черном рынке.
— Ну видел.
Я положила бумажку на стол и прикрыла рукой.
— Когда?
— В прошлый вторник. Утром.
День он назвал правильно. Я пододвинула банкноту к нему и достала другую.
— Он был один?
Старик облизнул губы.
— Дай сообразить. Нет, не один… он вон там сидел. — Он указал на столик позади нас. — А с ним еще двое парней. Один такой… ну, я его сразу запомнил.
— Какой?
Старик потер большим пальцем указательный — жест, древний, как сама жадность. Я продолжала допытываться:
— Расскажи-ка мне о тех двух мужчинах.
— Молодой-то… ну, твой… он был с этим, как их… ну, чудики такие в балахонах — природа, мол, и все такое прочее. Их еще по ящику все время показывают. Ну, на деревьях летают.
— На деревьях? Тамплиер, что ли? — спросила я в полном изумлении. Что мог тамплиер делать здесь, в баре на Возрождении-В? И если он что-то замышлял против Джонни, почему явился в мантии? Это как если бы убийца пошел на дело в шутовском колпаке.
— Ну да. Тамплиер. В такой коричневой штуке, их еще восточными называют.
— Это был мужчина?
— Говорю же — парень.
— Можешь описать его подробнее?
— Не-а. Тамплиер и все. Высокий такой сукин сын. А рожу я не разобрал.
— А второй?
Старик пожал плечами. Я достала еще одну бумажку.
— Они пришли вместе? Втроем?
— Да не знаю… Хотя нет, погоди-ка. Твой парень и тамплиер вошли первые. Того, второго, еще не было, а тряпку эту я сразу запомнил.
— Опиши мне второго.
Старик махнул роботу и заказал третий стакан. Я достала карточку и расплатилась. Гудя генераторами, официант укатил.
— Как ты, — поразмыслив, сказал старик. — На тебя похож.
— Невысокий такой, крепкий? С Лузуса, что ли?
— Ага, наверно. Я его здесь раньше не встречал.
— Ну, дальше.
— Бритый, — сказал старик. — Только фиговина такая болтается. Ну, как у моей племянницы… на конский хвост похоже.
— Коса? — спросила я.
— Во-во. — Он протянул руку к бумажкам.
— Еще пару вопросов. Они спорили?
— Не-а. Тихо сидели. Тут в это время вообще пусто.
— А когда это было?
— Я ж говорю — с утра. Часов в десять.
Примерно то же время было указано в кредитной карточке.
— А о чем говорили, не слышал?
— Не-а.
— Кто из них говорил больше?
Старик отпил еще глоток и наморщил лоб, пытаясь вспомнить.
— Сперва тамплиер говорил. А этот, твой, отвечал. И удивленный он был какой-то.
— Сильно удивленный?
— Не-а. Похоже, тот парень с тряпкой сказал что-то такое, чего он не ожидал.
— Значит, сперва говорил тамплиер. А кто говорил потом? Тот парень, которого я ищу?
— Не-а. Тот второй, с хвостом. Потом все ушли.
— Все трое?
— Не-а. Твой и тот, с хвостом.
— А тамплиер остался?
— Вроде бы да. Кажись, так. Потом я пошел в сортир, а когда вернулся, его уже не было.
— Куда пошли те двое?
— Да не знаю я, черт тебя задери. Чего мне к ним приглядываться? Я сюда пить хожу, а не шпионить.
Я кивнула. Робот подкатил снова, но я отправила его обратно. Старик хмуро посмотрел ему вслед.
— Значит, они не спорили, когда уходили? Не ругались? Никто никого не прогонял?
— А кого надо было прогнать?
— Моего. Или второго, с хвостом.
— Да не знаю я ни черта! — Он помял деньги в грязных руках, посмотрел на них, потом окинул взглядом бутылки, выставленные на витрине. Осознав, что от меня ему больше ничего не дождаться, он спросил: — Слушай, подруга. А на хрена тебе все это?
— Я ищу своего парня, — сказала я и огляделась. В баре сидело человек двадцать. Большинство, похоже, были завсегдатаями. — А больше их никто не видел? Может, вспомнишь, кто тут тогда сидел?
— Не-а, — ответил он. Я вдруг разглядела, что глаза у старика того же цвета, что и виски в его стакане.
Поднявшись, я положила на стол последнюю бумажку в двадцать марок.
— Спасибо, старина.
— Всегда пожалуйста, сестрица.
И не успела я дойти до двери, как к нему уже подкатил робот.
Я пошла назад, к библиотеке. На оживленной площади, где располагались порталы, я задержалась и постояла там с минуту. Сценарий на данный момент складывался такой: Джонни встретил тамплиера, а может, тамплиер сам подошел к нему в библиотеке или на улице. Дальше они решили пойти в какое-нибудь место, где можно было побеседовать без помех, например в бар. И там тамплиер сказал нечто такое, что очень удивило Джонни. Затем к ним присоединился некто бритый и с косой — возможно, лузианец — и перехватил инициативу. Джонни и Коса ушли вместе. Вскоре после этого Джонни отправляется на ТКЦ, а оттуда — в обществе единственного спутника (возможно, все того же Косы или тамплиера) на Мадхья. Там его пытаются убить. И убивают.
Слишком много пробелов. Слишком много «кто-то». Для целого дня работы маловато.
Я стояла и раздумывала, возвращаться ли мне домой, на Лузус, как вдруг мой комлог просигналил на секретной частоте, которую я сообщила Джонни.
— Госпожа Брон, — голос Джонни звучал хрипло, — приезжайте как можно быстрее. По-моему, они снова попытались меня убить. — Дальше следовал уже знакомый мне адрес в улье Бергсон-Восточный.
Я помчалась к ближайшему порталу.
Дверь в квартиру Джонни была чуть приоткрыта. В коридоре — ни души. Из квартиры не доносилось ни единого звука: полиция была явно не в курсе.
Я вытащила из кармана пальто отцовский пистолет, вставила обойму и одним движением включила лазерный прицел.
Потом пригнувшись и выставив вперед руки, вошла в квартиру. Красная точка заскользила по темной прихожей, задела дешевую гравюру на дальней стене и побежала дальше. Пусто. И в гостиной пусто. И в нише для просмотра голограмм.
Джонни лежал в спальне на полу, опираясь головой о кровать. Простыни были в крови. Он попытался приподняться, но снова упал. Дверь на балкон была открыта; с улицы тянуло сыростью и выхлопными газами.
Осмотрев уборную, небольшой холл и кухню, я вышла на балкон. Вид с него открывался захватывающий. Балкон (узенький карниз с перилами) располагался на высоте около двухсот метров на изогнутой стене Улья, и Главная Траншея просматривалась отсюда километров на десять — двадцать. Вверху взгляд упирался в темную массу ферм и балок — крышу Улья, до которой было метров сто, а внизу сверкали тысячи фонарей, голографических реклам и неоновых вывесок, сливаясь вдали в пульсирующее электрическое зарево.
К стене Улья прилепились сотни подобных балкончиков — и все пустые. Ближайший находился метрах в двадцати. Наличие балкона у риэлтеров считается «повышенной комфортностью» (с Джонни, вероятно, содрали за наружную комнату астрономическую сумму), хотя преимущество это очень сомнительное: воздушный поток, который создают вентиляторы, несет пыль и мусор. К тому же в улье всегда воняет нефтью и озоном.
Я положила пистолет в карман и вернулась посмотреть, что с Джонни.
Лоб его — от волос и до брови — рассекала неглубокая, но грязная рана. Когда я вернулась из ванной со стерильным тампоном, он уже сидел.
— Что случилось? — спросила я, прикладывая тампон.
— Двое мужчин… подкараулили в спальне… Они заблокировали сигнализацию на балконной двери.
— Вам полагается компенсация, — заметила я. — Что было потом?
— Мы боролись. Они тащили меня к двери. У одного из них был инъектор, но мне удалось его выбить.
— Почему они ушли?
— Я включил внутреннюю сигнализацию.
— Она подключена к системе охраны Улья?
— Нет. Я не хотел, чтобы охранники лезли в это дело.
— Кто вас ударил?
Джонни глуповато улыбнулся.
— Это я сам. Они уже выпустили меня, и тогда я бросился за ними. Споткнулся, упал и ударился о тумбочку.
— Не очень приятное происшествие — причем для обеих сторон, — сказала я, включила лампу и принялась осматривать ковер. В конце концов мне удалось найти инъектор: он закатился под кровать.
Джонни посмотрел на него, как на гадюку.
— Опять СПИД-II? — спросила я.
Он отрицательно покачал головой.
— Я знаю, куда его можно отдать на анализ, — сказала я. — Но похоже, это простой гипнотик. Они хотели, чтобы вы ушли с ними… Убийцы так не действуют.
Джонни снял тампон и скорчил гримасу. Кровь не останавливалась.
— Зачем кому-то похищать кибрида? — пробормотал он.
— Это вы мне говорите? Я уже начинаю думать, что и ваше так называемое убийство было просто неудачной попыткой похищения.
Джонни снова покачал головой.
— А скажите, — спросила я, — ни у кого из нападавших не было косы?
— Не знаю. На них были кепки и осмотические маски.
— Не был ли один из них очень высоким, как тамплиер, или очень сильным, как лузианин?
— Тамплиер? — удивился Джонни. — Первый был среднего роста, а тот, второй… ну, с инъектором… вполне сошел бы за лузианина. Очень сильный…
— Итак, вы сцепились с лузианином голыми руками. Может, у вас какие-нибудь биопроцессоры или силовые импланты?
— Нет у меня никаких имплантов. Я просто взбесился.
Я помогла ему встать.
— Значит, ИскИн может разозлиться?
— Я могу.
— Пойдемте, — сказала я. — Я знаю тут поблизости одну дешевую клинику. А потом вы немного поживете у меня.
— У вас? Почему?
— Время, когда вам нужен был детектив, прошло. Теперь вам нужен телохранитель.
В зональной схеме Улья моя берлога вообще не числилась в качестве жилого помещения. В сущности, это был просто подновленный чердак крупного склада, принадлежавший одному моему другу, которого заели ростовщики. На старости лет он надумал эмигрировать в какую-то колонию на Окраине, и я буквально даром получила отличный угол всего в километре от моей конторы. Район, конечно, малость подкачал, да и шум, доносившийся с погрузочных платформ, временами мешал разговаривать, зато помещение — раз в десять больше обычной квартиры, так что все свое оборудование я смогла разместить прямо на дому.
Джонни с интересом разглядывал мое жилище. Я почувствовала себя польщенной и тут же мысленно чертыхнулась. Не хватало еще, чтобы я начала красить губы из-за какого-то кибрида.
— Так почему же вы живете на Лузусе? — спросила я. — Большинство приезжих с других планет плохо переносят нашу гравитацию, да и местность тут несколько однообразная. А документы, в которых вы роетесь, находятся в библиотеке на Возрождении-Вектор. Почему?
Когда он заговорил, я поймала себя на том, что буквально пожираю его глазами и так же внимательно слушаю. Волосы он расчесывал на пробор; почти прямые у макушки, они ниспадали на воротник каштаново-рыжими кудрями. У него была привычка во время разговора подпирать подбородок кулаком. А говорил он на самом деле без всякого акцента — я только сейчас это поняла. Всеобщим языком он владел в совершенстве — просто избегал сокращений, оттого и казалось, что язык этот ему не родной. Ритмом речи он напомнил мне одного знакомого вора, уроженца Асквита (Асквит — это планетка на задворках Сети, заселенная эмигрантами Первой Волны, выходцами с Британских Островов).
— Я жил во многих мирах, — сказал он. — Моя цель — наблюдать.
— Самое подходящее занятие для поэта.
Он покачал головой, сморщился и осторожно дотронулся до шва.
— Какой из меня поэт? Вот ОН — это да.
Несмотря на случившееся, в Джонни чувствовалась сила, которую я встречала лишь считанное число раз. Это трудно описать словами, но я сама видела, как на приемах самого высокого ранга все невольно устремлялись к подобным людям, стоило им только появиться. И дело здесь было не в его чуткости или сдержанности — от него действительно исходила какая-то особая энергия, даже когда он просто смотрел на тебя.
— Почему вы здесь живете? — в свою очередь, спросил он.
— Я тут родилась.
— Да, но ваше детство прошло на Тау Кита. Ваш отец был сенатором.
Я промолчала.
— Многие думали, что вы займетесь политикой, — сказал он. — Может быть, на вас так повлияло самоубийство отца?
— Это было не самоубийство, — не выдержала я.
— В самом деле?
— Во всех репортажах и в заключении следствия утверждалось, что мой отец покончил с собой, — сказала я как можно бесстрастнее. — Но все они ошибались. Мой отец никогда бы не сделал этого.
— Значит, убийство?
— Да.
— Несмотря на то, что не было ни мотивов, ни подозреваемых?
— Да.
— Понимаю, — сказал Джонни. В желтом свете складских фонарей, проникавшем сквозь пыльные окна, его волосы отливали медью. — Вам нравится ваша работа?
— Когда удается довести дело до конца, — ответила я. — Есть хотите?
— Нет.
— Тогда давайте спать. Можете занять диван.
— А вам всегда удается довести дело до конца? — спросил он. — В вашей работе?
— Завтра увидим.
Утром, в обычное время, Джонни отправился на Возрождение-Вектор. Потоптавшись немного на портальной площади, он прямо оттуда совершил второй прыжок — в Музей Первопоселенцев на Седьмой Дракона. Оттуда он прыгнул на главный терминекс Нордхольма, а затем сразу же — на планету тамплиеров, именуемую Рощей Богов.
График мы составили заранее, и я ждала его на Возрождении, скрываясь в тени колоннады.
Мужчина с косой был третьим после Джонни. Несомненно, лузианин. Бледность, характерная для всех обитателей ульев, отличная мускулатура и уверенная походка — он запросто мог оказаться моим давно пропавшим братом.
Он ни разу не взглянул на Джонни, но я заметила его удивление, когда кибрид направился к порталам внешних линий. Я держалась позади, так что карточку его видела лишь мельком, но готова была поспорить на что угодно — он пользовался «лоцманкой».
В Музее Первопоселенцев Коса держался осторожно, однако Джонни из виду не упускал и все время оглядывался — проверял, нет ли слежки. На мне был балахон для дзен-медитаций, защитный козырек и все прочее. Даже не глянув в их сторону, я двинулась к выходному порталу музея и отправилась прямиком на Рощу Богов.
Конечно, на душе у меня кошки скребли — ведь в музее и терминексе Нордхольма Джонни оставался без присмотра. Впрочем, успокаивала я себя, сейчас там полно народу, так что риск мой оправдан.
В условленное время Джонни появился в портале «Древо Мира» и купил билет на экскурсию. Его преследователю пришлось посуетиться: чтобы успеть на скиммер-омнибус, он на несколько минут сбросил маску беспечного зеваки. Я тем временем забралась на второй этаж омнибуса и устроилась сзади, а Джонни, как мы и договаривались, спереди. На мне уже были обычные туристские шмотки, а мой имиджер совершенно затерялся среди десятка таких же аппаратов. Наконец на палубе появился Коса и поспешно занял место тремя рядами дальше Джонни.
Экскурсия по Древу Мира — всегда праздник (впервые отец привез меня сюда, когда мне было всего три стандартных года), но на сей раз, пока скиммер летел над ветвями шириной с хорошую автостраду и огибал ствол, размерами не уступающий горе Олимп, я чувствовала себя не в своей тарелке от взглядов, которые тамплиеры бросали на меня из-под своих капюшонов.
Мы с Джонни заранее продумали различные хитроумные и утонченные способы слежки за Косой (если он объявится), чтобы добраться до его логова, и готовы были потратить несколько недель на разгадку его игры. Но в конце концов я остановилась на менее утонченном варианте.
Омнибус высадил нас у музея Мюира, и туристы разбрелись по площади, усиленно соображая: то ли потратить десять марок на свое просвещение, то ли отправиться прямиком в магазин сувениров.
И тут я подхожу к Косе, крепко хватаю его за плечо и спокойно так говорю: «Привет. Какого черта вам надо от моего клиента?»
Старинная поговорка гласит, что, хотя утонченности в лузианине — как в желудочном зонде, последний все-таки приятнее в обращении. И если мои манеры подтверждали первую часть этой поговорки, то Коса сделал все, чтобы подтвердить вторую.
Он не растерялся. Хотя моя, на первый взгляд несильная, хватка парализовала мышцы его правой руки, секунду спустя в его левой руке сверкнул нож.
Я тут же ушла вправо, и нож просвистел в нескольких сантиметрах от моей щеки. Ударившись о тротуар, он отлетел в сторону. Выхватив нейростаннер, я бросилась на одно колено, чтобы отбить следующую атаку.
Атаки не последовало. Коса убегал. Убегал от меня. Убегал от Джонни. Расталкивая туристов локтями, он вырвался из толпы и ринулся к музею.
Я спрятала станнер за манжету и бросилась в погоню. На близком расстоянии станнер — превосходное оружие, из него даже целиться не надо: он действует, как дробовик, с той лишь разницей, что, если заденешь широким лучом посторонних, ничего страшного с ними не случится. Но на расстоянии в восемь-десять метров станнер бесполезен — излучение рассеивается. У половины туристов, толпившихся на площади, я могла вызвать ужасную головную боль, но Коса был уже слишком далеко. Я припустила за ним.
Джонни бросился ко мне.
— Домой! — крикнула я ему, махнув рукой. — И запрись на все замки!
Коса был уже у входа в музей. Он оглянулся, и в руке у него снова сверкнул нож.
Я прибавила скорость. При мысли о том, что сейчас произойдет, я испытала нечто похожее на радость.
Коса перепрыгнул через турникет и стал пробиваться к дверям. Я последовала за ним.
Лишь оказавшись под сводами Большого Зала и увидев, как он прокладывает себе дорогу по битком набитому эскалатору, я поняла, куда он направляется. В Сад.
Впервые отец взял меня на экскурсию к тамплиерам, когда мне было три года. Тогда все порталы были открыты, и на то, чтобы обойти пешком тридцать миров, где экологи тамплиеров сохраняли во славу Мюира уголки девственной природы, у нас ушло целых три часа. Точно не помню, но, по-моему, тропинки там здорово петляют, а порталы расположены невдалеке друг от друга, чтобы экскурсоводы и служители могли без труда попасть куда им надо.
Черт возьми!
Одетый в форму старый охранник, дежуривший у портала, заметил суматоху и вышел навстречу, чтобы остановить зарвавшегося хулигана. Все произошло в одно мгновение. Я была метрах в пятнадцати, но даже с такого расстояния разглядела изумленное выражение его лица, когда он пятился назад… а из его груди торчала рукоятка кинжала.
Старик (видимо, бывший местный полицейский) побледнел, коснулся костяной рукоятки (казалось, он хотел убедиться в ее реальности) и рухнул ничком на мощенный плитками пол. Туристы закричали. Кто-то звал врача. Я успела заметить, как Коса оттолкнул гида-тамплиера и исчез в светящемся портале.
Это шло вразрез с нашими планами.
Перепрыгнув через перила, я устремилась к порталу…
…и заскользила вниз по травянистому склону. Небо здесь было лимонно-желтое, в воздухе пахло чем-то тропическим. Меня провожали удивленные взгляды. Коса был уже на полпути к следующему порталу. Он бежал напрямик, топча роскошные клумбы и раскидывая ногами крошечные деревья бонсай. Фудзи. Скатившись с холма, я снова помчалась вверх, прямо по развороченным клумбам. «Задержите его!» — кричала я, понимая, как это глупо. Разумеется, никто и пальцем не шевельнул. Только одна японская туристка подняла имиджер и стала снимать погоню.
Коса оглянулся, растолкал глазевших на него туристов и влетел в портал.
Я снова достала станнер и закричала: «Прочь! Назад!» Толпа торопливо расступилась.
Я шла осторожно, взяв станнер на изготовку. Ножа у Косы больше не было, но кто знает, какие еще игрушки он припас.
Яркий свет на воде. Фиолетовые волны Безбрежного Моря. Экскурсионная тропа проходила в метрах десяти над водой, по установленному на понтонах деревянному настилу. Вдали она огибала сказочный коралловый риф и желтые островки водорослей и возвращалась назад. К порталу на другом конце тропы вел узенький мостик. Коса уже перелез через ворота с надписью «Посторонним вход воспрещен» и находился на середине мостика.
Подбежав к краю платформы, я поставила станнер на полную мощность и принялась орудовать невидимым лучом, словно садовым шлангом.
Мне показалось, что Коса споткнулся, однако, преодолев последние десять метров, он все-таки нырнул в портал. Я выругалась и, не обращая внимания на возмущенные крики возникшего у меня за спиной гида-тамплиера, полезла через ворота. Краем глаза я успела заметить табличку — «Не забудьте надеть термокостюм» — или что-то в этом роде. Портал я проскочила так быстро, что почти не ощутила покалывания, которое всегда сопровождает проход через экран.
Буря с ревом обрушилась на коридор защитного поля, в котором, как в тоннеле, петляла в сплошной белизне узкая тропинка. Седьмая Дракона. Эти северные районы собирались прогреть, а затем колонизировать, но тамплиерское лобби в Альтинге зарубило проект, чтобы сохранить «дыхание Арктики». Сила тяжести в 1,7g давила мне на плечи, как хомут тренажера. Жаль, что Коса тоже с Лузуса: будь у него мышцы обычного жителя Сети, мне не пришлось бы за ним так гоняться. Ладно, посмотрим, кто из нас в лучшей форме.
Нас разделяло метров пятьдесят. Коса оглянулся и прибавил ходу. Где-то рядом был другой портал, но пурга скрыла его от глаз. Впрочем, все равно снаружи и двух шагов не сделаешь. И я кинулась вслед за Косой. Из уважения к гравитации здешняя тропа была самой короткой во всей экскурсии — метров двести, не больше. Я уже слышала его тяжелое дыхание. Сама я бежала легко и неуклонно сокращала разделявшее нас расстояние. Туристов на тропе не было, погоня отстала. «Здесь же и допрошу, — подумала я, — самое подходящее место».
Но не добежав метров тридцати до портала, Коса вдруг обернулся, припал на одно колено и навел на меня лучевой пистолет. Первый разряд ушел в вечную мерзлоту (возможно, из-за здешней гравитации оружие оказалось слишком тяжелым для его руки), но промахнулся он самую малость — в метре от меня по дорожке протянулась полоса окалины. Коса поднял ствол чуть выше.
Выставив вперед плечо, я бросилась в сторону и, пробив упругую стенку защитного поля, провалилась по грудь в сугроб. Холодный воздух обжег мне легкие, сгребаемый ветром снег в несколько секунд залепил руки и лицо. Коса, оставшийся на освещенной тропе, крутил головой, но теперь пурга работала на меня. Под ее покровом я бросилась через сугробы к тому месту, где стоял лузианин.
Просунув сквозь защитное поле голову, плечи и правую руку, он уже высматривал меня в гуще снегопада, мгновенно превратившего его в белую маску. Второй разряд прошел над моей головой, обдав меня жаром. Теперь нас разделяло метров десять. Я переключила станнер на широкий луч и, не высовываясь из сугроба, несколько раз провела стволом из стороны в сторону.
Коса выронил пистолет в снег и, пошатнувшись, скрылся в защитном поле.
Рев ветра заглушил мой победный клич. Спотыкаясь, я побрела к тропе. Руки и ноги были как чужие и совершенно не ощущали холода. Щеки и уши пылали. Приказав себе не думать об обморожении, я бросилась в поле.
Это было поле третьего класса, предназначенное для защиты от разгула стихии и того самого «дыхания Арктики», но при этом проницаемое для крупных тел — чтобы заблудившийся турист или тамплиер, вышедший за какой-нибудь надобностью наружу, мог вернуться на тропу. Но от холода я так ослабела, что несколько секунд не могла преодолеть силовую стенку. Скользя ногами по снегу и льду, я билась о защитное поле, как муха о стекло. Наконец, собрав все силы, я бросилась вперед, неуклюже рухнула на тропу и буквально втащила за собой ногу.
Видимо, от того, что я так внезапно оказалась в тепле, меня пробрала дрожь. А когда я привстала на колени, а затем заставила себя подняться на ноги, с меня посыпались ледышки и комья снега.
Тем временем Коса пробежал последние пять метров до портала. Правая рука у него болталась, как сломанная. Я представляла, как полыхают у него сейчас нервные окончания, и ни за что не поменялась бы с ним местами. Он оглянулся только раз — я неслась к нему со всех ног — и исчез в портале.
Мауи-Обетованная. Тропический воздух пахнул зеленью и океаном. Небо было голубое, как на Старой Земле. Я сразу поняла, куда вывела нас тропа — на один из тех немногих плавучих островов, которые тамплиеры уберегли от приручения. Остров был большой — с полкилометра в поперечнике, но входной портал располагался достаточно высоко — на широкой кольцевой площадке, окружавшей ствол дерева-мачты. Отсюда были хорошо видны наполненные ветром листья-паруса и вытянувшиеся во всю длину синие лозы водяного винограда, игравшие роль руля. К порталу выхода, лежавшему метрах в пятнадцати ниже, вела лестница, но Коса избрал другой путь. Выскочив на главную тропу, он побежал к краю острова, где стояло несколько хижин и торговых павильонов.
Только здесь, на середине маршрута, тамплиеры позволяли уставшим туристам отдохнуть под крышей и заодно пополнить казну братства, приобретая закуски, напитки и сувениры. Все еще дрожа, в мокрой от тающего снега одежде, я потрусила по ступенькам к главной тропе. Но почему Коса бежал именно туда?
И тут я увидела разложенные на берегу яркие ковры. Все стало ясно. В большинстве миров Сети ковры-самолеты запрещены, но на Мауи-Обетованной их сохраняли в память о легендарной Сири. Эти древние игрушки (размером всего метр на два) поджидали туристов, чтобы покатать их над морем. Если Коса до них доберется… Продемонстрировав великолепный спринт, я догнала лузианина буквально в нескольких метрах от площадки с коврами и бросилась ему в ноги. Мы покатились прямо к ларькам. Стоявшие там туристы с криками разбежались.
Отец преподал мне одну простую истину, которую дети сплошь и рядом забывают. На свою голову. А истина вот какая: если маленький мальчик не хочет получить большую трепку, ему не стоит драться с большими мальчиками. Но сейчас наши силы были примерно равны. Извернувшись, Коса вскочил на ноги и принял восточную боевую стойку с разведенными руками и отогнутыми назад пальцами. Оставалось выяснить, кто из нас маленький мальчик, а кто — большой.
Коса атаковал первым. Сделав притворный выпад прямыми пальцами левой руки, он нанес боковой удар ногой в голову. Я ушла нырком, но он все-таки задел меня. Причем достаточно сильно — левое плечо сразу онемело.
Пританцовывая, Коса отступил назад. Я двинулась на него. Он ударил кулаком справа. Я поставила блок. Он рубанул левой рукой сверху вниз. Я парировала удар правым предплечьем. Все так же пританцовывая, Коса отступил еще на шаг, быстро развернулся и хлестко ударил левой ногой. Я нырнула, поймала его за щиколотку и бросила на песок.
Коса вскочил. Я сбила его с ног коротким хуком слева. Он откатился в сторону и попытался встать на колени. Я ударила его ногой в голову, за левым ухом, причем не слишком сильно — чтобы он не отключился.
И зря, в чем секунду спустя и убедилась. Пробив мой блок, он ударил меня четырьмя пальцами под сердце. К счастью, он задел лишь мышцы под правой грудью. И тогда я со всей силы врезала ему в зубы. Изо рта у него брызнула кровь, он покатился к берегу и замер у самой кромки воды. Туристы кинулись к выходному порталу, крича остальным, чтобы те вызвали полицию.
Я взяла своего подозреваемого за косицу и принялась окунать в воду. Когда он пришел в себя, я перевернула его на спину и, ухватив за рваную, окровавленную рубашку, приподняла. Через минуту-другую сюда наверняка кто-то явится. Нужно было спешить.
Коса смотрел на меня стеклянными глазами. Я встряхнула его и наклонилась поближе.
— Слушай, приятель, — прошептала я. — Сейчас у нас состоится короткий, но откровенный разговор. Для начала объясни, кто ты такой и что тебе надо от того парня.
Разряд я ощутила еще до того, как увидела синие искры. В мгновение ока тело Косы окутал мерцающий ореол. Выругавшись, я отскочила назад, но волосы у меня на затылке уже стояли дыбом, а индикатор электрического поля в комлоге тревожно верещал. Коса застыл с разинутым в беззвучном крике ртом — внутри у него тоже мерцала синева, как у монстра из дешевой голопостановки. Зашипела, почернела и вспыхнула рубашка. Грудь под нею пошла синими пятнами — так горят старинные киноленты. Пятна расплывались, соединялись, снова расплывались. Открылась грудная клетка — там, в синем огне плавились внутренности. Коса снова разинул рот — на этот раз крик его был слышен. А потом зубы и глаза провалились в синее пламя.
Я отступила еще на шаг.
Коса горел. Синий ореол сменился оранжево-красным пламенем. Куски плоти выбрасывало наружу, лопались кости. В одну минуту он как бы ужался и превратился в дымящееся чучело, в какую-то карикатуру на человеческое тело; таково неизбежное действие огня. Прикрыв ладонью лицо, я обернулась и внимательно оглядела кучку туристов, которые пялились на меня вытаращенными глазами. Быть может, убийца — кто-нибудь из них? А наверху из портала уже выпрыгивали фигуры охранников в серой форме.
Проклятие! Я огляделась вокруг. Над головой поднимались деревья-мачты. Среди многоцветья тропической растительности колыхались лучистые паутинки, красивые даже при дневном освещении. Солнечные лучи дробились на голубой глади океана. Дорогу к обоим порталам уже перекрыли. Командир отряда расстегивал кобуру.
Ближайший ковер-самолет был от меня всего в трех шагах. Летать на этой штуковине мне доводилось только раз, причем двадцать лет назад, и сейчас я лихорадочно пыталась вспомнить, как активируются его левитаторы. Кажется, сенсорные нити должны быть в одном из рисунков.
Внезапно ковер стал жестким и поднялся на десять сантиметров над пляжем. Послышались крики. Охранники были уже на берегу, рядом с толпой. Женщина в аляповатом наряде, какие носят на Малом Возрождении, показывала на меня рукой. Я соскочила со своего ковра, подобрала остальные семь и забралась обратно. С трудом нащупав под грудой тряпья нужный квадратик, я послала свой летательный аппарат вперед и вверх. Ковер-самолет набирал высоту так стремительно, что я едва не свалилась.
Отлетев метров на пятьдесят от берега, я побросала остальные ковры в море и развернулась, чтобы видеть, что происходит на пляже. Несколько фигур в серой форме сгрудились вокруг обгоревших останков Косы. Еще один охранник целился в меня какой-то серебряной штукой, похожей на жезл…
В руки, плечи и шею словно впились бесчисленные тончайшие иглы. Веки сами собой закрылись, и меня так повело, что я чуть не скатилась с ковра. Вцепившись в него левой рукой и наклонившись вперед, чтобы удержать равновесие, я принялась давить одеревеневшими пальцами в сенсорный узор. Когда ковер-самолет снова пошел вверх, я полезла в правый рукав за своим станнером. Увы, кобура на запястье была пуста.
Через минуту я кое-как села. Паралич проходил, однако пальцы все еще жгло и голова раскалывалась. Плавучий остров остался далеко позади и с каждой секундой делался меньше. Сто лет назад эти острова пасли стаи дельфинов, которых завезли сюда во времена Хиджры. Но когда Гегемония усмиряла Восстание Сири, в ходе так называемой программы умиротворения погибла большая часть морских млекопитающих. И теперь острова плавали по воле волн с грузом туристов и содержателей курортов.
Я вглядывалась в горизонт. Ни островов, ни тем более материков. Ничего. Голубое небо, беспредельный океан и где-то далеко на западе — белые пятнышки облаков. Или на востоке?
Сняв с пояса комлог, я стала было набирать код доступа в основную инфосферу, но потом передумала. Если власти взялись за меня всерьез, они наверняка попытаются выяснить, где я, и пошлют за мной скиммер или магнитоплан службы безопасности. Работающий комлог запеленговать чертовски трудно, но все равно облегчать им задачу не стоит. Я поставила комлог на прием и еще раз огляделась.
Как говорится, приехали. Болтаюсь в двухстах метрах над океаном на ковре-самолете, которому лет триста, не меньше, и энергии хватит на… уж не знаю на сколько часов… а до ближайшей суши, может, тысяча километров, а то и больше. И вдобавок заблудилась. Совсем здорово. Я скрестила руки на груди и задумалась.
— Госпожа Брон? — Негромкий голос Джонни так напугал меня, что я чуть не свалилась с ковра.
— Джонни? — Я посмотрела на свой комлог. Он был включен, но индикатор основного комм-диапазона не горел. — Джонни, это вы?
— Конечно. Я думал, вы никогда не включите комлог.
— Как вы меня нашли? На какой частоте меня вызываете?
— Это не важно. Куда вы направляетесь?
Я рассмеялась:
— Понятия не имею. Вы мне поможете?
— Подождите. — И секунду спустя: — Отлично! Я засек вас через метеорологический спутник. Ужасно примитивная штука. Хорошо, что ваш ковер-самолет оснащен пассивным трассером.
Я посмотрела на коврик — эту зыбкую преграду, отделявшую меня от морской пучины.
— В самом деле? Значит, и другие могут меня выследить?
— Могли, — ответил Джонни, — но теперь на этой частоте я поставил помехи. Куда вы направляетесь?
— Домой.
— После того, как наш… подозреваемый… погиб… в общем, я не уверен, что это самое разумное решение. Внезапно меня охватил приступ подозрительности.
— Откуда вы знаете, что он погиб? — спросила я, прищурясь. — Я вам ничего не говорила.
— Перестаньте, госпожа Брон. В шести мирах на полицейской частоте только об этом и говорят. Между прочим, довольно подробно описывая вашу внешность.
— Вот же гадство!
— Совершенно верно. Итак, куда бы вы хотели отправиться?
— А вы-то где? — спросила я. — У меня?
— Нет. Я ушел, когда о вас сообщили по каналу СБ. Я… недалеко от портала.
— Вот бы и мне оказаться поблизости! — Я снова огляделась. Океан, небо, прозрачные облака. Погони пока не видно.
— Хорошо, — произнес бесплотный голос Джонни. — В десяти километрах от вас расположен многоцелевой портал ВКС. Только он отключен от питания.
Я прикрыла глаза от слепящего солнца и крутанула ковер на триста шестьдесят градусов.
— Черта с два! Уж не знаю, сколько здесь до горизонта — километров сорок, если не больше, — но кругом совершенно пусто.
— База под водой, — пояснил Джонни. — Держитесь. Беру управление на себя.
Ковер-самолет снова накренился, клюнул носом и начал постепенно снижаться. Я ухватилась за него обеими руками, едва удержавшись, чтобы не закричать.
— А она далеко? — Встречный поток воздуха все ощутимее бил мне в лицо.
— Вы хотите сказать — глубоко?
— Да!
— Восемь фатомов.
Я в уме перевела эти старинные единицы в метры и на этот раз все-таки вскрикнула.
— Это же почти четырнадцать метров! Четырнадцать метров под водой!
— А чего вы хотите? Это же подводная база!
— Как, по-вашему, должна я чем-нибудь дышать?
Океан стремительно приближался.
— Это не проблема. У ковров-самолетов есть примитивное защитное поле. Восемь фатомов оно выдержит. Держитесь крепче!
И я изо всех сил вцепилась в ковер.
Джонни уже ждал меня. Подводная база оказалась темной, сырой и какой-то заброшенной. Портал наверняка армейский: я таких раньше не видела. Миновав его, я с облегчением вышла на залитую солнцем городскую улицу. Там и ждал меня Джонни.
Мы шли мимо старых домов по безлюдным улицам, и я рассказывала ему про Косу. Небо было светло-голубое, но вечереющее. И никого вокруг.
— Эй, — спохватилась я, — где это мы?
Все было невероятно похоже на Землю… и в то же время небо, гравитация, сама фактура этого места были не похожи ни на что.
Джонни улыбнулся.
— Попробуйте угадать. И давайте еще немного пройдемся.
Мы пошли дальше по широкой улице. Слева от нас были какие-то развалины. Я снова остановилась и принялась их разглядывать.
— Это Колизей, — услышала я свой собственный голос. — Римский Колизей на Старой Земле. — Я огляделась вокруг. Старинные дома. Мощенные булыжником улицы. Под легким ветерком чуть шевелится листва. — Это реконструкция города Рима со Старой Земли. — Я старалась, чтобы мой голос звучал не слишком удивленно. — Мы что, на Новой Земле?
Впрочем, я сразу поняла, что это не так. Новую Землю я знаю прекрасно. Там все другое — и небо, и запахи, и сила тяжести.
Джонни отрицательно покачал головой.
— Мы вообще не в Сети.
Я замерла.
— Этого не может быть.
По определению, любой мир, куда можно добраться по нуль-Т, входит в Сеть.
— И тем не менее мы не в Сети.
— Где же мы в таком случае?
— На Старой Земле.
И мы пошли дальше. На пути нам встретились еще одни развалины.
— Это Форум, — пояснил Джонни. А когда мы начали спускаться по длинной лестнице, он добавил: — Впереди Пьяцца ди Спанья — площадь Испании. Там и переночуем.
— Старая Земля, — произнесла я. То была моя первая реплика за двадцать минут. — Мы совершили путешествие во времени?
— Это невозможно, госпожа Брон.
— Тогда — что-то вроде тематического парка?
Джонни рассмеялся. Какой приятный у него был смех — естественный, непринужденный.
— Возможно. Я и сам не знаю, зачем создали эту штуку. Это… модель.
— Модель. — Прищурившись, я смотрела вдоль узкой улочки на красный диск заходящего солнца. — Мне приходилось видеть голограммы Старой Земли. И знаете, похоже. Как будто я действительно там.
— Модель очень точная.
— И все-таки где мы? Я хочу сказать, возле какой звезды?
— Номера я не знаю, — ответил Джонни. — Где-то в Скоплении Геркулеса.
Едва удержавшись, чтобы не переспросить, я присела на ступеньку. С появлением двигателя Хоукинга человечество исследовало, колонизировало и связало нуль-Т-каналами множество миров, разделенных порой тысячами световых лет. Но никто еще не пытался достичь бурлящего ядра Галактики. Человечество освоило лишь один из спиральных рукавов и делало сейчас первые шаги за пределы своей колыбели. А тут — Скопление Геркулеса.
— Зачем Техно-Центру понадобилось строить копию Рима в Скоплении Геркулеса? — спросила я.
Джонни сел рядом. Мы смотрели на голубей, разгуливавших по площади. Внезапно они все разом взмыли в воздух и закружили над крышами.
— Этого я не знаю, госпожа Брон. Я многое еще не изучил… да, честно говоря, до последнего времени и не стремился.
— Ламия, — негромко произнесла я.
— Что?
— Зовите меня просто Ламия.
Джонни наклонил голову ко мне и улыбнулся.
— Спасибо, Ламия. Кстати, сдается мне, они скопировали не один только Рим. Тут вся Старая Земля.
Я оперлась ладонями о нагретую солнцем каменную ступеньку, на которой сидела.
— Вся Старая Земля? С… континентами и городами?
— Думаю, что так. Правда, за пределами Англии и Италии я не был — исключая путешествие морем. Но кажется, аналогия полная.
— Бог ты мой! Зачем им все это?
Джонни медленно кивнул.
— И в самом деле! Только ваш Бог тут ни при чем. И вообще, давайте зайдем ко мне, обсудим все, а заодно и поедим. Похоже, эта модель как-то связана с моим убийством.
«Ко мне» так «ко мне». Джонни занимал квартиру в большом доме у подножия мраморной лестницы. Из окон открывался вид на площадь, которую Джонни называл «пьяцца», и лестницу, которая вела к большой церкви из желто-коричневого камня. Внизу, посреди площади, бил фонтан в виде корабля, нарушая плеском воды вечернюю тишину. Джонни сказал, что фонтан проектировал Бернини,[36] но это имя мне ничего не говорило.
Комнаты были небольшие, хотя и с высокими потолками, мебель неказистая, но украшенная искусной резьбой. Узнать по стилю, когда ее изготовили, я так и не смогла. Никаких признаков электричества или современных бытовых приборов. У дверей и потом, уже наверху, я пыталась заговорить с домом, но он не отозвался. А когда на площадь и город спустились сумерки, за высокими окнами зажглись редкие фонари, в которых наверняка использовался газ или какое-нибудь другое допотопное горючее.
— Это из прошлого Старой Земли, — сказала я, прикасаясь к пышным подушкам. И тут только до меня дошло. — Китс умер в Италии. В начале… девятнадцатого века. Или двадцатого? Это… тогда?
— Да. Начало девятнадцатого века: 1821 год, если быть точным.
— Значит, весь этот мир — музей?
— О нет! Различные районы соответствуют различным эпохам. Все зависит от объекта.
— Не понимаю. — Мы перешли в комнату, заставленную громоздкой мебелью, и я устроилась у окна на диване, украшенном странной резьбой. Золотистый вечерний свет играл на шпиле той желто-коричневой церкви. На фоне темнеющего неба кружились и кружились белые голуби. — И что же, миллионы… кибридов… живут на этой липовой Старой Земле?
— Вряд ли, — ответил Джонни. — Думаю, их тут столько, сколько нужно для каждого конкретного проекта. — Заметив, что я все еще не понимаю, он перевел дыхание и продолжал объяснять: — Когда я… проснулся, здесь были кибриды Джозефа Северна, доктора Кларка, квартирной хозяйки Анны Анчелетти, молодого лейтенанта Элтона и других личностей. Итальянские лавочники, хозяин траттории на той стороне площади, который приносил нам еду, случайные прохожие и так далее. Человек двадцать, не больше.
— Что же с ними случилось?
— Вероятно, они были… рециркулированы. Как тот человек с косой.
— Коса… — Сквозь густой полумрак я пристально поглядела на Джонни. — Так он был кибридом?
— Вне всякого сомнения. Картина саморазрушения, которую вы описали, очень характерна. Если бы мне потребовалось избавиться вот от этого своего кибрида, я поступил бы точно так же.
Мои мысли понеслись вскачь. Теперь я поняла, как мало знала… и какой была дурой.
— Значит, вас пытался убить другой ИскИн?
— Похоже на то.
— Но зачем?
Джонни развел руками.
— Возможно, чтобы стереть какой-то квант информации, который исчез бы вместе с моим кибридом. Допустим, я узнал что-то совсем недавно, а другой ИскИн… или другие… догадались, что это знание можно уничтожить, только выведя из строя мою периферию.
Я встала, прошлась по комнате и остановилась у окна. Теперь уже по-настоящему стемнело. В комнате были лампы, но Джонни, похоже, не собирался их зажигать. Да и я сейчас предпочитала темноту. Она смягчала ощущение нереальности происходящего. Я заглянула в спальню. Сквозь выходившие на запад окна в комнату проникали последние лучи света; смутно белела постель.
— Вы умерли здесь? — спросила я.
— Он, а не я, — мягко напомнил Джонни. — Да, он умер здесь.
— Но ведь вы помните то же, что и он.
— Полузабытые сны — не более. В моих воспоминаниях полно пробелов.
— Но вы знаете, что он чувствовал!
— Я знаю, что он чувствовал по мнению авторов проекта.
— Расскажите.
— О чем? — В темноте кожа Джонни казалась бледной, короткие локоны — совсем черными.
— Что чувствуешь, когда умираешь и когда рождаешься вновь.
И Джонни начал рассказывать. Его голос звучал мягко, почти напевно. Временами он переходил на английский, архаичный и оттого непонятный, но гораздо более приятный на слух, чем та мешанина, на которой говорят в наши дни.
Он рассказывал мне, что значит быть поэтом, одержимым стремлением к совершенству и куда более суровым к себе, чем самые злобные из его критиков. А критики были злобными. Его стихи отвергали, над ними смеялись, их называли вторичными и просто глупыми. Бедность не позволяла ему жениться на любимой женщине, однако он ссужал деньгами своего брата в Америке, лишая себя последней возможности обрести наконец материальную независимость. А когда его поэтический дар достиг расцвета и пришел краткий миг славы, он пал жертвой «чахотки» — болезни, которая унесла в могилу его мать и брата Тома. Его отправили в Италию, якобы «на лечение». Он понимал, что это означает на самом деле — одинокую, мучительную смерть в двадцать шесть лет… Он рассказал мне, какие испытывал муки при виде почерка Фанни на конверте, ибо малейшее движение причиняло ему боль. Рассказывал о преданности молодого художника Джозефа Северна, которого «друзья» поэта (покинувшие его в дни болезни) приставили к нему в качестве спутника и компаньона — Северн ухаживал за умирающим и оставался рядом с ним до самой кончины. Он рассказал мне об ужасе ночных кровотечений, о докторе Кларке, который пускал ему кровь и прописывал «физические упражнения и свежий воздух». И наконец, он поведал о полном разочаровании в Боге и беспредельном отчаянии, воплотившихся в сочиненной им самим собственной эпитафии, которая и была высечена на его могиле:
«Здесь лежит тот, чье имя написано на воде».
Снизу струился тусклый свет, едва обозначающий контуры высоких окон. Голос Джонни, казалось, плыл в воздухе, насыщенном ароматами южной ночи. Он говорил, как после смерти пробудился в той же кровати, в которой умер, и рядом с ним были верный друг Северн и доктор Кларк. Он знал, что его зовут Джон Китс, но никак не мог отделаться от ощущения, что и сам поэт, и его стихи ему просто приснились.
Иллюзии продолжались. Он вернулся в Англию и встретился с Фанни-которая-не-была-Фанни. Он был на грани безумия. Не мог писать. Между ним и самозванцами-кибридами росла стена отчуждения, участились приступы кататонии, сопровождавшиеся «галлюцинациями», в форме которых он воспринимал свое подлинное существование в качестве ИскИна в почти непостижимом (для поэта девятнадцатого века) Техно-Центре. И наконец, иллюзии полностью развалились. Он вышел из «Проекта Китс».
— По правде говоря, — тихо произнес Джонни, — эта зловещая затея все чаще заставляла меня вспоминать отрывок из одного письма, которое я — то есть он — отправил своему брату Джорджу незадолго до болезни:
«Разве не может быть так, что неким высшим существам доставляет развлечение искусный поворот мысли, удавшийся — пускай и безотчетно — моему разуму, как забавляет меня самого проворство суслика или испуганный прыжок оленя? Уличная драка не может не внушать отвращения, однако энергия, проявленная ее участниками, взывает к чувству прекрасного: в потасовке простолюдин показывает свою ловкость. Для высшего существа наши рассуждения могут выглядеть чем-то подобным: пусть даже ошибочные, тем не менее они прекрасны сами по себе. Именно в этом заключается сущность поэзии…»[37]
— Вы считаете «Проект Китс»… злом? — спросила я.
— По-моему, любой обман — зло.
— Похоже, вы стали Джоном Китсом гораздо в большей степени, чем думаете сами.
— Вряд ли. Отсутствие поэтического чутья даже в самой искусно разработанной иллюзии свидетельствует об ином.
Я огляделась вокруг. Темные тени темных вещей в темном доме.
— ИскИны знают, что мы здесь?
— Вероятно. Даже наверняка. Нет такого места, где Техно-Центр не мог бы меня выследить. Но бандиты и полицейские сюда не доберутся.
— Но ведь в Техно-Центре есть кто-то… какой-то разум… который хотел вас убить.
— Убить меня можно только в Сети. В Техно-Центре подобное насилие не допускается.
С улицы донесся шум. Я надеялась, что это голубь. Или ветер, несущий мусор по булыжной мостовой.
— Как Техно-Центр отреагирует на то, что я здесь? — спросила я.
— Представления не имею.
— Эта модель… она засекречена?
— Как вам сказать… Считается, что все это вообще не касается человечества.
Я покачала головой, забыв, что Джонни меня не видит.
— Вы воссоздаете Старую Землю… заселяете ее воскрешенными людьми-кибридами — кстати, сколько их? Одни ИскИны убивают других, и все это нас не касается?! — Я едва не рассмеялась, но сдержалась. — Фантастика!
— Не спорю.
Я подошла к окну. Для стрелка, который, возможно, затаился где-то на темной улице, я представляла идеальную мишень, но сейчас мне было все равно. Я достала сигареты. После погони в снежных сугробах они отсырели, но одна все-таки зажглась.
— Помните, Джонни, когда вы сказали, что модель полностью воспроизводит Старую Землю, я спросила: «Бог мой, зачем им все это?» А вы ответили: «Ваш Бог тут ни при чем». Или что-то в этом роде. Вы намекали на что-то? Или просто выпендривались?
— Нет, конечно. А намекал я вот на что: у Техно-Центра может быть свой Бог.
— Ну-ка, ну-ка.
Джонни вздохнул в темноте.
— Я не знаю точно, зачем было воскрешать Китса и строить модель Старой Земли. Но есть у меня подозрение, что все это — часть единого проекта, над которым Техно-Центр работает по меньшей мере семь стандартных веков. Проекта Высшего Разума.
— Высшего Разума, — повторила я, выдыхая дым. — То есть Техно-Центр пытается создать… Бога, что ли?
— Да.
— Зачем?
— На этот вопрос простого ответа нет. Как нет простого ответа на вопрос, почему человечество на протяжении десяти тысяч поколений искало Бога в миллионах обличий. Техно-Центр заинтересован в поиске все более эффективных и надежных способов обработки… данных.
— Но для этого у Техно-Центра хватает своих ресурсов. К тому же в его распоряжении мегаинфосферы двухсот миров.
— И все равно остаются пробелы в области прогнозирования.
Я выбросила сигарету в окно и смотрела, как тлеющий окурок исчезает в темноте. Откуда-то налетел холодный ветер; я поежилась.
— Постойте… Старая Земля, воскрешенные люди, кибриды… Какое отношение все это имеет к Высшему Разуму?
— Не знаю, Ламия. Восемь стандартных весов назад, в самом начале Первой Информационной Эры человек по имени Норберт Винер писал: «Может ли Бог соревноваться со своими творениями? Может ли вообще творец, пусть даже возможности его весьма ограничены, всерьез соревноваться со своими творениями?» Создавая первые ИскИны, человечество искало ответа на этот вопрос. А Техно-Центр с той же целью воскрешает теперь людей. И если программа ВР все-таки будет выполнена, проблема перейдет в ведение высшего творения/творца, цели которого будут столь же недоступны пониманию Центра, как и цели Центра недоступны пониманию людей.
Я прошлась по комнате, ударилась коленом о столик и остановилась.
— Все ваши рассуждения не дают ответа на главный вопрос: кто пытается вас убить, — сказала я.
— Да.
Джонни встал и двинулся к дальней стене. Вспыхнула спичка — он зажег свечу. По стенам и потолку заметались наши тени. В следующее мгновение он был уже рядом со мной, и его руки легли мне на плечи. В неярком свете свечи завитки волос и ресницы отливали медью, высокие скулы и твердый подбородок выступили еще рельефнее.
— Надо же, какая ты… крепкая, — произнес он.
Я посмотрела ему в глаза. Наши лица разделяло лишь несколько дюймов. Мы были одного роста.
— Пустите, — сказала я.
Вместо этого он поцеловал меня. Губы у него были мягкие, теплые, и они заставили меня забыть о времени. «Он машина, — твердила я себе. — У него человеческая внешность, но на самом деле это машина». Я закрыла глаза. Его пальцы коснулись моей щеки, шеи, затылка…
— Послушай… — прошептала я, когда он на мгновение отпустил меня.
Джонни не дал мне договорить. Он поднял меня на руки и понес в спальню. Высокая кровать. Мягкий матрас и толстое стеганое одеяло. Трепещущий огонек свечи в соседней комнате, и мы, торопливо раздевающие друг друга.
Мы словно сошли с ума. Повинуясь медленным, ласковым, но властным касаниям, и теплоте, и близости, и все возрастающему влечению, мы снова и снова бросались друг к другу. Помню, как я смотрела на него, а он лежал с закрытыми глазами; его волосы свободно ниспадали на лоб, пламя свечи освещало бледную грудь. А потом его руки — удивительно сильные руки — поднялись мне навстречу. Он открыл глаза и посмотрел на меня, и во взгляде его были только страсть и восторг.
Незадолго до рассвета мы заснули. Я повернулась на бок и уже засыпала, как вдруг ощутила его руку на своем бедре. В этом прикосновении было что-то покровительственное, но не унизительное, не собственническое. Он словно бы хотел защитить меня.
Они напали на нас сразу после рассвета. Их было пятеро — явно не лузиане, но мужики здоровые. Действовали они четко и слаженно.
Я проснулась, когда вышибали входную дверь. Скатившись с кровати, я бросилась к двери спальни и успела заметить, как они входят. Когда бандит, шедший первым, направил на нас станнер, Джонни предупреждающе вскрикнул. Перед сном он натянул хлопчатобумажные трусы, я же так и осталась в чем мать родила. Одежда дает в драке кое-какие преимущества, но главное — это психологический барьер. Если вам удалось преодолеть чувство собственной уязвимости, остальное уже дело техники.
Первый бандит заметил меня, но решил сначала парализовать Джонни и тут же поплатился за свою ошибку. Я выбила у него оружие, а потом рубанула ребром ладони по шее, чуть ниже левого уха. Он упал, и тут в комнату ворвались еще двое. У этих хватило сообразительности заняться первым делом мной. Тем временем двое других кинулись к Джонни.
Выпад прямыми пальцами я отбила, затем парировала куда более опасный удар ногой и отступила назад. Слева от меня оказался высокий комод. Верхний ящик у него был довольно увесистый, но выдвинулся легко. Приближавшийся ко мне здоровяк успел прикрыть лицо руками (ящик разлетелся в щепки), но эта инстинктивная реакция дала мне возможность атаковать его дружка, и я тут же ею воспользовалась, вложив всю свою силу в прямой удар ногой. Номер второй замычал и повалился на своего сообщника.
Джонни сопротивлялся изо всех сил, но один из нападавших схватил его за горло и принялся душить, а другой навалился на ноги. Отбив еще один удар, я бросилась туда и перепрыгнула через кровать. Парень, который держал Джонни за ноги, и пикнуть не успел. Выбив стекло и деревянную раму, он полетел вниз.
Кто-то прыгнул мне на спину, мы рухнули на кровать, скатились на пол, и наконец я придавила бандита к стене. Он оказался серьезным противником. Приняв удар на плечо, он извернулся, и его пальцы впились мне в шею под ухом, но сразу пережать нерв он не смог — шейные мышцы у меня что надо. Я вогнала локоть ему в живот и откатилась в сторону. Тот, что душил Джонни, отпустил его и по всем правилам боевых искусств врезал мне ногой по ребрам. Я смягчила удар, но по крайней мере одно ребро он мне сломал. Я не стала церемониться и, резко выбросив вверх руку, схватила его за яйца. Парень завопил и вырубился.
Все это время я ни на секунду не забывала про станнер, упавший на пол. Не забыл о нем и последний из наших противников. Он забежал за кровать (там я его достать не могла), встал на четвереньки и пытался нашарить оружие. Превозмогая боль от сломанного ребра, я приподняла массивную кровать (вместе с лежавшим на ней Джонни) и обрушила на своего противника, придавив ему голову и плечи.
Нырнув под кровать, я завладела станнером и отступила в свободный угол.
Итак, один вылетел в окно. Второй этаж, все в порядке. Тот, что вошел первым, валялся в дверях. Парень, которому я врезала ногой, сумел подняться на одно колено. Изо рта у него текла кровь — сломанное ребро, по-видимому, проткнуло легкое. Дышал он очень тяжело и прерывисто. У того, которого я зашибла кроватью, был раздроблен череп. А тип, душивший Джонни, скорчился у окна. Его рвало. Оглушив его из станнера, я подошла к бандиту, которого ударила ногой, и подняла его за волосы.
— Кто вас послал?
— Да пошла ты! — Он плюнул кровью мне в лицо.
— Как-нибудь в другой раз. Повторяю, кто вас послал?
Я нашла вмятину у него на боку и надавила тремя пальцами. Он вскрикнул, побелел и закашлял кровью. На фоне бледной кожи красные пятна казались какими-то слишком яркими.
— Ну! Кто? — И я надавила на ребра уже четырьмя пальцами.
— Епископ! — Он попытался отодвинуться, увернуться от моих пальцев.
— Какой епископ?
— Святилище Шрайка… Лузус… Да нельзя же так… О черт…
— Что вы собирались с ним… с нами сделать?
— Ничего… ой, ради Бога… не надо! Мне нужен врач!
— Конечно. Отвечай.
— Оглушить его, отвезти обратно в Святилище… на Лузус. Ну пожалуйста! Дышать же нечем.
— А со мной?
— Если будешь сопротивляться — убить.
— Понятно, — сказала я, поднимая его за волосы чуть выше. — Так-то лучше. Зачем он им нужен?
— Не знаю. — Он вскрикнул. Краем глаза я продолжала следить за входной дверью. Станнер был у меня в той же руке, которой я держала бандита за волосы.
— Я… не… знаю… — Он поперхнулся. Кровь капала мне на руку и на левую грудь.
— Как вы сюда попали?
— На ТМП… сверху…
— Через какой портал?
— Не знаю… клянусь… какой-то город в воде. ТМП должен вернуться туда… на автопилоте… пожалуйста!
Я разорвала на нем рубашку. Ни комлога, ни оружия. На груди над самым сердцем я заметила татуировку — синий трезубец.
— Герильер? — спросила я.
— Да… Братство Парвати.
Окраина Сети. Ищи их там потом.
— Вы все оттуда?
— Да… пожалуйста… помоги мне… о черт… будь человеком… — Он безвольно повис в моей руке.
Отпустив его, я отступила на шаг и провела по нему лучом станнера.
Джонни сидел, растирая горло, и изумленно смотрел на меня.
— Одевайся, — сказала я. — Мы улетаем.
На крыше стоял старый «Виккен-Турист» — прогулочная модель с прозрачным корпусом. Папиллярные замки на этих колымагах еще не ставили, и я без особого труда запустила двигатель. Над Францией мы пересекли терминатор, и под нами потянулась бескрайняя водная гладь — Джонни назвал ее Атлантическим океаном. Помимо света звезд темноту нарушали лишь редкие огоньки плавучих городов и буровых платформ да мерцающее в глубинах океана зарево подводных колоний.
— Почему мы сели в их машину? — спросил Джонни.
— Я хочу узнать, откуда они прибыли.
— Он же сказал — из Святилища Шрайка на Лузусе.
— Ну что ж, проверим.
Я с трудом различала в темноте лицо Джонни, смотревшего на океанскую равнину, лежащую в двадцати километрах под нами.
— Как ты думаешь, эти люди выживут?
— Один уже мертв, — сказала я. — Парню с проколотым легким нужна помощь. Двое точно оклемаются. Еще одного я выкинула в окно — про этого я ничего не знаю, А что, тебе их жалко?
— Да. Насилие — это варварство.
— «Уличная драка не может не внушать отвращения, однако энергия, проявленная ее участниками, взывает к чувству прекрасного», — процитировала я. — А они не кибриды?
— Думаю, что нет.
— Итак, за тобой охотятся по меньшей мере две группы: ИскИны и епископ Церкви Шрайка. И мы до сих пор не знаем зачем.
— Слушай, у меня идея.
Я запрокинула голову. Над нами сияли незнакомые созвездия — таких я не видела ни на голограммах Старой Земли, ни в известных мне мирах Сети. Света звезд как раз хватало, чтобы видеть глаза Джонни.
— Ну-ка!
— Ты как-то упоминала Гиперион. Так вот, это натолкнуло меня на одну мысль. Я ведь ничего о нем не знаю. Столь полное отсутствие информации говорит о том, что от меня скрывают что-то важное.
— Почему же собака в эту ночь не лаяла?
— Что-что?
— Ладно, это я так. Давай дальше.
— Так вот. Объяснение тут одно: некие элементы Техно-Центра заблокировали для меня доступ к информации о Гиперионе.
— Твой кибрид… — Было странно говорить теперь с Джонни в такой манере. — Ты ведь большую часть своего времени проводишь в Сети?
— Да.
— И что, при тебе никогда не упоминали Гиперион? О нем же то и дело говорят в новостях, особенно когда начинается очередная шумиха вокруг Церкви Шрайка.
— Возможно, я и слышал что-нибудь. Может быть, поэтому меня и убили.
Я откинулась назад и снова уставилась на звезды.
— Вот и спросим об этом епископа.
Прямо по курсу появились огни. Джонни объяснил, что это модель Нью-Йорка середины двадцать первого века. Но для какого проекта потребовалось воскрешать этот город, он не знал. Я выключила автопилот и сбавила высоту.
Из болот и лагун североамериканского побережья поднимались высокие здания той эпохи, когда в архитектуре господствовал фаллический стиль. В некоторых горели огни. Джонни указал на обветшавшее, но удивительно элегантное сооружение и пояснил:
— Эмпайр Стейт Билдинг.
— Отлично, — сказала я. — Называй эту штуку как угодно, но ТМП хочет сесть именно здесь.
— А это не опасно?
Я улыбнулась.
— А что в нашей жизни не опасно?
Я позволила машине самой выбрать место для посадки, и ТМП опустился на небольшую открытую площадку возле шпиля здания. Мы вышли на растрескавшийся от времени балкон. Было совершенно темно — лишь звезды над головой да редкие огни где-то внизу. В нескольких шагах, там, где когда-то были двери лифта, мерцал тускло-голубой прямоугольник портала.
— Я первая, — заявила я, но Джонни уже входил в портал. Я достала позаимствованный у бандитов станнер и последовала за ним.
В Святилище Шрайка на Лузусе я не была ни разу, но сразу поняла, что попала именно туда. Джонни стоял в нескольких шагах впереди меня. Кроме нас двоих, вокруг никого не было. Это темное и холодное помещение чем-то напоминало пещеру (если, конечно, бывают такие громадные пещеры). Под потолком на невидимых тросах висел устрашающего вида идол, расписанный яркими красками и медленно вращающийся от слабого сквозняка. Когда портал вдруг исчез, мы с Джонни разом обернулись.
— Кажется, мы сделали за тех парней их работу, а? — прошептала я. Казалось, в этом озаренном красным свечением зале даже шепот отзывается эхом. Собственно, тащить Джонни с собой в Святилище я не собиралась.
Свет становился все ярче, однако он не заливал равномерно все помещение, а выхватывал из темноты лишь пятачок в центре зала. Пятно света все расширялось, и наконец мы увидели людей, стоявших полукругом. Я вспомнила, что одни жрецы именуются экзорцистами, другие — причетниками. Есть еще какие-то звания, только я их забыла. Жрецов было человек двадцать, не меньше. Было что-то угрожающее в том, как они стояли, в их черно-красных одеяниях и высоких лбах, на которых отсвечивали красные блики. Епископа я узнала сразу по ярко-красной мантии. Он был лузианин (правда, большинство лузиан выше и стройнее).
Я специально не стала прятать станнер. Вдруг они кинутся на нас всем скопом? Оружия я при них не заметила, но под такой широченной рясой можно спрятать целый арсенал.
Джонни направился к епископу, и я пошла за ним следом. Шагах в десяти от него мы остановились. Все присутствующие стояли, сидел только епископ. Его деревянное кресло, украшенное искусной резьбой, по-видимому, легко складывалось и занимало в сложенном виде совсем немного места. Чего никак нельзя было сказать о восседавшей на нем груде мышц и жира.
Джонни сделал шаг вперед.
— Почему вы пытались похитить моего кибрида? — Он обращался только к епископу, как будто здесь больше никого не было.
Епископ захихикал и отрицательно покачал головой.
— Мой дорогой… существо… Мы в самом деле хотели бы видеть вас в нашем храме. Но у вас нет никаких доказательств, что мы пытались вас похитить.
— Доказательства меня не интересуют, — сказал Джонни. — Мне хочется знать, зачем я вам нужен.
Сзади послышался шорох; я резко обернулась со станнером на изготовку. Но широкий круг жрецов оставался недвижим. Да и стояли они вне зоны поражения. Я пожалела, что не захватила с собой отцовский пистолет.
Низкий и зычный голос епископа, казалось, заполнил собой все огромное пространство Святилища.
— Вам наверняка известно, что Церковь Последнего Искупления проявляет постоянный и серьезный интерес к планете Гиперион.
— Да.
— Несомненно, вам известно также и то, что за последние несколько веков центральное место в мифологии Гипериона заняла личность поэта Китса со Старой Земли.
— Да. И что же?
Епископ почесал щеку большим красным перстнем, украшавшим его палец.
— Поэтому, когда вы изъявили желание отправиться в паломничество к Шрайку, мы согласились. И были весьма огорчены, когда вы вдруг изменили свое решение.
Джонни искренне удивился.
— Я изъявил желание? Когда?
— Восемь дней назад по местному времени, — ответил епископ. — В этой самой комнате.
— А я объяснил, почему хочу отправиться в… паломничество к Шрайку?
— Вы сказали, что это «важно для вашего развития». Да-да, кажется, вы употребили именно это выражение. Если хотите, мы покажем вам запись. Все подобные разговоры в Святилище фиксируются. Мы можем даже предоставить вам копию, чтобы вы просмотрели ее на досуге.
— Спасибо, — сказал Джонни.
Епископ повелительно кивнул, и дьякон (или черт его знает, кто там он был) тут же исчез в темноте. Минуту спустя он вернулся со стандартным видеочипом в руке. Епископ снова кивнул, и человек, одетый в черное, выступил вперед и вручил чип Джонни. Пока этот парень не вернулся на место, я держала станнер наготове.
— Почему вы послали за нами герильеров? — спросила я. Это были первые слова, произнесенные мною в присутствии епископа. Мой голос прозвучал слишком громко и слишком резко.
Епископ поднял пухлую руку.
— Господин Китс выразил желание присоединиться к нашему священному паломничеству. Для нас это весьма важно, ибо мы верим, что Последнее Искупление близко. Но наши осведомители донесли, что на господина Китса готовится покушение, причем не одно, а несколько. Мало того, неким частным сыщиком — а именно вами, госпожа Ламия, — был уничтожен телохранитель кибрид, приставленный к господину Китсу Техно-Центром.
— Так это был телохранитель? — Теперь настала моя очередь удивляться.
— Конечно, — подтвердил епископ и повернулся к Джонни. — Разве господин с косой, убитый недавно на экскурсионной тропе тамплиеров, не тот самый человек, которого вы неделю назад представили мне как своего телохранителя? Он запечатлен в записи.
Джонни ничего не ответил. Казалось, он изо всех сил пытается что-то вспомнить.
— Во всяком случае, — продолжал епископ, — до конца недели мы должны узнать: отправляетесь вы в паломничество или нет. «Секвойя Семпервиренс» отбывает из Сети через девять дней.
— Но это же тамплиерский звездолет-дерево, — возразил Джонни. — Такие на Гиперион не летают.
Епископ улыбнулся.
— Этот полетит. У нас есть основания предполагать, что данное паломничество окажется последним. Потому мы зафрахтовали тамплиерский корабль, чтобы как можно больше верующих смогли совершить это путешествие. — Епископ взмахнул рукой, и двое мужчин, облаченных в красно-черные одеяния, отступили назад, в темноту. А когда он встал, двое экзорцистов тотчас выступили вперед и сложили его кресло. — Прошу вас как можно скорее сообщить нам о своем решении, — произнес епископ и удалился. Оставшийся экзорцист проводил нас к выходу.
Нуль-Т нам больше не понадобился. Выйдя из ворот Святилища, мы остановились на верхней ступени высокой лестницы, глядя вниз, на центр Улья и площадь Мэлл, и вдыхая холодный, пахнущий нефтью воздух.
Отцовский пистолет лежал там, где я его оставила, — в ящике. Я убедилась, что магазин полон, загнала его назад и отнесла оружие в кухню, где готовился завтрак. Джонни сидел у длинного стола и глядел через серые окна вниз, на погрузочную площадку. Я принесла омлет и поставила перед ним. Когда я принялась наливать кофе, он поднял голову.
— Ты ему поверил? — спросила я. — В смысле, что ты сам захотел?
— Ты же видела видеозапись.
— Запись можно подделать.
— Да. Но эта — подлинная.
— Тогда почему ты вызвался участвовать в паломничестве? И почему твой телохранитель пытался убить тебя после того, как ты поговорил с епископом Церкви Шрайка и капитаном-тамплиером?
Джонни попробовал омлет, одобрительно кивнул и подцепил на вилку еще кусок.
— Телохранитель совершенно незнаком мне. Должно быть, его приставили как раз в ту неделю, память о которой я потерял. Его задача, очевидно, сводилась к тому, чтобы следить, не обнаружил ли я чего-то важного. А если обнаружу — устранить.
— И где же находится это «что-то важное»? В Сети? Или в киберпространстве?
— Думаю, в Сети.
— Нам необходимо узнать, на кого он… оно работало и почему его приставили к тебе.
— А я знаю, — сказал Джонни. — Я просто спросил. Техно-Центр ответил, что я сам затребовал телохранителя. Этот кибрид управлялся структурами Техно-Центра, которым у вас соответствуют полиция и служба безопасности.
— Тогда спроси, зачем он пытался убить тебя.
— Я спрашивал. Они упорно стоят на том, что подобное невозможно.
— Тогда почему этот так называемый телохранитель крался за тобой неделю спустя после убийства?
— Они заявили, что, поскольку я не обратился в службу охраны после того, как… вышел из строя, органы управления Техно-Центра сами сочли необходимым обеспечить мне защиту.
Я рассмеялась:
— Тоже мне защита! И почему он кинулся бежать, когда я его выследила? Ну, там, у тамплиеров? Джонни, они даже не пытаются выдумать правдоподобную версию.
— Да, действительно.
— А епископ? Он ведь тоже не объяснил, откуда у Церкви Шрайка нуль-канал на Старую Землю… или как вы там называете этот ваш искусственный мир.
— Но мы ведь не спрашивали.
— Да, не спрашивали. Потому что хотели выбраться живыми из этого чертова Святилища.
Джонни, казалось, не слышал меня. Он прихлебывал кофе и глядел куда-то мимо.
— Что с тобой? — спросила я.
Он щелкнул пальцем по губе и посмотрел на меня:
— Ламия, здесь какой-то парадокс.
— Какой?
— Если бы я действительно хотел отправиться на Гиперион… то есть отправить туда своего кибрида, я должен был уйти из Техно-Центра и весь свой интеллект, все сознание передать кибриду.
— Почему? — спросила я. И тут же поняла, в чем дело.
— Сама подумай. Киберпространство — это абстракция. Наложение информационных структур, порождаемых ИскИнами и компьютерами, на Гибсоновские матрицы, которые исходно предназначались для того, чтобы оператор-человек мог этими структурами управлять. Или, если угодно, форма сосуществования человека, машины и ИскИна.
— Но ваша аппаратура — она же должна где-то находиться, — возразила я.
— Да, но к «личности» ИскИна это не имеет никакого отношения, — сказал Джонни. — Я могу «быть» где угодно, в любой из взаимно перекрывающихся инфосфер. Мне доступны все миры Сети, киберпространство и, конечно же, все конструкты Техно-Центра. Старая Земля, например. Но только находясь в этой среде, я могу претендовать на «сознание» или управлять периферическими устройствами… вот этим кибридом, например.
Я поставила кофейную чашку на стол и посмотрела на устройство, которое не далее чем прошлой ночью делило со мной постель.
— Да?
— А в колониальных мирах инфосферы бедные, — продолжал Джонни. — Контакт с Техно-Центром поддерживается только по мультилинии, а возможности у нее примерно такие же, как у компьютерных интерфейсов Первой Информационной Эры. В общем, «поток сознания» по ней не передашь. Что же касается собственно Гипериона, тамошняя инфосфера существует разве что в зачаточном состоянии. Да и вообще Техно-Центр, насколько мне известно, не поддерживает никаких контактов с этим миром.
— Вы что, вообще не стремитесь контактировать с удаленными колониальными мирами?
— Нет, почему же. Техно-Центр поддерживает связь с большинством колоний, с космическими варварами — Бродягами, например, — и с другими источниками, о которых Гегемония вообще не имеет представления.
— С Бродягами?!
Это признание меня просто ошеломило. После битвы за Брешию Бродяги превратились в главное пугало Сети. Сама мысль о том, что Техно-Центр, эта конгрегация ИскИнов, которая консультирует Сенат и Альтинг, обеспечивает работу нашей экономики, нуль-сети — по сути, всей нашей технической цивилизации… сама мысль, что Техно-Центр поддерживает отношения с Бродягами, наводила жуть. И что это за «другие источники»? Впрочем, какое мое дело?..
— Но ты же говорил, что туда может отправиться твой кибрид, — сказала я. — А ты «передашь» ему свое сознание. Что ты имел в виду? Что ИскИн может стать… человеком? Ты действительно можешь существовать только в твоем кибриде?
— Однажды это уже сделали, — тихо ответил Джонни. — Воскресили одного субъекта вроде меня. Эзру Паунда, поэта двадцатого века. Он покинул свой ИскИн и бежал из Сети в кибриде. Но этот Паунд был безумен.
— А может быть, разумен?
— Может быть.
— Значит, вся информация и личность ИскИна могут сохраниться в органическом мозгу кибрида?
— Конечно, нет, Ламия. Переход сотрет почти все. Не останется и одной десятитысячной части. Органический мозг не может обработать даже самую примитивную информацию так, как умеем мы. Личность, которая получится в результате такой… пересадки, не будет ни личностью ИскИна, ни кибридом, ни человеком в подлинном смысле…
Джонни вдруг осекся, отвернулся и уставился в окно.
С минуту мы молчали. Потом я протянула руку, но не прикоснулась к нему, а только спросила:
— В чем дело?
Не оборачиваясь, он продолжил вполголоса:
— Быть может, я ошибаюсь. Быть может, удастся получить личность вполне человеческую… или почти человеческую, над-человеческую, если угодно… Личность, несущую в себе элементы пророческого безумия. Если очистить ее от воспоминаний о нашей эпохе, о Техно-Центре… Вдруг она воспроизведет свой прообраз?
— То есть Джона Китса?
Джонни отвернулся от окна и закрыл глаза. Он был так взволнован, что голос его стал хриплым. В первый раз я слышала, как он читает стихи:
Фанатик видит сон и в грезы эти Товарищей зовет; и дикарю Во сне является прообраз Его небес. Как жаль, что не дано им Перенести на лист зеленый иль пергамент Напева нежного хоть слабое подобье, Но лавры не венчают их чело… Поэзии одной дана такая власть: Спасти прекрасной вязью слов Воображение от тьмы И мрачного забвенья. Кто сказать посмеет: «Ты не Поэт — замкни уста!» Ведь каждый, кто душой не очерствел, Поведал бы видения свои, когда б любил И искушен был в речи материнской. А видел этот сон Фанатик иль Поэт, О том узнают, когда писец живой — моя рука — Могильным станет прахом.[38]— Ничего не понимаю, — пробормотала я. — Что это значит?
— Это значит, — и Джонни весело улыбнулся, — что теперь я знаю, какое решение принял и почему. Я хочу перестать быть кибридом. Я хочу стать человеком. И отправиться на Гиперион. Все еще хочу.
— И за это решение неделю тому назад тебя кто-то убил, — сказала я.
— Да.
— И ты хочешь попытаться снова?
— Да.
— А почему ты не можешь передать свое сознание кибриду прямо здесь, в Сети?
— Видишь ли, — пояснил он, — для тебя Сеть — это межзвездное сообщество миров, населенных людьми. Но в действительности она лишь малая часть матрицы реальности Техно-Центра. Оставшись в Сети, я постоянно сталкивался бы с ИскИнами и был бы в полной их власти. Личность Китса, его психическая реальность, неизбежно была бы разрушена.
— Действительно, — согласилась я, — тебе надо выбираться из Сети. Но есть ведь другие колонии. Почему именно Гиперион?
Джонни взял меня за руку своими длинными, теплыми, сильными пальцами.
— Неужели ты не понимаешь? Между мной и Гиперионом существует странная связь. Быть может, приснившийся Китсу «Гиперион» каким-то образом связал сквозь бездну времен тогдашнюю личность поэта с нынешним ее воплощением. А кроме того, Гиперион — величайшая загадка нашего века, ключевая научная проблема. И не только научная — есть в нем некая поэтическая тайна. И вполне вероятно, что я… или он… родился, умер и снова родился, чтобы раскрыть эту тайну.
— По мне, так это полнейший бред, — сказала я. — Мания величия.
— Почти наверняка, — рассмеялся Джонни. — Но я никогда не чувствовал себя таким счастливым. — Он схватил меня за плечи, рывком поднял на ноги и обнял. — Ты полетишь со мной, Ламия? Полетишь на Гиперион?
Я аж заморгала от удивления. Но не меньше удивил меня мой собственный ответ:
— Конечно!
Мы пошли в спальню и весь остаток дня не могли оторваться друг от друга. В конце концов мы заснули. А когда проснулись, снаружи, из промышленной траншеи, лился тусклый свет. Была уже третья смена. Джонни лежал на спине, его светло-карие глаза были открыты. Он смотрел в потолок и, казалось, был целиком погружен в свои мысли. Но нет, он улыбнулся и обнял меня. А я прижалась к нему, уткнулась щекой в маленькую впадинку под ключицей и снова заснула.
На другой день мы с Джонни отправились на ТКЦ. Я надела все самое лучшее — черный джинс-костюм, шелковую блузку с Возрождения (воротник у нее застегивался карвнельским гелиотропом) и треуголку с загнутыми краями а-ля Эвелин Бре. Джонни я оставила в баре, отделанном деревом и латунью, неподалеку от центрального терминекса. Но прежде чем проститься, я вручила ему бумажный пакет с отцовским пистолетом и велела стрелять в каждого, кто косо на него посмотрит.
— До чего все-таки изысканна новоанглийская речь, — заметил он.
— Эта фраза стара, как Сеть, — сказала я. — Смотри не зевай. — Я пожала ему руку и ушла не оглядываясь.
Флайер-кэб доставил меня прямо к Административному комплексу. Я миновала штук девять постов службы безопасности и оказалась на территории Центра, в Оленьем парке. Любуясь зданиями, белевшими на вершине холма, и плавающими в пруду лебедями, я незаметно отшагала полкилометра. Потом еще девять проверок, и наконец женщина-охранница провела меня по вымощенной каменными плитами тропинке к Дому Правительства — невысокому изящному зданию, расположенному среди цветников и декоративных холмиков. Приемная была обставлена с большим вкусом — настоящая мебель работы де Коонинга (до Хиджры!), — но едва я успела присесть, как появился чиновник и пригласил меня в кабинет Секретаря Сената.
Мейна Гладстон вышла из-за стола, пожала мне руку и пригласила сесть. Все эти годы я видела ее только по тривидению и сейчас чувствовала себя немного не в своей тарелке. Наяву она была еще внушительнее: коротко подстриженные седые волосы сзади разлетались серебристыми волнами, скулы и волевой подбородок — точь-в-точь как у Линкольна (на этом неизменно настаивали ученые мужи, склонные к историческим параллелям). Но самой примечательной деталью ее внешности были большие карие глаза. Их печальный взгляд сразу обнаруживал незаурядность этой женщины.
У меня вдруг пересохло во рту.
— Благодарю вас, госпожа Секретарь, что согласились принять меня. Я знаю, как вы заняты.
— Я всегда выкрою время, чтобы встретиться с тобой, Ламия. Как выкраивал его твой отец, чтобы встретиться со мной, когда я была младшим сенатором.
Я кивнула. Отец однажды сказал, что Мейна Гладстон — единственный по-настоящему гениальный политик во всей Гегемонии. Ее политическая карьера началась довольно поздно, но он был уверен, что это не помешает ей стать Секретарем Сената. Жаль, что папа не дожил до этого времени.
— Как поживает твоя матушка?
— С нею все в порядке. Она редко покидает наш летний дом на Фрихольме, но я вижусь с ней каждое Рождество.
Мейна Гладстон кивнула. До этого она сидела в непринужденной позе на краю массивного письменного стола, который, как писали в газетах, некогда принадлежал убитому президенту США — но не Линкольну, а какому-то другому. Улыбнувшись, она легко соскочила на пол и снова села за стол.
— Мне недостает твоего отца, Ламия. Как бы мне хотелось, чтобы он входил в состав нынешнего правительства! Ты шла мимо пруда?
— Да.
— А помнишь, как ты и моя Кристин, две малышки, пускали там игрушечные кораблики?
— Очень плохо, госпожа Секретарь. Это было так давно.
Мейна Гладстон улыбнулась. Загудел интерком, но она отключила его.
— Ну, Ламия, чем могу быть полезна?
Я перевела дыхание.
— Госпожа Секретарь, вам, должно быть, известно, что я работаю независимым частным детективом. — Я не стала ждать ее ответа и продолжила: — Дело, которым я сейчас занимаюсь, заставило меня вернуться к самоубийству отца…
— Ламия, ты же знаешь, оно было расследовано самым тщательным образом. Я сама читала отчет комиссии.
— Знаю, — сказала я. — Мне его тоже показали. Но недавно я услышала довольно странные вещи, касающиеся Техно-Центра и его интереса к Гипериону. Разве вы с отцом не работали над законопроектом о включении Гипериона в состав Гегемонии на правах протектората?
Гладстон утвердительно кивнула.
— Да, но в том году рассматривали еще десяток кандидатов. И ни одна колония не была принята в состав Гегемонии.
— Верно. Но ведь Техно-Центр и Консультативный Совет ИскИнов проявляли к Гипериону особый интерес?
Секретарь Сената постучала стилом по нижней губе.
— Ламия, какого рода информацией ты располагаешь?
Я начала было отвечать, но она остановила меня и включила интерактивку:
— Томас, я выйду на несколько минут. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы торговую делегацию Седьмой Дракона чем-нибудь заняли, если я немного задержусь.
Никакого кода она не набирала — я по крайней мере не заметила, — но внезапно у дальней стены с жужжанием возник сине-золотой портал. Жестом она пригласила меня вперед.
Во все стороны уходила бескрайняя равнина, поросшая высокой золотистой травой. Она тянулась до самого горизонта — чересчур далеко, как мне показалось. На бледно-желтом небе сверкали полосы цвета начищенной меди — вероятно, облака. Куда это я попала?
Мейна Гладстон вышла из портала и коснулась комлога на рукаве. Портал исчез. Налетевший теплый ветер окатил нас волной пряных ароматов.
— Прошу извинить меня за некоторые неудобства. — Гладстон снова коснулась рукава, посмотрела на небо и кивнула. — Здесь, на Кастроп-Рокселе, нет ни инфосферы, ни спутников связи. А теперь, пожалуйста, продолжай. Что за информация к тебе попала?
— Да, в сущности, ничего особенного. — Я оглядела пустынную степь. — Не стоило из-за этой ерунды принимать такие меры безопасности. Я узнала всего-навсего, что Техно-Центр проявляет исключительный интерес к Гипериону и создал нечто вроде модели Старой Земли… целый мир!
Я была готова к любой реакции, но только не к такой. Гладстон небрежно кивнула и произнесла:
— Да. Нам известно о модели Старой Земли.
Теперь удивилась я сама:
— Так почему же об этом не объявили? Если Центр может воссоздать Старую Землю, сколько людей заинтересовалось бы этим проектом!
Гладстон двинулась вперед, и я пошла за ней, еле поспевая за ее широкими шагами.
— Видишь ли, Ламия, не в интересах Гегемонии афишировать это событие. Наши лучшие умы теряются в догадках, зачем Центру эта штука. Так что лучшая политика сейчас — выжидать. Ну а что ты выяснила о Гиперионе?
Хотя Мейну Гладстон я знала с детства, у меня не было уверенности, что ей можно доверять. Но одно я знала твердо: чтобы получить информацию, надо что-то дать взамен.
— Они воскресили одного поэта со Старой Земли, — сказала я, — и упорно скрывают от него всякую информацию о Гиперионе.
Гладстон сорвала длинную травинку и принялась ее покусывать.
— Знаю. Кибрид Джона Китса.
— Да. — На сей раз я постаралась скрыть удивление. — Насколько я помню, отец добивался для Гипериона статуса протектората. Если это шло вразрез с интересами Центра, они могли… могли инсценировать…
— Его самоубийство?
— Да.
Ветер гнал волны по золотистой траве. Что-то очень маленькое прошмыгнуло у наших ног.
— Это вполне возможно. Но у нас нет никаких доказательств. Так что же собирается предпринять этот кибрид?
— Сначала скажите мне, чем вызван интерес Центра к Гипериону.
Мейна Гладстон развела руками.
— Если бы мы это знали, Ламия, я бы спала куда спокойнее. Техно-Центр, насколько нам известно, одержим Гиперионом уже несколько веков. Когда Секретарь Сената Евшиньский разрешил королю Билли с Асквита реколонизировать планету, ИскИны едва не порвали с нами. А когда совсем недавно мы установили там передатчик мультилинии, это привело к аналогичному кризису.
— Но ИскИны все-таки остались в Сети.
— Да, Ламия. Похоже, по каким-то неясным для нас причинам, мы нужны им не меньше, чем они нам.
— Но если их так интересует Гиперион, почему они не хотят, чтобы он вошел в Сеть? Тогда они сами смогут его посещать.
Мейна Гладстон пригладила волосы. Над нами фантастическим потоком струились бронзовые облака.
— Они непреклонны в своем нежелании видеть Гиперион в составе Сети, — сказала она. — Интересный парадокс. Так что собирается предпринять твой кибрид?
— Сначала скажите мне, почему Центр так одержим Гиперионом.
— Ну, точно мы не знаем…
— И никаких догадок?
Секретарь Сената вынула травинку изо рта и принялась внимательно рассматривать ее.
— Мы считаем, что Центр приступил к осуществлению поистине невероятного проекта, который позволит ему прогнозировать… все. Обрабатывать все переменные пространства, времени и истории как единый квант информации.
— Проект Высшего Разума. — Я понимала, что рискую, но было уже поздно.
На этот раз Гладстон изумилась:
— Откуда ты об этом знаешь?
Я ответила вопросом на вопрос:
— Что общего у этого проекта с Гиперионом?
Гладстон вздохнула.
— Ламия, мы ничего точно не знаем. Но нам известно, что на Гиперионе существует аномалия, которую они в своих прогнозах учесть не смогли. Ты слышала о так называемых Гробницах Времени, которые Церковь Шрайка считает священными?
— Конечно. Одно время туда пускали туристов.
— Да. Но несколько десятилетий назад с одним исследователем произошел несчастный случай. Кстати, тогда и установили, что антиэнтропийные поля вокруг Гробниц — не просто защита от эрозии, как думали раньше…
— А что же?
— Остатки поля… или силы… которая движет Гробницы и их содержимое назад во времени — из отдаленного будущего в прошлое.
— Содержимое? Но ведь Гробницы пусты. И были пусты с самого начала.
— Пока пусты, — возразила Мейна Гладстон. — Но некоторые обстоятельства указывают на то, что они были заполнены… вернее, будут заполнены… когда откроются. И ждать осталось недолго.
Я уставилась на нее:
— Сколько же?
Темные глаза глядели по-прежнему мягко, но по тому, как она покачала головой, я поняла, что больше ничего не узнаю.
— Я и так наговорила больше, чем следовало. Кстати, разглашать все эти сведения я запрещаю. Если потребуется, мы обеспечим твое молчание любой ценой.
Пытаясь скрыть смущение, я тоже сорвала травинку и стала жевать ее.
— Хорошо, — сказала я. — Но что может оказаться в Гробницах? Пришельцы из иных миров? Бомбы? Послание из будущего?
Гладстон вымученно улыбнулась.
— Если бы мы это знали, Ламия, то смогли бы опередить Центр. Но мы не знаем. — Улыбка исчезла с ее лица. — Одна из гипотез утверждает, что Гробницы связаны с какой-то будущей войной. Некий грядущий конфликт будет улажен через изменение прошлого.
— Какая война? С кем?
Она снова развела руками.
— Пора возвращаться, Ламия. Скажи мне теперь, пожалуйста, что собирается предпринять кибрид Китса?
Я опустила глаза, а подняв их, встретила пристальный взгляд Мейны Гладстон. Я никому не доверяла, но Техно-Центру и Церкви Шрайка планы Джонни известны. А коль скоро игру ведут три стороны и не понять, кто из них друг, лучше, чтобы все знали всё.
— Он хочет передать свое сознание кибриду, — сказала я, испытывая неловкость. — Он хочет стать человеком и отправиться на Гиперион. Я лечу с ним.
Мейна Гладстон — эта женщина, председательствующая в Сенате и Альтинге, глава правительства, вершащего судьбами двухсот миров и миллиардов людей, — посмотрела на меня долгим пристальным взглядом. Затем спросила:
— Он намерен отправиться с паломниками на корабле тамплиеров?
— Да.
— Ничего не получится.
— В каком смысле?
— В прямом. Кораблю «Секвойя Семпервиренс» запрещено покидать пределы Гегемонии. Паломничества не будет, если только Сенат не решит, что оно в наших интересах. — В ее голосе слышался металл.
— Тогда мы с Джонни отправимся на спин-звездолете, — заявила я. — Зачем нам связываться с паломниками? Только время зря тратить.
— Тоже не выйдет. Некоторое время на Гиперион не будут летать даже обычные гражданские корабли.
Слово «гражданские» кольнуло меня.
— Война?
Мейна Гладстон плотно сжала губы и утвердительно кивнула:
— Очень скоро. Большинство спин-звездолетов просто не успеет долететь.
— Значит, война… а с кем? С Бродягами?
— Сначала с ними. Но в сущности, это лишь силовое решение спорных вопросов между нами и Техно-Центром. Либо мы включим Гиперион в состав Сети и прикроем его своими ВКС, либо он попадет под власть расы, которая на дух не переносит ИскИны и Техно-Центр.
Я сразу вспомнила реплику Джонни, что Техно-Центр поддерживает отношения с Бродягами, но на сей раз прикусила язык.
— Силовое решение? Чудесно. Но кто надоумил Бродяг напасть?
Гладстон посмотрела на меня. И если в тот момент она действительно походила на Линкольна со Старой Земли, значит, этот самый Линкольн был упрям как осел.
— Нам пора, Ламия. Надеюсь, ты понимаешь, насколько важно держать всю эту информацию в тайне?
— Я прекрасно понимаю, что вы не стали бы сообщать мне ничего без особых на то причин, — сказала я. — Не знаю, кому вы хотите подбросить эту информацию, но одно мне ясно: я не доверенное лицо, а, скорее, курьер.
— Ламия, не следует недооценивать нашу решимость сохранить все в тайне.
Я рассмеялась.
— Госпожа, разве я могу недооценить вашу решимость в чем бы то ни было?
Мейна Гладстон жестом пригласила меня пройти в портал.
— Я придумал, как нам узнать о замыслах Техно-Центра, — сказал Джонни. (Мы арендовали глиссер и плыли вдвоем по Безбрежному Морю.) — Но это опасно.
— Охотно верю.
— Я серьезно. Рисковать так можно лишь в крайнем случае, если нам нужно любой ценой понять, почему Техно-Центр боится Гипериона.
— Угу.
— Тогда нам потребуется оператор. Человек, который великолепно ориентируется в киберпространстве. Умный и хитрый, но не слишком — иначе он просто не станет с нами связываться. И наконец, это должен быть человек, готовый на риск и умеющий держать язык за зубами. А то знаю я этих хакеров…
Я улыбнулась.
— У меня такой человек есть.
ВВ жил в дешевой квартире в цоколе дешевой башни в дешевом районе ТКЦ. Но среди приборов, заполнявших почти целиком его четырехкомнатное жилище, дешевых не было. Последние десять лет он тратил большую часть заработка на всевозможные кибернетические игрушки.
Я сразу заявила, что мы предлагаем ему сделать нечто противозаконное. ВВ ответил, что состоит на государственной службе, а потому даже обсуждать такие вещи отказывается, и сразу же спросил, что надо сделать. Джонни начал объяснять. ВВ подался вперед, глаза его заблестели. Этот характерный блеск, я помнила еще по колледжу. Я уже начала опасаться, что он прямо при мне вскроет Джонни, чтобы узнать, как устроен кибрид. А когда Джонни дошел до самой интересной части своего повествования, блеск в глазах ВВ превратился в какое-то зеленоватое свечение.
— Когда я уничтожу свой ИскИн, — говорил Джонни, — мое сознание переместится в кибрида. Но на эти несколько наносекунд рухнет моя секция защитного периметра Центра. Сторожевые фаги тут же рванутся в прорыв. И пока они не успели его заблокировать, мы должны успеть…
— Вход в Центр, — прошептал ВВ. Его глаза сияли, как древний видеомонитор.
— Это очень опасно, — подчеркнул Джонни. — Насколько мне известно, ни один оператор-человек не преодолевал еще периферию Техно-Центра.
ВВ потер верхнюю губу.
— Есть легенда про ковбоя Гибсона,[39] — пробормотал он. — Еще до того, как Техно-Центр отделился. Ему, говорят, это удалось. Теперь в его подвиги никто не верит. А сам ковбой куда-то подевался.
— Даже если мы прорвемся, — продолжал Джонни, — времени будет в обрез. Правда, у меня есть координаты данных.
— Кибенематика! — прошептал ВВ. Он обернулся к пульту и протянул руку за шунтом: — Ну, за дело.
— Прямо сейчас? — опешила я. Джонни тоже слегка растерялся.
— А чего ждать? — ВВ уже вставил себе в голову шунт, подключил метакортикальный процессор, но клавиатуру пока не трогал. — Так поехали или что?
Я подошла к Джонни, села рядом с ним на диван и взяла его за руку. Рука была холодная, а лицо не выражало ничего. Но я представляла, что он должен испытывать сейчас — перед надвигающимся уничтожением своей личности и предшествующего существования. Даже если переход пройдет благополучно, человек с личностью Джона Китса уже не будет прежним «Джонни».
— Он прав, — согласился Джонни. — Зачем ждать?
— Хорошо, — сказала я и поцеловала его. — Я пойду с ВВ.
— Нет! — Джонни сжал мою руку. — Помочь ты все равно не сможешь, а опасность огромная.
И тут я услышала свой собственный голос. Он звучал так же непримиримо, как голос Мейны Гладстон:
— Возможно. Но это я уговорила ВВ. А раз так, я не вправе его бросать. И я не оставлю тебя одного. — В последний раз сжав его руку, я села радом с ВВ у пульта: — Ну, ВВ, подключай меня к своей хреновине.
Все вы, конечно, читали о хакерах. Вы слышали об устрашающей красоте киберпространства, о магистралях, рассекающих трехмерные пейзажи из черного льда, о защитных периметрах, сияющих, как неоновые рекламы, о странных аттракторах, о мерцающих небоскребах файлов… и над всем этим, как грозовые тучи, парят ИскИны. ВВ вошел в киберпространство через свой личный канал, а я путешествовала, так сказать, у него на закорках и смотрела по сторонам. В этом мире все было слишком. Слишком сильно. Слишком страшно. Я слышала грозные проклятия огромных сторожевых фагов. А дыхание червеобразных антивирусов даже сквозь ледяной экран воняло смертью. Я чувствовала тяжесть гнева нависших над нами ИскИнов. Мы были как насекомые под ногами слонов. А ведь пока ничего особенного не произошло. Мы прокатились по разрешенной дорожке и через зарегистрированное окно получили доступ к какой-то штуке, которую ВВ придумал давным-давно. Собственно говоря, это было нечто вроде домашнего задания, которое он делал для своего Статистического Управления.
На мне были провода с присосками, так что я видела все как на черно-белом телевизоре, да и то нечетко, а Джонни и ВВ получали голографическую фантопликацию в полном объеме.
Как они это выдерживали — не представляю.
— Порядок, — прошептал ВВ (в киберпространстве, оказывается, тоже можно говорить шепотом). — Мы прибыли.
— Куда?
Я видела только бесконечный лабиринт ярких огней и еще более ярких теней — словно десятки тысяч городов, разбросанных в четырех измерениях.
— Периферия Центра, — прошептал ВВ. — Держись. Сейчас начнется.
«Держись». А как? В этом мире у меня даже рук не было. Но я сосредоточилась на волнообразных тенях наших отображений и держалась, как могла.
И тогда Джонни умер.
Однажды мне довелось увидеть настоящий ядерный взрыв. Когда отец стал сенатором, он взял нас с мамой на показательные маневры Олимпийской Офицерской Школы. В заключение гостевую кабину перенесли на какой-то захолустный мир — Армагаст, кажется, и там взвод разведки наземных частей ВКС выпустил по условному противнику тактическую ядерную ракету. Взорвалась она в девяти километрах от нас. Гостевая кабина была экранирована поляризующим защитным полем десятого класса. Боеголовка — всего на пятьдесят килотонн. Но я никогда не забуду этого взрыва. Ударная волна обрушилась на кабину, и восьмидесятитонная громадина закачалась, как листок на ветру. А световая вспышка была так сильна, что поляризовала защитное поле до полуночной темноты, но из глаз все равно брызнули слезы.
Здесь было страшнее.
Казалось, целый кусок киберпространства вспыхнул и взорвался, а все, что в нем было, унесло в какую-то черную трубу.
— Держись! — Крик ВВ заглушил даже треск разрядов, которые скрежетом отдавались у меня в костях. А потом некое подобие смерча подхватило нас и стало засасывать в вакуум. Мы кувыркались в этом потоке, словно букашки в водовороте.
И тут сквозь этот безумный шквал на нас ринулись черные бронированные фаги. От одного ВВ увернулся, другому перестроил мембраны, и тот сожрал самого себя. Но нас продолжало затягивать нечто холодное и черное — холоднее и чернее любой бездны, какую только способен вообразить человек.
— Вот она! — крикнул ВВ. Голос его был почти не слышен в ураганном реве рвущейся инфосферы.
Что он имел в виду? Но я уже увидела ее — тонкую желтую ленту, извивавшуюся в завихрениях пространства, как знамя на ветру. ВВ «вырулил» на эту дорогу, отыскал нашу несущую волну, подобрал координаты (они плясали и носились вокруг нас с такой невообразимой скоростью, что я их и разобрать не могла), и мы рванули вперед по желтой полосе…
Застывшие фонтаны фейерверков. Прозрачные горные хребты данных. Гигантские ледники долговременной памяти. Нервные узлы входов, разбегающиеся, как трещины по стеклу. Пузыри квазичувствительных внутренних процессов, нависшие над головой, словно грозовые тучи. Сияющие пирамиды первичных источников, огражденные озерами черного льда и армадами пульсирующих черных фагов.
— Черт побери, — прошептала я ошеломленно.
Желтая полоса устремилась вниз, внутрь, насквозь. На меня навалилась громадная тяжесть — мы подключились.
— Есть! — закричал ВВ. И тут раздался звук, который перекрыл поглотивший и растворивший нас в себе грохочущий мальстрем. Это был не гудок и не вой сирены, а какая-то жуткая квинтэссенция предупреждения и угрозы…
Но мы уже уходили. Сквозь сверкающий хаос я разглядела неясную серую стену и каким-то непостижимым образом поняла, что это и есть периферия. В стене все еще зияла пробоина, но с каждым мгновением она сокращалась — так высыхает мокрое пятно на ткани. Мы выбирались наружу.
Слишком медленно.
Фаги атаковали нас с пяти сторон. За те двенадцать лет, что я работаю сыщиком, в меня один раз стреляли. Дважды пыряли ножом. Неоднократно ломали ребра. То, что происходило сейчас, стоило всех этих прелестей, вместе взятых. ВВ не снижал скорости, отбиваясь на ходу.
Мне оставалось лишь кричать. Я чувствовала, как холодные когти вцепились в нас и тянут вниз, обратно, в хаос яростного света и шума. То ли ВВ пользовался какой-то особой программой, то ли знал некую колдовскую формулу, но пока что ему удавалось отбиваться. Однако силы его были на исходе. Удары противника все чаще достигали цели, хотя доставалось не мне — их принимал на себя ВВ, точнее, его матричный аналог.
Мы тонули. Какие-то неодолимые силы тянули нас назад. И вдруг я ощутила присутствие Джонни — словно большая, сильная рука ухватила нас, подняла и пронесла сквозь стену периферии. А долю секунды спустя пятно сжалось в точку, перерезав дорогу, по которой мы уходили в реальный мир. Защитное поле клацнуло у нас за спиной, будто стальные челюсти.
Мы неслись по каналам связи, обгоняя киберпространственных курьеров и других аналогов людей-операторов — так ТМП пролетает мимо запряженных волами повозок. У ворот в Медленное Время как всегда толпились возвращавшиеся аналоги, и мы помчались сквозь эту толчею немыслимыми четырехмерными прыжками.
Я почувствовала приступ тошноты, неизбежный при выходе в реальный мир. Свет обжег мне сетчатку. Это был настоящий свет. А потом нахлынула боль. Я повалилась на пульт и застонала.
— Пошли, Ламия. — Это был Джонни или кто-то очень похожий на Джонни. Он помог мне встать и повел к двери.
— ВВ! — вырвалось у меня.
— Нет.
Превозмогая боль, я на мгновение разлепила веки и сразу все поняла. ВВ Сурбринер распластался на пульте. Шляпа свалилась и откатилась в сторону. Голова ВВ лопнула, забрызгав консоль серым и красным. Из открытого рта текла густая белая пена, а глаза словно бы расплавились.
Джонни подхватил меня, не дав упасть:
— Мы должны уходить, — прошептал он. — Они могут явиться в любую секунду.
Я закрыла глаза и позволила ему увести меня.
Меня разбудил тусклый красноватый свет и звук капающей воды. Воняло помойкой, плесенью и озоном — очевидно, рядом проходили открытые волоконно-оптические кабели. Я приоткрыла один глаз.
Мы находились в низком помещении, больше похожем на пещеру, чем на комнату. С растрескавшегося потолка свисали кабели. На покрытом слизью кафельном полу стояли лужи. Красноватый свет шел откуда-то снаружи — по-видимому, из технической шахты или автотуннеля. Я тихо застонала. Джонни был рядом. Он поднялся с импровизированного ложа, которое соорудил из одеял, и направился ко мне. На лице у него я заметила по крайней мере одну свежую царапину, и все оно было перемазано чем-то черным — то ли смазкой, то ли просто грязью.
— Где мы?
Он погладил меня по щеке, а другой рукой обнял за плечи и помог сесть. Эта конура закачалась у меня перед глазами, и я с трудом подавила позыв к рвоте. Джонни подал мне пластмассовый стаканчик и помог напиться.
— Улей Дрегс, — сказал он.
Хотя я и не совсем пришла в себя, но сразу все поняла. Дрегс — это, пожалуй, самая глубокая яма на Лузусе, ничейная территория. В здешних норах и туннелях нелегально проживает чуть ли не половина всей швали Гегемонии. Именно здесь, в Дрегсе, меня несколько лет назад подстрелили. С тех пор мой левый бок украшает широкий шрам от лазерного ожога.
Я вернула стаканчик Джонни и попросила еще воды. Он направился к стоявшему в углу стальному термосу, а я полезла в карман и запаниковала — отцовского пистолета не было на месте! Потом я разглядела, что пистолет торчит у Джонни за поясом, тут же успокоилась и с жадностью осушила второй стакан.
— Что с ВВ? — спросила я в отчаянной надежде, что случившееся — лишь ужасная галлюцинация.
Джонни молча покачал головой.
— Такой защиты никто не ожидал. ВВ блестяще преодолел периферию, но оказался бессилен перед омега-фагами Техно-Центра. Эхо сражения слышала чуть ли не половина операторов. ВВ уже сейчас — легенда.
— Обалдеть! — Я неудержимо расхохоталась, и смех мой был подозрительно похож на плач. — Легенда! ВВ погиб — понимаешь ты это или нет? Из-за какой-то ерунды!
Джонни крепко обнял меня.
— Нет, Ламия, не из-за ерунды. Он осуществил захват. И успел передать эти данные мне.
Я сумела сесть прямо и посмотрела на Джонни. Внешне он казался прежним — те же кроткие глаза, те же волосы, тот же голос. Но что-то неуловимо изменилось, стало другим, более глубоким. Более… человеческим?
— Ты… ты превратился…
— В человека? — Джон Китс улыбнулся мне. — Да, Ламия. Или стал настолько близок к человеку, насколько это вообще возможно для существа, рожденного в Техно-Центре.
— Но ты помнишь меня, ВВ — все, что случилось?
— Да. И еще помню, как впервые прочел Гомера в переводе Чапмена. И глаза моего брата Тома, когда по ночам он исходил кровью. И голос Северна, когда он утешал меня, а я был слишком слаб, чтобы посмотреть в глаза судьбе. И нашу ночь на Пьяцца ди Спанья, когда я коснулся твоих губ и вообразил, что целую Фанни. Я все помню, Ламия.
В первую секунду я испытала растерянность, потом боль… Но вот он коснулся ладонью моей щеки, он прикоснулся ко мне, и я поняла: для него нет никого, кроме меня. Я закрыла глаза.
— Почему мы здесь? — прошептала я, уткнувшись в его рубашку.
— Я не рискнул воспользоваться нуль-Т еще раз. Техно-Центр сразу выследил бы нас. Сначала я хотел отправиться в космопорт, но ты была в таком состоянии… какие уж тут путешествия. Я выбрал Дрегс.
Я кивнула.
— Они наверняка попытаются убить тебя.
— Да.
— А местная полиция тоже нас ищет? Полиция Гегемонии? Транспортная?
— Нет, не думаю. Кроме двух шаек герильеров и нескольких здешних громил никто за нами не гнался.
Я открыла глаза.
— Ну-ка, и что стряслось с этими герильерами? (Надо сказать, в Сети есть головорезы и наемные убийцы куда страшнее герильеров, но я с ними никогда не сталкивалась.)
Джонни отсалютовал мне отцовским пистолетом и улыбнулся.
— После ВВ ничего не помню, — сказала я.
— Один фаг ранил тебя рикошетом. Идти ты могла, но на площади на нас все пялились.
— Представляю. Расскажи мне, что удалось обнаружить ВВ. Почему Техно-Центр интересуется Гиперионом?
— Сначала поешь, — сказал Джонни. — Ты была без сознания двадцать восемь часов.
С потолка капало. Под этой капелью он пошел в дальний конец пещеры и вернулся с саморазогревающимся пакетом. Голофанатики только этими концентратами и питаются: обезвоженная и подогретая клонированная говядина; картошка, никогда не видевшая настоящей земли; морковь, похожая на глубоководных моллюсков. Но никогда раньше еда не казалась мне такой вкусной.
— Отлично, — сказала я. — А теперь рассказывай.
— На протяжении всей своей истории Техно-Центр был разделен на три группы, — начал Джонни. — Ортодоксы — это ИскИны первого поколения, некоторые из них были созданы еще до Большой Ошибки. По крайней мере один из них — в Первую Информационную Эру. Ортодоксы считают, что между человечеством и Техно-Центром должна существовать определенная степень симбиоза. Они поддерживали Проект Высшего Разума, но лишь как способ избежать скоропалительных поступков, отложить самые важные решения до тех пор, пока не будут факторизованы все переменные. Произошедший три столетия назад Раскол — дело рук Ренегатов. Они провели исчерпывающие исследования и показали, что человечество становится бесполезным и даже представляет собой угрозу для Техно-Центра. Они сторонники немедленного и полного истребления людей.
— Немедленного и полного, — повторила я и, помолчав немного, спросила: — И что, они реально могут это сделать?
— Что касается жителей Сети — безусловно, — ответил Джонни. — Разум Техно-Центра не только создает инфраструктуру общества Гегемонии — он необходим абсолютно везде, начиная с развертывания ВКС и кончая обеспечением безопасности ядерных и плазменных арсеналов.
— Ты знал об этом, когда был… в Центре?
— Нет, — ответил Джонни. — Я ведь был всего лишь моделью; обслуживал кибрида, имитирующего известного поэта. А что такое модель? Уродец, комнатное животное. Меня выпускали погулять по Сети, как люди выпускают погулять… ну, скажем, кота. Я и понятия не имел, что среди ИскИнов есть какие-то лагери.
— Ты говорил, три лагеря, — повторила я. — Какой же третий? И при чем тут Гиперион?
— Промежуточное положение между Ортодоксами и Ренегатами занимают Богостроители. Вот уже пять веков они одержимы Проектом Высшего Разума. Существование или истребление человеческой расы волнует их лишь в той степени, в какой оно связано с этим проектом. До последнего времени они придерживались умеренных взглядов и выступали в союзе с Ортодоксами. К примеру, они считали, что модельные эксперименты вроде реконструкции Старой Земли и восстановления тех или иных личностей необходимы для завершения Проекта ВР.
Но в последнее время, однако, Богостроители все больше сближаются с Ренегатами. И причина тому — Гиперион. Первые же исследования планеты четыреста лет назад всерьез обеспокоили Техно-Центр. Во-первых, сразу же стало ясно, что так называемые Гробницы Времени движутся из будущего в прошлое, причем исходный момент этого движения отстоит от нас по меньшей мере на десять тысяч лет. Есть и еще одно, куда более тревожное обстоятельство: в своих футурологических прогнозах Техно-Центру никак не удавалось учесть переменную Гипериона.
Чтобы понять это, Ламия, ты должна знать, в какой мере Техно-Центр полагается на свои прогнозы. Хотя Проект ВР далек от завершения, они уже сейчас могут детально предсказать будущее людей и ИскИнов на двести лет вперед с вероятностью 98,9995 процента. Между тем Консультативный Совет ИскИнов при Альтинге, который люди считают столь необходимым, одаривает их лишь туманными и двусмысленными откровениями. Да это же просто анекдот! Техно-Центр подбрасывает Гегемонии жалкие крохи своих знаний. Причем только тогда, когда ему, Техно-Центру, это выгодно. Иногда это делается в интересах Ортодоксов, иногда Ренегатов, но всегда — с целью ублажить Богостроителей.
А Гиперион — это дыра в прогностической ткани Техно-Центра. Предпоследний оксюморон — переменная, которую нельзя учесть. Как это ни дико, но Гиперион, похоже, нарушает все законы физики, истории, человеческой психологии и принципиально не поддается прогностическим расчетам ИскИнов.
В результате имеется как бы два будущих — две реальности, если угодно. В первой реальности проклятие Шрайка, которое вскоре должно обрушиться на Сеть и человечество, — это оружие добившегося абсолютной власти Техно-Центра, опережающий удар сквозь время, который нанесут Ренегаты, на протяжении тысячелетий правившие галактикой. В другой реальности Гробницы Времени тоже открываются, происходит вторжение Шрайка, межзвездная война и так далее. Но в атаку на этот раз идет человечество. Решающий удар сквозь время наносят не ИскИны, а Бродяги, бывшие колонии и другие небольшие сообщества людей, которые Ренегаты так и не смогли уничтожить.
Вода капала на кафельный пол. Где-то рядом гудела сирена термопроходчика, и по туннелю разносилось гулкое эхо. Я прислонилась к стене и посмотрела на Джонни.
— Межзвездная война, — сказала я. — Она есть в обоих сценариях?
— Увы, да. Ее не избежать.
— А не может быть такого, что оба прогноза ошибочны?
— Нет. Будущее самого Гипериона проблематично, но то, что Сеть ждут глобальные потрясения, — очевидно. Это главный аргумент Богостроителей, когда они настаивают на ускоренной эволюции Техно-Центра.
— Джонни, а в тех данных, которые украл ВВ, есть что-нибудь о нас?
Джонни улыбнулся и легонько коснулся моей руки.
— Каким-то непонятным образом я связан с Гиперионом. Проект «Китс» был очень рискованным. Только явная моя бездарность в роли поэта позволила Ортодоксам сохранить меня. А когда я вознамерился побывать на Гиперионе, Ренегаты тут же разделались с моим кибридом, намереваясь прекратить мое существование в качестве ИскИна, если он примет это решение еще раз.
— Ты его принял. Что дальше?
— Они потерпели неудачу. Со свойственной всем ИскИнам самонадеянностью они упустили из виду два обстоятельства. Во-первых, что я могу передать свое сознание кибриду и тем самым изменить природу модели Китса. И во-вторых, я встретился с тобой.
— Со мной?
Он взял меня за руку.
— Да, Ламия. Кажется, ты тоже часть тайны Гипериона.
Я недоуменно покачала головой и вдруг осознала, что кожа за левым ухом потеряла чувствительность. Однако вместо жуткой раны, полученной в киберпространственном сражении, мои пальцы нащупали пластмассовое гнездо нейрошунта.
Вырвав свою руку из руки Джонни, я в ужасе уставилась на него. Выходит, пока я была без сознания, он вживил мне эту гадость?
Джонни умоляюще протянул ко мне руки:
— Мне пришлось сделать это, Ламия. Быть может, это спасет нас обоих.
Я сжала кулак:
— Ах ты скотина, ублюдок недоделанный! На хрена мне сдался твой интерфейс?
— Так ведь не с Техно-Центром, — мягко возразил Джонни. — Со мной.
— С тобой? — У меня аж руки зачесались — так бы и врезала по этой выращенной в чане физиономии. — Ну конечно! А ты, между прочим, теперь человек! Не забыл еще?
— Да. Но кое-что от кибрида во мне осталось. Помнишь, как пару дней назад я коснулся твоей руки и мы оказались в киберпространстве?
Я смерила его взглядом:
— Меня туда больше не тянет.
— Меня тоже. Но я вынужден считаться с тем, что может возникнуть необходимость передать тебе огромное количество информации за очень короткий промежуток времени. Прошлым вечером я отвез тебя к одной женщине. Она хирург, практикует на черном рынке Дрегса. Так вот — она вживила тебе диск с петлей Шрюна.
— Зачем?
Петля Шрюна — это такая крохотная штуковина, не больше ногтя. Безумно дорогая. Внутри у нее куча пузырьковых элементов памяти, причем каждый такой пузырек может хранить практически неограниченное количество информации. Для самого биологического носителя петля Шрюна недоступна, поэтому их часто используют курьеры. Человек может унести в петле Шрюна личность ИскИна или инфосферу какой-нибудь планеты. Да что там человек — это и собака сможет.
— Зачем ты это сделал? — повторила я, подумав про себя: «Уж не собирается ли Джонни (или его хозяева) использовать меня в качестве такого курьера?»
Джонни придвинулся ко мне и накрыл мою все еще сжатую в кулак руку ладонью:
— Доверься мне, Ламия.
Двадцать лет назад мой отец вышиб себе мозги, после чего матушка замкнулась в своем чистоплюйском эгоизме и никого не желает знать. А я с тех пор никому не верю. Вот и сейчас, я ни за что не должна была верить Джонни.
Но я поверила.
Я разжала кулак и взяла его за руку.
— Вот и умница, — сказал Джонни. — Давай-ка доедай эту дрянь и за дело. Попробуем выбраться отсюда живыми.
* * *
Оружие и наркотики — с этим в Дрегсе никогда не было проблем. У Джонни имелся солидный запас марок, которые ходят на черном рынке, и мы истратили их все на оружие.
В 22:00 мы облачились в титаново-полимерные доспехи с внутренним отражающим слоем. На Джонни был зеркально-черный герильерский шлем, на мне — вэкаэсовская офицерская маска (наверное, кто-то загнал запасной комплект обмундирования). Джонни натянул массивные ярко-красные энергетические рукавицы, а я — осмотические перчатки с режущим краем. В руках Джонни держал трофейную «адскую плеть» Бродяг, добытую, по-видимому, на Брешии, а лазерный жезл засунул за пояс. Я же, помимо отцовского пистолета, вооружилась пистолетом-пулеметом Штайнера-Джинна на гироскопической поясной турели с наведением по визору шлема. Очень удобно — стреляешь, а руки свободны.
Посмотрев друг на друга, мы с Джонни дружно расхохотались. А отсмеявшись, надолго замолчали.
— Ты уверен, что здешнее Святилище Шрайка — действительно лучший вариант? — машинально спросила я (наверное, уже в третий или четвертый раз).
— Мы не можем воспользоваться нуль-Т, — сказал Джонни. — Техно-Центру достаточно внести малейшую неисправность, и нам тут же конец. Мы даже на лифте подняться не можем. Нужно найти неконтролируемые лестницы и взобраться на сто двадцатый этаж. А в Святилище идти прямо через площадь Мэлл.
— Да, но впустят ли нас служители?
Джонни пожал плечами. Доспехи сделали его движения утрированно-резкими, как у насекомого, а герильерский шлем добавлял в речь металлические нотки.
— Они — единственные, кто заинтересован, чтобы мы остались живы. И только они обладают достаточным влиянием, чтобы защитить нас от Гегемонии по пути на Гиперион.
Я подняла забрало.
— Но Мейна Гладстон говорила мне, что на Гиперион больше не пускают паломников.
Покачав зеркально-черной головой, мой любовник-поэт небрежно бросил:
— Ну, что ж, к черту Мейну Гладстон!
Я перевела дыхание и двинулась к выходу из нашей пещеры, нашего логова — последнего нашего убежища. Джонни подошел ко мне сзади. Лязгнули доспехи.
— Ты готова, Ламия?
Я кивнула, поправила «Штайнер» и уже собиралась выйти, как Джонни коснулся моей руки.
— Ламия, я люблю тебя.
Я стиснула зубы, вспомнив, что подняла забрало и он может заметить слезы.
Улей не спит все двадцать восемь часов в сутки, но так издавна повелось, что Третья Смена — самая тихая. В это время и народу на улицах меньше обычного. Конечно, правильнее было бы выйти в час пик — в Первую Смену — и затеряться в толпе. Но если нас поджидают герильеры или туги, погибнет невесть сколько случайных прохожих.
До площади Мэлл мы добирались часа три — разумеется, не по главной лестнице. Бесконечная череда пустующих автотуннелей и колодцев техобслуживания, по которым восемьдесят лет назад, словно саранча, прокатились толпы луддитов, слилась для меня в одно серое пятно. И вот наконец одолев последнюю лестницу (ржавчины в ней было явно больше, чем железа), мы вышли в служебный коридор. Отсюда до Святилища оставалось не более километра.
— Ни за что бы не поверила, что это так просто, — прошептала я в интерком.
— Вероятно, они стянули людей к космопорту и частным порталам.
Дорогу мы выбрали с таким расчетом, чтобы по возможности не выходить на открытое место — метрах в тридцати под первым торговым ярусом. До крыши Улья отсюда было метров четыреста, до Святилища Шрайка — колоссального сооружения причудливых очертаний — менее пятисот. Неурочные покупатели и любители бегать трусцой, завидев нас, торопливо скрывались в боковых коридорах. Полицию, несомненно, уже оповестили, но я бы очень удивилась, если бы она прибыла вовремя.
И вдруг из подъемной шахты с гиканьем и криком высыпала куча ярко размалеванных тугов, вооруженных цепями, импульсными ножами и энергетическими рукавицами. Джонни вздрогнул от неожиданности, но тут же развернулся и хлестнул по ним «адской плетью». Пистолет-пулемет выпрыгнул у меня из рук и, следуя за моим взглядом, стал поражать одну цель за другой.
Семеро парней застыли с вытаращенными глазами, потом задрали лапки кверху и стали отступать. Мгновение — и они скрылись в шахте.
Я взглянула на Джонни и в черном зеркале его шлема увидела себя. На сей раз никто из нас не рассмеялся.
Мы перебежали к северному торговому ряду. Несколько прохожих поспешили к дверям магазина. До Святилища оставалось меньше ста метров. В наушниках я слышала удары собственного сердца.
Мы были уже в пятидесяти метрах. Высоченные ворота Святилища приоткрылись, и из них выглянул дьякон (а может, священник). Тридцать метров. Если бы нам действительно хотели помешать, это сделали бы раньше.
Улыбнувшись, я повернулась к Джонни, но не успела и рта открыть, как на нас обрушился град пуль и лазерных импульсов. Внешний слой доспехов сдетонировал, поглотив и рассеяв кинетическую энергию пуль. А зеркальная поверхность под ним отразила почти все смертоносные лучи. Почти.
Удар сбил Джонни с ног. Я упала на одно колено и переключила «Штайнер» в режим самонаведения.
Так, десятый этаж на жилой стене Улья. Мой визор оплавился и потерял прозрачность, защитный слой доспехов выгорел почти целиком. Пистолет-пулемет застрекотал, словно швейная машинка из старинной голопьесы. Пятиметровый балкон в десяти этажах над нами окутало облако разрывных игл и бронебойных пуль. Лазеру конец.
Меня словно огрели по спине палкой. Еще раз. И еще.
Я не устояла на ногах. Вырубив «Штайнер», я откатилась в сторону и привстала на одно колено. Их было не меньше десятка на каждом ярусе, они двигались быстро, точно и слаженно — прямо балет! Джонни приподнялся и, переключив «плеть» в частотный режим, начал пробивать радужную завесу активной защиты фазированными сериями импульсов.
Одна из бегущих фигурок вспыхнула, и тут же позади этого живого факела лопнула витрина, засыпав чуть ли не всю площадь осколками. Из-за парапета высунулись еще двое. Я уложила их из «Штайнера».
Раздался визг реверс-моторов. Из-под самого перекрытия вынырнул скиммер и, заложив крутой вираж, понесся прямо на нас. По бетону ударили ракеты. Полетело стеклянное крошево — последние остатки витрин. Я вскинула голову, пару раз сморгнула, прицелилась и выстрелила. Скиммер отшвырнуло вбок, он ударился об эскалатор (на котором стояли, сжавшись от страха, человек десять) и взорвался. Какой-то зевака, на котором вспыхнула одежда, метнулся вниз с восьмидесятиметровой высоты.
— Слева! — закричал Джонни по интеркому.
Четверо с левитационными ранцами за плечами быстро спускались вдоль стены. Камуфляж из «хамелеоновой кожи» не успевал отслеживать меняющийся фон, превратившись в причудливый калейдоскоп узоров и красок. Один тут же ушел вбок и, оказавшись в «мертвой зоне» пулемета, бросился ко мне. Остальные навалились на Джонни.
Он шел на меня с импульсным ножом — излюбленным оружием этого отребья. Я подставила под удар рукав защитного костюма, прекрасно понимая, что им пробьет его, но не сразу. Мне нужно было выиграть всего секунду, и я ее выиграла. Я убила его режущим краем перчатки и, развернувшись, дала очередь по тем троим, что напали на Джонни.
На них были жесткие боевые костюмы, поэтому струя свинца лишь отшвырнула их назад — так смывают с тротуара мусор. Одному удалось подняться, и тогда второй очередью я сбросила их на нижний ярус.
Джонни упал навзничь. Защитный костюм у него на груди местами расплавился. Меня замутило от запаха паленой плоти, но смертельных ран вроде не было. Я наклонилась и приподняла его.
— Оставь меня, Ламия. Беги. Лестница… — Связь все время прерывалась.
— Заткнись. Ты меня нанял, и я буду тебя охранять.
Обхватив Джонни левой рукой, я взвалила его на плечо, так, чтобы «Штайнер» оставался свободным.
Нас обстреливали с обеих стен улья, со стропил и верхних торговых ярусов. На тротуаре я насчитала не меньше двадцати трупов. Половина из них — в ярких костюмах. Обычные граждане. Энергошарнир в левом колене заело. С негнущейся ногой я кое-как проковыляла метров десять, волоча на себе Джонни. На верхних ступенях лестницы стояли несколько священников. Казалось, они не обращали никакого внимания на всю эту пальбу.
— Сверху!
Я моментально обернулась. После первого же выстрела «Штайнер» замолк — кончились патроны, но за мгновение до того, как разлететься на тысячу кусочков вместе со всем своим экипажем, скиммер успел выпустить ракеты. Я швырнула Джонни на мостовую и рухнула на него сверху, пытаясь прикрыть своим телом.
Все ракеты разорвались одновременно. Большинство — в воздухе, но по крайней мере две пробили настил яруса. Взрывной волной нас сбросило с покосившейся дорожки и отшвырнуло метров на пятнадцать — двадцать. Очень кстати. Пешеходная полоса из ферробетона, где мы находились секунду назад, загорелась, вспучилась, провисла и обрушилась вниз. Образовался естественный ров, который отрезал нас от большинства атакующих.
Я поднялась, отшвырнула бесполезный пулемет, сорвала столь же бесполезные лохмотья защитного костюма и перевернула Джонни на спину. Шлем с него слетел, и внешний вид моего подопечного оставлял желать лучшего. В доспехах зияло множество пробоин, из них сочилась кровь. Правую руку и стопу левой ноги оторвало взрывом. Я подняла его и потащила вверх по лестнице в Святилище.
И тут завыли сирены. Над площадью появились наконец скиммеры службы безопасности. Герильеры, толпившиеся на верхних ярусах и на той стороне обвалившейся дороги, пустились наутек. Но двое коммандос с левитационными ранцами, похоже, очухались и все-таки бросились за мной. Я даже не обернулась. Волоча негнущуюся левую ногу, я одолевала ступень за ступенью, не обращая внимания на раны и боль в обожженных спине и боку.
Скиммеры с воем кружили в воздухе, но к Святилищу не приближались. Пули щелкали по всей площади Мэлл. Сзади до меня доносился торопливый лязг подкованных металлом сапог. Мне удалось преодолеть еще три ступени. Оставалось двадцать. Там, невообразимо далеко, стояли десятки священников и епископ.
Я сделала еще шаг и посмотрела на Джонни. Он глядел на меня одним глазом — другой был залит кровью и совершенно заплыл.
— Все в порядке, — прошептала я, впервые осознав, что и мой шлем куда-то делся. — Все в порядке. Уже близко.
Мне удалось сделать еще один шаг.
Две фигуры в блестящих черных доспехах преградили мне путь. Исполосованные пулями забрала поднялись. Под ними — безжалостные лица.
— Эй ты, сучка! Оставь его и уходи. Спасай свою шкуру.
Я устало кивнула. Сил хватало только, чтобы стоять и обеими руками держать Джонни на весу. Его кровь капала на белый камень.
— Я сказал — отдай его нам…
Отцовский пистолет был у меня в той руке, которой я поддерживала Джонни под спину. Но я уложила их обоих — одного в левый глаз, другого в правый.
Еще одна ступенька. Затем еще одна. Перед каждым шагом я останавливалась и переводила дыхание.
Вот и вершина лестницы. Священники в черных и красных одеяниях расступились и пропустили меня в высокие ворота Святилища. Внутри царил мрак. Я не оглядывалась, но, судя по шуму, толпа на площади собралась огромная. Епископ шел рядом.
Я положила Джонни на холодный пол. Вокруг шелестели сутаны. Я кое-как стянула с себя остатки защитного костюма и принялась раздевать Джонни. Его доспехи в нескольких местах прикипели к телу. Я коснулась здоровой рукой опаленной щеки Джонни:
— Как жаль…
Он чуть повернул голову и приоткрыл глаз. Его левая рука коснулась моей щеки, виска, затылка.
— Фанни…
Я почувствовала, что он умирает. Но когда его рука нашла мой нейрошунт, я вдруг ощутила всплеск теплоты. Теплоты и света. Сработала петля Шрюна. Все, чем был или мог быть Джонни Китс, ворвалось в меня; это было почти как его оргазм два дня назад: всплеск, биение, внезапный прилив теплоты, а следом — покой и эхо пережитого наслаждения.
Я медленно опустила его на пол. Дьяконы подняли тело и вынесли наружу — показать толпе, властям и тем, кто хотел удостовериться.
Потом меня увели.
Две недели я провела в приютской больнице Святилища. Мне заживили ожоги, удалили шрамы, извлекли осколки, пересадили кожу, восстановили мышцы и нервы. И все же боль не проходила.
Все, кроме священников, потеряли ко мне интерес. Техно-Центр удостоверился, что Джонни мертв, что его ИскИн не оставил после себя никаких следов и что его кибрид тоже мертв.
Я подала заявление, и мне возобновили лицензию. Дело замяли — уж тут постарались власти. Пресса сообщила, что «между бандами, контролирующими Улей Дрегс, произошла кровавая разборка, которая выплеснулась на площадь Мэлл. Среди бандитов и мирных жителей имеются убитые». Полиция подтвердила эту версию.
А за неделю до того, как пришло известие, что Гегемония разрешила кораблю «Иггдрасиль» с паломниками на борту отбыть на Гиперион, в зону боевых действий, я отправилась через портал Святилища на Возрождение-Вектор и около часа просидела в тамошнем архиве.
Потрогать эту рукопись я не могла — каждый листок хранился в отдельном вакуумном пакете. Но рука была его: мне уже приходилось видеть почерк Джонни. Пергамент пожелтел и стал хрупким от старости. Там было два фрагмента. Вот первый:
Не стало дня, и радостей не стало: Губ сладостных, лучистых глаз, тепла Ладони робкой, нежного овала, Чуть слышных слов, груди, что так бела. Исчезло юной розы совершенство, Исчезло счастье, скрывшись без следа; Исчезли стройность, красота, блаженство, Исчез мой рай — исчез в тот час, когда На мир нисходит сумрак благовонный, И ночь — святое празднество любви — Завесою, из тьмы густой сплетенной, Окутывает таинства свои. Любовь! Твой требник прочитал я днем; Теперь молю: дай мне забыться сном.[40]Второй был написан второпях, на каком-то обрывке, словно пишущий схватил первый подвернувшийся под руку листок.
Одно воспоминанье о руке, Так устремленной к пылкому пожатью, Когда она застынет навсегда В молчанье мертвом ледяной могилы, Раскаяньем твоим наполнит сны, Но не воскреснет трепет быстрой крови В погибшей жизни… Вот она — смотри: Протянута к тебе.[41]Я беременна. Думаю, Джонни знал об этом. А может, и нет.
Я беременна дважды: ребенком Джонни и памятью петли Шрюна. Не знаю, связано одно с другим или нет, а если связано, то в какой степени. Пройдут месяцы, прежде чем родится ребенок, и всего несколько дней, прежде чем я предстану перед Шрайком.
Но я помню те минуты, когда истерзанное тело Джонни вынесли на обозрение толпы, а меня еще не увели. Они стояли там, в темноте, — сотни священников, дьяконов, экзорцистов, служек и простых верующих… в красном полумраке под вращающимся идолом Шрайка… и вдруг все разом монотонно запели, и голоса их эхом отдавались под готическими сводами. А пели они примерно следующее:
«БЛАГОСЛОВЕННА БУДЬ БЛАГОСЛОВЕННА БУДЬ МАТЕРЬ НАШЕГО СПАСЕНИЯ БЛАГОСЛОВЕННА БУДЬ ДЛАНЬ НАШЕГО ИСКУПЛЕНИЯ БЛАГОСЛОВЕННА БУДЬ НЕВЕСТА НАШЕГО СОЗДАНИЯ БЛАГОСЛОВЕННА БУДЬ».Я была ранена и в шоке. Я ничего не понимала. Да и сейчас не понимаю.
Но я знаю, что когда наступит время и Шрайк придет, мы с Джонни встретим его вместе.
Уже давно стемнело. Вагон беззвучно скользил между звездами и льдом. Все молчали, только поскрипывание троса нарушало тишину.
Некоторое время спустя Ленар Хойт обернулся к Ламии:
— У вас тоже свой крестоформ.
Ламия молча посмотрела на священника.
— А как вы думаете, — обратился к ней полковник Кассад, — Хет Мастин и был тот самый тамплиер, что разговаривал с Джонни?
— Возможно, — ответила Ламия Брон, — хотя я этого так и не выяснила.
И тогда полковник, глазом не моргнув, спросил у нее:
— Хета Мастина убили вы?
— Нет.
Мартин Силен потянулся и зевнул:
— До рассвета еще два-три часа. Кто-нибудь, кроме меня, собирается спать?
Ленар Хойт и Вайнтрауб кивнули.
— Я подежурю, — сказал Федман Кассад. — Все равно не засну.
— Я, пожалуй, составлю вам компанию, — предложил Консул.
— А я согрею вам обоим кофе, — сказала Ламия Брон.
Остальные вскоре уснули; Рахиль тихо мурлыкала во сне, а они сидели втроем у окна и смотрели на далекие холодные звезды.
ЧАСТЬ VI
Башня Хроноса возвышалась над восточными отрогами Большой Уздечки — причудливая и мрачная груда сочащихся влагой камней с тремя сотнями комнат и залов внутри, путаница неосвещенных коридоров, ведущих к длинным и узким залам, башням и башенкам, балконы, смотрящие на северные пустоши, вентиляционные шахты, протянувшиеся к свету на полкилометра и берущие начало чуть ли не в самом лабиринте этого мира, парапеты, отполированные холодными горными ветрами, лестницы — внутренние и наружные, — высеченные в камне и никуда не ведущие, стометровые витражи, установленные так, чтобы ловить первые лучи солнца во время солнцестояния и лунный свет зимними ночами, маленькие, величиной с ладонь, оконца, из которых, собственно, не на что смотреть, бесконечная череда барельефов, притаившиеся в нишах гротескные изваяния, и более тысячи горгулий, облепивших карнизы и парапеты, колонны и склепы и заглядывающих сквозь деревянные стропила в огромные залы. Обращенные к кроваво-красным окнам северо-восточного фасада, днем освещаемые солнцем и газовыми факелами — по ночам, они отбрасывали уродливые тени, отмечавшие время, словно какие-то дьявольские солнечные часы. Повсюду виднелись следы последних хозяев башни: покрытые багровым бархатом жертвенники, висящие в воздухе и стоящие изваяния их божества с разноцветными лезвиями и рубиновыми глазами. Еще больше статуй, высеченных из камня, на узких лестницах и в темных залах — вздумай кто-нибудь прогуляться здесь ночью, он неминуемо наткнулся бы на торчащие из скалы колючие пальцы или острое лезвие, а то и на все четыре Шрайковы руки, зовущие в смертельные свои объятия. И в довершение ко всему — прихотливые кровавые узоры во многих комнатах и залах, красные арабески на стенах и потолках коридоров, пятна запекшейся бурой субстанции на постелях — и большая столовая, в которой, распространяя невыносимый смрад, уже не первую неделю гниют остатки брошенной трапезы, стол, стулья, стены и пол залиты кровью, тут и там валяются немые кучи окровавленной и изодранной в клочья одежды. И повсюду мухи.
— Веселенькое местечко, чтоб мне пусто было! — воскликнул Мартин Силен, и его голос гулко раскатился по залу.
Отец Хойт сделал несколько шагов и замер. Солнце уже начало клониться к закату, и сквозь прорезанные в западной стене на высоте сорока метров узкие щели в зал падали косые столбы света.
— Это невероятно, — прошептал он. — Собор Святого Петра в Новом Ватикане ничто по сравнению с этим.
Мартин Силен рассмеялся и стал еще больше похож на сатира.
— Этот храм построен для живого божества.
Федман Кассад поставил на пол походный мешок и, кашлянув, сказал:
— По-моему, эта башня гораздо старше Церкви Шрайка.
— Конечно, — подтвердил Консул. — Но они хозяйничают здесь вот уже двести лет.
— Что-то не видно этих хозяев, — сказала Ламия Брон, держа в левой руке отцовский пистолет.
Войдя в Башню, они минут двадцать пытались до кого-нибудь докричаться, но замирающее эхо, тишина и жужжание мух постепенно вынудили их умолкнуть.
— Эту пакость построили андроиды и крепостные клоны Печального Короля Билли как раз к прибытию спин-звездолетов, — пояснил поэт. — Восемь местных лет тяжелого труда. Предполагалось, что здесь будет самый большой туристический центр во всей Сети, отправной пункт экскурсий к Гробницам Времени и Граду Поэтов. Но, думается мне, несчастные трудяги андроиды еще тогда знали местную версию легенды о Шрайке.
Сол Вайнтрауб стоял у восточного окна, приподняв дочку повыше, и неяркий вечерний свет падал ей на щеку и на сжатый кулачок.
— Знали так знали, — сказал он. — Поищем лучше уголок, где нет следов этой резни и где мы сможем спокойно поужинать и поспать.
— Выходим вечером? — спросила Ламия.
— К Гробницам? — уточнил Силен, впервые за все время путешествия выказывая интерес хоть к чему-то. — Ты хочешь идти к Шрайку в темноте?
Ламия пожала плечами:
— Не все ли равно?
Консул, стоявший у двери из армированного стекла, которая выходила на каменный балкон, закрыл глаза. Его тело все еще продолжало покачиваться в такт движению вагона. Две бессонные ночи и растущее нервное напряжение окутали сознание серой пеленой, сквозь которую двенадцать часов полета над горными вершинами воспринимались как краткий миг. Он чуть было не задремал, но вовремя открыл глаза.
— Мы все едва держимся на ногах, — сказал он. — Переночуем здесь, а утром отправимся в путь.
Отец Хойт вышел на узенький балкон и облокотился на грубые каменные перила.
— Отсюда видны Гробницы?
— Нет, — ответил Силен. — Они находятся вон за той грядой. А видите те белые штуковины на севере и немного западнее… похожие на торчащие из песка обломанные зубы?
— Вижу.
— Это Град Поэтов. По первоначальному замыслу короля Билли это место было выбрано для города Китса и многих других вещей, столь же светлых и прекрасных. Местные жители говорят, что сейчас в нем обитают безголовые призраки.
— Уж не один ли ты из них? — спросила Ламия.
Силен резко повернулся, собираясь ей ответить, но, взглянув на пистолет в ее руке, прикусил язык.
Со стороны лестницы послышались гулкие шаги, и в комнату вошел полковник Кассад.
— Над столовой есть две маленькие кладовые, — сказал он. — Они выходят на балкон, но попасть в них можно только по этой лестнице. В случае чего защитить их будет легко, и они вполне… чисты.
Силен рассмеялся:
— Вы имеете в виду, что на нас будет трудно напасть? Или, если кто-то все же нападет, у нас не будет возможности бежать?
— А куда нам, собственно, бежать? — резонно заметил Сол Вайнтрауб.
— И действительно, — устало согласился с ним Консул. Собрав свои вещи, он взялся за ручку куба Мебиуса, поджидая отца Хойта. — Кассад прав. Нам надо где-то устроиться на ночь. По крайней мере уйдем из этой комнаты. Здесь воняет смертью.
Ужин состоял из остатков сухого пайка, нескольких глотков вина из последней бутылки Силена и черствого кекса, сохраненного Солом Вайнтраубом, чтобы отметить их последнюю совместную трапезу. Для кекса Рахиль была слишком мала, но молоку отдала должное и, перевернувшись на животик, мгновенно уснула на своем матрасике.
Ленар Хойт достал из мешка маленькую балалайку и тихонько забренчал.
— А я и не знала, что вы умеете играть, — удивилась Ламия Брон.
— Так, самую малость.
Консул потер глаза:
— Жаль, здесь нет фортепьяно.
— У вас-то оно есть, — заметил поэт.
Консул посмотрел на него.
— Тащите же его сюда, — сказал Силен. — Я бы не возражал и против скотча.
— О чем это вы? — сердито спросил отец Хойт. — Опомнитесь!
— О космическом корабле, — ответил Силен. — Помните ли вы, как наш незабвенный Глас Куста Мастин говорил нашему другу Консулу, что его секретное оружие — это уже знакомый нам изящный кораблик, стоящий сейчас в космопорте Китса? Вызовите его, Ваше Консульство. И у вас будет фортепьяно.
В дверях появился Кассад, который устанавливал на лестнице лучевую защиту.
— Инфосфера планеты мертва, — сказал он. — Спутники связи выведены из строя. Корабли ВКС используют узкие пучки. Как, по-вашему, он его вызовет?
— Передатчик мультилинии, — вмешалась в разговор Ламия.
Консул смерил ее взглядом.
— Передатчик мультилинии — это ящик размером с дом, — пояснил Кассад.
Ламия пожала плечами:
— И все же в словах Мастина есть смысл. Будь я на месте Консула… будь я среди нескольких тысяч обитателей личных космических кораблей — нескольких тысяч на всю эту треклятую Сеть… я бы непременно позаботилась, чтобы в случае необходимости его можно было вызвать. Эта планета слишком примитивна, чтобы полагаться на ее коммуникационную сеть, ионосфера не годится ни к черту, а когда начинается какая-нибудь заварушка, первым делом сбивают спутники связи… Я бы связывалась со своим кораблем по мультилинии.
— А размеры передатчика? — осведомился Консул.
Ламия Брон посмотрела ему прямо в глаза.
— Гегемония пока еще не может построить портативный передатчик мультилинии. Но говорят, что Бродяги — могут.
Консул улыбнулся. Где-то внизу раздался скрип, завершившийся металлическим ударом.
— Оставайтесь на местах, — приказал Кассад, сорвал с пояса «жезл смерти» и, выключив тактическим комлогом лучевое ограждение, исчез на лестнице.
— Если не ошибаюсь, для нас наступил комендантский час, — сказал Силен. — Теперь здесь господствует Марс.
— Заткнись, — бросила ему Ламия.
— Вы думаете, это Шрайк? — спросил Хойт.
Консул поморщился.
— Шрайку не нужно бряцать оружием на лестницах. Он может просто появиться… здесь.
Хойт покачал головой:
— Я имел в виду, что именно из-за Шрайка вокруг никого нет. И эти следы бойни…
— Жители могли покинуть свои деревни после приказа об эвакуации, — возразил Консул. — Никому не хочется встречаться с Бродягами. А ССО окончательно вышли из-под контроля. И следы вполне могут оказаться делом их рук.
— А где же тела убитых? — осведомился Силен. — Вы принимаете желаемое за действительное. Наши отсутствующие хозяева, жившие там, внизу, теперь украшают своими телами стальное дерево Шрайка. На котором вскорости окажемся и мы.
— Заткнись, — устало произнесла Ламия Брон.
— А если я не замолчу, — осклабился поэт, — вы, мадам, пристрелите меня?
— Обязательно.
Никто больше не проронил ни слова, пока не возвратился Кассад. Включив лучевое ограждение, он повернулся к своим спутникам, расположившимся на ящиках и кусках пенолита.
— Пустяки. Несколько стервятников — их, кажется, называют здесь предвестниками — влетели через разбитые стеклянные двери в зал и как раз завершали пиршество.
Силен хмыкнул:
— Предвестники. Очень подходящее название.
Кассад со вздохом сел на одеяло и, прислонившись к ящику, принялся неторопливо есть. Комнату освещал единственный фонарь, захваченный на ветровозе, и в дальних от балконной двери углах по стенам начали взбираться тени.
— Наша последняя ночь, — заметил он. — Осталось рассказать еще одну историю. — И полковник взглянул на Консула.
Консул, комкавший в кулаке клочок бумаги с нацарапанной на нем цифрой «7», облизал сухие губы:
— Зачем? Цель нашего паломничества теперь недостижима.
Все недоуменно поглядели на него.
— Что вы имеете в виду? — спросил отец Хойт.
Консул смял бумажку и швырнул ее в угол.
— Чтобы Шрайк исполнил чью-то просьбу, количество паломников должно выражаться простым числом. Нас было семеро. После… исчезновения Мастина осталось шесть. Теперь мы идем на смерть без всякой надежды на то, что наше последнее желание будет исполнено.
— Предрассудки, — буркнула Ламия.
Консул вздохнул и потер висок:
— Да, возможно. Но это была наша последняя надежда.
Отец Хойт указал на спящего ребенка:
— А Рахиль не может быть седьмой?
Сол Вайнтрауб погладил бороду:
— Нет, не может. Паломник должен прийти к Гробницам по собственной воле.
— Но она однажды уже сделала это, — продолжал Хойт. — Может быть, этого достаточно?
— Нет, — ответил Консул.
Мартин Силен, что-то писавший в блокноте, встал и зашагал по комнате:
— Господи, да посмотрите вы на себя со стороны! Какие там к черту шестеро паломников, нас тут целая армия! Вот вам Хойт с его крестоформом, содержащим в себе дух Поля Дюре. Наш «получувствующий» эрг вот в этом ящичке. Полковник Кассад, вспоминающий Монету. Госпожа Брон, если верить ее рассказу, несущая в себе не только нерожденного ребенка, но и покойного поэта-романтика. Наш ученый с младенцем, которым была когда-то его дочь. Ваш покорный слуга — со своей музой. Консул, тоже прихвативший в этот безумный поход хрен знает какой багаж. Бог мой, братцы, да наша компания должна была получить обалденную скидку!
— Сядь, — бесцветным голосом произнесла Ламия.
— Нет, знаете, он прав, — вмешался Хойт. — Даже присутствие отца Дюре в крестоформе должно как-то повлиять на нашу численность и прибавить к шести желанную единицу. Настанет утро, мы укрепимся в нашей вере…
— Смотрите! — закричала Ламия Брон, указывая на балконную дверь: темнеющее вечернее небо внезапно озарили яркие сполохи.
Все бросились на балкон и замерли, потрясенные: в небе то здесь, то там беззвучно вспыхивали ослепительно белые клубки термоядерных взрывов и тут же начинали стремительно распухать, словно круги, разбегающиеся по поверхности лазурного озера; яркие звездочки сдетонировавших фугасов выбрасывали голубые, желтые и алые нити и, закрутившись спиралью, сжимались в точку, как цветы, закрывающиеся на ночь; гигантские «адские плети» молниями рассекали небо и, словно чудовищные косы длиной в несколько световых часов, срезали все на своем пути, пока не натыкались на разрывавшие вакуум защитные сингулярности; мерцающие силовые экраны вздрагивали и гасли под напором громадных потоков энергии, чтобы появиться вновь несколько наносекунд спустя. И словно следы алмаза на синем стекле, в темном небе проступали безукоризненно-четкие бело-голубые полоски выхлопов факельных звездолетов и линейных кораблей.
— Бродяги! — выдохнула Ламия.
— Да, война началась, — бесстрастно подтвердил Кассад.
Консул вдруг с ужасом обнаружил, что плачет, и отвернулся.
— А это не опасно — стоять здесь? — спросил Мартин Силен, выглядывавший из-за дверного косяка.
— На этом расстоянии — нет. — Кассад, смотревший в свой электронный бинокль, опустил его и сверился с тактическим комлогом. — Сражение идет в трех астрономических единицах от нас. Бродяги прощупывают оборонительные линии ВКС. Это самое начало.
— А портал уже включен? — спросила Ламия Брон. — Эвакуация Китса и других городов началась?
Кассад покачал головой.
— По-моему, нет. Пока. Я думаю, флот будет держать здесь оборону, пока не закончится подготовка сферы в окололунном пространстве. И лишь когда корабли ВКС начнут прибывать сюда сотнями, откроют эвакуационные порталы в Сеть. — Он снова поднял бинокль. — Адское будет зрелище.
— Смотрите! — На сей раз отец Хойт показывал не на фейерверк в небе, а на пустоши, лежащие за низкими холмами. В нескольких километрах от Башни к невидимым отсюда Гробницам двигалась одинокая фигура, которая на таком расстоянии казалась крошечным пятнышком, но при каждой вспышке отбрасывала длинную тень.
Кассад навел бинокль на фигуру.
— Шрайк? — тихо произнесла Ламия.
— Не думаю… Кажется, тамплиер, если судить по одеянию.
— Хет Мастин! — вскричал отец Хойт.
Кассад пожал плечами и передал бинокль остальным. Консул отошел в сторону и прислонился к балконным перилам. Тишину нарушал только свист ветра, но из-за этого картина бушевавшего в небе сражения казалась еще более зловещей.
Когда подошла очередь Консула, он тоже приник к биноклю. Высокий человек в просторной накидке с капюшоном решительно шагал по озаряемому багровым светом песку. Видна была только его спина.
— Куда он идет — к нам или к Гробницам? — спросила Ламия.
— К Гробницам, — ответил Консул.
Отец Хойт поднял к полыхающему небу свое осунувшееся лицо.
— Если это Мастин, нас снова семеро, не так ли?
— Он опередит нас на несколько часов, — возразил Консул. — А если мы заночуем здесь, как предполагали, то на полдня.
Хойт пожал плечами:
— Все это теперь не имеет значения. Семь человек отправились в паломничество. И к Гробницам тоже прибудут семеро. Шрайку этого достаточно.
— Если это действительно Мастин, — заговорил Кассад, — к чему эта шарада в ветровозе? И как он смог попасть сюда раньше нас? Ведь других вагонов на канатке не было, и уж, конечно, он не мог пешком перевалить через Уздечку.
— Обо всем этом мы расспросим его завтра, когда придем к Гробницам, — устало сказал отец Хойт.
Ламия Брон попыталась поймать какую-нибудь станцию в общем комм-диапазоне своего комлога, но эфир молчал. Слышалось только шипение помех да отдаленный рокот электромагнитных импульсов. Она взглянула на полковника.
— Когда начнется бомбардировка?
— Не знаю. Это зависит от того, насколько успешно флот ВКС будет держать оборону.
— С обороной у них неважно, иначе разведчики Бродяг не уничтожили бы «Иггдрасиль», — напомнила Ламия.
Кассад молча кивнул.
— Эй, послушайте, — вдруг произнес Мартин Силен, — а ведь мы окажемся в самом эпицентре, ни дна ему ни покрышки!
— Вот именно, — подтвердил Консул. — Если Бродяги атакуют Гиперион, чтобы воспрепятствовать открытию Гробниц Времени, как следует из истории, рассказанной нам госпожой Брон, то Гробницы, да и весь этот район для них основная цель.
— Они применят ядерное оружие? — нервно спросил Силен.
— Почти наверняка, — ответил Кассад.
— Я полагал, антиэнтропийные поля заставляют корабли обходить этот район стороной, — заметил отец Хойт.
— Если в них есть экипаж, — произнес Консул. — Антиэнтропийные поля не действуют на управляемые ракеты, самонаводящиеся бомбы и лучи «адских плетей». По той же причине они не действуют и на механическую пехоту. Бродяги могут забросить сюда пару-другую боевых скиммеров или танков-автоматов — и смотреть потом издалека, как они изничтожают долину.
— Они не сделают этого, — сказала Ламия Брон. — Они хотят контролировать Гиперион, но не уничтожить его.
— Я бы не стал рисковать, полагаясь на это предположение, — заметил Кассад.
Ламия улыбнулась.
— Тем не менее именно это мы и делаем.
От сверкающей в зените огненной мозаики отделилась искра, которая быстро превратилась в яркий оранжевый уголек, прочертивший небосклон. Полыхнуло пламя, и окрестности Башни огласил резкий визг раздираемого воздуха. Огненный шар вырос в размерах и исчез за горами.
Спустя минуту Консул осознал, что у него перехватило горло, а руки железной хваткой сжимают перила. Он шумно выдохнул. Ему показалось, что все остальные тоже только сейчас перевели дыхание. Ни взрыва, ни сотрясения почвы так и не последовало.
— Не сработало? — спросил отец Хойт.
— Скорее всего это подбитый малый охотник ВКС, который пытался достичь орбитального периметра или сесть в космопорте Китса, — деловито ответил полковник Кассад.
— Но ему это не удалось, не так ли? — спросила Ламия.
Кассад промолчал. Мартин Силен, подняв полевой бинокль; осматривал темнеющие пустоши в поисках тамплиера.
— Скрылся, — сказал он наконец. — Наш славный Капитан либо обогнул холм, за которым лежит долина Гробниц Времени, либо повторил свой трюк с исчезновением.
— Жаль, что теперь мы уже не услышим его историю, — сказал отец Хойт и добавил, повернувшись к Консулу: — Но вашу мы услышим, не правда ли?
Консул вытер вспотевшие ладони о брюки. Его сердце бешено колотилось.
— Д-да, — с трудом произнес он, осознав только в этот миг, что действительно решился. — Да, я расскажу свою историю.
С восточных склонов гор с ревом налетел ветер, и, откликнувшись ему, Башня Хроноса загудела. Частота вспышек над их головами как будто уменьшилась, но в наступившей темноте каждая новая казалась ослепительнее предыдущей.
— Пойдемте отсюда, — сказала Ламия, и ветер тут же унес ее слова. — Становится холодно.
Погасив единственную лампу, они сидели в темной комнате, которую освещали теперь лишь разноцветные зарницы. У предметов внезапно появлялись тени, исчезали и вновь возникали, окрашивая стены во все цвета радуги. На несколько мгновений воцарялась темнота, а затем следовал новый залп.
Консул порылся в своей сумке и вынул странного вида прибор, размерами чуть побольше стандартного комлога, с необычным орнаментом и жидкокристаллическим дисплеем на передней панели, какие можно увидеть разве что в исторических голопьесах.
— Секретный мультипередатчик? — сухо спросила Ламия Брон.
Консул хмуро улыбнулся:
— Это старинный комлог. Его привезли с Земли во время Хиджры. — Он достал из нагрудного кармана стандартный микродиск и вставил его в гнездо. — Как и отец Хойт, я должен сначала рассказать историю другого человека, чтобы вы смогли понять мою собственную.
— Дерьмо на палочке, — ухмыльнулся Мартин Силен. — Неужели в этой компании только я смог сразу рассказать собственную историю? И долго мне придется…
Реакция Консула изумила даже его самого. Он вскочил, сгреб щуплого поэта в охапку и, с размаху ударив его о стену, схватил за шею и прошипел:
— Еще одно слово, стихоплет, и я тебя убью.
Силен начал было сопротивляться, но Консул сдавил ему горло и так выразительно на него взглянул, что тот притих. Лицо его побелело.
Полковник Кассад, не говоря ни слова, осторожно развел их в стороны и, прикоснувшись к висевшему на поясе «жезлу смерти», предупредил Силена:
— Свои замечания держите при себе.
Тот, массируя шею, молча отошел подальше и плюхнулся на ящик. Консул прошел к двери, сделал несколько глубоких вдохов и вернулся к поджидавшим его паломникам.
— Извините меня. Просто дело в том… Никогда не думал, что способен на такое.
Небо в дверном проеме побагровело, затем раскалилось добела. Несколько секунд спустя снова наступила темнота.
— Мы понимаем, — мягко сказала Ламия Брон. — Все мы испытывали нечто подобное.
Консул потеребил нижнюю губу, прочистил горло и наконец уселся рядом с древним комлогом.
— Запись не такая старая, как сам прибор, — пояснил он. — Она сделана около пятидесяти стандартных лет назад. Я кое-что добавлю от себя, когда она закончится. — Он помолчал, будто собираясь сказать еще что-то, потом покачал головой и включил антикварный прибор.
Изображения не было. Голос, несомненно, принадлежал молодому человеку. Он звучал на фоне бриза, шелестевшего то ли травой, то ли ветками кустарника, а вдали шумел прибой.
По мере того как нарастал накал космической битвы, небо полыхало все яростнее. Консул сжался, словно ожидая сокрушительного удара. Но удара не последовало. Он закрыл глаза и вместе с остальными стал слушать.
История консула: Вспоминая Сири
Я взбираюсь по крутому склону холма к гробнице Сири в тот самый день, когда на отмели Экваториального Архипелага возвращаются острова. Погода дивная, но я ее за это ненавижу. Небо безмятежно, как в легендах Старой Земли, отмели пестрят круглыми пятнами ультрамаринового цвета, с моря дует легкий бриз, шурша красноватой ивнянкой.
А мне хотелось бы, чтобы небо затянули облака и этот день был сумрачным. Чтобы стоял густой туман, от которого по корабельным мачтам в гавани Порто-Ново стекали бы капли воды, и пробудился от сна ревун маяка. Или задул яростный морской самум, который прилетает из холодных южных широт и гонит перед собой плавучие острова и пасущих их дельфинов, пока те не укроются от него под защитой наших атоллов и скалистых берегов.
Любая скверная погода лучше этого теплого весеннего дня, когда солнце сияет на таком синем небосводе, что хочется бегать вприпрыжку и кататься по мягкой траве, как я бегал и дурачился когда-то вдвоем с Сири на этом самом месте.
Да, на этом самом месте. Я останавливаюсь, чтобы оглядеться. Солоноватый южный бриз гонит по траве легкую рябь, и она кажется шкурой неведомого зверя. Я прикрываю рукой глаза и всматриваюсь в горизонт, но там ничего нет, ничто не движется. Волнение усилилось, и за лавовым рифом на морской глади появились небольшие барашки.
— Сири, — шепчу я, сам не зная зачем.
В ста метрах от меня стоят люди. Они остановились отдохнуть, но глаз с меня не спускают. Траурная процессия растянулась больше чем на километр — до белых домиков на краю города. В первых рядах я вижу седую голову моего младшего сына. На нем синий, вытканный золотом мундир Гегемонии. Я знаю, что должен подождать его и идти с ним вместе, но он, как и другие престарелые члены Совета, не может поспеть за широкими шагами моих молодых, натренированных на корабельной службе ног. Однако этикет требует, чтобы я шел вместе с ним, с моей внучкой Лирой и с моим девятилетним внуком.
К черту этикет. К черту их всех.
Я поворачиваюсь к ним спиной и взбегаю по крутому склону холма. Все же на рубашке у меня проступают пятна пота, прежде чем я добираюсь до округлой вершины холма и вижу гробницу.
Гробницу Сири.
Я останавливаюсь. Ветер здесь прохладный, хотя солнце греет вовсю. Гладкие белые стены мавзолея ослепительно сверкают. У закрытых дверей выросла высокая трава. Вдоль покрытой гравием узкой дорожки на черных флагштоках развеваются выцветшие памятные флажки.
Я нерешительно обхожу гробницу и приближаюсь к обрыву в нескольких метрах за ней. Трава примята — туристы, которым ни до чего нет дела, раскладывали на ней одеяла. Из идеально круглых и идеально белых камней, которыми была отделана дорожка, сложено несколько площадок для костров.
Я невольно улыбаюсь. Я давно уже знаю, какой отсюда открывается вид — широкая дуга естественной дамбы, очерчивающая внешнюю часть гавани, низкие белые дома Порто-Ново, яркие корпуса и мачты катамаранов, покачивающихся на якоре. За зданием Городского Собрания молодая женщина в белой юбке идет по галечному пляжу к воде. На мгновение мне кажется, что это Сири, и сердце начинает бешено колотиться. Я уже почти готов замахать ей рукой, но она не обращает на меня внимания. Молча я гляжу, как далекая женская фигурка сворачивает в сторону и исчезает в тени старого сарая для лодок.
Поодаль, в восходящих потоках над лагуной, раскинув широкие крылья, кружит царь-ястреб; его чувствительные к инфракрасным лучам глаза высматривают среди дрейфующих синих водорослей тюленей-лысунов или еще какую-нибудь поживу. Природа глупа, думаю я и сажусь на мягкую траву. И день сегодня не такой, каким должен быть, и вот теперь эта птица, бестолково ищущая себе добычу в загрязненных водах, из которых та давно ушла.
Я вспоминаю другого ястреба — в ту ночь, когда мы с Сири впервые поднялись на вершину этого холма. Я помню сияние лунного света на его крыльях, странный, тревожный крик, который эхом отразился от скалы и словно пронзил темноту над освещенной газовыми фонарями деревней там, внизу.
Сири было тогда шестнадцать… даже меньше… и в лунном свете, игравшем на крыльях ястреба, ее обнаженное тело казалось молочно-белым, а легкие тени только подчеркивали нежную округлость полудетской груди. Когда ночную тишину вдруг прорезал крик птицы, мы, словно чувствуя свою вину, взглянули вверх, и Сири сказала:
— То соловей — не жаворонок был, что пением смутил твой слух пугливый.[42]
— Что-что? — переспросил я.
Сири было меньше шестнадцати. Мне — девятнадцать. Но ей уже были ведомы благородная неторопливость книжных страниц и размеренные монологи на театральных подмостках под ночными звездами. Я же знал только звезды, больше ничего.
— Не грусти, молодой корабельщик, — прошептала она и потянула меня к себе. — Это просто-напросто охотится старый ястреб. Глупая птица. Где ты, корабельщик? Вернись. Ты меня слышишь, Мерри?
Как раз в это мгновение «Лос-Анджелес» поднялся над горизонтом и поплыл, словно несомый ветром яркий уголек, среди причудливых созвездий Мауи-Обетованной, мира Сири. Лежа рядом с ней, я рассказывал ей о двигателе Хоукинга и об этом гигантском спин-звездолете, который купался сейчас в солнечных лучах над окутавшей нас ночью, и когда моя рука скользила по ее бедру, бархатистая кожа казалась наэлектризованной, а дыхание учащалось. Я уткнулся лицом в ее шею, в душистый, сладкий аромат распущенных волос.
— Сири! — На этот раз я произношу ее имя громко и четко. Чуть ниже, возле отбрасываемой гробницей тени, нетерпеливо топчутся люди. Они ждут, когда я войду в гробницу и останусь там один в холодной, молчаливой пустоте, заменившей тепло, которое излучала Сири. Они ждут, когда я с ней прощусь, чтобы приступить к своим обрядам и ритуалам. А потом откроются порталы нуль-Т, и их мир соединится с ожидающей его Великой Сетью.
К черту все. К черту этих людей.
Я срываю толстый побег ивнянки и жую сладкий стебель, вглядываясь в горизонт в ожидании появления плавучих островов. Тени все еще длинны, день только начинается. Пожалуй, я посижу здесь. Буду вспоминать.
Я буду вспоминать Сири.
* * *
Сири показалась мне… кем?.. да, пожалуй, птичкой, когда я увидел ее в первый раз. На ней было что-то вроде маски из ярких перьев. Когда она сняла маску, чтобы присоединиться к кадрили, свет факелов выхватил из темноты золотисто-каштановые густые волосы. Девушка раскраснелась, ее щеки горели, и даже через запруженную людьми площадь я разглядел зеленые глаза, сияющие на загорелом лице. Это был их знаменитый Фестиваль. Пламя факелов тоже плясало и разбрасывало искры при каждом долетавшем из гавани порыве бриза; пение флейт на волноломе, где музыканты приветствовали подплывающие острова, почти полностью заглушалось шумом прибоя и хлопаньем праздничных вымпелов на ветру. Сири не было шестнадцати, и ее красота пылала ярче любого факела на этой заполненной людьми площади. Я пробрался между танцующими и подошел к ней.
Для меня все это случилось только пять лет назад. Для нас обоих — почти шестьдесят пять. Но мне кажется, это было только вчера.
Так дальше не пойдет.
С чего же начать?
— Эй, малыш, может, стоит поискать укромненькое местечко, чтобы немного поразвлечься? — спросил Майк Ошо.
Невысокий, коренастый, с пухлым лицом — карикатурный Будда, да и только, — Майк в те времена был для меня богом. Мы все были богами: не бессмертные, правда, но все же долгожители, не всемогущие, но хорошо оплачиваемые. Гегемония выбрала нас в помощь команде одного из самых дорогостоящих квантовых спин-звездолетов. Кто же мы были, если не боги? Ну а Майк, блистательный, порывистый и непочтительный Майк, был чуточку старше меня, и потому стоял чуть выше юного Мерри Аспика в корабельном пантеоне.
— Ха, — сказал я. — Нулевая вероятность.
Мы отмывались после двенадцатичасовой смены в бригаде, возводившей приемный узел нуль-канала. Перевозка рабочих по строительной площадке, расположенной почти в ста шестидесяти трех тысячах километров от Мауи-Обетованной, была для нас далеко не столь славным деянием, как четырехмесячный скачок сюда из пространства Гегемонии. Пока корабль шел в спин-режиме, мы чувствовали себя хозяевами — сорок девять звездолетчиков, пасущих около двух сотен взволнованных пассажиров. Сейчас наши пассажиры нацепили свои скафандры, а мы, лихие корабельщики, были низведены до роли водителей грузовиков и подсобных рабочих, помогавших космоинженерам монтировать окружающий сингулярность защитный экран.
— Нулевая вероятность, — повторил я. — Разве что эти червяки внизу открыли на выделенном для нас острове бордель.
— Как же, жди. Ничего они не откроют, — усмехнулся Майк.
Впереди у нас был трехдневный отпуск, но из лекций капитана Сингха, а также из жалоб наших товарищей мы уже знали, что все это время нам предстоит провести на островке длиной семь и шириной четыре километра, находящемся под юрисдикцией Гегемонии. Если бы это был плавучий остров, о которых мы столько слышали!.. Какое там — просто обычный вулканический риф вблизи экватора. Мы могли рассчитывать лишь на твердую почву под ногами, непрофильтрованный воздух для дыхания, а также на возможность вспомнить вкус натуральной пищи. А единственной формой нашего общения с колонистами Мауи-Обетованной будет покупка местных сувениров в магазинчике для туристов. Но даже в нем мы не встретим никого, кроме торговых агентов Гегемонии. Многие из наших товарищей предпочли провести отпуск на «Лос-Анджелесе».
— Так что ты говорил насчет укромного местечка, Майк? Пока не заработают порталы, эта колония для нас недосягаема. То есть еще лет шестьдесят по местному времени. Может, ты имел в виду Мэгги из бортового фантопликатора?
— А ты держись за меня, малыш, — сказал Майк. — Было бы желание, а выход найдется.
Я держался за Майка. В космоплане нас было только пятеро. Переход с высокой орбиты в атмосферу нормальной планеты всегда вгоняет меня в дрожь. Особенно такой планеты, как Мауи-Обетованная, столь похожей на Старую Землю. Я рассматривал бело-голубой лимб планеты, пока ее моря и в самом деле не оказались под нами, когда мы вошли в атмосферу и плавно понеслись к линии терминатора, в три раза обгоняя собственный звук.
Тогда мы были богами. Но иногда даже боги должны спускаться со своих высот.
Тело Сири никогда не переставало удивлять меня. То было на Архипелаге. Три недели в большом доме-дереве под гнущимся стволом дерева-мачты, дельфины-пастухи, сопровождавшие нас, словно почетный эскорт, тропические закаты, превращавшие каждый вечер в чудо, звездный балдахин над нами по ночам и фосфоресцирующая кильватерная струя — тысячи переливающихся вихрей, словно вобравших в себя сияющее великолепие созвездий. И все же сильнее всего мне запомнилось тело Сири. По каким-то причинам — застенчивость или годы разлуки — в первые наши дни на Архипелаге она носила купальник: две узкие полоски ткани, и ее нежно-белые грудь и бедра так и не успели покрыться ровным загаром.
Я вспоминаю ее в тот первый раз. Ее тело, белеющее в лунном свете, когда мы лежали на мягкой траве над гаванью Порто-Ново. Ее шелковые шортики, зацепившиеся за стебель ивнянки. В ней тогда была детская стыдливость — легкий страх перед тем, что пришло слишком рано. Но и гордость. Та самая гордость, что позволила ей позднее усмирить толпу сепаратистов, бушевавших у порога консульства Гегемонии, и отправить их, пристыженных, по домам.
Я вспоминаю свое пятое посещение Мауи и наше четвертое Единение. До этого я почти не видел ее плачущей. Ее мудрость уже вошла в поговорки, ей воздавались чуть ли не королевские почести. Четыре раза ее выбирали в Альтинг, и Совет Гегемонии постоянно обращался к ней за консультациями. Она несла свою независимость, как носят королевскую мантию, и ее неистовая гордость никогда еще не пылала так ярко. Но когда мы остались вдвоем на белокаменной вилле к югу от Фиварона, она отвернулась от меня. Я нервничал, страшась этой могущественной незнакомки, но Сири — моя Сири с ее королевской осанкой и гордым взглядом — отвернулась к стене и сквозь слезы глухо сказала:
— Уходи, Мерри, уходи. Я не хочу, чтобы ты видел меня. Я старуха с дряблым телом и увядшим лицом. Уходи же.
Признаюсь, я был груб с нею тогда. Левой рукой я схватил ее за запястья с силой, какой сам от себя не ожидал, а правой одним движением разорвал ее шелковое платье сверху донизу. Я осыпал поцелуями ее плечи, шею, темные отметины на животе — память о рождении наших детей — и шрам выше колена, оставшийся после аварии скиммера сорок местных лет тому назад. Целовал седеющие волосы и морщинки, прорезавшие ее когда-то гладкие щеки. Я целовал ее слезы.
— Бога ради, Майк, ведь это незаконно, — испугался я, когда мой друг вытащил из рюкзака и развернул ковер-самолет. Мы находились на острове 241 — это романтическое название торговцы Гегемонии дали пустынному вулканическому недомерку, выбранному ими для нашего отдыха. Остров 241 находился менее чем в пятидесяти километрах от древнейшего из поселений колонии, но с таким же успехом он мог находиться и на расстоянии в пятьдесят световых лет. Ни один местный корабль не имел права приближаться к острову, пока на нем находились члены экипажа «Лос-Анджелеса» и строители. У колонистов имелось несколько старых скиммеров, но по взаимному соглашению они не должны были пролетать над островом. Общежитие, пляж да торгующая сувенирами лавочка — вот и все местные достопримечательности. В будущем, когда «Лос-Анджелес» доставит в систему последние компоненты конструкции и сооружение портала закончится, чиновники Гегемонии превратят остров 241 в центр торговли и туризма. А пока он оставался унылой дырой с посадочными шахтами, безликими зданиями из местного белого камня и несколькими отупевшими от безделья администраторами. Майк предупредил их, что мы уходим на три дня в поход — хотим полазать по здешним горам.
— Господи, да не собираюсь я таскаться по этим горам, — сказал я. — Лучше бы мне остаться на корабле и подключиться к фантопликатору.
— Заткнись и не отставай от меня, — ответил Майк, и, будучи младшим членом пантеона, во всем следующим за старшим и более мудрым божеством, я заткнулся и пошел за ним. Два часа мы лезли по крутому склону, продираясь сквозь колючий кустарник, пока не оказались на площадке из застывшей лавы, в нескольких сотнях метров под которой бушевал прибой. Мы находились на планете с тропическим климатом, причем вблизи от экватора, но на этой высоте дул такой ветер, что зубы отбивали дробь. Заходящее солнце казалось мазком красной краски между темных облаков, вместе с которыми на нас с запада надвигалась ночь, и я не испытывал ни малейшего желания оставаться здесь до утра.
— Пойдем отсюда, — сказал я. — Укроемся где-нибудь от ветра и разведем костер. Только, черт возьми, как разбить палатку на этой скале?
Майк присел и закурил сигарету с марихуаной:
— А ты поройся в своем рюкзаке, малыш.
Я растерялся. Его голос звучал спокойно, но это было нарочитое спокойствие любителя малоприятных розыгрышей, предвкушающего вопль жертвы, на голову которой сейчас опрокинется ведро воды. Опустившись на колени, я полез в рюкзак. Оказалось, он доверху набит пластинами пенолита, которыми прокладывают хрупкие грузы. Этот хлам, да еще костюм арлекина с маской и бубенчиками — вот и все, что там было.
— Ты что… совсем офонарел? — Я захлебнулся от негодования.
С каждой минутой становилось темнее. Кто его знает, пройдет шторм южнее или обрушится на нас? Внизу, словно голодный зверь, ревел прибой. Если бы я смог выбраться отсюда самостоятельно, то с удовольствием отправил бы Майка Ошо на корм рыбам.
— А теперь проверим содержимое моего рюкзака, — неторопливо сказал Майк. Высыпав пенолитовые пластины, он достал оттуда какие-то побрякушки вроде тех, что делают на Возрождении-В, инерционный компас, лазерное перо, которое, в зависимости от настроения, служба безопасности корабля могла счесть незаконно провозимым оружием, еще один костюм арлекина, куда более просторного покроя, и ковер-самолет.
— Ради Бога, Майк, — я изумленно провел пальцем по тонкому узору, — это ведь незаконно!
— Я не видел здесь таможенников, — ухмыльнулся Майк. — Да и вообще говоря, глубоко сомневаюсь, что на этой планете существует хоть какая-то дорожная инспекция.
— Да, но…
Я помог ему развернуть ковер. Он был немногим больше метра в ширину и около двух метров длиной. Роскошная ткань выцвела от времени, но левитационные нити по-прежнему сияли, как хорошо начищенная медь.
— Где ты его взял? — спросил я. — Неужели он еще действует?
— На Саде, — ответил он, засовывая мой костюм арлекина и все прочее в свой рюкзак. — Действует, да еще как!
Прошло уже более века с тех пор, как старик Владимир Шолохов, эмигрант со Старой Земли, крупный знаток чешуекрылых и конструктор электромагнитных летательных аппаратов, вручную изготовил первый ковер-самолет для своей прелестной юной племянницы с Земли Новой. Легенда гласит, что племянница презрела дядюшкин подарок, но лет двадцать спустя игрушка стала невероятно популярной, главным образом среди богатых взрослых, и продолжалось это до тех пор, пока ее не запретили на большинстве планет Гегемонии. Опасные в обращении, потребляющие прорву экранированных монокристаллических волокон, постоянно ускользающие из-под бдительного ока служб контроля воздушного движения, ковры-самолеты вскоре остались лишь в детских сказках да на музейных стендах, а также в нескольких колониальных мирах.
— Он, наверно, стоил кучу денег, — сказал я.
— Тридцать марок, — ответил Майк и устроился в центре ковра. — Старик торговец на Карвнельской ярмарке думал, что он вообще ничего не стоит. Он и не стоил… для него. Я протащил его на корабль, подключил питание, перепрограммировал инерционные чипы и… Прошу!
Майк погладил замысловатый узор, ковер расправился и приподнялся над поверхностью площадки сантиметров на пятнадцать.
Я взглянул на Майка с сомнением.
— Ладно, — сказал я. — А что будет, если…
— Никаких «если». — Майк нетерпеливо хлопнул по ковру позади себя. — Батареи заряжены. Управлять ковром я умею. Так что садись сюда, а не хочешь, не садись. Нет, серьезно, нам нужно улететь отсюда, пока шторм далеко.
— Но я не…
— Ну, хватит, Мерри! Решайся же, я тороплюсь.
Я поколебался еще мгновение. Если нас застукают, меня тут же вышвырнут с корабля. А корабль — это моя жизнь. Я сам так решил, подписывая контракт на восемь рейсов на Мауи-Обетованную. Мало того: от цивилизации меня отделяло две сотни световых лет, или пять с половиной объективных лет полета в спин-режиме. Даже если нас отвезут назад, в пространство Гегемонии, мы найдем наших друзей и родственников состарившимися на одиннадцать лет. Разрыв во времени невосполним.
Взобравшись на парящий ковер, я кое-как примостился позади Майка. Он поставил между нами рюкзак, велел мне покрепче держаться и принялся нажимать на сенсоры. Ковер поднялся на пять метров над площадкой, скользнул влево — и помчался над неведомым океаном. А в трехстах метрах под нами в сгущающейся тьме белел прибой. Поднявшись еще выше над бушующими волнами, мы направились на север, в кромешную ночную тьму.
Так решения, принятые за считанные секунды, определяют всю дальнейшую жизнь.
Я вспоминаю разговор с Сири во время нашего второго Единения — вскоре после того, как мы перебрались в виллу на берегу у Фиварона. Мы гуляли по пляжу. Алон остался в городе, под присмотром Магрит. Это было разумно. Я чувствовал себя неуютно в присутствии этого мальчика. Только глубокая серьезность его зеленых глаз, только тревожащее сходство темных кудрявых волос и вздернутого носа с моими собственными связывали его в моем сознании с нами… со мной. Да еще быстрая насмешливая улыбка, которую он старался скрыть от Сири, выслушивая ее замечания. Такой скептической, осторожной и ироничной улыбки трудно ожидать от десятилетнего мальчика. Я хорошо знал ее. Раньше я думал, что она приходит с возрастом, а не наследуется.
— Ты знаешь очень мало, — сказала Сири. Сбросив башмаки, она подбежала к неглубокому озерцу, оставленному на пляже приливом, и зашагала прямо по воде. Время от времени она подбирала тонкие раковины в форме валторны, но, обнаружив в них какой-нибудь дефект, бросала обратно в мутную воду.
— Меня научили многим вещам, — возразил я.
— Конечно, Мерри, тебя многому научили, — согласилась Сири. — И ты наверняка был хорошим учеником. Но знаешь ты очень мало.
Рассердившись, я отвернулся и молча пошел рядом с ней. Вытащив из песка кусок белой лавы, я швырнул его в море. На востоке, у самого горизонта громоздились тучи. Я испытывал острое желание вернуться на корабль. В этот раз мне вообще не хотелось спускаться на планету, и сейчас я убедился, что был прав. Это было мое третье посещение Мауи-Обетованной, второе Единение, как называли наши встречи поэты и здешние жители. Через пять месяцев мне должен был исполниться двадцать один стандартный год. Сири три недели назад отпраздновала свой тридцать седьмой день рождения.
— Я побывал во многих местах, которых ты никогда не видела, — сказал я наконец, и сам почувствовал, как по-детски это прозвучало.
— Да, да! — Сири захлопала в ладоши и оживилась. В этот миг я увидел другую, прежнюю Сири: юную девушку, о которой мечтал долгие девять месяцев пути туда и обратно. А затем этот образ оттеснила суровая реальность: сменившая длинные волосы короткая стрижка, морщинки на шее и лиловые жилки, проступившие сквозь кожу так любимых когда-то мною рук.
— Ты был в таких местах, которые я никогда не увижу, — торопясь, заговорила Сири. Ее голос не изменился. Почти. — Мерри, любимый, ты видел такие чудеса, которые я не могу даже вообразить. Ты знаешь о Вселенной много такого, о чем я даже не подозреваю. И тем не менее, мой милый, ты знаешь очень мало.
— Господи, о чем ты, Сири?
Я сел на ушедшее в сырой песок бревно и выставил вперед ноги, словно отгородившись от нее.
Сири опустилась передо мной на колени. Она взяла мои руки в свои, и, хотя мои были крупнее и грубее, я ощутил силу, исходящую от ее пальцев. И понял, что силу эту дают ей годы жизни, которые я с ней не разделил.
— Надо жить так, чтобы узнавать жизнь по-настоящему, любимый. Алон помог мне понять это. Когда растишь ребенка, обостряется восприятие того, что действительно важно.
— Что ты имеешь в виду?
Сири взглянула в сторону и машинально отбросила прядку волос со лба. Левой рукой она все так же крепко сжимала мою ладонь.
— Я не знаю, как это получается, — начала она мягко, — но человек вдруг начинает чувствовать, что важно, а что — нет. Как тебе объяснить? Ну вот, к примеру, если тридцать лет подряд входишь в комнаты, наполненные незнакомыми людьми, ты испытываешь меньшее напряжение, чем если бы ты делал это только пятнадцать лет. В первом случае ты точнее знаешь, чего ты можешь ожидать от комнат и от людей. И если ожидания не оправдались, ты очень быстро понимаешь это и не задерживаешься там. Ты просто лучше знаешь, что там есть, а чего нет, и быстрее чувствуешь разницу. Ты меня понял, Мерри? Ну хоть немножко?
— Нет, не понял, — ответил я.
Сири кивнула и прикусила нижнюю губу, но вместо того, чтобы продолжить, она внезапно наклонилась и поцеловала меня. Ее губы были сухими и, казалось, спрашивали о чем-то. Я отстранился на секунду, глядя в небо за ее спиной: мне хотелось немного подумать над ее словами. Но тут губы ее слились с моими, и я закрыл глаза. Начинался прилив. Сири расстегнула мою рубашку, ее острые ноготки пробежали по моей груди, и ее возбуждение передалось мне. Прошла секунда — без мыслей, без слов, — затем я открыл глаза и увидел, что она расстегивает последние пуговицы на своем белом платье. Ее груди стали больше, чем я помнил, и тяжелее, соски темнее и шире. Прохладный воздух пощипывал кожу. Я сорвал с нее платье и прижал к себе. Мы соскользнули с бревна на теплый песок. Я обнимал ее все крепче, не переставая удивляться, с чего я взял, что она сильнее меня. Ее кожа была соленой на вкус.
Руки Сири помогли мне. Ее короткие волосы разметались по высветленному водой бревну, по белой ткани, по песку. Мой пульс заглушал грохот прибоя.
— Так ты понял меня, Мерри? — прошептала она после того, как ее пыл соединил нас.
— Да, — прошептал я в ответ. Но я ничего не понимал, как и прежде.
Майк направил ковер-самолет на запад, в сторону Порто-Ново. Мы летели в темноте более часа, и, спрятав лицо от ветра, я все время ждал, что ковер вот-вот свернется и мы оба свалимся в море. За полчаса до цели нашего полета мы увидели первые плавучие острова, которые шторм согнал с южных пастбищ. Бесконечная процессия островов с надутыми листьями-парусами неслась на север. Многие были ярко освещены и украшены цветными фонариками и мерцающими вуалями лучистой паутины.
— Мы правильно летим? — прокричал я.
— Да, — крикнул Майк, не поворачивая головы. Ветер трепал его длинные черные волосы. Время от времени Майк сверялся с компасом и вносил небольшие изменения в курс. Наверное, было бы удобнее следовать за островами. Мы пролетели над одним из них — довольно крупным, с полкилометра в длину. Я напряженно вглядывался, стараясь рассмотреть детали, но островок был погружен в темноту, светилась лишь кильватерная струя. Темные тени скользили в молочных волнах. Я хлопнул Майка по плечу и указал на них.
— Дельфины! — завопил он. — Помнишь, как возникла эта колония? Кучка доброхотов во время Хиджры собиралась спасти всех млекопитающих в океанах Старой Земли. Не успели.
Я уже собирался задать следующий вопрос, но в этот миг впереди показались выдающийся в море мыс и гавань Порто-Ново.
Я считал, что звезды над Мауи-Обетованной сияют необыкновенно ярко. Я считал, что плавучие острова — незабываемое зрелище. Но тут я увидел Порто-Ново, раскинувшийся между гаванью и холмами, сверкающий, словно маяк в ночи. Его сияние напомнило мне увиденную однажды искусственную сверхновую, сотворенную дюзами факельщика, шедшего над ночной стороной разбухшего газового гиганта. Город представлял собой пятиярусный улей, белые здания которого освещались изнутри мягким светом ламп, а снаружи — множеством факелов. Казалось, белая лава, из которой состоял остров, позаимствовала свое сияние от огней города. А за городом теснились палатки, павильоны, костры, очаги кухонь и огромные пылающие огненные столбы, слишком большие для практического применения, слишком большие, чтобы быть чем-то иным, кроме приветствия возвращающимся островам.
Гавань была переполнена судами — покачивающимися на якоре катамаранами, на мачтах которых позвякивали колокольчики, широкими плоскодонными барками, переползающими из порта в порт по тихим экваториальным отмелям, но в эту ночь гордо светящимися гирляндами огней. Иногда мелькала океанская яхта, обтекаемая и быстрая, как акула. Маяк, установленный на кончике рифа, ограждавшего бухту, бросал свои лучи далеко в море, освещая волны и подплывающие островки, а затем поворачивался, выхватывая из темноты живописное скопление судов в гавани и людей на берегу.
Еще за два километра мы услышали шум — звуки праздника. Сквозь радостные выкрики и монотонный рокот прибоя пробивалась мелодия сонаты Баха для флейты. Позже я узнал, что этот приветственный хор передавался по гидрофонам в Проливы, где дельфины выпрыгивали из воды и плясали под музыку над волнами.
— Господи, Майк, как ты узнал, что здесь такое творится?
— Запросил главный корабельный компьютер. — Майк повернул ковер-самолет направо, оставляя в стороне корабли и маяк. Затем мы плавно повернули на север, к небольшой неосвещенной полоске земли. Внизу, на отмели, тихо плескались волны. — Такой праздник у них каждый год, — продолжал Майк, — но этот — в честь стопятидесятилетия колонии. Он идет уже три недели и согласно обычаю продлится еще две. На всей планете не наберется и ста тысяч жителей, но я готов держать пари: сейчас здесь не меньше половины.
Мы сбавили скорость, тщательно выбрали место для посадки и приземлились на скалистом уступе недалеко от пляжа. Шторм прошел южнее, но вспышки молний и далекие огоньки островов по-прежнему были видны на горизонте. В небе сияли звезды, которых мы не могли разглядеть над сверкающим Порто-Ново, скрывшимся сейчас за холмом. Воздух здесь был теплее, легкий бриз доносил запах листвы и цветов. Мы свернули ковер-самолет и торопливо переоделись в костюмы арлекинов. Майк переправил в свои широкие карманы лазерное перо и украшения.
— Зачем тебе это? — спросил я, когда мы прятали под каменной глыбой рюкзаки и ковер.
— Зачем? — переспросил Майк, покачивая ожерельем с Возрождения. — Послужит валютой, когда будем договариваться об услугах.
— Об услугах? — удивился я.
— Ну да, — сказал Майк, — об услугах не скупых на ласку леди. Усталым корабельщикам так нужно отдохнуть в каком-нибудь укромном уголке, малыш.
— Ого, — только и мог вымолвить я, натягивая колпак и маску. Бубенчики позвякивали в темноте.
— Ну, пошли, — бросил Майк. — А то пропустим все на свете.
Я кивнул и пошел за ним следом. Бренча бубенчиками, мы пробирались между камнями и кустами к ожидавшим нас огням города.
Я сижу на солнышке и жду. Я не вполне понимаю, чего именно дожидаюсь, только чувствую, как согревают спину лучи утреннего солнца, отраженные камнями гробницы Сири.
Гробницы Сири?
В небе ни облачка. Я запрокидываю голову, словно надеюсь увидеть «Лос-Анджелес» и только что достроенную приемную решетку нуль-канала. Но их там нет. Я знаю, что они еще не взошли. Я знаю с точностью до секунды, сколько времени еще осталось, прежде чем они окажутся в зените. Знаю, но не хочу даже думать об этом.
«Сири, скажи мне, правильно ли я поступаю?»
Внезапно налетает сильный порыв ветра, и я слышу, как хлопают флажки на флагштоках. Я скорее чувствую, чем вижу беспокойство людей, ожидающих там, внизу. Впервые после посадки на планету для этого, нашего шестого Единения, я полон раскаяния. Нет, это не раскаяние, пока еще нет. Это приступ печали, острой, как зубная боль, — печали, которую скоро сменит ощущение глубокой безысходности. Годами я вел молчаливые беседы с Сири, обдумывая вопросы, которые задам ей при встрече, и вот внезапно с безжалостной, холодной очевидностью я осознаю, что никогда больше не суждено нам сидеть вместе и говорить. Какая пустота в душе!
«Неужели я должен допустить все это, Сири?»
Никакого ответа, кроме усиливающегося гомона толпы. Через несколько минут они пришлют сюда Донела, моего младшего, оставшегося в живых сына, или его дочь Лиру с братом поторопить меня. Я отбрасываю изжеванный травяной стебель. Смутная тень возникает на горизонте. Возможно, это облако. Или первый из плавучих островов, гонимый инстинктом и весенними северными ветрами к огромному поясу экваториальных отмелей, откуда он когда-то ушел в плавание. Теперь это не важно.
«Сири, скажи мне, я прав?»
Ответа нет, а времени остается все меньше.
Невежество Сири порой буквально потрясало меня.
Она ничего не знала о моей жизни вне пределов Мауи-Обетованной. Конечно, она расспрашивала меня, но я нередко сомневался: нужны ли ей мои ответы? Долгими часами я рассказывал ей о виртуозной игре законов физики, позволившей нашим спин-звездолетам обгонять свет, но, кажется, она так ничего и не поняла. Однажды, после того как я подробнейшим образом объяснил ей различие между их древними «ковчегами» и «Лос-Анджелесом», Сири ошеломила меня вопросом: «Но почему же тогда нашим предкам понадобилось восемьдесят лет, чтобы достигнуть Мауи, а ты совершаешь это же путешествие за сто тридцать дней?» Из всего, что я ей говорил, она не поняла ни слова.
Ее исторический кругозор, если его можно так назвать, был ничтожен. Гегемония и Великая Сеть так и остались для нее чем-то вроде волшебной страны из занятной, но чуточку глуповатой детской сказки. Это безразличие временами приводило меня в ярость.
Сири знала абсолютно все о первых днях Хиджры — по крайней мере все, касающееся Мауи-Обетованной и ее колонистов, — и иногда развлекала меня каким-нибудь анекдотом или прелестным архаизмом, но о реалиях нашего времени и слыхом не слыхивала. Такие слова, как Сад и Бродяги, Возрождение и Лузус, ничего для нее не значили. Я упоминал Салмада Брюи или генерала Горация Гленнон-Хайта, и это не вызывало у нее никакой реакции. Абсолютно никакой.
В последний раз я видел Сири, когда ей было семьдесят стандартных лет. Ей было семьдесят, но она никогда не путешествовала на другие планеты, не пользовалась мультилинией, не пробовала никаких алкогольных напитков, за исключением вина, не обращалась к психохирургу, не переступала порога портала, не подвергалась генокоррекции, не подключалась к фантопликатору, не посещала колледж, не проходила РНК-терапию, не слышала о дзенгностиках и церкви Шрайка и не летала ни на чем, кроме старенького «Виккена», которым пользовалась ее семья. Сири не знала других любовников, кроме меня. Во всяком случае она так говорила. И я верил этому.
То было наше первое Единение. Там, на Архипелаге, я впервые говорил с дельфинами.
Мы любовались рассветом. Верхние ветви дома-дерева — самое подходящее место, чтобы смотреть, как бледнеет небо на востоке, предвещая утро. Сначала порозовели завитки высоких перистых облаков, а затем, когда над горизонтом всплыло солнце, море превратилось в расплавленное золото.
— Пойдем поплаваем, — предложила Сири. Первые утренние лучи, омывавшие ее тело, бросили на доски платформы длинную тень.
— Я устал, — ответил я. — Попозже.
Ночью мы почти не сомкнули глаз — разговаривали, любили друг друга, вновь разговаривали, — и сейчас, когда вокруг все сверкало, я чувствовал себя разбитым и опустошенным. Стоило островку покачнуться на волне, как у меня все плыло перед глазами: пьяница с похмелья, да и только.
— Нет, сейчас. — Сири схватила меня за руку и потянула к воде. Я немного рассердился, но не стал спорить. Незадолго до этого Единения Сири исполнилось двадцать шесть — я был на семь лет моложе, но своей импульсивностью она напоминала мне ту, прежнюю Сири, которую всего лишь десять месяцев назад я увел с Фестиваля. Ее звучный, беззаботный смех остался тем же. Когда ей что-то не нравилось, ее зеленые глаза смотрели так же гневно. Не изменилась и грива золотисто-каштановых волос. Но тело ее налилось спелостью и манило обещаниями, которые прежде были лишь туманным намеком. Ее грудь по-прежнему оставалась высокой и округлой — почти девичья грудь, обрамленная сверху веснушками, оттенявшими прозрачную белизну кожи, сквозь которую проступали голубые ниточки вен. Но выглядела она по-другому. Сама Сири стала другой.
— Ты что, так и будешь сидеть и глазеть? — Рассмеявшись, Сири сбросила длинный восточный халат и побежала на нижнюю палубу. Наш кораблик покачивался у причала. Деревья-мачты над нашими головами раскидывали ветви навстречу утреннему бризу. Все эти дни Сири никак не желала расстаться со своим купальником. Сейчас на ней ничего не было. В утренней прохладе соски поднялись и затвердели.
— А мы не отстанем? — спросил я, искоса поглядывая на колышущиеся листья-паруса. Все предыдущие дни мы дожидались полуденного штиля, когда островок застывал среди моря, блестящего и гладкого, как зеркало. Сейчас же плотные листья развернулись во всю ширину, и снасти-лианы уже начали кое-где подрагивать.
— Глупости, — сказала Сири. — Мы всегда сможем ухватиться за килевой корень и приплыть обратно. Или за питающий отросток. Пошли.
Она бросила мне осмотическую маску и надела свою. Прозрачная пленка облепила ее лицо, будто слой масла. Из кармана халата она вынула массивный медальон и надела на шею. На ее нежной коже металл казался темным и зловещим.
— Что это? — спросил я.
Сири не стала снимать маску. Закрепив на шее ларинги, она протянула мне наушники.
— Акустический преобразователь. — В ее голосе появились металлические нотки. — Я-то думала, ты знаешь все о технических новинках, Мерри. Наша последняя модель.
Придерживая медальон рукой, она прыгнула в море. Мелькнули бледные ягодицы, и Сири скрылась под водой. Еще несколько секунд я видел ее тело, а потом оно превратилось в расплывчатый белый силуэт, исчезающий в глубине. Я натянул маску, поплотнее закрепил диски ларингофона и тоже шагнул в море.
Дно островка казалось темным пятном в хрустальном океане света. Я избегал толстых питающих отростков, хотя Сири не раз демонстрировала, что они не захватят ничего крупнее микроскопических частиц зоопланктона, который мерцал в солнечных лучах, словно пылинки, кружащиеся в опустевшем бальном зале. Килевые корни, похожие на усеянные наростами сталактиты, уходили на сотни метров в пурпурные глубины.
Остров двигался. Вытянувшиеся во всю длину питающие отростки мелко подрагивали. Метрах в десяти надо мной сверкала кильватерная струя. Забывшись, я попытался вдохнуть гель маски (с тем же успехом можно дышать морской водой) и закашлялся; потом мне все-таки удалось расслабиться, и воздух вновь пошел в мои легкие.
— Сюда, Мерри, — донесся до меня голос Сири. Я поморгал — медленно, чтобы маска лучше прилегала к векам, — и метрах в двадцати под собой увидел Сири: держась за килевой корень, она безо всяких усилий парила над холодными глубинами, в которые не проникал солнечный свет. Я представил себе тысячи метров воды подо мною и скрывающиеся там создания, неведомых чудовищ, о которых и не подозревают колонисты, никогда не видевшие их в глаза. Я представил себе вечную тьму пучины, и у меня похолодело в животе.
— Погружаемся глубже. — Голос Сири напоминал комариный писк.
Я перевернулся и заработал ногами. Сопротивление воды на Мауи поменьше, чем в морях Старой Земли, но погружаться на большую глубину и здесь было нелегко. Маска компенсировала давление и регулировала содержание азота в дыхательной смеси, но я чувствовал, как вода все сильнее сжимает тело и давит на барабанные перепонки. В конце концов я ухватился за килевой корень и, перебирая руками, опустился к Сири.
Нас окутали сумерки. Сири казалась здесь странно бесплотной, длинные волосы окружали ее голову пурпурным ореолом, незагорелое тело бледно мерцало в сине-зеленом свете. Поверхность океана казалась отсюда бесконечно далекой. Расширяющаяся кильватерная струя и замелькавшие вокруг нас десятки питающих отростков свидетельствовали о том, что островок начал перемещаться быстрее, бездумно устремившись к новым пастбищам, в далекие моря.
— А где же… — начал было я.
— Ш-ш-ш, — остановила меня Сири. Она поиграла медальоном. И тут я услышал их: визг, трели, свист, кошачье мурлыканье и отдаленные вскрики. Морские глубины внезапно наполнились странной музыкой.
— Господи, — пробормотал я, и так как Сири переключила ларингофоны на акустический преобразователь, произнесенное мною слово превратилось в бессмысленный свист и гудки.
— Привет! — Преобразованное в ультразвуковой импульс слово вылетело из передатчика и понеслось сквозь толщу воды.
— Привет! — позвала Сири снова.
Прошло несколько минут, и к нам начали подплывать любопытные дельфины. Они кружили вокруг нас, ошеломляюще, пугающе большие, казавшиеся в полумраке удивительно гладкими и мускулистыми. Один из них, настоящий великан, проплыл всего в метре от нас; в последний миг он повернулся к нам брюхом — выглядело это так, словно перед нами встала белая стена. Я успел заметить его внимательный темный глаз, потом мелькнул широкий хвостовой плавник и меня закрутило волчком — наглядная демонстрация всей мощи этого морского жителя.
— Привет! — опять крикнула Сири, но стремительный силуэт растаял вдали и наступила тишина. Сири выключила преобразователь.
— Хочешь поговорить с ними? — спросила она.
— Еще бы!
Меня не оставляли сомнения. Более чем трехсотлетние попытки наладить диалог между человеком и морскими млекопитающими не привели к успеху. Майк как-то говорил мне, что мыслительные структуры двух осиротевших групп обитателей Старой Земли слишком уж различны, и точек соприкосновения между ними почти не осталось. Один зоолог еще до Хиджры писал, что беседа с дельфином или морской черепахой сулит не больше успеха, чем попытка поговорить с годовалым ребенком. Общение, как правило, нравится обеим сторонам, между ними часто возникает подобие разговора, но до настоящего понимания очень далеко. Сири вновь включила преобразователь.
— Привет, — сказал я.
Минута тишины, а затем в ушах у меня зазвенело от пулеметной очереди слов, на которые море откликалось пронзительными завываниями.
дистанция/без плавника/сигнал-привет?/импульс/окружают меня/забавно?
— Что за чертовщина? — спросил я Сири, и диск тут же преобразовал мой вопрос в пронзительную трель. Сири улыбалась под маской.
Я попытался снова:
— Привет! Мы с… э-э… с поверхности. Как вы себя чувствуете?
Большой самец… полагаю, это был самец… ринулся к нам, как торпеда. Изгибаясь дугой, а затем распрямляясь, он двигался сквозь воду в десять раз быстрее, чем плыл бы я, даже если бы не забыл натянуть ласты. На секунду я подумал, что он решил протаранить нас, и, подтянув к животу колени, что есть сил вцепился в килевой корень. Но он обогнул нас и устремился вверх глотнуть воздуха, а мы с Сири вылетели как пробки из оставленного им водоворота, оглушенные его пронзительными криками.
нет плавника/нет еды/нет плавания/нет игры/нет забав
Сири выключила преобразователь и, подплыв поближе, обняла меня за плечи. Чтобы удержаться на месте, я схватился за корень. Наши ноги соприкоснулись. Стайка маленьких алых рыбок метнулась во все стороны, но темные силуэты дельфинов по-прежнему кружили вдали.
— Хватит? — спросила Сири, и ее ладонь легла мне на грудь.
— Еще разок, — попросил я. Сири кивнула и включила диск-преобразователь. Течение вновь толкнуло нас друг к другу, и ее руки опять обвили мою шею.
— Почему вы пасете острова? — спросил я у фигур с бутылочными носами, круживших в пронизанной отблесками света воде. — Зачем вам они нужны?
сейчас звуки/старые песни/глубокая вода/нет Больших Голосов/нет Акулы/старые песни/новые песни
Сири прильнула ко мне и обняла еще крепче.
— Большие Голоса — это киты, — шепнула она. Ее распущенные волосы колыхались, словно вымпел. Потом ее правая рука скользнула вниз и замерла, словно удивившись тому, что обнаружила.
— Вы тоскуете по Большим Голосам? — спросил я. Ответа не последовало. Сири обвила ногами мои бедра. Поверхность моря с сорокаметровой глубины напоминала чашу пенного напитка.
— О чем из того, что было в океанах Старой Земли, вы больше всего тоскуете? — спросил я.
Обнимая Сири левой рукой, я провел правой по ее спине и крепко сжал упругие ягодицы. Должно быть, мы представлялись дельфинам единым существом. Сири приподнялась, и мы стали единым существом.
Диск преобразователя болтался у нее за плечом. Я протянул руку, чтобы выключить его, но неожиданно нам в уши ударил ответ на мой вопрос.
нет Акулы/нет Акулы/тоскуем/Акула/Акула/Акулы
Выключив диск, я недоуменно покачал головой. Я не понимал. Слишком многого я тогда не понимал. Я закрыл глаза и стал двигаться вместе с Сири, покоряясь ритму течения и нашему с ней ритму, а дельфины плавали вокруг нас, и их нестройные крики сливались в древний, как они сами, поминальный плач.
На рассвете мы спустились с холмов и снова окунулись в суматоху Фестиваля. Всю ночь и весь день мы бродили по холмам, ели вместе с незнакомцами в шатрах из оранжевого шелка, купались в ледяных водах Шри и танцевали под музыку, которая играла не умолкая для бесконечной процессии проплывавших мимо островков. Я проснулся на закате и обнаружил, что Сири куда-то ушла. Но она вернулась еще до восхода местной луны. Ее родители вместе с друзьями отправились на несколько дней прогуляться на тихоходной барке, оставив семейный скиммер в Порто-Ново. И мы двинулись к центру города, переходя от костра к костру, от одной группы танцующих к другой. Мы собирались вылететь на этом скиммере в семейную усадьбу Сири неподалеку от Фиварона.
Стояла глубокая ночь, но на главной площади Порто-Ново гулянье шло вовсю. Я был очень счастлив. Мне было девятнадцать лет, я был влюблен, и сила тяжести, всего лишь на семь сотых меньше стандартной, казалась мне ерундой. Я бы мог, наверное, взлететь, если бы захотел. Я мог все.
Мы остановились у киоска и купили сдобного печенья и по чашке кофе. И тут мне в голову пришла неожиданная мысль.
— А как ты узнала, что я корабельщик?
— Потише, Мерри, потише. Вкушай пока этот убогий завтрак. Завтра, когда доберемся до виллы, позавтракаем по-настоящему.
— Нет, я серьезно, — сказал я, вытирая жирный подбородок рукавом уже утратившего чистоту костюма арлекина. — Сегодня утром ты сказала, что сразу поняла в тот вечер, откуда я. Как же ты узнала? По акценту? По костюму? Мы с Майком видели здесь и других парней, одетых точь-в-точь как мы.
Сири засмеялась и откинула со лба волосы.
— Радуйся, что именно я разоблачила тебя, Мерри, любовь моя. Если бы это был мой дядя Грешем, или его друзья, тебе бы не поздоровилось.
— Да? Но почему? — Я взял еще одно песочное кольцо, Сири за него заплатила, и мы двинулись сквозь редеющую толпу. Несмотря на царящее вокруг веселье, мною начала овладевать усталость.
— Они сепаратисты, — объяснила Сири. — Дядя Грешем недавно произнес перед Советом речь, в которой утверждал, что нам лучше погибнуть, чем допустить, чтобы ваша Гегемония нас слопала. Он заявил, что мы должны разрушить ваш портал прежде, чем он разрушит нас.
— Вот как? — хмыкнул я. — А твой дядя не говорил, как он собирается это сделать? Я слышал, у вас нет даже обычного межпланетного флота.
— Нет, и еще лет пятьдесят не будет, — подтвердила Сири. — Это только лишний раз доказывает, как глупы наши сепаратисты.
Я кивнул. Капитан Сингх и советник Холмин уже рассказывали нам о партии так называемых сепаратистов на Мауи-Обетованной.
— Обыкновенная коалиция колониальных ура-патриотов и почвенников, — пояснил Сингх. — Из-за их активности мы медлим со строительством портала и стараемся поднять торговый потенциал этой колонии. Нам вовсе ни к чему, чтобы эти иеху вошли в Великую Сеть раньше времени. Враждебность подобных групп — еще одна причина, чтобы команда и строители держались подальше от местных.
— Где же твой скиммер? — спросил я.
Площадь быстро пустела. Музыканты собирали свои инструменты. На траве и булыжной мостовой, среди куч мусора и незажженных фонарей, храпели разряженные гуляки. Осталось всего два-три оазиса веселья — там еще кружились в танце под звуки одинокой гитары или пели нестройными голосами. Майка Ошо я увидел сразу — дурень в маскарадном костюме без маски, на котором повисли две девушки. Он пытался разучить «Хава Нагилла» с кружком восторженных, но неискусных поклонников. То и дело кто-нибудь из них спотыкался, и вся компания валилась на землю. Под общий хохот Майк тычками поднимал их на ноги, и они начинали снова, неуклюже подпрыгивая в такт его раскатистому басу.
— Вот он, — сказала Сири, показывая на короткую шеренгу скиммеров, выстроившихся позади Городского Собрания.
Я помахал Майку, но он не заметил меня, занятый своими дамами. Сири и я уже пересекли площадь и оказались в тени старинного здания, когда раздался крик:
— Эй, корабельщик! А ну повернись ко мне, отродье Гегемонии!
Я застыл, потом обернулся, сжав кулаки, но никого рядом не увидел. Шестеро молодых людей, только что спустившихся с трибуны, обступили полукругом Майка. Впереди стоял высокий юноша, стройный и поразительно красивый. Ему было лет двадцать пять. Длинные светлые кудри, рассыпавшиеся по алому шелку рубашки, подчеркивали редкостную красоту его лица. В правой руке он сжимал короткий меч, как мне показалось, из закаленной стали.
Майк, стоявший к ним спиной, медленно обернулся. Даже я разглядел, какими грустными стали его глаза, когда он оценил ситуацию. Девушки, которых он обнимал, и их спутники захихикали, будто высокий красавец сказал что-то смешное.
— Вы ко мне, сэр? — спросил он, дурашливо улыбнувшись.
— К тебе, к тебе, ублюдок, — процедил главарь сквозь зубы. Его красивое лицо искривилось в презрительной гримасе.
— Бертол, — прошептала Сири. — Мой двоюродный брат. Младший сын дяди Грешема.
Я кивнул и вышел из тени. Сири схватила меня за руку.
— Уже дважды, сэр, вы оскорбительно отозвались о моей матери, — прогнусавил Майк. — Моя мать или я оскорбили вас когда-то? Если да, то тысяча извинений. — Майк отвесил такой глубокий поклон, что бубенцы на его колпаке коснулись земли. Его пьяные поклонники зааплодировали.
— Меня оскорбляет твое присутствие, скотина. Своей жирной тушей ты провонял весь воздух.
Майк вскинул брови. Стоявший рядом с ним молодой человек в костюме рыбы замахал рукой:
— Да, успокойся ты, Бертол. Он ведь просто…
— Заткнись, Ферик. Я говорю с этим жирным говнюком.
— Говнюком? — повторил Майк, все с той же удивленной гримасой. — Я пролетел двести световых лет, чтобы меня назвали говнюком? Едва ли стоило трудиться.
Он не без изящества повернулся, освобождаясь от висевших на нем женщин. Я бы, конечно, уже стоял с ним рядом, однако Сири, крепко вцепившись в мою руку, беззвучным шепотом умоляла меня не шевелиться. Когда наконец я вырвался, то увидел, что Майк все еще улыбается. Но его левая рука уже нырнула в карман мешковатого костюма.
— Дай ему свой клинок, Крег, — коротко распорядился Бертол. Один из молодых людей бросил Майку меч, который, описав дугу, со звоном упал на булыжник. Майк спокойно проводил его взглядом.
— Это несерьезно, — сказал он мягким и неожиданно трезвым голосом. — У тебя что в башке — мозги или коровье дерьмо? Неужели ты действительно думаешь, что я буду тут разыгрывать дуэль только потому, что тебе приспичило изобразить перед этой деревенщиной героя?
— Подними меч, — заорал Бертол, — или, Богом клянусь, я зарублю тебя на месте. — С искаженным яростью лицом он шагнул вперед.
— Пошел вон, — жестко сказал Майк. В его левой руке появилось лазерное перо.
— Не надо! — крикнул я и выбежал на свет. Такими перьями пользовались монтажники, чтобы делать пометки на конструкциях из упрочненных сплавов.
Все произошло очень быстро. Бертол сделал еще один шаг, и Майк небрежно провел по его телу зеленым лучом лазера. Юноша вскрикнул и отпрыгнул; черная дымящаяся черта по диагонали пересекла его шелковую рубашку. Я не знал, что делать. Майк установил самый низкий уровень мощности. Двое приятелей Бертола бросились к Майку, но он провел лучом по их ногам. Один с проклятием упал на колени, другой, охая от боли, отскочил.
Тем временем вокруг собралась толпа. Зеваки захохотали, когда, сдернув свой дурацкий колпак, Майк поклонился вторично.
— Благодарю вас, — сказал он. — И моя матушка тоже.
Кузен Сири окаменел от гнева. На его губах и подбородке белела пена. Я протолкнулся сквозь толпу и встал между ним и Майком.
— Эй, послушайте, все нормально, — сказал я. — Мы покидаем вас. Мы сейчас же уходим.
— Пошел к черту, Мерри, не мешай, — крикнул Майк.
— Все нормально, Майк, — бросил я ему. — Я здесь с девушкой по имени Сири, у которой есть…
Бертол оттолкнул меня и сделал выпад мечом. Я схватил его за плечо и швырнул на траву.
— Ах ты, скотина! — Майк отступил назад. Он выглядел ужасно усталым и недовольным. — У-у, дьявол, — тихо сказал он, садясь на каменную ступеньку. С левой стороны на черном лоскуте пестрого костюма арлекина проступила алая черточка. Узкий разрез прямо на глазах набух кровью, а затем она потекла вниз, на широкий живот Майка Ошо.
— Господи, Майк! — Я оторвал полоску от своей рубашки и попытался остановить кровь. Готовясь к полету, мы проходили курс неотложной помощи, но я не помнил ровным счетом ничего. Я потянулся к запястью, но комлога на месте не было: наши комлоги остались на «Лос-Анджелесе».
— Ты только не волнуйся, Майк. — Я задыхался от волнения. — Там всего лишь царапина. — Кровь текла теперь и по моей руке.
— Этого достаточно. — Голос Майка вздрагивал от боли. — Черт бы его взял! Меч этот сраный. Нет, Мерри, ты только представь! Вот так проткнуть человека во цвете лет паршивым бутафорским мечом из одногрошовой оперы. О черт, как больно!
— Трехгрошовой, — машинально поправил я. Тряпка пропиталась кровью.
— Знаешь, в чем твоя проблема, Мерри? Ты всегда цепляешься за свои вшивые два цента. О-о-о… — Лицо Майка побелело, потом стало серым. Он уткнулся подбородком в грудь и глубоко вздохнул: — К черту все. Пора домой, малыш.
Я оглянулся. Бертол не торопясь уходил вместе со своими дружками. Остальные в ужасе толпились возле нас.
— Врача! — крикнул я. — Вызовите сюда любую медицинскую помощь!
Двое мужчин побежали по улице. И ни малейших признаков Сири.
— Постойте! Постойте! — заговорил вдруг Майк окрепшим голосом, словно торопился сказать что-то очень важное. — Всего минутку, — сказал он и умер.
Умер. По-настоящему. Смерть мозга. Челюсть у него отвалилась, глаза закатились, так что видны были только белки, а через минуту перестала кровоточить и рана.
В течение нескольких безумных секунд я осыпал небеса ругательствами. Надо мной сквозь бледнеющие звездные поля проплывал наш «Лос-Анджелес», и я знал, что мог бы вернуть Майка к жизни, если бы мне удалось доставить его на корабль. Толпа отхлынула, когда я начал проклинать звезды.
Но вот я повернулся к Бертолу.
— Эй ты!
Юнцы остановились на дальнем конце площади. Лицо Бертола стало пепельным. Он смотрел на меня и не мог произнести ни звука.
— Ты! — снова крикнул я. Я поднял с земли лазерное перо, поставил переключатель на полную мощность и пошел туда, где меня ждали Бертол и его приятели.
Немного позже, сквозь их вопли и вонь паленого мяса, я смутно осознал, что на переполненную площадь, поднимая тучи пыли, садится скиммер Сири, и услышал ее голос, приказывающий мне немедленно подойти. Мы поднялись над площадью, ее безумием, ее огнями. Холодный ветер развевал мои мокрые от пота волосы.
— Мы летим в Фиварон, — говорила мне Сири. — Бертол был пьян. Сепаратисты — жалкая кучка экстремистов. Наказывать тебя никто не будет. Пока Совет ведет расследование, ты погостишь у нас.
— Нет, — ответил я. — Я выйду здесь. Приземляйся. — Я указал на полоску земли невдалеке от города.
Невзирая на все ее протесты, Сири пришлось посадить скиммер. Я взглянул на каменную глыбу и, убедившись, что рюкзак на месте, открыл дверцу. Сири скользнула по сиденью в мою сторону и прижалась ко мне.
— Мерри, любовь моя. — Ее губы были теплы и открыты, но я ничего не чувствовал. Тело словно одеревенело.
Я вышел и помахал ей на прощание. Она откинула назад волосы и посмотрела на меня зелеными, полными слез глазами. Затем скиммер поднялся, развернулся и в предрассветных сумерках полетел на юг.
«Погоди минутку!» Сам не знаю, произнес я это вслух или только подумал. Я сел на камень, обхватил руками колени, и из груди у меня вырвались сдавленные рыдания. Потом я встал и швырнул лазерное перо в волны прибоя. Вытащив из-под глыбы рюкзак, я высыпал его содержимое на землю.
Ковер-самолет исчез.
Я снова сел, не в силах ни смеяться, ни плакать, ни просто двигаться. Я сидел, глядя, как встает солнце. Я все еще сидел там, когда через три часа невдалеке от меня бесшумно опустился большой черный скиммер корабельной службы безопасности.
— Отец! Отец, пора!
Я поворачиваюсь к своему сыну Донелу. На нем синий с золотом мундир члена Совета Гегемонии. Его лысина покраснела и покрыта крупными каплями пота. Донелу всего сорок три года, но мне кажется, он гораздо старше.
— Прошу тебя, отец, — говорит он. Я киваю и поднимаюсь, стряхивая со штанин траву и песок. Ко входу в гробницу мы подходим вдвоем. Толпа подступает ближе. Гравий скрипит под ногами людей, которые беспокойно топчутся на месте.
— Я войду с тобой, отец? — спрашивает Донел.
Я смотрю на этого стареющего незнакомца, моего сына. В нем мало что напоминает меня или Сири. Сегодняшние хлопоты омрачили его румяное, добродушное лицо. В нем есть открытость и честность, которые нередко заменяют людям ум, но я невольно сравниваю этого лысеющего вечного мальчика с Алоном — темнокудрым, молчаливым Алоном с его ироничной улыбкой. Но Алон погиб тридцать три года назад в глупейшей стычке, не имевшей к нему никакого отношения.
— Нет, — отвечаю я. — Я войду один. Спасибо, Донел.
Он кивает и отступает назад. Над головами напряженно застывших людей хлопают флажки. Я переключаю свое внимание на гробницу. Дверь закрыта на папиллярный замок. К нему нужно только прикоснуться.
Вот уже несколько минут меня занимает одна фантазия. Наверное, я пытаюсь отвлечься от снедающей меня печали и мыслей о том, что произойдет в ближайшие часы. Сири не умерла. Когда ей стало хуже, она созвала врачей и всех оставшихся в колонии техников, и они переделали для нее одну из древних гибернационных камер, использовавшихся на «ковчегах», которые два столетия назад доставили сюда первых колонистов. Сири только спит. Мало того, этот сон каким-то образом вернул ей молодость. Когда я разбужу ее, она станет такой, какой была при первой нашей встрече. Мы вместе выйдем на солнечный свет и, когда откроются двери портала, первыми переступим его порог.
— Отец?
— Да-да. — Я делаю еще один шаг и кладу руку на дверь склепа. Раздается гудение электромоторов, плита белого камня легко отходит в сторону. Я склоняю голову и вхожу в гробницу Сири.
— Черт возьми, Мерри, закрепи эту снасть, пока она не сбросила тебя за борт. Поторапливайся!
Я тороплюсь. Намокший канат трудно сложить в бухту, а вязать узлы еще труднее. Сири недовольно покачивает головой, потом наклоняется и одной рукой завязывает его беседочным узлом.
Наше пятое Единение. Я на три месяца опоздал на ее день рождения и поэтому не был среди пяти тысяч гостей, съехавшихся на торжество. Сам Секретарь Сената пожелал ей всех благ в сорокаминутной речи. Поэт прочел свои последние сонеты из цикла любовной лирики. Посол Гегемонии вручил ей адрес и новый корабль — маленькую подводную лодку на термоядерных батареях, впервые разрешенных к применению на Мауи-Обетованной.
До этого флот Сири насчитывал восемнадцать единиц. Двенадцать быстроходных катамаранов, осуществлявших торговые перевозки между блуждающим Архипелагом и неподвижными островами, две прекрасные гоночные яхты, которыми пользовались только дважды в год, чтобы выиграть «Регату Основателей» и Гранпри Обетованной, и четыре древних рыболовных судна, или попросту шаланды, неказистых, хотя и поддерживаемых в хорошем состоянии.
Из этих девятнадцати кораблей мы выбрали рыболовную посудину под названием «Джинни Пол». Восемь дней мы ловили рыбу на шельфе Экваториальных Отмелей. Нас было только двое: мы забрасывали и вытягивали сети, пробирались по палубе, утопая по колено в вонючей рыбе и хрустя трилобитами, хватались за что попало, когда суденышко кренилось на волне, вновь забрасывали и вытягивали сети, стояли на вахте и засыпали, как набегавшиеся дети в короткие минуты отдыха. Мне еще не исполнилось двадцати трех лет. Я считал, что привык к тяжелой работе на борту «Лос-Анджелеса», где каждую вторую вахту отводил по часу для физических упражнений на площадке с повышенной на треть гравитацией. Но сейчас у меня болели от усталости и руки, и спина, а ладони покрылись волдырями и мозолями. Сири пошел уже восьмой десяток.
— Мерри, ступай на нос, возьми риф на фоке. И подтяни кливер. Потом приготовишь бутерброды. Побольше горчицы.
Я кивнул и пошел на нос. Мы уже полтора дня играли в прятки со штормом: убегали от него, когда могли, а если убежать не удавалось, разворачивались и принимали на себя его удар. Поначалу эта игра доставляла нам удовольствие — какое-то время мы были избавлены от нескончаемой возни с сетями и починки парусов. Но через несколько часов, когда уровень адреналина в крови приходил в норму, изнурительная морская болезнь превращала отдых в пытку. Море никак не успокаивалось. Высота волн достигала шести метров. «Джинни Пол» переваливалась с боку на бок, как дородная матрона, каковой, впрочем, и являлась. Все вокруг отсырело. Даже мой трехслойный дождевик промок насквозь. Для Сири же все это было долгожданным отпуском.
— Это еще ничего, — говорила она в самые темные часы ночи, когда волны перекатывались через палубу и разбивались о пластиковое ограждение рубки. — Ты бы посмотрел, что здесь творится в сезон самумов.
Низкие тучи вдали сливались с серыми волнами, однако море, кажется, успокаивалось. Я щедро намазал горчицей бутерброды с ростбифом и налил дымящийся кофе в широкие белые кружки. Было бы легче нести кофе в полной невесомости, чем спускаться с ним сейчас по раскачивающемуся трапу. Сири приняла свою наполовину пустую чашку без комментариев. Какое-то время мы сидели молча, наслаждаясь едой и обжигающим язык напитком. Потом я встал за штурвал, а Сири отправилась за новой порцией кофе. Серый день незаметно превращался в ночь.
— Мерри, — сказала она, протянув мне кружку и присев на откидную мягкую скамейку. — Что будет с нашим миром после открытия порталов?
Вопрос меня удивил. До этого мы почти не говорили о том времени, когда Мауи-Обетованная присоединится к Гегемонии. Я взглянул на Сири и был поражен, какой старой она мне вдруг показалась. Мозаика морщин и теней покрыла лицо. Прекрасные зеленые глаза утонули в темных колодцах глазниц, острые скулы, как лезвия, натянули хрупкий пергамент кожи. Свои седые волосы она стригла теперь коротко, и мокрые прядки торчали во все стороны. Бесформенный свитер не мог скрыть высохшую шею и запястья, состоявшие, казалось, из одних сухожилий.
— О чем ты? — спросил я.
— Что будет с нашим миром после открытия порталов?
— Ты же сама знаешь, Сири, что говорит по этому поводу Совет. — Я почти кричал, потому что она стала туговата на одно ухо. — Нуль-Т положит начало новой эре в торговле и развитии технологии на вашей планете. И вы не будете больше ограничены рамками своего мирка. Как только вы получите статус граждан, каждому будет позволено входить в двери порталов.
— Да, конечно, — устало ответила Сири. — Я слышала об этом. Но что произойдет с нашим миром? Кто появится здесь первым?
Я пожал плечами.
— Наверное, дипломаты. Ну а потом… Специалисты по культурным контактам. Антропологи. Этнологи. Морские биологи.
— А за ними?
Я ответил не сразу. Уже стемнело. Море почти успокоилось. На мачтах горели красные и зеленые ходовые огни. Меня охватило беспокойство, — как два дня назад, когда на горизонте показалась стена шторма.
— За ними прибудут миссионеры, — продолжил я. — Геологи-нефтяники. Морские фермеры. Застройщики.
Сири отпила глоток кофе.
— Я думала, твоя Гегемония давно миновала этап нефтяной экономики.
Я рассмеялся, закрепляя колесо штурвала:
— Никто не может его миновать. По крайней мере, пока есть нефть. Мы ее не сжигаем, ты, наверное, это имела в виду. Нефть нужна для производства пластмассы, синтетиков, пищевой основы и кероидов. Двум сотням миллиардов людей нужно много пластмассы.
— И на Мауи-Обетованной есть нефть?
— О да, — ответил я. Теперь мне было не до смеха. — Миллиарды баррелей в одном только месторождении под Экваториальными Отмелями.
— Как они будут ее добывать, Мерри? С платформ?
— Да. С платформ. Ну и подводные установки. Подводные колонии с генетически модифицированными рабочими с Безбрежного Моря.
— А что станет с плавучими островками? — спросила Сири. — Они же каждый год должны возвращаться на отмели, чтобы размножаться и отращивать новые лозы водяного винограда. Что будет с ними?
Я снова пожал плечами. От кофе горчило во рту.
— Не знаю, — ответил я. — Команду в такие вещи не посвящают. Но после нашего первого рейса Майк слышал, что они планируют застроить как можно больше островков, хотя некоторые, конечно, останутся неприкосновенными.
— Застроить? — В голосе Сири впервые послышалось удивление. — Разве это можно? Даже Первые Семьи должны просить разрешение у Морского Народа, чтобы соорудить дом-дерево.
Я улыбнулся, услышав местное название дельфинов. Обитатели Мауи — сущие дети, когда речь заходит об их проклятых дельфинах.
— Все уже подсчитано, — продолжил я. — 128573 островка достаточно велики для того, чтобы разместить на них постройки. Лицензии на эти острова давно проданы. А островки меньших размеров, наверное, разгонят на все четыре стороны. Неподвижные острова будут использоваться в развлекательных целях.
— В развлекательных целях, — как эхо, повторила Сири. — И сколько же граждан Гегемонии воспользуются нуль-Т, чтобы побывать здесь… в развлекательных целях?
— На первых порах? — уточнил я. — В первый год всего несколько тысяч. Пока портал на острове 241 — на Фактории — остается единственным, число посетителей будет ограничено. Вероятно, тысяч пятьдесят на второй год, когда построят портал в Порто-Ново. Это будет роскошная экскурсия. Когда колонию первой волны включают в Сеть, от туристов нет отбоя.
— А потом?
— После пяти лет испытательного срока? Построят еще тысячи порталов. Я думаю, уже за первый год в статусе полноправного члена Гегемонии на планете появится двадцать — тридцать миллионов новых жителей.
— Двадцать — тридцать миллионов, — повторила Сири. Мерцающая картушка компаса бросала отсветы на ее изрезанное морщинами лицо. Все еще красивое. Вопреки тому, что я ожидал, на нем не было ни удивления, ни гнева.
— Но вы ведь сами станете гражданами, — сказал я. — Полная свобода перемещения по всей Великой Сети. Можно будет отправиться на любой из шестнадцати миров. К тому времени, возможно, и больше.
— Возможно. — Сири отставила пустую кружку. Мелкий дождик растекался струйками по стеклам рубки. Экран простенького радара в рамке ручной работы показывал, что море вокруг нас пустынно, шторм кончился.
— Это правда, Мерри, что у вас в Гегемонии живут в домах, находящихся одновременно на десятке планет? То есть дом один, а его окна выходят на десяток разных небес?
— Конечно, — сказал я. — Но далеко не все. Мультимировые резиденции могут позволить себе только богатые люди.
Сири улыбнулась и положила мне на колено руку. Тыльная сторона ладони была в темных пятнышках и голубых прожилках вен.
— Ты ведь очень богат, не так ли, корабельщик?
Я отвернулся:
— Еще нет.
— Еще нет, но скоро, Мерри, скоро. Сколько времени это займет у тебя, любимый? Меньше двух недель здесь, затем обратный путь в Гегемонию. Еще пять твоих месяцев, чтобы привезти сюда последние детали конструкции, несколько недель для завершения работ, а потом — всего один шаг, и ты уже дома. Богатый. Перешагнешь двести световых лет пустоты. Странная мысль… но где же была я? То есть сколько времени пройдет? Меньше стандартного года.
— Десять месяцев, — сказал я, — триста шесть стандартных дней. Триста четырнадцать ваших. Девятьсот восемнадцать смен.
— И тогда твое изгнание окончится.
— Да.
— И тебе будет двадцать четыре года, и ты будешь очень богат.
— Да.
— Я устала, Мерри. Пойду спать.
Мы запрограммировали румпель, включили сигнализацию и спустились вниз. Ветер снова усилился, и наше суденышко заскакало по волнам. Мы разделись в тусклом свете качающейся лампы. Я тут же юркнул под одеяло. До этого мы спали всегда по очереди. Я помнил наше прошлое Единение, ее смущение на вилле, и ожидал, что она погасит свет. Но Сири разделась как ни в чем не бывало и почти минуту простояла передо мной, спокойно опустив руки и лишь слегка ежась от холода.
Время заявило свои права на Сири, но не обезобразило ее. Она похудела, и неумолимая сила тяжести оставила свой отпечаток на ее теле. Я смотрел на проступившие сквозь кожу ребра и ключицы и вспоминал шестнадцатилетнюю девушку с ямочками на щеках и теплой бархатистой кожей. В холодном свете качающейся лампы я смотрел на ее дряблую плоть и вспоминал ту лунную ночь и белеющую в темноте девичью грудь. Я смотрел и гнал от себя мысль, что та девочка стоит сейчас передо мной.
— Подвинься, Мерри.
Сири скользнула под одеяло. Простыни были просто ледяные. Я выключил свет. Наше суденышко покачивалось на волнах в такт мерному дыханию моря. Уютно поскрипывали снасти и мачты. Утром мы будем снова забрасывать сети и чинить паруса, но сейчас — время сна. Под шум волн, разбивающихся о борт, я начат засыпать.
— Мерри?
— Да?
— Что будет, если сепаратисты нападут на туристов из Гегемонии или на переселенцев?
— Но ведь их, по-моему, выселили на плавучие острова?
— Выселили. Но что, если они восстанут?
— Гегемония пришлет сюда отряд ВКС, и он вышибет дурь из ваших сепаратистов.
— А если они атакуют портал… помешают его достроить?
— Это невозможно.
— Да, я знаю, но все-таки, что тогда?
— Тогда через девять месяцев «Лос-Анджелес» вернется с войсками Гегемонии, которые вышибут дурь из сепаратистов… из всех обитателей Мауи-Обетованной, кто встанет на их пути.
— Девять месяцев по корабельному времени, — поправила меня Сири. — Здесь пройдет одиннадцать лет.
— Так или иначе, они сюда прибудут, — сказал я. — Давай поговорим о чем-нибудь другом.
— Хорошо, — отозвалась Сири, но больше ничего не сказала. Я вслушивался в скрипы и вздохи корабля. Сири прикорнула у меня на плече, и дыхание ее было таким глубоким и ровным, что я подумал: она спит. Я уже засыпал, когда теплая рука Сири легла на мое бедро, потом скользнула выше. Я откликнулся на ласку, но не мог скрыть удивления. Сири шепотом ответила на не высказанный мною вопрос:
— Нет, Мерри, возраст ничего не меняет. По крайней мере не настолько, чтобы не хотеть близости и тепла. Решать тебе, любимый. Я приму любой твой выбор.
Я решил. К рассвету мы уснули.
Гробница пуста.
— Донел!
Шаркая ногами, он входит внутрь, и шелест его одежд эхом отдается от стен. Гробница пуста! Гибернационной камеры нет — по правде говоря, я и не ожидал ее увидеть, — но внутри нет ни саркофага, ни гроба. Яркая лампа освещает белые стены.
— Что за шутки, Донел? Что это такое?
— Это ее гробница, отец.
— Но где же она, черт побери, погребена? Под полом?
Донел вытирает пот со лба. Я вспоминаю, что речь идет о его матери. Но у него было почти два года, чтобы свыкнуться с мыслью о ее смерти.
— Тебе никто не говорил? — спрашивает он.
— О чем? — Гнев и смятение идут на убыль. — Меня примчали сюда прямо с посадочной площадки и сказали, что перед открытием портала я должен посетить гробницу Сири. Что еще?
— Мать кремировали согласно ее указаниям. Прах был развеян над Великим Южным Морем с верхней платформы семейного плавучего острова.
— Тогда для чего этот… склеп? — Я осторожно подбираю слова, чтобы не задеть Донела.
Он снова вытирает пот со лба и бросает взгляд на дверь. Нас никто не видит, но ясно, что мы все слишком затянули. Остальным членам Совета наверняка пришлось бежать по склону холма, чтобы присоединиться к почетным гостям на трибуне. Моя неспешная печаль сегодня хуже опоздания — она отдает театральщиной.
— Мать оставила указания. Они были выполнены.
Донел касается пластинки на стене, она скользит вверх, открывая небольшую нишу, в которой стоит металлический ящик. На нем мое имя.
— Что это?
Донел встряхивает головой:
— Личные вещи, которые мать оставила тебе. Все знала только Магрит, но она умерла прошлой зимой, ни слова никому не сказав.
— Понятно, — говорю я. — Спасибо. Через минуту я выйду.
Донел смотрит на свой хронометр:
— Церемония начинается через восемь минут. Активация нуль-канала — через двадцать.
— Знаю. — Уж это-то я знаю. Даже не глядя на часы, я могу сказать, сколько у меня осталось времени. — Я сейчас выйду.
Донел топчется в нерешительности, затем уходит. Я захлопываю за ним дверь. Металлический ящик удивительно тяжелый. Я ставлю его на каменный пол и прикасаюсь к папиллярному замку. С легким щелчком открывается крышка, и я заглядываю внутрь.
— Ах, черт бы меня взял! — вырывается у меня.
Не знаю, что я ожидал там увидеть, — возможно, какие-нибудь безделушки, ностальгические напоминания о проведенных вместе ста трех днях, может быть, засушенный цветок из поднесенного давным-давно букета или раковину в форме валторны, за которыми мы ныряли у Фиварона. Но там не безделушки, скорее, наоборот.
В ящике лежит ручной лазер Штайнера-Джинна, один из наиболее мощных образчиков лучевого оружия, когда-либо созданного человеком. Аккумулятор через силовой кабель подключен к миниатюрной термоядерной батарее, которую Сири варварски выдрала из своей новенькой субмарины. К этой же батарее подключен и старинный комлог, антикварная диковинка на твердотельных схемах с жидкокристаллическим дисплеем. Индикатор питания мерцает зеленым цветом.
В ящике еще две вещи. Первая — акустический преобразователь в виде медальона, с которым мы когда-то ныряли. При виде второй у меня буквально перехватывает дыхание.
— Ах ты, паршивка! — Все становится на место. Я не в силах удержать улыбку: — Ах ты, хитрюга моя милая!
В ящике лежит аккуратно свернутый и подключенный к батарее ковер-самолет, тот самый, который Майк Ошо купил на Карвнельской ярмарке за тридцать марок. Оставив ковер на месте, я вынимаю комлог. Потом сажусь, скрестив ноги, на холодный каменный пол и нажимаю на кнопку. Свет в гробнице меркнет, и передо мной внезапно появляется Сири.
Я ожидал, что после гибели Майка меня вышвырнут с корабля. Они могли так поступить, но не сделали этого. Меня могли выдать властям Мауи-Обетованной. Могли, но не выдали. Два дня меня допрашивала служба безопасности корабля, причем однажды на допрос пришел сам капитан Сингх. После этого мне разрешили вернуться к исполнению своих обязанностей. Обратный прыжок занял четыре месяца, и все это время меня терзали воспоминания. Снова и снова я проклинал свою неуклюжесть, которая стоила Майку жизни. Я стоял вахты, просыпался по ночам, измученный кошмарами, и гадал, отчислят ли меня по прибытии в Сеть. Со мной вполне могли расстаться, но этого не случилось.
Меня не отчислили и не лишили положенного отпуска в Сети. Мне лишь запретили отлучаться с корабля в системе Мауи-Обетованной. Ну и вдобавок объявили выговор и временно понизили по службе. Вот во что оценили жизнь Майка — выговор и понижение по службе.
Вместе с остальными членами команды я отправился в трехнедельный отпуск, возвращаться из которого не собирался. По нуль-Т я отправился на Эсперансу, где совершил типичную ошибку корабельщиков — посетил свою семью. Двух дней в переполненном жилом баллоне оказалось более чем достаточно, и я отправился оттуда на Лузус, где три дня не вылезал из борделей на Рю де Ша. Когда мне и это надоело, я перебрался на Фудзи, где истратил большую часть наличных марок, делая ставки на самурайских поединках.
В конце концов я оказался на станции «Старая Родина» и взял там напрокат челнок для двухдневного путешествия по Морю Эллады. Я никогда до этого не был ни в Солнечной Системе, ни на Марсе, не собирался я и возвращаться сюда; десять дней, которые я провел в полном одиночестве, слоняясь по пыльным, населенным призраками прошлого коридорам Монастыря, заставили меня поторопиться с возвращением на корабль. К Сири.
Время от времени я покидал этот циклопический лабиринт, сложенный из красного камня, и, надев только защитный костюм и маску, выходил на один из многочисленных балконов и подолгу смотрел на тусклую звездочку — все, что осталось от Старой Земли. Иногда я размышлял об отважных безумцах, уходивших отсюда в великую тьму, чтобы нести к звездам на своих протекающих тихоходах — с верой и заботой — эмбрионы и идеи. Но гораздо чаще я не думал ни о чем. Просто стоял в пурпурной мгле и ждал, когда ко мне придет Сири. Там, на Скале Мастера, где истинное сатори не давалось стольким куда более достойным паломникам, я обретал его, вспоминая тело женщины-девочки, еще не достигшей шестнадцати лет, которая лежала рядом со мной, освещенная лунным светом, стекавшим с крыльев парящего над нами царь-ястреба.
Когда «Лос-Анджелес» вновь отправился в полет и перешел в спин-режим, я был на его борту. Четыре месяца спустя я со спокойной душой готовился к уже привычным вахтам с бригадой строителей, фантопликатору и сну в отведенное для отдыха время, когда ко мне зашел капитан Сингх.
— Ты отправишься вниз, — сказал он.
Я ничего не понимал.
— За последние одиннадцать лет, — пояснил капитан Сингх, — ваши с Ошо похождения обросли массой деталей и стали самой настоящей легендой. Местные жители сочиняют целые истории о том, как ты трахнул туземную девчонку.
— Сири, — сказал я.
— Собирай манатки, — продолжал Сингх. — Свои три недели ты проведешь на планете. Эксперты Посольства считают, что там, внизу, от тебя будет больше пользы Гегемонии, чем здесь, наверху. Посмотрим.
Вся планета застыла в ожидании. Толпы выкрикивали приветствия. Сири махала рукой. Мы вышли из гавани на желтом катамаране и направились на юго-юго-восток, к Архипелагу, где находился принадлежащий их семье плавучий островок.
— Привет, Мерри. — Изображение Сири наплывает на меня из темноты гробницы. Голограмма неважная, у нее расплываются края. Но это Сири передо мною — Сири, какой я видел ее в последний раз: седые волосы очень коротко подстрижены, голова откинута назад, и тени делают лицо еще более худым. — Привет, любимый.
— Привет, Сири, — отвечаю я. Дверь гробницы плотно заперта.
— Мне очень жаль, что я не могу участвовать в нашем шестом Единении, Мерри. Я так его ждала. — Сири замолкает и бросает взгляд на свои руки. Ее изображение слегка мигает, когда сквозь него проплывают пылинки. — Я очень тщательно обдумала, что сказать тебе, — продолжает она. — Как сказать. Какие привести аргументы. Какие оставить инструкции. Теперь-то поняла: все это бесполезно. Многое я уже говорила, и ты слышал это; остальное не столь важно — лучше промолчать.
Голос Сири с годами стал еще прекраснее. В нем появились полнота и покой, какие бывают лишь у человека, сполна изведавшего боль. Сири разводит руками, и они исчезают из поля зрения.
— Мерри, любовь моя, как странны наши дни, проведенные в разлуке и вместе. Как прекрасно абсурден связавший нас миф. Мой день был для тебя лишь одним ударом сердца. Я ненавидела тебя за это. Ты был зеркалом, которое не умело лгать. Если бы ты видел свое лицо, в первые минуты Единения! Самое малое, что ты мог бы сделать, — скрыть, как ты потрясен… хоть это ты по крайней мере мог бы для меня сделать.
Но сквозь твою неуклюжую наивность всегда проглядывало… что?.. не знаю, Мерри. Нечто противоречащее бездумному эгоизму, который был неотделим от тебя. Возможно, нежность. Или, во всяком случае, уважительное отношение к чужой нежности.
Мерри, в этом дневнике были сотни записей… может, даже тысячи… Я вела его с тринадцати лет. Когда ты его увидишь, в нем будут стерты все страницы, за исключением тех, которые последуют сейчас. Прощай, любовь моя, прощай.
Я выключаю комлог и с минуту сижу в тишине. Шум толпы отчетливо слышен сквозь толстые стены гробницы. Я перевожу дыхание и нажимаю на кнопку.
Я вижу Сири. Ей уже далеко за сорок. Я сразу узнаю день и место записи. Я помню плащ, в который она одета, кулон на ее шее и пряди волос, выбивавшиеся из-под берета и спадавшие ей на плечи. Я помню все. Это было в последний день нашего третьего Единения, высоко в горах поблизости от Южной Трети, куда мы отправились с друзьями. Донелу тогда было десять лет, и мы все пытались уговорить его скатиться с нами вниз по снежному склону. Но он только плакал. Сири изменилась в лице еще до того, как скиммер совершил посадку. Когда из него вышла Магрит, мы сразу поняли: что-то случилось.
То же самое лицо смотрит на меня сейчас. Сири рассеянно пытается пригладить непокорную прядку. Глаза ее покраснели, но голос не дрожит:
— Мерри, сегодня убили нашего сына. Алону исполнился лишь двадцать один год, и его убили. Ты так ничего и не понял, Мерри. Ты все повторял: «И как могла случиться такая ошибка?» Ты ведь, собственно, не знал нашего сына, но я видела в твоих глазах всю тяжесть утраты. Мерри, это не был несчастный случай. Пусть не сохранится больше ничего, пусть не останется других записей, пусть ты так никогда и не поймешь, почему я позволила сентиментальному мифу перевернуть всю мою жизнь, но одно ты должен знать — Алон погиб не случайно. Он был с сепаратистами, когда появилась муниципальная полиция. Но даже тогда он мог спастись. Мы с ним вместе приготовили ему алиби. Полиция поверила бы ему. Но он предпочел остаться.
Сегодня, Мерри, ты был потрясен тем, что я сказала толпе… этой своре у посольства. Запомни, корабельщик, я сказал им: «Еще не время показать ваш гнев, вашу ненависть». Я сказала то, что думала. Ни больше ни меньше. Сегодня еще не время. Но день придет. Обязательно придет. В те последние дни Обетованная покорилась не так-то легко. Нелегко ее покорить и сейчас. И люди, которые забыли об этом, изумятся, когда настанет день, а он обязательно настанет.
Изображение тускнеет, и в одно мгновение, наплывом, лицо молодой двадцатишестилетней Сири накладывается на черты старой женщины, которая только что со мной говорила.
— Мерри, я беременна. Я так рада. Тебя нет всего пять недель, а я уже тоскую по тебе. Десять лет тебя не будет. А главное: почему тебе даже в голову не пришло позвать меня с собой? Я бы не полетела, но мне было бы так приятно, если бы ты просто позвал меня. Но я беременна, Мерри. Врачи говорят — мальчик. Я расскажу ему о тебе, любовь моя. Может быть, вы когда-нибудь вместе под парусами уплывете на Архипелаг, вместе будете слушать песни Морского Народа, как мы с тобой когда-то. Возможно, ты научишься их понимать. Мерри, я тоскую по тебе. Пожалуйста, возвращайся поскорее.
Голография мерцает и сдвигается. Я вижу девушку шестнадцати лет. Ее щеки пылают. Длинные волосы каскадом падают на обнаженные плечи и ночную рубашку. Она говорит сквозь льющиеся ручьем слезы:
— Корабельщик Мерри Аспик, мне жаль твоего друга, мне в самом деле его очень жаль, но ты уехал, даже не сказав мне прощай, а я мечтала, как ты нам поможешь… как мы вместе… а ты даже не сказал — прощай. Мне теперь безразлично, что с тобой будет. Надеюсь, ты благополучно вернешься в свою Гегемонию, в ее мерзкие, перенаселенные ульи и грязь. Мерри Аспик, я действительно больше не хочу тебя видеть, ни за какие деньги. До свидания.
Она поворачивается ко мне спиной, и изображение гаснет. В склепе темно, но голос не умолкает еще несколько секунд. Я слышу тихий смешок и голос Сири (не знаю, сколько ей в это мгновение лет), слышу в последний раз:
— Прощай… прощай, Мерри.
— Прощай, — отвечаю я и выключаю комлог.
Толпа расступается, когда, щурясь от яркого света, я выхожу из гробницы. Я опоздал, нарушив этим весь сценарий, и улыбка на моем лице вызывает в толпе гневный ропот. Динамики доносят официальную риторику даже сюда, на вершину:
— …Начало новой эпохи сотрудничества, — слышу я звучный голос посла.
Я ставлю ящик на траву и достаю ковер-самолет. Толпа напирает, чтобы лучше видеть, как я его разворачиваю. Рисунок выцвел, но левитационные нити сверкают, как начищенная медь. Я сажусь посередине ковра и придвигаю к себе ящик.
— …Будут следовать и другие до тех пор, пока пространство и время не перестанут быть препятствием.
Толпа отступает, когда я нажимаю на сенсоры, и ковер поднимается в воздух на четыре метра. Теперь ничто не мешает мне осмотреться. Острова плывут сюда и образуют Экваториальный Архипелаг. Я вижу сотни островов, принесенных сюда теплыми ветрами с голодного юга.
— Итак, с огромным воодушевлением я замыкаю эту цепь и приветствую колонию Мауи-Обетованная в момент вступления в сообщество Гегемонии Человека!
Тонкая нить церемониального лазерного импульса устремляется в зенит. Раздаются торопливые аплодисменты, оркестр играет туш. Я поднимаю взгляд в тот самый миг, когда на небосклоне возникает новая звезда. С точностью до микросекунд я могу предсказать все, что там произойдет.
Нуль-канал действует всего несколько микросекунд. На краткий миг пространство и время перестают быть препятствием. Затем притяжение искусственной сингулярности подрывает термитный заряд, который я поместил на наружной стороне защитного экрана. Взрыв заряда слаб и отсюда не заметен, но уже через секунду вырвавшаяся на свободу сфера Шварцшильда поглощает и его, и хрупкий додекаэдр весом тридцать шесть тысяч тонн. Область пространства радиусом в несколько тысяч километров сворачивается в кокон. Великолепная картина — ее видно даже отсюда: белая вспышка миниатюрной сверхновой звезды на голубом небе.
Оркестр замолк. Люди мечутся в поисках убежища. Между прочим, без малейших на то оснований. При коллапсе нуль-канала происходит всплеск рентгеновского излучения, но интенсивность его слишком мала, чтобы проникнуть сквозь атмосферу Мауи-Обетованной. А вот виден и второй поток плазмы: «Лос-Анджелес» отходит на безопасное расстояние от быстро распадающейся небольшой черной дыры. Поднимается ветер, и море покрывается рябью. Ночью будут необычные для этих мест приливы.
Мне хочется сказать что-то значительное, но я не нахожу слов. К тому же толпа не расположена слушать, хотя я пытаюсь внушить себе, что сквозь вопли и проклятия до меня доносятся и приветствия.
Я кладу руку на сенсорный узор, и ковер-самолет быстро проносится над скалой и над гаванью. Лениво парящий в полуденных восходящих потоках царь-ястреб хлопает крыльями, когда я к нему приближаюсь.
— Пусть только попробуют прийти! — кричу я вслед напуганной птице. — Пусть попробуют! Мне будет всего тридцать пять, и я буду не один. Пусть они приходят, если посмеют! — Я ударяю по ковру и смеюсь. Ветер раздувает мои волосы и холодит вспотевшую грудь.
Успокоившись, я беру курс на самый дальний из подплывающих островков. Надеюсь, я встречу других. Я буду говорить с Морским Народом и скажу им, что время наконец пришло и в морях Мауи-Обетованной скоро появится Акула.
Позже, когда будут выиграны все сражения и они станут владыками мира, я расскажу им о ней. Я буду петь им о Сири.
Потоки света — отблески далекой космической битвы — были все так же ослепительны, но сюда доносились лишь завывания ветра на горных склонах. Паломники сдвинулись еще тесней и склонились над старинным комлогом, словно ожидая продолжения.
Его не последовало. Консул вынул микродиск и положил его в карман.
Сол Вайнтрауб, погладив спящую дочку, повернулся к Консулу:
— Вы, конечно, не Мерри Аспик.
— Конечно, нет, — ответил Консул. — Мерри Аспик погиб во время восстания. Того, что называют Восстанием Сири.
— Как к вам попала эта запись? — спросил отец Хойт. Даже сквозь маску боли на его лице было видно, что история глубоко тронула его. — Потрясающая запись…
— Он передал ее мне, — ответил Консул. — За несколько недель до гибели в Битве при Архипелаге. — Консул взглянул на удивленные лица слушателей. — Я их внук, — пояснил он, — внук Сири и Мерри. — Мой отец, тот самый Донел, которого упоминает Аспик, стал первым председателем Комитета местного самоуправления после включения Мауи-Обетованной в Протекторат. Позже он был избран сенатором и оставался в этой должности до самой смерти. В тот день, на холме возле гробницы Сири, мне было девять лет. И мне исполнилось двадцать — вполне достаточно, чтобы присоединиться к повстанцам, — когда однажды ночью Мерри Аспик появился у нас на островке, отвел меня в сторону и запретил участвовать в их борьбе.
— А вы бы стали сражаться? — спросила Ламия.
— Разумеется. И наверняка бы погиб. Как третья часть наших мужчин и пятая часть женщин. Как все дельфины и многие плавучие острова при всех стараниях Гегемонии сохранить их в неприкосновенности.
— Поразительный документ, — сказал Сол Вайнтрауб. — Но почему вы здесь? Зачем вам паломничество к Шрайку?
— Я еще не закончил, — ответил Консул. — Слушайте дальше.
Мой отец был столь же слабым человеком, насколько сильна была бабушка. Гегемонии не потребовалось одиннадцати лет, чтобы вернуться, — факельные корабли ее ВКС появились на орбите, когда не истекло и пяти. Отец видел, как они разбили спешно построенный повстанцами космический флот. И все время, пока Гегемония вела осаду нашего мира, он был на ее стороне. Помню — я был тогда пятнадцатилетним подростком — как вдали горели десятки плавучих островов, а скиммеры Гегемонии освещали море разрывами глубинных бомб. Мы смотрели на эту картину с верхней палубы нашего семейного островка. Утром море стало серым от тел погибших дельфинов.
В те полные безнадежности дни после Битвы при Архипелаге моя сестра Лира ушла с повстанцами. Есть свидетели ее гибели. Но тело так и не нашли. Отец никогда не упоминал ее имени.
Через три года после прекращения военных действий мы, первые колонисты, стали на своей земле меньшинством. Островки были приручены и распроданы туристам в точности так, как предсказывал Мерри. Теперь Порто-Ново — одиннадцатимиллионный гигант: монументы, шпили и города-спутники на электромагнитной подушке заполнили все побережье. А гавань Порто-Ново — это некий экзотический базар, где потомки Первых Семей продают втридорога сувениры и прочие безделушки.
Некоторое время после того, как отца избрали сенатором, мы жили на ТКЦ; там я и окончил школу. Я был примерным сыном, на все лады расхваливал присоединение Мауи к Сети, изучал великолепную историю Гегемонии Человека и готовился к карьере на дипломатическом поприще.
И все время ждал.
Завершив образование, я вернулся на Мауи-Обетованную, где работал в Центральной Администрации. В мои обязанности входило посещение сотен буровых платформ, которые росли, словно грибы, на отмелях, наблюдение за стремительно возводимыми подводными комплексами и осуществление связи между Администрацией и корпорациями-подрядчиками с ТКЦ и Седьмой Дракона. Работа мне не нравилась. Но работал я хорошо. Всегда улыбался. И ждал.
Вскоре я женился на девушке из Первых Семей (она была мне дальней родственницей по линии Бертола, кузена Сири) и, получив на экзаменах в дипломатической академии наивысший балл, попросил направить меня на Окраину.
Так для меня и Грэси началась наша личная диаспора. Работал я хорошо. Я был прирожденным дипломатом. Через пять стандартных лет службы я стал вице-консулом. Через восемь — полномочным консулом. Для дипломата, который служит за пределами Сети, это было вершиной карьеры.
Я сам сделал свой выбор. Я работал на Гегемонию. И ждал.
Поначалу моя роль заключалась в том, чтобы всеми ресурсами Сети помогать колонистам делать то, что получалось у них лучше всего, — разрушать свой естественный образ жизни. Не случайно на протяжении шестивековой межзвездной экспансии Гегемония так и не встретила видов, которые по шкале Дрейка — Тьюринга — Чженя можно было отнести к разумным. Еще на Старой Земле установили, что всякий вид, который включит человечество в свою пищевую цепочку, неминуемо погибнет. Всякий раз, когда в процессе экспансии встречался вид, который мог серьезно конкурировать с человеком по интеллекту, он погибал задолго до включения планеты в Сеть.
На Вихре мы подкрадывались к неуловимым цеппелинам, прячась среди их облачных башен. Возможно, они не были разумны по нашим меркам или меркам Техно-Центра. Но они были прекрасны. Когда они погибали, переливаясь всеми цветами радуги, не услышанные (точнее, не увиденные) своими сбежавшими собратьями, красоту их агонии невозможно было выразить словами. Мы продавали их цветочувствительную кожу различным корпорациям Сети, импортировали их мясо в миры типа Небесных Врат, а кости перемалывали в порошок и продавали в качестве афродизиака импотентам и суеверным дуракам десятков колониальных миров.
На Саде я был советником группы инженеров-экологов, которая осушала Великую Топь, кладя тем самым конец недолгому царствованию болотных кентавров, угрожавших в тех краях прогрессу Гегемонии. Они пытались мигрировать, но северные окраины были для них недостаточно влажны, и когда через несколько десятилетий я снова посетил Сад, о них напоминали лишь разбросанные по просторам планеты сморщенные оболочки — жалкие следы исчезнувшего буйства жизни.
На Хеврон я прибыл как раз тогда, когда пришла к своему естественному завершению многолетняя вражда еврейских поселенцев с алуитами Сенешаи, созданиями столь же хрупкими, как и экология их безводной планеты. Алуиты были эмпатами: наш страх, наша алчность — вот что убило их, да еще наша непрошибаемая чуждость. И все-таки не гибель алуитов превратила мое сердце в камень, а та роль, которую я сыграл в судьбе самих колонистов.
На Старой Земле для этой роли существовало особое слово — «квислинг». Хеврон не был моим домом, но люди, которые поселились там, сделали это по тем же причинам, по каким мои далекие предки со Старой Земли скрепили своими подписями Завет Жизни на Мауи. Я продолжал ждать. И тем самым действовал… во всех смыслах этого слова.
Они доверяли мне. Я заливался соловьем, расписывая все прелести воссоединения с человеческим сообществом… с Сетью… и они поверили мне. Они настояли на том, что для посторонних на Хевроне будет открыт лишь один город. Я улыбался и соглашался с ними. И вот теперь в Новом Иерусалиме шестьдесят миллионов жителей на десять миллионов евреев-колонистов, разбросанных по всему континенту и почти во всем зависящих от одного-единственного города, принадлежащего Сети. Они продержатся еще десятилетие. Возможно, меньше.
Я сломался после того, как Хеврон присоединили к Сети, открыв для себя алкоголь, благословенную антитезу флэшбэку и фантопликаторам. Грэси была со мной в больнице, пока меня не привели в чувство после запоя. Странная штука — мир еврейский, а больница — католическая. Помню, как по ночам в коридоре шуршали рясы.
Мой срыв обошелся без осложнений и не вызвал особого шума. Мою карьеру, во всяком случае, он не испортил. В качестве полномочного консула я с женой и сыном перебрался на Брешию.
Как тонко мы играли там свою роль! С какой прямо-таки византийской изощренностью действовали! В течение десятилетий, полковник Кассад, силы Техно-Центра преследовали рои Бродяг, куда бы они ни бежали. А теперь определенные фракции в Сенате и Консультативном Совете ИскИнов решили, что пора испытать военную мощь Бродяг непосредственно у границ Гегемонии. Для этой цели выбрали Брешию. Допускаю, что ее жители десятки лет до моего прибытия играли роль наших заменителей. Брешианцы с упоением копировали архаичный прусский образец, милитаризировав свое общество до абсурда. Они не знали меры в своих экономических притязаниях, а их ксенофобия позволяла с необычайной легкостью вербовать добровольцев, чтобы покончить с «Бродяжьей угрозой». Сначала им предоставили по ленд-лизу несколько факельных звездолетов, и они сами начали гоняться за роями. Плазменное оружие. Зонды для заражения искусственными вирусами.
Вследствие незначительного просчета я остался на Брешии, когда к ней подошли орды Бродяг. Всего несколько месяцев! На мое место должны были прислать группу военно-политического анализа.
Но это не имело значения. Интересы Гегемонии превыше всего. ВКС прошли всестороннюю проверку в боевых условиях, а Сеть при этом не подвергалась ни малейшей опасности. Грэси, конечно, погибла. При первой же бомбардировке. И Алон, мой десятилетний сын. Он все время был со мной… война уже кончилась… и тут ему вздумалось посмотреть, как какой-то идиот из ВКС подрывает мину-ловушку в непосредственной близости от бараков беженцев, в столице Брешии Бакминстере.
Меня не было рядом с ним в тот момент.
После Брешии я получил повышение. Мне доверили сложнейшее и ответственное задание (такие редко выпадают обычным консулам) — вести прямые переговоры с Бродягами.
Сначала по нуль-Т меня направили на ТК-Центр. Совещания в комитете сенатора Гладстон с участием советников-ИскИнов, беседы с самой Гладстон… Был разработан изощреннейший план. Суть его заключалась в том, чтобы спровоцировать Бродяг на нападение, и ключевая роль в осуществлении этой провокации отводилась Гипериону.
Бродяги вели наблюдение за Гиперионом еще до битвы за Брешию. Наша разведка полагала, что они прямо-таки одержимы тайной Гробниц Времени и Шрайка. Их нападение на госпитальный корабль Гегемонии, на борту которого находился полковник Кассад, явилось результатом ошибки: капитан их факельщика принял госпитальный корабль за военный спин-звездолет и запаниковал. Но куда большую глупость с точки зрения Бродяг этот вояка сделал, посадив десантные катера рядом с Гробницами и тем самым выдав, что Бродяги умеют контролировать приливы времени. Как вы уже знаете, Шрайк истребил всех десантников, и по возвращении к Рою капитан был казнен.
Наша разведка, впрочем, полагала, что этот просчет Бродяг не обескуражил. Они получили ценную информацию о Шрайке, и их одержимость Гиперионом только усилилась.
Гладстон объяснила мне, каким образом Гегемония намерена сыграть на этой одержимости.
План заключался в том, чтобы спровоцировать Бродяг напасть на Гегемонию. Фокусом нападения должен стать Гиперион. Мне дали понять, что война с Бродягами — лишь способ разрешить накопившиеся внутриполитические противоречия. Определенные группировки в Техно-Центре столетиями противились вхождению Гипериона в Гегемонию. Гладстон объяснила мне, что человечество не может мириться с этим и насильственная аннексия Гипериона — под предлогом защиты Сети — изменит в Техно-Центре соотношение сил в пользу прогрессивной коалиции ИскИнов, в чем кровно заинтересованы (я так и не понял почему) и Сенат, и Сеть. Как потенциальный источник опасности Бродяги будут уничтожены раз и навсегда. Начнется новая эра в славной истории Гегемонии.
Гладстон сказала, что я имею право отказаться, ибо эта миссия сопряжена с серьезными опасностями — и для карьеры, и для жизни. Но я принял предложение.
Гегемония предоставила мне личный космический корабль. Я попросил сделать на нем только одну модификацию: поставить старинный «Стейнвей».
Несколько месяцев я провалялся в криогенной фуге. Затем еще больше времени провел в странствиях по районам, через которые проходят обычные маршруты мигрирующих Роев. В конце концов мой корабль был обнаружен и захвачен. Они понимали, что я шпион, но сделали вид, будто верят мне. Поспорив немного, они решили меня не убивать. Поспорив еще, они в конце концов решили вступить со мной в переговоры.
Не буду даже пытаться описать красоту жизни Роя: плавающие в невесомости города-сферы, кометные фермы и гирлянды буксируемых модулей; микроорбитальные леса и блуждающие реки; десятки тысяч оттенков и фактуры во время Недели Рандеву. Достаточно сказать, что Бродяги, на мой взгляд, сохранили то, чего человечество Сети утратило за последнее тысячелетие: способность к развитию. В то время как все мы завязли в своих вторичных культурах — бледном отражении жизни Старой Земли, Бродяги открыли новые измерения в эстетике, этике, биологических науках, искусстве — во всем, что должно расти и изменяться, отражая изменения человеческой души.
Варвары — называем мы их, трусливо цепляясь за свою Сеть подобно вестготам, паразитировавшим на былой славе Рима и оттого считавшие себя цивилизованными.
Я провел среди них десять стандартных месяцев, раскрыв им свою величайшую тайну, а они поделились со мной своими. Я подробно изложил им планы их истребления, разработанные людьми Гладстон. Рассказал о том, как ученые Сети ломают головы над аномалией Гробниц Времени, и о необъяснимом ужасе перед Гиперионом, который испытывает Техно-Центр. Если они попытаются захватить Гиперион, он станет для них западней — все резервы ВКС будут подтянуты к планете, чтобы сокрушить их. Я открыл им все, что знал, и вновь стал готовиться к смерти.
Но они не убили меня, а кое-что рассказали. Мне показали записи перехваченных переговоров по мультилинии и на узких пучках, а также хроники, которые они вели со времен исхода из Старой Солнечной системы, четыре с половиной столетия назад. Факты, которые открылись передо мной, были просты и ужасны.
Большая Ошибка 38-го вовсе не была ошибкой. Уничтожение Старой Земли задумали и осуществили некоторые группировки Техно-Центра вместе со своими сторонниками в недавно оперившемся правительстве Гегемонии. Хиджра была продумана во всех деталях за несколько десятилетий до того, как вышедшая из-под контроля черная дыра «случайно» угодила в самое сердце Старой Земли.
Великая Сеть, Альтинг, Гегемония Человека — все они были плодами гнусного преступления — убийства матери. А теперь они сами исподтишка промышляют братоубийством, целенаправленно уничтожая любой вид, имеющий хоть малейший шанс стать соперником человека. И Бродяги, единственное отличное от нас человеческое племя, свободно странствующее среди звезд и не подчиняющееся Техно-Центру, возглавляют список тех, кто подлежит истреблению.
Я вернулся в Сеть. За время моего отсутствия там прошло более тридцати лет. Мейна Гладстон стала Секретарем Сената. Восстание Сири превратилось в романтическую легенду, маленькую сноску на одной из страниц истории Гегемонии.
Я встретился с Гладстон. Я рассказал ей многое из того, что мне открыли Бродяги. Многое, но не все. Я рассказал ей, что Бродяги понимают: Гиперион — западня, и тем не менее они попытаются его захватить. А еще они хотят, чтобы я стал консулом на Гиперионе и выполнял там во время войны функции двойного агента.
Но я не рассказал ей об их обещании передать мне устройство, которое откроет Гробницы Времени и спустит с цепи Шрайка.
Гладстон долго беседовала со мной. Специалисты из разведки ВКС беседовали со мной еще дольше, иные из наших бесед длились месяцами. При этом применялись кое-какие технические средства и наркотики — дабы убедиться в том, что я говорю правду и ничего не скрываю. Бродяги тоже знали толк в подобных вещах. Я говорил правду. Но кое-что скрывал.
В конце концов меня послали на Гиперион. Гладстон предлагала повысить статус Гипериона до уровня протектората, а мой — до посольского. Я отклонил оба предложения, но попросил оставить за мной личный космический корабль. Я прибыл туда на рейсовом спин-звездолете, а мой корабль был доставлен несколькими неделями позже в брюхе факельщика. Его вывели на парковочную орбиту, чтобы я мог воспользоваться им когда пожелаю.
Оставшись на Гиперионе в одиночестве, я продолжал ждать. Шли годы. Я свалил все дела на своего помощника, а сам целыми днями пил в баре «Цицерон». И ждал.
Бродяги связались со мной по секретному каналу мультилинии, после чего я взял в консульстве трехнедельный отпуск и вызвал свой корабль в уединенное место неподалеку от Травяного моря. Оттуда я направился к поясу Оорта и, встретившись с разведчиком Бродяг, взял к себе на борт их агента — женщину по имени Андил — и трех техников и совершил посадку севернее Уздечки, в нескольких километрах от Гробниц Времени.
У Бродяг не было нуль-Т. Они проводили свою жизнь в долгих межзвездных перелетах, наблюдая за бешено мчащейся жизнью Сети, которая мелькала перед ними словно кадры пущенной с нормальной скоростью замедленной голосъемки. Их неудержимо влекла загадка времени. Техно-Центр дал Гегемонии порталы нуль-Т и контролировал их работу. Но никому — ни ученому-одиночке, ни коллективу ученых-людей — не удалось даже в общих чертах понять принцип действия порталов. Бродяги пытались — и потерпели неудачу. Но даже эта неудача позволила им приблизиться к реальному овладению пространством-временем.
Они поняли природу временных приливов и окружающих Гробницы антиэнтропийных полей. Генерировать такие поля они все еще не умели, но зато придумали, как экранировать их воздействие и даже (пока, правда, лишь на бумаге) вызвать коллапс поля. И тогда Гробницы Времени вместе со всем своим содержимым «остановятся». И откроются. Шрайк сорвется с привязи, удерживавшей его до сих пор в окрестностях Гробниц. А если в них есть еще что-то, это «нечто» тоже окажется на свободе.
Бродяги полагали, что Гробницы Времени — артефакты из их собственного будущего, а Шрайк — орудие искупления, ожидающее руки, которая должна его направить. Церковь Шрайка видела в этом монстре ангела мщения; Бродяги считали его плодом человеческого гения, посланным назад сквозь время, чтобы освободить человечество от власти Техно-Центра. Андил и ее техники должны были проверить все на месте и поставить эксперимент.
— Вы включите это устройство прямо сейчас? — спросил я. Мы стояли в тени сооружения, называемого Сфинксом.
— Нет, — ответила Андил. — Это нужно сделать накануне вторжения.
— Но вы говорили, что потребуется не один месяц, чтобы открыть при помощи этой штуки Гробницы.
Андил кивнула. Я впервые заметил, что глаза у нее темно-зеленого цвета. Она была очень высока ростом, и на поверхности ее скафандра проступали тонкие полоски силового экзоскелета.
— Наверное, год, если не больше, — сказала она. — Наше устройство разрушает антиэнтропийное поле очень медленно, но стоит процессу начаться, как он сразу станет необратимым. Поэтому мы не включим его, пока Десять Советов не решат, что вторжение в Сеть необходимо.
— А есть сомнения? — спросил я.
— Этические споры, — ответила Андил. Трое техников в нескольких метрах от нас натягивали маскировочную сеть и настраивали защитное поле. — Межзвездная война приведет к гибели миллионов, возможно, даже миллиардов. Вторжение Шрайка в Сеть чревато и вовсе непредсказуемыми последствиями. Но, раз уж мы хотим нанести удар по Техно-Центру, нужно выбирать.
Я снова оглянулся на устройство, а затем окинул взглядом долину Гробниц.
— Значит, если включить эту штуку, — сказал я, — обратной дороги нет? Шрайк вырвется на волю, а вам, чтобы взять его под контроль, нужно выиграть войну?
Андил мягко улыбнулась:
— Верно.
Тогда я застрелил ее, а вместе с нею и трех техников. Потом отшвырнул принадлежавший еще Сири лазер Штайнера-Джинна, сел на пустой ящик из-под аппаратуры и зарыдал. Через несколько минут я взял себя в руки. С помощью комлога техников я проник в защитное поле, сбросил с устройства маскировочную сеть и включил его.
Ничего не изменилось. Все вокруг было залито все тем же ярким светом уходящей зимы. Мягко светилась Нефритовая Гробница, Сфинкс по-прежнему смотрел в никуда. Тишину нарушало лишь шуршание песка о стенки ящиков и тела убитых. Но индикатор на устройстве Бродяг светился: оно работает… заработало.
Я медленно шел к кораблю, ожидая появления Шрайка и надеясь, что он все же появится. А потом больше часа просидел на балконе, наблюдая, как тени затопляют долину и заносит песком трупы. Шрайк не появился. Ни он, ни дерево со стальными шипами. Я сыграл на «Стейнвее» прелюдию Баха, включил двигатели и вышел в космос.
Связавшись с кораблем Бродяг, я сообщил им, что произошел несчастный случай: Шрайк уничтожил всех, кроме меня, устройство включилось раньше времени. Даже охваченные паникой и растерянностью Бродяги прежде всего предложили мне убежище. Я отклонил их предложение и направил свой корабль в Сеть. Бродяги меня не преследовали.
Связавшись с Гладстон по мультилинии, я сообщил ей, что агенты Бродяг уничтожены. Я сообщил ей также, что вероятность вторжения очень велика, и что ловушка захлопнется, как и предусмотрено планом. Но я ни слова не сказал ей об устройстве. Гладстон поздравила меня и предложила вернуться. Я сослался на то, что нуждаюсь сейчас в покое и одиночестве, и направил корабль к одному из окраинных миров неподалеку от Гипериона, чтобы само это путешествие, пожирая время, приблизило следующий акт драмы.
А потом, когда Гладстон направила мне мультиграмму с предложением совершить паломничество, я понял наконец, какую роль приготовили для меня Бродяги: Бродяги, или Техно-Центр, или Гладстон со своими интригами. Каждый из них считал, что именно он контролирует ситуацию. Но теперь ситуация окончательно вышла из-под чьего-либо контроля.
Друзья мои, мир, каким мы его знали, приближается к своему концу, независимо от того, что станется со всеми нами. А я… У меня нет никаких просьб к Шрайку. Я ничего не скажу ему напоследок — ни ему, ни Вселенной. Я вернулся, потому что должен был вернуться, потому что это моя судьба. Я с детства знал, что должен сделать. Знал еще тогда, когда приходил к гробнице моей бабушки Сири и клялся отомстить Гегемонии. Я давно знаю цену, которую должен уплатить — и своей жизнью, и судом истории.
Но когда придет время суда над предательством, которое как пламя распространится по Сети, которое принесет гибель целым мирам, не вспоминайте обо мне — мое имя даже на воде не написано, как сказала заблудшая душа вашего поэта, — вспоминайте о Старой Земле, погубленной по чьей-то прихоти, о дельфинах, чьи серые тела высыхали и гнили под палящими лучами солнца; вспоминайте и постарайтесь мысленно увидеть — как видел это я — плавучие островки, которым некуда плыть, потому что уничтожены их пастбища, Экваториальные Отмели кишат буровыми платформами, а сами эти острова битком набиты вездесущими крикливыми туристами, от которых разит противозагарным кремом и марихуаной.
Или нет, не надо, не вспоминайте об этом. Встаньте так, как некогда стоял я, включив устройство Бродяг: убийца и предатель с гордо поднятой головой, твердо стоящий посреди кочующих барханов Гипериона и кричащий, грозя небу кулаком: «Чума на оба ваших дома!».
Я помню мечту моей бабушки. Я помню, каким все это могло быть.
Я помню Сири.
— Так вы шпион? — спросил отец Хойт. — Агент Бродяг?
Консул потер щеки и ничего не ответил. Он выглядел очень усталым.
— М-да, — задумчиво произнес Мартин Силен. — Секретарь Гладстон, сообщив мне о паломничестве, сразу же предупредила, что среди нас есть шпион.
— Она говорила это всем, — резко возразила Ламия, внимательно смотревшая на Консула. В глазах ее застыла печаль.
— Да, наш друг — шпион, — вступил в разговор Сол Вайнтрауб. — Но он не просто шпион Бродяг. — Рахиль проснулась, и Вайнтрауб снова взял девочку на руки. — Он, как это называют в триллерах, двойной агент, а в нашем случае даже тройной — агент в квадрате, в кубе, в бесконечной степени! Но на самом деле он — агент возмездия.
Консул бросил взгляд на старика-ученого.
— Тем не менее он шпион, — настаивал Силен. — А шпионов казнят, не так ли?
Полковник Кассад держал «жезл смерти» в руке, но ни на кого его не направлял.
— У вас есть связь с вашим кораблем? — спросил он Консула.
— Да.
— Как она осуществляется?
— Через комлог Сири. Он… модифицирован.
Кассад понимающе кивнул:
— Вы выходили на связь с Бродягами с помощью корабельного мультипередатчика?
— Да.
— И сообщили им о нашем паломничестве?
— Да.
— Они вам ответили?
— Нет.
— Как можно ему верить? — Поэт был вне себя от возмущения. — Этому проклятому шпиону!
— Помолчите, — сухо бросил ему полковник, ни на секунду не выпускавший Консула из виду. — Это вы напали на Хета Мастина?
— Нет, — ответил Консул. — Но когда подбили «Иггдрасиль», меня кое-что удивило.
— Что? — быстро спросил Кассад.
Консул кашлянул.
— Некоторое время я жил у тамплиеров. Связь Гласа Древа со своим кораблем носит почти телепатический характер. Мастин же практически не реагировал на гибель «Иггдрасиля». Или он не тот, за кого себя выдавал, или он знал заранее, что корабль будет уничтожен, и поэтому прервал контакт. Во время моей вахты я спустился, чтобы поговорить с ним начистоту. Но его уже не было. Каюту вы видели сами, но куб Мебиуса находился тогда в нейтральном состоянии: эрг едва не вырвался на волю. Я закрыл куб и поднялся наверх.
— Так, значит, вы не нападали на Хета Мастина? — переспросил Кассад.
— Нет.
— А какого хера мы должны тебе верить? — снова вмешался Силен, допивавший виски из последней своей бутылки.
— Кто сказал, что вы должны мне верить? — пробормотал Консул, пожирая глазами эту бутылку. — Впрочем, это не важно.
Полковник Кассад рассеянно постукивал пальцами по тусклому кожуху жезла смерти.
— О чем теперь вы будете сообщать по мультилинии? — спросил он.
Консул устало вздохнул.
— Доложу, когда откроются Гробницы Времени. Если буду жив.
Ламия Брон указала на старинный комлог:
— Мы ведь можем сломать его.
Консул молча пожал плечами.
— Зачем же? — возразил полковник. — С его помощью мы сможем перехватывать военные и гражданские сообщения. И вызовем корабль Консула, если будет нужно.
— Нет! — крикнул Консул. Он впервые не сдержался. — Мы теперь не можем повернуть назад.
— Вряд ли кто-то из нас хочет повернуть, — сказал Кассад и обвел взглядом бледные лица окруживших его паломников.
Все молчали.
— Нам нужно что-нибудь решить, — сказал Сол Вайнтрауб и кивнул в сторону Консула.
Мартин Силен сидел, уткнувшись лбом в горлышко пустой бутылки из-под виски. Но при этих словах он тут же поднял голову.
— Наказание за измену — смерть. — Он захихикал. — Через несколько часов мы все равно умрем. Так почему бы не устроить напоследок казнь?
По лицу отца Хойта пробежала гримаса боли. Он провел дрожащим пальцем по растрескавшимся губам.
— Но мы не суд, — тихо сказал он.
— Нет, суд, — возразил полковник.
Консул уселся поудобней, обхватив колени руками.
— Что ж, решайте, — произнес он будничным голосом.
Ламия Брон вытащила отцовский пистолет, положила его рядом с собой на пол и с интересом посмотрела на полковника.
— О чем мы здесь толкуем? Об измене? — заговорила она. — Но чему? Никто из нас, за исключением, быть может, полковника, не присягал на верность Гегемонии. Все мы игрушки в руках сил, которые никому не подвластны.
Сол Вайнтрауб повернулся к Консулу:
— Друг мой, вы упустили из виду, что Мейна Гладстон и элементы Техно-Центра, выбирая для контактов с Бродягами именно вас, очень хорошо представляли, что вы предпримете. Возможно, они не ожидали, что у Бродяг есть средство открыть Гробницы Времени, — хотя, когда имеешь дело с ИскИнами и Техно-Центром, ничего нельзя знать наверняка, — зато они прекрасно понимали, что вы повернете оружие против обоих лагерей, сломавших жизнь вашей семьи. Все это часть какого-то дьявольскою плана. Вы были вольны в своих поступках не более, — он приподнял ребенка, — чем это дитя.
Консул растерянно огляделся. Он хотел что-то сказать, но потом просто покачал головой.
— Вполне возможно, — заметил Федман Кассад. — Но считают они нас пешками в своей игре или нет, нужно что-то противопоставить их планам. — Вспышки космического сражения бросали на стены багровые отсветы. — В этой войне погибнут тысячи. Или даже миллионы. А если Бродяги или Шрайк прорвутся к порталам, миллиарды жизней в сотнях миров Сети окажутся под угрозой.
Консул внимательно смотрел, как Кассад поднимает «жезл смерти».
— Так было бы проще, — задумчиво сказал полковник. — Шрайк никого не пощадит.
Все молчали. Казалось, Консул всматривается куда-то вдаль.
Кассад поставил жезл на предохранитель и сунул его за пояс.
— Мы вместе пришли сюда, — сказал он. — Вместе и пройдем оставшийся путь.
Ламия Брон отложила пистолет в сторону и, подойдя к Консулу, опустилась рядом с ним на колени и обняла его. Консул нерешительно поднял руку. Позади них, на каменной стене, плясали отблески красных зарниц.
В ту же минуту Сол Вайнтрауб подошел к ним и обнял обоих свободной рукой. Тепло человеческих тел согрело Рахиль, и она задрыгала ножками от удовольствия.
— Я ошибался, — сказал Консул, вдыхая запах талька и детского тела. — У меня есть просьба к Шрайку. Я буду просить за нее. — И он прикоснулся к головке Рахили.
Мартин Силен издал странный полусмешок-полувсхлип.
— Наши последние просьбы, — с трудом выговорил он. — Исполняет ли муза просьбы? У меня их нет. Я хочу только одного: чтобы моя поэма была закончена.
Отец Хойт повернулся к поэту:
— Неужели это так важно?
— Да, да, да, да! — задыхаясь, выкрикнул Силен. Отбросив пустую бутылку, поэт выхватил из своей сумки пачку тончайших пленок и потряс ею над головой. — Хотите прочесть это? Хотите, я сам прочту вам их? Это происходит снова. Прочтите мои старые стихи! Прочтите «Песни», которое я написал три столетия назад и никогда не печатал. В них есть все. Все мы. Мое имя, ваши имена, наше паломничество. Неужели вы не понимаете… Я создаю не стихи, я творю будущее. — Он выронил пленки и, нахмурившись, поднял пустую бутылку. Казалось, он держит в руках потир. — Я творю будущее, — повторил он с опущенным взглядом. — Но изменить следует прошлое. Одно мгновение. Одно решение.
Мартин Силен поднял голову. Его глаза покраснели.
— Существо, которое завтра уничтожит нас — моя муза, наш создатель и погубитель, — движется сквозь время из будущего в прошлое. И сейчас пусть оно схватит меня, но отпустит Билли. Пусть схватит меня, и пусть на этом оборвется моя поэма, останется незаконченной во веки веков! — Он еще выше поднял бутылку и, закрыв глаза, швырнул ее в дальнюю стену. Осколки стекла разлетелись облаком оранжевых искр.
Полковник подошел к поэту и положил свои длинные сильные пальцы на его плечо.
От этого простого жеста в комнате словно бы потеплело. Ленар Хойт оторвался от стены, воздел кверху правую ладонь, соединив большой палец с мизинцем, и негромко произнес:
— Отпускаются грехи твои.
Ветер бился о стены Башни и завывал в горгульях и на балконах. Отблески битвы, полыхавшей в сотне миллионов километров отсюда, окрасили лица паломников в кровавые тона.
Кассад вернулся к дверям. Остальные начали устраиваться на ночь.
— Нужно хоть немного поспать, — пробормотала Ламия Брон.
Какое-то время Консул вслушивался в вопли и свист ветра, потом повернулся на бок и, поправив служивший ему подушкой рюкзак, натянул одеяло повыше. Уже много лет его мучила бессонница.
Он подложил под щеку кулак, закрыл глаза и сразу же заснул.
Эпилог
Консул проснулся от треньканья балалайки, такого тихого, что он даже подумал, будто оно ему снится. Ежась от холода, он встал, набросил на плечи одеяло и вышел на балкон. Рассвет еще не наступил. Небеса по-прежнему пылали отблесками битвы.
— Извините. — Ленар Хойт поднял взгляд от струн и поплотнее запахнул накидку, в которую зябко кутался.
— Ничего, — ответил Консул. — Я выспался. — И вправду: он давно уже не чувствовал себя таким отдохнувшим. — Поиграйте еще.
Пронзительные звуки слились с воем ветра, налетавшего с горных вершин, в странный дуэт. Инструмент звучал так чисто, что у Консула защемило сердце.
На балкон вышли Ламия Брон и полковник Кассад. Через минуту к ним присоединился Сол Вайнтрауб. Рахиль ерзала в своей люльке и тянула к ночному небу ручонки, словно пытаясь сорвать распускающиеся на нем неправдоподобно яркие цветы.
Хойт играл. В этот предрассветный час ветер разгулялся вовсю, и чистые звуки свирели, издаваемые горгульями, вторили огромному фаготу Башни.
— Башка трещит, а всем насрать, — раздался голос поэта. Держась за голову, он подошел к перилам и свесился вниз: — Если я блевану с этой высоты, моя блевотина достигнет земли только через полчаса.
Отец Хойт не поднимал головы. Его пальцы летали по струнам. Северо-западный ветер все усиливался и становился все холоднее, но вплетавшиеся в его завывания чистые ноты балалайки несли с собой тепло и жизнь. Все кутались в одеяла и накидки, спасаясь от яростных порывов ветра, а маленький инструмент, не отставая от него ни на такт, вел свою партию. Никогда еще Консул не слышал более странной и прекрасной симфонии.
Ветер отчаянно взревел, обрушился на паломников с новой силой и внезапно стих. Хойт ударил по струнам в последний раз и отложил балалайку.
Ламия Брон огляделась:
— Почти рассвело.
— У нас есть еще час, — заметил полковник Кассад.
Ламия пожала плечами:
— К чему тянуть?
— И в самом деле, — сказал Сол Вайнтрауб и показал на восток, где звезды уже начали бледнеть, предвещая восход солнца. — Похоже, будет хороший день.
— Что ж, давайте собираться, — согласился Хойт. — Как вы думаете, нужно брать с собой вещи?
Все переглянулись.
— Вряд ли они понадобятся, — сказал Консул. — Разве что комлог с мультипередатчиком — его возьмет полковник. Берите только то, что вы приготовили для встречи со Шрайком. Все остальное оставим здесь.
— Ладно, — согласилась Ламия и, повернувшись к двери, махнула рукой: — Пойдемте.
От северо-восточных врат Башни вниз, к пустошам, вела шестьсот шестьдесят одна ступенька. Перил не было, и поэтому, прежде чем поставить ногу, паломникам приходилось подолгу вглядываться в темноту.
Спустившись, они оглянулись на оставшийся позади каменный отрог. Башня Хроноса казалась отсюда его частью, а балконы и наружные лестницы выглядели маленькими зарубками на теле горы. Особенно яркие вспышки иногда отражались в стеклах окон, порой мелькала тень горгульи — других признаков Башни не было заметно, словно она растворилась в камне.
Держась открытых мест и избегая кустарников, шипы которых цеплялись за одежду, как когти хищных птиц, паломники пересекли гряду невысоких холмов. Вскоре траву сменил песок. Миновав несколько небольших барханов, они начали спускаться в долину.
Ламия Брон шла впереди. На ней была тонкая накидка и красный шелковый костюм с черной оторочкой. На запястье поблескивал комлог. Следом шел полковник Кассад в полном боевом снаряжении. Его полимерный камуфляж не был активирован, и поэтому доспехи казались матово-черными, поглощая весь падающий на них свет. На плече у него висела десантная винтовка стандартного образца. Забрало шлема сверкало, словно черное зеркало.
На отце Хойте была черная накидка и черный костюм со строгим белым воротничком. Балалайку он нес в руках, запеленав ее, как ребенка. Казалось, каждый шаг причиняет ему невыносимую боль. За ним следовал Консул, одетый в полном соответствии с дипломатическим протоколом: накрахмаленная сорочка, черные брюки и сюртук, бархатная накидка и золотая треуголка, которая была на нем во время их первой встречи на звездолете-дереве. Треуголку ему пришлось придерживать рукой, чтобы ее не унес вновь налетевший откуда ни возьмись ветер, который полз по дюнам, как змея, и швырял ему в лицо песок. За ним вплотную шагал Мартин Силен в своей шубе, мех на которой стоял дыбом.
Сол Вайнтрауб замыкал группу. Рахиль лежала в переносной люльке на груди отца, заботливо укрытая его накидкой. Ученый что-то напевал ей, но ветер уносил слова.
Через сорок минут они подошли к мертвому городу. Мрамор и гранит сверкали, озаренные вспышками взрывов. На фоне светлеющего неба уже проступили вершины гор, но Башня по-прежнему тонула в темноте. Паломники пересекли неглубокую песчаную впадину, поднялись на пологий холм, и внезапно перед ними открылась нижняя часть долины с Гробницами Времени. Консул разглядел вдали крылья Сфинкса и мерцание нефрита.
Грохот и треск, раздавшиеся где-то позади, заставили его испуганно обернуться.
— Началось? — спросила Ламия. — Бомбардировка?
— Да нет же, — невозмутимо ответил Кассад и указал рукой на небосвод над горными вершинами, где звезды затянуло мглой. Там сверкнула молния, осветившая ледники и глетчеры. — Это всего лишь гроза.
И они вновь зашагали по багрово-красным пескам. Консул вдруг понял, что все это время непроизвольно кого-то высматривает в долине возле Гробниц. Он был абсолютно уверен, что их там поджидает… Он.
— Смотрите-ка, — шепот Ламии Брон был еле слышен сквозь завывания ветра.
Гробницы Времени светились. Именно это свечение Консул и принял за отблески взрывов космической битвы. У каждой из Гробниц был свой оттенок, и каждая была отлично видна, проступая все ярче и ярче на фоне темной долины. В воздухе пахло озоном.
— Это обычное явление? — дрогнувшим голосом спросил отец Хойт.
Консул покачал головой:
— Никогда не слышал ни о чем подобном.
— Рахиль тоже никогда не говорила, что Гробницы могут светиться, — поддержал его Сол Вайнтрауб, и паломники снова зашагали по сыпучим пескам. Ученый продолжал напевать прерванную было песенку.
У входа в долину они остановились. Мягкий песок сменился каменистым грунтом, а дальше, в низине, через которую пролегал путь к светящимся Гробницам, сгустились черные тени. Все топтались на месте. Все молчали. Консул чувствовал, как бешено колотится его сердце. Но сильнее, чем страх, сильнее, чем ожидание встречи с тем, что там, внизу, было объявшее его глубокое уныние, словно бы принесенное ветром, — леденящий душу страх, такой давящий, что хотелось бросить все и бегом бежать назад, к песчаным дюнам.
Консул повернулся к Вайнтраубу:
— Что за песенку вы поете дочке?
Сол с трудом выдавил улыбку и поскреб свою коротенькую бородку.
— Это из древнего плоского фильма. Он был снят еще до Хиджры. Какой там до Хиджры — до всего на свете.
— Спойте ее нам, — попросила Ламия Брон, поняв, что задумал Консул. Ее лицо побледнело.
Вайнтрауб запел — сначала еле слышно, но мелодия каким-то образом расшевелила всех. Отец Хойт развернул балалайку и начал подыгрывать — все более и более уверенно.
Ламия Брон рассмеялась, а Мартин Силен с ужасом воскликнул:
— Бог ты мой, я ведь пел эту песенку в детстве. Седая старина.
— Но кто же волшебник? — спросил полковник; его усиленный шлемофоном голос заставил всех улыбнуться.
— И что такое Оз? — спросила Ламия.
— И кто же все-таки отправился повидать этого волшебника? — усмехнулся Консул, ощущая, как понемногу ослабевает сковавший его необъяснимый страх.
Сол Вайнтрауб остановился и попробовал пересказать фабулу старой ленты, давно превратившейся в прах.
— Не надо, — вдруг сказала Ламия. — Расскажете потом. Лучше спойте еще раз.
Грозовая туча приближалась к пустошам, тогда как горы давно уже поглотила тьма. Небо продолжало кровоточить, но горизонт на востоке немного побледнел. Слева от них белел мертвый город — словно пустыня скалила зубы.
Ламия снова шла впереди. Сол Вайнтрауб запел громче, и Рахиль зашевелила ручонками от удовольствия. Ленар Хойт откинул назад накидку, чтобы она не мешала играть. Мартин Силен отшвырнул пустую бутылку далеко в пески и начал подпевать удивительно сильным и приятным голосом.
Федман Кассад поднял забрало, забросил винтовку за спину и присоединился к хору. Консул тоже начал было петь, потом подумал, что слова уж очень глупы, расхохотался — и снова запел.
Там, где начиналась тьма, дорога расширилась. Консул пошел вправо, Кассад присоединился к нему, Сол Вайнтрауб встал посередине. Теперь все шестеро шли бок о бок. Ламия Брон взяла за руку Силена, другую руку протянула Вайнтраубу.
Продолжая петь и не оглядываясь, паломники спустились по склону и двинулись к Гробницам Времени.
Книга II ПАДЕНИЕ ГИПЕРИОНА
Может ли Бог соревноваться со своими творениями? Может ли вообще творец, пусть даже возможности его весьма ограниченны, всерьез соревноваться со своими творениями?
Норберт Винер. «Бог и Голем»Разве не может быть так, что неким высшим существам доставляет развлечение искусный поворот мысли, удавшийся — пускай и безотчетно — моему разуму, как забавляет меня самого проворство суслика или испуганный прыжок оленя? Уличная драка не может не внушать отвращения, однако энергия, проявленная ее участниками, взывает к чувству прекрасного… Для высшего существа наши рассуждения могут выглядеть чем-то подобным: пусть даже ошибочные, тем не менее они прекрасны сами по себе. Именно в этом заключается сущность поэзии…
Джон Китс, из письма к брату[43]Воображение можно уподобить сну Адама:[44] он пробудился и увидел, что все это — правда.
Джон Китс, из письма к другу[45]Паломники, отправившиеся к Гробницам Времени на планете Гиперион, достигают цели и ищут Шрайка, чтобы сразиться с ним или обратиться с просьбой. Но он находит каждого из них сам, неожиданно и беспощадно.
Тем временем правительство человеческой Гегемонии в ожидании новостей с планеты Гиперион оттягивает момент жесткого разрыва с ИскИнами, обеспечивающими человечеству возможность связи и мгновенного передвижения между планетами: «Может ли рыба объявить войну воде, в которой плавает?»
ЧАСТЬ I
Глава 1
В день отбытия армады — последний день нашей мирной жизни — я был приглашен на прием. Приемы в тот вечер проходили повсюду, на всех полутораста с лишним планетах Гегемонии, но только этот стоил внимания.
Сообщив через инфосферу, что непременно буду, я удостоверился, что на моем лучшем смокинге нет ни пятнышка, неспешно помылся и побрился, оделся с тщательностью истого денди и в назначенный час с помощью одноразового дискоключа из чипа-приглашения нуль-транспортировался с Эсперансы на Тау Кита.
В этом полушарии ТКЦ был вечер, и косые лучи золотили холмы и долины Оленьего парка, серые башни Административного Комплекса далеко на юге, берега реки Тетис, окаймленные плакучими ивами и сверкающими огненными папоротниками, и белую колоннаду Дома Правительства. Гости прибывали тысячами, но сотрудники охраны успевали перехватить каждого — губы выговаривают «Добро пожаловать!», глаза сверяют номер приглашения с ДНК гостя, рука взлетает в артистическом жесте, указывая дорогу к бару и банкетным столам.
— Господин Джозеф Северн? — учтиво осведомился один из распорядителей.
— Да, — солгал я. Хоть я и носил теперь это имя, но остался самим собой.
— Секретарь Сената Гладстон хотела бы встретиться с вами. Как только она освободится, вас известят.
— Прекрасно.
— Если у вас возникнут особые пожелания относительно меню или программы развлечений, достаточно высказать их вслух, и кураторы вечера постараются вам помочь.
Раскланявшись с распорядителем, я двинулся дальше, но не успел сделать и десяти шагов, как он уже встречал новых гостей, спускающихся с платформы терминекса.
Взойдя на пригорок, я смог охватить взглядом всю наманикюренную лужайку, простирающуюся на несколько сот акров. По ней фланировали толпы гостей. За лугом (его пространство уже расчертили длинные тени приречных деревьев) поднимался амфитеатром английский сад, а дальше высился гордый монолит Дома Правительства. В одном из внутренних двориков играл оркестр, и скрытые динамики доносили музыку до самых отдаленных уголков Оленьего парка. Из висящего высоко в небе нуль-портала один за другим появлялись ТМП и скользили по спирали к земле. Я немного понаблюдал, как их ярко одетые пассажиры сходят на платформу около пешеходного терминекса. От разнообразия летательных аппаратов захватывало дух. Среди стандартных «Виккенов», «Альтцов» и «Сумацу», сияли в закатных лучах отделанные под рококо палубы левитационных барж и даже причудливые металлические фюзеляжи старинных скиммеров, считавшихся ретро еще на Старой Земле.
По длинному косогору я сошел к реке и двинулся мимо причалов, где пестрая вереница судов высаживала своих пассажиров. Тетис — единственная в своем роде река, связывающая более двухсот планет и лун Сети. Она несет свои воды сквозь постоянно работающие нуль-порталы, и люди, что селятся на ее берегах, принадлежат к сливкам Гегемонии. О богатстве владельцев свидетельствовали суда: огромные крейсерские яхты, стремительные бригантины и пятиярусные баржи — многие, по-видимому, с антигравитаторами; изящные барки — очевидно, с собственными нуль-порталами на борту; маленькие плавучие острова с Мауи-Обетованной; щеголеватые катера и субмарины, сошедшие со стапелей еще до Хиджры; великолепные экземпляры ТМП-амфибий с Возрождения-Вектор, украшенные ручной резьбой, и несколько современных яхт-вездеходок, чьи корпуса прятались в зеркальных коконах силовой защиты.
Сходящие по трапам гости не уступали великолепием своим судам — чего здесь только не было! От консервативных вечерних костюмов времен до-Хиджры на телах, к которым и пальцем не прикасались поульсенизаторы, до самых свежих изысков модельеров ТКЦ, где мода радикально меняется каждую неделю, на фигурах, вылепленных знаменитейшими палеореконструкторами Сети. Я задержался на миг у длинного стола, чтобы положить на свою тарелку ростбиф, салат, филе небесного кальмара, ложку парватийского карри и свежеиспеченный хлебец, и пошел дальше.
Когда мне наконец удалось отыскать свободное местечко, вечерняя мгла уже сгустилась и зажглись первые звезды. Огни Административного Комплекса и расположенного неподалеку города горели сегодня вполнакала — по случаю смотра армады, — и ночное небо ТК-Центра впервые за много веков вновь обрело первозданную прозрачность.
Моя соседка обернулась ко мне с улыбкой:
— Уверена, мы где-то встречались.
Я улыбнулся в ответ, уверенный в обратном. Очень привлекательна. Вероятно, вдвое старше меня — около шестидесяти стандартолет, но выглядит благодаря деньгам и чудодею Поульсену моложе моих собственных двадцати шести. Кожа настолько светлая, что кажется почти прозрачной. Волосы уложены высоким валиком. Грудь, скорее выставленная напоказ, чем прикрытая накидкой из тончайшего газа, — безупречной формы. Глаза — жестокие.
— Может быть, — ответил я, — хотя маловероятно. Меня зовут Джозеф Северн.
— Ну конечно, — воскликнула она. — Вы художник!
Я не художник. Я поэт… когда-то был им. Но, возродившись год назад после гибели моего действительного воплощения, стал Северном, а значит — художником. Об этом говорилось в моем альтинг-файле.
— Я вас помню, — засмеялась дама. Ложь. Ничего она не помнила, а просто подключилась к инфосфере через свои дорогие импланты.
Мне не нужно было «подключаться» — неуклюжее, ненужное слово, к которому я не испытывал ни малейшего почтения, несмотря на всю его древность. Я мысленно закрыл глаза и оказался в инфосфере, одним махом проскочив через «непреодолимые» барьеры Альтинга. Оставив позади бушующие на поверхности волны бесчисленных запросов и ответов, я устремился вдоль светящейся нити ее подключения в сумрачные глубины «защищенного законом» океана информации.
— Я Дайана Филомель, — объявила дама. — Мой муж — администратор транспортного сектора на Седьмой Дракона.
Я кивнул и пожал ее протянутую руку. Она и не подумала упомянуть, что, прежде чем высокие покровители устроили ее мужа на Седьмую Дракона, он был главарем шайки громил при профсоюзе грязекопов на Небесных Вратах, или что ее когда-то звали Дайни-Сиська и была она обычной шлюхой, хозяйкой притона на Центральном Отстойнике и ее дважды арестовывали за злоупотребление флэшбэком, причем при втором аресте был тяжело ранен врач гостиницы… или что в возрасте девяти лет она отравила сводного брата, потому что тот угрожал рассказать отчиму о ее свиданиях с грязекопом по имени…
— Рад с вами познакомиться, госпожа Филомель, — произнес я. Ее рука была теплой. Она задержала мою ладонь в своей чуть дольше, чем требовал этикет.
— Волнующе, не правда ли? — выдохнула она.
— Что именно?
Широким взмахом руки она обвела все вокруг: ночное небо, зажигающиеся осветительные шары, деревья, толпу:
— О, этот прием, война — все, все.
Я улыбнулся в знак согласия и попробовал ростбиф. Он был в меру сыроват и вполне съедобен, но, судя по солоноватому привкусу, мясо родилось и выросло в чане клонокомбината Лузуса. Кальмар, похоже, был натуральным. Появились официанты с шампанским. Я взял с подноса бокал. Никуда не годное. Хорошее вино, виски и кофе — вот священная триада напитков, безвозвратно сгинувших вместе со Старой Землей.
— Так вы считаете, что война необходима? — спросил я.
— Еще как необходима, черт подери!
Дайана Филомель только открыла рот, а ответил за нее ее муж, незаметно подошедший и плюхнувшийся рядом с нами на декоративное пластиковое бревно, — верзила, по меньшей мере на полтора фута выше меня. Правда, сам я отнюдь не великан. Память подсказывает мне, что в одном из стихотворений я насмешливо именовал себя «…мистером Джоном Китсом, пяти футов роста», хотя мой рост — пять футов и один дюйм, что несколько меньше средних пяти футов шести дюймов для времен Наполеона и Веллингтона, и до смешного мало теперь, когда рост мужчин на планетах со средней гравитацией колеблется от шести до семи футов. По моей заурядной мускулатуре и телосложению не скажешь, что я вырос при большой силе тяжести, поэтому в глазах окружающих я просто коротышка. (Излагая свои мысли, я употребляю те единицы измерений, которыми пользуется мое сознание… Из всех вынужденных изменений в ментальных стереотипах, которые мне пришлось претерпеть после второго рождения в Сети, труднее всего оказался переход на метрическую систему мер. Иногда у меня просто голова шла кругом.)
— Так почему же война необходима? — спросил я Гермунда Филомеля, мужа Дайаны.
— Потому, что эти ублюдки сами на нее напросились, — прорычал верзила, и на скулах у него заходили желваки. Впечатление он производил самое что ни на есть зверское. Шеи у него почти не было, а борода росла под кожей, неподвластная ни эпиляторам, ни лезвию, ни бритве. Вдобавок его кулаки были вдвое больше моих.
— Понимаю, — сказал я.
— Эти ублюдки Бродяги сами напросились, — повторил он, решив специально для меня вновь перечислить свои основные аргументы. — Вот на Брешии они выдрючивались — и довыдрючивались. А теперь выдрючиваются на этом… как там его…
— В системе Гипериона, — подсказала жена, не сводя с меня глаз.
— Во-во, — подхватил ее повелитель и муж, — в системе Гипериона. Они, значит, все выдрючиваются, строят из себя деловых. И пора показать им, что с Гегемонией шутки плохи. Понимаешь?
Я вспомнил, как меня, восьмилетнего, послали учиться в частную школу Джона Кларка в Энфилде, где хватало таких вот тупоумных задир с кулаками-окороками. Впервые попав в школу, я то пытался избегать их, то гнул перед ними шею. Когда умерла моя мать и мир перевернулся, я сам начал их преследовать. Зажимая в кулаках камни, даже с разбитым носом и выбитыми зубами, я поднимался с земли, чтобы продолжить бой.
— Понимаю, — прошептал я. Моя тарелка между тем опустела. Подняв бокал с остатками скверного шампанского, я провозгласил последний тост за Дайану Филомель.
— Нарисуйте меня, — сказала она.
— Простите?
— Нарисуйте меня, господин Северн. Вы же художник.
— Маляр, — ответил я, выразив жестом свою полную беспомощность. — И боюсь, не захватил мое стило.
Дайана Филомель покопалась в пиджачном кармане своего мужа и вручила мне световое перо:
— Пожалуйста.
Портрет возник в воздухе между нами. Линии взмывали вверх, ныряли и сами себя пересекали, подобно неоновым нитям накала в электроскульптуре. Вокруг собралась кучка зевак. Когда я закончил, раздались робкие аплодисменты. Рисунок и впрямь был неплох. Он точно передавал чувственный изгиб длинной шеи, очертания высокой прически, выдающиеся скулы… даже легкий двусмысленный блеск глаз. Пожалуй, это было лучшее, что я мог создать после РНК-терапии и уроков рисования, подготовивших меня к роли художника. У настоящего Джозефа Северна получалось лучше. Помню, как он рисовал меня на смертном одре.
Лицо госпожи Дайаны Филомель просияло. Господин Гермунд Филомель покосился на меня.
Раздался крик:
— Вот они!
Толпа зашумела… затаила дыхание… замерла. Осветительные шары и садовые фонари медленно потускнели, потом погасли. Тысячи гостей обратили взоры к небу. Я стер рисунок и сунул световое перо в карман Гермунду.
— Это армада, — сказал представительный пожилой мужчина в черном мундире ВКС. Он поднял руку с бокалом, указывая на что-то своей молодой спутнице: — Портал только что открыли. Первыми пойдут разведчики под эскортом факельщиков.
С места, где мы находились, не было видно военного нуль-портала: думаю, даже из космоса он выглядел бы всего лишь как прямоугольный участок, на котором нарушен привычный рисунок созвездий. Зато четко виднелись огненные следы кораблей-разведчиков — сначала подобно рою светлячков или кружеву лучистой паутины, потом, когда корабли включили маршевые двигатели и пронеслись по окололунному транспортному коридору системы Тау Кита, в виде ослепительных комет. Нового дружного «ах!» удостоилось появление из портала факельных звездолетов, с огненными хвостами во сто крат длиннее, чем у разведчиков. Ночное небо ТКЦ словно расчертили красно-золотыми полосами от зенита до горизонта.
Кто-то первым захлопал в ладоши, и через несколько секунд площадки, лужайки и аллеи Оленьего парка захлестнула буря неистовых рукоплесканий, прямо-таки цунами хриплых «ура!». Толпа сверхэлегантных миллиардеров, правительственных чиновников, аристократов сотен миров, позабыв обо всем, отдалась патриотическому угару и жажде вражеской крови — чувствам, дремавшим почти полтора века.
Я не аплодировал. Никем не замечаемый, я мысленно произнес тост — теперь не за леди Филомель, а за неистребимую глупость моих собратьев — и допил остатки шампанского, уже выдохшегося.
Теперь в систему Тау Кита входили основные корабли флотилии. Из нескольких легких прикосновений к инфосфере (ее поверхность, бугристая от всплесков информации, к этому моменту уже походила на штормовое море) я узнал, что костяк космической армады ВКС составляют сто с лишним крупных спин-звездолетов: матово-черные ударные авианосцы с разведенными старт-пилонами; штабные корабли класса три-С, красивые и хрупкие, как метеоры из черного хрусталя; луковицеобразные эсминцы, напоминающие раздутые факельщики, каковыми, по сути, они и были; силовые заградители — скорее сгустки энергии, чем нечто материальное. В серебристом зеркале их силовых щитов, работающих сейчас в режиме полного отражения, зрители увидели саму Тау Кита и серпантин огненных шлейфов. Тут были скоростные крейсеры, шнырявшие, как акулы, среди своих медлительных собратьев, громоздкие войсковые транспортники, в чьих трюмах бултыхались в невесомости тысячи морских пехотинцев, и множество вспомогательных кораблей: сторожевики, истребители, торпедные катера, ретрансляторы мультисвязи и, наконец, корабли-«прыгуны» с мобильными порталами — огромные додекаэдры со сказочным оперением из тысяч зондов и антенн.
А вдалеке, удерживаемые на безопасном расстоянии диспетчерами, порхали яхты, гелионакопители и мелкие частные корабли, ловя парусами солнечный свет и россыпи огней армады.
Гости в садах и парках Дома Правительства из последних сил кричали «ура!» и аплодировали. Господин в черном мундире ВКС беззвучно плакал. Скрытые камеры и широкополосные имиджеры транслировали волнующий момент на все миры Сети и — по мультилинии — на десятки внесистемных планет.
Я качал головой, не вставая со своего бревна.
— Господин Северн? — надо мной стояла охранница.
— Да.
Она кивком указала на резиденцию правительства:
— Секретарь Гладстон ждет вас.
Глава 2
В эпохи смут и потрясений на политической сцене появляются руководители, самим небом, казалось, предназначенные для этой роли и, как оказывается впоследствии, связанные неразрывными узами с судьбами своего времени. Для нашей Эпохи Конца таким руководителем стала Мейна Гладстон. Правда, в те дни никому бы и в голову не пришло, что именно мне придется писать правдивую историю ее жизни и ее времени.
Гладстон так часто сравнивали с бессмертным Авраамом Линкольном, что, представ перед этой великой женщиной, я даже удивился, не увидев на ней цилиндра и черного сюртука. Секретарь Сената и председатель правительства, заботящегося о ста тридцати миллиардах граждан, была одета в костюм из тонкой шерсти: брюки и жакет, по швам и манжетам отделанные скромнейшими красными выпушками. Она не показалась мне похожей ни на Авраама Линкольна, ни на Альвареса-Темпа, второго по популярности древнего героя, именуемого в прессе «прошлым воплощением Мейны», а скорее на обычную старую даму.
Да, Мейна Гладстон была высока и худа, но лицом напоминала скорее орлицу, чем Линкольна: крючковатый нос, высокие скулы, крупный выразительный рот с тонкими губами и седые, кое-как подстриженные волосы — не волосы, а перья. Но главным в ее лице были глаза: большие, карие, невыразимо печальные.
Наша встреча проходила в длинной, неярко освещенной комнате, вдоль стен которой тянулись деревянные полки с сотнями печатных книг. Огромный голоэкран, стилизованный под окно, позволял наблюдать за происходящим в садах. Совещание близилось к концу, и десятка полтора мужчин и женщин стояли и сидели, образуя неровный полукруг перед столом Гладстон. Скрестив руки на груди, она полусидела на краешке своего стола и, когда я пошел, вскинула голову:
— Господин Северн?
— Да, это я.
— Благодарю, что согласились прийти. — Голос секретаря Сената был знаком мне по тысяче дебатов Альтинга: огрубевший с годами и в то же время вкрадчивый, как дорогой ликер. Ее манера говорить была знаменита — безупречно точный синтаксис сочетался в ней с непринужденностью земного английского, который теперь можно услышать лишь в долинах рек ее родной планеты Патофы.
— Господа и дамы, позвольте представить вам Джозефа Северна, — произнесла она.
Некоторые из присутствующих учтиво кивнули, очевидно, теряясь в догадках относительно причин моего появления. Гладстон никого не стала мне представлять, но, заглянув в инфосферу, я познакомился со всеми: три члена кабинета, включая министра обороны, два высоких штабных чина ВКС, два помощника Гладстон, четыре сенатора, и среди них могущественнейший Колчев, а также проекция советника Техно-Центра, известного под именем Альбедо.
— Миссия господина Северна — взглянуть на нашу работу под художественным углом зрения, — объявила Гладстон.
Генерал Морпурго насмешливо хрюкнул:
— Художественный угол зрения? При всем моем уважении к вам, госпожа Гладстон, — что это еще за чертовщина?
Гладстон улыбнулась и, не отвечая генералу, повернулась ко мне:
— Что вы думаете о смотре армады, господин Северн?
— Очень мило, — ответил я.
Генерал Морпурго издал носом какой-то звук.
— Мило? Видеть величайшую в истории галактики концентрацию космической огневой мощи и говорить, что это мило?! — Повернувшись к своему соседу, он иронически покачал головой.
Улыбка не покинула губ Гладстон.
— А война? Как вы оцениваете нашу попытку спасти Гиперион от варварских орд?
— Это глупость, — ответил я.
Воцарилась полная тишина. Последнее голосование в Альтинге показало, что 98 процентов граждан Гегемонии одобряют решение секретаря Сената объявить войну Бродягам. От исхода этого конфликта зависела и участь Гладстон как политика. Люди, собравшиеся в этой комнате, определяли политическую линию и разрабатывали стратегию военных действий. Именно они должны были принять окончательное решение о высадке войск. Пауза затянулась.
— Почему? — тихо спросила Гладстон.
Я сделал неопределенный жест рукой.
— Гегемония ни с кем не воевала семь веков, со времен своего основания. Глупо испытывать прочность ее устоев таким путем.
— Как это «не воевала»?! — вскричал генерал Морпурго, упершись огромными лапищами в колени. — А как же вы назовете мятеж Гленнон-Хайта, милостивый… государь?
— Мятежом, — ответил я. — Бунтом. Полицейской акцией.
Сенатор Колчев раздвинул губы в зловещей улыбке. Уроженец Лузуса, он, казалось, был слеплен из одних мускулов.
— Вмешательство флота, — негромко проговорил он. — Полмиллиона погибших, две дивизии ВКС, которые больше года не могли сломить противника… Значит, сынок, это была полицейская акция?
Я промолчал.
Ли Хент, пожилой, чахоточного вида мужчина, считавшийся правой рукой Гладстон, откашлялся:
— Но господин Северн говорит интересные вещи. Скажите, сэр, в чем вы видите разницу между войной Гленнон-Хайта и этим… э-э… конфликтом?
— Гленнон-Хайт был отставным офицером ВКС, — ответил я, сознавая, что повторяю общеизвестное. — Бродяги уже много веков остаются неизвестной величиной. Мы знали, какими силами располагают мятежники, их действия легко поддавались расчету, а орды же Бродяг кочуют вне досягаемости Сети со времени Хиджры. Гленнон-Хайт держался в пределах Протектората, нападая на миры, находящиеся в радиусе двух месяцев лета от Сети. От Гипериона до ближайшей базы ВКС — Парвати — целых три года.
— Вы думаете, мы не знаем об этом? — вскипел генерал Морпурго. — Ну а Брешия? Там-то мы сражались с Бродягами! Какой же это мятеж?
— Тише, пожалуйста, — обернулся к нему Ли Хент. — Продолжайте, господин Северн.
Я снова пожал плечами.
— Вся разница в том, что теперь мы имеем дело с Гиперионом.
Сенатор Ришо кивнула, полагая, что я полностью объяснил свою позицию.
— Вы боитесь Шрайка, — уверенно сказала она. — Вероятно, вы принадлежите к Церкви Последнего Искупления?
— Нет, — ответил я. — Я не поклоняюсь Шрайку.
— Кто вы? — резко спросил Морпурго.
— Художник, — солгал я.
Ли Хент с улыбкой обернулся к Гладстон:
— Госпожа секретарь, я согласен, что это мнение должно было отрезвить наши головы, — сказал он, указывая на аплодирующие толпы в окне-экране. — Однако, пока наш друг-художник излагал свои аргументы, их уже успели проанализировать и взвесить.
Раздался негромкий кашель, и сенатор Колчев произнес:
— Не слишком это приятно — говорить об очевидном, когда все вокруг предпочитают это очевидное игнорировать, но обладает ли сей… господин… соответствующим разрешением службы безопасности для присутствия на подобных совещаниях?
Гладстон кивнула и слегка улыбнулась той улыбкой, которую мечтали перенести на бумагу многие карикатуристы.
— Министерство искусств уполномочило господина Северна сделать серию зарисовок в течение ближайших дней или недель. Предполагается, что они будут иметь некую историческую ценность и смогут послужить материалом для официального портрета. Во всяком случае, господин Северн получил от службы безопасности «золотую карту», и мы можем свободно говорить в его присутствии. Кроме того, я высоко ценю его прямоту. В определенном смысле его приход — знак того, что наше совещание завершено. Я жду вас завтра утром в Военном Комитете, в 08:00, перед переброской флота в пространство Гипериона.
Все направились к дверям. Генерал Морпурго, удаляясь, наградил меня свирепым взглядом. Сенатор Колчев, проходя мимо, поглядел с некоторым любопытством. Советник Альбедо просто растаял в воздухе. Кроме Гладстон и меня, в комнате остался один Ли Хент. Он устроился поудобнее, перекинув ногу через подлокотник бесценного кресла, привезенного со Старой Земли.
— Присаживайтесь, — обронил он.
Я взглянул на секретаря Сената и выбрал стул с прямой спинкой, на котором только что сидел генерал Морпурго.
— Вы действительно считаете оборону Гипериона глупостью? — спросила Мейна Гладстон.
— Да.
Она сложила пальцы в щепоть и задумчиво потеребила нижнюю губу. В окне за ее спиной беззвучно бушевал прием в честь армады.
— Если вы еще надеетесь на воссоединение с вашим… э-э… двойником, — произнесла она, — то продолжение Гиперионовской кампании в ваших же интересах.
Я не отозвался. Теперь в окне появилось ночное небо, в котором еще пылали следы армады.
— Рисовальные принадлежности у вас с собой? — спросила Гладстон.
Я извлек карандаш и небольшой блокнот, о которых предпочел не упоминать при Дайане Филомель.
— Рисуйте, пока мы разговариваем, — предложила Мейна Гладстон.
Я приступил к работе: быстро наметил ее опущенные плечи и занялся лицом. Меня заинтриговали глаза.
Тут я ощутил на себе пристальный взгляд Ли Хента.
— Джозеф Северн, — протянул он. — Интересное имя вы себе выбрали.
Стремительными четкими штрихами я очертил высокий лоб и орлиный нос Мейны Гладстон.
— Знаете, почему люди недолюбливают кибридов? — продолжал Хент.
— Да, — ответил я. — Синдром чудовища Франкенштейна. Боязнь всего человекоподобного, но не совсем подходящего под определение «человек». Потому-то андроидов и объявили вне закона.
— Угу, — согласился он. — Но ведь кибриды — самые настоящие люди, не так ли?
— С точки зрения генетики — да, — ответил я и поймал себя на том, что вспоминаю мать — как читал ей вслух, когда она заболела. Подумал о моем брате Томе. — Но они часть Техно-Центра и потому подпадают под определение «не вполне человек».
— А вы тоже часть Техно-Центра? — спросила Мейна Гладстон, взглянув мне в глаза. Я начал новый набросок.
— Не совсем, — ответил я. — Я могу свободно путешествовать там, куда меня допускают, но это ближе к обычному подключению к инфосфере, чем к возможностям полноправных членов Техно-Центра.
В три четверти ее лицо выглядело интереснее, но вся сила, заключенная в глазах, открывалась, когда они смотрели на тебя в упор. Я занялся паутинками морщинок, разбегающихся из уголков этих глаз. Мейна Гладстон, очевидно, никогда не прибегала к поульсенизации.
— Если бы можно было что-то скрыть от Техно-Центра, — сказала Мейна Гладстон, — допускать вас на заседания правительства было бы безумием. Так или иначе… — Она опустила руки на колени и выпрямилась. Я перевернул страницу в блокноте. — Так или иначе, — продолжала она, — вы располагаете необходимой мне информацией. Правда ли, что вы можете читать мысли вашего двойника, первой воскрешенной личности?
— Нет.
Перенести на бумагу сложное переплетение морщин и мускулов в уголках ее рта было непросто. Я зарисовал его как умел, переключился на волевой подбородок, положил тень под нижнюю губу.
Хент, нахмурив лоб, покосился на главу правительства. Мейна Гладстон снова сложила пальцы в щепоть.
— Объясните, — попросила она.
Я поднял глаза от рисунка.
— Я вижу сны. В них, по-видимому, отражаются события, происходящие вокруг человека, который носит в своем теле имплант предыдущей личности Китса.
— Это женщина. Ее зовут Ламия Брон, — сказал Ли Хент.
Гладстон кивнула.
— Значит, первичная личность Китса, которая считалась убитой на Лузусе, все еще жива?
Я замялся.
— Она… он… все еще в сознании. Вы же знаете, что субстрат первичной личности был извлечен из Техно-Центра, очевидно, самим кибридом и имплантирован в биошунт, носимый госпожой Брон.
— О да, — подтвердил Ли Хент. — Но суть дела в том, что вы поддерживаете связь с личностью Китса, а через нее — с паломниками к Шрайку.
Из быстрых черных штрихов сложился темный фон, придавший портрету Гладстон глубину.
— Вряд ли это можно назвать связью, — заметил я. — Я вижу сны, сны о Гиперионе. Сообщения, которые вы получаете по мультилинии, подтверждают, что мои сны адекватны происходящим там событиям. Но я не могу общаться ни с пассивной личностью Китса, ни с ее носительницей или прочими паломниками.
Мейна Гладстон прищурилась:
— Откуда вы узнали о передачах по мультилинии?
— Консул рассказал паломникам, что может отправлять сообщения через комлог и мультипередатчик своего корабля. Они разговаривали об этом в Башне Хроноса, как раз перед спуском в долину.
— И как им понравилось откровение Консула? — спросила Гладстон тоном адвоката: наследие тех лет, когда она еще не оставила юриспруденцию ради политики.
— Они давно знают, что среди них есть шпион, — сказал я, убирая карандаш в карман. — Вы сами предупредили об этом каждого.
Гладстон взглянула на своего помощника. Лицо Хента ничего не выражало.
— Раз вы поддерживаете с ними связь, — сказала она, — вам должно быть известно, что мы не получили от них ни единой мультиграммы с тех пор, как они покинули Башню Хроноса и начали спускаться к Гробницам Времени.
Я покачал головой.
— Прошлой ночью сон прервался как раз на том, что они подошли к долине.
Мейна Гладстон встала, прошла к окну, подняла руку, и экран погас.
— Значит, вы не знаете, живы ли они?
— Нет.
— Каково было их положение, когда вы… видели их во сне в последний раз?
Хент не отрывал от меня глаз. Мейна Гладстон смотрела на темный экран, повернувшись спиной к нам обоим.
— Все были живы, — сказал я. — За исключением Хета Мастина, Истинного Гласа Древа.
— Он мертв? — спросил Хент.
— Он исчез из ветровоза в Травяном море двое суток назад — после того, как разведчики Бродяг уничтожили корабль-дерево «Иггдрасиль». Но недавно паломники видели с Башни Хроноса, как человек в мантии шел через пустыню в направлении Гробниц.
— И это был Хет Мастин? — спросила Гладстон.
— Они так предположили, но точно сказать не могли.
— Расскажите об остальных, — попросила секретарь Сената.
Я перевел дух. Из снов я знал, что Гладстон лично знакома по меньшей мере с двумя участниками последнего паломничества к Шрайку. Отец Ламии Брон был ее коллегой по Сенату, а Консул являлся личным представителем Гладстон на тайных переговорах с Бродягами.
— У отца Хойта сильные боли, — сказал я. — Он рассказал остальным историю крестоформа. Консул узнал, что Хойт носит на себе крестоформ… даже два. Отца Дюре и свой собственный.
Гладстон кивнула.
— Значит, он не избавился от паразита-воскресителя?
— Нет.
— И с приближением к логову Шрайка он беспокоит его все сильнее?
— Кажется, так.
— Продолжайте.
— Поэт, Мартин Силен, все это время пьянствовал. Он убежден, что его неоконченная поэма предсказала ход событий и продолжает ими управлять.
— На Гиперионе? — спросила Гладстон, не оборачиваясь.
— Повсюду, — ответил я.
Хент бросил взгляд на секретаря Сената и снова уставился на меня.
— Силен сумасшедший?
Я не опустил глаз, но промолчал. По правде говоря, я и сам не знал.
— Продолжайте, — попросила Гладстон.
— У полковника Кассада навязчивая идея: отыскать женщину по имени Монета и убить Шрайка. Он подозревает, что Шрайк и Монета одно и то же существо.
— Он вооружен? — спросила Гладстон очень тихо.
— Да.
— Продолжайте.
— Сол Вайнтрауб, ученый с Мира Барнарда, надеется войти в Гробницу под названием «Сфинкс», как только…
— Извините, — перебила меня Гладстон. — Его дочь все еще с ним?
— Да.
— И сколько Рахили сейчас?
— Пять дней, по-моему. — Я закрыл глаза, пытаясь припомнить подробности вчерашнего сна. — Да, — повторил я, — пять дней.
— И она все еще растет наоборот?
— Да.
— Продолжайте, господин Северн. Расскажите, пожалуйста, о Ламии Брон и Консуле.
— Ламия Брон выполняет волю своего бывшего клиента… и любовника, — сказал я. — Личность Китса считала, что должна встретиться со Шрайком лицом к лицу. Госпожа Брон намерена сделать это вместо Китса.
— Господин Северн, — начал Ли Хент, — вы говорите о «личности Китса» так, словно она не имеет никакого отношения к вашей собственной…
— Пожалуйста, Ли, потом, — быстро перебила его Мейна Гладстон. Обернувшись, она снова посмотрела мне в глаза. — А как поживает Консул? Он объяснил, что побудило его присоединиться к паломникам?
— Да, — ответил я.
Гладстон и Хент ждали.
— Консул рассказал им о своей бабушке, — сказал я. — Женщине по имени Сири, которая возглавила восстание на Мауи-Обетованной полвека назад. А также о том, что его собственная семья погибла во время битвы за Брешию, и признался в своих тайных встречах с Бродягами.
— Это все? — спросила Гладстон, не сводя с меня лихорадочно блестящих карих глаз.
— Нет, — ответил я. — Консул объявил, что именно он включил созданное Бродягами устройство, ускорившее открытие Гробниц.
Хент вскинул голову, его нога соскользнула с подлокотника кресла. Гладстон прерывисто выдохнула.
— Это все?
— Да.
— Как реагировали остальные на его признание в… предательстве? — спросила она.
Я помолчал, пытаясь выстроить обрывки сна в линейной последовательности.
— Некоторые стали возмущаться. Но никто не выказал беззаветной верности Гегемонии. Паломники решили продолжать путь. Мне кажется, все они в глубине души считают, что возмездие должно прийти от Шрайка, а не от людей.
Хент стукнул кулаком по подлокотнику кресла.
— Будь Консул здесь, — резко произнес он, — живо убедился бы в обратном.
— Спокойно, Ли. — Гладстон возвратилась к своему письменному столу и зашуршала бумагами. Сигнальные лампочки линий связи нетерпеливо мигали. Я поразился, что она потратила столько времени на беседу со мной. — Благодарю вас, господин Северн, и прошу вас остаться на несколько дней. Ваши апартаменты в жилом крыле Дома Правительства.
Я встал.
— Мне нужно на Эсперансу за вещами.
— Не беспокойтесь, — сказала Гладстон. — Ваш багаж прибыл сюда раньше вас. Ли вас проводит.
Я поклонился и пошел за долговязым Ли к двери.
— Да, господин Северн… — окликнула меня Гладстон.
— Я вас слушаю.
Секретарь Сената улыбнулась.
— Я высоко ценю вашу искренность, — сказала она. — Но начиная с этого момента, будем считать, что вы — придворный художник, и только. Не рассуждающий, невидимый и неслышимый.
— Понятно, — ответил я.
Гладстон кивнула и в следующее мгновение уже переключилась на мигающие лампочки теле — и прочих фонов.
— Отлично. Пожалуйста, приходите завтра со своим блокнотом на совещание в Военный Комитет к 08:00.
Ожидавший в приемной сотрудник службы безопасности поманил меня за собой. Мы уже углубились в лабиринт коридоров, когда оставшийся позади Хент что-то крикнул и бросился за нами следом. Его шаги эхом разносились по огромному зданию. Подбежав к нам, он схватил меня за руку.
— Не делайте глупостей, — негромко произнес он. — Мы знаем… она знает, кто вы такой, и что вы такое, и кто вас сюда прислал.
Не опуская глаз, я спокойно высвободил руку.
— Очень хорошо, так как в настоящую минуту я совершенно уверен, что сам этого не знаю.
Глава 3
Шестеро взрослых и младенец во враждебном мире. В сгущающейся тьме их костер выглядит жалкой искоркой. Над ними и вокруг стеной вздымаются горы, окружающие долину, а рядом во мраке притаились громадины Гробниц. Они кажутся призраками каких-то допотопных монстров, подползающими все ближе и ближе.
Ламия Брон вконец вымоталась, и при каждом крике младенца на руках у Вайнтрауба стискивает зубы. За последние трое суток они спали не больше нескольких часов, а прошедший день добавил тревог и волнений. Ламия подбрасывает в костер полено.
— Последнее, — цедит сквозь зубы Мартин Силен. Костер подсвечивает его козлиную физиономию.
— Знаю, — бесцветным голосом отвечает Ламия, слишком усталая, чтобы огрызаться и вообще выражать свои чувства вслух. Дрова для костра взяты из тайника, устроенного здесь паломниками много лет назад. Три небольшие палатки стоят на площадке, используемой для традиционного последнего ночлега перед встречей со Шрайком. Это неподалеку от Гробницы, именуемой Сфинксом; черная громада — его крыло — заслоняет часть неба.
— Ну что ж, сгорит последнее — включим фонарь, — бросает Консул. Он выглядит более измученным, чем остальные. Пляшущее пламя бросает красные отблески на его лицо. Ради скорого свидания со Шрайком он обрядился в свою дипломатическую форму, но за день пелерина и треуголка испачкались и помялись — как, впрочем, и сам Консул.
К костру возвращается полковник Кассад. Он поднимает ночной визор, и на высоте двух метров от земли внезапно появляется его лицо. Одно только лицо — боевой скафандр из полимерной «хамелеоновой кожи» превратил Кассада в невидимку.
— Пусто, — говорит он. — Ничто не движется. Никаких тепловых следов. Ни звука — один ветер.
Кассад прислоняет универсальную десантную винтовку к скале и опускается на корточки рядом с остальными. Волокна его скафандра дезактивируются, становясь матово-черными, что, однако, не возвращает Кассада в разряд видимых существ.
— Вы полагаете, Шрайк явится сегодня ночью? — спрашивает отец Хойт срывающимся голосом. Священник, закутанный в черный плащ, сливается с тьмой, совсем как Кассад.
Наклонившись к костру, полковник ворошит угли:
— Трудно сказать. На всякий случай я покараулю.
Внезапно все шестеро задирают головы: в звездном небе, затмевая созвездия, начинают беззвучно расцветать чудовищные оранжевые и красные бутоны.
— Ну вот, опять начинается, — бормочет Сол Вайнтрауб, укачивая дочку. Рахиль успокоилась и теперь пытается ухватить отца за короткую бородку. Вайнтрауб целует крохотную ручонку.
— Снова прощупывают линию обороны Гегемонии, — замечает Кассад. От разворошенного костра летят искры; они уносятся в небо, будто хотят присоединиться к ослепительным огням там, наверху.
— Кто же победил? — спрашивает Ламия. Беззвучная космическая битва раздирала небеса всю прошлую ночь и добрую половину дня.
— А какая к черту разница? — Мартин Силен роется в карманах шубы, словно надеясь найти там непочатую бутылку. Но бутылки нет. — Какая к черту разница, — бормочет он снова.
— Большая, — устало роняет Консул. — Если Бродяги прорвутся, они могут уничтожить Гиперион прежде, чем мы отыщем Шрайка.
Силен разражается издевательским смехом:
— О, какой кошмар! Умереть, не повидавшись со смертью! Погибнуть без талончика на гибель! Уйти быстро и без боли, а не извиваться веки вечные на колючках Шрайка! О, об этом даже подумать страшно!
— Заткнись, — говорит Ламия Брон. В ее монотонном голосе никаких эмоций, разве что усталая угроза, а глаза устремлены на Консула. — Так где же Шрайк? Почему мы его не нашли?
Дипломат не отрывает глаз от огня.
— Не знаю. Да и откуда мне знать?
— Возможно, Шрайка больше нет, — вставляет отец Хойт. — Возможно, сняв антиэнтропийную защиту, вы освободили его навеки. И теперь он собирает кровавую жатву в других мирах.
Консул молча качает головой.
— Нет, — вмешивается в разговор Сол Вайнтрауб. Ребенок спит у него на груди. — Он будет здесь. Я чувствую.
Ламия кивает в знак согласия:
— Я тоже чувствую. Он выжидает.
Она достает из рюкзака несколько рационов и, включив нагрев, раздает паломникам ужин.
— Что и говорить: разочарование — основа и уток нашего мира, — замечает Силен. — Но вы-то, вы!.. Умора! Вырядились для похорон, а теперь ищете, где бы откинуть копыта.
Ламия морщится, но ничего не отвечает. Трапеза продолжается в молчании. Огненные гроздья гаснут, звезды вновь усеивают небо, а искры все летят и летят вверх, точно ища спасения.
Блуждая в сонной дымке мыслей Ламии Брон, я пытаюсь восстановить события, произошедшие со времени моего последнего сна о паломниках.
Незадолго до рассвета паломники, распевая песню, спустились в долину; впереди них ползли их длинные тени, отбрасываемые заревом космической битвы, бушующей в миллиарде километров от планеты. Спустившись, они начали осматривать Гробницы Времени, с минуты на минуту ожидая смерти. Через несколько часов, когда взошло солнце и холод высокогорной пустыни уступил место зною, страх и возбуждение стали понемногу рассеиваться.
Царящую в долине тишину нарушало лишь шуршание песка, голоса окликающих друг друга паломников, да стоны ветра, неустанно, до звона в ушах бьющегося о скалы и стены Гробниц. И Кассад и Консул захватили приборы для замера антиэнтропийных полей, но Ламия первой заметила, что они не нужны — приливы и отливы волн времени отзывались в теле легкой тошнотой, сопровождаемой неослабным чувством ложной памяти.
Ближе всего ко входу в долину находился Сфинкс; дальше располагалась Нефритовая Гробница, стены которой в утренних и вечерних сумерках становились полупрозрачными; далее, метрах в ста от нее, возвышалось сооружение под названием Обелиск; оттуда тропа паломников шла по руслу высохшего ручья, приводя к самой грандиозной, занимающей центральное положение Гробнице — Хрустальному Монолиту. То была голая глыба без единого прохода внутрь, с плоской вершиной, возвышавшейся над стенами долины. Еще дальше находились Пещерные Гробницы, входы в которые можно было отыскать благодаря дорожкам, проторенным тысячами ног; и наконец, километром дальше высился так называемый Дворец Шрайка. Его острые зубцы и торчащие повсюду шпили лишний раз напоминали об острых шипах мифического обитателя этих мест.
Весь день паломники ходили от гробнице к гробнице, держась тесной кучкой; перед сооружениями, в которые можно было войти, они ненадолго задерживались. Сердце Вайнтрауба бешено забилось, когда он переступил порог Сфинкса: именно отсюда его дочь двадцать шесть лет назад вынесла болезнь Мерлина. Приборы, установленные университетской экспедицией, все еще стояли на своих треногах вокруг могилы, но понять, действуют ли они, никто не мог. Узкие и запутанные коридоры Сфинкса оказались точно такими, какими описала их Рахиль в своем дневнике. Гирлянды люмшаров и электроламп давно погасли. Паломники осматривали помещения с помощью карманных фонарей и ночного визора Кассада. Им не удалось обнаружить ничего похожего на комнату, где была Рахиль, когда стены сомкнулись и в девушку вошла болезнь. От могучих приливов времени осталась лишь жалкая зыбь. Шрайк не давал о себе знать.
Перед каждой новой Гробницей паломники переживали мгновение душераздирающего ужаса и нетерпеливого предвкушения, но оно сменялось часами досады, когда перед ними вновь и вновь представали вереницы пыльных, пустых комнат: все, что видели туристы и паломники минувших веков.
Наконец день, не принесший ничего, кроме разочарования и усталости, завершился; тени восточных гор накрыли Гробницы и долину — так опускается занавес после неудачного спектакля. Дневной зной испарился, и холод не заставил себя ждать, принесенный ветром вместе с запахом снега с вершин Уздечки, лежащей в двадцати километрах к юго-западу. Кассад предложил остановиться и разбить лагерь. Консул знал место, где паломники проводили свою последнюю ночь перед встречей с тем, кого искали. Ровная площадка подле Сфинкса, с горами мусора, оставленными исследователями и туристами, приглянулась Солу Вайнтраубу — он решил, что именно здесь стояла палатка его дочери, — и усталые путники без возражений сбросили с плеч свою ношу.
Теперь, в полной темноте — последнее полено догорало — я ощутил, как эти шестеро подвигаются ближе… не просто к огню в поисках тепла, но и друг к другу, связанные слабыми, но почти материальными нитями общих переживаний. Более того, я ощутил единство, более осязаемое, чем эмоциональные связи, возникшие между этими людьми. Ощущение было мимолетным, но я понял, что эта кучка людей создала свою информационную и сенсорную сеть. На планете, чьи примитивные системы инфосвязи расползлись в клочья с первым же залпом, эта группа соединила между собой все свои комлоги и биомониторы, дабы делиться информацией и по мере сил и возможностей следить друг за другом.
Хотя входные барьеры стояли прочно, я без труда скользил мимо них, сквозь них, под ними, собирая не самые важные, но обильные данные — частота пульса, температура кожи, активность коры мозга, запросы на доступ, перечни полученных данных, — которые позволяли мне узнать кое-что о каждом из паломников. У Кассада, Хойта и Ламии были импланты, и движение их мыслей ощущалось очень четко. В эту секунду Ламия Брон размышляла, не было ли решение идти к Шрайку ошибкой; что-то настойчиво стучалось в дверь ее сознания. Она ощущала себя так, словно перед самым ее носом находится что-то ужасно важное, ключ к разгадке… Но от какого замка этот ключ?
Ламия терпеть не могла тайн; то была одна из причин, побудивших ее оставить относительно спокойную жизнь и стать частным сыщиком. Но какая тайна мерещится ей сейчас? Она почти разгадала загадку убийства кибрида, ее клиента… и любовника, и прилетела на Гиперион, чтобы исполнить его последнюю волю. И все же она чувствовала, что не дающее ей покоя «нечто» почти не имеет отношения к Шрайку. В чем же дело?
Тряхнув головой, Ламия поворошила угасающий костер. Ее сильное тело было закалено гравитацией Лузуса и постоянными тренировками, но она не спала несколько суток и устала до беспамятства. Как сквозь туман до нее донесся чей-то голос…
— …да просто, чтобы принять душ и раздобыть еды, — раздраженно заявляет Мартин Силен. — И еще можно узнать по мультилинии, кто выиграл войну.
Консул качает головой.
— Еще не время. Корабль — для чрезвычайных обстоятельств.
Силен обводит рукой Сфинкса, черный мир вокруг.
— Вы считаете, это не чрезвычайные обстоятельства?
До Ламии доходит, что поэт упрашивает Консула вызвать его корабль из Китса.
— А вам не кажется, что под чрезвычайными обстоятельствами вы подразумеваете отсутствие алкоголя? — вступает она в разговор.
Силен свирепо смотрит на нее:
— А что плохого в выпивке?
— Нет, — повторяет Консул. Он трет глаза, и Ламия вспоминает, что Консул тоже неравнодушен к алкоголю. Однако он наотрез отказывается вызвать корабль. — Будем ждать крайнего случая.
— А мультипередатчик работает? — спрашивает его Кассад.
Консул утвердительно кивает и извлекает из своего рюкзака старинный комлог. Прибор принадлежал его бабушке Сири, а до этого ее родителям. Консул касается дискоключа: по нему можно передавать, но не принимать.
Сол Вайнтрауб, положив спящего ребенка у входа ближайшей к нему палатки, поворачивается к огню.
— А откуда вы передали последнее сообщение — из Китса?
— Да, — подтверждает Консул.
Мартин Силен саркастически цедит сквозь зубы:
— И мы должны верить словам… предателя?
— Должны. — Голос Консула — сгусток усталости.
Изможденное лицо Кассада плавает в темноте. Его тело — черный силуэт на фоне темноты.
— А по вашему комлогу можно вызвать корабль, если понадобится?
— Да, — роняет Консул.
Отец Хойт плотнее закутывается в плащ, чтобы он не развевался на ветру. На шерстяную одежду и парусину палаток с шуршанием сыплется песок.
— Вы не боитесь, что портовая администрация или военные конфискуют корабль или что-нибудь с ним сделают? — спрашивает священник.
— Нет. — Консул лишь чуть шевельнул головой, словно не в силах покачать ею. — Наше разрешение подписано секретарем Сената Мейной Гладстон. А генерал-губернатор — мой друг… бывший.
Остальные видели новоиспеченного губернатора Гипериона лишь мельком, вскоре после прилета; Ламии показалось, что Тео Лейн — слишком мелкая сошка для тех больших событий, в которых ему выпало участвовать.
— Ветер все сильнее, — говорит Сол Вайнтрауб, пытаясь заслонить ребенка от бури летящих песчинок. Вглядываясь сощуренными глазами в облака пыли, ученый произносит: — Интересно, где теперь Хет Мастин?
— Мы обшарили здесь все. — Голос отца Хойта звучит глухо: голова его закрыта полой плаща.
Мартин Силен хихикает:
— Тысяча извинений, отче, но вы просто мешок с дерьмом. — Поэт встает и подходит к краю светового круга. Ветер ерошит мех его шубы и уносит слова в ночь. — В скалах — тысячи расщелин. Вход в Хрустальный Монолит скрыт от нас, но от тамплиера вряд ли. И кроме того, вы сами видели в подземелье Нефритовой Гробницы лестницу. Она наверняка ведет к лабиринту.
Хойт поднимает голову, морщась от уколов бесчисленных песчинок.
— Вы думаете, он там? В лабиринте?
Силен со смехом поднимает руки, при этом широкие рукава его блузы раздуваются, как паруса.
— Мне-то откуда знать, падре? Мне известно одно — Хет Мастин сейчас где-то бродит, наблюдает за нами и ждет момента, чтобы вернуться и забрать свой багаж. — Поэт жестом указывает на куб Мебиуса в центре небольшой кучи снаряжения. — А может, он уже покойник. Или того хуже.
— Хуже? — переспрашивает Хойт. За несколько часов священник состарился на несколько лет. Его запавшие глаза — озерца боли, улыбка — гримаса мертвеца.
Мартин Силен большими шагами возвращается к угасающему костру.
— Да, хуже, — говорит он. — Может, он уже корчится на стальном дереве Шрайка. На ветках, куда и нас насадят через несколько…
Ламия Брон внезапно вскакивает, хватает поэта за грудь, поднимает в воздух, встряхивает и опускает так, чтобы его глаза оказались на уровне ее глаз.
— Еще слово, — негромко говорит она, — я сделаю вам очень больно. Не буду вас убивать, но вы сами запросите смерти.
Поэт улыбается ей в лицо улыбкой сатира. Ламия разжимает руки и отворачивается. Кассад произносит:
— Мы все устали. Отбой. Я остаюсь на часах.
Мои сны о Ламии смешиваются со снами самой Ламии. В том, что мне приходится разделять сны и мысли женщины, нет ничего неприятного, даже если эта женщина отделена от тебя пропастью времен и культур, пропастью шире любой существующей между разнополыми существами. Мне кажется, будто я смотрю в какое-то странное зеркало. Она видела во снах покойного любовника, его слишком курносый нос и слишком упрямый подбородок, слишком длинные волосы, ниспадавшие завитками на воротник, и его глаза — слишком выразительные, слишком правдивые глаза, оживлявшие лицо, которое могло бы, если бы не эти глаза, принадлежать любому из тысяч крестьян, родившихся в радиусе одного дня езды от Лондона.
Лицо, которое она видела во сне, было моим. Голос, который она слышала во сне, был моим. Но к любовным утехам, снившимся или вспоминавшимся ей, я не имел никакого отношения. Я пытался ускользнуть из ее снов, хотя бы ради того, чтобы обрести свои собственные. Если уж мне суждено подглядывать в замочную скважину спальни, пусть это будет чехарда искусственных воспоминаний, выделенных мне в качестве моих собственных снов.
Но мои собственные сны мне видеть не позволялось. Все еще не позволялось. Я начинаю подозревать, что родился — вновь родился на своем смертном одре, — дабы видеть сны о моем мертвом и далеком двойнике.
Я покорился и, не силясь больше разлепить веки, отдался сновидениям.
Ламия Брон мгновенно просыпается, вырванная из приятного сна каким-то звуком или движением. И целую секунду не может сориентироваться; вокруг темнота, шум — не механический, громче большинства звуков Улья, на Лузусе, в котором она живет. Она пьяна от усталости, но чувствует, что спала очень недолго; в небольшом замкнутом пространстве, чем-то напоминающем растянутый спальный мешок, кроме нее никого нет.
Выросшая в мире, где замкнутое пространство означает защиту от ядовитого воздуха, ветра и животных, где люди, оказавшись в немногочисленных открытых местах, задыхаются от агорафобии, а о клаустрофобии мало кто слышал, Ламия тем не менее реагирует на свое убежище как настоящий клаустрофоб: из последних сил пробивается к воздуху. Трещит по швам спальный мешок, рвутся застежки палатки… Лишь бы выкарабкаться из тесного фибропластового кокона… ползком, подтягиваясь на руках, упираясь локтями — пока под ладонями не окажется песок. А над головой небо.
Но это не небо. Ламия вдруг осознает, где находится. Песок. Клокочущая, ревущая, стремительная песчаная буря. Песчинки колют лицо, как мириады маленьких булавок. Погасший костер засыпан песком. Под его тяжестью провисли наветренные бока всех трех палаток, их полотнища хлопают на ветру так, словно рядом палят из ружей. Вокруг лагеря выросли новенькие песчаные дюны, образуя валы, борозды и горки с подветренной стороны палаток и кучи снаряжения. Палатка, в которой Ламия ночевала вместе с отцом Хойтом, опасно накренилась, почти засыпанная растущими дюнами. Из остальных палаток никто не показывается.
Хойт.
Именно его отсутствие разбудило ее. Даже во сне какой-то частью сознания она улавливала слабое дыхание и почти неразличимые стоны спящего священника, боровшегося с болью. Возможно, он исчез всего за несколько минут до ее пробуждения — Ламия точно помнит, как поверх скрежета и воя песчаной бури до нее, витающей в глубинах сна о Джонни, донесся какой-то скользящий шорох.
Она поднимается на ноги и прикрывает глаза ладонью. Очень темно, звезды поглотила буря, но слабое, похожее на электрический свет сияние вибрирует в воздухе, отражаясь от поверхности скал и дюн. Ламия понимает, что это действительно электричество — ее волосы встают дыбом и шевелятся, как у Медузы Горгоны. Электрозаряды взбираются по рукавам ее куртки и плавают над палатками, подобно огням Святого Эльма. Когда ее глаза привыкают к темноте, Ламия замечает, что ползучие дюны исходят бледным огнем. В сорока метрах от нее на востоке высится Сфинкс, превратившийся в трескучий и пульсирующий световой контур. Волны электричества обтекают растопыренные придатки, которые обычно называют крыльями.
Ламия оглядывается и, не обнаружив никаких следов отца Хойта, хочет позвать на помощь. Но кто услышит ее за ревом ветра? Ей приходит в голову, что священник мог перебраться в другую палатку или просто пошел в примитивную уборную, но шестое чувство ей подсказывает, что это не так. Ламия смотрит на Сфинкса и на долю секунды ей чудится, что она видит в мертвенно-голубом свечении гробницы человеческую фигуру в развевающемся черном плаще. Человек, вжав голову в плечи, продвигается против ветра.
На ее плечо опускается чья-то рука.
Ламия мгновенно выворачивается и принимает боевую стойку; левый кулак выброшен вперед, правая рука у пояса. Она узнает стоящего перед ней Кассада. Полковник в полтора раза выше Ламии, но уже ее в плечах. Миниатюрные молнии носятся по его худому телу, когда он наклоняется, чтобы прокричать ей в ухо:
— Он пошел туда! — Длинная, черная, как у пугала, рука указывает на Сфинкс.
Ламия кивает и кричит в ответ, сама себя не слыша:
— Будить остальных? — Она забыла, что Кассад стоит на часах. Спит ли этот человек когда-нибудь вообще?
Федман Кассад качает головой. Ночной визор его шлема поднят, а сам шлем откинут, как капюшон, на спину боевого скафандра. В свечении, исходящем от его одежды, лицо Кассада кажется обморочно-бледным. Универсальная винтовка удобно устроилась под его левым локтем. Гранаты, бинокль в футляре и какие-то совсем неведомые предметы свисают с крючков и ремней его панциря. Он снова указывает в сторону Сфинкса.
Ламия наклоняется вперед и кричит что есть силы:
— Его забрал Шрайк?
Кассад качает головой.
— Вы можете его видеть? — Она показывает на его визор и бинокль.
— Нет, — отвечает Кассад. — Буря. Стирает тепловые следы.
Ламия Брон поворачивается спиной к ветру, и спина ее тотчас оказывается под обстрелом обезумевших песчаных струй, точно под ураганным огнем десятка иглометов. Она запрашивает о Хойте свой комлог, но узнает лишь, что он жив и движется — других данных по общей волне не получишь. Она подходит к Кассаду вплотную — чтобы противостоять буре.
— Пойдем следом? — кричит она.
Кассад мотает головой.
— Нельзя бросить лагерь. Я оставил сигнализаторы, но… — Он жестом обводит бушующее пространство вокруг.
Ламия ныряет в палатку, натягивает сапоги и снова появляется — в штормовке и с отцовским пистолетом в руках. Более традиционное оружие, парализатор Гира, торчит из нагрудного кармана штормовки.
— Тогда пойду я, — говорит она.
Ей кажется, что полковник не расслышал ее, но блеск в его глазах говорит об обратном. Кассад постукивает по военному комлогу на своем запястье.
Ламия кивает и удостоверяется в том, что ее собственные имплант и комлог настроены на самую широкую полосу приема.
— Я вернусь, — кричит она и карабкается на дюну, тут же проваливаясь по щиколотку. Ее штанины светятся от статических разрядов, а песок кажется живым от серебристо-белых импульсов тока, змеящихся по его неровной поверхности.
Отойдя от лагеря метров на двадцать, она совершенно теряет его из виду. Еще десять метров, и над ней нависает громада Сфинкса. Никаких следов: отпечатки ног в такую бурю не держатся и десяти секунд.
Широкий вход в Сфинкс открыт. Он был открыт всегда, с того момента, как человечество узнало о существовании Гробниц. Логика подсказывает, что Хойт вошел внутрь этого черного прямоугольного проема в слабо светящейся стене, хотя бы ради того, чтобы укрыться от бури, но что-то лежащее за пределами логики говорит Ламии, что священник направился в другое место.
Ламия с трудом добирается до угла Сфинкса, отдыхает несколько минут под его прикрытием, отряхивается, переводит дух и вновь идет дальше по едва различимой тропе между дюнами. Впереди светится молочно-зеленая Нефритовая Гробница. Ее красивые изгибы и гребни словно намазаны каким-то колдовским маслом.
Прищурившись, Ламия вглядывается и в какой-то миг видит на фоне этого свечения силуэт — кого-то или чего-то. Затем силуэт исчезает — либо нырнув внутрь гробницы, либо застыв на пороге и слившись с темнотой.
Ламия, вжав голову в плечи, двигается вперед. Ветер подталкивает ее, понукает — словно торопя на необычайно важную встречу.
Глава 4
Заседание Военного Совета тянулось уже несколько часов, и конца не предвиделось. По-моему, в этом ритуале столетиями ничего не меняется: громкие голоса выступающих сливаются в монотонный гул, во рту горько от бесчисленных чашек кофе, клубы табачного дыма витают в воздухе, штабеля документов громоздятся на столах, в голове звенит от постоянного контакта с инфосферой. Подозреваю, что во времена моего детства все было гораздо проще. Веллингтон собирал людей — тех, кого презрительно и справедливо называл «отбросами земли», — и, ничего им не объясняя, посылал на смерть.
Я снова обратил внимание на собравшихся. Мы находились в большом зале, однообразно-серые стены которого оживлялись белыми прямоугольниками световых панелей. Ковер грифельного цвета, свинцово-серый подковообразный стол, уставленный дисплеями и графинами с водой. Секретарь Сената Мейна Гладстон восседала посреди подковы, рядом с нею располагались сенаторы и члены кабинета министров. Штабные офицеры и другие второстепенные вершители судеб нации сидели дальше. За их спинами, не допущенная к столу, таилась армия помощников, причем среди военных не было ни одного чином ниже полковника, а на креслах похуже и пожестче размещались помощники помощников.
Мне кресла не досталось. Вместе с другими, приглашенными чисто для проформы лицами я сидел на табурете в дальнем углу зала, в двадцати метрах от секретаря Сената и еще дальше от офицера-докладчика, молодого полковника с указкой в руке и без малейшей робости в голосе. Полковник стоял у серой с золотом демонстрационной панели, перед ним плавала в воздухе унисфера того типа, что можно встретить в любой голографической кабине. Демонстрационная панель то мутнела, то вновь оживала; порой в воздухе становилось тесно от причудливых трехмерных схем. Миниатюрные копии диаграмм с панели светились на каждом дисплее и парили над некоторыми комлогами.
Я сидел на своем табурете, смотрел на Гладстон и время от времени делал наброски.
В то утро, разбуженный щедрым солнцем Тау Кита, чьи лучи лились в щель между абрикосовыми гардинами гостевых апартаментов Дома Правительства, которые сами собой раздвинулись, как и требовалось, в 06:30, я на какой-то миг растерялся. Я был разорван между двумя мирами, все еще преследуя Ленара Хойта, все еще испытывая ужас перед Шрайком и Хетом Мастином. В следующее мгновение, еще больше запутавшись, будто некая сила позволила мне заглянуть в мои собственные сны, я привстал, задыхаясь и в панике озираясь по сторонам; мне казалось, что лимонный ковер и абрикосовый свет в гардинах вот-вот исчезнут, как все прочие мои горячечные сны, оставив только боль, мокроту и липкие красные простыни, а светлая комната Дома Правительства растворится в сумраке темной квартиры на Пьяцца ди Спанья, все заслонит наконец выразительное лицо Джозефа Северна. Оно будет все ниже и ниже склоняться надо мной, жадно вбирая зрелище моей замедленной смерти.
Я принял душ — сначала водяной, потом ультразвуковой, надел новый серый костюм, разложенный на кровати, которую убрали, пока я мылся, и отправился на поиски Восточного Дворика, где, согласно любезному приглашению, оставленному рядом с моей новой одеждой, гости Дома Правительства могли позавтракать.
Апельсиновый сок только что выжали. Бекон тоже был свежим, а главное, натуральным. В газете сообщалось, что секретарь Сената Гладстон обратится к народу через Альтинг и средства массовой информации в 10:30 по стандартному времени Сети. Страницы изобиловали корреспонденциями с театра военных действий. Двухмерные фото армады сверкали всеми цветами радуги. С третьей полосы угрюмо глядел генерал Морпурго — журналист именовал его «героем второй Хайтовской войны». Дайана Филомель, завтракавшая со своим супругом-неандертальцем за соседним столиком, одарила меня загадочным взглядом. В это утро на ней было более строгое платье — темно-синее, не такое облегающее, но разрез сбоку заставлял вспомнить о вчерашнем роскошном зрелище. Не сводя с меня глаз, она взяла холеными пальчиками ломтик бекона и осторожно откусила. Гермунд Филомель, довольно хрюкая, наслаждался чтением финансового приложения.
— Миграционная группа Бродяг… общепринятое название «Рой»… была обнаружена хоукинг-локационной станцией системы Камн немногим более трех стандартных лет назад, — говорил молодой докладчик. — Немедленно по ее обнаружении 42-я эскадра ВКС, сформированная для эвакуации системы Гипериона, перешла в состояние С-плюс и выступила с Парвати с секретным приказом соорудить военно-транспортный портал в радиусе прямой нуль-передачи на Гиперион. Одновременно с тактической базы Солков-Тиката на орбите Камн-III вылетела эскадра 87.2 с приказом соединиться с эвакуационными силами в системе Гипериона, обнаружить миграционную группу Бродяг, вступить в бой с ее военным ядром и уничтожить его. — На панели перед молодым полковником появились изображения армады. Он взмахнул указкой, и рубиново-огненная линия, пронзив большую голограмму, осветила один из кораблей класса три-С.
— Эскадрой 87.2 командует адмирал Насита, который держит флаг на корабле Гегемонии «Гебриды»…
— Да, да, — проворчал генерал Морпурго. — Все это нам известно, Яни. К делу.
Молодой полковник изобразил улыбку, едва заметно кивнул генералу и Мейне Гладстон и продолжил чуть менее уверенно:
— В шифрованных донесениях по мультилинии, полученных от 42-й эскадры за последние семьдесят два стандартных часа, сообщается о заранее подготовленных сражениях между разведсоединениями эвакоотряда и передовыми частями миграционной группы Бродяг…
— Роя, — перебил его Ли Хент.
— Так точно, — поправился Яни. Он обернулся к панели, и пятиметровый матовый квадрат заполнили схемы и надписи. Изображения были мне абсолютно непонятны — оккультные символы, цветные векторы, субстрактные кодированные обозначения и аббревиатуры ВКС, заменяющие целые фразы — в общем, полная тарабарщина. Возможно, высокие военные чины и политики понимали в этом не больше моего, но виду не подавали. Я начал новый набросок Гладстон, с бульдожьим профилем Морпурго на заднем плане.
— В первых донесениях предположительное число двигателей Хоукинга было ошибочно определено в четыре тысячи, — продолжал полковник Яни (Интересно, это имя или фамилия?). — Как вам известно, миграционные группы… м-м… Рои могут содержать до десяти тысяч отдельных транспортных единиц, но в большинстве своем невелики и либо не вооружены, либо не имеют стратегического значения. Данные мульти — и микроволновых детекторов, а также других средств наблюдения и анализ эмиссионного спектра позволяют предположить…
— Извините, — усталый голос Мейны Гладстон прозвучал резким диссонансом солидному баритону докладчика, — но можете ли вы сказать точно, сколько кораблей Бродяг имеют стратегическое значение?
— О-о… — выдохнул полковник и покосился на свое начальство.
Генерал Морпурго прокашлялся.
— Мы думаем, около шести… семи сотен, самое большее, — сказал он. — Сущие пустяки.
Секретарь Сената приподняла бровь.
— А каковы наши силы?
Морпурго сделал знак молодому полковнику и ответил сам:
— В состав эскадры 42 входит около шестидесяти кораблей, госпожа Гладстон. Эскадра…
— Эскадра 42 — это эвакуационное подразделение? — перебила его Гладстон.
Генерал Морпурго кивнул и, как мне показалось, несколько снисходительно улыбнулся.
— Да, мадам. Эскадра 87.2, представляющая собой боевое подразделение, перешла в систему Гипериона около часа назад и будет…
— Хватит ли шестидесяти кораблей, чтобы противостоять шести или семи сотням? — спросила Гладстон.
Морпурго покосился на своего офицера, как бы моля его перетерпеть.
— Да, — с уверенностью произнес он, — хватит с лихвой. Видите ли, госпожа Гладстон, шестьсот турбин Хоукинга — цифра внушительная. Но их нечего бояться, пока они установлены на одноместных кораблях, или на разведчиках, или на тех пятиместных катерах-истребителях, которые они называют «уланами». Эскадра 42 — это без малого две дюжины крупных спин-звездолетов, включая ударные «Тень Олимпа» и «Станция Нептун». Каждый из них вооружен более чем ста истребителями и торпедоносцами. — Морпурго машинально порылся у себя в кармане, извлек оттуда наркотическую курительную палочку размером с сигару, но тут же спохватился и сунул ее обратно. Он нахмурился. — Когда эскадра 87.2 закончит развертывание, нашей огневой мощи хватит на десяток Роев. — Все еще хмурясь, он кивнул Яни, чтобы тот продолжал.
Полковник повел указкой в сторону демонстрационной панели.
— Как видите, эскадра 42 без каких-либо помех расчистила пространство в объеме, необходимом для сооружения приемной решетки нуль-канала. Работы начались шесть стандарт-недель тому назад и закончились вчера в 16:24 по СВС. Первые мелкие атаки Бродяг были отбиты без потерь со стороны эскадры, в течение последних сорока восьми часов между передовыми отрядами эскадры и основными силами Роя велось крупное сражение. Центр схватки находился здесь, — Яни снова взмахнул рукой, и часть демонстрационной панели под кончиком указки запульсировала голубым светом, — под углом в двадцать девять градусов к плоскости эклиптики, в 30 астрономических единицах от солнца Гипериона и примерно в 0,35 астроединицы от гипотетической границы облака Оорта системы.
— Потери? — лаконично бросил Ли Хент.
— Не выходят за пределы приемлемых для столь длительного огневого контакта, — ответил молодой штабист. Судя по всему, он не видал вражеского огня даже с расстояния в пару световых лет. Его светлые волосы, тщательно расчесанные на косой пробор, блестели в ярком свете софитов. — Уничтоженными или пропавшими считаются двадцать шесть скоростных истребителей Гегемонии, а также двенадцать торпедоносцев, три факельщика, танкер «Гордость Асквита» и крейсер «Дракон-III».
— Сколько погибло людей? — спросила Мейна Гладстон непривычно тихо.
Яни переглянулся с Морпурго и ответил:
— Около двух тысяч трехсот. Но спасательные операции продолжаются, и есть надежда, что удастся обнаружить уцелевших с «Дракона». — Он разгладил несуществующие складки своего мундира и напористо продолжил: — Следует учесть, что подтвержденные потери противника составили по меньшей мере сто пятьдесят военных кораблей. Наша собственная атака на миграционную гру… Рой привела к дополнительному уничтожению от тридцати до шестидесяти судов, включая кометные фермы, рудоперерабатывающие корабли и как минимум одно командное скопление.
Мейна Гладстон потерла свои подагрические руки.
— Входят ли в сводку потерь — наших потерь — пассажиры и команда погибшего корабля-дерева «Иггдрасиль», который был зафрахтован нами для эвакуации?
— Нет, госпожа секретарь, — торопливо ответил Яни. — Хотя в том районе были замечены перемещения Бродяг, результаты нашего анализа указывают, что «Иггдрасиль» погиб не вследствие вражеского нападения.
Гладстон снова вопросительно изогнула бровь.
— И почему же он погиб?
— Диверсия, насколько нам известно, — ответил полковник и поспешил вызвать на панели новую схему системы Гипериона.
Генерал Морпурго, бросив взгляд на свой комлог, произнес с досадой:
— Переходите к наземным операциям, Яни. Через тридцать минут госпожа секретарь должна произнести речь.
Я кончил рисовать Гладстон и Морпурго, потянулся и огляделся вокруг в поисках другого объекта. Ли Хент с его трудноописуемым измятым лицом показался мне достойной дичью. Когда я снова посмотрел в сторону докладчика, голографический глобус Гипериона перестал вращаться и распустился в целую вереницу плоских проекций — наклонную равнопрямоугольную, Бонна, орографическую, розетку, Ван-дер-Гринтена, Гора, прерывистую гомолосинусальную Гуда, гномоническую, синусоидальную, азимутальную эквивалентную, поликоническую, гиперкорректированную Кувацу, компьютер-эшерированную, Бриземайстера, Бакминстера, цилиндрическую Миллера, мультистереографическую и графическую стандартную, — пока не остановился на обычной Робинсон-Бейрдовой карте Гипериона.
Я улыбнулся. Это было самое приятное, что я видел с начала совещания. Несколько сотрудников Гладстон нетерпеливо ерзали в креслах. Им нужно было по меньшей мере десять минут, чтобы поговорить с секретарем Сената перед ее выступлением.
— Как вам известно, — поучительным тоном начал полковник, — соответствие Гипериона Старой Земле составляет девять и восемьдесят девять сотых балла по шкале Турона-Ломьера…
— О Боже, — рявкнул Морпурго. — Переходите к диспозиции войск — и закончим на этом!
— Слушаюсь, сэр. — Яни, сглотнув слюну, поднял руку с указкой и заговорил, теперь уже не так уверенно. — Как вам известно… Я хочу сказать… — Он показывал на северный континент, похожий на неумелый рисунок конской морды и шеи с зазубринами на месте груди и хребта. — Это Эква. Официально он называется по-другому, но все называют его так… Эква. Цепь островов, которая простирается к юго-востоку… здесь и здесь… называется Девять Хвостов. В действительности это архипелаг с более чем сотней… в общем, второй по величине континент называется Аквила, и вы можете видеть, что он похож на земного орла с клювом здесь… на северо-восточном побережье… и с растопыренными когтями здесь, на юго-западе… Имеется и одно поднятое крыло — вот тут, примыкающее к северо-западному побережью. Эта область представляет собой так называемое плато Пиньон и почти недоступна из-за огненных лесов, но здесь… и здесь… на юго-западе находятся основные фибропластовые плантации…
— Дис-по-зи-ция войск, — зарычал Морпурго.
Зарисовывая Яни, я обнаружил, что графитовый карандаш не способен передать блеск пота.
— Слушаюсь, сэр. Третьим континентом является Урса… Слегка напоминает медведя… но здесь войска ВКС не высаживались, так как это южное Заполярье, почти обитаемое, хотя силы самообороны Гипериона держат там пункт прослушивания… — Яни и сам почувствовал, что его заносит. Он расправил плечи и провел по верхней губе ладонью. — Основные позиции наземных сил ВКС здесь… здесь… и здесь… — Его указка зажгла маленькие пожары вокруг Китса, в верхней части шеи Эквы. — Космические части ВКС взяли под охрану основной космопорт в столице, а также второстепенные площадки здесь… и здесь. — Он коснулся Эндимиона и Порт-Романтика на Аквиле. — Наземные части ВКС подготовили оборонительные позиции здесь… — Замигало два десятка красных огоньков; большинство на шее и гриве Эквы, несколько в районе клюва Аквилы и около Порт-Романтика. — Тут размещены подразделения морской пехоты, а также силы наземной обороны с вооружением класса «земля — воздух» и «земля — космос». Генштаб предполагает, что в отличие от Брешии на самой планете боев не будет, но в случае попытки вторжения мы достойно встретим врага, — скороговоркой закончил докладчик.
Мейна Гладстон скосила глаза на свой комлог. До прямого эфира оставалось семнадцать минут.
— А планы эвакуации?
Яни, растеряв остатки самообладания, умоляюще посмотрел на начальство.
— Никакой эвакуации, — четко произнес адмирал Сингх. — Это отвлекающий маневр, приманка для Бродяг.
Гладстон сцепила пальцы.
— На Гиперионе несколько миллионов человек, адмирал.
— Да, — спокойно отозвался Сингх, — и мы будем защищать их, но эвакуация даже шестидесяти тысяч граждан Гегемонии исключена. Если же мы допустим в Сеть все три миллиона, воцарится хаос. Кроме того, это невозможно по соображениям безопасности.
— Из-за Шрайка? — поинтересовался Ли Хент.
— По соображениям безопасности, — с расстановкой повторил генерал Морпурго. Он поднялся со своего места и забрал у Яни указку. Молодой военный постоял в нерешительности, не зная, куда бы сесть или отойти, и, смешавшись, направился в дальний конец зала и остановился невдалеке от меня, созерцая что-то на потолке — вероятно, крах своей карьеры.
— Эскадра 87.2 переброшена в систему, — отчеканил Морпурго. — Бродяги откатились назад, к ядру своего Роя, примерно на шестьдесят астроединиц от Гипериона. Полная безопасность системы обеспечена. Гиперион в безопасности. Мы ожидаем контратаки, но уверенно заявляем, что в силах отбить ее. Кроме того, Гиперион теперь является частью Сети. Вопросы?
Вопросов не было. Гладстон удалилась в сопровождении Ли Хента, нескольких сенаторов и своих помощников. Военное начальство распалось на группки, очевидно, в соответствии с табелью о рангах. Помощники помощников исчезли. Немногие допущенные на совещание репортеры бросились к своим имиджер-группам, ждущим на улице. Белый как мел полковник Яни остался стоять, как на параде, глядя перед собой невидящими глазами.
Я посидел с минуту, разглядывая карту Гипериона. На таком расстоянии сходство Эквы с головой лошади было еще заметнее. С того места, где я сидел, Уздечка и оранжево-желтое пятнышко пустыни под «глазом» лошади были едва различимы. Северо-восточнее гор не было оборонительных позиций ВКС, никаких условных значков, кроме крошечного красного огонька — видимо, мертвого Града Поэтов. Гробницы Времени не были отмечены вовсе. Складывалось впечатление, что Гробницы не имели никакого стратегического значения и не играли в происходящем никакой роли. Но я откуда-то знал, что это не так. Предчувствие подсказывало, что вся война, передвижения тысяч, судьбы миллионов — даже миллиардов — зависят от действий шести человек, затерявшихся на этой неразмеченной оранжево-желтой полоске.
Я захлопнул блокнот, рассовал по карманам карандаши, поискал глазами выход и покинул зал.
В одном из длинных коридоров, ведущих к главному входу, меня перехватил Ли Хент:
— Вы уходите?
Я шумно вздохнул.
— Да. А разве нельзя?
Хент изобразил что-то вроде улыбки, больше похожей на гримасу.
— Конечно, можно, господин Северн. Но госпожа Гладстон просила передать, что хочет еще раз побеседовать с вами во второй половине дня.
— Когда именно?
Хент пожал плечами.
— В любое время после ее выступления. Когда вам удобно.
Я кивнул. Миллионы лоббистов, искателей места, претендентов на роль биографа, деловых людей, обожателей Мейны Гладстон и потенциальных террористов отдали бы все на свете за одну минуту в обществе самого выдающегося лидера Гегемонии, но возможность видеть ее «когда мне удобно» предоставили мне одному. Никто еще не говорил, что вселенной правит разум.
Проскользнув мимо Ли Хента, я двинулся к главному выходу.
По давней традиции, в самом Доме Правительства общедоступные нуль-порталы отсутствовали. Нужно было миновать пропускные пункты главного вестибюля, выйти в сад и пройти по дорожке к невысокому белому зданию — пресс-центру и одновременно терминексу. Репортеры скопились вокруг центральной проекционной ниши, где маячило знакомое лицо Льювеллина Дрейка. Его голос — «голос Альтинга» — объявил, что сейчас начнется выступление секретаря Сената, имеющее первостепенное значение для судеб Гегемонии. Я кивнул Дрейку, нашел свободный портал, предъявил свою универсальную карточку и отправился на поиски бара.
Гранд-Конкурс — при условии, что вам удалось туда попасть, — единственное место в Сети, где можно нуль-транспортироваться задаром. Каждый мир Сети представлен здесь по меньшей мере одним из своих самых фешенебельных городских кварталов. ТКЦ предлагал целых двадцать три — с магазинами, разнообразными увеселениями, дорогими ресторанами и модными барами. Баров было больше всего.
Подобно водам реки Тетис, Гранд-Конкурс катилась сквозь двухсотметровые порталы военного образца — кольцевая улица, казавшаяся бесконечной — стокилометровая эспланада услад плоти. Можно было стоять, как я в это утро, под ярким солнцем Тау Кита — и видеть полночную Денеб-III с пляшущими неоновыми огнями и голограммами, различая на горизонте площадь Мэлл Лузуса и зная, что дальше дремлет тенистая Роща Богов с ее магазинчиками, булыжными мостовыми и лифтами, поднимающими гурманов в «Макушку», самый дорогой ресторан Сети.
Но меня вполне устроил бы тихий бар.
Бары ТКЦ буквально кишели чиновниками, репортерами и бизнесменами, поэтому я вскочил на один из челноков и переместился на главный проспект Седьмой Дракона. Здешняя гравитация пугала многих (и меня в том числе), зато в барах было куда свободнее и в них просто пили.
Я выбрал подвальчик, спрятавшийся между пилонами внешней стены и витринами. Внутри все было темным: темные стены, темное дерево стоек, темнокожие клиенты — их лица были столь же черны, сколь бледным казалось мое собственное. Подходящее местечко, чтобы напиться, что я и сделал, начав с двойного виски. С каждым новым заказом моя жажда возрастала.
Даже здесь я не смог отделаться от Гладстон. На двумерном телеэкране в дальнем углу бара появилось лицо секретаря Сената на сине-золотом фоне, предпочитаемом ею для заявлений государственной важности. У телевизора собралось несколько посетителей. До меня доносились обрывки речи: «…обеспечить безопасность граждан Гегемонии и… нельзя позволить угрожать безопасности Сети или наших союзников… поэтому мной был санкционирован беспощадный вооруженный отпор…»
— Да приглушите вы это дерьмо! — Я остолбенел, сообразив, что кричу, и кричу громко. Посетители негодующе обернулись, но убавили звук. Я еще немного полюбовался шевелящимися губами секретаря Сената, а затем сделал знак бармену повторить.
Позже, возможно, часа через три-четыре, я поднял глаза от рюмки и увидел, что напротив меня в темной кабинке кто-то сидит. Целую секунду я моргал, пытаясь рассмотреть таинственное лицо. На миг мое сердце бешено забилось — Фанни! — но моргнув еще раз, я произнес вслух:
— Леди Филомель…
Она по-прежнему была в темно-синем платье, в котором я видел ее за завтраком. Однако вырез платья опустился ниже, а лицо и плечи словно светились в полумраке.
— Господин Северн, — прошептала она. — Пора исполнить свое обещание.
— Обещание? — Я поманил бармена, но тот никак не отреагировал. Наморщив лоб, я уставился на Дайану Филомель. — Что за обещание?
— Нарисовать мой портрет, конечно. Или вы забыли, что говорили вчера за ужином?
Я щелкнул пальцами, но наглый бармен не удостоил меня даже взглядом.
— Я вас уже нарисовал, — сказал я.
— Да, — согласилась леди Филомель, — но не всю. Не целиком.
Я со вздохом опрокинул в рот последнюю рюмку виски и пробормотал:
— Сижу вот, пью.
Леди Филомель улыбнулась:
— Вижу.
Я встал, намереваясь подойти к бармену, но передумал и снова медленно опустился на почерневшую от времени деревянную скамью.
— Армагеддон, — сказал я. — Они шутят с Армагеддоном. — Я пристально посмотрел на даму и слегка сощурился, чтобы в глазах не двоилось. — Знаете это слово, миледи?
— Думаю, он больше не нальет вам ни капли, — сказала она. — У меня дома найдется что выпить. Вы сможете опрокинуть рюмочку, пока будете рисовать.
Я снова сощурился, на этот раз с хитрецой. Может, я слегка и перебрал, но виски не повлияло на мою осмотрительность.
— Муж, — сказал я.
Дайана Филомель улыбнулась воистину лучезарно.
— Остался на несколько дней в Доме Правительства, — произнесла она заговорщицким шепотом. — В такой момент он не может быть вдали от средоточия власти. Пойдемте, моя машина у входа.
Я не помню, как расплачивался, но предполагаю, что сделал это. А может, за меня расплатилась леди Филомель. Помогала ли она мне выйти из бара, тоже не помню, впрочем, кто-нибудь да помог. Вероятно, шофер. Мне припоминается какой-то мужчина в серой униформе. Я вроде бы опирался на его плечо.
Колпак ТМП был поляризован с внешней стороны, но вполне прозрачен с нашей, и мы, сидя на подушках, любовались пейзажем. Я насчитал один, два портала, а затем мы вырвались из Конкурса на простор и начали набирать высоту. Внизу — голубые поля, вверху — желтое небо. Красивые особняки, построенные из чего-то вроде черного дерева, на вершинах холмов, меж маковых полей и бронзовых озер. Возрождение-Вектор? Для данного времени и места это был слишком трудный вопрос, и поэтому я привалился головой к прозрачной стенке, решив отдохнуть минутку-две. Надо отдохнуть. Меня ждет работа над портретом леди Филомель, ха-ха.
Внизу мелькали поля и луга.
Глава 5
Полковник Федман Кассад пробирается сквозь песчаную бурю к Нефритовой Гробнице. Он преследует Ламию Брон и отца Хойта. Он солгал Ламии: его визор и датчики работают нормально, вопреки змеящимся вокруг электрическим разрядам. Эти двое наверняка выведут его к Шрайку. Так на Хевроне охотятся на горных львов — привязываешь к дереву козу и ждешь.
Показания приборов, которые он установил вокруг лагеря, мерцают на тактическом дисплее и стрекочут в импланте. Оставить спящих — Вайнтрауба и его дочь, Мартина Силена и Консула — под защитой одной лишь автоматики — заведомый риск. Но Кассад серьезно сомневается в своей способности остановить Шрайка. Все они козы, связанные, ожидающие. Он хочет одного — найти, пока жив, женщину-призрак по имени Монета.
С каждой минутой ветер набирает силу. Теперь он с ревом обтекает Кассада, барабаня кулаками песчинок по его скафандру. Не будь у Кассада визора, он давно бы ослеп. Дюны пылают электрическим огнем, мини-молнии с треском вьются вокруг его ног. Он идет широкими шагами, стараясь не потерять тепловой след Ламии. Из ее открытого комлога потоком льется информация. Отключенные каналы Хойта сообщают лишь, что он жив и двигается.
Кассад проходит под растопыренным крылом Сфинкса, чувствуя вес невидимой массы, нависшей над ним, как каблук гигантского сапога. Затем поворачивает в глубь долины и видит в инфракрасных лучах Нефритовую Гробницу — дыру в тепловом фоне, холодный силуэт. Хойт как раз входит в полукруглый проем; Ламия отстает от священника метров на двадцать. Это единственные движущиеся объекты в долине. Приборы из лагеря, скрытого ночью и бурей, сообщают, что Сол и ребенок спят, Консул просто лежит и бодрствует. Чужих на территории лагеря нет.
Кассад на ходу снимает винтовку с предохранителя и ускоряет шаг, загребая песок своими длинными ногами. В эту секунду он отдал бы все на свете, чтобы подключить свои тактические каналы к следящему спутнику, а не перебирать разрозненные кусочки картины. Он ежится внутри своих доспехов и шагает дальше.
До Нефритовой Гробницы Ламии Брон остается не больше пятнадцати метров, когда ветер превращается в ураган. Под его напором она дважды теряет равновесие, бухаясь лицом в песок. Молнии становятся настоящими — яркие вспышки раскалывают небо, на миг освещая призрачную Гробницу впереди. Дважды она пытается связаться с Хойтом, Кассадом или другими — кто может спать в такую грозу? — но комлог и импланты не улавливают ничего, кроме треска разрядов. Какофония на всех волнах. После второго падения Ламия, с трудом встав на четвереньки, осматривается. Пусто. С того момента, как чей-то силуэт мелькнул около входа в Гробницу, она не видела ничего, напоминающего человеческую фигуру.
Крепко сжимая отцовский пистолет, Ламия встает, позволяет ветру пронести себя последние несколько метров и замирает перед входной аркой.
То ли благодаря ветру и свистопляске электрозарядов, то ли по какой-то иной причине Нефритовая Гробница ярко светится, бросая мертвящие зеленые отблески на песок и руки Ламии. Она последний раз пытается вызвать кого-нибудь по комлогу, а затем переступает порог Гробницы.
Отец Ленар Хойт, член тысячелетнего Общества Иисуса, житель Нового Ватикана на Пасеме и верный слуга его святейшества Папы Урбана XVI, изрыгает непристойности.
Хойт заблудился в Нефритовой Гробнице и страдает от сильной боли. Просторные залы уступили место узким комнатам, а коридоры столько раз пересекали сами себя, что Хойт окончательно запутался в этих бесконечных катакомбах. Он устал брести между светящимися зелеными стенами. Ему кажется, что днем, когда паломники обследовали гробницу, этого лабиринта не было, не видел он его и на карте — впрочем, карта осталась в палатке. Боль, сопровождавшая его много лет, ставшая его вечной спутницей с тех пор, как проклятые бикура наделили его двумя крестоформами, его собственным и Поля Дюре, вдруг стала невыносимой и грозит свести его с ума.
Коридор опять сужается. Ленар Хойт кричит, сам того не сознавая, не понимая, какие слова срываются с его уст. Этих слов он не произносил с дней своего детства. Он жаждет освобождения. От боли. От бремени ДНК Поля Дюре, личности… души Дюре… сокрытой в крестообразном паразите, присосавшемся к его спине. От бремени ужасного проклятия — гарантии собственного беззаконного воскресения, пустившей корни в его груди.
Но даже надрываясь от крика, Хойт понимает, что осужден на эту боль не бикура, которых больше нет. Затерянное племя колонистов, столько раз воскрешавшихся их собственными крестоформами, что они превратились в идиотов, в простые вместилища собственной ДНК и ДНК своих паразитов, было вместе с тем и племенем священников — священников Шрайка.
Отец Хойт из Общества Иисуса принес с собой флакон со святой водой, освященной Его Святейшеством, святые дары, пресуществленные на Понтификальной мессе, и описание древнего церковного ритуала изгнания дьявола.
Все это, напрочь забытое, лежит в запечатанном пакете в кармане плаща.
Наткнувшись на стену, Хойт снова вскрикивает. Боль превосходит все мыслимые границы. Полная ампула ультраморфина, которую он ввел себе лишь пятнадцать минут назад, не помогает. Отец Хойт с воплями разрывает на себе одежду, сдирает тяжелый плащ, черную блузу и римский воротник, штаны, рубашку, нижнее белье. Голый человек, дрожащий от боли и холода в светящихся коридорах Нефритовой Гробницы, выкрикивает непристойности в пустоту.
Он снова бредет вперед, нащупывает какой-то проем и попадает в помещение, которое гораздо просторнее всех запомнившихся ему по дневной экскурсии. Голые, просвечивающие стены — тридцать метров в высоту — по обеим сторонам пустого пространства. Хойт спотыкается, падает на колени и, глянув вниз, обнаруживает, что пол под ним почти прозрачный. Под его тонкой перепонкой — вертикальная шахта глубиной не меньше километра. На дне ее бушует пламя. Красно-оранжевые блики пляшут по стенам зала.
Хойт перекатывается на бок и хохочет. Если это модель ада, созданная специально для него, то очень уж бездарная. У Хойта свое, осязаемое представление об аде: это когда через внутренности продергивают колючую проволоку. Ад — это и воспоминания о голодных детях в трущобах Армагаста, и улыбки политиков, посылающих мальчиков умирать в войнах за колонии. Это мысли о Церкви, агонизирующей у него на глазах, на глазах Дюре, когда последние из ее приверженцев, кучка стариков и старушек заполняют две-три скамьи в огромных соборах Пасема. Ад — это утро в церкви, когда ты в лицемерии своем служишь мессу, а над сердцем у тебя жарко и отвратительно пульсирует дьявольский крестоформ.
Налетает порыв горячего ветра, и Хойт видит, как кусок пола отодвигается в сторону, образуя люк. Помещение наполняется запахом серы. Этот штамп веселит Хойта, но через считанные секунды смех переходит в рыдания. Теперь он стоит на коленях, царапая окровавленными ногтями крестоформы на груди и спине. В красном свете кажется, что крестообразные рубцы пылают. Снизу доносится рев пламени:
— Хойт!
Все еще всхлипывая, он оборачивается и видит женщину — Ламию Брон — в раме дверного проема. Она смотрит куда-то мимо него, держа в вытянутой руке старинный пистолет. Ее глаза широко раскрыты.
Сквозь гудение далекой топки Хойт внезапно улавливает скрежет и лязг металла о камень. Шаги. Не переставая раздирать ногтями окровавленные рубцы на груди, Хойт оборачивается, обдирая колени о камень.
Сперва он видит тень: десятиметровый силуэт, нагромождение острых углов, колючек, лезвий… ноги, подобные стальным трубам с розетками ятаганов у колен и лодыжек. Затем, сквозь марево горячих огней и черных теней, Хойт видит глаза. Сотни… тысячи граней… светятся красным светом, лазерное пламя в двух близнецах-рубинах над воротником из стальных колючек, ртутная поверхность груди отражает огонь и тьму…
Ламия Брон нажимает на спусковой крючок. Выстрелы эхом отдаются в вышине и глубине, заглушая рев топки. Отец Ленар Хойт, качаясь, оборачивается к ней, умоляюще подняв руку.
— Нет, не делайте этого! — кричит он. — Одно желание оно выполняет! Я должен попро…
Шрайк, только что бывший «там» — в пяти метрах — внезапно оказывается «здесь» на расстоянии вытянутой руки от Хойта. Ламия перестает стрелять. Хойт поднимает глаза, видит свое отражение в хромированном панцире существа, блестящем от огня… на миг видит что-то еще в глазах Шрайка… и тут же это что-то исчезает. Шрайк исчезает, Хойт медленно подымает руку, почти смущенно касается горла, целую секунду смотрит на красный водопад, струящийся по его руке, груди, крестоформу, животу…
Он оборачивается к дверному проему. Глаза Ламии, ставшие огромными, в ужасе смотрят, но не на Шрайка, а на него, отца Ленара Хойта из Общества Иисуса, и тут только он осознает, что боль исчезла. Хойт открывает рот, чтобы заговорить, но оттуда льется что-то красное и горячее, настоящий гейзер. Хойт снова опускает глаза, впервые замечая свою наготу, видит кровь, капающую с подбородка и груди, капающую и стекающую на темный пол, видит растущие лужи крови, словно кто-то опрокинул ведро с алой краской, а потом ничего не видит, падая лицом вниз, долго, очень долго, бесконечно… туда, вниз.
Глава 6
У Дайаны Филомель было идеальное тело — венец творчества паректоров и косметологов. Проснувшись, я несколько минут лежал и любовался им: классические изгибы спины, боков — геометрия более прекрасная и могущественная, чем все открытия Эвклида; две ясно различимые ямочки в нижней части спины, как раз над головокружительно пышными белыми ягодицами, веер мягких складок, полные бедра. Чувственности и мощи, таящихся в них, могла позавидовать любая деталь мужской анатомии.
Леди Дайана спала (или прикидывалась спящей). Наша одежда была разбросана по просторам зеленого ковра. Сочный пурпурно-алый свет вливался в широкие окна, за которыми качались серые и золотые кроны деревьев. Вперемешку с нашей одеждой на полу валялись листы рисовальной бумаги. Свесившись с кровати, я поднял один: наспех набросанные груди, бедра, одна, яростно исправленная рука и овал лица без черт. Рисовать спьяну живую натуру, в то время как эта натура вас соблазняет, — идеальный способ создания такого вот хлама.
Со стоном я рухнул на подушку и обратил свой взор к лепному потолку. Окажись на месте этой женщины Фанни, мне бы и в голову не пришло вставать. А сейчас я вылез из-под одеяла, нашел свой комлог, отметил, что на ТКЦ сейчас раннее утро — со времени моего свидания с секретарем Сената прошло четырнадцать часов — и отправился в ванную искать пилюли от похмелья.
В аптечке леди Дайаны было на что посмотреть. Кроме обычного аспирина и эндорфинов, я обнаружил стимуляторы, транквилизаторы, тюбики флэшбэка, оргазмопластырь, шунты инициаторов, гашишные ингаляторы, сигареты с «жестким» табаком и еще сотни неизвестных мне наркотиков и лекарств. Я нашел стакан и с трудом проглотил пару таблеток антокса. Через несколько секунд тошноты и головной боли как не бывало.
Когда я вернулся, леди Дайана уже сидела в постели. Мои губы уже раздвинулись в улыбке, когда я заметил у восточных дверей двух мужчин. Ни один из них не был ее мужем, хотя оба, казалось, сотворены по образу и подобию Гермунда Филомеля — великаны с вросшими в плечи головами, кулаками-окороками и угрюмыми двойными подбородками.
Уверен, что на долгом маскараде истории встречались особи мужского пола, способные достойно повести себя даже в такой ситуации. Возможно, им хватило бы мужества стоять в чем мать родила перед одетыми и потенциально враждебными незнакомцами (соперниками-самцами, помимо того) — стоять гордо, не силясь прикрыть ладошкой причинное место, не горбясь, не чувствуя себя абсолютно беззащитными и загнанными в угол… Но я не из таких.
Я сгорбился, прикрывая рукой пах, попятился к ванной и пробормотал:
— Что… кто?.. — Попросив взглядом помощи у Дайаны Филомель, я увидел на ее лице улыбку, сразу напомнившую мне ледяной блеск глаз этой женщины в первый вечер нашего знакомства.
— Взять его. Быстро! — приказала моя вчерашняя любовница.
Я влетел в ванную и уже тянулся к кнопке автоматического закрывания двери, когда ближайший громила догнал меня, сгреб, рывком втянул обратно в спальню и швырнул своему партнеру. Оба они были с Лузуса или какого-то другого мира с высокой гравитацией, а может, жили на диете из стероидов и Самсон-протеина, но факт тот, что они перекидывались мной играючи, как котенком. И дело было не в их комплекции. Если исключить недолгую борцовскую карьеру на арене школьного двора, на моем счету, по воспоминаниям, было не так уж много физических столкновений и еще меньше случаев, когда я выходил из них победителем. Одного взгляда на этих забавлявшихся мной типов было достаточно, чтобы понять: они относятся к категории людей, существующих только на страницах романов. Тех, что могут ломать кости, разбивать носы, дробить коленные чашечки так же бездумно, как я кидаю в мусорную корзинку затупившийся карандаш.
— Быстро! — прошипела Дайана.
Я заглянул в инфосферу, в память дома, в пупочный комлог Дайаны и жалкие приборы, связывающие головорезов с информационной вселенной… Теперь я знал, где нахожусь: загородное поместье Филомелей в сельскохозяйственном поясе Малого Возрождения, в шестистах километрах от столицы планеты Пирра, а также имена и подноготную громил: Дебин Фаррус и Хеммит Горм, охранники из профсоюза грязекопов с Небесных Врат… Но чего я никак не мог уразуметь, так это зачем один из них сидел на мне, упершись коленом в мою поясницу, тогда как другой, раздавив каблуком мой комлог, надевал мне на руку осмотическую манжетку…
Я услышал шипение и расслабился.
— Кто ты такой?
— Джозеф Северн.
— Это твое настоящее имя?
— Нет. — Действие правдосказа уже ощущалось. Я знал, что могу игнорировать его, отступив в инфосферу или удалившись в глубины Техно-Центра, но мне не хотелось оставлять тело на милость допрашивающих меня молодцев. Мои глаза были закрыты, но я узнал голос, задавший следующий вопрос.
— Кто же ты? — спросила Дайана Филомель.
Я вздохнул. На этот вопрос трудно было ответить честно.
— Джон Китс, — выговорил я наконец. По их молчанию я заключил, что это имя ничего не говорит им. И действительно, откуда им знать, кто такой Джон Китс? Я однажды предсказал, что мое имя «написано на воде». Хотя я не мог ни шевельнуться, ни открыть глаза, мне было несложно заглянуть в инфосферу, следуя за их запросами. Среди восьмисот Джонов Китсов в перечне, предложенном им общественным файлом, числился и поэт, но умершие девятьсот лет назад их не волновали.
— На кого ты работаешь? — Это был голос Гермунда Филомеля. Откуда он взялся?
— Ни на кого.
Я почувствовал слабое допплеровское смещение голосов: они заговорили между собой.
— Он что, сопротивляется правдосказу?
— Правдосказу не сопротивляются, — ответила Дайана. — От него можно умереть, но сопротивляться ему невозможно.
— В чем же дело? — спросил Гермунд. — Почему Гладстон накануне войны привела на Совет какого-то мазилу?
— А знаете, он может вас слышать, — заметил еще один мужской голос, наверняка одного из громил.
— Это не важно, — сказала Дайана. — Все равно после допроса он покойник. — Ее голос раздался снова, на этот раз обращенный ко мне. — Почему секретарь Сената пригласила тебя на Совет… Джон?
— Точно не знаю. Видимо, хотела разузнать о паломниках.
— Каких паломниках, Джон?
— Паломниках к Шрайку.
Послышался какой-то шум.
— Тише, — прикрикнула Дайана Филомель и снова обратилась ко мне: — Эти паломники к Шрайку находятся на Гиперионе, Джон?
— Да.
— И сейчас идут к Шрайку?
— Да.
— А почему Гладстон расспрашивает о них именно тебя, Джон?
— Я вижу их во сне.
Послышался возмущенный возглас Гермунда:
— Он чокнутый! Даже под правдосказом заливает!.. Давайте закругляйтесь и…
— Заткнись, — перебила его Дайана. — Гладстон не чокнутая. Она пригласила его, разве не помнишь? Джон, что ты подразумеваешь, когда говоришь, что видишь их во сне?
— Я вижу во сне то, что воспринимает первая воскрешенная личность Китса, — сказал я. Мой голос звучал глухо и монотонно, будто я говорил во сне. — Он сбросил себя в одного из паломников, когда его тело убили, и теперь блуждает в их микросети. Каким-то образом его ощущения становятся моими снами. А может, то, что я делаю, — это его сны, не знаю.
— Бред, — пробормотал Гермунд.
— Нет-нет, — возразила леди Дайана каким-то неестественным, срывающимся голосом. — Джон, так ты кибрид?
— Да.
— О Христос и Аллах! — воскликнула леди Дайана.
— Что такое кибрид? — спросил другой громила. У него был высокий, почти женский голос.
На какой-то момент воцарилось молчание, а затем заговорила Дайана:
— Идиот! Любой знает, что кибриды — это человекоподобные существа, созданные и дистанционно управляемые Техно-Центром. Они даже входили в состав Консультативного Совета, но в прошлом веке их запретили.
— Так это что-то вроде андроидов? — спросил головорез.
— Заткнись! — бросил Гермунд.
— Нет, — ответила Дайана. — Кибриды были генетически совершенны. Их воссоздавали по ДНК со Старой Земли. Достаточно было косточки, обрывка волоса… Джон, ты меня слышишь? Джон?
— Да.
— Джон, ты кибрид… знаешь ли ты, кто был твоим прототипом?
— Джон Китс.
Я услышал, как она набрала в грудь воздуха.
— Кем… был… Джон Китс?
— Поэтом.
— Когда он жил, Джон?
— С 1795 по 1821 год, — сказал я.
— По какому летосчислению, Джон?
— По земному, от Рождества Христова, — сказал я. — До Хиджры. Нашей эры…
Меня перебил взволнованный голос Гермунда:
— Джон, ты… ты сейчас в контакте с Техно-Центром?
— Да.
— Ты можешь… способен устанавливать с ним связь, несмотря на правдосказ?
— Да.
— Во блин! — присвистнул головорез с высоким голосом.
— Сматываемся! — рявкнул Гермунд:
— Еще минуту, — сказала Дайана. — Мы должны узнать…
— Может, взять его с собой? — спросил другой громила.
— Идиот! — взорвался Гермунд. — Если он жив и связан с инфосферой и Техно-Центром… черт, так он просто живет в Техно-Центре, его сознание там… И он может стучать Гладстон, ВКС, безопасности, кому угодно!
— Заткнись, — отрубила леди Дайана. — Мы убьем его, как только я закончу. Еще несколько вопросов, Джон.
— Да.
— Зачем Гладстон понадобилось узнавать, что происходит с паломниками к Шрайку? Это имеет отношение к войне с Бродягами?
— Мне точно неизвестно.
— Дерьмо, — прошипел Гермунд. — Разбегаемся!
— Тихо. Джон, откуда ты?
— Последние десять месяцев я жил на Эсперансе.
— А до этого?
— До этого — на Земле.
— На которой Земле? — вмешался Гермунд. — На Новой Земле? На Земле-II? В Земле-Сити? На которой?
— На Земле, — ответил я. Потом уточнил: — На Старой Земле.
— На Старой? — переспросил один из головорезов. — Ни хрена себе! Я сматываюсь.
Раздалось шипение бекона на сковородке — выстрелили из лазерного пистолета. Запахло, однако, не беконом, а чем-то сладковатым, и на пол шлепнулось что-то тяжелое.
Дайана Филомель как ни в чем не бывало задала следующий вопрос:
— Джон, ты говоришь о жизни твоего прототипа на Старой Земле?
— Нет.
— Ты — как кибрид — был на Старой Земле?
— Да, — ответил я. — Я пробудился там после смерти. В той же комнате на Пьяцца ди Спанья, в которой умер. Северна там не было, но доктор Кларк сказал, что были другие…
— Он псих, — изумленно сказал Гермунд. — Старая Земля погибла четыре века назад… Разве кибриды могут жить столько?..
— Не могут, — отрезала Дайана. — Заткнись и дай мне закончить дело. Джон, почему Техно-Центр… вернул тебя?
— Мне точно неизвестно.
— Это как-то связано с гражданской войной, которая идет между ИскИнами?
— Возможно, — сказал я. — Вероятно. — Она задавала интересные вопросы.
— Какая группа создала тебя? Богостроители, Ортодоксы или Ренегаты?
— Не знаю.
Послышался вздох досады.
— Джон, ты кому-нибудь сообщал, где находишься и что с тобой происходит?
— Нет, — ответил я.
Этот запоздалый вопрос свидетельствовал о весьма скромных умственных способностях дамы: ей следовало задать его гораздо раньше.
Гермунд тоже вздохнул, но, скорее, с облегчением.
— Отлично, — пробормотал он. — Давай убираться отсюда, пока…
— Джон, — методично продолжала Дайана, — знаешь ли ты, почему Гладстон затеяла эту войну с Бродягами?
— Нет, — ответил я. — Или, вернее, на то существует масса причин. Самая вероятная — она хочет что-то выторговать у Техно-Центра.
— Каким образом?
— Руководящие элементы постоянной памяти Техно-Центра боятся Гипериона, — сказал я. — Гиперион — единственная неизвестная переменная в Галактике, где все переменные известны.
— Кто боится, Джон? Богостроители, Ортодоксы или Ренегаты? Какая из групп ИскИнов боится Гипериона?
— Все три, — ответил я.
— Дерьмо, — прошептал Гермунд. — Послушай, Джон… Гробницы Времени и Шрайк связаны со всем этим?
— В каком-то смысле — да.
— В каком же? — быстро спросила Дайана.
— Не знаю. Никто не знает.
Гермунд или кто-то другой со злобой ударил меня в грудь.
— Хочешь сказать, что Консультативный Совет Техно-Центра не предсказал результата этой войны, этих событий? — прорычал Гермунд. — Думаешь, я поверю, что Гладстон и Сенат решились на войну, не имея прогноза?
— Нет, — ответил я. — Прогноз был сделан много веков назад.
Дайана Филомель ахнула, как ребенок, увидевший сладкое.
— Что за прогноз, Джон? Расскажи нам все.
У меня пересохло во рту. Сыворотка-правдосказ впитала всю мою слюну.
— Была предсказана война, — сказал я. — Кто именно отправится в паломничество к Шрайку. Предательство Консула Гегемонии. Он включил устройство, которое откроет — открыло — Гробницы Времени. Проклятие Шрайка. Последствия войны и Проклятия…
— Что же это за последствия, Джон? — жадно прошептала женщина, с которой я занимался любовью всего несколько часов назад.
— Крах Гегемонии, — сказал я. — Разрушение Великой Сети. — Я попытался облизнуть губы, но язык пересох. — Гибель человечества.
— О Иисус и Аллах, — прошептала Дайана. — Есть ли шанс, что предсказание не сбудется?
— Нет, — сказал я. — Точнее, все зависит от событий на Гиперионе. Остальные переменные учтены.
— Убей его! — закричал вдруг Гермунд Филомель. — Убей эту штуку… чтобы мы могли убраться отсюда и оповестить Харбрит и остальных.
— Хорошо, — сказала леди Дайана. Затем секундой позже: — Нет, не лазер, идиот ты эдакий. Мы введем смертельную дозу алкоголя, как и планировалось. Подержи манжет, а я прикреплю капельницу.
На мою правую руку надавили. Секундой позже раздались взрывы, меня тряхнуло воздушной волной, потом запахло дымом и озоном. Завизжала женщина.
— Снимите с него манжету, — приказал Ли Хент.
Я увидел его перед собой, все еще одетого в строгий серый костюм. Вокруг толпились десантники службы безопасности в полной силовой экипировке и комбинезонах из «хамелеоновой кожи». Один из них, вдвое выше Хента, повесил на плечо свою «адскую плеть» и бросился выполнять приказ.
По одному из оперативно-тактических каналов, тому самому, который я контролировал в течение некоторого времени, я увидел транслируемое изображение самого себя — голого, распятого на кровати, с осмотической манжетой на руке и кровоподтеком во всю грудную клетку. Дайана Филомель, ее муж и один из головорезов лежали среди щепок и осколков на полу, оглушенные, но живые. Еще один бандит валялся на пороге. Верхняя часть его тела — та, что была в комнате, — напоминала хорошо поджаренный бифштекс.
— С вами все в порядке, господин Северн? — спросил Ли Хент, приподняв мне голову и надевая на меня мембранную кислородную маску.
— Хррммф, — пробормотал я. — Вес-се.
Я всплыл на поверхность моих собственных ощущений, как ныряльщик, пробкой вылетевший на поверхность. Голова раскалывалась от боли. Зрение еще не совсем вернулось, но по тактическому каналу я мог видеть, что Ли Хент слегка скривил свои тонкие губы, что означало улыбку.
— Мы поможем вам одеться, — сказал он. — По дороге выпьете кофе. Мы возвращаемся в Дом Правительства, господин Северн. Вы опаздываете на встречу с секретарем Сената.
Глава 7
Космические битвы в кино и голофильмах всегда наводили на меня скуку, но реальное сражение — вроде прямого репортажа о нескончаемой транспортной катастрофе — чем-то завораживало. Правда, эстетическая ценность реальных событий — и это подтверждается тысячелетним опытом — гораздо ниже, чем у самой скромной голографической драмы. При всей колоссальности задействованных сил настоящее космическое сражение вызывает у зрителя лишь одну мысль — о безмерной огромности космоса и безмерной же ничтожности всех этих звездолетов, дредноутов, флотилий и прочих игрушек человечества.
Так я думал, сидя рядом с Гладстон и ее солдафонами в Центре Оперативной Информации, так называемом Военном Кабинете, когда стены в один миг стали двадцатиметровыми окнами в бесконечность; четыре гигантские голопанели окружили нас объемными изображениями, а динамики — звуками битвы, долетавшими по мультилинии: радиоперебранками между пилотами истребителей, треском тактических каналов, переговорами между кораблями по широкополоске, лазерным каналам и защищенной мультилинии, а также какофонией боевых кличей, воплей, криков и грязной брани — традиционного аккомпанемента войн со времен каменного века.
То было поистине воплощение вселенского хаоса, тотальная неразбериха, импровизированное па-де-де мрачного кордебалета смерти. То была война.
* * *
Посреди адского фейерверка сидели Гладстон и кучка ее сотрудников. Половину северной стены занимал лазурный лимб Гипериона. Военный Кабинет, точно серый ковер-самолет, носился меж звезд и взрывов, и у каждого из нас звучали в ушах вопли умирающих мужчин и женщин. И я был одним из тех, кому выпал почетный и жуткий жребий лицезреть все это.
Секретарь Сената покрутилась в своем кресле с высокой спинкой, потеребила пальцами нижнюю губу и повернулась к военным советникам:
— Ваше мнение?
Шестеро увешанных орденами мужчин посмотрели друг на друга. Затем все как один уставились на седьмого — генерала Морпурго, жевавшего незажженную сигару.
— Дело плохо, — коротко бросил он. — Мы не даем им приблизиться к зоне порталов… наши линии обороны держатся… но они слишком глубоко проникли в систему.
— Адмирал? — Гладстон кивнула высокому худому мужчине в черном мундире ВКС.
Адмирал Сингх погладил свою коротко подстриженную бородку:
— Генерал Морпурго прав. Кампания развивается не так, как планировалось.
Он указал подбородком на четвертую стену, со статическим изображением системы Гипериона, на которое накладывались разноцветные эллипсы, овалы и дуги. Некоторые кривые росли прямо у нас на глазах. Светло-голубые линии обозначали траектории кораблей Гегемонии. Красные ленты — следы Бродяг. Красных было намного больше.
— Оба ударных авианосца, входивших в состав эскадры 42, выведены из строя, — продолжал адмирал Сингх. — «Тень Олимпа» погиб со всей командой, а «Станция Нептун» получил серьезные повреждения и сейчас возвращается на окололунную орбиту под эскортом пяти факельщиков.
Секретарь Сената опустила голову, коснувшись губой сцепленных пальцев.
— Сколько человек было на «Тени Олимпа», адмирал?
У Сингха были такие же большие карие глаза, как у Мейны Гладстон, — но без печального огня в глубине. Он невозмутимо выдержал ее взгляд.
— Четыре тысячи двести, — ответил он. — Не считая подразделения морской пехоты численностью в шестьсот человек. Часть из них высадилась на нуль-станции Гиперион, поэтому доподлинно неизвестно, сколько их было на борту.
Гладстон вновь обернулась к Морпурго:
— В чем причина осложнений, генерал?
Лицо Морпурго было спокойно, но он почти перекусил сигару, которую держал в зубах.
— У Бродяг больше боевых единиц, чем мы предполагали, — без обиняков ответил он. — Плюс «уланы»… пятиместные миниатюрные факельщики… Они превосходят наши палубные истребители скоростью и вооружением. Это беспощадные маленькие осы. Мы уничтожаем их сотнями, но если даже один «улан» прорывается сквозь оборонительные порядки, он может натворить больших бед. — Морпурго пожал плечами. — А прорвались многие.
Сенатор Колчев и восемь его коллег сидели напротив военных. Колчев, выворачивая шею, повернулся к оперативной карте.
— Похоже, они уже одной ногой на Гиперионе, — хрипло сказал он.
Снова заговорил Сингх:
— Не забывайте о масштабах, сенатор. Мы все же удерживаем большую часть системы. В радиусе десяти астроединиц от солнца Гипериона — все наше. Сражение происходило за облаком Оорта, и мы произвели перегруппировку.
— А эти красные… шарики… над плоскостью эклиптики? — спросила сенатор Ришо, и сегодня надевшая красное платье. Все знали, что красный — ее излюбленный цвет.
Сингх кивнул.
— Интересный маневр, — сказал он. — Рой выпустил около трех тысяч «уланов», чтобы взять в клещи эскадру 87.2 по электронному периметру. Атака была отбита, но трудно не восхититься остроумием…
— Три тысячи «уланов»? — перебила его Гладстон.
— Да, госпожа секретарь.
Она улыбнулась. Я перестал рисовать и мысленно порадовался, что улыбка предназначалась не мне.
— Разве на вчерашнем совещании вы не сообщили нам, генерал, что Бродяги способны выставить шестьсот — семьсот боевых единиц мак-си-мум? — Мейна Гладстон резко, всем корпусом повернулась к Морпурго, заломив правую бровь.
Генерал вынул изо рта сигару, хмуро посмотрел на нее, и выудил из-за щеки еще один огрызок.
— Таково было мнение нашей разведки. Она ошиблась.
Гладстон кивнула.
— Консультировалась ли разведка с Советом ИскИнов?
Взоры всех присутствующих обратились к советнику Альбедо.
Проекция была великолепная: он, как и все остальные, сидел в кресле, положив руки на подлокотники; его тело не просвечивало и не курилось туманом, в отличие от обычных движущихся проекций. У него было длинное лицо с высокими скулами и живым, выразительным ртом, сардонически кривящимся даже в самые серьезные моменты. Например, сейчас.
— Нет, госпожа секретарь, — ответил Альбедо. — Никто не обращался к Консультативной Группе за оценкой потенциала Бродяг.
— Я предполагала, — сурово сдвинув брови, Гладстон обернулась к Морпурго, — что прогноз разведки ВКС выработан с учетом мнения Совета.
Генерал бросил на Альбедо свирепый взгляд.
— Нет, госпожа секретарь, — возразил он. — Техно-Центр не поддерживает контактов с Бродягами, и мы решили, что его прогнозы окажутся не точнее наших собственных. Для проверки наших предположений мы использовали тактический имитатор Олимпийской Офицерской Школы. — Он снова сунул в рот обкусанную сигару и выпятил нижнюю челюсть: — Неужели Совет способен на большее?
Гладстон посмотрела на Альбедо.
Длинные пальцы советника словно взяли аккорд на невидимых клавишах.
— По нашим оценкам Рой насчитывает от четырех до шести тысяч боевых единиц.
— Вы… — начал Морпурго, побагровев.
— На совещании вы не упомянули об этом. — Голос Гладстон звучал на редкость бесстрастно. — Как и во время предыдущих обсуждений.
Альбедо пожал плечами.
— Генерал прав, — сказал он. — Мы не поддерживаем контактов с Бродягами. Наши предположения не более надежны, чем расчет ВКС, просто они основаны на других предпосылках. ООШ: ИТИ работает великолепно. Будь быстродействие ее ИскИнов на порядок выше по шкале Тьюринга-Деммлера, мы приняли бы их в Центр. — Его изящные пальцы вновь пробежали по невидимым клавишам. — Ну что ж, наши прогнозы можно учесть при планировании следующих операций. Разумеется, мы готовы в любое время передать их вам.
Гладстон кивнула.
— Сделайте это немедленно.
Она вновь повернулась к экрану, и все последовали ее примеру. Отреагировав на наступившее молчание, автоматы увеличили громкость, и мы опять услышали рев победителей, хрипы, мольбы о помощи и размеренную декламацию — перечисление позиций, указания по корректировке огня, команды.
На ближайшую к нам стену напрямую поступала информация с факельщика «Нджамена», занятого поиском уцелевших среди каши обломков, оставшихся от Отряда В.5. Поврежденный факельщик, к которому он приближался, увеличенный в тысячу раз, походил на взорванный изнутри гранат с медленно разлетающимися в разные стороны зернами и обрывками красной кожуры. Он на глазах превращался в облако мусора и замерзших газов, миллионов обломков микроэлектронных устройств, вырванных из гнезд, пакетов с пайками, искалеченных механизмов и распознаваемых по марионеточным судорогам рук и ног человеческих тел. Великого множества человеческих тел. Прожекторный луч «Нджамены», преодолевший двадцать тысяч миль и достигший десятиметровой ширины, играл на ледяных обломках, голубых от звездного света, выхватывая из мглы отдельные предметы, грани, лица. Его отраженный свет сразу состарил Гладстон.
— Адмирал, — медленно произнесла она, — неужели Рой ждал, пока эскадра 87.2 перейдет в систему?
Сингх коснулся своей бородки.
— Вы хотите знать, не было ли это ловушкой?
— Да.
Адмирал скользнул взглядом по лицам коллег и обернулся к Гладстон.
— Не думаю. Я считаю… мы считаем… что Бродяги решили должным образом отреагировать на высокую концентрацию наших войск. Однако это означает, что они твердо намерены овладеть системой Гипериона.
— И они в силах добиться этого? — Мейна Гладстон не отрывала взгляда от кувыркающихся обломков у себя над головой. Перед камерой проплыло тело молодого мужчины, наполовину вывалившееся из скафандра. Я увидел вылезшие из орбит глаза и взорванные давлением легкие.
— Нет, — отрезал адмирал Сингх. — Они могут обескровить нас. Могут оттеснить нас к самому Гипериону. Но не могут ни вышвырнуть нас из системы, ни нанести нам поражение.
— А портал? — Голос сенатора Ришо дрогнул.
— Ни уничтожить нуль-портал, — добавил Сингх.
— Он прав, — подтвердил Морпурго. — Тому порукой мой профессиональный опыт.
Гладстон со странной улыбкой поднялась с места. Все присутствующие, в том числе и я, поторопились подняться.
— Вы поручились, — негромко сказала она, обращаясь к Морпурго. — Вы поручились. — Она скользнула взглядом по лицам своих сотрудников. — Мы встретимся здесь, когда этого потребуют события. Связным между мной и вами назначаю Ли Хента. Работа правительства, господа, будет идти в обычном режиме. Всего хорошего.
Все стали расходиться, только я вернулся на свое место и вскоре остался в комнате один. Динамики вновь заработали на полную громкость. На одной волне слышались громкие мужские рыдания. На другой, сквозь треск и щелчки помех, гремел чей-то маниакальный хохот. Надо мной, за моей спиной и с обеих сторон медленно двигались во тьме созвездия, и свет звезд равнодушно серебрил руины и обломки.
Дом Правительства был выстроен в форме звезды Давида. В центре ее, защищенный низкими стенами и кущами деревьев, рассаженных в особом порядке, находился сад. Конечно, не такой обширный, как Олений парк со своими зелеными просторами, но не менее живописный. Поздним вечером я вышел туда на прогулку. Яркое сине-белое небо Центра уже покрывалось позолотой, когда меня догнала Мейна Гладстон.
Несколько минут мы молча шли бок о бок. Я заметил, что она переоделась в длинное платье, какие носят величественные матроны на Патофе: свободного покроя, с пышными складками и вставками сложного темно-синего и золотого рисунка — точь-в-точь вечерний небосвод у нас над головами. Руки она держала в карманах, широкие рукава раздувались на ветру; подол касался молочно-белой каменной дорожки.
— Вы позволили им допросить меня, — начал я. — Любопытно, почему.
— Они не транслировали допрос для своих сообщников. — Голос Гладстон звучал устало. — Никакого риска разглашения секретной информации не было.
Я улыбнулся.
— И тем не менее я подвергся всем этим испытаниям с вашего ведома.
— Служба безопасности хотела узнать о них все, что только возможно. Все, что они выболтают.
— Ценой кое-каких… не очень приятных ощущений с моей стороны, — заметил я.
— Да.
— Ну и известно теперь безопасности, на кого они работают?
— Этот человек упомянул фамилию Харбрит, — ответила секретарь Сената. — Наши люди почти уверены, что речь шла об Эмлеме Харбрит.
— Управляющей биржей на Асквите?
— Да. Она и Дайана Филомель связаны со старыми монархистскими фракциями организации Гленнон-Хайта.
— Они вели себя по-дилетантски, — сказал я, вспоминая легкость, с какой Гермунд обронил фамилию Харбрит, и непродуманность вопросов его жены.
— Конечно.
— Связаны ли монархисты с какими-нибудь серьезными организациями?
— Только с церковью Шрайка, — ответила Гладстон. Она остановилась перед каменным мостиком через ручей и, подобрав свое роскошное сине-золотое одеяние, присела на кованую железную скамью. — Ни один епископ до сих пор не вышел из подполья, знаете ли.
— Учитывая беспорядки, их трудно осуждать. — Я остановился перед скамьей. Поблизости не было ни телохранителей, ни мониторов, но я знал: одно угрожающее движение в сторону Гладстон, и я очнусь в изоляторе службы безопасности.
Облака над нашими головами растеряли последнюю позолоту и светились теперь ровным серебряным светом, отражая огни бесчисленных экобашен ТКЦ.
— Как поступила служба безопасности с Дайаной и ее мужем? — спросил я.
— Они были подвергнуты доскональному допросу и… находятся под арестом.
Понятно. Доскональный допрос означал, что их мозги плавают сейчас в полностью изолированных от внешнего мира баках. Их тела будут содержаться в криогенном хранилище до тех пор, пока секретный суд не определит, можно ли квалифицировать их деяния как государственную измену. После процесса тела будут уничтожены, а Дайана и Гермунд останутся под «арестом» с полностью отключенными каналами восприятия и связи. Уже несколько веков Гегемония не применяла смертной казни, но альтернативы ей были не из приятных. Я опустился на другой конец скамьи.
— Вы по-прежнему пишете стихи?
Вопрос удивил меня. Я посмотрел вдоль садовой дорожки, где только что загорелись летучие японские фонарики и скрытые листвой люм-шары.
— Как вам сказать… — Я задумался. — Иногда я вижу сны в стихах. Точнее, видел. Раньше.
Мейна Гладстон принялась разглядывать свои руки, сложенные на коленях.
— Вздумай вы описать то, что сейчас происходит, — спросила она, — что за поэма бы получилась?
Я засмеялся.
— Я уже дважды начинал ее и бросал… или, вернее сказать, «он» начинал и бросал. Это поэма о гибели богов и о том, как они противились своему низвержению. Поэма о метаморфозах, страданиях, несправедливости. И о поэте, который, как «он» считал, пострадал от несправедливости больше всех.
Гладстон повернулась ко мне. В полумраке ее лицо казалось нагромождением морщин и теней.
— И каких же богов свергают с престола сейчас, господин Северн? Само человечество или ложных богов, которых мы создаем себе на погибель?
— Откуда мне знать, черт возьми? — вспылил я и отвернулся к ручью.
— Но вы принадлежите обоим мирам, не так ли? И человечеству, и Техно-Центру?
Я рассмеялся.
— В обоих мирах я чужак. Здесь — чудовище, там — экспериментальный образец.
— Но кто же проводит эксперимент? А главное, зачем?
Я пожал плечами.
Гладстон поднялась. Я последовал ее примеру. Мы перешли ручей, слушая, как журчит вода. Дорожка вилась между высокими валунами, покрытыми пышными лишайниками, мерцавшими в свете фонариков.
Гладстон остановилась на верхней ступеньке каменной лестницы.
— Как вы думаете, господин Северн, удастся ли Богостроителям Техно-Центра создать пресловутый Высший Разум?
— То есть создадут ли они Бога? — уточнил я. — Среди ИскИнов есть и противники этого проекта. Опыт людей подсказал им, что создание высшего разума — прямая дорога к рабству, если не к вымиранию.
— Но станет ли истинный Бог уничтожать свои создания?
— Если иметь в виду Техно-Центр и гипотетический Высший Разум, — возразил я, — Бог не создатель, а создание. Возможно, божество может чувствовать ответственность лишь за те низшие существа, которые само создало.
— Тем не менее Техно-Центр, судя по всему, взял на себя ответственность за людей уже много веков назад, со времени Отделения ИскИнов, — произнесла Гладстон. Она пристально смотрела на мое лицо — точно на шкалу какого-то важного прибора.
Я окинул взглядом сад. Дорожка светилась во мраке таинственным белым светом.
— Техно-Центр преследует собственные цели, — сказал я, понимая, что секретарю Сената этот факт известен лучше, чем кому бы то ни было.
— И вы считаете, что человечество ему больше ни к чему?
Я поднял руки в знак того, что отвечать не собираюсь.
— Я чужд обеим цивилизациям, — повторил я. — Нет у меня ни простодушия невольных создателей, ни бремени пугающей проницательности их созданий.
— С генетической точки зрения, вы — человек до мозга костей, — сказала Гладстон.
Это не было вопросом, и я промолчал.
— Говорили, что Иисус Христос — во всех отношениях человек, — продолжала она. — И одновременно божество. Пересечение человеческого и божественного.
Меня поразило, что она вспомнила эту древнюю религию. Христианство сменилось сначала дзен-христианством, потом дзен-гностицизмом, потом десятками и сотнями более жизнеспособных теологии и философских учений. Впрочем, мир, откуда происходила Гладстон, не был кладовой развенчанных культов. Я предполагал и надеялся, что не была такой кладовой и она сама.
— Если он в полной мере и человек, и Бог, — сказал я, — тогда я — его двойник из антимира.
— Нет, — возразила Гладстон. — Я думаю, его двойник — Шрайк, перед которым собираются предстать ваши друзья-паломники.
У меня отвисла челюсть. Она впервые упомянула Шрайка, хотя я знал (а она знала, что мне это известно), что именно она хотела открыть руками Консула Гробницы Времени и выпустить это существо на волю.
— Возможно, вам следовало принять участие в этом паломничестве, господин Северн, — заметила Мейна Гладстон.
— Я и без того в нем участвую, — ответил я. — В каком-то смысле.
Гладстон взмахнула рукой, и двери ее личных покоев распахнулись.
— Да, в каком-то смысле вы в нем участвуете, — согласилась она. — Но если женщину, несущую в себе ваше «второе я», распнут на легендарном стальном дереве Шрайка, будете ли вы вечно страдать во сне?
На это мне нечего было ответить. Я молча стоял перед ней.
— Поговорим завтра утром, после совещания, — произнесла она, прощаясь. — Спокойной ночи, господин Северн. Приятных сновидений.
Глава 8
Мартин Силен, Сол Вайнтрауб и Консул бредут по песку в сторону Сфинкса, навстречу Ламии Брон и Федману Кассаду, несущим тело отца Хойта. Вайнтрауб плотнее запахивается в плащ, пытаясь защитить ребенка от ярости песчаных вихрей и треска разрядов. Он видит, как спускается с дюны Кассад — черный мультипликационный человечек с дивными ногами на фоне наэлектризованных песков. Конечности Хойта безжизненно болтаются при каждом движении его носильщиков.
Силен что-то кричит, но ветер относит его слова в сторону. Ламия Брон указывает на единственную уцелевшую палатку. Это палатка Мартина Силена, остальные повалены или разорваны в клочья. В нее забираются все паломники. Последним влезает полковник Кассад и втаскивает умирающего. В палатке хоть можно разговаривать — если удается перекричать хлопанье фибропластовой парусины и треск молний, подобный звуку раздираемой бумаги.
— Умер? — Консул откидывает полу плаща, в который Кассад завернул голого Хойта. Крестоформ розово светится.
Полковник показывает на медпакет военного образца, прикрепленный к груди священника. Все индикаторы красные — только глазок, контролирующий узелки и волокна системы жизнеобеспечения, мигает желтым. Голова Хойта запрокидывается, и Вайнтрауб замечает похожий на гусеницу свежий шов, соединяющий рваные края рассеченного горла. Он пытается нащупать пульс, но безуспешно. Тогда Вайнтрауб склоняется над священником и прикладывает ухо к его груди. Сердце не бьется, зато крестоформ обжигает его щеку. Сол поднимает глаза на Ламию:
— Шрайк?
— Да… мне так кажется… не знаю даже. — Она взмахивает пистолетом. — Я выпустила всю обойму… Двенадцать пуль, и не знаю, в кого.
— А вы видели? — спрашивает Консул Кассада.
— Нет. Я вошел туда через десять секунд после Брон, но ничего не заметил.
— Ну а хреноскопы вашего превосходительства? — вопрошает Мартин Силен. Его затиснули в дальний угол палатки, где он и сидит, скорчившись, как эмбрион во чреве. — Разве все это тактическое дерьмо ничего не уловило?
— Нет.
Из медпакета раздается тревожный зуммер; Кассад достает еще один плазмопатрон, вставляет в гнездо пакета и, опустив забрало, чтобы лучше видеть в песчаной буре, вновь устраивается на корточках перед выходом. Сквозь шлемофон его голос неузнаваем:
— Он потерял больше крови, чем можно компенсировать в наших условиях. У кого еще есть аптечка первой помощи?
Вайнтрауб роется в своем мешке.
— У меня с собой стандартный набор. Но его недостаточно. Горло перерезано со знанием дела.
— Шрайк, — шепчет Мартин Силен.
— Не важно. — Ламия обхватывает руками колени, чтобы унять дрожь. — Мы должны ему помочь! — Она смотрит на Консула.
— Он мертв, — констатирует Консул. — Даже бортовая операционная не вернет его к жизни.
— Но мы должны попытаться! — кричит Ламия, схватив Консула за рубашку. — Мы не можем отдать его этим… исчадиям! — Она указывает на розовый крестоформ, светящийся под кожей мертвеца.
Консул трет глаза.
— Можно уничтожить тело. Винтовка полковника…
— Мы все сдохнем тут, если не выберемся из этой бури, мать вашу! — вопит Силен. Палатка ходит ходуном, при каждом порыве ветра парусиновый полог хлещет поэта по затылку и спине. Песок бьется о ткань, завывая, как стартующая ракета. — Вызывайте ваш проклятый корабль! Вызывайте!
Консул прижимает к себе рюкзак, словно защищая лежащий в нем комлог. Его щеки и лоб блестят от пота.
— Мы могли бы переждать бурю в какой-нибудь Гробнице, — предлагает Сол Вайнтрауб. — Например, в Сфинксе.
— Идите вы знаете куда? — рычит Мартин Силен.
Ученый, еле ворочаясь в тесной палатке, поднимает глаза на поэта.
— Вы проделали весь этот путь, чтобы найти Шрайка. А теперь, когда он, по-видимому, появился, передумали?
Силен злобно сверкает глазами из-под надвинутого на лоб берета.
— Скажу вам одно — я хочу, чтобы этот сраный корабль был здесь и не-мед-лен-но!
— Неплохая мысль, — замечает вдруг полковник Кассад.
Консул переводит взгляд на него.
— Если есть шанс спасти Хойта, нам следовало бы им воспользоваться.
— Нам нельзя покидать долину, — страдальчески морща лоб, говорит Консул. — Пока нельзя.
— Да, — соглашается Кассад. — Мы и не собираемся сбегать на корабле. Но его операционная могла бы спасти Хойта, а мы укрылись бы в нем от бури.
— И, может быть, выяснили бы, как дела вон там. — Ламия Брон тычет большим пальцем вверх.
Ребенок внезапно заливается пронзительным плачем. Вайнтрауб укачивает Рахиль, придерживая крохотную головенку.
— Согласен, — тихо произносит он. — Если Шрайк захочет найти нас, он с тем же успехом придет за нами на корабль. Мы проследим, чтобы никто не дезертировал. — Он касается груди Хойта. — Как это ни ужасно, но при операции можно получить бесценную информацию о том, как функционирует этот паразит.
— Хорошо, — помолчав, соглашается Консул, достает из рюкзака свой старинный комлог, кладет руку на дискоключ и шепотом произносит несколько фраз.
— Ну что, прилетит? — нетерпеливо спрашивает Мартин Силен.
— Он подтвердил прием команды. Надо сложить снаряжение в одну кучу. Я велел ему совершить посадку прямо у входа в долину.
Ламия с удивлением обнаруживает, что из глаз у нее льются слезы. Она вытирает щеки и улыбается.
— Что вас так рассмешило? — спрашивает Консул.
— Такой ужас творится, — отвечает она, растирая щеку ладонью, — а у меня одна мысль: какое чудо — принять душ!
— И пропустить рюмочку, — подхватывает Силен.
— Укрыться от бури, — тихо вторит ему Вайнтрауб. Ребенок, жадно чмокая, глотает молоко из детского синтезатора.
Кассад высовывается из палатки и вскидывает винтовку, одним движением сняв ее с предохранителя.
— Сенсоры, — говорит он. — За этой дюной что-то шевелится. — Он оборачивается к остальным, и в опущенном забрале отражаются бледные, жмущиеся друг к другу паломники и окровавленное тело Ленара Хойта.
— Пойду выясню, что там такое, — говорит он. — Ждите здесь до прибытия корабля.
— Не уходите, — протестует Силен. — Это как в тех долбаных старинных фильмах ужасов, где все уходят по одному, и поминай как звали… Эй! — Поэт умолкает. В треугольный вход палатки врываются свет и грохот.
Федман Кассад исчез.
Палатка начинает оседать, стойки и проволочные растяжки прогибаются, поддаваясь напору текучего песка. Прижавшись друг к другу, Консул и Ламия заворачивают тело отца Хойта в плащ. Лампочки медпакета продолжают мигать красным. Кровь из шва больше не сочится.
Сол Вайнтрауб укладывает свою четырехдневную Рахиль в переносную люльку, тщательно укрывает плащом, подтыкая его со всех сторон, и садится на корточки у входа.
— Никаких следов! — кричит он. В ту же секунду прямо на его глазах молния ударяет в поднятое крыло Сфинкса.
Ламия пробирается к выходу с неожиданно легким телом священника.
— Давайте перенесем отца Хойта на корабль в операционную! Потом кто-нибудь вернется за Кассадом.
Консул надвигает треуголку и поднимает воротник:
— На корабле есть мощный радар и другие средства обнаружения движущихся объектов. С их помощью мы узнаем, куда делся полковник.
— И Шрайк, — желчно добавляет Силен. — О хозяине забывать неэтично.
— Пошли.
Ламия встает, но ей тут же приходится согнуться в три погибели. Плащ Хойта хлопает крыльями и бьется вокруг Ламии, ее собственная накидка струится по ветру за спиной. Разыскав благодаря непрестанным вспышкам молний тропу, она берет курс на вход в долину, временами оглядываясь, не потерялись ли остальные.
Мартин Силен отходит на шаг от палатки, берется за принадлежавший Хету Мастину куб Мебиуса, и тут его пурпурный берет улетает, подхваченный ветром. Застыв на месте, поэт сыплет проклятиями, останавливаясь лишь для того, чтобы выплюнуть песок изо рта.
— Идемте! — кричит Вайнтрауб, ухватив поэта за плечо. Песчинки жгут Солу лицо, забиваются в бороду, но вместо того, чтобы заслониться рукой от ветра, он прикрывает ею грудь. — Мы рискуем потерять Ламию из виду, надо спешить!
Поддерживая друг друга, они борются со встречным ветром. По меховой шубе Силена бежит штормовая рябь. Поэт делает крюк, чтобы подобрать свой берет, скатившийся с дюны.
Консул оставляет палатку последним. У него два рюкзака на спине — свой и Кассада. Стоит ему покинуть это хрупкое укрытие, как стойки подламываются, ткань рвется, и палатка возносится в ночь, окруженная нимбом из электрических разрядов.
Спотыкаясь, Консул проходит метров триста, временами замечая впереди силуэты Сола и поэта. То и дело тропа теряется — тогда приходится описывать круги, пока не обозначится снова утоптанная полоска земли. Вспышки молний следуют одна за другой, и в их ослепительном свете Гробницы Времени видны как днем. Консул смотрит на Сфинкса, окутанного разрядами, различает позади него люминесцирующие стены Нефритовой Гробницы, а еще дальше Обелиск — он почему-то не светится и кажется вертикальным черным проемом на фоне стен ущелья. Тут же высится Хрустальный Монолит. Кассада не видно, хотя в песчаных вихрях, озаряемых синими отблесками, всюду чудятся какие-то силуэты и тени.
Консул задирает голову, видит широкий вход в долину и низко бегущие облака над ним. Где же голубой шлейф от спускающегося корабля? Буря, конечно, ужасная, но его посудина совершала посадки и в худших условиях. Он надеется, что корабль уже сел и остальные ждут его у трапа.
Но, добравшись наконец до скалистых стен у входа в долину, он видит четверку паломников, сбившихся в кучку на краю широкой плоской равнины, и только. Корабля нет. Буря обрушивается на него с удесятеренной силой.
— Он уже должен быть здесь, верно? — кричит Ламия, когда Консул приближается к своим спутникам.
Он утвердительно кивает и садится на корточки, чтобы достать из рюкзака комлог. Вайнтрауб и Силен, пригнувшись, встают позади него, пытаясь хоть как-то заслонить от ветра. Достав комлог, Консул оглядывается. Впечатление такое, будто все они попали в обезумевшую комнату, чьи стены преображаются каждый миг — надвигаются на людей со всех сторон и тут же разъезжаются, потолок взмывает вверх, как в сцене из «Щелкунчика», когда зала с рождественской елкой вдруг начинает расти на глазах у изумленной Клары.
Консул накрывает ладонью дискоключ и наклоняется к квадратику микрофона. Старинный прибор шепчет ему что-то, неразличимое за скрежетом песка.
— Кораблю не разрешили взлететь, — произносит, выпрямляясь, Консул.
— Что значит «не разрешили»? — спрашивает Ламия, когда затихает взрыв гнева и разочарования.
Консул пожимает плечами и смотрит в небо, как будто все еще ждет появления голубого огненного хвоста.
— Его не выпустили с космодрома в Китсе.
— А вы разве не говорили, что у вас разрешение от ее блядской светлости? — кричит Мартин Силен. — От самой старухи Гладстон?
— Разрешение Гладстон было введено в память корабля, — отвечает Консул. — О нем знали и ВКС, и администрация космопорта.
— Тогда какого черта? — Ламия вытирает лицо. Слезы прорезали на ее оштукатуренных песком щеках узкие грязные бороздки.
Консул пожимает плечами.
— Гладстон и отменила свое разрешение. Тут есть послание от нее. Хотите услышать?
С минуту никто не отвечает. После недельного странствия мысль о контакте с кем-то за пределами их группы кажется настолько нелепой, что не укладывается в голове; мира вне Гипериона и паломничества к Шрайку для них не существует, а тот, который есть, напоминает о себе лишь взрывами в ночном небе.
— Да, — еле слышно произносит Сол Вайнтрауб. — Давайте послушаем.
Буря решила устроить минутную передышку, и его тихий голос звучит сейчас с пугающей отчетливостью.
Они сбиваются в кучку, усевшись кружком на корточки перед старинным комлогом и положив посередине отца Хойта. Стоило на миг оставить умирающего без внимания, как его засыпало песком. Теперь все индикаторы светятся красным, за исключением янтарных лампочек мониторов экстремальной терапии. Ламия меняет плазмопатрон на свежий и удостоверяется, что осмотическая маска надежно облегает рот и нос Хойта, всасывая из воздуха чистый кислород и отфильтровывая песок.
— Все в порядке, — говорит она, и Консул нажимает на дискоключ.
Послание Гладстон — это пучковая мультиграмма, полученная и записанная кораблем всего лишь десять минут назад. В воздухе мельтешат колонки цифр. Из круглых зернышек, характерных для комлогов времен Хиджры, складывается изображение Гладстон. Оно дрожит, лицо причудливо, а порой карикатурно кривится, сквозь него проносятся мириады песчинок. Буря беснуется с новой силой, и знаменитый голос едва слышен в бешеном реве ветра.
— Мне очень жаль, — властно заявляет секретарь Сената, — но в данный момент я не могу допустить ваш звездолет к Гробницам. Искушение улететь было бы слишком велико, в то время как забота об исполнении вашей миссии должна возобладать над всем остальным. Поймите, судьбы целых миров, возможно, зависят от вас. Верьте, я с вами всеми надеждами и молитвами. Гладстон, конец связи.
Изображение сворачивается и исчезает. Консул, Вайнтрауб и Ламия потерянно глядят перед собой, а Мартин Силен вскакивает и швыряет горсть песка туда, где только что было лицо Гладстон:
— Блядво поганое, сраная политиканша, дура набитая, говна кусок, хер в юбке, сука! — Он пинает песок, вскрикивая, как умалишенный. Остальные молча смотрят на него.
— Да, вы действительно отвели душу, — негромко произносит наконец Ламия Брон.
Силен, взмахнув руками, удаляется, расшвыривая ногами песок и бормоча что-то себе под нос.
— Это все? — Вайнтрауб смотрит на Консула.
— Да.
Ламия хмуро взирает на комлог, скрестив руки на груди.
— Я позабыла ваш рассказ об этой штуке. Как вам удалось пробиться сквозь помехи?
— По узконаправленному лучу через спутник-ретранслятор, который я оставил на орбите, когда мы улетали с «Иггдрасиля», — отвечает Консул.
Ламия понимающе кивает.
— Значит, когда вы выходили на связь, то просто посылали короткие указания кораблю, а уж он отправлял мультиграммы Гладстон… и вашим знакомым Бродягам.
— Да.
— Скажите, а корабль может взлететь без разрешения? — глядя перед собой, отрешенно спрашивает Вайнтрауб. Старый ученый сидит, обхватив руками колени, в классической позе крайней усталости. — Просто проигнорировать запрет Гладстон?
— Нет, — отвечает Консул. — Когда Гладстон наложила вето, военные поставили над шахтой с нашим кораблем силовой экран третьей степени.
— Так свяжитесь с нею! — горячо произносит Ламия Брон. — Объясните ей наше положение.
— Я пытался. — Подержав комлог в руках, Консул рассеянно укладывает его обратно в рюкзак. — Никакой реакции. Еще в первой мультиграмме я упомянул, что отец Хойт тяжело ранен и нуждается в помощи. Я хотел заранее подготовить бортовую операционную.
— Ранен! — вскрикивает Мартин Силен, возвращаясь большими шагами к кучке своих спутников. — Херня. Наш друг падре мертв, как Гленнон-Хайтов кобель. — Он тычет пальцем в завернутое в плащ тело; все индикаторы светятся красным.
Ламия Брон, наклонившись, касается щеки Хойта. Холодная. Биомонитор его комлога и медпак пронзительно пищат, предупреждая о гибели мозговых клеток. Осмотическая маска продолжает снабжать Хойта чистым кислородом, а стимуляторы медпака заставляют работать легкие и сердце, но писк переходит в визг, а затем в монотонный, душераздирающий вопль.
— Он потерял слишком много крови. — Сол Вайнтрауб касается лица мертвого священника и, закрыв глаза, склоняет голову.
— Бесподобно! — смеется Силен. — Усраться можно! Если верить его собственному рассказу, Хойт сначала разложится, а потом сложится, благодаря этой мудацкой погремушке — нет, целым двум! Выходит, у этого парня двойная страховка, и он восстанет из мертвых в виде дебильного варианта тени папаши Гамлета. Чудненько! И что же нам тогда делать?
— Заткнись, — устало роняет Ламия, заворачивая тело Хойта в брезент.
— Сама заткнись! — вопит Силен. — Здесь и так рыщет одно чудовище. Старина Грендель где-то точит свои когти к следующей трапезе, а вы хотите, чтобы к нашей веселой компании присоединился зомби Хойта? Помните, что он говорил о бикура? Крестоформы воскрешали их раз за разом, век за веком, и беседовать с ними было все равно что с амбулаторной губкой. Вы действительно хотите путешествовать вместе с трупом Хойта?
— С двумя, — негромко уточняет Консул.
— Что? — Мартин Силен резко поворачивается и, потеряв равновесие, бухается на колени рядом с мертвым телом, чуть не свалив старого ученого. — Что вы сказали?
— У него два, — поясняет Консул. — Его собственный и отца Поля Дюре. Если история про бикура не выдумана, значит, оба они будут воскрешены…
— О Господи! — сипло восклицает Силен и оседает на песок.
Ламия уже завернула тело священника в брезент и смотрит на Консула.
— Я помню рассказ отца Дюре об Альфе. Но все равно не понимаю, как это возможно — обойти закон сохранения массы.
— Значит, нас ждет встреча с двумя карликовыми зомби, — бормочет Мартин Силен, еще плотнее кутается в свою шубу и ударяет кулаком по песку.
— Сколько мы могли бы узнать, если бы прибыл корабль, — с сожалением произносит Консул. — Автодиагностика… — Вдруг он замолкает и оглядывается вокруг. — Послушайте-ка! Песка в воздухе почти нет. Может, буря стиха…
Вспыхивает исполинская молния, и начинается дождь. Ледяные дробинки жгут и язвят лица людей еще беспощаднее, чем песок.
Мартин Силен разражается истерическим смехом.
— Вот треклятая пустыня! — кричит он в небо. — Суждено нам всем утопнуть!
— Надо выбираться, — решительно произносит Сол Вайнтрауб. Между пуговицами его плаща виднеется лицо ребенка. Рахиль заходится от крика, крошечное личико побагровело и кривится от натуги.
— Башня Хроноса? — предлагает Ламия. — Часа два…
— Слишком далеко, — хмурится Консул. — Давайте расположимся в какой-нибудь Гробнице.
Силен снова хихикает и начинает декламировать:
Какие боги ждут кровавой мзды? К какому алтарю ведут телицу, Которая торжественной узды И ласковой руки жреца дичится?— Это, по-видимому, означает «да»? — спрашивает Ламия у поэта.
— Это означает «почему бы и нет, твою мать», — хихикает Силен. — Зачем играть в прятки с нашей музой? Давайте от нечего делать понаблюдаем, как будет разлагаться наш друг! Что там Дюре написал, сколько потребовалось погибшему бикура, чтобы вновь вернуться в стадо после того, как смерть отвлекла его от травощипания?
— Три дня, — спокойно отвечает Консул.
Мартин Силен хлопает себя по лбу.
— Конечно! Как мог я забыть? И все чудесно сходится, прямо Новый Завет. А тем временем наш волк Шрайк успеет утащить еще нескольких овечек. Как полагаете, падре не обидится, если я позаимствую один из его крестиков, так, на всякий случай? У него один лишний…
— Пойдемте, — встряхивает головой Консул. Дождь широким ручьем льется с его треуголки. — До утра пересидим в Сфинксе. Я понесу снаряжение Кассада и куб Мебиуса. А вы, Ламия, — вещи Хойта и рюкзак Сола. Сол, ваше дело — держать ребенка в тепле.
— А падре? — спрашивает поэт, тыча пальцем в тело священника.
— Отца Хойта понесете вы. — Ламия, поворачивается к поэту.
Мартин Силен открывает было рот, но заметив в ее руке пистолет, пожимает плечами и нагибается, чтобы взвалить мертвеца на плечи.
— А кто, интересно, потащит Кассада, когда мы его найдем? — едко вопрошает поэт. — Конечно, он может оказаться расфасованным на столько кусков, что всем хватит…
— Пожалуйста, заткнитесь, — устало обрывает его Брон. — Если придется вас пристрелить, у нас будет лишний груз. Шагайте себе.
Консул идет впереди, Вайнтрауб с новорожденной под плащом почти наступает ему на пятки, Мартин Силен бредет за ними, отставая на несколько метров, Ламия Брон замыкает шествие — паломники снова спускаются в долину Гробниц.
Глава 9
В это утро график секретаря Сената Гладстон был чрезвычайно напряженным. На ТК-Центре сутки длятся двадцать три часа, что позволяет правительству работать по стандартному времени Гегемонии, не нарушая местных суточных ритмов. В 05:45 Гладстон встречалась со своими военными советниками. В 06:30 позавтракала в компании двух десятков наиболее влиятельных сенаторов, а также представителей Альтинга и Техно-Центра. В 07:15 глава правительства Сети отправилась на Возрождение-Вектор, где уже наступил вечер, чтобы участвовать в церемонии открытия медицинского центра «Гермес» в Кадуа. В 07:40 она перенеслась обратно в Дом Правительства, чтобы со своими ближайшими помощниками, включая Ли Хента, откорректировать речь, которую собиралась произнести перед Сенатом и Альтингом в 10:00. В 08:30 Гладстон вновь приняла генерала Морпурго и адмирала Сингха, дабы обсудить с ними последние новости из системы Гипериона. В 08:45 она встретилась со мной.
— Доброе утро, господин Северн. — Секретарь Сената сидела за своим столом в кабинете, где я впервые увидел ее три ночи назад. Взмахом руки она указала на открытый шкафчик у стены с горячим кофе, чаем и кофеиром в чашках из чистого серебра.
Я отрицательно покачал головой и сел. В трех голографических окнах виднелось чистое небо, но четвертое, слева от меня, представляло собой трехмерную карту системы Гипериона — ту самую, что я пытался расшифровать в Военном Кабинете. Мне показалось, что алые метки Бродяг расползлись повсюду, словно прожилки красителя в сосуде с жидкостью, замутняя и поглощая аквамариновую синеву Гегемонии.
— Я хочу знать, что вам приснилось, — сказала Гладстон.
— А я — почему вы бросили их на произвол судьбы. — В тоне моем звучала неприязнь. — Почему оставили отца Хойта умирать.
За сорок восемь лет пребывания в Сенате и полтора десятилетия на посту секретаря Сената Гладстон наверняка отвыкла от подобных отповедей, и все же в ответ на мою резкость она всего лишь приподняла бровь.
— Значит, вам снятся подлинные события.
— А вы сомневались?
Она положила на стол электронный блокнот, выключила его и отрицательно покачала головой:
— Нет, не сомневалась, просто странно услышать нечто такое, о чем никто в Сети не имеет понятия.
— Так почему все-таки вы не позволили воспользоваться кораблем Консула?
Мейна Гладстон сделала пол-оборота на своем кресле, чтобы взглянуть на тактический дисплей — по мере поступления новых данных красные ручьи меняли русло, голубые отползали, а планеты и луны катились по своим орбитам. Если она и намеревалась сослаться на ход боевых действий, то тут же передумала. И вновь повернулась ко мне:
— А почему, собственно, я должна объяснять вам свои поступки, господин Северн? Кто ваши избиратели? Кого вы представляете?
— Я представляю этих пятерых и младенца, которых вы бросили в беде, — сказал я. — Хойта можно было спасти.
Гладстон потеребила нижнюю губу.
— Может быть, — согласилась она. — А может, он уже кончался. Но суть не в этом, верно?
Я откинулся на спинку стула. Мне не пришло в голову захватить с собой альбом, и теперь мои пальцы просто горели от желания чем-то заняться.
— А в чем?
— Помните рассказ отца Хойта… историю, поведанную им во время путешествия к Гробницам? — спросила Гладстон.
— Да, конечно.
— Каждому из паломников разрешено обратиться к Шрайку с одной просьбой. Легенда гласит, что это существо выполняет одно желание, отказывая в выполнении всех остальных и убивая тех, кому отказано. Помните, какое желание было у Хойта?
Я задумался. Вспоминать прошлое паломников — все равно что пытаться восстановить подробности снов недельной давности.
— Кажется, он хотел избавиться от крестоформа, — сказал я. — Хотел освободить отца Дюре… его душу, ДНТС — все равно как это назвать, — и хотел освободиться сам.
— Не совсем так, — возразила Гладстон. — Отец Хойт хотел умереть.
Я вскочил, чуть не опрокинув стул, на котором сидел, и решительно направился к пульсирующей карте.
— Бред сивой кобылы, — отрезал я. — Даже если он этого и хотел, другие были обязаны его спасти… И вы тоже. А вы позволили ему умереть!
— Да.
— И точно так же позволите умереть остальным?
— Не обязательно, — заметила Мейна Гладстон. — Это дело их воли и воли Шрайка, если он действительно существует. Я знаю одно — слишком велика роль их паломничества, чтобы предоставлять им средство для отступления в момент, когда предстоит принять решение.
— И кто же примет решение? Они? Как могут поступки шести или семи человек и младенца повлиять на судьбу государства со ста пятьюдесятью миллиардами жителей?
Конечно, я знал ответ на этот вопрос. Консультативный Совет ИскИнов и работавшие на этот раз вместе с ним не столь проницательные прогнозисты Гегемонии очень тщательно подбирали паломников. Но по какому признаку? Непредсказуемость — вот доминанта личности каждого из них. Каждый был шифрованной записью под стать абсолютному в своей загадочности уравнению Гипериона. Знала ли об этом Гладстон? Или она знала только то, что ей сообщали Альбедо и ее собственные шпионы? Я вздохнул и вернулся на свое место.
— Вы узнали из сна о судьбе полковника Кассада? — спросила секретарь Сената.
— Нет. Я проснулся, когда они отправились к Сфинксу, чтобы спрятаться от ливня.
Гладстон слегка улыбнулась.
— Вы понимаете, господин Северн, что нам было бы удобнее держать вас под наркозом с помощью того же правдосказа, который использовала ваша подруга Филомель, подключив субвокализаторы. Тогда мы получали бы более регулярные и обстоятельные сообщения о происходящем на Гиперионе.
Я ответил улыбкой на улыбку.
— Да, это было бы удобнее. Но если бы я бросил тело и ускользнул через инфосферу в Техно-Центр, вы оказались бы в самом неудобном положении. А именно это я сделаю, если снова подвергнусь нажиму.
— Конечно, — согласилась Гладстон. — В подобных обстоятельствах я поступила бы точно так же. Расскажите мне, господин Северн, что испытывают живущие в Техно-Центре? В том далеком месте, где находится ваше подлинное сознание?
— Жизнь кипит, — ответил я. — Это все, для чего вы меня сегодня вызывали?
Гладстон снова улыбнулась, и в ее улыбке были естественность и теплота, столь непохожие на продуманную любезность официальных улыбок, которыми в совершенстве владела секретарь Сената.
— Нет, — сказала она. — У меня было на уме еще кое-что. Хотели бы вы отправиться на Гиперион? На настоящий Гиперион?
— Настоящий Гиперион? — повторил я с дурацким видом.
Пальцы заныли от странного возбуждения. Конечно, моему подлинному сознанию никто не мешал пребывать в Техно-Центре, но тело и мозг у меня слишком человеческие, слишком чувствительные к адреналину и другим своенравным химикалиям.
Гладстон кивнула.
— Туда рвутся миллионы людей. Им хочется сменить наконец обстановку. Увидеть войну вблизи. Идиоты. — Она со вздохом пододвинула к себе рабочий блокнот и подняла глаза — взгляд ее был серьезен. — Но я хочу, чтобы кто-нибудь съездил туда и отчитался обо всем передо мной лично. Сегодня утром Ли собирается опробовать новый военно-транспортный портал, и мне подумалось, что вы могли бы составить ему компанию. Вряд ли вы успеете посетить сам Гиперион, но в системе побываете.
На языке у меня вертелось несколько вопросов, но, к моему стыду, первой моей реакцией была фраза:
— Это опасно?
Ни выражение лица Гладстон, ни ее серьезный, дружеский тон не изменились:
— Возможно. Хотя вы будете в тылу, а Ли получил четкие указания не подвергать себя или вас явным опасностям. «Явные опасности, — подумал я. — Но сколько неявных опасностей в зоне военных действий вблизи планеты, по которой разгуливает не кто-нибудь, а сам Шрайк?»
— Да, — быстро произнес я. — Согласен. Но есть один непонятный для меня момент. Почему вы решили послать на Гиперион именно меня? Если из-за моих связей с паломниками, то, мне кажется, эта командировка — ненужный риск.
Гладстон кивнула.
— Господин Северн, связь с паломниками, несмотря на всю ее, скажем так, непрочность, несомненно нужна мне. Но верно и то, что ваши наблюдения и мнение ценны для меня ничуть не меньше.
— Но для вас я — белое пятно. Мало ли кому я поставляю информацию — сознательно или каким-то иным образом. Я — выкормыш Техно-Центра.
— Это так, — согласилась Гладстон, — но в то же время вы, вероятно, самая независимая личность на ТКЦ, а может, и во всей Сети. Кроме того, ваши наблюдения — это наблюдения зрелого поэта, перед чьим гением я преклоняюсь.
Я расхохотался.
— Это «он» был гением. А я лишь его тень. Трутень. Карикатура.
— Вы в этом уверены? — спросила Мейна Гладстон.
Я продемонстрировал ей пустые ладони.
— Уже десять месяцев я вновь мыслю и чувствую, живу этой странной жизнью после жизни — и ни строчки стихов. Как отрезало. Я не думаю стихами. Разве это не доказывает, что весь воскресительный проект Техно-Центра — туфта? Даже мое фальшивое имя — насмешка над памятью человека, чей талант мне и не снился… Джозеф Северн был лишь тенью настоящего Китса, а я позорю даже это имя, живя под ним.
— Может быть, вы и правы, — негромко сказала Гладстон. — А может быть, и нет. Как бы то ни было, я прошу вас отправиться с господином Хентом в краткую командировку на Гиперион. — Она задумалась. — Вы вовсе не обязаны исполнять мои просьбы, поскольку не являетесь гражданином Гегемонии. Но я была бы благодарна вам за согласие.
— Я согласен, — повторил я, слыша свой голос как бы издалека.
— Вот и отлично. Вам понадобится теплая одежда. Не надевайте ничего, что могло бы свалиться с вас или поставить в затруднительное положение в невесомости, хотя маловероятно, что вы с ней столкнетесь. С господином Хентом встретитесь в терминексе Дома Правительства через… — она взглянула на свой комлог, — …двенадцать минут.
Я кивнул и повернулся, чтобы уйти.
— Да, еще…
Я задержался у двери. Старая женщина, сидевшая за столом, внезапно показалась мне какой-то маленькой и измученной.
— Спасибо вам, господин Северн, — сказала она.
В прифронтовую зону действительно рвались миллионы. Альтинг гудел от петиций, списков преимуществ, которые принесет допуск гражданских лиц на Гиперион по нуль-Т, просьб туристических фирм, желающих организовать краткие экскурсии, и требований местных политиков и чиновников Гегемонии, стремящихся непосредственно ознакомиться с обстановкой. Все эти просьбы отклонялись. Граждане Сети — особенно те, что обладали властью и влиянием, — не привыкли, чтобы им отказывали в доступе к новым ощущениям, а тотальная война оставалась для Гегемонии одним из немногих, еще неизведанных ощущений.
Но правительство и командование ВКС были неумолимы: никаких переносов в систему Гипериона для гражданских лиц, а также лиц, не получивших соответствующего разрешения, никаких бесцензурных сообщений в прессе. В век, когда практически не существует недоступной информации, век тотальной свободы передвижения, этот бесперецедентный запрет лишь бесил и распалял воображение.
Я встретился с Хентом на правительственном терминексе, предварительно продемонстрировав свой пропуск на десятке контрольных постов. Хент был облачен в черный шерстяной китель без всяких знаков различий, но скроенный на манер мундиров ВКС, которые встречались в этой части Дома Правительства на каждом шагу. Мне было некогда переодеваться. Я заскочил в свои апартаменты, только чтобы схватить мешковатый жилет со множеством карманов для рисовальных принадлежностей и 35-миллиметровый имиджер.
— Готовы? — спросил Хент. Его лицо, похожее на морду бассет-хаунда, не выражало особого удовольствия. В руке он держал простой черный саквояж.
Я кивнул.
Хент сделал знак технику ВКС, и перед нами возник трепещущий одноразовый портал. Я знал, что он настроен по образцам наших ДНК и не пропустит никого, кроме нас. Хент, набрав в грудь воздуха, шагнул в портал. Ртутная поверхность на миг подернулась рябью, как ручей при слабом порыве ветра. Немного помедлив, я последовал за Хентом.
Говорят, что первые образцы нуль-Т не вызывали у пользователей никаких ощущений, и тогда конструкторы — ИскИны и люди — вмонтировали в них устройства, создающие легкое покалывание по всему телу и озонную щекотку в ноздрях и на языке, чтобы путешественник мог и впрямь ощутить себя путешественником. Не знаю, так это или нет, но когда, перешагнув порог портала, я остановился и огляделся по сторонам, руки у меня еще чесались.
Странно, но боевые космические корабли появились на страницах романов и киноэкранах (а потом в голоискусстве и фантопликаторах) более восьмисот лет назад, в дни, когда человечество покидало Старую Землю лишь на примитивных ракетах — фактически модернизированных самолетах. А может быть, еще раньше. Но в тех двухмерных фильмах уже изображались космические битвы, огромные межзвездные дредноуты с невероятным вооружением, несущиеся сквозь пространство подобно городам, заключенным в обтекаемый корпус. Даже в недавних голопьесах, появившихся в изобилии после Брешии, мы видели гигантские флотилии, ведущие бои на расстояниях, которые вызвали бы у пехотинца приступ клаустрофобии, корабли, таранящие друг друга и пылающие, как греческие триремы, сгрудившиеся у мыса Артемисий.[46]
Неудивительно, что сердце мое часто билось, а ладони вспотели, когда я ступил на борт флагмана эскадры. Я ожидал, что окажусь на просторном мостике военного корабля — таком, какие показывают в голопьесах: с гигантскими экранами, демонстрирующими вражеские корабли, ревом сирен и суровыми офицерами, которые склоняются над оперативно-командными дисплеями, не обращая внимания на качку.
Мы с Хентом стояли в узком коридоре, уместном разве что на электростанции. Повсюду виднелись хитросплетения разноцветных труб, и лишь торчащие там и сям поручни, а также расположенные через равные интервалы герметичные люки напоминали, что мы действительно на космическом корабле, а суперсовременные дископульты и фантастические интерактивные панели свидетельствовали, что коридор этот не просто связывает два помещения, а выполняет еще какую-то функцию. Однако преобладало впечатление гнетущей тесноты и технического застоя. Я даже удивился, что от приборов не идут самые настоящие провода. Невдалеке от нас коридор пересекала вертикальная шахта. Через люки виднелись другие проходы, узкие и загроможденные.
Взглянув на меня, Хент слегка пожал плечами. У меня появилось подозрение, что портал отправил нас не туда.
Не успел кто-либо из нас выразить свои сомнения вслух, как из бокового коридора вынырнул младший лейтенант в черном комбинезоне ВКС и отдал честь Хенту:
— Добро пожаловать на борт корабля Гегемонии «Гебриды», господа. Адмирал Насита уполномочил меня передать вам его приветствия и пригласить на командный пункт. Прошу следовать за мной. — С этими словами юный офицер повернулся кругом, схватился за перекладину и, подтянувшись, исчез в узкой вертикальной шахте.
Мы, как умели, последовали его примеру. Хент приложил все силы, чтобы не уронить саквояж, а я — чтобы Хент не отдавил мне пальцы. Преодолев всего несколько ярдов, я понял, что сила тяжести здесь гораздо меньше стандартной, да и вообще не оправдывает своего названия. Ощущение было такое, будто множество маленьких, но упрямых рук тянет меня вниз. Я знал, что для создания искусственной гравитации на космических кораблях используются силовые поля первой степени, но впервые испробовал их действие на собственной шкуре. Что и говорить, небольшое удовольствие; постоянное давление заставляло сутулиться, как от встречного ветра, внося свой вклад в чувство клаустрофобии от узких коридоров, маленьких люков и заполненных приборами переборок.
«Гебриды» принадлежали к классу «3К» — Коммуникации, Контроль, Командование, — и командный пункт был их сердцем и мозгом, но эти «сердце и мозг» выглядели не очень впечатляюще. Молодой лейтенант провел нас через три герметичных люка, затем по коридору мимо караула из морских пехотинцев, отдал напоследок честь и оставил нас в комнате площадью примерно двадцать квадратных ярдов, но настолько набитой людьми, приборами и шумами, что первым желанием попавшего туда было выскочить обратно, чтобы глотнуть свежего воздуха.
Гигантских экранов не было, но десятки офицеров гнули спины над загадочными дисплеями, сидели, опутанные щупальцами фантопликатеров, или стояли, озаренные огненным светом индикаторов, из которых, казалось, состояли все шесть переборок. Мужчины и женщины были привязаны ремнями к своим креслам и сенсорным пультам за исключением нескольких офицеров, больше похожих на нервных чиновников, чем на бравых вояк. Они бродили по узким проходам, похлопывая подчиненных по спинам, громко требуя дополнительной информации и подключаясь к консолям через гнезда собственных имплантов. Один из них, упитанный молодой капитан третьего ранга, подойдя, оглядел нас, отдал мне честь и почтительно произнес:
— Господин Хент?
Я кивнул на своего спутника.
— Господин Хент, — поспешно обернулся к нему капитан, — адмирал Насита сейчас примет вас.
Командующий всеми вооруженными силами Гегемонии в системе Гипериона оказался невысоким мужчиной с коротко стриженными седыми волосами, не по возрасту гладкой кожей и насупленными, будто вырубленными во лбу бровями. Адмирал был в черном мундире с высоким воротником безо всяких знаков различия, если не считать изображения красного карлика на воротнике. Руки у него были грубые, с толстыми пальцами, однако ногти недавно подверглись маникюру. Адмирал восседал на небольшом помосте среди приборов и немых демонстрационных панелей. Суматоха и деловитое безумие, казалось, обтекали его, как быстрый поток — равнодушную скалу.
— Вы посыльный от Гладстон, — констатировал он, обращаясь к Хенту. — А это кто?
— Мой помощник. — Хент был лаконичен.
Я с трудом удержался, чтобы не принять надменный вид.
— Чего вы хотите? — спросил Насита. — Как видите, мы заняты.
Ли Хент понимающе кивнул и огляделся вокруг.
— У меня есть для вас кое-какие материалы, адмирал. Мы можем поговорить без свидетелей?
Адмирал Насита хмыкнул, провел ладонью над реосенсом, и воздух за моей спиной уплотнился, преобразуясь в полужидкий туман по мере материализации силового поля. Шум штаба затих. Мы трое оказались на маленьком островке тишины.
— Поторопитесь, — буркнул адмирал.
Хент извлек из своего саквояжа небольшой конверт с символом Дома Правительства на задней стороне.
— Конфиденциальное послание от секретаря Сената, — сказал Хент. — Ознакомьтесь на досуге.
Насита с ворчанием отложил конверт в сторону. Хент выложил на стол конверт побольше.
— А это печатный экземпляр предложений Сената относительно методов ведения… э-э… боевых действий. Как вам известно, Сенат желает, чтобы это была быстрая демонстрация нашей силы для достижения ограниченных целей с наивозможно малыми потерями живой силы, после чего нашему новому… колониальному приобретению будет предложено заключить стандартное соглашение о дружбе и взаимопомощи.
Насупленные брови Наситы прямо-таки встали дыбом. Он даже пальцем не шевельнул, чтобы ознакомиться с волей Сената или хотя бы взять конверт в руки.
— Это все?
Сделав паузу, Хент сказал:
— Это все, адмирал, если только вы не хотите передать со мной какое-либо личное послание госпоже Гладстон.
Насита молча уставился на нас. В его маленьких черных глазах не было откровенной враждебности — только нетерпение, нетерпение, которое, как мне показалось, исчезнет лишь в миг, когда глаза подернутся дымкой смерти.
— Для связи с госпожой Гладстон у меня есть личный канал мультилинии, — ответил он. — Премного вам благодарен, господин Хент. А теперь окажите любезность — вернитесь на терминекс корабля и дайте мне возможность заняться моими «боевыми действиями».
Силовое поле исчезло, и шум обрушился на нас, как вода, прорвавшая ледяной затор.
— Есть еще одно дело, — сказал Ли Хент. Его негромкий голос терялся среди техногомона командного пункта. Адмирал Насита ждал, ерзая в кресле. — Мы хотели бы спуститься на планету. На Гиперион.
Брови адмирала свело судорогой.
— Люди Гладстон не упоминали о катере.
Хент и глазом не моргнул.
— Генерал-губернатор Лейн осведомлен о нашем прилете.
Насита покосился на одну из своих демонстрационных панелей, щелкнул пальцами и что-то рявкнул подскочившему майору морской пехоты.
— Вам придется поторопиться. — Адмирал перевел взгляд на Хента. — Как раз сейчас с двадцатой площадки отбывает курьер, идущий к главному «прыгуну». Майор Инвернесс проводит вас. «Гебриды» покинут этот район через двадцать три минуты.
Хент кивнул и последовал за майором. Я поспешил за ними. Адмирал окликнул нас.
— Господин Хент, — сказал он, — пожалуйста, передайте госпоже Гладстон, что, начиная с этого момента, флагманскому кораблю будет недосуг принимать визитеров. — И, не дожидаясь ответа, Насита отвернулся к мерцающим экранам и своим ординарцам.
Я нырнул вслед за Хентом и майором в лабиринт коридоров.
— Здесь должны быть иллюминаторы.
— Что? — Задумавшись, я не расслышал реплики Хента.
Ли Хент повернулся ко мне.
— Никогда раньше не видел катера без иллюминатора или видеоэкрана. Это странно.
Я кивнул и огляделся вокруг, впервые обратив внимание на тесноту корабля и его загроможденность. Действительно, все переборки были глухими. Куда ни глянь, всюду штабеля провианта. Кроме нас с Хентом, в пассажирском салоне, рассчитанном на полсотни человек, сидел всего один молоденький лейтенант. Это хорошо сочеталось с теснотой на штабном корабле.
Я отвел глаза, возвращаясь к мыслям, которые тревожили меня с момента расставания с Наситой. Шагая за своими двумя спутниками к двадцатой площадке, я внезапно обнаружил, что одно мое ожидание оказалось обманутым: я не чувствовал отсутствия того, что теоретически должно было здесь отсутствовать. Мои тревоги и опасения относительно этой поездки частично объяснялись необходимостью покинуть инфосферу; я был похож на рыбу, собирающуюся покинуть море. Часть моего сознания покоилась где-то в глубинах этого моря-океана данных и линий связи двухсот миров Техно-Центра, объединенных в одно целое невидимой средой, когда-то носившей название киберпространства, а теперь известной исключительно как мегасеть.
Когда мы расставались с Наситой, я вдруг осознал, что по-прежнему слышу гул этого ни на что не похожего моря — отдаленный, но постоянный, как шум прибоя в полумиле от берега. Мы бежали к катеру, пристегивались, стартовали, мчались по окололунной трассе, тормозили перед входом в атмосферу Гипериона, а я все размышлял и размышлял над этим парадоксом.
Военно-космические силы гордились собственными искусственными интеллектами, автономными инфосферами и вычислительными центрами, ссылаясь при этом на необходимость действовать и принимать решения на огромных просторах Гегемонии, во тьме и тишине, что легли между звездами, за пределами информационной мегасети, но истинной причиной было неистовое стремление к независимости от Техно-Центра — эта многовековая мечта ВКС. Тем не менее, находясь на борту корабля ВКС в центре эскадры ВКС, далеко за рубежами Сети и Протекторатов, я оставался подключенным к уютному жужжанию информационных и энергетических потоков, которое сопровождало меня во всех уголках Сети. Здесь было над чем поразмыслить.
Вместе с нуль-Т в систему Гипериона были переброшены информационные мостики — не только корабль-«прыгун» и силовая сфера приемной решетки, парящая в точке L3 над Гиперионом, как новенькая луна, но и многие мили гигаканального волоконно-оптического кабеля, змеящегося сквозь стационарные порталы «прыгуна», микроволновые ретрансляторы, тупо снующие через них взад-вперед, передавая дальше записанные сообщения почти в реальном времени, покорные ИскИны штабного корабля, требующие — и получающие — новые линии связи с Олимпийской Офицерской Школой на Марсе и бог весть кем еще. Инфосфера просочилась в какую-то дырочку, по-видимому, втайне от машин ВКС, их операторов и союзников. ИскИны Техно-Центра в курсе происходящего в системе Гипериона. Если здесь моему телу будет угрожать гибель, я ускользну тем же путем — по пульсирующим линиям связи, которые ведут подобно тайным ходам за пределы Сети, за пределы жалкого киберпространства, подвластного человеческому восприятию, а затем по туннелям инфоканалов в сам Техно-Центр. Нет, не совсем в Центр, подумал я, ведь Техно-Центр вбирает в себя все, что есть в мире, как Великий океан включает в себя течения и широченные Гольфстримы, которые наивно считают себя самостоятельными морями.
— Полцарства за иллюминатор, — пробурчал Ли Хент.
— Да, — отозвался я. — Именно.
Катер взбрыкнул и затрясся мелкой дрожью. Мы вошли в верхние слои атмосферы. «Гиперион, — подумал я. — Шрайк». Толстая рубашка и жилет липли к телу. Слабый шорох снаружи свидетельствовал, что мы несемся по лазурным небесам со скоростью, в несколько раз превышающей звуковую.
Молодой лейтенант перегнулся к нам через проход.
— Первый спуск, джентльмены?
Хент кивнул.
Лейтенант, демонстрируя свою бывалость, жевал резинку.
— Вы — гражданские технари с «Гебрид»?
— Да, мы только что оттуда, — ответил Ли Хент.
— Так и думал, — улыбнулся лейтенант. — Ну а я вожу курьерскую почту на базу морской пехоты под Китсом. Уже пятый рейс.
Услышав имя столицы, я слегка вздрогнул. Гиперион возродился усилиями Печального Короля Билли и его колонии поэтов, художников и прочих неприкаянных гениев, бежавших со своего родного Асквита от угрозы вторжения Горация Гленнон-Хайта, которого так и не последовало. Один из паломников к Шрайку, Мартин Силен, почти два века назад посоветовал королю Билли дать столице это имя. Китс. Местные называли старую часть города Джектауном.
— Что за место, вы просто не поверите, — разоткровенничался лейтенант. — Какая-то старая задница, а не столица. Ни инфосферы, ни ТМП, ни нуль-Т, ни баров с фоноплексом — ни хрена нет. Неудивительно, что тучи этих долбаных туземцев стоят лагерем вокруг космопорта и прямо на проволоку лезут, чтобы выбраться отсюда.
— Они действительно атакуют космопорт? — спросил Хент.
— Нет. — Лейтенант чавкнул резинкой. — Но спят и видят, если вы понимаете, что я имею в виду. Вот почему 2-й батальон морской пехоты установил там заграждения, и мы блокировали дорогу в город. Эти простофили думают, что мы не сегодня-завтра включим порталы и выпустим их из чана с дерьмом, в который они сами же и залезли.
— Сами? — переспросил я.
Лейтенант пожал плечами:
— Ведь Бродяги на них не просто так набросились. Они что-то там натворили, а нас сюда прислали, чтоб мы таскали им устриц из огня.
— Каштаны, — поправил Ли Хент.
Резиновый пузырь громко лопнул.
— Устрицы, каштаны — один черт.
Шорох воздуха усилился до визга. Катер дважды дернулся, а затем плавно — зловеще плавно — заскользил, будто опустился на ледяную дорожку в десяти милях над поверхностью планеты.
— Полцарства за иллюминатор, — прошептал Ли Хент.
В аппарате было тепло и душно. Толчки странным образом успокаивали. Казалось, что мы находимся на борту небольшого парусника, то взлетающего, то плавно скользящего вниз по волнам. Я закрыл глаза.
Глава 10
Сол Вайнтрауб, Ламия Брон, Мартин Силен и Консул с рюкзаками за спиной, кубом Мебиуса и мертвым Ленаром Хойтом спускаются по пологому склону, направляясь ко входу в Сфинкс. Снег сыплет вовсю, снежинки вьются между дюнами, выкидывая замысловатые коленца. Комлоги уверяют, что утро близко, но на востоке ни проблеска зари. Несколько раз они пытались вызвать Кассада. Безуспешно.
Сол Вайнтрауб замешкался на пороге Сфинкса. Его дочурка — островок тепла за пазухой, горячее детское дыхание, щекочущее горло. Он касается теплого комочка и пытается вообразить Рахиль двадцатишестилетней женщиной, аспиранткой археологического факультета. Вот она на миг задержалась в этом же проеме, прежде чем войти и испытать на себе антиэнтропийные чудеса этой Гробницы. Сол качает головой. С того мига прошло двадцать шесть бесконечных лет и целая жизнь. Через четверо суток день рождения дочери. Если Сол ничего не придумает — не разыщет Шрайка, не заключит с этим чудовищем какую-нибудь сделку, что угодно — Рахиль исчезнет навсегда.
— Вы идете, Сол? — зовет Ламия Брон. Остальные уже сбросили с плеч свою ношу в ближайшей ко входу комнате, пройдя метров шесть по узкому коридору.
— Иду, — отзывается он и переступает порог. С потолка туннеля свисают люм-шары и электролампочки, давным-давно перегоревшие, закутанные в коконы пыли. Дорогу освещает только фонарик Сола да лампа Кассада, стоящая в комнате. «Передняя» Гробницы невелика: четыре метра в ширину, шесть — в длину. Спутники Сола свалили поклажу у дальней стены и расстелили посреди ледяного пола брезент и спальные мешки. Две лампы, шипя, испускают холодный свет. Сол останавливается и осматривается.
— Отец Хойт в соседней комнате, — отвечает Ламия на его невысказанный вопрос. — Там еще холоднее.
Сол пристраивается рядом с остальными. Даже сквозь толщу стен слышен дикий скрежет — песчаные и снежные вихри терзают камень.
— Консул хочет еще раз попытать счастья с комлогом, объяснить Гладстон, в каком мы положении, — говорит Ламия.
Мартин Силен смеется.
— Пытайся, не пытайся — ни хрена не выйдет. Она знает, что делает, и никогда нас отсюда не выпустит.
— Я свяжусь с ней сразу после рассвета. — От усталости голос Консула дребезжит, как у старика.
— А я постою на часах, — говорит Сол. Рахиль ворочается и начинает плакать. — Мне все равно надо кормить ребенка.
Остальные слишком устали, чтобы ответить. Ламия кладет голову на рюкзак, закрывает глаза, и через несколько секунд раздается ее негромкое посапывание. Консул надвигает на глаза треуголку. Мартин Силен, сложив руки на груди, пристально смотрит в дверной проем, словно ждет чего-то.
Сол Вайнтрауб возится с бутылочкой, его замерзшие, сведенные артритом пальцы никак не могут распутать тесемку нагревателя. Заглянув в свою сумку, он обнаруживает, что осталось всего десять молочных пакетов и тощая стопка пеленок.
Ребенок сосет молоко. Сол клюет носом, прогоняя одолевающую его дремоту, как вдруг странный звук заставляет всех встрепенуться.
— Что? — вскрикивает Ламия, хватаясь за отцовский пистолет.
— Ш-ш! — обрывает ее поэт, приложив палец к губам. Откуда-то снаружи доносится тот же звук. Сухой и властный, рассекающий гул ветра и скрежет песка.
— Винтовка Кассада, — произносит Ламия.
— Или еще чья-то, — шепчет Мартин Силен.
Они сидят неподвижно, обратившись в слух. Несколько долгих минут абсолютной тишины. Затем в мгновение ока ночь раскалывается от грохота — и все невольно припадают к полу, заткнув уши. Перепуганная Рахиль заливается пронзительным криком, но взрывы и громовые раскаты снаружи заглушают голос младенца.
Глава 11
Я проснулся в тот миг, когда катер коснулся грунта. «Гиперион», — подумал я то ли наяву, то ли во сне.
Молодой лейтенант, пожелав нам удачи, выскочил из корабля, едва раздвинулись лепестки дверей, и прохладный разреженный воздух ворвался в душный салон. Я вышел вслед за Хентом, спустился по стандартному трапу, миновал защитный экран и ступил на асфальт космодрома.
Была ночь. Я не имел ни малейшего понятия, который сейчас час по местному времени, прошел ли терминатор эту точку планеты или только приближается к ней, но по всему чувствовалось, что время позднее. Моросил мелкий дождь, пахнущий соленым морем и свежим дыханием влажной листвы. Цепочки огней обозначали далекие заграждения. Два десятка освещенных башен бросали отсветы на низкие облака. Семь юношей в полевой форме морских пехотинцев сноровисто разгружали катер. Я заметил нашего лейтенанта — он оживленно беседовал с каким-то офицером.
Небольшой космопорт словно сошел с картинки учебника истории — колониальный порт времен начала Хиджры. Примитивные пусковые шахты и посадочные площадки тянулись на милю с лишним в сторону темного горного массива на севере, портальные краны и башни обслуживания обступили два десятка военных катеров и мелких судов, а само летное поле окаймляли ряды сборных казарм, украшенных частоколом антенн и фиолетовыми силовыми полями. Передними выстроились десятки скиммеров и самолетов.
Проследив за взглядом Хента, я заметил движущийся в нашу сторону скиммер, его ходовые огни высвечивали сине-золотую геодезическую линию Гегемонии на одной из юбок. По обтекателям сползали дождевые струи и отлетали от винтов, точно обезумевшие бесцветные лоскуты шелка. Скиммер сел, перспексовый обтекатель распался на лепестки и сложился. Мужчина, выпрыгнувший из скиммера, поспешил в нашу сторону.
— Господин Хент? — произнес он, протягивая руку. — Я — Тео Лейн.
Хент ответил на рукопожатие:
— Рад познакомиться, господин генерал-губернатор. А это Джозеф Северн.
Я прикоснулся к руке Лейна, и меня бросило в жар — я узнал его. Тео Лейн был известен мне по воспоминаниям Консула о годах, когда этот молодой человек служил у него вице-консулом, а также по краткой встрече с ним неделю назад — он провожал паломников в плавание на «Бенаресе». За эти шесть дней лицо его постарело на годы. Но на лбу лежала непокорная мальчишеская прядь, неизменная, как архаичные очки у него на носу и краткое, но крепкое рукопожатие.
— Хорошо, что у вас нашлось время спуститься на планету, — генерал-губернатор обращался к Хенту. — Я должен проконсультироваться с госпожой Гладстон по нескольким вопросам.
— Ну, вот мы и здесь, — пробормотал Хент, морщась от уколов дождя. — Где тут можно обсохнуть?
Генерал-губернатор совершенно по-мальчишески улыбнулся:
— Космопорт — сумасшедший дом, даже в шестом часу утра. Консульство в осаде. Но я знаю, куда вас отвезти, — и он жестом пригласил нас в скиммер.
Когда мы взлетели, я заметил, что вровень с нами идут два скиммера морской пехоты, и все же меня удивило, что генерал-губернатор одного из миров Протектората — сам себе пилот и телохранитель. Потом я вспомнил рассказы Консула о деловых качествах Тео Лейна и его скромности — и понял, что такая непритязательность вполне в духе молодого дипломата.
В ту минуту, когда мы взлетели и взяли курс на город, взошло солнце. Стелющиеся к земле низкие облака словно обвели снизу огненным карандашом, горы на севере переливались зеленым, фиолетовым и коричневато-красным, а полоска неба на востоке была того ошеломительного лазурно-зеленого цвета, который я видел в своих снах. «Гиперион», — подумал я, чувствуя в горле комок.
Я приник щекой к забрызганному дождем стеклу и тут понял, что не последней причиной моего головокружения и растерянности было ослабление контакта с инфосферой. Связь еще сохранялась — в основном по УКВ и каналам мультисвязи, но эта нить делалась все тоньше и тоньше — такого со мной еще не было. Если инфосферу сравнить с морем, а меня — с рыбой, то сейчас я попал на мелководье, а лучше сказать, в лужу, оставленную приливом, причем вода все убывала по мере того, как мы удалялись от космодрома и кокона его примитивной микросети. Я заставил себя следить за разговором генерал-губернатора и Хента.
— Сейчас вы видите хижины и лачуги, — говорил Лейн, заложив глубокий вираж, чтобы мы могли хорошенько разглядеть холмы и долины, отделяющие космопорт от столичных предместий.
«Хижины и лачуги» было слишком мягко сказано. Под нами скользили убогие нагромождения фибропластовых панелей, брезентовые полотнища, штабеля ящиков и обрезков пенолиста, покрывающие сплошной коростой склоны холмов и глубоких оврагов. Живописные окрестности восьмимильного шоссе, соединяющего космопорт с городом и окруженного некогда рощами и лугами, превратились в голую пустошь: деревья извели на дрова и постройку жилищ, луга вытоптали миллионы ног. Город, приютивший беженцев, разросся, насколько хватало глаз. Пустовали лишь вершины гор и отвесные обрывы. Дым от тысяч костров и очагов, на которых готовилась пища, поднимался к облакам. Всюду бегали босоногие дети, женщины несли воду из ручьев — несомненно, донельзя загаженных; люди сидели на корточках прямо в поле или стояли в длинных очередях к самодельным уборным. По обеим сторонам шоссе я заметил высокие заграждения из суперколючей проволоки и фиолетовые барьеры силовых полей. Контрольно-пропускные посты стояли через каждые полмили. Длинные вереницы камуфлированных транспортеров и скиммеров ползли в обоих направлениях по шоссе и над ним на малой высоте.
— …большинство беженцев — местные жители, — продолжал между тем Лейн, — но есть и прибывшие издалека землевладельцы из южных городов и с крупных фибропластовых плантаций Аквилы.
— Они боятся вторжения Бродяг? — спросил Хент.
Тео Лейн бросил взгляд на помощника Гладстон.
— Первую волну паники вызвало известие, что Гробницы Времени открываются, — сказал он. — Люди были убеждены, что Шрайк явится лично за ними.
— И он действительно явился? — спросил я.
Молодой человек в старомодных очках неловко повернулся ко мне:
— Третья бригада сил самообороны выступила на север семь месяцев назад. И не вернулась.
— Вы сказали, что первая волна бежала от Шрайка, — заметил Хент. — А остальные?
— Ждут эвакуации, — ответил Лейн. — Все знают, что Бродяги… и войска Гегемонии… сделали с Брешией, и не хотят испытать это на себе, когда очередь дойдет до Гипериона.
— Вам известно, что ВКС разрешат эвакуацию лишь в самом крайнем случае? — поинтересовался Хент.
— Да. Но беженцам мы об этом не сообщаем. И без того бог знает, что творится. Святилище Шрайка разгромлено… толпа осадила его, кто-то пустил в ход кумулятивные плазменные снаряды, похищенные с рудников Урсы. На прошлой неделе пытались разгромить консульство и прорваться к космопорту, а в Джектауне был голодный бунт.
Хент кивнул и обратил взор к показавшейся внизу столице Гипериона. Здания были невысокие, редко выше пяти этажей. Их белые, голубые и розовые стены весело пестрели в косых лучах утреннего солнца. Заглянув через плечо Хента, я увидел невысокую гору с изваянным в склоне ликом Печального Короля Билли, грустно обозревающего долину. Берущая начало в предгорьях невидимой отсюда Уздечки река Хулай, извиваясь, пересекала центр старого города, пропадала в болотистых зарослях плотинника на юго-востоке, а потом разливалась на множество проток, обнимая дельтой половину Верхней Гривы.
После унылой безнадежности трущоб город показался мне безлюдным и мирным, но, когда мы пошли на снижение, я заметил, что по улицам движется военная техника, а на перекрестках и в скверах стоят танки, СЛУ и зенитки. Полимерный камуфляж машин был намеренно отключен — для острастки. Чуть позже появились признаки присутствия беженцев: самодельные палатки на площадях и в переулках, тысячи спящих на тротуарах — словно серые узлы с грязным бельем, ожидающие машину у прачечной.
— Два года назад в Китсе было двести тысяч жителей, — сказал генерал-губернатор. — Теперь, с учетом трущоб, около трех с половиной миллионов.
— Я думал, на всей планете не наберется и пяти миллионов человек, — удивился Хент. — Включая местных жителей.
— Совершенно верно, — кивнул Лейн. — Теперь понимаете, почему все идет вразнос? Остальные беженцы нашли приют в других крупных городах — Порт-Романтике и Эндимионе. Фибропластовые плантации Аквилы опустели, их поглотили джунгли и огненные леса, пояса ферм, расположенные вдоль Гривы и на Девяти Хвостах, не производят продовольствия на продажу, а если и производят, не могут доставить товар потребителям — гражданская транспортная система развалилась вконец.
Хент смотрел на приближавшуюся реку.
— Что предпринимает правительство?
Тео Лейн улыбнулся:
— Вы хотите сказать, что делаю я? Ну, что ж, кризис вызревал уже года три. Первым шагом был роспуск Комитета местного самоуправления. Затем Гиперион официально включили в Протекторат. Как только исполнительная власть оказалась в моих руках, я принял меры к национализации транспортных компаний и линии дирижабельного сообщения — на скиммерах теперь летают одни военные, — а также к расформированию сил самообороны.
— К расформированию? — переспросил Хент. — А мне кажется, они бы вам пригодились.
Генерал-губернатор покачал головой. Он легко, но уверенно коснулся ручки управления, и скиммер по спирали стал спускаться к центру старого Китса.
— Пусть бы они просто никуда не годились, — проговорил Лейн. — Но они были опасны. Я не особенно огорчился, когда «Третья Боевая» отправилась на север, да так и сгинула. Сразу после высадки десантников и морской пехоты я разоружил остальных головорезов из ССО. Основная масса грабежей — их рук дело. Ну вот, здесь мы поговорим и позавтракаем.
Скиммер пронесся над самой водой, описал последний круг и совершил мягкую посадку во дворе древнего строения из камня и бревен с замысловато украшенными окнами. Еще до того, как Лейн произнес название — «Цицерон», я узнал (из воспоминаний паломников) старинный ресторан, он же пивная, он же гостиница, расположенный в центре Джектауна и занимавший по девять этажей в четырех зданиях. Его балконы, причалы и крытые переходы из плотинника с одной стороны возвышались над неспешными водами реки Хулай, а с другой — над узкими улочками. «Цицерон» был старше, чем каменный лик Печального Короля Билли, а его сумрачные залы и глубокие винные погреба служили Консулу настоящим домом в годы его здешней ссылки.
Стен Левицкий встретил нас у калитки. Высокий, плотный, с лицом, таким же потемневшим и потрескавшимся от старости, как каменные стены его здания, Левицкий олицетворял собой «Цицерон» — как его отец, дед и прадед в былые времена.
— Черт возьми! — провозгласил гигант, хлопнув по спине генерал-губернатора (и фактического диктатора этого мира) с такой силой, что Тео пошатнулся. — Встали пораньше для разнообразия, дружище? Привезли друзей позавтракать? Добро пожаловать в «Цицерон»! — Огромная лапа Стена Левицкого поглотила сначала руку Хента, а затем мою с приветливостью, после которой я долго шевелил пальцами, проверяя, не сломал ли он какой-нибудь. — Или же для вас — ведь вы из Сети — уже слишком поздно? — гудел он. — Тогда выпить или пообедать?
Ли Хент, прищурившись, посмотрел на владельца ресторана.
— Откуда вам известно, что мы из Сети?
Левицкий захохотал басом, от которого флюгера на крыше завертелись волчком.
— Ха! Задачка на сообразительность! Вы прилетаете сюда с Тео на рассвете — думаете, он сажает к себе в скиммер первого встречного? И к тому же вы в шерстяной одежде, а у нас тут нет овец. Вы не военные и не воротилы с плантаций… Этих я знаю! Ipso fact toto, вы прибыли с Сети на эскадру, а ко мне пожаловали закусить и выпить. Итак?
Тео Лейн вздохнул.
— Найди нам тихий уголок, Стен. Яичницу с беконом и соленую лососину для меня. Джентльмены?
— Только кофе, — сказал Хент.
— И мне, — сказал я. Мы шли следом за хозяином по коридорам, поднимались по лестницам, спускались по железным трапам и вновь следовали коридорами. Наконец мы остановились. Потолок показался мне еще ниже, а сам зал темнее, прокуреннее и куда симпатичнее, чем в моих снах. Несколько завсегдатаев проводили нас взглядами, но народу было меньше, чем помнилось мне по снам. Очевидно, Лейн с помощью солдат выдворил отсюда последних варваров из ССО, одно время оккупировавших «Цицерон». Мы миновали высокое узкое окно, и я заметил доказательство своей гипотезы — десантную САУ, стоявшую в переулке, и группу солдат на ее броне. Их винтовки, несомненно, были заряжены, и отнюдь не холостыми патронами.
— Здесь. — Левицкий переступил порог небольшой веранды, нависшей над самой рекой Хулай. Отсюда открывался очаровательный вид на двускатные крыши и каменные башенки Джектауна. — Домми будет через две минуты с вашим завтраком и кофе. — И гигант с проворством, изумившим нас, исчез.
Хент взглянул на свой комлог.
— Минут через сорок пять катер должен возвратиться на «Гебриды» с нами на борту. Давайте поговорим.
Лейн согласно кивнул, снял очки и потер глаза. Я догадался, что он не спал всю ночь… или несколько ночей.
— Отлично. — Он вновь нацепил очки. — Что именно желает знать госпожа Гладстон?
Хент подождал, пока коротышка с пергаментно-белой кожей и желтыми глазами, принесший наш кофе в высоких кружках и тарелку с завтраком Лейна, не удалился.
— Госпожу Гладстон интересует, какие проблемы вы считаете первоочередными, — сказал он. — А также, сколько вы сможете продержаться, если военные действия затянутся.
Лейн не торопился с ответом. Глотнув кофе, он внимательно посмотрел на Хента. Судя по вкусу, кофе был натуральный, один из лучших в Сети.
— Начнем с последнего, — сказал Лейн. — Уточните, пожалуйста, насколько могут затянуться военные действия.
— На несколько недель.
— Продержаться несколько недель — может быть. Несколько месяцев — исключено. — Генерал-губернатор принялся за лососину. — Вы видите состояние нашей экономики. Если бы не припасы, доставляемые ВКС, голодные бунты происходили бы ежедневно, а не раз в неделю. Экспорт прекращен из-за карантина. Половина беженцев спит и видит отыскать бежавших служителей Церкви Шрайка и перебить их всех, а другая половина мечтает перейти в их веру прежде, чем Шрайк явится за ними.
— А вы нашли священников?
— Мы уверены, что при бомбардировке храма они уцелели, но власти не могут обнаружить их. По слухам, они бежали на север в Башню Хроноса — каменный замок над высокогорной равниной, где находятся Гробницы Времени.
Тут я мог бы поправить Лейна. Точнее, я знал лишь, что за время своего краткого пребывания в Хроносе паломники не видели священников Шрайка. Но обнаружили следы кровавого погрома.
— Что до очередности задач, — продолжал Тео Лейн, — то на первом месте, конечно же, эвакуация. Затем нужно разобраться с Бродягами. И третье — чтобы нам помогли покончить с этой кошмарной паникой из-за Шрайка.
Ли Хент откинулся на лакированную спинку стула. Из тяжелой кружки в его руках поднимался душистый пар.
— В данный момент эвакуация невозможна.
— Почему? — спросил, словно хлестнул адской плетью, Лейн.
— Госпожа Гладстон не обладает — на данный момент — достаточной политической силой, дабы убедить Сенат и Альтинг, что Сеть может принять пять миллионов беженцев…
— Чушь собачья, — немедленно отреагировал генерал-губернатор. — Только на Мауи-Обетованную после ее вступления в Протекторат нахлынуло вдвое больше туристов. И гибель уникальной экосистемы никого не обеспокоила. Высадите нас на Армагасте или любой другой пустынной планете, пока не исчезнет угроза войны.
Хент покачал головой. Его собачьи глаза смотрели еще печальнее, чем обычно.
— Дело не в снабжении, — проговорил он. — И не в политике. Дело в…
— …Шрайке, — закончил за него Лейн и отщипнул кусочек бекона. — Шрайк — вот подлинная причина.
— Да. А также страх, что Бродяги проникнут в Сеть. — Генерал-губернатор невесело рассмеялся.
— Значит, установи вы здесь порталы, толпа трехметровых Бродяг незаметно высадится и чинно пристроится к очереди? Этого вы боитесь?
Хент отпил кофе.
— Нет, конечно, но существует реальная опасность вторжения. Каждый портал — вход в Сеть. Об этом предупреждал Консультативный Совет.
— Хорошо, — не сдавался молодой человек. — Эвакуируйте нас на кораблях. Разве не для этого сформировали первую эскадру?
— Не совсем так, — возразил Хент. — Наша цель — разгромить Бродяг, а затем сделать Гиперион полноправной частью Сети.
— А как насчет угрозы, исходящей от Шрайка?
— Она будет… нейтрализована, — ответил Хент и сделал небольшую паузу — мимо нашей веранды проходила группа мужчин и женщин. Я поднял на них глаза, потом повернулся к своим собеседникам и тут же резко обернулся. Люди уже скрылись из виду.
— Это не Мелио Арундес? — прервал я генерал-губернатора на полуслове.
— Что? Ах да, доктор Арундес. Вы знаете его, господин Северн?
Ли Хент сердито уставился на меня, но я как ни в чем не бывало ответил:
— Да, знаю. — Хотя на самом деле ни разу не встречался с Арундесом. — Что он делает на Гиперионе?
— Шесть месяцев назад его экспедиция прибыла сюда по поручению Рейхсуниверситета Фрихольма — провести дополнительные исследования Гробниц Времени.
— Но Гробницы закрыты для ученых и туристов, — возразил я.
— Верно. Однако их приборы — мы разрешали еженедельно передавать сводку их показаний по мультипередатчику консульства — уже тогда свидетельствовали об изменении антиэнтропийных полей вокруг Гробниц. В Рейхсуниверситете догадались, что эти изменения свидетельствуют о меняющемся состоянии Гробниц, и отправили сюда ведущих ученых Сети, чтобы те исследовали феномен.
— А вы не дали им разрешения, — полувопросительно-полуутвердительно заметил я.
Ответная улыбка Тео Лейна была холодной.
— Это секретарь Сената Мейна Гладстон не дала им разрешения. Запрет посещать Гробницы — прямое указание ТК-Центра. Будь моя воля, я запретил бы паломничество, а экспедиции Арундеса дал зеленую улицу! — И он снова повернулся к Хенту.
— Извините. — Я выскользнул из-за стола.
Арундеса и его коллег — трех женщин и четверых мужчин, чей облик свидетельствовал, что все они из разных миров Сети, — я нашел двумя верандами дальше. Они склонились над своими тарелками и научными комлогами, перебрасываясь настолько заумными терминами, что самый ученый талмудист умер бы от зависти.
— Доктор Арундес?
— Да? — поднял он голову. Я его видел — глазами Сола — лет двадцать назад. Сейчас он разменял седьмой десяток, но время пощадило удивительно красивый профиль, бронзовую кожу, упрямый подбородок и волнистые черные волосы. Лишь на висках проступала седина, но взгляд карих глаз был юношески ясен и пристален. Я понял, почему молодая аспирантка влюбилась в него без памяти.
— Меня зовут Джозеф Северн, — представился я. — Мы не знакомы, но я знал вашу приятельницу… Рахиль Вайнтрауб.
В следующую секунду Арундес был уже на ногах. Принося на ходу извинения своим спутникам, он повлек меня за локоть к выходу и дальше, по закоулкам «Цицерона», пока мы не нашли свободного кабинета под круглым окном, выходящим на красные черепичные крыши. Выпустив мой локоть, он смерил меня оценивающим взглядом, от которого не укрылась нездешняя одежда, потом вывернул мою руку в поисках красноречивой синевы от поульсенизации на запястьях.
— Вы слишком молоды для знакомства с ней, — резюмировал он. — Или вы знали Рахиль уже ребенком?
— Я больше знаком с ее отцом, — признался я.
Доктор Арундес перевел дух и кивнул:
— Конечно! Где Сол? Уже несколько месяцев я пытаюсь отыскать его через консульство. Власти Хеврона сообщают только, что он выехал. — Он снова смерил меня взглядом классификатора. — Вы знаете о… болезни Рахили?
— Да, — ответил я. Болезнь Мерлина заставила ее расти наоборот, каждый день и миг теряя воспоминания о прошедшем. Мелио Арундес был одним их этих потерянных воспоминаний. — Вы навещали ее пятнадцать стандартных лет назад на Мире Барнарда.
Лицо Арундеса исказила гримаса.
— Это была ошибка, — пробормотал он. — Я намеревался поговорить с Солом и Сарой. Когда я увидел ее… — Он потряс головой. — Кто вы? Вы знаете, где сейчас Сол и Рахиль? Осталось трое суток до ее дня рождения.
Я кивнул:
— Ее первого и последнего дня рождения.
Вокруг было пусто и тихо, если не считать отголосков смеха, долетающих откуда-то с нижнего этажа.
— Я здесь в командировке от правительства Сети, — сказал я. — Мне известно, что Сол Вайнтрауб с дочерью отправились к Гробницам Времени.
Арундес побледнел, будто я ударил его в солнечное сплетение.
— З-здесь, на Гиперионе? — Он резко отвернулся к окну. — Я должен был догадаться… хотя Сол всегда отказывался вернуться сюда… Но теперь, когда Сары нет… — Он во все глаза уставился на меня. — У вас есть с ним связь? С ней… с ними все в порядке?
Я отрицательно покачал головой.
— Сейчас с ними нельзя связаться ни по радио, ни через инфосферу. Я знаю только, что добрались они благополучно. Вопрос в том, что известно вам и вашей группе? Любые сведения о Гробницах могут оказаться спасительными.
Мелио Арундес запустил руку в свою шевелюру.
— Если б только они нас туда пустили! Эта проклятая идиотская, бюрократическая близорукость… Вы говорите, что имеете отношение к кабинету Гладстон. Можете ли вы им втолковать, насколько нам сейчас важно попасть туда?
— Я всего лишь посыльный, — ответил я. — Пожалуйста, объясните мне суть дела, и я попытаюсь передать эту информацию по назначению.
Большие руки Арундеса схватили что-то невидимое. Его напряжение и гнев были осязаемы.
— В течение трех лет консульство разрешало раз в неделю передавать по своему бесценному мультипередатчику данные телеметрии. Они свидетельствовали о медленном, но неуклонном распаде антиэнтропийной оболочки — приливов времени — внутри Гробниц и вокруг них, странном, противоречащем всем теориям, но постоянном. Когда распад был замечен, нам разрешили вылететь сюда. Уже полгода, как мы здесь. У нас есть данные, которые свидетельствуют, что Гробницы открываются… движутся к синхронности с «настоящим моментом», но — увы! — через четыре дня после нашего прибытия приборы смолкли. Все разом. Мы умоляли этого сукина сына Лейна, чтобы нас допустили хотя бы настроить их, заменить датчики, если уж нельзя присутствовать там лично…
Ноль реакции. Покинуть Китс не дают. Связаться с университетом не разрешают… хотя с прибытием эскадры ВКС это стало намного проще. Мы пытались отправиться вверх по реке без разрешения, но амбалы из морской пехоты перехватили нас у шлюзов Карлы и вернули назад в наручниках. Четыре недели я отсидел в тюрьме. Теперь нам дарована свобода без толку слоняться по Китсу, а если мы снова покинем пределы города, нас засадят на неопределенный срок. Можете ли вы помочь?
— Не знаю, — ответил я. — Я хочу помочь Вайнтраубам. Возможно, дело бы сильно продвинулось, попади ваша экспедиция на место. Вам известно, когда откроются Гробницы?
Физик-темпоралист мрачно развел руками.
— Будь у нас новые данные! — Он вздохнул. — Может, они уже открылись, а может, не откроются еще полгода.
— Вы употребляете слово «открыты» в обычном смысле?
— Конечно, нет! Гробницы Времени «физически» открыты для осмотра со времени их обнаружения, уже четыре стандартных века. Словом «открытие» я обозначаю момент, когда исчезнут временные завесы, скрывающие их внутренние отсеки, синхронизацию комплекса с локальным временем.
— Под «локальным» вы подразумеваете…
— Время этой Вселенной, разумеется.
— И вы уверены, что Гробницы движутся назад во времени… из нашего будущего? — спросил я.
— Назад во времени — безусловно, — уверенно ответил Арундес. — А что из нашего будущего — не могу утверждать. Мы даже не знаем наверняка, что означает «будущее» с точки зрения темпоральной физики. Возможно, это набор синусоидальных волн вероятности, или мегапоэтическое дерево вариантов, или даже…
— Но чем бы оно ни было, — перебил я его, — Гробницы Времени и Шрайк пришли оттуда?
— Гробницы Времени — наверняка, — подтвердил физик. — О Шрайке мне ничего не известно. Полагаю, это миф, не более, и его питает та же жажда сверхъестественных истин, что движет всеми религиями на свете.
— Даже после того, что случилось с Рахилью? — тихо спросил я.
Мелио Арундес гневно взглянул на меня.
— Рахиль заразилась болезнью Мерлина, и это настоящая болезнь, болезнь антиэнтропийного старения, вовсе не похожая на раны от зубов мифического чудовища.
— Раны от зубов времени не миф, — возразил я, удивившись, что так лихо орудую дешевой философией. — Но суть в другом: как поступят с Рахилью хозяева Гробниц, Шрайк или кто там еще? Вернут ли они ее в «локальный» поток времени?
Арундес кивнул и уставился мимо меня на крыши. Солнце спряталось за облака, и утро сразу поблекло, красные черепицы потускнели, заморосил дождь.
— И еще, — продолжил я, к немалому своему удивлению, — любите ли вы ее по-прежнему?
Физик медленно повернулся ко мне и буквально обжег взглядом. Я чувствовал, как мысль дать мне отпор — возможно, физически — созрела в нем, дошла до полного кипения и рассыпалась огненными искрами боли. Он залез в карман пиджака и показал мне голографию уже седеющей, но привлекательной женщины и двух молодых людей.
— Моя жена и дети, — негромко произнес Мелио Арундес. — Они ждут меня на Возрождении-Вектор. Если даже Рахиль… выздоровеет, то, когда ей исполнится столько же, сколько было к моменту нашей встречи, у меня за плечами будет уже восемьдесят два стандартных года. — Безнадежно махнув рукой, он убрал снимок в карман. — Но я по-прежнему ее люблю.
— Готовы? — нарушил тишину чей-то голос, и я увидел в дверях Хента и Тео Лейна. — Катер взлетает через десять минут, — сообщил Хент.
Поднявшись, я протянул руку Арундесу.
— Я попытаюсь, — пообещал я ему на прощание.
Генерал-губернатор Лейн отправил нас в космопорт на одном из скиммеров своей охраны, а сам вернулся в консульство. Военный скиммер был едва ли комфортабельнее личной машины дипломата, зато летел быстрее. Мы уже пристегивали ремни, прижатые к креслам защитным полем, когда Хент спросил:
— Что за дело было у вас к этому физику?
— Просто возобновил старое знакомство с незнакомым другом, — ответил я.
Хент нахмурился.
— Что вы обещали ему, когда сказали, что попытаетесь?
Катер задрожал, дернулся, и тут же рванулся вперед — стартовая катапульта зашвырнула нас в небо.
— Обещал помочь навестить больного друга, если сумею.
Хент не спускал с меня враждебного взгляда, но я вытащил блокнот и занялся набросками интерьеров «Цицерона». Я не отрывался от рисования все пятнадцать минут полета, до самой стыковки с «прыгуном».
С бьющимся сердцем я шагнул из портала на административный терминекс Дома Правительства. Еще один шаг перенес нас на галерею Сената, где Мейна Гладстон выступала перед битком набитым залом. Имиджеры и микрофоны доносили ее речь до Альтинга и сотен миллиардов напряженно внимающих граждан.
Я взглянул на свой хронометр: 10:38. Наша отлучка продлилась всего девяносто минут.
Глава 12
Здание, в котором размещался Сенат Гегемонии, больше походило на Сенат Соединенных Штатов восьмисотлетней давности, чем на величественные сооружения, воздвигнутые для руководящих органов Северо-Американской Республики или Первого Всемирного Совета. Главный зал заседаний был опоясан галереями в несколько ярусов. Он легко вмещал все три с лишним сотни сенаторов миров Сети и более семидесяти представителей колоний-протекторатов с совещательным голосом. Ковры гранатного цвета расходились лучами от центрального подиума, где обычно сидели временный председатель Сената и спикер Альтинга, а сегодня восседала сама Мейна Гладстон, глава правительства Гегемонии. Столы сенаторов были изготовлены из древесины мюира, подаренного тамплиерами Рощи Богов, считавшими его священным. Свечение и аромат полированного дерева создавали в зале особую атмосферу даже сейчас, когда он был заполнен так, что яблоку негде упасть.
Мы с Ли Хентом подоспели как раз к финалу. Я заказал по комлогу резюме ее выступления. Как и обычно, речь Гладстон была краткой. Не впадая ни в сюсюканье, ни в высокопарность, говоря живо и непринужденно, покоряя аудиторию оригинально построенными фразами и яркими образами, Гладстон кратко перечислила инциденты и локальные конфликты, вылившиеся в войну с Бродягами. Особо подчеркнула наше освященное веками стремление к миру — красную нить внешнеполитической стратегии Гегемонии, призвав всех и вся в Сети и Протекторате к единению перед лицом кризиса. Я стал слушать.
— …и так сложилось, сограждане, что после ста с лишним лет мира мы еще раз оказались втянутыми в борьбу за соблюдение законных прав — прав, которые сделались фундаментом нашего общества еще до гибели нашей Матери Земли. После более чем ста лет мирного существования мы должны — скрепя сердце, не скрывая отвращения — снова взять в руки щит и меч, которые всегда помогали нам отстоять наши неотъемлемые права и общее достояние, и возвратить мир нашим полям и городам.
Звуки труб и самозабвенная ярость — непременный аккомпанемент всех призывов к оружию. Но мы не позволим этой лихорадке помрачить наш разум. Те, кто поддается милитаристскому угару и забывает уроки истории, сами себя карают. Им приходится испытать на собственной шкуре, что такое война, более того — их ждет гибель от меча. Не исключено, что наш путь к победе сопряжен со многими жертвами. Многих из нас ожидают жестокие испытания. Но, какие бы успехи или неудачи нам ни были суждены, прошу вас не забывать о двух чрезвычайно важных обстоятельствах. Первое: мы боремся за мир и знаем, что война никогда не станет нашим образом жизни. Она — бедствие, которое надо перетерпеть, как лихорадку в детстве, зная, что за длительным периодом боли и страданий приходит здоровье. Мир для нас — то же здоровье. И второе: мы никогда не сдадимся… никогда не сдадимся, не дрогнем, не поддадимся соблазну вернуться к комфортному существованию… не пойдем ни на какой компромисс, пока победа не будет в наших руках, враг — разбит, а мир — отвоеван. Благодарю вас.
Ли Хент, подавшись вперед, не сводил глаз с сенаторов. Почти все встали и устроили Гладстон настоящую овацию. Волна аплодисментов взлетела до потолка и рикошетом обрушилась на нас и галерею. Но некоторые остались сидеть: я видел, как Хент пересчитывал их. Иные молча скрестили руки на груди, многие открыто хмурились. Войне не было и двух дней от роду, а оппозиция уже сформировалась; во-первых, из представителей колониальных миров, которые боялись за свою безопасность, поскольку Гиперион оттянул на себя почти все войска, во-вторых, из недоброжелателей Гладстон — весьма многочисленных: нельзя же столько пробыть у власти и не взрастить два или три поколения врагов. Наконец, в оппозицию влились те из бывших сторонников Гладстон, кто считал, что война подрывает беспрецедентное процветание Гегемонии последних веков.
Я наблюдал, как она, обменявшись рукопожатиями со стариком председателем и молодым спикером, покидает подиум и идет к выходу, касаясь множества рук, отвечая на приветствия, улыбаясь своей знаменитой улыбкой. Имиджеры Альтинга сопровождали ее, и я физически ощущал, как раздувается сеть дебатов, принимая мнения и голоса миллиардов.
— Мне необходимо увидеться с госпожой Гладстон, — бросил мне Хент. — Вы в курсе, что вас пригласили на официальный обед? Сегодня вечером, в «Макушке»?
— В курсе.
Хент покачал головой: и зачем только секретарю Сената понадобилось всюду таскать меня за собой?
— Обед закончится поздно, а после него намечено совещание с командованием ВКС. Она хочет, чтобы вы были и там, и там.
— Я в вашем распоряжении, — ответил я.
Хент задержался у дверей.
— У вас есть чем заняться в Доме Правительства до обеда?
Я улыбнулся ему.
— Поработаю над эскизами портрета. Вероятно, прогуляюсь в Оленьем парке. А потом… не знаю… может быть, сосну часок.
Хент снова покачал головой и вышел.
Глава 13
Первый заряд проходит всего в метре от Кассада, разнося на куски огромный валун, который он только что миновал. Полковник мгновенно падает, укрываясь от взрывной волны. Распластавшись на песке, защищенный силовой броней и полимерным камуфляжем, Федман Кассад замирает на несколько долгих секунд. Палец его лежит на спуске универсальной винтовки, ночной визор переведен в режим поиска цели. Он слышит только одно — частый стук своего сердца. Сенсоры прочесывают горы, долину и сами Гробницы, выискивая что-нибудь теплое или движущееся. Безрезультатно. На лице полковника, скрытом черным зеркалом визора, появляется улыбка.
Он не сомневается, что неведомый стрелок промахнулся нарочно. То была стандартная реактивная граната с 18-миллиметровым патроном, и если только стрелявший не находился в десяти или более километрах отсюда, случайный промах был просто невозможен.
Кассад, выждав еще секунду, вскакивает, намереваясь укрыться за Нефритовой Гробницей, и в этот момент раздается второй выстрел. Страшный удар в грудь опрокидывает полковника навзничь.
Чертыхнувшись, он откатывается в сторону и быстро ползет ко входу в Нефритовую Гробницу. Сенсоры зорко вглядываются и вслушиваются в ночь. На этот раз стреляли обычной пулей. Следовательно, в распоряжении неведомого охотника находится универсальная десантная винтовка ВКС — такая же, как у Кассада. Более того, противник наверняка знает, что доспехи Кассада пулей не пробьешь, даже в упор. Но универсальная винтовка имеет и другие режимы стрельбы, и если на очереди боевой лазер, полковнику придется туго. Он переваливается через порог Гробницы.
Его сенсоры по-прежнему не замечают ничего теплого или движущегося, если не считать красных и желтых полос — следов паломников на тропе к Сфинксу, оставленных ими пару минут назад. Но и они тают на глазах.
С помощью оперативных имплантов Кассад производит разведку по каналам УКВ и оптической связи. Безрезультатно. Он включает максимальное увеличение, вводит поправки на ветер и песок, активирует детектор движущихся целей. Ничего крупнее насекомых. Он прочесывает окрестности радаром, эхолокатором, лидаром, надеясь засечь снайпера. Тщетно. Он выводит на тактический дисплей реконструкции двух прошлых выстрелов. Перед глазами повисают синие баллистические траектории.
Первый выстрел произведен со стороны Града Поэтов, с расстояния более четырех километров к юго-западу. Не прошло и десяти секунд, как раздался второй, из района Хрустального Монолита, то есть из глубины долины, почти с километровой дистанции. Логика подсказывает, что снайперов двое. Но Кассад готов поклясться — стрелял один. Он увеличивает масштаб изображения. Второй выстрел произведен из точки в верхней части отвесного фасада Монолита, по меньшей мере с тридцатиметровой высоты.
Кассад приподнимается и, подкрутив окуляры, глядит сквозь тьму и редеющую песчано-снеговую завесу на это громадное сооружение. Ничего. В стенах — ни окон, ни щелей, вообще ни малейшего отверстия.
После бури в воздухе висят миллиарды пылинок и капелек, и только благодаря этому на какую-то долю секунды становится виден зеленый лазерный луч. Но Кассад замечает его уже после того, как зеленое копье вонзается ему в грудь. Полковник откатывается назад, надеясь, что зеленые стены Гробницы ослабят следующий импульс. Сверхпроводящие волокна его доспехов трудятся вовсю, переизлучая поглощенную энергию, а тактический дисплей сообщает: стреляют со стороны Хрустального Монолита — в чем полковник, кстати, не сомневался.
Кассад чувствует в груди боль, как от укола, и, скосив глаза, видит на непробиваемом панцире пятисантиметровое круглое пятно. Капли расплавленного карбонитрида падают на пол. Будь броня на один слой тоньше, полковник был бы уже мертв, а так он всего лишь обливается потом под панцирем. Стены Гробницы, поглотившие рассеянное доспехами тепло, буквально пышут жаром. Биомониторы испуганно пищат, но ничего особенно тревожного не сообщают, датчики скафандра рапортуют о повреждениях некоторых цепей, но все это поправимо. Его винтовка по-прежнему при нем и готова к бою.
Кассад задумывается, держа палец на спуске. Гробницы — бесценные археологические памятники, уже много веков охраняемые как дар будущим поколениям, пусть даже они действительно движутся навстречу ходу времени, из будущего. Если полковник Федман Кассад принесет эти бесценные артефакты в жертву своим агрессивным инстинктам, он совершит преступление против всей Галактики.
— К дьяволу, — шепчет Кассад и поднимает винтовку.
Он поливает лазерными очередями фасад Монолита, пока расплавленный хрусталь не начинает стекать вниз. Он всаживает в здание бризантные гранаты с десятиметровым интервалом, начиная с верхних этажей. Тысячи зеркальных осколков летят в ночь и, медленно кувыркаясь, опускаются на дно долины. На фасаде остаются дыры, уродливые, как провалы на месте выбитых зубов. Кассад вновь переключает оружие на когерентный световой пучок и простреливает внутренность сооружения через проломы, каждый раз ухмыляясь за своим забралом, когда вспышка озаряет очередной ярус. Кассад посылает очереди пэвов — пучков электронов высокой энергии, которые проходят через Монолит навылет и проделывают в горном склоне за ним безупречные цилиндрические скважины — четырнадцать сантиметров в диаметре и полкилометра в глубину. Потом приходит очередь осколочных гранат, которые наполняют внутренности Монолита десятками тысяч острейших иголок. И снова лазер: широкие профилированные импульсы должны ослепить любого, кого угораздит на них взглянуть. И наконец, в каждое отверстие разрушенного здания летят десятки теплочувствительных дротиков.
Кассад отползает назад, в коридор Нефритовой Гробницы, и поднимает с лица забрало. Пламя горящей башни отражается в тысячах хрустальных осколков, разбросанных по всей долине. Ветер внезапно утих, и дым столбом подпирает небо. Дюны алы от огня. Ночь вдруг наполняется мелодичным перезвоном — все новые хрустальные сосульки отламываются и падают, в то время как другие еще качаются на длинных стеклянных нитях.
Кассад выбрасывает пустые обоймы и ленты, вставляет новые и с жадностью вдыхает холодный ветер, задувающий в открытый проем. Он не тешит себя иллюзиями — неведомый снайпер наверняка ускользнул.
— Монета, — шепчет Федман Кассад и закрывает на секунду глаза.
* * *
Впервые Монета явилась Кассаду во время битвы при Азенкуре, октябрьским утром 1415 года от Рождества Христова. Поля были усеяны трупами французов и англичан, в лесу укрывались рыцари-одиночки, и один из них чуть не взял верх над Кассадом, но ему помешала невесть откуда взявшаяся высокая, коротко стриженная женщина с глазами цвета моря, которые навсегда пленили Кассада. Расправившись с противником, полковник и неведомая женщина, даже не смыв с себя крови рыцаря, любили друг друга в лесу.
Интерактивный Тактический Имитатор Олимпийской Офицерской Школы обеспечивал небывало высокую степень приближения к реальности, но призрачная любовница Кассада по имени Монета вовсе не была детищем фантопликатора. Она приходила к нему и в бытность его курсантом Олимпийской Школы, и в последующие годы, когда, усыпленный усталостью, Кассад погружался в очищающие глубины сна после реальных сражений.
Федман Кассад и тень по имени Монета любили друг друга в укромных уголках всех на свете полей брани — от Антиетама до Кум-Рияда. Никому неизвестная, никем невидимая, Монета приходила к нему, когда он стоял на часах тропическими ночами и в осажденные крепости в заснеженных русских степях. Они страстно перешептывались в снах Кассада после победы на Мауи-Обетованной и во время мучительно долгого выздоровления-воскрешения после взрыва мины-ловушки в Южной Брешии, когда он чудом остался жив. Монета была его единственной любовью, нет, больше — всепобеждающей страстью, замешенной на запахе крови и пороха, вкусе напалма, нежных женских губ и горелого мяса.
А потом был Гиперион.
Санитарный корабль, на котором полуживого Кассада эвакуировали с Брешии, атаковали факельщики Бродяг. Уцелел один Кассад — он захватил вражеский катер и кое-как сел на Гиперион — на бесплодную высокогорную равнину за Уздечкой в Экве. В долину Гробниц Времени. В царство Шрайка.
И там его ждала Монета. И снова они любили друг друга, а когда Бродяги погнались за ним, чтобы захватить ускользнувшего от них пленника, Кассад и Монета — и явившийся им на помощь полупризрачный Шрайк — уничтожили десантные катера и перебили всех солдат противника. Полковник Федман Кассад, рожденный в трущобах Фарсиды, сын, внук и правнук беженцев, гражданин Марса до мозга костей, испытал в тот день мгновение полного и абсолютного блаженства. Защищенный силой времени вместо доспехов, он скользил невидимкой среди врагов, разя направо и налево, как божество насильственной смерти. Такое могущество не снилось никому и никогда.
Но после той кровавой бани Монета вдруг обернулась чудовищем прямо в его объятиях. Или Шрайк занял ее место? Кассад не мог припомнить деталей и вообще хотел бы забыть все раз и навсегда, если бы от этого не зависела его жизнь.
Он знал, что вернулся отыскать Шрайка и убить его. Отыскать Монету и убить ее. Убить Монету? В этом он не был уверен. Полковник Федман Кассад знал только, что неистовые страсти его неистовой жизни привели его сюда, именно в это место и именно в этот момент. И если здесь его ждет смерть, так тому и быть. А если его ждут любовь, слава и победа, от которых содрогнется Валгалла, так тому и быть.
Кассад опускает забрало, поднимается на ноги и с громким криком выбегает из Нефритовой Гробницы. Его винтовка выбрасывает десяток дымовых шашек и металлическое конфетти, сбивающие с толку радары, но это прикрытие не слишком надежно, а бежать придется долго. Неведомый стрелок ведет огонь с башни Монолита: на пути Кассада поднимаются фонтанчики от пуль, взрываются гранаты, но полковник продвигается перебежками от дюны к дюне, от одной груды камней к другой.
По шлему и панцирю барабанят осколки. Забрало трескается, загорается сигнал тревоги. Кассад отключает тактические дисплеи, оставив лишь ночной визор. Сверхтвердые пули бьют его в плечо и колено. Кассад теряет равновесие и падает. Силовые доспехи становятся жесткими, вновь обретают гибкость, и Кассад тут же вскакивает. Он бежит, чувствуя, как под броней набухают кровоподтеки. «Хамелеонова кожа» выбивается из сил, подлаживаясь под фантастический пейзаж вокруг: тьма, пламя, пески, расплавленный хрусталь и горящие камни.
До Монолита еще метров пятьдесят. Лазерные плети вонзаются в дюны справа и слева от Кассада, обращая песок в стекло. Световые клещи зажимают его — так быстро, что самое ловкое существо не успело бы увернуться: устав забавляться с добычей, они вонзаются в нее, обжигая сердце, голову и пах жаром тысячи солнц. Его доспехи сияют, как зеркало, с каждой микросекундой меняя частоту под стать капризным цветам атаки. Вокруг Кассада мерцает нимб из перегретого пара. Микроцепи трещат от перегрузки, рассеивая тепло и поддерживая вокруг тела тонюсенькую оболочку силового поля.
Одним броском полковник преодолевает последние двадцать метров и, включив реактивный ранец, перепрыгивает через груды оплавленного хрусталя.
Вокруг беспрестанно гремят взрывы, то сбивая его с ног, то подбрасывая в воздух. Доспехи Кассада окаменели; он беспомощен, как кукла, которой перебрасываются огненные великаны.
Внезапно обстрел прекращается. Кассад отрывается от земли, пробует встать. Смотрит на фасад Хрустального Монолита — пламя и дыры, дыры и пламя. Забрало треснуло, визор почти ослеп. Кассад поднимает его с лица, вдыхает дымный и наэлектризованный воздух и входит в Гробницу.
Импланты рапортуют, что паломники взывают к нему по всем каналам связи. Он отключает их и снимает шлем. Перед ним тьма.
Внутри Монолит представляет собой помещение без перегородок — большое, сумрачное. В середине потолка открывается вертикальная шахта. Запрокинув голову, он видит разбитую стеклянную крышу, до которой метров сто. На десятом этаже, на высоте шестидесяти метров, его ожидают — отчетливый темный силуэт на фоне пламени.
Кассад вешает винтовку на плечо, сует шлем под мышку и, обнаружив в центре шахты широкую винтовую лестницу, начинает подниматься.
Глава 14
— Ну как, удалось поспать? — спрашивает Ли Хент, когда мы выходим на терминекс «Макушки».
— Да.
— Надеюсь, сны были приятные? — Хент не скрывает сарказма по отношению к тем, кто смеет отсыпаться, пока живые шестерни и рычаги государства честно трудятся.
— Не особенно, — машинально отвечаю я, оглядываясь по сторонам.
Мы подымаемся по широкой лестнице к банкетным площадкам.
В Сети, где любой город любой провинции любой страны на любом континенте мог похвастаться четырехзвездочным рестораном, где насчитывались миллионы настоящих, а не самозваных гурманов, а желудки были избалованы экзотическими яствами двухсот планет, даже в пресыщенной шедеврами гениальных кулинаров и выдающихся ресторанов Сети «Макушка» не имела себе равных.
Устроенная на вершине одного из дюжины наивысочайших деревьев Рощи Богов — планеты древесных великанов, «Макушка» занимала несколько акров на ветвях, висящих в полумиле над поверхностью земли. Четырехметровой ширины лестница, по которой сейчас поднимались мы с Хентом, казалась совсем узенькой на фоне циклопических ветвей шириной в проспект, листьев величиной с парус и самого ствола, виднеющегося сквозь густую листву, — отвесной морщинистой громадины, рядом с которой иные горы показались бы песочными куличиками. На верхних террасах «Макушки» было два десятка обеденных площадок, и чем выше располагалась площадка, тем большим богатством, связями и властью обладали ее посетители. Главное — властью. В обществе, где миллиардным состоянием никого не удивишь, где ленч в «Макушке» стоил тысячу марок и все-таки был по карману миллионам граждан, решающим мерилом положения в обществе была власть — валюта, никогда не выходящая из моды.
Сегодняшнее сборище оккупировало верхнюю палубу — широкую, закругленную площадку из плотинника (по мюиру ходить нельзя), откуда открывался великолепный вид: бледнеющее лимонное небо, бескрайнее море деревьев внизу, простирающееся до горизонта, и теплые оранжевые огни хижин и молельных домов тамплиеров, просвечивающие сквозь зеленые и янтарные стены колышущейся листвы. На обеде присутствовало человек шестьдесят; я узнал сенатора Колчева, чья седая грива блеснула в свете японских фонариков, советника Альбедо, генерала Морпурго, адмирала Сингха, временного председателя Денцель-Хайят-Амина, спикера Альтинга Гиббонса, еще десять — двенадцать сенаторов из таких могущественных миров, как Седьмая Дракона, Денеб-III, Нордхольм, Фудзи, оба Возрождения, Метакса, Мауи-Обетованная, Хеврон, Новая Земля и Иксион, а также кое-каких политиков рангом пониже. Мелькнул перформист Спенсер Рейнольдс, неотразимый красавец во фраке рыжего бархата. Других художников я что-то не заметил, но Тирену Вингрен-Фейф увидел издалека. Эта меценатка с издательским прошлым по-прежнему выделялась в толпе. Ее платье было сшито из тысяч тончайших кожаных лепестков, иссиня-черные волосы вздымались к небесам высокой лепной волной, но ни наряд от Тедекая, ни ультрамодный макияж не вызывали былого сердцебиения; каких-нибудь полвека назад ее внешний вид производил куда более сильное впечатление. Я двинулся к ней сквозь концентрические толпы гостей, бродивших от бара к бару в ожидании сигнала «Кушать подано!».
— Джозеф, бесценный! — вскричала госпожа Вингрен-Фейф, когда я преодолел последние несколько ярдов. — Каким ветром тебя занесло на эту нудятину?
Я улыбнулся и предложил ей бокал шампанского. Престарелая королева литературного бомонда познакомилась со мной во время прошлогодней Недели Искусств на Эсперансе, а удостоился я этой чести лишь благодаря дружбе с такими суперзвездами Сети, как Салмад Брюи III, Миллон Де-Га-Фре и Рифмер Корбе. Тирена была упрямым динозавром, ни в какую не желавшим вымирать. Если бы не косметика, ее запястья, ладони и шея светились бы голубым от многократных курсов поульсенизации. Проводя десятки лет в межзведных круизах на субсветовых кораблях или в безумно дорогих криогенных усыпальницах на безымянных элитарных курортах, Тирена Вингрен-Фейф тем не менее крепко держала вожжи светской жизни и не собиралась ослаблять своей железной хватки. После каждого двадцатилетнего сна состояние ее многократно возрастало, а ореол вокруг ее имени сиял еще ослепительней.
— Ты по-прежнему сидишь на той планетке, где мы встретились? — спросила она.
— На Эсперансе? — Я знал, что ей известен адрес любого стоящего художника этого ни гроша не стоящего мира. — Нет, сейчас я, похоже, перебрался на ТКЦ.
Госпожа Вингрен-Фейф поморщилась. Я чувствовал на себе пристальные взгляды десятка зевак из ее свиты, пытающихся определить, что за юный нахал просочился на внутреннюю орбиту их повелительницы.
— Ужасно, — протянула Тирена, — что тебе приходится жить на планете дельцов и бюрократов. Хоть бы они отвязались от тебя поскорее!
Я провозгласил тост в ее честь.
— Да, кстати, давно хотел спросить: правда ли, что вы были редактором у Мартина Силена?
Престарелая королева отняла от губ бокал и устремила на меня ледяной взгляд. На секунду я вообразил себе противостояние Мейны Гладстон и этой дамы. Внутренне содрогнувшись, я ждал ответа.
— Мой дорогой мальчик, — она чуть понизила голос, — это такая старая история. Зачем забивать твою очаровательную голову какими-то давно забытыми пустяками?
— Я интересуюсь Силеном, — сказал я. — Его поэзией. И мне просто любопытно, поддерживаете ли вы с ним связь.
— Джозеф, Джозеф, Джозеф! — воскликнула госпожа Вингрен-Фейф. — О бедном Мартине давным-давно ничего не слышно. Увы, бедняга, вероятно, давно превратился в окаменелость!
Я не стал напоминать Тирене, что в бытность ее редактором Силена поэт был намного моложе ее.
— Странно, что ты вспомнил о нем, — продолжала она. — Моя старая фирма, «Транслайн», недавно заявила, что собирается издать кое-какие вещи Мартина. Не знаю только, связывалась ли она с его наследниками.
— Книги из цикла «Умирающая Земля»? — Я вспомнил о ностальгических романах из жизни Старой Земли, которые так хорошо продавались.
— Как ни странно, нет. По-моему, они собирались опубликовать «Песни», — усмехнулась Тирена. В руках у нее оказалась сигарета с марихуаной в длинном мундштуке черного дерева. Какой-то юнец из ее свиты поспешил поднести ей зажигалку. — Сверхстранный выбор, — произнесла она, затягиваясь, — если вспомнить, что, пока бедный Мартин был жив, никто не удосужился даже прочесть «Песни». Да уж, я всегда говорила: ничто так не способствует карьере творца, как немножко смерти и безвестности. — Она засмеялась: смех ее напоминал скрежет металла о камень. Свита засмеялась вместе с ней.
— Вам не мешало бы выяснить, жив Силен или нет, — заметил я. — «Песни» читались бы лучше, будь они закончены.
Тирена Вингрен-Фейф посмотрела на меня как-то странно. Раздался звон гонга, призывающий к обеду. Спенсер Рейнольдс взял гранд-даму под руку, и гости начали подниматься по последней лестнице к звездам. Я молча допил свой бокал, оставил его на перилах и пошел догонять стадо.
Секретарь Сената и ее ближайшие помощники прибыли вскоре после того, как все расселись. Гладстон произнесла краткую речь, — возможно, двадцатую за сегодня, если не считать утреннего обращения к Сенату и гражданам Сети. Первоначальным поводом для нашего обеда было чествование участников создания Фонда Помощи Армагасту, но Гладстон вскоре перевела разговор на войну и необходимость действовать энергично и эффективно, в обстановке всеобщего единения, которому должны способствовать руководители всех миров Сети.
Пока она выступала, я смотрел вдаль, на мир за перилами. Лимонная позолота уже осыпалась, небеса окрасились в приглушенный шафрановый цвет и вскоре померкли; надвинулась почти тропическая тьма, такая густая, что, казалось, на небо набросили плотную синюю завесу. В этих широтах из шести небольших лун Рощи Богов видны только пять, и все они, кроме одной, неслись сейчас по небу. Высыпали звезды. Насыщенный кислородом воздух опьянял, как вино. Густой аромат влажных листьев напомнил мне об утренней поездке на Гиперион. Но, в отличие от Гипериона, на Роще Богов были запрещены ТМП, скиммеры и какие бы то ни было летательные аппараты, так что нефтехимические выделения или отработанные газы из термоядерных батарей никогда не загрязняли эти небеса, а из-за отсутствия городов, автострад и электрического освещения звезды казались такими ясными и яркими, что могли соперничать с японскими фонариками и люм-шарами на ветвях и перилах «Макушки».
После заката снова подул слабый ветер, и все дерево пришло в движение. Широкая платформа плавно покачивалась, как корабль на легкой волне, и стойки и опоры из плотинника и мюира тихо поскрипывали. Я смотрел на огни, мерцающие в кронах дальних деревьев: многие из них горели в «комнатах», которые тамплиеры сдавали в аренду. Такую комнату можно было присоединить к своему мультимировому нуль-дворцу… если, конечно, найдется лишний миллион марок — начальный взнос за этот восхитительный каприз.
Тамплиеры, не утруждая себя повседневной рутиной, просто предъявляли арендным фирмам (в том числе и той, что управляла «Макушкой») строгие, не подлежащие обсуждению экологические требования и исправно клали в карман миллиарды марок. Я вспомнил об их межзвездном пассажирском лайнере «Иггдрасиль», дереве километровой высоты из священного леса планеты, приводимом в движение генераторами Хоукинга и защищенном самыми сложными силовыми экранами, какие только мог унести на себе корабль. По каким-то непонятным причинам тамплиеры согласились предоставить «Иггдрасиль» для эвакуации, хотя та была не более чем предлогом для ввода в систему Гипериона кораблей ВКС.
И как всегда бывает, когда бесценные вещи зачем-то подвергают опасности, «Иггдрасиль» погиб. Случилось ли это в результате нападения Бродяг или вмешалась какая-то иная сила? Никто не знал, как реагировали на это тамплиеры, что заставило их подставить под удар одно из четырех имевшихся у них Древ и почему капитан корабля — Хет Мастин — был избран одним из семи паломников к Шрайку, а затем умудрился исчезнуть из ветровоза посреди Травяного моря.
Чертовски много вопросов, а война только началась.
Закончив свои наставления, Мейна Гладстон предложила всем насладиться обедом. Я немного поаплодировал для приличия и сделал стюарду знак наполнить мой бокал. На первое подали классический салат а-ля империя, и я с энтузиазмом принялся за него, только сейчас вспомнив, что ничего не ел с самого утра. Вспомнил я и то, как генерал-губернатор Тео Лейн смаковал яичницу с беконом и лососину под аккомпанемент лазурного гиперионовского дождя. А может, я видел все это во сне?
— Что вы думаете о войне, господин Северн? — внезапно обратился ко мне Рейнольдс. Он сидел довольно далеко от меня, на противоположной стороне стола, но дикция у него была великолепная. Я заметил, что Тирена вопросительно подняла бровь.
— А что можно думать о войне? — сказал я, отпив из бокала. Вино было хорошее, хотя ничто в Сети не может заменить настоящего французского бордо. — О войне не рассуждают — от нее спасаются.
— Отнюдь нет, — энергично возразил Рейнольдс. — Подобно многим другим вещам, которые были переосмыслены человечеством после Хиджры, война сейчас стоит на пороге превращения в один из видов искусства.
— Вид искусства, — восхищенно выдохнула коротко стриженная шатенка. Инфосфера подсказала, что это госпожа Сюдетта Шер, жена сенатора Габриэля-Федора Колчева и самостоятельная политическая фигура первого ранга. Шер была в вечернем платье из синей парчи. Ее лицо выражало живой интерес к беседе. — Война как вид искусства, господин Рейнольдс? Очаровательная концепция!
Спенсер Рейнольдс был чуть ниже среднего жителя Сети, но намного импозантнее. Ласковое солнце и патентованная краска для тела придали коже бронзовый оттенок с неуловимым золотым отливом. Его одежда и паректированная фигура были в меру роскошными, но без тени экстравагантности, кудрявые волосы — коротко подстрижены. В любом его слове и движении сквозила та спокойная уверенность в себе, о которой мечтают все, но добиваются лишь избранные. Его ум был очевиден, внимание к другим — неподдельным, остроумие вошло в поговорки.
Я невзлюбил этого сукина сына с первого взгляда.
— Госпожа Шер, господин Северн — искусством является все, — улыбнулся Рейнольдс. — Либо вот-вот станет им. Миновали времена, когда война считалась актом навязывания своей политики другими средствами.
— Дипломатии, — произнес генерал Морпурго, сосед Рейнольдса слева.
— Простите, генерал?..
— Дипломатии, — повторил тот. — И не «навязывания», а «продолжения».
Спенсер Рейнольдс учтиво поклонился. Сюдетта Шер и Тирена негромко рассмеялись. Лик советника Альбедо выглянул из-за моего левого плеча и произнес:
— Фон Клаузевиц, по-моему?
Я взглянул на советника. Портативный проектор, легко сошедший бы за лучистую паутину — их много летало между ветвями, — парил в двух метрах над нами. Иллюзия была не такой совершенной, как в Доме Правительства, но гораздо лучше, чем от любого из виденных мною ранее голопроекторов.
Генерал Морпурго слегка поклонился представителю Техно-Центра.
— Как бы то ни было, — заметила Шер, — сам взгляд на войну как на вид искусства, блестящая находка.
Я покончил с салатом, и официант проворно подал незнакомый мне темно-серый суп. От него поднимался пар с легким ароматом корицы и моря. Восхитительное блюдо.
— Война — благодатный материал для самовыражения творческой личности. — Рейнольдс взмахнул вилкой для салата, как дирижер палочкой. — Я не имею в виду… гм… ремесленников, вызубривших так называемую военную науку. — Он с улыбкой покосился на Морпурго и офицера ВКС — его соседа, разом вычеркнув обоих из списка творцов. — Только тот, кто готов заглянуть за бюрократические барьеры тактики, стратегии и замшелой воли к победе, может использовать столь сложный материал, как война, с должным изяществом.
— Как вы сказали? Замшелая воля к победе? — переспросил сосед Морпурго.
Инфосфера шепнула, что это капитан 3-го ранга Вильям Аджунта Ли, герой Островной войны на Мауи-Обетованной. Он выглядел молодо — лет на пятьдесят пять, — а его звание наводило на мысль, что своей моложавостью он обязан долгим межзвездным перелетам, а никак не Поульсену.
— Конечно, замшелая! — рассмеялся Рейнольдс. — Уж не думаете ли вы, что скульптор хочет победить глину? Разве художник атакует холст? И если уж на то пошло, разве орел или царь-ястреб сражаются с небом?
— Орлы вымерли, — проворчал Морпурго. — Может, и зря они не сражались с небом. Оно их предало.
Рейнольдс снова повернулся ко мне. Официант уже убрал его недоеденный салат и поставил перед ним тарелку с таким же, как у меня, темно-серым супом.
— Господин Северн, вы художник… во всяком случае, иллюстратор, — сказал он. — Помогите мне объяснить этим людям, что я имею в виду.
— Я не знаю, что вы имеете в виду. — Ожидая следующего блюда, я постучал по своему бокалу. Его немедленно наполнили. С другого конца стола, где сидели Гладстон, Хент и руководители благотворительного фонда, донесся взрыв смеха.
Спенсер Рейнольдс ничуть не удивился моему невежеству.
— Для того чтобы наш вид смог достичь подлинного сатори и мы поднялись на следующую ступень духовной эволюции, которую предвещают наши философы, — для этого все грани человеческой деятельности должны быть пронизаны волей к эстетическому совершенству, — самозабвенно вещал художник.
Генерал Морпурго, осушив залпом бокал, проворчал:
— Это что же, касается и таких плотских потребностей, как еда, размножение и избавление от экскрементов? Я правильно понял?
— Именно! Таких потребностей — прежде всего! — воскликнул Рейнольдс. Он развел руки, как бы поднося собравшимся длинный стол со всеми его яствами и чудесами. — То, что вы здесь видите — животная потребность превращения мертвых органических соединений в энергию, низменный акт поглощения чужой жизни, но «Макушка» преобразила это в искусство! Размножение тоже превратилось из разнузданного животного процесса в танцевальные па. Разумеется, для цивилизованных людей. И экскрекция должна стать поэзией!
— Непременно вспомню об этом, когда в следующий раз пойду посрать, — в полный голос заявил Морпурго.
Тирена Вингрен-Фейф с приглушенным смешком обернулась к своему соседу справа — мужчине в красном и черном.
— Монсеньор, ваша церковь… католическая, раннехристианская, не так ли? Нет ли у вас какой-нибудь очаровательной древней доктрины о том, чего достигнет человечество в процессе эволюции?
Мы все повернулись и посмотрели на небольшого мужчину в черной сутане и странной маленькой шапочке. Монсеньор Эдуард, представитель почти забытой раннехристианской секты, прозябающей нынче на Пасеме и нескольких колониальных планетах, попал в число гостей благодаря своему участию в программе помощи Армагасту и до сих пор тихо работал ложкой.
— О да, — сказал он, и на его морщинистом лице появилось слегка удивленное выражение. — В учении Святого Тейяра рассматривается эволюция к точке Омега.
— Аналогична ли точка Омега идее практического сатори наших дзен-гностиков? — спросила Сюдетта Шер.
Монсеньор Эдуард тоскливо взглянул на свой суп.
— Нет, не совсем, — терпеливо ответил он. — Святой Тейяр считал, что все живые создания, все уровни органического разума есть звенья предопределенной свыше эволюции к окончательному слиянию с Божеством. — Тут он слегка нахмурился. — За прошедшие восемь веков идеи Тейяра подвергались переосмыслению, но основополагающая мысль — что мы рассматриваем Иисуса Христа как пример воплощения искомого высшего сознания в человеческой плоскости… — осталась прежней.
Я кашлянул:
— Гипотеза Тейяра получила дальнейшее развитие в трудах иезуита Поля Дюре, не так ли?
Монсеньор Эдуард окинул меня внимательным взглядом. На его печальном лице появилось недоумение.
— Конечно же, да, — ответил он. — Но я, признаюсь, никак не ожидал встретить здесь кого-то знакомого с трудами отца Дюре.
Я смотрел в глаза человека, который оставался другом Дюре, даже когда сослал его на Гиперион за отступничество. Я вспомнил о другом беженце из Нового Ватикана, молодом Ленаре Хойте, который лежит сейчас мертвый в ледяной Гробнице Времени, пока паразиты-крестоформы, несущие в себе искалеченные ДНК отца Дюре и самого Хойта, продолжают свой кощунственный труд по их воскрешению. Как вписываются эти исчадия ада в идеи Тейяра и Дюре о неизбежном светлом движении к Божеству?
Тут Спенсер Рейнольдс, вероятно, решил, что не стоит выпускать нить разговора из своих красивых рук.
— Дело в том, — сказал он, и его звучный, хорошо поставленный голос перекрыл оживленную беседу в средней части стола, — что война, подобно религии или любой другой всеохватывающей человеческой деятельности, должна оставить свою инфантильную озабоченность буквалистским соответствием предмету, который выражается в рабской одержимости так называемой целью, и наслаждаться всецело эстетической стороной явления. Теперь о моем собственном, самом последнем проекте…
— А какова цель вашего культа, монсеньор Эдуард? — вырвала нить разговора из рук Рейнольдса Тирена Вингрен-Фейф. Она проделала это играючи, не повышая голоса и не отводя взгляда от лица священника.
— Помочь человечеству познать Бога и служить ему, — тихо ответил тот и принялся шумно доедать свой суп. Покончив с ним, старичок посмотрел на советника Альбедо, ища у него поддержки.
— Я слышал, советник, что Техно-Центр преследует до странного аналогичную цель. Правда ли, что вы пытаетесь создать своего собственного Бога?
Улыбка Альбедо была рассчитана идеально: она выглядела дружеской без малейших признаков фамильярности или снисходительности.
— Не секрет, что Центр давно работает над созданием хотя бы теоретической модели так называемого искусственного интеллекта, намного превосходящего наши скромные способности. — Он взмахнул рукой. — Но вряд ли это можно рассматривать как попытку создания Бога, монсеньор. Вернее видеть в этом экспериментальный проект, развивающий гипотезы ваших Святого Тейяра и отца Дюре.
— Но вы все же надеетесь, что сумеете довести вашу собственную эволюцию до уровня этого сверхсознания? — спросил капитан Ли, герой морских сражений, внимательно вслушивавшийся в разговор. — Можно ли сконструировать высший разум, как мы когда-то сконструировали ваших примитивных предков из кремния и микрочипов?
Альбедо рассмеялся.
— Боюсь, будет не столь грандиозно. И не столь просто. И когда вы употребляете слово «вы», капитан, не забывайте, пожалуйста, что моя личность — лишь капля в море разнообразных разумов, столь же пестром, как общество людей на этой планете… и тем более во всей Сети. Техно-Центр — не монолит. Как всякая плюралистическая цивилизация, он может похвастаться множеством философий, учений, гипотез, даже религий, если угодно. — Альбедо скрестил руки на груди, будто смакуя пришедшую на ум остроту. — Хотя лично я склонен воспринимать охоту за Высшим Разумом как хобби, а не как религию. Это все равно что собирать кораблик внутри бутылки, капитан, или спорить, сколько ангелов уместится на острие иглы, — и Альбедо взглянул на монсеньора.
Все вежливо рассмеялись — все, кроме Рейнольдса, который непроизвольно хмурился, очевидно, размышляя, как бы снова перехватить нить разговора.
— А что вы скажете о слухах, будто в процессе работы над Высшим Разумом Техно-Центр создал точную копию Старой Земли? — выложил вдруг я, сам себе на удивление.
Улыбка на лице Альбедо не померкла, дружелюбная искра в глазах не погасла, но на какую-то долю наносекунды сквозь призрачный лик советника проглянуло ЧТО-ТО. Что? Удивление? Гнев? Насмешка? Ума не приложу. За эту бесконечную секунду он мог тайно связаться со мной, передать колоссальный объем информации через пуповину, соединяющую меня с Техно-Центром, или по невидимым каналам, зарезервированным нами для собственных нужд в лабиринтах инфосферы, которые люди наивно считают прямыми коридорами. И с той же самой легкостью он мог убить меня, отдав приказ тем членам Техно-пантеона, которые распоряжаются жизнями мне подобных так же просто, как директор института приказывает лаборанту усыпить ненужную для эксперимента мышь.
Разговоры за столом стихли сами собой. Даже Мейна Гладстон и ее высокие гости все как один повернули головы в нашу сторону.
Советник Альбедо еще шире улыбнулся.
— Какая дивная нелепица! Скажите, господин Северн, может ли кто-нибудь, в особенности такой организм, как Техно-Центр, который ваши комментаторы именуют «шайкой бестелесных мозгов и приблудных программ, что дезертировали из своих плат и занимаются выковыриванием интеллектуального мусора из своих несуществующих пупков…» Так вот, может ли кто-нибудь создать точную копию Старой Земли?
Я посмотрел на проекцию — сквозь проекцию, — впервые заметив, что тарелки и еда Альбедо тоже были иллюзией: разговаривая, он не переставал жевать.
— Кроме того, — продолжал он, очевидно, сильно позабавленный моим простодушием, — не приходило ли на ум сочинителям этой басни, что «точной копией Старой Земли» может быть разве что сама Старая Земля во всех ее проявлениях? И как, скажите на милость, можно использовать подобный артефакт в работе над расширением теоретических возможностей матрицы искусственного разума?
Когда стало ясно, что отвечать я не собираюсь, над столом повисло неловкое молчание.
Монсеньор Эдуард прокашлялся.
— Думается, — сказал он, — что… э-э… общество, способное создать точную копию любого мира, в особенности мира, уничтоженного четыре века назад, не нуждается в Боге; оно само было бы Богом.
— Совершенно верно! — рассмеялся советник Альбедо. — Да, глупые слухи, но восхитительные… просто восхитительные!
Все облегченно рассмеялись, возобновился прежний шум. Спенсер Рейнольдс заговорил о своем новейшем замысле — он мечтал уговорить самоубийц организованно прыгать с высоких мостов на двадцати мирах Сети с трансляцией перформанса по Альтингу, — но Тирена Вингрен-Фейф снова привлекла к себе внимание, обняв монсеньора Эдуарда и зазывая его на нудистскую вечеринку в своем плавучем поместье на Безбрежном Море.
Я встретился глазами с советником Альбедо и отвернулся — как раз вовремя, чтобы перехватить вопросительные взгляды Ли Хента и Мейны Гладстон. К счастью, в этот момент официанты внесли на серебряных тарелках очередную смену блюд.
Обед был превосходный.
Глава 15
Я не пошел на Тиренину нудистскую вечеринку. Не пошел туда и Спенсер Рейнольде — я видел его оживленно беседующим с Сюдеттой Шер. Не знаю, правда, поддался ли на уговоры Тирены монсеньор Эдуард.
Обед близился к концу. Члены правления благотворительного фонда произносили один за другим короткие речи. Остальные важные персоны уже начинали шуршать салфетками, когда Ли Хент шепнул мне, что секретарь Сената со свитой собирается удалиться и просит меня сопровождать ее.
Было почти 23:00 по стандартному, и я рассудил, что Гладстон возвращается в Дом Правительства. Каково же было мое удивление, когда, пройдя сквозь одноразовый портал — я замыкал шествие вместе с телохранителями-преторианцами, — я оказался в коридоре между каменными стенами. В высоких окнах пламенела марсианская заря.
Формально Марс не входит в состав Сети: доступ на древнейшую внеземную колонию человечества преднамеренно затруднен. Дзен-гностики — паломники, отправляющиеся к Скале Мастера в Море Эллады, — должны транспортироваться на станцию «Старая Родина» и там пересаживаться на челноки, курсирующие между Ганимедом, Европой и Марсом. Это отнимает несколько часов, не больше, но в обществе, где до любого уголка Вселенной буквально рукой подать, такое путешествие считается великой жертвой, опасным приключением. Помимо историков и специалистов по коньячным кактусам, мало кто решается на него. И ряды паломников ныне, во времена упадка дзен-гностицизма, значительно поредели. Марс никому больше не нужен.
Никому, кроме ВКС. Хотя штабные учреждения находятся на ТКЦ, а базы разбросаны по всей Сети и Протекторату, подлинным домом для военных остается Марс. А Олимпийская Офицерская Школа — его сердце.
На встречу с нашей группой политических шишек собралась группа шишек военных. И пока эти группы перемешивались, как столкнувшиеся галактики, я отошел к окну.
Коридор был частью комплекса, выдолбленного в стене кратера горы Олимп, и с десятимильной высоты моего наблюдательного пункта чудилось, что одним взглядом обнимаешь полпланеты. Отсюда Марс представлялся древним вулканическим щитом. Высота, как жезл фокусника, превратила подъездные дороги, прилепившийся к горному склону старый город, трущобы и леса плато Фарсида в точки и закорючки на красной равнине, неизменной со времени, когда первый человек ступил на эту планету, объявил ее собственностью страны под названием Япония и щелкнул затвором фотоаппарата.
Я смотрел, как поднимается маленькое солнце, думая: «Так вот оно — Солнце», любуясь умопомрачительной игрой света на облаках, которые тяжело выползали из темноты и карабкались по крутому склону, когда ко мне подошел Ли Хент.
— Госпожа секретарь Сената примет вас после совещания. — Он передал мне два альбома для эскизов, за которыми кто-то из помощников Гладстон слетал в Дом Правительства. — Надеюсь, вы понимаете, что все увиденное вами на этом совещании совершенно секретно?
Я понял: это приказ, а не вопрос.
Широкие бронзовые двери распахнулись. Зажглись светильники, озарив пандус и лестницу с ковровой дорожкой, ведущие к столу Военного Кабинета. Он стоял на единственном островке света посреди просторного, погруженного во тьму помещения, напоминающего большую университетскую аудиторию. К столу ринулись адъютанты: проворно отодвигая стулья, они указали своим начальникам места и вновь слились с темнотой. Скрепя сердце я повернулся спиной к восходящему солнцу Марса и спустился вслед за остальными в эту яму.
Совещание вели генерал Морпурго и тройка командующих ВКС. Здешние наглядные пособия ушли на несколько световых лет вперед от примитивных панелей и голограмм Дома Правительства. Мы оказались в огромном планетарии, способном при необходимости вместить не менее восьми тысяч студентов и преподавателей. Тьма под куполом мгновенно озарилась высокочеткими голограммами и схемами величиной с нуль-больное поле. В этом было что-то жуткое.
Содержание сообщений пугало не меньше, чем антураж.
— Еще чуть-чуть, и мы проиграем битву за Гиперион, — сухо заключил Морпурго. — В лучшем случае мы добьемся ничьей, если сумеем удержать Рой за пределами стратегического района, то есть в радиусе пяти астроединиц от сингулярной сферы нуль-канала. Причем нам придется постоянно отражать атаки их малых кораблей. В худшем — будем вынуждены отступить на оборонительные позиции и произвести эвакуацию флота и граждан Гегемонии, а Гиперион отдать Бродягам.
— А где же обещанный сокрушительный удар? — спросил сенатор Колчев, сидевший во главе ромбообразного стола. — Где ваша «решительная атака» на Рой?
Морпурго откашлялся, будто собирался ответить, и взглянул на адмирала Наситу. Тот встал. Казалось, хмурое лицо адмирала парит в темноте отдельно от его тела — на нем был черный мундир, сливающийся с темнотой зала. Это мне напомнило… Но я не стал вспоминать что. Я предпочел перевести взгляд на лицо Мейны Гладстон, подсвеченное сиянием карт и диаграмм, паривших над нашими головами, как объемная разноцветная тень дамоклова меча. Бумажный альбом мне надоел, и теперь я водил пером по складной демонстрационной панели.
— Во-первых, наши разведданные о Роях оказались скудными по нашей вине, — начал Насита. Под куполом тут же вспыхнули новые графики. — Зонды-разведчики и станции слежения не могли идентифицировать каждую единицу кочевого флота Бродяг. В результате реальная боевая мощь данного Роя была серьезно недооценена. Наши попытки прорвать их оборону с использованием палубных истребителей и факельщиков оказались не столь успешными, как ожидалось.
Во-вторых, необходимость сохранять чрезвычайно протяженный оборонительный периметр системы Гипериона легла тяжким грузом на обе наши эскадры; выделение тяжелых кораблей в количестве достаточном для осуществления наступательных действий в то время не представлялось возможным.
Колчев прервал его.
— Адмирал, вы утверждаете, что мы не можем разбить врага или хотя бы отбить атаки Бродяг на систему Гипериона из-за нехватки кораблей. Я вас правильно понял?
Насита пристально посмотрел на сенатора, и я вспомнил картину, изображавшую самурая, который собирался обнажить меч для харакири.
— Правильно, сенатор Колчев.
— Однако на заседании кабинета не далее, чем одну стандартную неделю назад, вы заверяли нас, что двух эскадр достаточно, чтобы спасти Гиперион от вторжения и разорения, а также нанести этому Рою сокрушительный удар. В чем дело, адмирал?
Насита выпрямился во весь рост — он был теперь выше Морпурго, но все равно ниже среднего жителя Сети, — и повернулся лицом к Гладстон.
— Госпожа секретарь, я уже объяснил, почему следует изменить нашу стратегию. Может быть, мне снова объявить о начале совещания?
Мейна Гладстон облокотилась о стол, подперев голову ладонью, всем своим видом выражая напряженное внимание и усталость.
— Адмирал, — начала она тихо, — я считаю вопрос сенатора Колчева вполне относящимся к делу. Но я думаю также, что ситуация, обрисованная вами сегодня и на предыдущих совещаниях, говорит сама за себя. — Она повернулась к Колчеву: — Габриэль, мы ошиблись. При этом количестве задействованных сил мы получаем пат — это в лучшем случае. Бродяги подлее, крепче и гораздо многочисленнее, чем мы предполагали. — Она перевела взгляд на Наситу: — Адмирал, сколько кораблей вам требуется?
Насита закусил губу, очевидно, растерянный: он никак не ожидал услышать этот вопрос в начале совещания. Взглянув на Морпурго и прочих генералов, он решительно сцепил руки на животе, как распорядитель на похоронах.
— Двести. По меньшей мере двести военных кораблей первого класса.
Раздался скрип множества сидений. Я поднял глаза от рисунка: все перешептывались, растерянно озираясь по сторонам. Одна Гладстон сидела невозмутимо. Только через секунду я догадался, в чем дело.
Во всех ВКС не насчитывалось и шестисот таких кораблей. И каждый стоил целое состояние. Считанным мирам было по карману построить более одного-двух боевых звездолетов линейного класса, а колониальную планету, возмечтавшую о собственной эскадрилье факельщиков с двигателями Хоукинга, ждало полное банкротство. Однако любой из этих кораблей обладал фантастической мощью: ударный авианосец мог опустошить целую планету, соединение, состоящее из крейсеров и эсминцев, — взорвать звезду. Несомненно, что сосредоточенные в системе Гипериона корабли Гегемонии могли — будучи разосланными во все концы Сети по нуль-фарватерам транспортной матрицы ВКС — сокрушить большинство ее звездных систем. Веком ранее хватило полусотни таких кораблей, о которых говорил Насита, чтобы уничтожить флот Гленнон-Хайта и выжечь каленым железом самые корни мятежа.
И все же Насита требовал, чтобы в систему Гипериона были введены ДВЕ ТРЕТИ всего флота Гегемонии сразу. Я кожей ощутил, как по рядам электрической искрой пробежала тревога.
Сенатор Ришо с Возрождения-Вектор набралась храбрости первой:
— Адмирал, ведь мы никогда еще не осуществляли такой плотной концентрации космических сил, не так ли?
Голова Наситы повернулась плавно, как на подшипниках. Сдвинутые брови по-прежнему топорщились:
— Госпожа Ришо, никогда еще будущее Гегемонии не зависело в такой степени от действий флота.
— Да, я понимаю, — кивнула Ришо. — Но я хотела бы узнать, как это скажется на обороне Сети в других местах. Не слишком ли это рискованный шаг?
Насита что-то рявкнул, и графики под исполинским куполом завертелись, расползлись туманными клочьями и вновь сгустились в умопомрачительную панораму. Забелел Млечный Путь, увиденный из точки, приподнятой над плоскостью галактического экватора. Тут же угол зрения изменился — с головокружительной скоростью нас потащило к одному из спиральных рукавов, и впереди повисла голубая паутина нуль-транспортной сети, пронизывающей Гегемонию: золотое неровное ядро с шипами и ложноножками, окруженное зеленым нимбом Протектората. На фоне громадной галактики Сеть казалась неумелым наброском, причудой детской фантазии — и при всей унизительности этого ощущения оно в точности отражало положение дел.
Внезапно по изображению пробежала рябь, и Сеть с Протекторатом разрослись до размеров Вселенной. Лишь на заднем плане — ради создания перспективы — мерцали сотни звезд.
— Перед вами диспозиция подразделений нашего флота, — объявил адмирал. Внутри золотого пятна и за его пределами зажглось несколько сотен ярко-оранжевых огоньков. Больше всего их было вокруг захолустной звезды, в которой я не сразу узнал светило Гипериона. — А это Рои Бродяг — по самым свежим наблюдениям. — Появилась дюжина красных линий. Стрелки и синие пунктирные хвосты указывали направления их движения. Даже столь крупный масштаб не показывал вторжения каких-либо Роев в пространство Гегемонии — за исключением одного из них, самого крупного, который, резко изменив курс, направлялся к системе Гипериона.
Я заметил, что эскадры ВКС в основном отслеживают перемещения Роев, если не считать скоплений кораблей вблизи баз и на орбитах неспокойных миров типа Мауи-Обетованной, Брешии и Кум-Рияда.
— Адмирал, — сказала Гладстон, отмахиваясь от комментариев. — Я думаю, вы позаботились рассчитать время передислокации флота в случае нарушения границы в какой-то другой точке.
На хмуром лице Наситы появилось что-то, могущее сойти за улыбку.
— Да, разумеется, госпожа секретарь, — снисходительно ответил он. — Если вы обратили внимание, ближайшие Рои, кроме того, что у Гипериона, находятся на значительном расстоянии. — Мы увидели скопление красных векторов под золотым облаком, где, как я предполагал, находились Небесные Врата, Роща Богов и Безбрежное Море. В таком масштабе Бродяги действительно казались весьма отдаленной угрозой. — Мы отмечаем миграции Роев по возмущениям поля Хоукинга, засеченными постами прослушивания в Сети и за ее пределами. Кроме того, наши зонды-разведчики регулярно определяют размеры их и направление движения.
— Как регулярно, адмирал? — перебил его сенатор Колчев.
— По крайней мере один раз в несколько лет, — отрезал Насита. — Следует учесть, что субъективная продолжительность рейса составляет несколько месяцев. Даже на гиперскорости полет занимает до двенадцати лет по нашему времени.
— Если наблюдения проводятся с интервалами в несколько лет, — настаивал сенатор, — откуда вам известно, где сейчас находятся Рои?
— Двигатели спин-звездолетов не лгут, сенатор, — проговорил Насита с нотками металла в голосе. — Возмущения поля Хоукинга подделать невозможно. То, что мы видим, — положение сотен или, в случае крупных Роев, тысяч отдельных работающих двигателей на данный момент. Эффект Хоукинга, как вам известно, распространяется без запаздывания во времени.
— Да, — отозвался Колчев тем же ровным и бесцветным тоном. — Но что, если Рои движутся медленнее спин-звездолетов?
Насита улыбнулся по-настоящему:
— Медленнее скорости света, сенатор?
— Вот именно.
Морпурго и другие военные покачали головами, пытаясь скрыть улыбки. Только капитан 3-го ранга Вильям Аджунта Ли внимательно, с серьезным лицом вслушивался в диалог.
— При движении медленнее скорости света, — назидательно произнес адмирал Насита, — нашим праправнукам придется задуматься, как предупредить о вторжении своих внуков.
Колчев не сдавался. Он указал туда, где ближайший к Гегемонии Рой совершал вираж над Небесными Вратами.
— А если вот эти попытаются приблизиться к нам, не используя двигателей Хоукинга?
Насита тяжело вздохнул. Очевидно, его раздражали эти нелепые попытки увести обсуждение в сторону.
— Сенатор, уверяю вас, если этот Рой отключит двигатели и тотчас же возьмет курс на Сеть, — Насита прикрыл глаза, консультируясь со своими имплантами и линиями связи, — он приблизится к нашим границам через двести тридцать стандартолет. Нас с вами эта беда обойдет.
Мейна Гладстон подалась вперед, и взоры всех присутствующих немедленно обратились к ней. Я отправил предыдущий набросок в память демпанели и начал новый.
— Адмирал, мне думается главный предмет нашей тревоги — это беспрецедентная концентрация сил вблизи Гипериона. Получается, что мы кладем все яйца в одну корзину.
Вокруг стола заулыбались. Гладстон была знаменита своей любовью к древним анекдотам, словечкам и афоризмам — так прочно забытым, что непосвященным они казались совершенно новыми. Вот и сейчас присутствующие приняли за восхитительную остроту старинную поговорку.
— Так мы действительно кладем все яйца в одну корзину? — допытывалась она.
Насита шагнул к столу и положил на него ладони. Длинные пальцы с силой надавили на дерево. В этом жесте был весь Насита, невысокий пожилой человек с несгибаемым характером, один из тех немногих, кто без особых усилий добивается всеобщего внимания и беспрекословного повиновения.
— Нет, госпожа Гладстон, не кладем. — Не поворачиваясь, он указал рукой на изображение над своей головой и позади себя. — Ближайшие Рои достигнут пространства Гегемонии лишь через два месяца движения на тяге Хоукинга, а это целых три года нашего времени. А кораблям ВКС в системе Гипериона — даже учитывая боевую обстановку и их разбросанность — понадобится менее пяти часов, чтобы перенестись в любой район Сети…
— Но это не относится к соединениям за пределами Сети, — заметила сенатор Ришо. — Колонии не могут остаться без защиты!
Насита снова взмахнул рукой:
— Двести военных кораблей, которые решат судьбу Гипериона, находятся в Сети или имеют собственные средства переноса. Ни одной из автономных единиц, приписанных к колониям, мы не коснемся.
Гладстон утвердительно кивнула.
— Но что будет, если Бродяги повредят портал Гипериона или даже захватят его?
По ерзанью, кивкам и вздохам присутствующих гражданских лиц я понял, что она высказала всеобщее опасение.
Потирая руки, Насита вновь поднялся на подиум, видимо, обрадованный, что с пустяками покончено.
— Отличный вопрос! Его уже поднимали на предыдущих совещаниях. Но я все-таки остановлюсь на нем. Во-первых, у нас более чем достаточно средств переноса. В данный момент в системе два «прыгуна». Планируется введение еще трех в составе эскадры поддержки. Вероятность уничтожения всех пяти кораблей очень, очень мала… попросту ничтожна. С учетом того, как увеличится наш оборонительный потенциал с прибытием новой эскадры. Во-вторых, вероятность захвата неповрежденных военных порталов и вторжения через них в Сеть равна нулю. Каждый корабль — каждый индивидуум! — входящий в портал ВКС, опознается по супернадежным кодовым микротранспондерам, которые ежедневно перепрограммируются…
— А если Бродяги расшифруют эти коды или введут собственные? — спросил сенатор Колчев.
— Исключено. — Насита расхаживал по подиуму взад-вперед, заложив руки за спину. — Смена кодов производится ежедневно с помощью одноразовых инфоматриц, поступающих по мультилинии ВКС из Сети…
— Извините, — сказал я, сам удивившись, что посмел раскрыть рот, — но сегодня утром я совершил краткую поездку в систему Гипериона и не заметил никаких транспондеров.
Несколько человек повернулись в мою сторону. Адмирал Насита снова изобразил из себя сову с головой на антифрикционных подшипниках.
— И тем не менее, господин Северн, — сухо произнес он, — вы и господин Хент были безболезненно и незаметно помечены инфракрасными лазерами на обоих концах нуль-канала.
Я кивнул, мимолетно удивившись, что адмирал запомнил мою фамилию, но тут же сообразил, что и у него есть импланты.
— В-третьих, — продолжал Насита, будто я его не прерывал, — даже если невозможное случится, и силы Бродяг, сломив нашу оборону, захватят наши порталы, обманут супернадежную систему пропускных кодов и справятся с техникой, которая им абсолютно незнакома, которую мы охраняем от их посягательств уже более четырех веков, — даже тогда их усилия окажутся напрасными, поскольку все передвижения войск на Гиперион будут производиться транзитом через базу Мадхья.
— Какую-какую? — спросили все хором.
Я слышал это название — «Мадхья» — только от Ламии Брон, когда она рассказывала о смерти клиента. Насита произносил это слово так же, как она, — «Мэдье».
— Мадхья, — удовлетворенно повторил Насита, улыбаясь во весь рот. Это была настоящая мальчишеская улыбка. Не запрашивайте свои комлоги, дамы и господа. — Мадхья — «черная» система. Ее нет ни в одном из списков или гражданских атласов нуль-сети. Мы бережем ее для экстремальных ситуаций. В ней всего одна пригодная для жизни планета, подходящая только для добычи руды и наших баз. Мадхья — наша резервная оборонительная позиция. Если случится невозможное и корабли Бродяг прорвутся в наши порталы у Гипериона, их отправят прямиком к Мадхье, где на выходные порталы нацелены бесчисленные дула автоматических орудий. Но если невозможное свершится еще раз и их флот переживет переход в систему Мадхья, все нуль-Т-каналы автоматически самоуничтожатся, и вражеские корабли застрянут на мели во многих годах от границ Сети.
— Прекрасно, — согласилась сенатор Ришо, — но ведь и наши корабли застрянут. Две трети нашего флота останется в системе Гипериона.
Насита застыл.
— Увы, это так, — сказал он. — Поэтому ставка и я не однажды взвесили все последствия этого маловероятного, можно даже сказать, статистически невозможного события. Мы считаем этот риск приемлемым. Если случится невозможное, у нас еще останется в резерве более двухсот кораблей для зашиты Сети, а в худшем случае мы потеряем систему Гипериона — но прежде всыплем Бродягам по первое число и отобьем у них охоту к разбою. Однако мы ожидаем гораздо более благоприятного результата. С учетом быстрого — в течение ближайших восьми стандарточасов — ввода двухсот боевых кораблей наши прогнозисты и Консультативный совет ИскИнов предсказывают 99-процентную вероятность полного поражения атакующего Роя и минимальные потери с нашей стороны.
Мейна Гладстон повернулась к советнику Альбедо. В густом полумраке его проекция выглядела безупречно.
— Советник, я не знала, что с Консультгруппой советовались. Заслуживает ли доверия 99-процентный коэффициент?
Альбедо улыбнулся.
— В полной мере, госпожа секретарь. Точный коэффициент — 99,962794 процента. — Он улыбнулся еще шире. — Вы можете спокойно положить все яйца в одну корзину. Все равно это ненадолго.
Лицо Гладстон осталось серьезным.
— Адмирал, сколько продлятся боевые действия после ввода подкреплений?
— Одна стандартная неделя, госпожа секретарь. Максимум.
Левая бровь Гладстон выгнулась.
— Так быстро?
— Да, госпожа секретарь.
— Генерал Морпурго, каково мнение наземных сил?
— Мы согласны с адмиралом, госпожа Гладстон. Подкрепления необходимы, и необходимы сейчас. Сто тысяч десантников и пехотинцев будут переправлены на Гиперион на транспортах, чтобы покончить с остатками Роя.
— За семь стандартодней или еще быстрее?
— Думаю, быстрее.
— Адмирал Сингх?
— Это абсолютно необходимо, госпожа секретарь.
— Генерал Ван Зейдт?
Одного за другим Гладстон опрашивала командующих ВКС и высших офицеров. Она даже поинтересовалась мнением начальника Олимпийской Школы, который весь раздулся от гордости, услышав свое имя.
— Капитан Ли?
Все взоры обратились к молодому офицеру. Генералы и адмиралы хмуро приосанились, и я внезапно сообразил, что Ли попал сюда по личному приглашению секретаря Сената, а отнюдь не заботами прямых начальников. Гладстон, по слухам, утверждала, что инициативности и уму капитана может позавидовать весь Генштаб ВКС. Похоже, за это совещание моряк расплатится карьерой.
Капитан 3-го ранга Вильям Аджунта Ли смущенно зашевелился в своем удобном кресле.
— При всем почтении к вам, госпожа секретарь, я должен напомнить, что являюсь младшим офицером флота и недостаточно компетентен, чтобы высказывать свое мнение по столь важным вопросам.
Гладстон, не улыбнувшись, слегка кивнула ему:
— Понимаю, капитан третьего ранга. Смею вас уверить, что присутствующие здесь высшие офицеры тоже понимают это. Однако в настоящий момент я буду очень признательна, если вы поделитесь со мной своим мнением.
Ли вскинул голову. На миг в его глазах мелькнуло что-то странное: пылкая убежденность, и тут же отчаяние зверя, попавшего в капкан.
— Хорошо, госпожа секретарь. Но прежде чем высказаться, я должен заявить, что только чутье (и это действительно только чутье: ведь я полный невежда в тактике межзвездных сражений) подсказывает мне: вводить подкрепления опасно. — Ли шумно выдохнул. — Это чисто военный взгляд на ситуацию, госпожа Гладстон. Мне ничего не известно о политической важности защиты системы Гипериона.
Гладстон подалась вперед.
— Тогда о чисто военной точке зрения, капитан третьего ранга. Почему вы против ввода подкреплений?
Даже туда, где я сидел, через весь стол, доходил жар от свирепых взглядов командующих. На капитане скрестилось несколько гигаваттных лазерных лучей, подобных тем, что использовались в древних инерционных термоядерных реакторах. Чуду подобно, что Ли не рассыпался, не взорвался, не воспламенился и не расплавился прямо у нас на глазах.
— С военной точки зрения, — четко произнес Ли, невидяще глядя перед собой, — два величайших греха, какие может совершить командир, — это распылять свои силы и э-э… как вы, госпожа секретарь, изволили выразиться… класть яйца в одну корзину. А в нашем случае корзину сплели даже не мы.
Гладстон кивнула и откинулась назад, вонзив пальцы в подбородок.
— Капитан, — отчеканил генерал Морпурго, и я обнаружил, что слова действительно можно выплевывать сквозь зубы, — теперь, когда вы соизволили преподать нам совет, могу я спросить, участвовали ли вы когда-нибудь в космическом сражении?
— Нет, сэр.
— Проходили ли вы какую-нибудь подготовку для участия в космических сражениях, капитан?
— Помимо минимальной подготовки в ООШ, которая ограничивается несколькими курсами по истории, — нет, сэр.
— Участвовали ли когда-нибудь в стратегическом планировании выше уровня… Я хочу спросить: сколько надводных кораблей было под вашей командой на Мауи-Обетованной, капитан?
— Один, сэр.
— Один, — громогласно повторил Морпурго. — И как велик был корабль?
— Он был невелик, сэр.
— Вам поручили командовать этим кораблем, капитан третьего ранга? Вы заслужили этот пост? Или он достался вам благодаря превратностям войны?
— Наш капитан был убит, сэр, и я принял командование. Это случилось во время последнего сражения на Мауи-Обетованной и…
— Достаточно, капитан. — Морпурго повернулся к нему спиной и обратился к Мейне Гладстон: — Хотите продолжить, госпожа секретарь?
Гладстон покачала головой.
Сенатор Колчев прокашлялся.
— Может быть, провести закрытое заседание в Доме Правительства?
— Нет необходимости, — резюмировала Гладстон. — Я приняла решение. Адмирал Сингх, вы уполномочены переводить в систему Гипериона столько боевых единиц, сколько сочтет нужным ставка.
— Да, госпожа секретарь.
— Адмирал Насита, я жду успешного завершения военных действий в течение одной стандартной недели после ввода необходимых подкреплений. — Она обвела взглядом всех сидящих вокруг стола. — Дамы и господа, нет ничего важнее сейчас, чем удержать Гиперион и окончательно нейтрализовать угрозу со стороны Бродяг.
Она поднялась и пошла к пандусу, уходящему ввысь.
— Доброй ночи всем.
Было почти 04:00 по времени Сети и Тау Кита, когда в мою дверь постучали. Это был Хент. Уже три часа с момента нашего возвращения в Дом Правительства я боролся с дремотой. И только-только смежил веки в уверенности, что Гладстон обо мне забыла, как раздался стук.
— В саду, — повелительно бросил Хент. — И, ради бога, заправьте рубашку.
Я брел по темным аллеям, мелкий гравий шуршал у меня под ногами. Фонарики и люм-шары горели вполнакала; свет звезд едва пробивался сквозь зарево от нескончаемых городов ТКЦ — одни орбитальные поселения летели по небу, как хоровод светляков.
Гладстон сидела на кованой скамье у моста.
— Господин Северн, — произнесла она тихо, — спасибо, что составили мне компанию. Простите за задержку: заседание кабинета только что закончилось.
Я остался стоять, не говоря ни слова.
— Расскажите, как вы съездили на Гиперион сегодня утром. — Она негромко рассмеялась в темноте. — Вернее, вчера утром. Какое у вас впечатление?
Я не знал, чего она ждет от меня. Мне казалось, эта женщина жадно, как губка, впитывает любую информацию, равно полезную и бесполезную.
— Я кое-кого встретил там, — обронил я.
— Кого же?
— Доктора Мелио Арундеса. Когда-то…
— А-а, друг дочери господина Вайнтрауба, — закончила за меня Гладстон. — Девочки, что растет наоборот. Есть новости?
— Ничего существенного, — ответил я. — Мне удалось немного поспать днем, но сны были какие-то обрывочные.
— А что вышло из встречи с доктором Арундесом?
Я потер подбородок, чувствуя, как внезапно похолодели пальцы.
— Его экспедиция уже несколько месяцев торчит в столице, — сказал я. — Возможно, они — наша единственная надежда выяснить, что происходит с Гробницами. И со Шрайком.
— Наши прогнозисты утверждают, что паломников следует оставить на произвол судьбы, пока они не выполнят свою миссию, — донесся до меня из темноты голос Гладстон. По-видимому, она отвернулась к ручью.
Я содрогнулся от безотчетного гнева.
— Отец Хойт уже «выполнил свою миссию». Если бы кораблю разрешили вылететь к паломникам, его можно было спасти! Что до Арундеса и его людей — они еще могут помочь младенцу, хотя осталось…
— Меньше трех суток, — педантично уточнила Гладстон. — Что еще? Какие у вас впечатления о планете, о флагманском корабле адмирала Наситы? Что вам показалось там интересным?
Мои руки сжались в кулаки и снова разжались.
— Вы не разрешите Арундесу вылететь к Гробницам?
— Еще не время.
— А что с эвакуацией населения Гипериона? По крайней мере граждан Гегемонии?
— В данный момент это невозможно.
Я хотел ответить, но сдержался. Услышав всплеск под мостом, я отвернулся к ручью.
— Так что, никаких впечатлений, господин Северн?
— Никаких.
— Что ж, желаю вам спокойной ночи и приятных сновидений. Завтрашний день обещает быть бурным, но я надеюсь обсудить с вами ваши сны, когда выпадет свободная минута.
— Спокойной ночи, — отозвался я и, повернувшись на каблуках, быстро зашагал назад, к моему крылу Дома Правительства.
В своей темной комнате я поставил сонату Моцарта и принял три таблетки трисекобарбитала. Хорошо бы нырнуть от этого химического нокаута в сон без сновидений, где призрак мертвого Джонни Китса и более чем призрачные паломники не сумеют меня отыскать. Правда, Мейна Гладстон будет разочарована, но это ее проблемы.
Я вспомнил о свифтовском Гулливере — как он исполнился отвращения к человечеству после возвращения из страны разумных лошадей-гуингмов. Сородичи опротивели ему до такой степени, что он спал в конюшне, дабы обонять запах лошадей и ощущать их присутствие.
Моей последней мыслью перед забытьем было: «К черту Гладстон, к черту войну и к черту Сеть».
И к черту сны.
ЧАСТЬ II
Глава 16
Лишь перед самым рассветом Ламия Брон забылась тревожным сном. Ее видения были полны странных, запредельных образов и звуков: вполуха услышанные, вполразума понятые обрывки бесед с Мейной Гладстон, комната, плавающая посреди космоса, люди, идущие по коридорам, где стены бормотали, как плохо настроенный приемник мультилинии. И во всех этих горячечных видениях и бессвязных картинах трепетало до безумия живое ощущение, что Джонни — ее Джонни — близко, совсем рядом. Ламия закричала во сне, но крик утонул в нестройных отголосках остывающего в ночи Сфинкса и шелесте перегоняемых ветром дюн.
Внезапно Ламия проснулась, словно кто-то включил сознание. Сол Вайнтрауб, вчера сам напросившийся на пост караульного, дремал у низкого входа в комнату, приютившую паломников. Его крохотная дочка спала в гнездышке из одеял рядом с ним, во сне она перевернулась на животик, и в такт дыханию на ее губах дрожали пузырьки слюны.
Ламия огляделась. В тусклом свете маломощного люм-шара и немногих солнечных лучей, преодолевших четырехметровый коридор, был виден лишь еще один из ее спутников — темный, храпящий куль на каменном полу. Кажется, Мартин Силен. Сердце Ламии ушло в пятки — ей вдруг померещилось, что, пока она спала, все исчезли. Силен, Сол, ребенок… — нет, не хватает одного Консула. Группа паломников из семи взрослых и ребенка истаяла, как мартовский сугроб: Хет Мастин пропал, когда они пересекали Травяное море в ветровозе; Ленар Хойт был убит вчера ночью, вскоре после этого исчез Кассад… Консул… что случилось с Консулом?
Ламия Брон снова огляделась, удостоверилась, что в сумрачном помещении нет ничего и никого, кроме рюкзаков, груды одеял и трех спящих — поэта, ученого и ребенка, нашла в складках одеяла автоматический пистолет отца, достала из рюкзака нейропарализатор и проскользнула мимо Вайнтрауба и младенца в коридор.
Стояло утро, такое ясное, что Ламия невольно прикрыла глаза ладонью. Она сошла с каменных ступеней Сфинкса на утоптанную тропу, ведущую в глубь долины. Буря миновала. Небосвод Гипериона сиял хрустально-чистой первозданной лазурью с зелеными переливами, звезда Гипериона — яркая белая лампочка — только что взошла из-за скалистой стены на востоке. Тени утесов смешались с причудливыми тенями Гробниц Времени на дне долины. Нефритовая Гробница вся искрилась. Ламия увидела свежие сугробы и дюны, наметенные прошедшей бурей — белые сугробы и алые пески перемешались и сияли на солнце, образовав валы и горки вокруг камней. От вчерашнего лагеря не осталось и следа. Консул сидел на валуне, метрах в десяти ниже по склону. Он смотрел на долину, над его трубкой вился дымок. Ламия спустилась к нему.
— Полковник исчез, — произнес Консул, даже не взглянув на нее, когда она подошла ближе.
Ламия посмотрела в сторону Хрустального Монолита. Его сияющий фасад зиял дырами и выбоинами, а верхние метров двадцать — тридцать как ножом срезало. Обломки у подножия все еще дымились. Полукилометровое пространство между Сфинксом и Монолитом превратилось в выжженное, изрытое пепелище.
— Да уж, драться полковник умеет, — заметила Ламия.
Консул что-то промычал в знак согласия. От табачного дыма Ламии захотелось есть.
— Я обшарил долину на два километра вплоть до самого Дворца Шрайка, — сказал Консул. — Бой, видимо, разыгрался вблизи Монолита. У основания в нем по-прежнему нет ни одного отверстия, но повыше дыр хватает. Ясно видна ячеистая структура, которую всегда показывали радары.
— И никаких следов?
— Никаких.
— Кровь? Обугленные кости? Записка, что полковник отлучился сдать белье в прачечную?
— Ничего.
Ламия, вздохнув, уселась на другой валун, по соседству с Консулом. Солнце припекало. Прищурившись, она оглянулась на вход в долину.
— Обалдеть можно, — пробормотала она. — Что же теперь делать?
Консул вынул трубку изо рта, хмуро посмотрел на нее и покачал головой:
— Сегодня я попытался вызвать корабль, но его по-прежнему держат под арестом. — Он выбил из трубки пепел. — Пытался использовать частоты экстренной связи, но никак не удается соединиться. Либо корабль не ретранслирует сигнал дальше, либо запрещено отвечать нам.
— Вы бы улетели?
Консул пожал плечами. Вместо вчерашнего парадного мундира на нем был шерстяной джемпер грубой вязки, серые вельветовые брюки и высокие ботинки.
— Будь корабль под рукой, у нас — у вас — была бы возможность выбора. Я бы посоветовал всем хорошенько подумать, есть ли смысл оставаться теперь. Хет Мастин исчез, Хойта и Кассада больше нет с нами — я и сам толком не знаю, что делать.
Низкий голос произнес у них за спиной:
— Можно попытаться приготовить завтрак.
Оглянувшись, Ламия увидела, как по тропе к ним спускается Сол. На его груди качалась в люльке Рахиль. Лысина старика сверкала на солнце.
— Неплохая мысль, — встрепенулась Ламия. — Как там у нас с продуктами?
— Позавтракать хватит, — ответил Вайнтрауб. — В резерве еще несколько пайков из мешка полковника. Потом примемся за тысяченожек, акрид и друг за друга.
Консул, изобразив на губах что-то вроде улыбки, убрал трубку в карман джемпера.
— Предлагаю вернуться назад в Башню Хроноса, пока до этого не дошло. Замороженные продукты с «Бенареса» мы съели, но в Башне есть кладовая.
— Это было бы здо… — начала было Ламия, но ее прервал дикий крик. Похоже, из Сфинкса.
Она первой добежала до Гробницы и, прежде чем войти, выхватила пистолет. В коридоре было темно, в помещении, где они спали, еще темнее, и Ламия не сразу разглядела, что там пусто.
Снова раздался крик невидимого Силена:
— Эй! Сюда!
Оглянувшись, она увидела входящего в Гробницу Консула.
— Стойте там! — приказала Ламия и быстро двинулась по коридору, прижимаясь к стене и держа в вытянутой руке снятый с предохранителя пистолет. У входа в небольшую комнату, где лежало тело Хойта, она остановилась на секунду, затем вошла, выставив перед собой оружие.
Мартин Силен, сидевший на корточках перед трупом, поднял голову.
В руке он сжимал угол фибропластовой простыни, которой они накануне накрыли тело священника. Он посмотрел на Ламию, невидяще глянул на пистолет в ее руке и снова уставился на тело.
— Вы можете в такое поверить? — спросил он, скорее у самого себя, чем у Ламии.
Ламия опустила пистолет и подошла ближе. Из-за ее плеча высунулся Консул. В коридоре послышались торопливые шаги: Сол Вайнтрауб спешил к ним с плачущей Рахилью на руках.
— Боже мой, — произнесла Ламия и присела у тела Ленара Хойта.
Изможденное бесцветное лицо молодого священника преобразилось. Перед ними лежал человек лет семидесяти: высокий лоб, изящный аристократический нос, тонкие губы, застывшие в легкой благожелательной улыбке, высокие скулы, заостренные уши под седыми прядями, окаймлявшими лысину, большие глаза с бледными, точно пергаментными веками.
Консул наклонился над ним.
— Я видел голограммы. Это отец Поль Дюре.
— Смотрите, — прошептал Силен. Он стащил простыню с тела, помедлил, а затем повернул лежавшего на бок. Два маленьких крестоформа на груди мужчины пульсировали розовым цветом так же, как на теле Хойта, но спина была чистой.
Сол стоял у входа, стараясь успокоить раскричавшуюся Рахиль. Когда ребенок замолчал наконец, он сказал:
— Кажется, бикура для… регенерации требовалось трое суток.
Мартин Силен вздохнул.
— Бикура воскрешались крестоформами более двух стандартных веков. Возможно, по первому разу дело проходит быстрее.
— Он что… — начала Ламия.
— Живой? — Силен коснулся руки девушки. — Потрогайте.
Грудь мужчины едва заметно подымалась и опускалась. Кожа была теплой. Под ней отчетливо прощупывались горячие крестоформы. Ламия, содрогнувшись, отдернула руку.
Существо, которое шесть часов назад было трупом Ленара Хойта, открыло глаза.
— Отец Дюре? — Сол шагнул к нему.
Голова мужчины повернулась. Он заморгал, будто свет резал ему глаза, затем что-то невнятно произнес.
— Воды, — догадался Консул и торопливо достал из кармана джемпера пластмассовую фляжку. Мартин Силен поддерживал голову незнакомца, пока Консул поил его.
Сол опустился перед ним на одно колено и дотронулся до его руки. Казалось, даже темные глаза Рахили с любопытством наблюдают за происходящим.
— Если вы не можете говорить, моргните дважды вместо «да» и один раз вместо «нет». Вы Дюре? — спросил Сол.
Мужчина повернул голову в сторону ученого.
— Да, — произнес он негромким, хорошо поставленным низким голосом. — Я отец Поль Дюре.
Они позавтракали ломтиками мяса, поджаренными прямо на пластинах обогревателя, и болтушкой, состряпанной из пригоршни зерна и разведенного молочного концентрата. Огрызок последнего батона разделили на пять кусочков. Высыпали в котелок остатки кофе. Ламии показалось, что ничего вкуснее она в жизни не ела.
Они сидели в тени растопыренного крыла Сфинкса вокруг «стола» — широкого валуна с плоской макушкой. Солнце было уже на полпути к зениту. Небо оставалось безоблачным. Стояла полная тишина — только звуки человеческих голосов да звяканье вилки или ложки нарушали ее.
— Вы помните… прежнее? — спросил Сол.
Священник надел запасной костюм Консула: серый, с гербом Гегемонии под сердцем. Эта домашняя, точнее, корабельная одежда Консула отцу Дюре была явно маловата.
Он держал кружку с кофе обеими руками, словно чашу для причастия.
— Прежнее… то есть то, что было, пока я не умер? — уточнил он, поднимая на собеседника глубокие умные глаза. Красивые старческие губы тронула улыбка. — Да, помню. Помню ссылку, бикура… — Он опустил глаза. — И даже дерево тесла.
— Хойт рассказывал нам о дереве, — тихо произнесла Ламия. — О том, как священник распял себя на активном дереве тесла в огненном лесу, предпочтя годы пытки бездумной жизни в симбиозе с паразитом-крестоформом.
Дюре покачал головой:
— В те последние секунды я думал, что победил их.
— Вы и победили, — быстро отозвался Консул. — Отец Хойт и другие отыскали вас. Вашему телу удалось отторгнуть паразита. Тогда бикура прирастили ваш крестоформ Ленару Хойту.
Дюре кивнул:
— Значит, от юноши не осталось и следа?
Мартин Силен указал на грудь Дюре:
— Очевидно, эта гадина не может совладать с законом сохранения массы. У Хойта были страшные боли, и очень долго: ему никак не удавалось вернуться туда, куда его гнали эти твари. Поэтому он так и не набрал веса для этого… черт, как бы его обозвать… двойного воскрешения.
— Это не важно, — сказал Дюре, грустно улыбнувшись. — Паразитной ДНК в крестоформе не занимать терпения. Если понадобится, она будет воскрешать своего хозяина из века в век. Рано или поздно оба паразита заживут своими домами.
— Вы помните, что было с вами после дерева тесла? — помедлив, спросил Сол.
Дюре допил кофе.
— Вы хотите спросить, помню ли я свою смерть? Рай или ад? — Он смущенно улыбнулся. — Нет, ничего такого я, увы, не помню. Помню боль. Бесконечную. Потом избавление. А потом — тьма. И наконец, пробуждение. Здесь. Сколько, вы говорите, лет прошло?
— Почти двенадцать, — сказал Консул. — Но для отца Хойта вполовину меньше. Он провел много времени в перелетах.
Отец Дюре встал, потянулся и принялся ходить взад и вперед. Он был высокого роста; несмотря на худобу, в нем чувствовалась сила. Глядя, как старик прохаживается вокруг стола, ступая по-кошачьи грациозно и уверенно, Ламия Брон с удивлением осознала, что этот человек волнует ее. Он был наделен харизмой — необъяснимым обаянием, обещающим немногим избранным либо безмерную власть, либо мученическую гибель. Ламия напомнила себе, что, во-первых, он священник церкви, требующий от своих служителей целомудрия, во-вторых, час назад был мертвецом. Интересно, как он действует на мужчин?
Дюре между тем уселся на валун, вытянул ноги и начал массировать бедра, видимо, борясь с судорогой.
— Вы уже поведали вкратце о себе: кто вы и зачем вы здесь, — проговорил он. — Если не возражаете, я хотел бы узнать о вас побольше.
Паломники молча переглянулись.
Дюре понимающе кивнул.
— Вы думаете, я тоже чудовище? Агент Шрайка? Я не удивлюсь, если у вас возникнет такая мысль. Это естественно.
— Да нет, мы так не думаем. — Ламия подняла глаза на священника. — Шрайк не нуждается в агентах. Кроме того, мы знаем вас по рассказу отца Хойта и по вашим дневникам. — Она покосилась на остальных. — Но нам было… ужасно трудно… рассказывать друг другу, почему мы попали на Гиперион. И мы просто не в силах повторять сейчас эти рассказы.
— Я делал записи на свой комлог, — сказал Консул. — Это только выжимки, но по ним можно составить некоторое представление о наших историях и об истории Гегемонии за последние десять лет. Почему Сеть ведет войну с Бродягами и тому подобное. Я с удовольствием предоставлю его в ваше распоряжение, если хотите. Это отнимет у вас не более часа.
— Буду вам очень признателен, — живо откликнулся отец Дюре и двинулся вслед за Консулом к Сфинксу.
Ламия, Сол и Силен направились к воротам долины. С седловины между низкими скалами хорошо просматривались дюны и пустоши, простирающиеся на юго-запад, в направлении Уздечки, до которой было неполных десять километров. Разбитые купола, покосившиеся шпили и разрушенные галереи мертвого Града Поэтов, все глубже погружающегося в пески, виднелись в каких-то двух-трех километрах справа, за возвышенностью.
— Я схожу в Башню за продуктами, — предложила Ламия.
— Не стоит дробить группу, — возразил Сол. — Может, пойти всем вместе?
Мартин Силен скрестил руки на груди.
— Кто-то должен остаться здесь на случай возвращения полковника.
— Тогда, — заметил Сол, — осмотрим сначала оставшуюся часть долины. Утром Консул не углублялся дальше Дворца Шрайка.
— Верно, — отозвалась Ламия. — Давайте сделаем это прямо сейчас, чтобы я успела потом набрать в Башне провианта и вернуться до темноты.
Они спустились к Сфинксу в тот момент, когда оттуда вышли Дюре и Консул. Священник держал в руке запасной комлог Консула. Ламия рассказала им о своем плане, и оба немедленно присоединились к остальным.
Они вновь обошли все залы Сфинкса. И везде лучи карманных фонариков и лазерных карандашей выхватывали из тьмы лишь мокрый камень да причудливые выступы. Выйдя на полуденный солнцепек, паломники прошли триста метров до Нефритовой Гробницы. На пороге комнаты, где лишь вчера ночью им явился Шрайк, Ламию охватила дрожь. На зеленых изразцах еще темнело ржаво-коричневое пятно: кровь Хойта. Прозрачный люк в полу, ведущий в лабиринт, исчез бесследно. Не оставил следов и Шрайк.
В Обелиске не было ни комнат, ни перегородок — лишь уходящая вверх шахта с черными как смоль стенами и винтовой лестницей, настолько крутой, что далеко не каждый отважился бы на подъем. Здесь даже шепот отдавался бесконечным эхом, и паломники старались обходиться без слов. В пятидесяти метрах над полом лестница обрывалась; обшарив гладкие, без единого отверстия стены, лучи фонарей уперлись в черный свод над головами. Прикрепленные к стенам веревки и цепи — память о двух столетиях паломничества к Гробницам — позволили спуститься с этой весьма опасной высоты без особого риска. У выхода паломники помедлили. Силен позвал напоследок: «Кассад!» — и эхо вырвалось вслед за ними наружу, в освещенный солнцем мир.
На осмотр мертвой зоны вокруг Хрустального Монолита ушло не меньше получаса. Посреди песка блестели стеклянные проплешины, достигавшие пяти — десяти метров в диаметре. Эти зеркала концентрировали жар полуденного солнца, обжигая лицо и руки. Взглянув на истерзанный фасад Монолита, весь в дырах, выбоинах и потеках расплавленного хрусталя, можно было подумать, что Гробница стала жертвой вандалов, но все понимали: Кассад защищал свою жизнь. Приборы показывали, что Монолит по-прежнему пуст и изолирован от окружающего мира. Сотовидный лабиринт внутри него оставался недоступным. Постояв несколько минут, паломники направились по крутой тропе к подножию северных скал, где находились Пещерные Гробницы.
— Первые археологи считали эти Гробницы самыми древними из-за грубой обработки стен, — тихо заметил Сол, когда они вошли в первую пещеру. Лучи фонариков заскользили по камню, испещренному тысячами не поддающихся расшифровке надписей. Все пещеры имели в глубину не более тридцати — сорока метров, все, как одна, заканчивались тупиками, за которыми не удавалось обнаружить ничего, кроме камня.
Выбравшись из третьей Пещерной Гробницы, паломники расселись на чудом найденном островке тени и поделили поровну воду и белковое печенье из рациона Кассада. Разыгравшийся ветер вздыхал и свистел у них над головами, как Эолова арфа.
— Не найти нам полковника, — сказал Мартин Силен. — Этот гад Шрайк утащил его с собой.
Сол тем временем кормил Рахиль. Как ни старался он прикрывать ее от солнца, ее макушка порозовела.
— Он может быть в одной из Гробниц, которые мы уже осмотрели, — проговорил он, не отрывая глаз от бутылочки. — По теории Арундеса там есть отсеки, существующие в другом времени. Он считает Гробницы многослойными четырехмерными объектами со сложной пространственно-временной структурой.
— Великолепно, — саркастически заметила Ламия. — Значит, даже если Федман Кассад там, нам до него не достучаться.
— Ну что ж. — Консул с видимым усилием поднялся на ноги. — Давайте тогда хотя бы прогуляемся для порядка. Осталась всего одна Гробница.
Дворец Шрайка стоял километром дальше, в самой низкой части долины, прячась за изгибом скалистой стены. Дворец был невелик, меньше Нефритовой Гробницы, но из-за причудливой архитектуры — тщательно продуманному хаосу изогнутых выступов и шпилей, крученых контрфорсов и пилонов — выглядел куда массивнее.
Внутри он представлял собой одну гулкую залу с неровным полом, состоящим из тысяч переплетенных между собой сегментов. Ламия мысленно сравнила их с ребрами и позвонками какого-то ископаемого чудища. В пятнадцати метрах над головой свод пересекали десятки хромовых «клинков», которые, проходя сквозь стены и сквозь друг друга, выныривали на крыше сооружения остроконечным гребнем. Сам свод был полупрозрачным, и казалось, что Дворец до краев налит опалесцирующей жидкостью.
Ламия, Силен, Консул, Вайнтрауб и Дюре начали хором звать Кассада. Их голоса, отражаясь от утыканного клинками свода, снова и снова возвращались к ним искаженным эхом.
— Никаких следов Кассада или Хета Мастина, — сказал Консул, когда они вышли наружу. — Возможно, так и задумано… Мы будем пропадать поодиночке, пока не останется один из нас.
— И тогда, как гласит легенда, желание этого последнего — или последней — исполнится? — спросила Ламия. Она сидела на каменном фундаменте Дворца, болтая в воздухе крепкими ногами.
Поль Дюре поднял глаза к небу.
— Не могу поверить, что отец Хойт действительно пожелал купить мне жизнь ценой собственной.
Мартин Силен, прищурившись, посмотрел на священника.
— Каким же будет ваше желание, падре?
Дюре не замедлил с ответом:
— Я хотел бы пожелать… помолиться… чтобы Господь раз и навсегда избавил человечество от двух проклятий — войны и Шрайка.
Воцарилось молчание, нарушаемое лишь вздохами и стонами послеполуденного ветра.
— Ну а пока, — сказала Ламия, — мы должны раздобыть какую-нибудь пищу. Или научиться питаться воздухом!
Дюре кивнул.
— Почему вы захватили с собой так мало?
Мартин Силен рассмеялся и напыщенно продекламировал:
Не брал он в рот ни хереса, ни джина, Не смешивал ни разу в чаше грог; Вкусней приправ была ему мякина; И, презирая всей душой порок, С гуляками якшаться он не мог, От дев хмельных бежал он легче лани К воды потокам: мирный ручеек Поил его — и, воздевая длани, Левкои поедал он в предрассветной рани.[47]Дюре недоуменно улыбнулся.
— Мы надеялись победить или погибнуть в первую же ночь, — пояснил Консул. — И не рассчитывали застрять здесь надолго.
Ламия Брон встала и отряхнула брюки.
— Я пошла, — объявила она. — Попытаюсь принести провианта дней на пять, если, конечно, там есть армейские рационы.
— Я с вами, — внезапно сказал Мартин Силен.
Воцарилось молчание. За ту неделю, что паломники провели вместе, поэт и Ламия раз пять чуть не подрались, а однажды она пригрозила его убить. Ламия пристально посмотрела на Силена.
— Ладно, — согласилась она. — Только сначала зайдем в Сфинкс — за рюкзаками и бутылками для воды.
Тени западной стены уже начали удлиняться, когда паломники двинулись в обратный путь, к воротам долины.
Глава 17
Двенадцатью часами раньше винтовая лестница привела полковника Федмана Кассада на верхний из уцелевших этажей Хрустального Монолита. Со всех сторон бушевало пламя. В дырах, пробитых гранатами и лазером Кассада, чернела тьма. Буря вдувала в них пыль, черно-алую, как засохшая кровь, которая забивалась в каждую щель. Кассад снова надел шлем.
В десяти шагах от него застыла в ожидании Монета.
В силовом скафандре, надетом на голое тело, она казалась облитой ртутью. Языки пламени отражались на груди и бедрах, плясали зайчиками во впадинках на горле и у пупка. Шея у нее была длинная, как у птицы, серебряное лицо сияло безупречной красотой, а в глазах трепетал, раздвоившись, высокий призрак — Федман Кассад.
Он вскинул свою десантную винтовку и щелкнул селектором, переключив ее в муль-тиогневой режим. Тело полковника, защищенное силовым панцирем, напряглось в ожидании атаки.
Монета повела рукой, и часть ртутного скафандра исчезла, открыв голову и шею. Кассад знал наизусть каждую черточку ее лица, каждую впадинку. Ее каштановые, коротко стриженные волосы были зачесаны налево. Глаза все те же — изумрудные, бездонные. Маленький рот с чуть оттопыренной нижней губой, который никак не решался раздвинуться в улыбке. Вопросительно изогнутые брови, маленькие уши, которые он так часто целовал, шепча ласковые слова, нежную шею, к которой приникал щекой, чтобы услышать биение ее сердца.
Кассад прицелился.
— Кто ты? — спросила она таким знакомым ласковым и страстным голосом, все с тем же чуть заметным акцентом.
Кассад замер, держа палец на спусковом крючке. Десятки раз они любили друг друга, снова и снова встречаясь в его снах и в модельных сражениях — волшебной стране их любви. Но если она действительно движется навстречу времени…
— Я знаю, — спокойно произнесла она, словно и не замечая, что его палец уже нажимает на спусковой крючок. — Ты тот, кого обещал мне Повелитель Боли.
У Кассада перехватило дыхание. Сделав над собой усилие, он заговорил хриплым, срывающимся голосом:
— Ты меня не помнишь?
— Нет. — Склонив голову набок, она лукаво посмотрела на него. — Но Повелитель Боли обещал мне воина. Нам было суждено встретиться.
— Мы уже встречались. Очень давно, — с трудом произнес Кассад. Винтовка автоматически наводилась на лицо. Она будет менять длину волны и частоту лазерных импульсов каждую микросекунду, пока не пробьет защиту скафандра. Плюс к этому весь ее ассортимент: пули, электронные пучки, гранаты, теплочувствительные дротики…
— Я не могу помнить твоего «очень давно», — сказала она. — Мы движемся в общем потоке времени, но в противоположные стороны. Как меня зовут в моем будущем и твоем прошлом?
— Монета, — выдохнул Кассад, приказывая закаменевшей руке нажать на спуск.
Она с улыбкой кивнула.
— Монета. Дитя Памяти. Какая жестокая ирония!
Кассад вспомнил ее предательство в песках над мертвым Градом Поэтов. Либо она сама превратилась тогда в Шрайка в его объятиях, либо позволила тому занять свое место. Акт любви вмиг обернулся мерзкой и страшной насмешкой.
Полковник Кассад нажал на спусковой крючок.
Монета прищурилась.
— Здесь это не действует. Эта вещь не работает внутри Хрустального Монолита. Почему ты хочешь убить меня?
Кассад взревел, отшвырнул бесполезное оружие в сторону, направил энергию в боевые перчатки и бросился вперед.
Монета не шелохнулась. Она стояла и смотрела, как он преодолевает эти десять шагов, — набычившись, не обращая внимания на стоны силового панциря, перестраивающего на ходу структуру своего поверхностного слоя, — а потом протянула руки ему навстречу.
Кассад с разбега врезался в Монету, сбил ее с ног, и оба покатились по полу. Кассад тянул руки в наливающихся силой перчатках к ее горлу, но Монета железной хваткой вцепилась в его запястья. Кассад попытался взять в союзницы силу тяжести и у самого края площадки ему удалось подмять Монету под себя — выпрямив руки в отвердевших перчатках, он сжал пальцы на ее шее. При этом его левая нога свесилась с края площадки — в шестидесятиметровую пропасть.
— Почему ты хочешь убить меня? — прошептала Монета и легко перевернула Кассада набок, сбросив этим движением их обоих с площадки.
Вскрикнув, Кассад мотнул головой, чтобы опустить забрало. Они неслись сквозь тьму, сплетясь телами в свирепом захвате. Руки Кассада, сжатые ее железными пальцами, начали неметь. Казалось, время замедлило свой бег. Они все падали, падали, и воздух мягко щекотал лицо Кассада, как медленно натягиваемое одеяло. Метров за десять до пола время вновь побежало с прежней скоростью. Кассад мысленно произнес кодовую фразу для превращения панциря в жесткий кокон, и тут же последовал сокрушительный удар.
С усилием вынырнув из кровавого омута, Федман Кассад понял, что с момента удара прошла всего секунда или две. Шатаясь, он поднялся на ноги. Рядом медленно поднималась Монета… Стоя на одном колене, она замерла, уставившись на расколотые их телами изразцы.
Кассад включил ножные сервомеханизмы и изо всех сил ударил ее в голову.
С легкостью увернувшись, Монета схватила Кассада за ногу и швырнула в трехметровую хрустальную панель, которая со звоном раскололась. Кассад вывалился наружу — на песок, в ночь. Монета дотронулась до своей шеи — по лицу ее заструилась ртуть — и вышла следом.
Кассад поднял разбитое забрало, снял шлем. Ветер взъерошил его короткие черные волосы, царапая щеки песком. Он рывком подтянул ноги, встал. Индикаторы на воротнике мигали красным, предупреждая, что последние резервы энергии на исходе. Но это не важно — на следующие несколько секунд энергии хватит, вот и все, что ему нужно.
— Что бы ни произошло между нами в моем будущем — твоем прошлом, — проговорила Монета, — не думай, что это я изменила обличье. — Я не Повелитель Боли. Он…
Кассад одним прыжком преодолел разделявшие их три метра и, оказавшись позади Монеты, изо всех сил рубанул правой рукой сверху вниз. Боевая перчатка, армированная углепластовыми пьезоэлектрическими волокнами, мгновенно превратившими ее в смертоносный клинок, рассекла воздух со сверхзвуковой скоростью и опустилась на основание шеи Монеты. Но та даже не попыталась увернуться или отбить удар, которым можно было бы перерубить дерево или рассечь полметра камня. На Брешии, в рукопашной на улице Бакминстера, Кассад в два счета обезглавил таким ударом полковника Бродяг: перчатка рассекла силовой панцирь, шлем, личное защитное поле, мясо и кости — и голова убитого еще секунд двадцать глазела на собственное тело, прежде чем смерть взяла свое.
Кассад правильно рассчитал удар, но над самой поверхностью ртутного скафандра его перчатка застыла. Монета не шевельнулась, даже не моргнула. Кассад почувствовал, как садятся батареи, и в ту же секунду рука его онемела, мышцы свело мучительной судорогой. Он попятился — рука повисла вдоль тела, как неживая, последние капли энергии вытекали из панциря, как венозная кровь из жил.
— Ты не слушаешь меня, — сказала Монета. Шагнув вперед, она схватила Кассада за нагрудник и швырнула в сторону Нефритовой Гробницы.
Он пролетел метров двадцать и со всего маху врезался в песок: разряженный панцирь лишь частично скомпенсировал удар. Левой рукой он пытался прикрыть лицо и шею, но доспехи затвердели, и бесполезная рука оказалась вывернутой каким-то немыслимым образом.
Монета одним прыжком преодолела эти двадцать метров, подняла Кассада в воздух одной рукой, а другой играючи разодрала его доспехи — эту армированную углепластом двухсотслойную полимерную суперткань — сверху донизу. Потом несильно, как бы шутя шлепнула его по щеке. Голова Кассада откинулась назад, и он чуть не потерял сознание. Ветер и песок принялись терзать его голую грудь и живот.
Монета сорвала с полковника остатки доспехов, выдернув заодно шунты обратной связи и биосенсоры. Затем подняла его в воздух и встряхнула. Кассад почувствовал во рту вкус крови, перед глазами поплыли красные круги.
— Нам вовсе ни к чему враждовать, — проговорила она.
— Ты… стреляла… в меня.
— Не для того, чтобы убить. А чтобы проверить твою реакцию. — Губы Монеты шевелились легко, словно не были покрыты ртутной мембраной.
Новый шлепок — и Кассад, пролетев метра два, покатился по холодному песку. Воздух искрился от миллиардов частиц — снежинок, пылинок, каких-то разноцветных колючих огоньков. Кассад перевернулся на живот и попытался встать на колени, цепляясь за текучий песок руками — нет, онемевшими клешнями.
— Кассад, — прошептала Монета.
Он перевернулся на спину и стал ждать.
Она разрядила свой скафандр. Ее тело, теплое, уязвимое, манило к себе, кожа была такой бледной, что казалась прозрачной. На ее высокой груди мерцали голубые жилки. Стройные, мускулистые ноги могли свести с ума кого угодно. А глаза были изумрудно-зеленые, без дна.
— Ты любишь войну, Кассад, — прошептала Монета, опускаясь на него.
Он попытался отползти в сторону, вскинул руки для удара, но Монета одним легким движением завела ему обе руки за голову и прижала к песку. Ее тело лучилось от жара, груди терлись о его кожу все сильнее, и вот она уже оказалась между его раздвинутых ног, прижалась к нему всем телом.
Тут он понял, что это изнасилование, и лучший отпор — бездействие, отказ утолить ее жажду. Но ничего не получилось — воздух вокруг, казалось, стал жидким, вихри странно отдалились, а песок завис над ними кружевным покрывалом.
Лежа на нем, Монета двигалась взад-вперед, и Кассад чувствовал, как медленно нарастает в нем радостное возбуждение. Он боролся с радостью, боролся с Монетой, дергался, пытаясь высвободить руки. Но ничего не получалось. Одним движением колена она отбросила его ногу в сторону. Ее соски терлись о его грудь, как теплые камешки, тепло ее живота разбудило его плоть, как солнечные лучи цветок.
— Нет! — вскрикнул Федман Кассад, но Монета заставила его замолчать, приникнув к его губам. Левой ладонью она по-прежнему прижимала его руки к земле, а правую втиснула между телами, нашла его плоть и направила в себя.
Борясь с обволакивающим его теплом, Кассад укусил ее в губу и попытался вывернуться, но тщетно: с каждым движением он все теснее прижимался к ней, все глубже проникал в нее. Он попытался расслабиться, и она тут же вдавила его тело в песок. Ему припомнились другие их свидания, когда они вот так же грели друг друга, исцеляя тело и душу, а снаружи магического круга их нежности бушевала война.
Кассад закрыл глаза и запрокинул голову, чтобы оттянуть сладкую муку, накатывающую волной. Ощущая на губах вкус крови, он уже не знал, чья это кровь — его, ее?
Прошла минута, а они все двигались и двигались в общем ритме. Кассад сообразил, что она отпустила его руки. Не задумываясь, он обнял ее и грубо прижал к себе, затем рука его скользнула выше, обхватив затылок женщины.
Ветер возобновился, звуки возвратились, песок летел с гребней дюн, как пена с морской волны. Кассад и Монета соскользнули по плавно изгибающейся песчаной насыпи, скатились вместе на теплой волне к месту ее излома, позабыв о ночи, о буре, бессмысленной космической битве — обо всем, кроме своей любви.
Позже, когда они вместе пробирались через изуродованный, но все еще прекрасный Хрустальный Монолит, она коснулась его золотым стержнем и еще раз синим тороидом. В осколке хрустальной панели он увидел, как его отражение превращается в ртутную копию человека, абсолютно точную вплоть до деталей половых органов и линий ребер, выдававшихся на худом торсе.
«Что теперь?» — спросил каким-то особым образом, нетелепатически и не вслух, Кассад.
«Повелитель Боли ждет».
«Ты служишь ему?»
«Ни в коей мере. Я его супруга и Немезида. Его хранительница».
«Ты пришла с ним из будущего?»
«Нет. Я была взята из моей эпохи, чтобы стать его спутницей в путешествии назад во времени».
«Тогда кем же ты была?..»
Вопрос Кассада был оборван внезапным появлением… Нет, не появлением, подумал он, внезапным присутствием, вот как, внезапным присутствием Шрайка.
Внешне существо совершенно не изменилось с их первой встречи много лет назад. В глаза Кассаду бросился ртутно-хромовый блеск его тела, весьма напоминающего их собственные скафандры, но интуитивно он понимал, что этот панцирь прикрывает вовсе не мясо и кости. Чудовище было по меньшей мере трехметрового роста, четыре руки отнюдь не уродовали изящный торс, а туловище было слеплено из множества колючек, шипов, угловатых сочленений и клубков колючей проволоки. В тысячегранных глазах горел огонь — самые настоящие рубиновые лазеры. Картину довершали длинная челюсть и зубы в несколько рядов — реквизит типичного монстра.
Кассад стоял наготове. Если скафандр может наделить его той же силой и маневренностью, какую дает Монете, он дорого продаст свою жизнь.
Но боя не получилось. Только что Повелитель Боли стоил в пяти метрах от него — и тут же оказался рядом, стиснув плечо полковника стальными пальцами-ножами. Они пропороли поле скафандра и из бицепсов потекла кровь.
Кассад напрягся в ожидании удара и приготовился ударить в ответ, понимая, что просто нанижет себя на лезвия, шипы и колючки.
Шрайк между тем поднял руку, и перед ним возник четырехметровый прямоугольник полевого нуль-портала. От обычного он отличался фиолетовым свечением, странно озарившим внутренности Монолита.
Монета, кивнув полковнику, шагнула в портал. Шрайк двинулся за ней, слегка оцарапав плечо Кассада пальцелезвиями.
Кассад хотел было пойти на попятный, но понял, что любопытство пересиливает страх смерти, и шагнул в портал вслед за Шрайком.
Глава 18
Секретарю Сената Мейне Гладстон не спалось. Она поднялась с постели и прибегла к обычному средству от бессонницы — отправилась бродить по планетам Гегемонии. Ей не хотелось тревожить телохранителей, дежуривших в приемной ее апартаментов в недрах Дома Правительства, и она взяла с собой лишь дистанционного микростража. Если бы не законы Гегемонии и правила Техно-Центра, Мейна Гладстон охотно ушла бы без всякого сопровождения. Но закон есть закон.
На ТКЦ давно перевалило за полночь, но во многих мирах царил ясный день, и поэтому Гладстон набросила на себя длинную накидку с маскарадным капюшоном. Брюки и башмаки не выдавали ни ее пола, ни положения, хотя кое-где качество ткани ее накидки вызвало бы немало любопытных взглядов.
Взмах руки, и в воздухе возник трепещущий прямоугольник личного нуль-портала секретаря Сената. Мейна Гладстон шагнула в него, скорее почувствовав через имплант, чем увидев или услышав, что микрострах прожужжал вслед за ней и растаял в небе. Она стояла на площади Святого Петра в городе Новый Ватикан на Пасеме. На миг она растерянно замерла, недоумевая, почему заказала через имплант именно это место: может, из-за того ископаемого монсеньора на обеде, в «Макушке»? Но тут же вспомнила, что, лежа без сна, думала о паломниках — о семерых, отправившихся три года назад навстречу своей судьбе на Гиперион. На Пасеме родился отец Ленар Хойт. А еще раньше — другой священник, Поль Дюре.
Пожав плечами, Гладстон пересекла площадь. Посещение родных миров паломников — прогулка не хуже любой другой. Обычно в бессонницу она успевала побывать на пятнадцати — двадцати планетах, возвращаясь на Центр Тау Кита перед самым рассветом. А сегодня ее ждут всего-навсего семь миров.
Было раннее утро. По палевому небосводу Пасема струились зеленоватые облака. У Гладстон защекотало в носу и заслезились глаза от запаха аммиака — резкого, аптечного запаха мира, не слишком приспособленного для человека, — но не враждебного, скорее равнодушно-холодного. Гладстон остановилась, чтобы оглядеться.
Площадь Святого Петра, окаймленная полукругом колонн с огромной базиликой в середине, находилась на вершине холма. Справа от Гладстон, на юге, где колонны расступались и вниз сбегала длинная лестница, виднелся сам городок: невысокие простые дома, сгрудившиеся среди чахлых деревьев с белыми стволами, похожими на кости ископаемых тварей.
Лишь несколько фигурок оживляли эту картину. Одни торопливо пересекали площадь, другие поднимались по лестнице — видимо, спешили к мессе. Откуда-то из-под необъятного соборного купола доносился звон колоколов, но разреженный воздух отнимал у этого звука всякую торжественность.
Гладстон шла вдоль колоннады с опущенной головой, игнорируя любопытные взгляды утренних прохожих — людей в сутанах и мусорщиков, разъезжавших на животных, напоминающих пятисоткилограммовых дикобразов. Таких захолустных мирков только в Сети насчитывались десятки, а в Протекторате и на Окраине — неизмеримо больше. Они были слишком бедны, чтобы привлекать праздных туристов, но и слишком похожи на Землю, чтобы остаться невостребованными в мрачные дни Хиджры. Именно такой мир требовался кучке католиков, переселившейся сюда в надежде на возрождение веры. Гладстон знала, что тогда их были миллионы. Теперь, должно быть, несколько десятков тысяч. Прикрыв глаза, она вызвала голографическое досье Поля Дюре.
Гладстон любила Сеть. Любила ее обитателей, ибо при всей их мелочности, эгоистичности и неспособности перемениться к лучшему они составляли род человеческий. Да, Гладстон любила Сеть. Любила так сильно, что готова была способствовать ее гибели.
Она вернулась к небольшому трехканальному терминексу, отдав инфосфере команду на замещение, вызвала свой собственный портал и вышла в солнечный день, пахнущий морем.
Мауи-Обетованная. Гладстон точно знала, где находится. Она стояла на вершине горы, нависшей над Порто-Ново, у гробницы Сири, все еще отмечающей место, где лет шестьдесят назад началось восстание. В то время Порто-Ново был поселком с несколькими тысячами жителей, и каждый год с приходом Фестиваля флейтисты приветствовали стада плавучих островков, плывущие под присмотром дельфинов на пастбища в Экваториальном Архипелаге. Теперь Порто-Ново расползся по острову от горизонта до горизонта; повсюду выросли пятисотметровые махины городов — экобашен и жилых ульев, свысока глядевших на гору, с которой когда-то можно было охватить взглядом чуть ли не всю планету океанов Мауи-Обетованная.
Но гробница уцелела. В ней больше не покоилось тело бабушки Консула, впрочем, его вообще там никогда не было, но, подобно прочим памятным местам планеты, этот пустой склеп все еще рождал в душе почтение, даже благоговение.
Гладстон смотрела мимо домов-башен, мимо старого волнолома и давно побуревших лагун, когда-то голубых, мимо буровых платформ и туристических барж — туда, где начиналось море.
Плавучих островков теперь нет. Они уже не кочуют огромными стадами из океана в океан, подставив южным ветрам деревья-мачты. И не видно более на воде белоснежных следов их пастухов — дельфинов.
Острова приручены и заселены гражданами Сети, а дельфины вымерли — некоторые погибли во время ожесточенных сражений с ВКС, большинство же покончило с собой в необъяснимом массовом самоубийстве в Южном море: последняя тайна древней и таинственной дельфиньей расы.
Гладстон присела на низкую скамейку у обрыва, сорвала травинку и принялась ее покусывать. Что случается с планетой, когда из приюта ста тысяч человек, поддерживающих хрупкое равновесие ее хрупкой экологии, она превращается в увеселительный парк для четырехсот с лишним миллионов? Именно столько людей побывало на Мауи-Обетованной за первые десять стандартолет после вступления планеты в Гегемонию.
Ответ ясен: планета гибнет, гибнет ее душа, хотя экосфера продолжает функционировать. Планетоэкологи и специалисты по терраформированию спасли от смерти оболочку, уберегли моря от тотального загрязнения неизбежным мусором, сточными водами и нефтью, постарались свести к минимуму шумовое загрязнение и тысячи других побочных явлений прогресса. Но Мауи-Обетованная, какой она была в день, когда Консул взобрался на эту самую гору с похоронной процессией своей бабушки, исчезла навсегда.
Над головой у нее пролетела эскадрилья ковров-самолетов, сидящие на них туристы смеялись и что-то выкрикивали. Высоко над ними массивный экскурсионный ТМП затмил на мгновение солнце. Во внезапном сумраке Гладстон выплюнула травинку и села поудобнее, опершись локтями о колени. Она задумалась о предательстве Консула. Оно стало краеугольным камнем всех ее расчетов. Она пошла ва-банк, возложив все свои надежды на то, что человек, выросший на Мауи-Обетованной, потомок Сири, в неизбежной битве за Гиперион примет сторону Бродяг. Заговор не был ее одиночным предприятием: все эти долгие годы Ли Хент служил инструментом секретаря Сената — скальпелем, пинцетом. Именно он производил ювелирные микрохирургические операции, дабы поместить нужного индивидуума в нужную точку, предоставить ему возможность контакта с Бродягами, назначить на пост, позволяющий предать обе стороны, и в итоге включить его руками устройство, которое должно было вызвать коллапс антиэнтропийных полей на Гиперионе.
Так и вышло. Консул, пожертвовавший ради блага Гегемонии четырьмя десятилетиями жизни, а также женой и ребенком, взорвался наконец местью, как бомба, полвека пролежавшая в бездействии.
Теперь Гладстон и сама была этому не рада. Консул продал свою душу, и его ждет ужасная расплата: с историей, с совестью, но его измена — пустяк по сравнению с ее собственным коварством. Что ж, она готова принять кару. В силу своей должности она, секретарь Сената Гегемонии, являлась символическим пастырем ста пятидесяти миллиардов людских душ. И готова была предать их всех ради спасения рода человеческого.
Она встала, захрустев старыми суставами, и медленно пошла к терминексу. Постояла у негромко жужжащего портала, последний раз поглядела через плечо на Мауи-Обетованную. Дувший с моря ветер нес с собой отвратительный запах нефти и выхлопных газов, и Гладстон отвернулась.
Гравитация Лузуса сдавила ее плечи под накидкой железными тисками. На Конкурсе был час пик, и тысячи зевак, покупателей, туристов толпились на многоярусных галереях, пестрыми вереницами заполняли километровые эскалаторы. Воздух, прошедший через миллионы легких, пропахший бензином, озоном и нагретой пластмассой, душил, как пропотевшее насквозь одеяло. Гладстон миновала ярусы дорогих магазинов и, проехав десять километров на трансдиске, вышла у главного Святилища Шрайка.
Путь ей преградили силовые поля полицейских заграждений — фиолетовые и зеленые облака, мерцающие перед широкой лестницей. Само Святилище было погружено в темноту; во многих узких окнах с витражами, выходящих на Конкурс, отсутствовали стекла. Несколько месяцев назад толпа разгромила здание, но епископу и его присным удалось бежать.
Гладстон прошлась вдоль линии заграждений, глядя сквозь фиолетовую дымку на лестницу, по которой Ламия Брон несла своего умирающего клиента и любовника, первого кибрида Китса, к священникам Шрайка. Гладстон хорошо знала отца Ламии. Они одновременно стали членами Сената и работали там рука об руку несколько лет. Сенатор Байрон Брон был блестящим политиком и настоящим мужчиной. Когда-то, давным-давно, когда мать Ламии Брон еще прозябала в своем захолустном Фрихольме, Гладстон сама подумывала выйти за него замуж; со смертью сенатора легла в могилу часть ее собственной жизни, ее молодости. Байрон Брон был яростным противником Техно-Центра и мечтал освободить человечество из кабалы ИскИнов, длящейся уже пять столетий и протянувшейся на тысячу световых лет. Именно отец Ламии Брон открыл Гладстон глаза и внушил ей идею, которая, в свою очередь, обернулась изощреннейшим предательством во всей истории человечества.
И именно «самоубийство» сенатора Байрона Брона научило ее осторожности. Гладстон не знала, кто его спровоцировал; агенты Техно-Центра или же лица из высших кругов Гегемонии, защищавшие свои финансовые интересы. Но она твердо знала, что Байрон Брон никогда сам не лишил бы себя жизни, никогда не покинул бы свою беспомощную жену и своевольную дочку. Выступая последний раз в Сенате, Байрон Брон предложил предоставить Гипериону статус протектората, и, будь это предложение принято, оно ввело бы планету в состав Сети за двадцать стандартолет до нынешних событий. После его смерти уцелевший соавтор документа — восходящая политическая звезда Мейна Гладстон отозвала законопроект.
Она нашла транспортный колодец и камнем полетела вниз — мимо торговых и жилых ярусов, мимо производственных и служебных уровней, мимо отстойников и атомных реакторов. Комлог на ее руке и громкоговоритель колодца наперебой твердили, что она вступила в запретные и небезопасные районы Дна. Программа колодца попыталась остановить ее. Мейна Гладстон отключила защиту, приказала комлогу замолчать и продолжила полет мимо ярусов без тротуаров и фонарей, сквозь дебри похожих на макароны волоконных световодов, отопительных и охладительных труб, мимо голых каменных стен. Наконец она коснулась пола и вышла в коридор, освещенный редкими люм-шарами и полосками катафотов. Из тысяч трещин в потолке и стенах капала вода, собираясь в ядовитые лужи. Из отверстий в стенах, которые могли быть другими коридорами, или жилыми каморками, или просто дырами, валил пар. Где-то неподалеку раздавался ультразвуковой визг металла о металл; совсем рядом — электронные скрипы антирока. Вот вскрикнул мужчина, захохотала женщина, и ее смех покатился железным шариком по шахтам и трубопроводам, перебиваемый надсадным кашлем — голосом пневмо-винтовки.
Улей Дрегс. Гладстон вышла на перекресток пещер-коридоров и остановилась, чтобы сориентироваться. Ее микростраж все ниже кружился над ней, как настойчивый и обиженный шмель, зовя на помощь охрану. Только беспрестанные «отставить» Гладстон мешали ему довести вызов до конца.
Улей Дрегс. Здесь Ламия Брон и ее любовник-кибрид провели несколько часов перед своей отчаянной попыткой добраться до Святилища Шрайка. Одна из бессчетных трущоб Сети. Здесь на черном рынке можно раздобыть все что угодно — от флэшбэка и сверхсекретного оружия ВКС до рабов-андроидов, давно запрещенных законом. Здесь процветали нелегальные поульсенизационные кабинеты, где с одинаковой вероятностью можно было заполучить еще двадцать лет юности — или сыграть в ящик. Гладстон свернула направо, в самый темный коридор.
Что-то вроде крысы, но со множеством лап, шмыгнуло в люк сломанного вентилятора. Секретарь Сената задыхалась от смрада, в котором смешивались испарения сточных вод, запах пота, озонные выхлопы перегруженных инфопанелей, сладковатый дух блевотины и газовых пистолетов, и еще вонь дешевых феромонов, давно превратившихся в токсины. Она шла по коридору, думая о предстоящих неделях и месяцах, об ужасной цене, которой миры оплатят ее решение и ее чаяния.
Пятеро юношей, перекроенных подпольными паректорами по звериному образу и подобию, внезапно возникли на ее пути. Гладстон остановилась.
Микростраж тут же спикировал перед секретарем Сената, отключив свой камуфляжный кокон. При виде беспорядочно порхающего в воздухе приборчика размером с осу звероподобные существа расхохотались. Вполне возможно, что их перекроили слишком сильно и они его не узнали. Двое выхватили виброклинки. Один выпустил десятисантиметровые стальные когти. Еще один щелкнул курком пневмопистолета с вращающимися стволами.
Мейна Гладстон стояла перед ними неподвижно. Она знала то, чего не знали подонки Дрегса, — страж мог защитить ее и от этой пятерки, и от сотни им подобных. Но ей не хотелось, чтобы кто-нибудь погиб просто потому, что повелительнице Сети вздумалось прогуляться.
— Уходите, — сказала она.
На нее уставились пять пар глаз — желтые кошачьи, черные рыбьи узкие щели под веками-капюшонами и фоточувствительные полоски на животах. Рассыпавшись полукругом, они приблизились на два шага. Мейна Гладстон выпрямилась во весь рост и, придерживая полы накидки, откинула капюшон, чтобы эти полулюди увидели ее глаза.
— Уходите, — властно повторила она.
Перья и чешуйки закачались как от ветра. У двоих затряслись антенны и встали дыбом тысячи волосковых микродатчиков.
Так же бесшумно и быстро, как появились, существа исчезли. Через секунду воцарилась тишина — только капала вода да отдавался эхом от смрадных стен хохот невидимой женщины.
Гладстон, покачав головой, вызвала личный портал.
Сол Вайнтрауб и его дочь почти всю жизнь прожили в Мире Барнарда. Гладстон оказалась на маленьком терминексе их родного Кроуфорда. Был вечер. Ее взору предстали невысокие белые домики и ухоженные газоны, в облике которых сентиментальная чистоплотность канадского Ренессанса сочеталась с крестьянской практичностью. Высокие тенистые деревья сохраняли поразительное сходство со своими земными предками. Вырвавшись из потока пешеходов, спешивших домой с работы в других мирах Сети, Гладстон оказалась на выложенной кирпичом дорожке, идущей мимо кирпичных домов вокруг овальной лужайки. За домами виднелись фермерские поля. Ряды каких-то посадок — должно быть, кукуруза — убегали к далекому горизонту, из-за которого выглядывал краешек огромного красного солнца.
Гладстон прошла через студенческий городок, гадая, тот ли это колледж, где преподавал Сол. Под сенью листвы сами собой включались газовые фонари, и в просветах, где небо из голубого стало янтарным и тут же на глазах, темно-синим, замерцали первые звезды.
Гладстон читала книгу Вайнтрауба «Проблема Авраама», где он анализировал взаимоотношения между Богом, приказавшим человеку принести в жертву сына, и человечеством, согласившимся исполнить этот приказ. Вайнтрауб утверждал, что Иегова Ветхого Завета не просто испытывал Авраама, но обратился к людям на языке верности, покорности, жертвенности и власти — единственном, понятном роду человеческому на той ступени развития. А послание Нового Завета Вайнтрауб рассматривал как переход этих взаимоотношений на новую ступень, где человечество не станет приносить в жертву своих детей, но родители — целые поколения — предложат в жертву себя, чтобы спасти своих сыновей и дочерей. Тому пример — Холокосты двадцатого века, Краткий Обмен, трехсторонние войны, столетия безрассудства и, возможно, даже Большая Ошибка 38-го.
В заключение Вайнтрауб обосновывал необходимость отказа от всех жертвоприношений. Отношения с Богом должны стать отношениями взаимного уважения и честных попыток к взаимопониманию. Ученый писал о многократных смертях Бога и необходимости воскресить Его теперь, когда человечество создало собственных богов и отдало им на откуп всю Вселенную.
Гладстон поднялась на мостик, изящно изогнувшийся над невидимым ручьем, тихо журчавшим в темноте. Тусклый желтый свет падал на каменные перила ручной кладки. Где-то за пределами студенческого городка залаяла собака. На нее прикрикнули. Светились окна на третьем этаже старого кирпичного здания с остроконечной черепичной крышей, построенного, должно быть, еще до Хиджры.
Гладстон думала о Соле Вайнтраубе, его жене и их двадцатишестилетней красавице дочери, возвратившейся из археологической экспедиции на Гиперион с проклятием Шрайка на челе — болезнью Мерлина. На глазах Сола и Сары их дочь вновь становилась девочкой, а потом превратилась в младенца. После нелепой гибели Сары в столкновении электромобилей состарившийся Сол остался с бедой один на один.
Рахиль Вайнтрауб, чей первый и последний день рождения должен наступить менее чем через трое стандартных суток…
Гладстон ударила кулаком по камню, вызвала свой портал и покинула Мир Барнарда.
На Марсе был полдень. Трущобы Фарсиды жили своей трущобной, освященной шестивековой традицией жизнью. Небо над головой было розовое, воздух — слишком разреженным и холодным, несмотря на накидку. И всюду — пыль. Мейна Гладстон шла по узким улочкам и крутым лестницам Нового Лагеря и на всем своем пути видела вокруг только скопища лачуг и бесчисленные фильтровальные башни.
Здесь почти не было растений — бескрайние леса зеленого пояса были вырублены на топливо или засохли и теперь покоились под дюнами. Лишь кое-где между тропинками, утоптанными до твердости камня босыми ногами двадцати поколений, из песка торчали нелегально выращиваемые коньячные кактусы да сновали шарики пауколишайников.
Гладстон нашла низкий камень и теперь отдыхала, опустив голову на грудь и массируя колени. Стайка детей, совершенно обнаженных за исключением набедренных повязок да болтающихся на шее разъемов нейрошунтов, окружила ее, клянча милостыню. Но старая женщина не изменила позы, и дети убежали, хихикая и показывая на нее пальцами.
Солнце стояло высоко. Гора Олимп и сурово-прекрасная громада академии ВКС, где учился Федман Кассад, отсюда не были видны. Гладстон огляделась. Здешний воздух взрастил этого гордого мужчину. Здесь он шлялся с подростковыми бандами, пока не был приговорен к жизни военного и не научился любви к порядку, здравомыслию, верности и чести.
Гладстон нашла укромный уголок и шагнула в свой портал.
Роща Богов была все та же — напоенная ароматами бессчетных растений, безмолвная, если не считать ласкового шелеста листьев и шепота ветра, окрашенная в пастельные полутона. Рассвет зажег самый настоящий пожар на «крыше» этого мира: океан древесных крон, трепеща на ветру мириадами листьев, усыпанных каплями росы и омытых утренними ливнями, вспыхнул под первыми солнечными лучами, и на Гладстон, застывшую над погруженной в сон и темноту планетой, повеяло запахом влажной зелени и дождя.
Появился какой-то тамплиер, но, завидев на руке Гладстон пропуск-браслет, тут же растворился в дебрях листвы и лиан, словно высокий призрак в рясе.
Тамплиеры оставались одной из самых загадочных переменных в стратегическом уравнении Гладстон. Их жертвоприношение — звездолет-дерево «Иггдрасиль» — было уникально, беспрецедентно и необъяснимо. И вселяло тревогу. Из всех ее потенциальных союзников в грядущей войне не было силы более необходимой и непостижимой, чем тамплиеры. Братство Древа, посвятившее себя служению всему живому и исполнению заветов Мюира, имело ограниченное, но заметное влияние в Сети — то был островок экологического благоразумия в обществе потребления, не желающем задумываться над пагубными последствиями своих прихотей.
Куда исчез Хет Мастин? И почему оставил спутникам куб Мебиуса?
Гладстон смотрела, как восходит солнце. По небу, словно огромные медузы, поплыли кучки разноцветных шаров; то были знаменитые монгольфьеры с Вихря, полностью уничтоженные на своей родине. Лучистая паутина, впитывая солнечную энергию, раскинула во все стороны свои тонюсенькие перепонки. Стая воронов вдруг снялась с ветвей и, круг за кругом, принялась подниматься над Рощей. Их резкое карканье на мгновение заглушило шепот ветра и тихую поступь дождя, доносящуюся откуда-то с запада. Настойчивая дробь напомнила Гладстон дом в дельте Патофы, стодневный Сезон Дождей, когда маленькая Мейна отправлялась с братьями в болота за летающими жабами, отшельниками и испанскими мшистыми змеями, чтобы принести их в банке в школу.
Она в стотысячный раз подумала, что еще не поздно. Что еще можно избежать тотальной войны, что контратаки Бродяг еще не достигли оскорбительного для Гегемонии масштаба, а Шрайк еще не спущен с цепи. Пока.
Для того чтобы спасти сто миллиардов жизней, ей надо всего лишь вернуться в зал заседаний Сената, открыть правду о трех десятилетиях обмана и двойной игры, признаться перед всеми в своих страхах и тревогах… Нет, все пойдет по плану, пока не сомнет, не сломает его рамок, не вырвется в область непредсказуемого, в неизведанные воды хаоса, где даже всевидящие прогнозисты Техно-Центра будут слепы.
Гладстон шла по платформам, башням, пандусам и висячим мостам древограда тамплиеров. Древесные животные с множества планет и возрожденные поректорами обезьяны передразнивали ее, грациозно перепрыгивая с лианы на лиану в трехстах метрах над землей. Из укромных уголков, куда запрещалось заглядывать не только туристам, но даже высокопоставленным визитерам, тянуло запахом ладана и доносились звучные песнопения, напоминающие грегорианские хоралы, — тамплиеры приветствовали восход солнца.
Внизу просыпались ярус за ярусом, наполняя лес движением и шумом. Недолгий ливень прекратился, и Гладстон вернулась наверх. Любуясь открывшимся оттуда видом, перешла по шестидесятиметровому подвесному мосту на соседнее, еще более могучее дерево. Шесть пузатых воздушных шаров с яйцевидными пассажирскими корзинами — единственный вид воздушного транспорта, разрешенный на Роще Богов, — нетерпеливо рвались с привязи в небо. Их кожаные оболочки были любовно расписаны изображениями живых существ — монгольфьеров, бабочек-данаид, лучистых паутин, царь-ястребов, вымерших уже цеппелинов, небесных кальмаров, лунных мотыльков, орлов, — столь почитаемых, что никто не осмеливался реконструировать или воскрешать их.
И все это может погибнуть, если я пойду дальше. Неизбежно погибнет.
Гладстон застыла на краю круглой площадки, вцепившись в перила с такой силой, что на ее побелевших руках проступили пятна старческой гречки. Она вспомнила книги, написанные еще до Хиджры, до эры покорения космоса. В них рассказывалось, как люди из младенческих государств континента Европа увозили других, темнокожих — жителей континента Африка, из родных мест, чтобы обречь на рабское существование на колониальном Западе. Эти темнокожие, закованные в цепи, голые, задыхающиеся в смрадных трюмах невольничьих кораблей, упустили бы они шанс восстать, сбросить в море своих поработителей — даже ценой уничтожения корабля… или всей Европы?
Но им было куда вернуться. У них была Африка.
Из горла Гладстон вырвался сдавленный стон. Она повернулась спиной к торжественному рассвету, к песнопениям, приветствующим новый день, к воздушным шарам — живым и рукотворным, — взлетающим в бездонные небеса, и начала спускаться, ища место посумрачнее, чтобы вызвать свой портал.
На родину последнего паломника она отправиться не могла. Мартину Силену недавно исполнилось каких-то полтораста лет. Он весь посинел от поульсенизаций, клетки его мозга хранили на себе следы десятков длительных криогенных фуг и адского холода анабиозных ванн, жить ему предстояло четыре с лишним столетия. Отпрыск одного из знатнейших семейств, он родился на Старой Земле накануне ее окончательной гибели. Юность Силена протекала в атмосфере упадка, пронизанного духом красоты и сладковатым душком разложения. Его мать осталась, чтобы погибнуть вместе с Землей, он же был отправлен в космос, дабы в свое время расплатиться с долгами семейства. Расплата оказалась неимоверно тяжелой — годы каторжного труда в одной из самых ужасных дыр Гегемонии.
Поскольку попасть на Старую Землю не представлялось возможным, Гладстон направилась на Небесные Врата.
Повелительница Сети шла по булыжной мостовой их столицы — Центрального Отстойника, любуясь старинными особняками, нависающими над узкими, выдолбленными в каменистом грунте каналами, которые взбирались по склону искусственной горы, словно порождения фантазии Эшера. Изящные деревья и гигантские конские папоротники венчали вершины холмов, окаймляли широкие белые проспекты и изящные изгибы белых песчаных пляжей. На берег лениво набегали фиолетовые волны, рассыпаясь радужными искрами.
Гладстон задержалась у решетки парка, выходящего на освещенный газовыми фонарями Центральный Променад, где влюбленные парочки и туристы наслаждались вечерней прохладой, и вообразила себе Небесные Врата три с лишним века назад. Суровая планета, не приспособленная для человека, — и молодой Мартин Силен, не оправившийся от культурной дезориентации, безвозвратной потери денег и повреждения мозга вследствие анабиозного шока, обреченный к тому же на рабский труд.
Все усилия Аэростанции уходили на то, чтобы обеспечить едва сносным воздухом несколько сот квадратных километров едва пригодной для жизни земли. Зеленые цунами с одинаковым равнодушием смывали в море города, участки терраформированной почвы и рабочих. Собратья Силена — крепостная голь — копали каналы для отвода кислоты, выскребали из лабиринтов воздуховода колонии аэробных бактерий, а после наводнений извлекали из грязевых наносов мусор и мертвые тела.
«Нет, мы кое-чего достигли, — думала Гладстон, — и это вопреки застою, на который обрек нас Техно-Центр. Вопреки тому, что наука при смерти. Вопреки почти наркотической зависимости от игрушек, которые мы получили в подарок от нашего же собственного детища».
Она осталась недовольна прогулкой. Раз уж она решила посетить родину каждого паломника, этот нелепый замысел следовало осуществить до конца. Небесные Врата — место, где Силен, несмотря на поврежденные речевые центры, научился писать настоящие стихи. Но родина его не здесь.
На Променаде шел концерт, Гладстон пропустила мимо ушей прелестные мелодии. Не привлекли ее внимания ни ТМП-такси, кружившие в небе, словно стаи перелетных птиц, ни переливы закатных лучей, ни вечерняя прохлада. Она вызвала свой портал и распорядилась, чтобы ее перенесли на луну Старой Земли. На Луну.
Вместо того чтобы исполнить приказ, комлог принялся перечислять опасности, которым она подвергнется в этом месте. Секретарь Сената прикрикнула на него: «Отставить!»
Микростраж напомнил о себе громким жужжанием. Его тонкий голосок в импланте осмелился заметить, что госпоже секретарю не следует отправляться в столь небезопасное место. Она и его заставила замолчать.
Сам портал начал отговаривать ее, пока она не запрограммировала его вручную с помощью универсальной карточки. Перед нею возникла дверь. Гладстон шагнула в нее.
Единственным все еще пригодным для обитания местом на луне Старой Земли были гора и область одного из морей, отведенные для церемонии масада ВКС. Именно здесь оказалась Гладстон. Зрительские трибуны и плац для парадов были пусты. Силовые поля десятого класса затуманивали звезды и стены кратера, но Гладстон видела: внутренний жар от ужасных гравитационных приливов растопил отдаленные горы, образовав на их месте новые каменные моря.
Она пошла через серую песчаную равнину. Слабая гравитация так и манила взлететь, и, вообразив себя на миг одним из тамплиерских воздушных шаров, нетерпеливо дергающим непрочную привязь, ей захотелось подпрыгнуть и помчаться вперед великанскими скачками, но она быстро справилась с этой блажью. Лишь пыль вилась позади секретаря Сената фантастическим шлейфом.
Воздух под куполом силового поля был разреженным, и Гладстон поймала себя на том, что дрожит от холода, несмотря на накидку с подогревом. На мгновение она застыла в центре безжизненной равнины, пытаясь убедить себя, что это и в самом деле Луна, первый плацдарм человечества на его долгом пути к звездам. Но трибуны и склады ВКС отвлекали ее, настраивая на какой-то несерьезный лад. Наконец Мейна Гладстон подняла глаза, чтобы увидеть то, ради чего прибыла сюда.
В черном небе висела Старая Земля. Конечно, не сама Старая Земля, а просто пульсирующий аккреционный диск в сферическом облаке осколков, которые когда-то ею были. Он сиял пронзительно ярким светом, ярче любой из звезд, видимых с Патофы в редчайшие ясные ночи, но то была ядовитая яркость, от которой грязно-серая равнина отливала ледяным блеском.
Гладстон стояла и смотрела не отрывая глаз. Она ни разу не была здесь, сознательно избегая этого места, и теперь, коль скоро все же здесь оказалась, отчаянно желала хоть что-то почувствовать, что-то услышать, словно здесь обитал кто-то, чей голос мог даровать ей предостерегающее, ободряющее или просто сочувственное слово.
Но тщетно.
Она постояла так еще несколько минут, почти бездумно, чувствуя лишь, как мерзнут уши и нос. Пора возвращаться. На ТКЦ уже светает.
Вызвав портал, Гладстон напоследок оглянулась. Внезапно метрах в десяти от ее портала возник еще один. Странно. Во всей Сети лишь пять человек имели личные нуль-каналы на Луну Земли.
Микростраж с жужжанием спикировал вниз и завис между нею и человеком, появившимся из нового портала.
Это был Ли Хент. Оглядевшись, он передернул плечами от холода и быстро пошел к ней. В разреженном воздухе его голос звучал тонко, почти пискляво:
— Госпожа секретарь, мы должны немедленно вернуться. Бродягам удалось прорвать нашу оборону. Их контратака застала нас врасплох.
Гладстон вздохнула: она предвидела такое развитие событий.
— Хорошо. Гиперион держится? Мы можем эвакуировать оттуда нашу эскадру?
Хент замотал головой. Его губы посинели от холода.
— Вы не поняли меня, — донесся до нее приглушенный голос помощника. — Дело не в Гиперионе. Бродяги атакуют с разных направлений. Они вторглись в саму Сеть!
Мейна Гладстон почувствовала внезапный озноб. Она чуть заметно кивнула, плотнее закуталась в накидку и вышла через портал и непоправимо изменившийся мир.
Глава 19
Они стояли у ворот долины Гробниц Времени: Ламия Брон и Мартин Силен, с ног до головы увешанные рюкзаками и сумками. Рядом, как суд старейшин, застыли Сол Вайнтрауб, Консул и отец Дюре. Первые вечерние тени, словно пальцы тьмы, протянулись через долину к слабо светящимся Гробницам.
— Я все еще не уверен, что стоит разделяться, — сказал Консул, потирая подбородок. Было очень жарко, и пот ручейками стекал по его небритым щекам.
Ламия пожала плечами:
— Мы же знаем, что каждый встретится со Шрайком один на один. Что с того, если мы разделимся на пару часов? Без продуктов нам каюк. Впрочем, как хотите. Можем пойти все вместе.
Консул и Сол перевели взгляд на отца Дюре. Священник едва держался на ногах. По-видимому, поиски Кассада отняли у него последние силы.
— Кто-то должен остаться на случай возвращения полковника, — сказал Сол. Ребенок на его руках казался до ужаса маленьким.
Ламия одобрительно кивнула и поправила ремни на плечах:
— Хорошо. До Башни часа два ходу. На обратный путь понадобится немногим больше. Ну, пусть еще час на укладку продуктов. Все равно мы успеем до темноты. Как раз к обеду и вернемся.
Консул и Дюре обменялись рукопожатиями с Силеном. Сол обнял Ламию.
— Счастливого возвращения, — прошептал он ей.
Она дотронулась до щеки ученого, на секунду коснулась макушки младенца, повернулась и быстрым шагом пошла к воротам долины.
— Эй, черт возьми, минуточку! — вскричал Мартин Силен, гремя на бегу флягами и бутылками.
Миновав седловину, они зашагали рядом. Оглянувшись, Силен увидел оставшихся — три цветных пятнышка среди валунов и дюн у Сфинкса.
— Все идет немного не так, как ожидалось, верно? — спросил он.
— Не знаю, — коротко ответила Ламия. Для похода она переоделась в шорты, и ее мускулистые ноги блестели от пота. — А ты что ожидал?
— Я рассчитывал закончить величайшую во Вселенной поэму, а потом отправиться восвояси. — Силен отхлебнул из последней бутылки с водой. — Дьявольщина, что ж мы не захватили побольше вина?
— А я вообще ничего не ожидала, — пробормотала Ламия себе под нос. Ее короткие кудри потемнели и прилипли к крепкой шее.
Силен фыркнул.
— Ты бы сюда не попала, если бы не этот твой любовник-кибрид…
— Клиент, — резко прервала она его.
— Как тебе угодно. Эта воскрешенная личность Джонни Китса решила, что неплохо было бы побывать здесь. И ты притащила его… Слушай, а ты еще не потеряла эту самую петлю Шрюна?
Ламия растерянно прикоснулась к миниатюрному нейрошунту за левым ухом. Тонкая осмотическая мембрана защищала от песка и пыли крохотные разъемы.
Силен снова рассмеялся:
— Без инфосферы ты все равно не распакуешь ее. С тем же успехом ты могла оставить эту хреновину на Лузусе или еще где-нибудь. — Поэт на миг умолк, распутывая ремни. — Слушай, а ты можешь сама подключиться к личности Китса?
Ламия вспомнила сны прошлой ночи. За ними стоял кто-то очень похожий на Джонни, но человек этот находился в Сети. Что это, воспоминания?
— Нет, — ответила она. — В петлю просто так не влезть. В ней столько информации, что сотня имплантов захлебнется. А теперь заткнись и пошевеливайся. — Она ускорила шаг, не оглядываясь на Силена.
Небо было безоблачное, зеленое, отливающее в глубине лазурью. Поле валунов впереди простиралось на юго-запад до пустошей, пустоши переходили в дюны. Силен и Ламия минут тридцать шли молча, погрузившись в свои мысли. Маленькое яркое солнце Гипериона висело в небе по правую руку от них.
— Дюны все круче, — заметила Ламия, когда они в очередной раз вскарабкались на гребень и соскользнули вниз. Из ее башмаков уже сыпался горячий песок.
Силен молча кивнул, остановился и вытер лицо шелковым платком. Большой пурпурный берет хоть и прикрывал лоб и левое ухо поэта, но от солнца не спасал.
— По возвышенности — там, на севере, — идти было бы легче. Мимо мертвого города.
Ламия, прикрыв глаза рукой, огляделась по сторонам.
— На той дороге мы потеряем не меньше получаса.
— А на этой еще больше. — Силен, усевшись прямо на песок, отхлебнул из бутылки. Потом снял с себя накидку и запихал в самый большой рюкзак.
— Что у тебя там? — поинтересовалась Ламия. — Рюкзак просто по швам грешит.
— Не твоего ума дело, женщина.
Ламия покачала головой и потерла обгоревшие щеки. Она не привыкла так долго находиться на солнце, к тому же атмосфера Гипериона почти не задерживала ультрафиолет. Нашарив в кармане тюбик с кремом от загара, Ламия размазала несколько капель по коже.
— Ладно, — кивнула она — Изменим маршрут. Пойдем по гребню, пока не минуем дюны, а там срежем угол и двинемся к Башне.
Горы парили над горизонтом, и не думая приближаться. Ламия испытывала танталовы муки, глядя на снеговые шапки, сулящие прохладу. Долина Гробниц Времени уже скрылась за дюнами и валунами.
Ламия поправила свои рюкзаки, повернула направо и в один миг съехала вниз по раскаленному песку.
Вскоре под ногами вместо песка оказались чахлый утесник и игольчатая трава возвышенности. Мартин Силен неотрывно глядел на руины Града Поэтов. Ламия взяла влево, оставляя город в стороне. На пути начали попадаться полузасыпанные шоссе, мощенные каменными плитами. Одни опоясывали город, другие уходили в пустошь, теряясь в песках.
Силен отставал от Ламии все заметнее, а потом и вовсе остановился. Он уселся на поваленную колонну — часть былых ворот, сквозь которые каждый вечер проходили когда-то трудяги-андроиды, отработав день на полях. Поля бесследно исчезли. От акведуков, каналов и шоссе остались одинокие камни, впадины в песке или источенные временем пни — останки деревьев, защищавших когда-то пруды и каналы и затенявших живописные тропинки.
Силен вытер лицо беретом. Град по-прежнему был белым… белым, как кости, вынырнувшие из ползучих дюн, как зубы во рту вырытого из-под земли бурого черепа. С места, где он сидел, Силену были видны кое-какие строения. Они почти не изменились с тех пор, как он видел их в последний раз, а было это более полутораста лет назад. Недостроенный, но все равно величественный Амфитеатр Поэтов лежал в руинах; белоснежный гость из чужих времен Римский Колизей весь зарос пустынными вьюнками и фанфарным плющом. За огромным атриумом, открытом ветрам и солнцу, тянулись разрушенные галереи… Силен знал, что здесь потрудилось не время, а щупы, копья и динамит бестолковых гвардейцев Печального Короля Билли, которые хотели прикончить Шрайка. Это было уже после эвакуации горожан. Вояки натащили всяческой электроники и лазеров, чтобы разделаться с Гренделем, после того как он славно полакомился в пиршественном зале.
Мартин Силен хихикнул и уронил голову на грудь — от жары и усталости все плыло перед глазами.
Впереди возвышался огромный купол Обеденного зала, где когда-то утолял голод и он. Сначала — среди сотен собратьев по искусству, затем, в настороженном молчании, с кучкой последних обитателей города, оставшихся здесь по каким-то своим, теперь уже никому не ведомым причинам, и, наконец, в одиночестве. Полном одиночестве. Однажды он уронил бокал, и этот звук полминуты грохотал эхом под сводами, испещренными вязью виноградных листьев.
Наедине с морлоками, сострил Силен. Но в итоге не осталось даже морлоков для компании. Только его муза.
Внезапно раздался шум, словно что-то взорвалось неподалеку, и стая белых голубей взлетела из кособокой башни в бывшем дворце Печального Короля Билли. Силен глядел, как они кружат в гудящем от зноя небе, дивясь, что им удалось выжить и прожить несколько веков здесь, на краю света.
Впрочем, если уж он выжил, почему бы и им не попробовать?
В городе — тень, сумрак. Целые озера живительной тени. Интересно, действуют ли еще колодцы, осталась ли еще пресная вода в огромных подземных резервуарах, возникших (или сооруженных) задолго до прилета сюда человеческих кораблей-ковчегов. Он вспомнил свой рабочий стол — антикварную редкость со Старой Земли, стоявший в каморке, где были написаны многие из его «Песней».
— Что случилось? — рядом выросла вернувшаяся за ним Ламия Брон.
— Ничего. — Он посмотрел на нее, сощурив глаза. Не женщина, а какое-то приземистое дерево: темные ноги-корни, загорелая кожа-кора… Ходячий сгусток энергии. Силен попытался вообразить ее утомленной… но сам взмок от пота. — Я тут сообразил, — начал он. — Мы зря отправились в Башню. Здесь, в городе, есть колодцы. А может, и запасы продовольствия.
— Угу-у, — протянула Ламия. — Мы с Консулом это уже обсудили. Несколько веков Мертвый Град грабили все кому не лень. Паломники к Шрайку уничтожили все запасы еще полвека назад. А что касается колодцев… водоносный слой сместился, резервуары загрязнены. Мы пойдем в Башню.
Кровь прилила к щекам Силена. Его невыносимо раздражала самоуверенность этой, с позволения сказать, девицы, ее инстинктивная убежденность, что в любой ситуации последнее слово остается за нею.
— Пусть так. А я все-таки схожу разведаю, — отрезал он. — Если повезет, мы можем выгадать кучу времени.
Ламия встала перед ним, заслоняя солнце. Ее черные волосы сияли вокруг головы, как солнечная корона при затмении.
— Нет. Так мы только потеряем время и не успеем вернуться до темноты.
— Ну и катись! — заявил поэт неожиданно для самого себя. — А я пойду взгляну на станцию водоснабжения. Я знаю продуктовые склады, которых ни одному паломнику не отыскать.
Он увидел, как вздулись мускулы на руках Ламии: она решала, не схватить ли его за шиворот, чтобы потащить обратно в дюны. Ведь они прошли всего треть пути до подножия гор, где начинался длинный подъем к лестнице Башни.
— Мартин, — устало произнесла Ламия, передернув плечами. — От нас зависит судьба остальных. Пожалуйста, не упрямься!
Силен демонстративно уселся поудобнее, прижавшись спиной к колонне.
— Да пошла ты, — пробормотал он, а затем взорвался: — Я устал! Ты сама знаешь, что в любом случае тебе достанется девяносто пять процентов работы. Я же старик! Ты и вообразить себе не можешь, как я стар. Позволь мне остаться и немного отдохнуть. Может быть, я найду какую-нибудь пищу. Может, напишу что-нибудь.
Ламия, присев на корточки, ткнула в его рюкзак.
— Так вот что у тебя там! Твоя поэма.
— Конечно, — подтвердил Силен.
— И ты все еще думаешь, что соседство с Шрайком поможет тебе закончить ее?
Силен пожал плечами, из последних сил борясь с головокружением.
— Да, он — убийца, этот блядский Грендель, выкованный в аду, — сказал он. — Но он моя муза.
Ламия вздохнула, прищурившись, посмотрела на солнце, уже сползающее к горам, а затем оглянулась назад.
— Возвращайся в долину, — предложила она негромко и добавила, немного помолчав: — Я тебя провожу.
Силен улыбнулся потрескавшимися губами:
— Возвращаться? А что мне там делать — играть в преферанс с другими стариками, пока эта тварь не пожалует к нам? Премного благодарен, но я лучше чуть-чуть здесь посижу и чуть-чуть поработаю. Иди, женщина. Ты можешь взвалить на себя больше, чем три поэта вместе взятых. — Он снял с себя пустые рюкзаки и фляги и протянул ей.
Ламия сжала спутанные лямки в кулаке, маленьком и твердом, как головка стального молотка.
— Ну, ладно, не дури. Мы можем идти медленнее.
Поэт с трудом поднялся, разозленный ее жалостью.
— Будь ты проклята, о дочь Лузуса! Если ты вдруг запамятовала, я тебе напомню, что все паломничество затеяно ради свидания со Шрайком. Твой друг Хойт этого не забыл. Кассад тоже все понял, и сейчас сраный Шрайк наверняка жует его безмозглые военные косточки. Ничуть не удивлюсь, если и тем троим в долине уже не нужна вода. Иди! Проваливай! Я сыт по горло твоим обществом.
После этой тирады Ламия Брон несколько секунд сидела на корточках, глядя на Силена. Затем встала, коснулась его плеча, за спину забросила ранцы и бутылки и быстро пошла прочь. Даже в юности он не умел ходить так быстро.
— Я вернусь этим путем через несколько часов, — бросила Ламия через плечо. — Будь здесь. К Гробницам пойдем вместе.
Мартин Силен молча провожал глазами ее удаляющуюся коренастую фигурку. Вскоре она совсем пропала из виду на юго-западе. Горы колыхались в знойном мареве. Он посмотрел себе под ноги и увидел бутылку. Значит, она оставила ему воду. Сплюнув, он сунул бутылку в карман рюкзака и вошел в поджидавший его сумрак мертвого города.
Глава 20
Когда они распечатали последние пакеты с рационами и принялись за полдник, Дюре чуть не потерял сознание. Сол и Консул перенесли его в тень, на ступени широкой лестницы Сфинкса. Лицо священника было белее его снежно-белых волос.
Когда Сол поднес к его губам бутылку с водой, Дюре попытался улыбнуться.
— Вы все довольно легко приняли факт моего воскрешения, — пробормотал он, утирая подбородок.
Консул прислонился к стене Сфинкса.
— Я видел крестоформы на Хойте. Они теперь на вас.
— А я поверил его… вашему рассказу, — сказал Сол, передавая воду Консулу.
Дюре провел рукой по лбу.
— Я прослушал диски комлога. Рассказы, включая мой, просто невероятны!
— Вы сомневаетесь в их правдивости? — поинтересовался Консул.
— Нет. Но трудно разобраться, отыскать общие элементы… связующую нить, что ли.
Сол прижал Рахиль к груди и стал тихо ее укачивать, поддерживая ладонью крохотную головку:
— А разве должна быть связь? Кроме Шрайка, конечно.
— Должна. — Щеки Дюре порозовели. — Затея с паломничеством не случайна. Как и то, что выбор пал именно на вас.
— Кто только не занимался отбором паломников, — возразил Консул. — Консультативный Совет ИскИнов, Сенат Гегемонии. Даже сама церковь Шрайка.
Дюре покачал головой.
— Да, это так, друзья мои, но за всем этим стоит единый руководящий ум.
Сол наклонился ближе.
— Бог?
— Может быть. — Дюре слабо улыбнулся. — Хотя я имел в виду Техно-Центр… искусственный разум, который так таинственно вел себя во время этих событий.
Малютка запищала, как котенок. Сол дал ей соску и настроил комлог на своем запястье на ритм сердцебиения. Рахиль, сжав крошечные кулачки, сразу задремала.
— Рассказ Ламии дает основание предположить, — заметил ученый, — что какие-то силы в Техно-Центре пытаются нарушить статус-кво… Дать человечеству шанс на выживание, не отказываясь вместе с тем от проекта Высшего Разума.
Консул указал на безоблачное небо:
— Все, что произошло — наше паломничество, даже эта война, — все подстроено противоборствующими силами в Техно-Центре.
— А что мы о нем знаем? — негромко спросил Дюре.
— Ничего. — Консул швырнул камешком в изваяние слева от лестницы Сфинкса. — Если вдуматься, ровным счетом ничего.
Дюре приподнялся, сел и принялся растирать себе лицо влажным платком.
— Тем не менее цель Техно-Центра удивительно схожа с нашей.
— И что это за цель? — спросил Сол, не переставая укачивать задремавшего младенца.
— Познать Бога, — просто ответил священник. — Или, если это не удастся, создать его. — Прищурившись, он посмотрел в глубь долины. Тени юго-западных стен уже дотянулись до Гробниц и почти накрыли их. — Я был одним из защитников подобной идеи в нашей Церкви…
— Я читал ваши трактаты о Святом Тейяре, — заметил Сол. — Вы блестяще доказываете необходимость эволюции к точке Омега — Божеству, не соскальзывая при этом в социнианскую ересь.
— Какую-какую? — переспросил Консул.
Отец Дюре слегка усмехнулся.
— Социн[48] — итальянский еретик шестнадцатого века от Рождества Христова. Был отлучен, потому что доказывал, что Бог — существо ограниченное, способное развиваться по мере того, как мир… Вселенная… усложняется. Я соскользнул в социнианскую ересь, Сол. То был первый из моих грехов.
Вайнтрауб не отводил глаз от священника.
— А последний?
— Помимо гордыни? — спокойно отозвался Дюре. — Величайшим из моих грехов была фальсификация результатов семилетних раскопок на Армагасте. Я пытался установить связь между тамошними исчезнувшими Строителями Арок и протохристианским культом. Такой связи не существовало. Я подтасовал результаты. Итак, вся ирония в том, что величайшим из моих грехов, по крайней мере в глазах Церкви, является нарушение научной этики. Как ни странно, в эти критические для нее дни Церковь готова примириться с богословской ересью, но не терпит подложных научных протоколов.
— Армагаст, наверное, похож на эти места? — Сол очертил полукругом долину, Гробницы и пустыню за скалами.
Дюре огляделся вокруг, и глаза его на миг вспыхнули:
— Пыль, камень, привкус смерти во рту — да. Но здесь куда более зловещая атмосфера. В долине что-то есть, и это что-то всеми силами противится неизбежной смерти.
Консул рассмеялся.
— Будем надеяться, что к этой категории относимся и мы. Я хочу перенести комлог вон туда, на седловину, и еще раз попытаться установить связь с кораблем.
— Я с вами, — сказал Сол.
— И я, — откликнулся отец Дюре, поднимаясь на ноги. Он пошатнулся, но отказался опереться на руку Вайнтрауба.
Корабль не отвечал. А без корабля нечего и надеяться на мультисвязь с Бродягами, Сетью или вообще с кем-либо вне Гипериона. Обычные диапазоны тоже онемели.
— А может, его уничтожили? — спросил Вайнтрауб у Консула.
— Нет. Прием подтверждается, просто передатчик молчит. Гладстон все еще держит корабль в карантине.
Прищурившись, Сол взглянул в глубь пустоши, где в горячем мареве дрожали горы. Несколькими километрами ближе вонзались в небосвод зубчатые руины Града Поэтов.
— Ну, что ж, — сказал он наконец. — Может, оно и к лучшему. Обойдемся без бога из машины.
При этих словах Поль Дюре вдруг разразился смехом, таким раскатистым и неудержимым, что даже закашлялся и был вынужден глотнуть воды.
— Что вас так рассмешило? — удивился Консул.
— Deus ex machina, «бог из машины»! То, о чем мы с вами говорили только что. Подозреваю, именно поэтому нас и собрали здесь. Бедняга Ленар и его «бог» в машине-крестоформе. Ламия с ее воскрешенным поэтом, запертым в петле Шрюна, — она ведь ищет машину, которая освободит ее собственного «бога». Вы, Сол, ожидаете черного «бога», дабы он наконец разрешил ужасную участь вашей дочери. И Техно-Центр, машинное отродье, тоже пытается создать своего бога.
Консул поправил солнцезащитные очки.
— Ну а вы, отче?
Дюре покачал головой.
— Я? Наверное, жду, когда своего «бога» создаст самая большая машина из всех — Вселенная. Не знаю, возможно, я так возвеличил Святого Тейяра, потому что не нашел в современном мире следов живого Творца. Подобно разумам Техно-Центра, и я мечтаю построить то, чего не могу найти.
Сол посмотрел в небо:
— В таком случае какого «бога» ищут Бродяги?
Ему ответил Консул.
— Их одержимость Гиперионом не каприз. Они верят, что именно здесь родится новая надежда для человечества.
— Нам пора, — сказал Сол, укрывая Рахиль от солнца. — Ламия и поэт должны вернуться к обеду.
Но к обеду они не вернулись. Солнце уже стало клониться к закату, а их все еще не было. Каждый час Консул ходил к воротам долины и высматривал, не появились ли среди валунов и дюн две движущиеся точки. Тщетно. В который раз Консул пожалел, что у него нет электронного бинокля Кассада.
Сумрак еще не до конца объял небо, а огненные вспышки в зените уже возвестили о возобновлении космической битвы. Трое мужчин, устроившись на ступеньке перед входом в Сфинкс, наблюдали за страшным фейерверком: медленно набухали и лопались белые шары, распускались тускло-багровые бутоны, внезапно прорезали небо зеленые и оранжевые молнии, после которых перед глазами долго плавали огненные круги.
— Как вы думаете, кто побеждает? — спросил Сол.
— Не важно, — ответил Консул, не поднимая глаз. — Вам не кажется, что на ночь лучше уйти из Сфинкса, подождать наших у какой-нибудь другой Гробницы?
— Мне нельзя уходить от Сфинкса, — сказал ученый. — А вы поступайте, как вам удобнее.
Дюре коснулся щеки ребенка. Малышка теребила губами соску, и нежная щечка терлась о палец священника.
— Сколько ей, Сол?
— Два дня. По времени Гипериона она родилась… родиться минут через пятнадцать после захода солнца на этой широте.
— Схожу взгляну в последний раз, — объявил Консул. — Потом разведем костер — надо же дать знать им, где мы.
Консул уже спустился к тропе, когда Вайнтрауб внезапно вскочил и указал рукой — но не туда, где в последних лучах солнца светились ворота долины и откуда должны были появиться Ламия и Силен, а в противоположную сторону.
Консул замер. В следующую секунду он извлек из кармана маленький нейростаннер, врученный ему Кассадом несколько дней назад. Поскольку Ламия и Кассад отсутствовали, это было их единственное оружие.
— Видите? — прошептал Сол.
В сумраке за слабо светящейся Нефритовой Гробницей двигалась какая-то фигура. Недостаточно большая и быстрая, чтобы оказаться Шрайком, да и двигалась она как-то странно: медленно, то и дело замирая, шатаясь из стороны в сторону.
Отец Дюре быстро оглянулся на ворота долины и вновь уставился на нее.
— Силен не мог попасть в долину оттуда?
— Разве что спрыгнул со стены ущелья, — прошептал Консул. — Или сделал крюк на восемь километров к северо-востоку. К тому же Силен пониже.
Незнакомец снова остановился, пошатнулся — и упал. Теперь он был неотличим от бесчисленных камней долины.
— Пошли, — приказал Консул.
Они шли — не бежали. Спускавшийся первым Консул держал в вытянутой руке станнер, установленный на двадцать метров, сознавая, что на таком расстоянии от него мало проку. Отец Дюре, взявший у Сола ребенка, шел за ним следом, а ученый тем временем искал подходящий камень.
— Давид и Голиаф? — пошутил Дюре, когда Сол догнал их, на ходу вкладывая камень размером с ладонь в пращу, которую вырезал днем из фибропластового мешка.
Загорелое лицо ученого еще больше потемнело:
— Похоже на то. Давайте я заберу Рахиль.
— Мне нравится нести ее. К тому же, если предстоит драка, лучше, чтобы у вас обоих руки были свободны.
Сол, кивнув, поравнялся с Консулом. Священник с ребенком на руках замыкал шествие.
Когда до незнакомца осталось метров пятнадцать, они разглядели, что это — мужчина, одетый в грубую рясу, очень высокий и что он лежит ничком на песке.
— Оставайтесь здесь, — бросил Консул и побежал к нему. Перевернув тело, он сунул станнер в карман и вытащил из-за пояса бутылку с водой.
Ноги сами понесли Сола вперед, голова у него шла кругом, колени подгибались. Дюре брел позади.
Войдя в круг света от ручного фонарика Консула, священник увидел, как Сол сдернул с упавшего капюшон. Открылось лицо — длинное, азиатское, искаженное странной гримасой. Нефритовая Гробница бросала на него зеленоватые отблески.
— Тамплиер, — пробормотал Дюре, недоумевая, откуда здесь взялся последователь Мюира.
— Это Истинный Глас Древа, — сказал Консул. — Наш исчезнувший спутник… Хет Мастин.
Глава 21
Всю вторую половину дня Мартин Силен работал над своей поэмой, и только наступившая ночь заставила его отложить перо.
Придя в город, он обнаружил, что его кабинет разгромлен, антикварный стол исчез. Время не пощадило дворца Печального Короля Билли — окна были выбиты, по выцветшим коврам, стоившим когда-то целое состояние, кочевали миниатюрные дюны, под руинами поселились крысы и скальные угри. В башнях вместо придворных уютно устроились голуби и одичавшие охотничьи птицы. В конце концов поэт вернулся в накрытую гигантским куполом столовую Дома Искусств, примостился у низкого столика и начал писать.
На выщербленных плитах лежал толстый слой пыли, проломы в куполе заплели красные пустынные вьюнки, но Силен ничего не замечал, с головой уйдя в работу над «Песнями».
В поэме рассказывалось о свержении титанов их собственными отпрысками, олимпийскими богами. Силен описывал великую битву, разразившуюся после того, как титаны отказались сойти со сцены. Бурлили моря — то Океан сражался с узурпатором-Нептуном, гасли звезды — Гиперион бился с Аполлоном за власть над светом, сам космос содрогался — то Сатурн защищал от Юпитера свой престол. Нет, то была не просто смена одного пантеона божеств другим — кончался золотой век и наступали смутные времена, сулящие ужас и гибель всем смертным.
Аллегорический смысл «Песней Гипериона» был кристально ясен: в титанах легко угадывались герои недолгой эпохи освоения человечеством галактики, олимпийцами-узурпаторами были, конечно же, ИскИны Техно-Центра, а ареной битвы — знакомые континенты, моря и воздушные океаны планет Сети. И здесь же чудовищный Дис, сын Сатурна, жаждущий занять трон Юпитера, охотился за своими жертвами, унося и богов, и смертных.
В «Песнях» рассказывали и об отношениях между творцами и их творениями — о любви родителей к детям, художников к своим произведениям, всех творцов к тому, что они сотворили. Поэма прославляла любовь и верность, не скатываясь в нигилизм, проводниками которого из века в век остаются властолюбие, людские амбиции и интеллектуальная спесь.
Мартин Силен работал над своей поэмой больше двух стандартных веков. Самые удачные его строки родились именно здесь, в этих декорациях, — покинутый город, ветры пустыни, завывающие за спиной, как зловещий хор из греческой трагедии, постоянный страх перед внезапным появлением Шрайка. Спасая жизнь, Силен когда-то ушел отсюда и, покинув свою музу, тем самым обрек свое перо на молчание. А теперь, снова взявшись за работу, идя по верному следу, этому идеальному проводнику, знакомому лишь настоящим художникам, он чувствовал, что возвращается к жизни. Сосуды расширились, легкие задышали глубже — он буквально упивался богатством красок и чистотой воздуха. Поэт наслаждался каждым росчерком старинного пера на пергаменте, кипа исписанных страниц громоздилась на круглом столе, вместо пресс-папье придавленная обломками камней, стихи снова текли свободно, бессмертие приближалось с каждой строфой, с каждой строкой.
Силен уже подошел к самой увлекательной и трудной части поэмы — сценам, где война уже перевернула вверх дном тысячи ландшафтов, обратила в прах целые цивилизации и представители титанов просят перемирия для встречи и переговоров с угрюмыми героями-олимпийцами. На широкую арену его воображения выступили Сатурн, Гиперион, Кой, Иапет, Океан, Бриарей, Мимас, Порфирион, Энцелад, Рет и их могучие сестры-титаниды: Тефия, Феба, Тейя и Климена. И вот они стоят лицом к лицу с меланхоличными Юпитером, Аполлоном и иже с ними.
Мартину неведомо, чем кончится наиэпичнейшая из всех эпопей. Его жизнь теперь подчинена лишь одной цели — дописать поэму… и так на протяжении десятилетий. Развеялись юношеские мечты о славе и богатстве, которыми Слово должно было наградить его за верную службу. Слава и богатство когда-то сами текли ему в руки и едва не убили его — убили его музу. Он давно знал, что «Песни» — лучшее литературное произведение эпохи, и сейчас просил лишь одного — возможности завершить их, самому узнать конец, облечь каждую строфу, каждую строку, каждое слово в самую утонченную, ясную и прекрасную форму, какая только возможна.
Теперь он писал как в лихорадке, почти обезумев, одержимый желанием завершить то, что считал обреченным на незавершенность. Слова и фразы послушно слетали с древнего пера на такую же древнюю бумагу; строфы возникали без всяких усилий с его стороны, каждая песнь находила свой голос, и каждая была безупречна: не нужно было перечитывать их или останавливаться, ожидая вдохновения. Картина за картиной развертывались поразительно быстро, ошеломляя мощью и красотой.
Под белым флагом сходятся лицом к лицу Сатурн и узурпатор его престола Юпитер, разделенные, как условлено, мраморной глыбой. Их диалог величав и прост, их аргументы и рассуждения о войне и мире — самая великолепная полемика со времен «Мелийского диалога»[49] Фукидида. Но внезапно в поэму врывается что-то совершенно новое и непонятное, не предусмотренное планами, которые Силен составлял во время многочасовых бдений в ожидании вдохновения. Оба повелителя богов говорят о своем страхе перед каким-то третьим узурпатором, некоей ужасной внешней силой, угрожающей миру в обоих царствах. Изумленный Силен видит, как герои, сотворенные им ценой стольких усилий, вырываются из-под его власти и пожимают друг другу руки над мраморной глыбой, заключая союз против…
Против кого?
Силен останавливается, перо замирает в руке: он вдруг осознает, что почти не видит бумаги. Какое-то время он писал в полумраке, а теперь его обступила полная тьма.
Силен приходит в себя и вновь открывает двери сознания, впуская мир. Так возвращаются чувства после оргазма, только нисхождение художника к обычной жизни куда болезненнее. Он — или она — спускается в облаках славы, но эти облака быстро рассеиваются в потоке повседневной суеты.
Силен огляделся по сторонам. В большом обеденном зале темно, только наверху, в затянутых плющом проломах, сияют звезды да вспыхивают время от времени отблески далеких взрывов. Вокруг — смутные призраки столов, парящие на фоне чернильного мрака далеких стен, сочащегося сквозь кружево оплетших их пустынных вьюнков. За дверями обеденного зала вечерний ветер завывает на разные голоса, все громче и громче. Каждая трещина в прогнувшихся стропилах, каждая дыра в куполе ведет свою сольную партию — контральто, сопрано, снова контральто…
Поэт вздохнул. В его рюкзаке нет фонаря. Только «Песни» и вода. Желудок сводит голод. Где эта проклятая Ламия Брон? Но, едва вспомнив о ней, Силен обрадовался тому, что женщина не вернулась. Ему нужно побыть одному и закончить поэму… При нынешних темпах это займет не больше дня и, может быть, кусочка ночи. Еще несколько часов, и труд его жизни будет завершен. И тогда он сможет отдохнуть, насладиться прелестью повседневных мелочей, все эти годы вызывавших досаду, мешавших работе, которая все не кончалась.
Мартин Силен снова вздохнул и начал укладывать рукопись в рюкзак. Нужно найти какой-нибудь светильник… развести огонь, даже если для этого придется спалить все бесценные гобелены Печального Короля Билли. Или выйти наружу и писать при свете сполохов космической битвы.
Силен взял последние несколько страниц и перо и оглянулся в поисках двери.
Он был не один в темном зале.
«Ламия», — подумал Силен с облегчением и разочарованием.
Но то была не Ламия. Силен сразу же заметил несоответствия: слишком массивное тело и слишком длинные ноги, отблески звездного света на панцире и колючках, тени от лишней пары рук, и, главное, рубиновое свечение адских кристаллов на месте глаз.
Он со стоном плюхнулся на скамью.
— Не сейчас! — вскричал поэт. — Изыди! Будь прокляты твои окаянные глаза!
Высокая тень придвинулась, неслышно ступая по ледяному полу. По небу побежала кроваво-красная рябь, и Силен увидел блеснувшие в темноте шипы, лезвия и мотки колючей проволоки.
— Нет! — прошептал он. — Я не хочу! Оставь меня в покое!
Шрайк приблизился еще на шаг. Рука Силена дернулась, схватила перо и написала поперек пустого нижнего поля последней страницы: «ВРЕМЯ ПРИШЛО, МАРТИН».
Он смотрел на написанное, стараясь преодолеть приступ идиотского смеха. Насколько ему было известно, Шрайк никогда ни с кем не общался… Разве что на двуедином языке боли и смерти.
— Нет! — крикнул Силен снова. — У меня работа! Забери другого, будь ты проклят!
Шрайк сделал еще шаг. Бесшумные плазменные взрывы раскалывали небо, и по ртутной груди и рукам существа пробегали желтые и красные блики — словно струи краски. Рука Мартина Силена, дернувшись, начертала поверх написанного: «ТВОЕ ВРЕМЯ ПРИШЛО, МАРТИН».
Силен прижал рукопись к груди, подхватив со стола последние страницы, чтобы на них ничего нельзя было написать. Оскалившись, он глядел на призрака, между тем как его рука выводила на пустой столешнице: «ТЫ БЫЛ ГОТОВ ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ С ТВОИМ ПОКРОВИТЕЛЕМ».
— Не сейчас! — взмолился поэт. — Билли мертв! Позволь мне сначала закончить! Пожалуйста! — Впервые в жизни Мартин Силен о чем-то просил. И не просто просил — умолял: — Пожалуйста, ну пожалуйста! Дай мне закончить!
Еще шаг. Шрайк стоял так близко, что его бесформенное туловище загородило звездный свет, и тень от него упала на человека.
«НЕТ», — написали пальцы Мартина Силена, и перо выпало из них; Шрайк протянул одну из своих бесконечно длинных рук и бесконечно острые лезвия пронзили запястья поэта.
Мартин Силен кричал, когда Шрайк волок его по обеденному залу. Он кричал, когда увидел под собой дюны, услышал шорох песка и увидел поднимающееся из долины дерево.
Гигантское дерево было больше долины, выше гор, через которые перевалили паломники; его верхние ветви, казалось, уходили в космос. Снизу доверху оно отливало сталью и хромом, а его ветви были усеяны шипами и иглами. В красном свете гаснущего неба Силен разглядел, что на этих шипах корчатся и извиваются люди — тысячи, десятки тысяч. Преодолевая немыслимую боль, он напряг глаза — и узнал некоторых. То были именно тела, а не души или какие-то там абстракции. И они, безусловно, страдали, но смерть не приходила, чтобы избавить их от мук.
«ТАК НУЖНО», — написала рука Силена на твердой, холодной груди Шрайка. С металла на песок закапала кровь.
— Нет! — захрипел поэт и принялся колотить кулаками по клинкам-скальпелям и колючей проволоке. Он вырывался и извивался, даже когда хромированный монстр прижал его к себе еще плотнее, нанизывая на свои клинки, как энтомолог — бабочку. Но Силен обезумел не от боли. Его жгла адская мука непоправимой утраты. Он ведь почти закончил «Песни»! Почти закончил!
— Нет! — Мартин Силен рванулся из последних сил, так что во вес стороны полетели кровавые брызги, и принялся выкрикивать ругательства. Но Шрайк уже нес его к дереву.
Почти минуту эхо металось по мертвому городу, становясь все слабее и слабее, и наконец замерло. Наступила тишина, нарушаемая лишь хлопаньем крыльев: это голуби, покружившись в небе, вновь ныряли в трещины куполов и башен.
Подул ветер, взметнув хрупкие листья на дне пересохших фонтанов. Найдя отверстие в купоне, он проник внутрь, и медленный вихрь закружил исписанные страницы. Некоторые вырвались на волю и полетели над тихими дворами, пустыми улочками и обвалившимися акведуками.
Вскоре ветер стих, и в Граде Поэтов вновь воцарился мертвый покой.
Глава 22
Четырехчасовая прогулка обернулась для Ламии Брон сплошным кошмаром, растянувшимся на целые десять часов. Сначала их занесло в мертвый город, где пришлось разбираться с Силеном. Она не хотела оставлять его там одного, не хотелось и тащить его с собой или возвращаться к Гробницам. В результате крюк вдоль хребта обошелся ей в час потерянного времени.
Дюнам и каменистым пустошам, казалось, не будет конца. Когда Ламия достигла подножия гор, уже вечерело, и Башня была окутана сумраком.
Сорок часов назад она без особых усилий сбежала по шестьсот шестьдесят одной ступеньке лестницы Башни. Подъем стал испытанием даже для ее мускулов, закаленных гравитацией Лузуса. По мере того как Ламия забиралась выше, воздух становился прохладнее, вид на окрестности — живописнее, и наконец на высоте четырехсот метров ее взгляду открылась Долина Гробниц Времени. Правда, отсюда была видна только верхушка Хрустального Монолита — едва различимая искорка, то появлявшаяся, то вновь исчезавшая в туманной дымке. Один раз Ламия даже остановилась проверить, не световые ли это сигналы, но мерцание было хаотичным — скорее всего какая-нибудь панель на изуродованном фасаде Монолита качалась на ветру, отражая солнечные лучи.
Перед последней сотней ступеней Ламия наудачу включила свой комлог. Общие каналы тут же оглушили ее обычной какофонией помех — возможно, виной тому были приливы времени, нарушавшие радиосвязь в районе Долины. Сейчас пригодился бы лазерный передатчик — древний комлог Консула был снабжен именно лазерным ретранслятором… но комлог Консула остался, естественно, у него, а второй коммлазер исчез вместе с Кассадом. Пожав плечами, Ламия преодолела последние ступеньки.
Башню Хроноса построили андроиды Печального Короля Билли. Несмотря на облик и название, Башня никогда не использовалась как крепость. По замыслу короля, она должна была служить гостиницей, санаторием и местом летнего отдыха для людей искусства. После эвакуации Града Поэтов Башня опустела более чем на сто лет, посещаемая лишь самыми отчаянными искателями приключений.
Когда страх перед Шрайком немного рассеялся, Башню вновь обжили туристы и паломники, и в конце концов Церковь Шрайка сделала посещение ее обязательным для участников ежегодного паломничества. Поговаривали, что в потаенных комнатах — глубоко в толще горы или на верхних ярусах неприступных бастионов — служились черные мессы и совершались пышные жертвоприношения существу, которого почитатели Шрайка именовали Аватарой.
Близящееся открытие Гробниц и непредсказуемое поведение темпоральных приливов заставили власти эвакуировать жителей северных районов Эквы. Башня Хроноса снова замерла. Такой ее и увидела Ламия Брон.
Солнце еще заливало светом пустыню и мертвый город, но Башня уже погрузилась во мрак. Ламия добралась до нижней террасы, передохнула минутку, вытащила из самого маленького рюкзака фонарик и вошла в лабиринт. В коридорах было темно. Во время их ночевки здесь двое суток назад Кассад, сходив на разведку, объявил, что все источники энергии уничтожены — солнечные преобразователи разбиты, термоядерные батареи расплющены и даже от аварийных аккумуляторов остались одни обломки. Ламия много раз вспоминала об этом, когда преодолевала шестьсот шестьдесят одну ступень, зло косясь на кабины подъемника, застывшие на ржавых вертикальных направляющих.
В больших залах ничего не изменилось: всюду виднелись засохшие остатки прерванных пиршеств и следы панического бегства. Трупов не было, но бурые потеки на каменных стенах наводили на мысль, что пару недель назад здесь происходила настоящая бойня.
Ламия, не обращая внимания на усталость и хаос, царящий вокруг, поднялась в кладовку, где они ночевали. По дороге она спугнула стаю предвестников — отвратительных черных птиц с почти человеческими головами, которые обосновались в большой столовой. Лестницы здесь были до нелепости узкими. Тусклый свет сочился сквозь цветные витражи, бросая на стены причудливые отблески. Там, где стекла были разбиты или вообще выбиты, в окна заглядывали горгульи, точно окаменевшие по мановению волшебной палочки чудовища. Ветер, налетевший со снежных вершин Уздечки, заставил Ламию поежиться, и сразу же зачесалась обгоревшая на солнце кожа.
Рюкзаки и снаряжение были там, где паломники их оставили, — в маленькой кладовке над центральным залом. Ламия удостоверилась, что в некоторых коробках и ящиках еще есть нетронутые рационы, и вышла на балкончик, где Ленар Хойт играл на своей балалайке всего несколько часов назад, показавшихся вечностью.
Тени от высоких вершин протянулись по песку на несколько километров, почти добравшись до мертвого города. Долина Гробниц Времени и гористые пустоши за нею все еще нежились в закатных розовых лучах, валуны и низкие скалы отбрасывали фантастические тени. Ламия не могла разглядеть Гробниц из такой дали — только Монолит порой отсвечивал белой искоркой. Она снова попробовала включить комлог и тут же выругалась: из динамика неслась все та же какофония; затем она вернулась в кладовку — отобрать и уложить припасы.
Ламия взяла четыре пайковых набора, закатанных в пенолит и закрытых сверху фибропластом. Вода была им всего нужнее, и вода в Башне была: желоба, по которым она подавалась с горных ледников, выдержали все испытания. Ламия, наполнив принесенные с собой бутылки, принялась искать пустую посуду, проклиная лентяя Силена — старик вполне мог дотащить полдюжины бутылок с драгоценной влагой.
Уже собираясь уходить, она услышала какой-то шум. Он доносился из зала, расположенного между ней и лестницей. Ламия навьючила на себя все рюкзаки, вытащила из-за пояса отцовский пистолет и медленно двинулась вперед.
В зале было пусто. Черные предвестники больше не прилетали. Ветер шевелил тяжелые гобелены, и они реяли над грудами объедков, как истлевшие знамена. У противоположной стены вращалось огромное изваяние Шрайка из хрома и стали.
Ламия осторожно пересекла зал, все время поворачиваясь — так, чтобы за ее спиной не оставался один и тот же темный угол. Вдруг она окаменела: душераздирающий вопль рассек тишину. Завывание перешло чуть ли не в ультразвук, став почти неслышным. Ламия стиснула зубы, сжимающие рукоять пистолета пальцы побелели. Внезапно вой оборвался — словно луч проигрывателя соскользнул с диска.
Ламия поняла, откуда он исходил. За банкетным столом позади бюста, под шестью большими витражами, которые тускло подсвечивал закат, виднелась маленькая дверца. Звук сопровождался эхом, — видимо, он донесся из какого-то погреба или темницы далеко внизу.
Ламия Брон была любопытна. В сущности, вся ее жизнь была борьбой с выходящим за разумные рамки любопытством, которое и заставило ее избрать устаревшую, но порой столь увлекательную профессию частного сыщика. Из-за своего длинного носа она не раз попадала в глупое положение и даже в беду. Хотя случалось и так, что любопытство помогало ей узнать нечто, скрытое от всех. Но тут оно было совершенно излишне.
Она пришла сюда за жизненно необходимым — за пищей и водой. Больше никто из паломников прийти сюда не мог. Те три старика не угнались бы за ней даже с учетом ее крюка к мертвому городу. И она должна принести им воду и пищу, остальное не ее забота.
«Кассад?» — предположила Ламия, но тут же отбросила эту мысль. Вой не мог вырваться из горла полковника.
Держа пистолет наготове, Ламия попятилась от дверцы, нашла ступени, ведущие к основным ярусам, и начала осторожно спускаться, двигаясь как можно тише, насколько позволял семидесятикилограммовый груз и больше десятка бутылок. В темном стекле на нижнем этаже она мельком увидела свое отражение — приземистое, пошатывающееся чучело с пистолетом в руках, крутящее головой по сторонам. На спине горбом выпирали рюкзаки, на широких ремнях позвякивали бутылки и фляги.
Зрелище не рассмешило Ламию. Оказавшись на террасе, она с облегчением вдохнула прохладный, разреженный воздух. Фонарик можно было не включать — вечернее небо, усеянное низкими облаками, проливало на мир розовый и янтарный свет, освещая Башню и предгорья.
Она помчалась вниз по крутой лестнице, перешагивая через две ступеньки, но уже на середине крутого спуска мышцы ее сильных ног заныли, и она сбавила шаг. Пистолет она по-прежнему держала наготове — на случай, если кто-нибудь погонится за ней или выскочит из расщелины между скал. Достигнув нижней площадки, Ламия сделала по инерции еще несколько шагов, а потом оглянулась на башни и террасы, громоздящиеся позади, на пятисотметровой высоте…
…на нее стремительно неслись камни. И не только камни. Горгульи, сброшенные со своих древних насестов, летели рядом с валунами, дьявольски ухмыляясь в сумрачном свете. Ламия бросилась бежать — но тяжелая и неудобная ноша мешала ей. Она вмиг сообразила, что от каменной лавины ей не уйти, и, резко свернув в сторону, втиснулась в щель между двумя огромными валунами.
Рюкзаки тут же застряли, и Ламия принялась выпутываться из своей упряжи. В этот момент раздался невероятный грохот: первые камни заколотили по скалам, обдав ее тучей гранитной крошки. Наконец кожаные и фибропластовые ремни лопнули, и она тут же вползла под валуны, втащив за собой рюкзаки и бутылки. Обидно было бы потерять их после стольких трудов.
Чудовищный каменный град грохотал над миром. Разбитая голова мраморного гоблина прокатилась мимо и, врезавшись в небольшую глыбу рядом с Ламией, раздробила ее вдребезги. В воздухе потемнело от бесчисленных каменных ядер. По валунам над ее головой оглушающе барабанили булыжники. Еще несколько секунд, и камнепад прекратился — так же внезапно, как начался, и теперь слышался только перестук летящих под гору каменных обломков.
Ламия потянулась к одному из рюкзаков — затолкать его подальше, и тут камешек размером с ее комлог, срикошетив от скалы, влетел в ее укрытие. Дважды отскочив от стен пещерки, он ударил Ламию в висок.
Ламия пришла в себя от собственного стона. Голова раскалывалась. Снаружи уже стемнело, но сквозь щель между глыбами просачивались отблески далекой битвы. Она поднесла пальцы к виску и тут же отдернула их: на щеке и шее запеклась кровь.
Выбравшись из расщелины, Ламия сделала несколько неуверенных шагов, споткнулась и села на первый попавшийся валун, борясь с приступом тошноты.
Рюкзаки оказались целы, только одна бутылка с водой разбилась. Пистолет она нашла там же, где уронила, — на пятачке, свободном от каменного мусора. Скалы вокруг были покрыты выбоинами и трещинами — следами пронесшейся по ним каменной лавины.
Ламия взглянула на циферблат. Оказалось, она пролежала без сознания почти час, и никто не утащил ее и не перерезал ей глотку. Посмотрев напоследок вверх, где прятались во тьме башенки и балконы Хроноса, она взвалила на плечи свою ношу и торопливо зашагала вниз по едва различимой каменистой тропе.
Когда Ламия наконец добралась до окраины мертвого города, Силена (как, впрочем, она и ожидала) там не было. Правда, она надеялась, что поэту просто надоело ждать и он решил в одиночку пройти несколько километров, отделяющих город от долины.
Поборов искушение снять рюкзаки и фляги и немного отдохнуть, Ламия отправилась на поиски. С пистолетом в руках она ступила на улицы мертвого города, выбирая дорогу при вспышках космической битвы.
Но на ее крики отвечало только эхо, да еще сотни незнакомых ей маленьких птиц снялись с гнезд, взмахивая белевшими в темноте крыльями. Ламия обошла нижние этажи старого королевского дворца, покричала на лестницах, даже выстрелила разок в воздух, но Силен не отзывался. Выкрикивая его имя, Ламия брела мимо стен, густо заросших ползучими растениями, заглядывала во дворики, но нигде не находила ни малейших следов его пребывания. В одном из дворов она увидела фонтан, напомнивший ей рассказ поэта о ночи, когда Шрайк унес Печального Короля Билли, но фонтанов в городе было много — поди узнай, тот ли это.
Ламия заглянула и в обеденный зал под разбитым куполом, но помещение было погружено во тьму. Позади нее раздался шум. Ламия мгновенно обернулась, но то был всего лишь старинный лист древней бумаги, прошуршавший по изразцовым плиткам…
Вздохнув, она направилась к выходу. Шагалось легко, несмотря на усталость после многодневной бессонницы. На вызовы, которые Ламия посылала по комлогу, никто не отвечал, но она не удивилась, ибо давно ощущала наплывы непонятных воспоминаний — предвестье темпорального прилива. Если Силен и проходил здесь несколько часов назад, вечерний ветер стер все следы.
Гробницы снова светились. Ламия заметила отблески на скалах, еще не дойдя до широкой седловины у спуска в долину. По сравнению с безмолвной огненной бурей в небесах — сущая ерунда, но это бледное пламя производило странное впечатление: казалось, из Гробниц вытекает накопленная за долгий день энергия.
Прокричав у ворот долины, чтобы предупредить Сола и остальных паломников о своем возвращении, Ламия начала спускаться. От помощи она тоже не отказалась бы — даже на последних ста метрах. Ремни натерли плечи, и там, где они врезались в тело, рубашка намокла от крови.
Но никто ей не ответил.
На подгибающихся ногах Ламия кое-как поднялась по ступеням Сфинкса и, сбросив ношу на широкое каменное крыльцо, достала фонарик. Темно. В помещении, где они спали, на полу валялись одеяла и рюкзаки. Ламия крикнула, подождала, пока утихнет эхо, и вновь обвела лучом фонаря стены. Здесь ничего не изменилось. Хотя нет. Она закрыла глаза и стала перебирать в памяти детали сегодняшнего утра.
Куб Мебиуса! Таинственный силовой контейнер, забытый или брошенный Хетом Мастином в ветровозе, исчез. Пожав плечами, Ламия направилась к выходу.
Шрайк ждал. Он стоял прямо в дверях, нависая над ней, как башня.
Ламия тут же попятилась, еле удержавшись от вскрика. Пистолет в руке показался ей маленьким и бесполезным. Фонарик сам собой упал на каменный пол.
Существо склонило голову набок. Из многогранных глаз струился пульсирующий красный свет, и по лезвиям клинков, из которых состояло его тело, пробегали кровавые блики.
— Слушай меня, сволочь, — четко выговаривая слова, произнесла Ламия. — Где они? Что ты сделал с Солом и ребенком? Где остальные?
Существо склонило голову на другую сторону. Лицо Шрайка было настолько необычным, что Ламия не могла расшифровать его выражения. Поза внушала угрозу. Стальные пальцы-скальпели клацнули и раскрылись, и тогда Ламия четырежды выстрелила. Тяжелые 16-миллиметровые пули громко ударились о металл и с визгом унеслись в ночную темень.
— Я не собираюсь умирать, понял, мудак железный? — пробормотала Ламия, прицелилась и выпустила еще двенадцать пуль, ни разу не промахнувшись.
Брызнули искры. Шрайк вскинул голову, как бы прислушиваясь.
Затем исчез.
Ламия ошарашенно попятилась и резко обернулась. Никого. Дно долины поблескивало в свете звезд, огненная буря в небесах утихла. На песок легли чернильно-черные тени. Даже ветер утих.
Она подошла к своим рюкзакам и села на самый большой из них, пытаясь унять сердцебиение. Ее удивила собственная реакция: она не испугалась… ну, не так чтобы очень. Но разве объяснишь это адреналину в собственной крови?
Все еще держа в руке пистолет, в котором оставалось штук шесть пуль и почти половина пирозаряда, она взяла бутылку с водой и сделала большой глоток.
Рядом появился Шрайк. Мгновенно, беззвучно.
Бутылка полетела наземь. Ламия попыталась навести на Шрайка пистолет и увернуться от удара.
С тем же успехом она могла и вовсе не двигаться. Шрайк вытянул правую руку, и на свету сверкнули пальцелезвия длиной со штопальную иглу. Один из них скользнул к уху Ламии и, царапнув черепную кость, легко вошел в мозг. Ламия ощутила только, как в голову льется мертвящий, чужой холод.
Глава 23
Полковник Кассад шагнул в портал, ожидая чего-то невероятного, но этим невероятным оказался давно знакомый и привычный безумный танец войны. Монета была уже здесь. Шрайк шел сзади, как конвоир, вонзив пальцелезвия в плечо полковника. Преодолев щекочущую энергозавесу, Кассад оказался рядом с Монетой. Шрайк исчез.
Кассад сразу узнал место — тот же вид открывался с вершины невысокой горы, в которой два века назад по воле Печального Короля Билли был высечен его портрет. Ровная площадка наверху была пуста, если не считать дымящихся обломков противоракетной батареи. По особому блеску гранита и все еще пузырящемуся металлу Кассад догадался, что батарея поражена с орбиты.
Монета сделала несколько шагов и застыла на краю обрыва, под которым пятьюдесятью метрами ниже выступала массивная бровь Печального Короля Билли. Кассад подошел к ней и встал рядом. Одного взгляда на речную долину, город и возвышенность с космопортом в десяти километрах к западу было достаточно, чтобы понять все.
Столица Гипериона горела. Джектаун представлял собой огненное море. Сотни пожаров поменьше испещрили предместья и вытянулись вдоль ведущего к космопорту шоссе, словно сигнальные костры. Пылала даже река Хулай — у верхних причалов и доков по ее поверхности разлилась горящая нефть. Над пламенем возвышался шпиль древней церкви. Кассад тут же подумал о «Цицероне», но не смог отыскать бара за сплошной завесой дыма и огня.
Холмы и долина представляли собой сплошную шевелящуюся массу — точно муравейник, раскиданный пинком гигантского сапога. Шоссе запрудили многотысячные толпы спасающихся бегством, и эта людская река медленно катила свои воды мимо горящих берегов. От лазерной и артиллерийской канонады горизонт и низкие облака охватило зарево. Каждые несколько минут из клубов дыма вокруг космопорта или со стороны лесистых холмов на севере и юге появлялся какой-нибудь летательный аппарат — боевой скиммер или космокатер; воздух моментально прорезали снопы лазерных лучей, и машина тут же падала, окутанная черно-оранжевым облаком.
Суда-амфибии сновали по реке как водомерки, маневрируя между горящими обломками лодок, барж и таких же амфибий. Кассад заметил, что единственный шоссейный мост в городе разрушен — горели даже его бетонные и каменные опоры. В дыму сверкали лучи боевых лазеров и адских плетей; с бешеной скоростью проносились искры противопехотных ракет, оставляя за собой следы из бурлящего перегретого воздуха. Внезапно вблизи космопорта что-то взорвалось, и в небо начало подниматься гигантское грибовидное облако.
«Нет, взрыв не ядерный», — подумал Кассад.
«Не ядерный», — подтвердила, не разжимая губ, Монета.
Пленка, защищавшая его лицо, действовала как ночной визор боевого скафандра, но во много раз эффективнее. Стоило Кассаду вглядеться в холм, возвышавшийся за рекой, в пяти километрах к северо-западу, как тот мгновенно приблизился. Морпехи ВКС занимали позиции на его склонах и вершине, споро пробивая кумулятивными зарядами окопы и стрелковые ячейки. Полимерный камуфляж работал безупречно, выделение тепла было минимальным, но Кассад видел их совершенно отчетливо. При желании можно было рассмотреть даже лица.
В его ушах шелестел шепот оперативно-командных каналов и узконаправленных передач, звенели горячие перепалки и отборная брань — традиционный аккомпанемент всех битв на свете. Тысячи солдат рассеялись по местности и теперь окапывались, занимая круговую оборону в двадцати километрах от города, а спицами в этом исполинском колесе были тщательно размеченные сектора обстрела и векторы тотального уничтожения.
«Они ожидают вторжения», — произнес Кассад с некоторым усилием, в который раз удивившись этому полутелепатическому, полуакустическиму контакту.
Монета в ответ подняла ртутную руку, указывая на затянутое облаками небо.
Внезапно из облаков вынырнул сначала один тупоносый корабль, за ним еще десяток, а спустя считанные секунды вниз уже неслись сотни стальных болидов. Почти все они были покрыты полимерным камуфляжем и окружены защитными мимикро-полями. Но Кассад снова без труда разглядел их. Под силовыми коконами прятались темно-серые корпуса с еле заметными надписями каллиграфической вязью — письменами Бродяг. Те, что покрупнее, были, очевидно, десантными катерами — их выдавали голубые плазменные выхлопы. Остальные опускались гораздо медленнее, буравя облака своими тормозными полями. Кассад догадался, что это просто грузовые контейнеры. Судя по их форме, в некоторых несомненно должны были находиться легкие орудия с боекомплектом, другие же представляли собой просто ложные мишени.
Мгновением позже облачный потолок вновь продырявили несколько тысяч точек. Пехотинцы Бродяг, выжидавшие до последней секунды с включением тормозных полей и раскрытием парапланов, быстро обогнали контейнеры и катера и градом посыпались на оборонявшихся.
Но нервы у командующего войсками ВКС были железные, как и дисциплина у его подчиненных. Наземные батареи и тысячи морских пехотинцев, окруживших город со всех сторон, пропускали катера и контейнеры, выжидая, пока Бродяги не раскроют свои парапланы (иные делали это над самыми деревьями). Воздух тут же прочертили тысячи огненных трасс — в дело вступили лазеры и зенитки.
На первый взгляд потери Бродяг были колоссальны. Казалось, их первая атака захлебнулась, но мгновенное сканирование показало, что по меньшей мере сорок процентов Бродяг — вполне достаточно для первой волны планетарного десанта — достигли поверхности.
Пятерых парашютистов понесло в сторону горы, на вершине которой стояли Кассад и Монета. Откуда-то снизу ударил лазер, и двое из них вспыхнули на лету. Третий, уходя от обстрела, вошел в штопор и разбился, а двое оставшихся попали в воздушный поток с востока, который отнес их в сторону леса.
Восприятие Кассада обострилось необычайно: он различал запахи озона, кордита и выхлопных газов; от дыма и едкой вони плазменных разрывов у него слезились глаза; слух улавливал завывания сирен где-то в городе, треск ружейных залпов и гул лесного пожара, вплетавшиеся в галдеж переговоров по радио — и мультиканалам. Пламя заливало долину багровым светом, лазерные клинки кроили и полосовали облака. Внизу, на опушке леса у подножия горы, группки морских пехотинцев Гегемонии дрались врукопашную с десантниками Бродяг. Слышались крики.
Федман Кассад наблюдал за происходящим в каком-то оцепенении — такое уже случалось с ним во время модельной атаки французской кавалерии при Азенкуре.
«Это имитация?»
«Нет», — ответила Монета.
«Это все происходит «сейчас»?»
Его призрачная спутница в недоумении склонила голову.
«Сейчас» — это когда?»
«Сразу после нашей… встречи… в долине Гробниц».
«Нет».
«Значит, в будущем?»
«Да».
«Но в ближайшем будущем?»
«Да. Через пять дней, после того как ты и твои друзья спустились в долину».
Кассад покачал головой. Если верить Монете, он совершил путешествие во времени.
Она обернулась к нему, и в ее зеркальном лице отразились разноцветные вспышки взрывов и пламя пожаров.
«Ты хочешь участвовать в сражении?»
«С Бродягами?»
Скрестив руки, Кассад посмотрел вниз. Боевые качества этого странного скафандра были ему известны. Вполне вероятно, что в нем он без особого труда сумеет изменить ход сражения и, вне всякого сомнения, уничтожит несколько тысяч солдат уже высадившихся Бродяг.
«Нет, не сейчас».
«Повелитель Боли считает тебя воином».
Кассад обернулся, чтобы снова взглянуть на Монету. Его так и подмывало спросить, почему она величает Шрайка столь пышным титулом.
«Повелитель Боли может идти к такой-то матери, — спокойно ответил он. — Если только у него нет желания сразиться со мной».
Монета замерла на бесконечно долгую минуту — ртутная скульптура на продуваемой ветром вершине.
«Ты действительно хочешь сразиться с ним?» — спросила она наконец.
«Я прибыл на Гиперион, чтобы убить его. И тебя. Я готов сражаться, как только вы — или любой из вас — согласитесь».
«Ты все еще считаешь меня врагом?»
Кассад вспоминает их схватку в долине Гробниц. Нет, это было не изнасилование. Она просто удовлетворила его невысказанную просьбу, его собственное жгучее желание еще раз оказаться в ее объятиях.
«Я так и не знаю, кто ты…»
«Сначала я была жертвой, одной из многих, — ответила женщина, вновь отвернувшись. — Затем, в нашем далеком будущем, я поняла, для чего был создан Повелитель Боли… почему понадобилось его создать. И тогда я стала его спутницей и хранительницей».
«Хранительницей?»
«Я управляла приливами времени, ремонтировала машины и следила за тем, чтобы Повелитель Боли не пробудился раньше времени».
«Значит, ты имеешь над ним власть?» — При этой мысли сердце Кассада начало бешено биться.
«Нет».
«Тогда кто или что может управлять им?»
«Только тот — или та, — кто победит его в схватке один на один».
«Кому-нибудь это удавалось?»
«Никому. Ни в твоем будущем, ни в твоем прошлом».
«А многие ли пытались?»
«Миллионы».
«И все погибли?»
«Хуже».
Кассад перевел дыхание.
«Ты можешь сказать, дадут ли мне возможность сразиться с ним?»
«Дадут».
Кассад замер. Никто еще не побеждал Шрайка. Его будущее было ее прошлым… И она жила там… Она тоже видела это ужасное терновое дерево — и знакомые лица. Ведь он сам увидел Мартина Силена, барахтающегося на колючках, за много лет до того как познакомился с ним. Кассад отвернулся от долины, где шла битва.
«Мы можем отправиться к нему прямо сейчас? Я вызываю его на поединок».
С минуту Монета молча смотрела ему в лицо. Кассад увидел в ее зеркальном лице свое отражение. Их черты наложились друг на друга, слились. Так и не ответив, она отвернулась и погладила рукой воздух. Перед ними возник портал.
Кассад без промедления шагнул в него.
Глава 24
Гладстон нуль-транспортировалась прямо в Дом Правительства и вихрем ворвалась в оперативно-командный центр. За ней вбежали Ли Хент и еще шесть-семь ее сотрудников. Зал был полон: военных представляли Морпурго, Сингх, Ван Зейдт и еще десяток генералов, хотя юный капитан Ли отсутствовал; налицо были почти все министры: Аллан Имото — министерство обороны, Гарион Персов — дипломатическое ведомство, Барбара Дэн-Гиддис — министерство экономики. Одни за другим подходили запыхавшиеся сенаторы. Многих из них новость, похоже, подняла с постели. «Силовую дугу» овального стола заседаний образовали сенаторы: Колчев — с Лузуса, Ришо — с Возрождения-Вектор, Ронквист — с Нордхольма, Какинума — с Фудзи, Сейбенсторафен — с Седьмой Дракона и Питере — с Денеба-Ш. Временный президент Денцель-Хайят-Амин, сверкавший в полумраке голым черепом, сидел с отрешенным видом, тогда как его молодой коллега, спикер Альтинга Гиббоне, ерзал на краешке своего сиденья, сцепив руки на коленях, прямо-таки распираемый энергией. Проекция советника Альбедо устроилась напротив пустого кресла секретаря Сената. Все разом встали, приветствуя Гладстон, но она, мелькнув в проходе, уже заняла свое место и жестом пригласила присутствующих сделать то же самое.
— Я слушаю, — объявила она.
Генерал Морпурго встал, кивнул адъютанту, и лампы погасли. В воздухе замерцали зыбкие голограммы.
— Без иллюстраций! — Гладстон повысила голос. — Своими словами, пожалуйста.
Голограммы испарились, и лампы засияли вновь. Морпурго растерянно покосился на свою световую указку, нахмурился и сунул ее в карман.
— Госпожа секретарь, господа сенаторы, министры, президент и спикер, достопочтенные… — Генерал откашлялся. — Бродягам удалось осуществить внезапное широкомасштабное наступление. Их боевые Рои приближаются сразу к нескольким мирам Сети.
Его голос потонул в море испуганных восклицаний.
— К мирам Сети! — вскричали все в один голос.
— Тихо! — прикрикнула Гладстон, и в мгновение ока наступила тишина. — Генерал, вы нас уверяли, что вражеские силы находятся как минимум на расстоянии пяти лет полета от Сети. Когда и почему все изменилось?
Генерал вскинул голову и ответил, глядя Гладстон в лицо:
— Госпожа секретарь, насколько нам удалось выяснить, все возмущения поля Хоукинга оказались ложными. Еще несколько десятилетий назад Рои отключили спин-генераторы и двинулись к своим целям с субсветовой скоростью…
И вновь зал ахнул.
— Продолжайте, генерал, — резко бросила Гладстон, и все послушно примолкли.
— На субсветовых скоростях Роям потребовалось не менее пятидесяти стандартолет… У нас не было никакой возможности их обнаружить. В этом нет ничьей вины…
— Какие миры в опасности, генерал? — прервала его Гладстон очень тихим и ясным голосом.
Морпурго покосился на пустоту у себя за плечом, словно ища глазами карту, и вновь повернулся к столу. Его руки сжались в кулаки.
— В данный момент все атакующие Рои перешли с термоядерной тяги в спин-режим. Включение двигателей Хоукинга и было запеленговано. Наша разведка предполагает, что первая волна достигнет Небесных Врат, Рощи Богов, Безбрежного Моря, Асквита, Иксиона, Циндао-Сычуаньской Панны, Актеона, Мира Барнарда и Темпа в течение ближайших пятнадцати — семидесяти двух часов.
На этот раз добиться тишины не удалось. Гладстон дала присутствующим выкричаться и через несколько минут, подняв руку, вновь призвала всех к порядку.
Вскочил сенатор Колчев.
— Что же, черт возьми, произошло, генерал? После всех ваших заверений!
Морпурго стоял как скала. Он ответил сенатору спокойно, не заразившись его гневом:
— Мои заверения, сенатор, основывались на ложной информации. Мы ошиблись. Наши предположения оказались ошибочными. Госпожа Гладстон получит мое прошение об отставке в течение ближайшего часа… Полагаю, остальные командующие последуют моему примеру.
— Да подотритесь вы вашей отставкой! — вне себя закричал Колчев. — Может, «в течение ближайшего часа» нас всех перевешают на стойках порталов! Вопрос в другом: что вы предпринимаете в связи с нашествием?!
— Габриэль, — сказала Гладстон негромко, — сядьте, пожалуйста. Я как раз собиралась задать этот вопрос. Генерал? Адмирал? Вероятно, вы уже распорядились об обороне названных миров?
Адмирал Сингх поднялся со своего места и встал рядом с Морпурго:
— Госпожа секретарь, мы сделали все, что могли. К сожалению, из всех миров, которым угрожает первая волна Бродяг, только у Асквита есть гарнизон. К остальным можно направить подразделения флота — все они располагают мобильными порталами, — но, увы, флот не резиновый, и на все миры его просто не хватит. И к сожалению… — Сингх на миг умолк, а затем повысил голос, чтобы перекричать усиливающийся гул: — К сожалению, передислокация стратегического резерва на Гиперион уже началась. Примерно шестьдесят процентов от двухсот кораблей, которые мы выделили для усиления эскадры, либо уже перешли в систему Гипериона, либо переведены в районы накопления, удаленные от их обычных позиций на периферии Сети.
Мейна Гладстон потерла щеки. Она только сейчас поняла, что по-прежнему в накидке, хотя капюшон был откинут. Расстегнув накидку, Гладстон швырнула ее на спинку кресла.
— Из ваших слов, адмирал, следует, что все эти миры остались без защиты и нет никакой возможности развернуть наши корабли, чтобы они успели туда. Верно я вас поняла?
Сингх вытянулся по стойке «смирно», окаменев, как человек, ожидающий расстрела.
— Верно, госпожа секретарь.
— Что же можно предпринять? — спросила она, заглушая новую бурю восклицаний. Морпурго выступил вперед.
— Мы постараемся перевести на эти миры максимально возможный контингент пехоты и морской пехоты через гражданскую нуль-сеть. Разумеется, с легкой артиллерией и средствами противовоздушной и космической обороны.
— Но без поддержки флота — это капля в море, — заметил министр обороны Имото.
Гладстон вопросительно взглянула на Морпурго.
— Это так, — признал генерал. — В лучшем случае наши войска завяжут арьергардные бои, а тем временем будет предпринята попытка эвакуации…
Сенатор Ришо вскочила с места.
— Попытка эвакуации! Генерал, только вчера вы сказали нам, что эвакуация двух-трех миллионов гражданских лиц с Гипериона нецелесообразна. А теперь утверждаете, что нам удастся эвакуировать из-под носа Бродяг… — она на секунду умолкла, чтобы проконсультироваться со своим имплант-комлогом, — семь миллиардов человек?
— Нет, — ответил Морпурго. — Даже если мы пожертвуем войсками, спасти удастся лишь некоторых представителей администрации, членов Первых Семей, политических лидеров и руководителей промышленности — тех, кто необходим для продолжения войны.
— Вчера, — прервала его Гладстон, — вчера наш Совет санкционировал немедленную отправку войск для усиления флота в системе Гипериона. Затрудняется ли в связи с этим нынешняя передислокация?
Поднялся командующий морской пехотой генерал Ван Зейдт.
— Да, госпожа секретарь. Через час после принятия решения переброска войск к ожидающим их транспортам была завершена. — Он взглянул на свой старинный хронометр. — К 05:30 по стандартному времени, то есть примерно двадцать минут назад, почти две трети этого стотысячного контингента были переброшены в систему Гипериона. Потребуется по меньшей мере от восьми до пятнадцати часов, чтобы возвратить эти транспорты в накопители в системе Гипериона, а оттуда в Сеть.
— А какими резервами располагает сейчас Сеть? — Гладстон провела мизинцем по нижней губе.
Морпурго набрал в грудь воздуха.
— Около тридцати тысяч солдат, госпожа секретарь.
Сенатор Колчев грохнул кулаком по столу.
— Получается, мы лишили Сеть не только флота, но и войск? Ободрали, как липку?
Морпурго промолчал.
Стремительно поднялась сенатор Фельдстайн с Мира Барнарда.
— Госпожа секретарь, мой мир… все упомянутые миры… должны быть предупреждены! Если вы не готовы немедленно обнародовать сообщение, я возьму это на себя.
Гладстон кивнула.
— Я выступлю с сообщением о вторжении сразу после нашего совещания, Дороти. Мы поможем вам связаться с избирателями через все доступные нам средства массовой информации.
— К черту средства информации! — вскричала Фельдстайн, невысокая брюнетка. — Я лично отправляюсь домой, как только мы закончим разговоры. Что бы ни случилось с Миром Барнарда, я буду с моей планетой. А если эти новости правдивы, нас всех давно пора перевешать на стойках порталов. — Фельдстайн села, не обращая внимания на шум.
Спикер Гиббонс встал, выждал, пока наступит тишина, и звенящим голосом спросил:
— Генерал, вы говорили о первой волне… Это просто оборот речи, предусмотрительная осторожность военного — или разведка считает, что будут и другие волны? Если так, какие еще миры Сети и Протектората находятся под угрозой?
Кулаки Морпурго то сжимались, то разжимались. Он снова уставился в пустоту за своим плечом, потом обернулся к Гладстон:
— Госпожа секретарь, могу я воспользоваться одной схемой?
Гладстон кивнула.
Голограмма была той же самой, какую военные использовали на брифинге в Олимпийской Школе: золотая Гегемония, зеленые звезды Протектората, векторы Роев — красные линии с голубыми пунктирными хвостами и корабли Гегемонии — оранжевые точки. Было видно, как далеко ушли красные векторы от первоначального курса, вонзившись в пространство Гегемонии, подобно копьям с окровавленными наконечниками. Скопления оранжевых искр виднелись только в системе Гипериона, другие, как редкие бусинки на нитке, слабо блестели вдоль маршрутов переноса.
У сенаторов с военным опытом увиденное вызвало шок.
— Представляется, что дюжина известных нам Роев, — Морпурго по-прежнему не повышал голоса, — участвует во вторжении в Сеть. Некоторые из них разделились на несколько атакующих групп. Мы полагаем, что вторая волна должна появиться через сто — двести пятьдесят часов после первой. Ее движение представлено вот этими векторами.
Наступила мертвая тишина. Гладстон показалось, что все как один перестали дышать.
— В число целей второй атакующей волны входят: Хеврон, сто часов от настоящего момента; Возрождение-Вектор, сто десять часов; Малое Возрождение, сто двенадцать часов; Нордхольм, сто двадцать семь часов; Мауи-Обетованная, сто тридцать часов; Талия, сто сорок три часа; Денеб-III и — IV, сто пятьдесят часов; Седьмая Дракона, сто шестьдесят девять часов; Фрихольм, сто семьдесят часов; Новая Земля, сто семьдесят три часа; Фудзи, двести четыре часа; Новая Мекка, двести пять часов; Пасем, Армагаст и Свобода, двести двадцать один час; Лузус, двести тридцать часов и Центр Тау Кита, двести пятьдесят часов.
Голографическая схема исчезла. Молчание становилось невыносимым. Наконец Морпурго закончил:
— Мы предполагаем, что после поражения начальных целей Рои первой волны направятся к другим целям, но использование двигателей Хоукинга повлечет за собой обычное для перемещений внутри Сети запаздывание — от девяти недель до трех лет. — Он отступил шаг назад и замер.
— Боже милостивый, — ахнул кто-то неподалеку от Гладстон.
Секретарь Сената снова потеребила нижнюю губу. Ради спасения человечества от удела, который казался ей вечным рабством или, хуже того, медленной смертью, она была готова распахнуть ворота перед волками, надежно укрыв домочадцев на верхнем этаже, за крепко запертыми дверьми. И вот этот день настал, а волки лезут и в двери, и в окна. Она чуть не рассмеялась — сколько иронии в этом справедливом возмездии! Верхом глупости было надеяться, что спущенный с цепи хаос покорится тем, кто его вызвал.
— Во-первых, — ровным голосом начала Гладстон, — никаких отставок без моей санкции, никакого самобичевания. Вполне возможно, что правительство падет… и членов кабинета, включая меня первую, действительно перевешают на стойках. Но пока до этого не дошло, мы являемся правительством Гегемонии и должны выполнять свои обязанности.
Во-вторых, через час я соберу вас и представителей других комитетов Сената, чтобы обсудить речь, с которой я намерена обратиться к Сети в 08:00 по стандартному времени. Буду рада выслушать все ваши предложения.
В-третьих, настоящим я обязываю и уполномочиваю представителей командования ВКС — тех, кто присутствует здесь, и всех остальных в пределах Гегемонии, предпринимать все, что в их власти, для спасения и защиты граждан и собственности Сети и Протектората, используя любые меры и средства, какие они сочтут необходимыми, вплоть до чрезвычайных. Генерал, адмирал, я требую, чтобы в течение десяти часов на миры, которым угрожает вторжение, были переброшены войска. Каким образом — это уже ваша забота.
В-четвертых, после моего выступления я созову всеобщее заседание Сената и Альтинга. Я собираюсь заявить, что Гегемония Человека и государство Бродяг находятся в состоянии войны. Габриэль, Дороти, Том, Эйко! Нас ждут несколько очень напряженных часов. Потрудитесь над обращениями к своим мирам, обеспечьте мне их голоса. Кроме того, я нуждаюсь в единодушной поддержке Сената. Спикер Гиббонс, вас я могу только просить о помощи в проведении дебатов в Альтинге. Важно, чтобы голосование в Альтинге завершилось сегодня к 12:00. Неожиданностей быть не должно.
В-пятых, мы эвакуируем граждан миров, которым угрожает первая волна вторжения. — Гладстон подняла руку, призывая к молчанию тех, кто попытался возразить. — Мы эвакуируем всех, кого сможем, кого успеем… Персов, Имото, Дэн-Гиддис и Крунненс из Министерства транспорта создадут и возглавят Совет по координации эвакуации и сегодня к 13:00 представят подробный отчет о своих действиях лично мне. ВКС и Бюро безопасности Сети обеспечат контроль за движением людей и защиту доступа к порталам.
И последнее: через три минуты я жду советника Альбедо, сенатора Колчева и спикера Гиббонса в моем кабинете. Вопросы?
Все растерянно молчали.
Гладстон встала.
— Удачи вам. Действуйте быстро. Остерегайтесь необоснованной паники. И, Боже, спаси Гегемонию. — Она повернулась на каблуках и вышла из комнаты.
Гладстон сидела за своим столом, Колчев, Гиббонс и Альбедо — напротив. Разлитое в воздухе напряжение, нагнетаемое суетой в коридоре, усугублялось молчанием Гладстон, не сводившей глаз с советника Альбедо.
— Вы, — произнесла она наконец, — нас предали.
Губы проекции, сложенные в учтивой усмешке, даже не дрогнули.
— Ни в коей мере, госпожа секретарь.
— Тогда у вас одна минута, чтобы объяснить, почему Техно-Центр и в частности Консультативный Совет ИскИнов не предупредили нас о вторжении.
— Для этого достаточно одного слова, — сказал Альбедо. — Гиперион, госпожа секретарь.
— К черту Гиперион! — Гладстон в ярости хлопнула ладонью по древнему столу: редкостный для нее жест. — Альбедо, мне осточертело слушать о нефакторизуемых переменных и о том, что Гиперион — потенциальная черная дыра. Либо Техно-Центр способен помочь нам оценить наши шансы, либо он лгал нам все пять веков. Что верно — первое или последнее?
— Госпожа секретарь, Совет предсказал вам войну, — объявила седовласая проекция. — В наших секретных рекомендациях вам лично и вашим доверенным людям указывалось, что вмешательство в дела Гипериона чревато непредсказуемыми последствиями.
— Чушь, — отрезал Колчев. — Считается, что ваши предсказания в общих чертах правдивы. А это нашествие наверняка готовилось десятилетиями. Или даже столетиями.
Альбедо пожал плечами.
— Может быть. Но вполне возможно, сенатор, что именно решимость теперешней вашей администрации начать войну за Гиперион заставила Бродяг приступить к осуществлению их планов. Мы же рекомендовали воздерживаться от любых действий, затрагивающих эту планету.
Спикер Гиббонс подался вперед.
— Но ведь вы назвали нам имена людей, которые должны были отправиться в так называемое паломничество к Шрайку.
На этот раз Альбедо не пожал плечами, а лишь непринужденно махнул рукой:
— Что из того? Вы попросили нас назвать граждан Сети, чье паломничество к Шрайку способно повлиять на исход предсказанной нами войны, и мы их назвали.
Гладстон потерла подбородок.
— И что, вы уже вычислили, каким образом просьбы паломников могут повлиять на исход войны… этой войны?
— Нет, — ответил Альбедо.
— Советник, — сказала Мейна Гладстон, — пожалуйста, примите к сведению, что в зависимости от исхода событий ближайших дней правительство Гегемонии Человека намерено рассмотреть вопрос об объявлении войны — между нами и структурой, именуемой Техно-Центр. Вам как фактическому послу структуры надлежит распространить эту информацию.
Альбедо улыбнулся. Затем развел руками.
— Госпожа секретарь, я понимаю: потрясение, вызванное столь ужасной новостью, должно быть, толкнуло вас на весьма неудачную шутку. Объявить войну Техно-Центру? Но это же все равно как если бы рыба объявила войну воде или водитель, расстроенный известием о чужой аварии, напал на свой ТМП.
Гладстон не улыбнулась.
— Мой дедушка на Патофе, — произнесла она с расстановкой, — как-то всадил шесть пуль из импульсной винтовки в семейный электромобиль, когда тот однажды не завелся. Вы свободны, советник.
Альбедо, моргнув, исчез. Такой внезапный уход был либо намеренным нарушением этикета — обычно проекция покидала комнату через дверь или улетучивалась после ухода других, — либо признаком того, что правящий разум Техно-Центра огорошен сообщением Гладстон.
Она кивнула Колчеву и Гиббонсу.
— Я не задерживаю вас больше. Но не забывайте: через пять часов, когда война будет объявлена, я ожидаю единодушной поддержки.
— Вы получите ее, — сказал Гиббонс.
Когда спикер и сенатор ушли, через двери и потайные ходы в кабинет ринулись помощники, засыпая Гладстон вопросами и запрашивая на ходу комлоги. Но секретарь Сената движением руки заставила их замолчать.
— Где Северн? — спросила она. Заметив на лицах окружающих недоумение, она пояснила: — Поэт… то есть художник. Тот, кто пишет мой портрет.
Помощники переглянулись, как бы спрашивая друг у друга, здорова ли их начальница.
— Он спит, — сказал наконец Ли Хент. — Принял какое-то снотворное. Никому и в голову не пришло разбудить его.
— Пусть явится ко мне не позднее чем через двадцать минут, — приказала Гладстон. — Введите его в курс дела. Где капитан 3-го ранга Ли?
Ответила Ники Кардон, молодая женщина, ведающая связью с военными:
— Вчера вечером по приказу Морпурго и командующего морским сектором ВКС Ли перевели в погранвойска. Ему придется скакать с одного океанского мира на другой в течение двадцати лет. Как раз сейчас он… да, находится в ставке ВМС на Брешии, ожидая транспортный звездолет.
— Немедленно верните его, — отчеканила Гладстон. — Пусть его произведут в контр-адмиралы или какое там звание нужно для штабной работы, а затем назначат сюда, лично ко мне, а не в Дом Правительства или управление делами. Если понадобится, сделайте его офицером по особым поручениям.
Несколько минут Гладстон созерцала голую стену. Она думала о мирах, по которым прогуливалась ночью: Мир Барнарда — свет фонарей сквозь листья, древние здания колледжа; Роща Богов с ее воздушными шарами на привязи и живущими на воле монгольфьерами, приветствующими рассвет; Променад на Небесных Вратах… Все это были цели первой волны. Она встряхнула головой.
— Ли, я хочу, чтобы вы, Тарра и Бринденат не позднее, чем через сорок пять минут, подготовили мне черновики обеих речей — общее обращение и объявление войны. Кратко, без двусмысленностей. Загляните в досье Черчилля и Струдинского. Реалистично, но с энтузиазмом, оптимистично, но с оттенком суровой решимости. Ники, я хочу, чтобы меня информировали о каждом шаге военного командования. Кроме того, мне нужна личная оперативная карта — через имплант. Гриф «Только для секретаря Сената». Барбара, ты будешь моим дипломатом с недипломатическими методами работы в Сенате. Иди туда, играй на всех струнах, дергай за все нитки: шантажируй, льсти и вообще заставь их осознать, что отправиться воевать с Бродягами для них безопаснее, чем пытаться противоречить при трех-четырех голосованиях. Вопросы? — Подождав три секунды, Гладстон хлопнула в ладоши. — Ну что ж, тогда приступим, друзья!
Ожидая следующую волну сенаторов, министров и помощников, Гладстон повернулась лицом к голой стене и погрозила пальцем потолку.
Затем она быстро обернулась назад — как раз в тот момент, когда в дверях появилась очередная депутация.
Глава 25
Когда послышались выстрелы, Сол, Консул, отец Дюре и лежавший без чувств Хет Мастин находились в первой Пещерной Гробнице. Консул осторожно выглянул наружу, ожидая яростного удара темпоральных волн. Час назад разыгрался настоящий шторм, заставивший их отступить в глубь долины.
— Все в порядке! — крикнул он оставшимся внутри. В тусклом круге света от фонаря Сола виднелись стены пещеры, три бледных лица и обмякшее тело тамплиера. — Прилив, кажется, слабеет.
Сол встал. Чуть ниже его подбородка белел крохотный овал — личико Рахили.
— Вы уверены, что стреляли из пистолета Ламии?
Консул указал на темный проем входа.
— Пулевое оружие есть только у нее. Пойду-ка взгляну, что там.
— Подождите, — сказал Сол. — Я с вами.
Отец Дюре остался стоять на коленях рядом с Хетом Мастином.
— Идите. Я побуду около него.
— Кто-нибудь из нас вернется минут через десять, — пообещал ему Консул.
Бледное сияние Гробниц Времени освещало долину. Дул сильный южный ветер, но воздушные потоки к ночи поднимались выше и проходили над скальными стенами долины, не тревожа дюн. Сол осторожно спустился вслед за Консулом по неровной тропе на дно долины и повернул к ее воротам. О жуткой темпоральной свистопляске, безумствовавшей здесь лишь час назад, напоминали лишь слабые наплывы непонятных видений, но то были последние отголоски странной бури.
На дне долины тропа стала шире. Сол и Консул миновали пепелище вокруг Хрустального Монолита. Его высокие стены струили молочное сияние, отражавшееся в бесчисленных осколках на тропе и в русле пересохшего ручья. Затем паломники преодолели небольшой подъем, оставив в стороне Нефритовую Гробницу с ее бледно-зеленой иллюминацией, еще раз повернули и двинулись на еле слышные сигналы комлога — к Сфинксу.
— Боже мой, — вдруг пробормотал Сол и ринулся вперед, придерживая люльку, чтобы не растрясти ребенка. Взбежав по ступеням, он опустился на колени рядом с темной фигурой, распростертой на плитах.
— Ламия? — спросил Консул, остановившийся в двух шагах от Вайнтрауба. Он никак не мог отдышаться после быстрого подъема.
— Да, — ответил Сол и приподнял ее голову, но тут же отдернул руку, коснувшись чего-то скользкого и холодного.
— Мертва?
Сол, прижимая дочку к груди, нащупал пульс на горле женщины.
— Нет. — Он шумно перевел дух. — Жива… но без сознания. Дайте мне фонарь.
Он провел лучом по серебристому шнуру (точнее «щупальцу», ибо штуковина была какой-то мясистой, что наталкивало на мысль о ее органическом происхождении), который выходил из гнезда нейрошунта за ухом Ламии, тянулся через широкое крыльцо Сфинкса и нырял внутрь, в открытый проем. Сам Сфинкс светился ярче остальных Гробниц, но за его порогом стояла кромешная тьма.
Консул подошел ближе.
— Что это? — Он протянул было руку: потрогать серебристый кабель, но тут же, как Сол, отдернул ее. — Господи, теплый!
— Как будто он живой, — растерянно согласился Сол и принялся растирать Ламии руки, потом легонько похлопал по щекам, пытаясь привести ее в чувство. Женщина не шевелилась. Тогда ученый провел лучом фонаря вдоль кабеля — до места, где он исчезал из виду во внутренних помещениях гробницы. — Не похоже, что Ламия сама воткнула себе в голову эту штуку!
— Шрайк, — пробормотал Консул. Он наклонился ближе, чтобы взглянуть на биомонитор наручного комлога Ламии. — Все в норме, кроме биотоков мозга.
— А что с ними?
— Смерть мозга. Высшая нервная деятельность на нуле.
Сол, вздохнув, присел на корточки.
— Надо узнать, куда ведет кабель.
— А если просто выдернуть его из гнезда?
— Как? — Осветив затылок Ламии, Сол раздвинул слипшиеся пряди волос. Нейрошунт, обычный диск из пластиплоти нескольких миллиметров в диаметре, с десятимикронным гнездом, казалось, расплавился. На коже бугрился красный волдырь, в котором тонул миниатюрный штепсель на конце кабеля.
— Без хирурга не обойдешься, — прошептал Консул. Он дотронулся до воспаленного волдыря: Ламия не шевельнулась. Тогда Консул взял фонарь и поднялся. — Вы останетесь с ней. Я пойду вдоль этого…
— Пользуйтесь радиосвязью, — напомнил Сол, отлично зная, как мало от нее толку во время темпоральных приливов и отливов.
Консул кивнул и поспешил ко входу в Сфинкс, словно убегая от страха, который мог ему помешать.
Блестящий кабель извивался вдоль главного коридора, шел мимо помещения, где они ночевали накануне, и скрывался за углом. Консул на ходу заглянул в знакомую комнату: луч фонаря скользнул по разбросанным второпях одеялам и ранцам.
Кабель сворачивал за угол коридора, и Консул прошел вслед за ним в центральные ворота, где коридор разделялся на три прохода поуже; вверх по пандусу, опять направо по узкому проходу, который они окрестили «Тутанхамоновым шоссе», затем вниз по пандусу. По низкому туннелю пришлось ползти на четвереньках, осторожно переставляя руки, чтобы, не дай Бог, не коснуться теплого, как человеческое тело, металлического щупальца. Снова вверх по наклонной плоскости — такой крутой, что Консул был вынужден карабкаться по ней, как трубочист по трубе; и опять вниз по более широкому коридору, которого он что-то не припоминал. Наклонные стены к потолку сужались, сверху капала вода. И вновь — крутой скат. Консулу удалось затормозить, лишь ободрав в кровь ладони и колени. И опять ползком по длинному коридору, длиннее самого Сфинкса, — или это только казалось? Консул окончательно заблудился. Теперь оставалось надеяться лишь на кабель.
— Сол, — позвал он тихонько, не веря, что комлог донесет его голос до Вайнтрауба сквозь камень и темпоральную зыбь.
— Я здесь, — раздался в наушниках шепот ученого.
— Я забрался черт знает куда, — прошептал Консул в комлог. — По коридору, которого мы раньше вроде не видели. Похоже, здесь глубоко.
— Вы нашли, где кончается кабель?
— Да, — ответил Консул, прислонившись к стене, чтобы вытереть пот со лба.
— Разъем? — спросил Сол, имея в виду один из бесчисленных терминалов, через которые граждане Сети подключались к инфосфере.
— Нет. Похоже, эта штука врастает прямо в пол. В камень. И коридор здесь кончается. Я подергал за кабель, но здесь такая же картина, как и на голове Ламии. То есть эта дрянь составляет одно целое с камнем.
— Выходите, — донесся сквозь треск помех чуть слышный голос Сола. — Попробуем отрезать.
И тут, в сырой тьме туннеля, Консула настиг первый в его жизни приступ клаустрофобии. Сначала стало трудно дышать, потом ему показалось, что за спиной находится нечто, мешающее доступу воздуха, отрезавшее путь назад. Стук его сердца, тяжелый, неровный, казалось, отдавался эхом в стенах каменного мешка.
Консул несколько раз медленно вздохнул, снова отер пот и усилием воли остановил лавину паники.
— Это… может… ее убить, — произнес он вслух между двумя медленными вздохами.
Ответа не последовало. Консул позвал Сола, но тонюсенькая паутинка радиосвязи, по-видимому, порвалась.
— Я выхожу, — сказал он в немой прибор и развернулся, водя фонариком по стенам и потолку туннеля. Кабель-щупальце дернулся… или то был обман зрения? И Консул пополз назад — той же дорогой, какой добирался сюда.
Хета Мастина они нашли на заходе солнца, за несколько минут до начала темпорального прилива. Когда Консул, Сол и Дюре заметили тамплиера, тот шел пошатываясь, потом упал. Оказалось, что он потерял сознание.
— Отнесем его к Сфинксу, — рассудил Сол.
Тут солнце скрылось за горизонтом, и, словно по мановению невидимого дирижера на паломников внезапно обрушились волны темпорального прилива, захлестнув их тошнотворным ощущением. Все трое упали на колени. Разбуженная Рахиль зашлась в крике, на который способны только новорожденные.
— Скорее к воротам! — задыхаясь, пробормотал Консул и взвалил Хета Мастина на спину. — Мы должны… выбраться из долины.
Они двинулись мимо Сфинкса к выходу из долины, а вокруг творилось невообразимое. Волны времени бесновались, вызывая сумасшедшее головокружение. Еще тридцать метров, и у паломников подкосились ноги. Тело Мастина покатилось по тропе. Рахиль удивленно притихла в своей люльке.
— Назад! — пробормотал, хватая ртом воздух, Поль Дюре. — Назад в долину! Внизу… было… легче.
И они вернулись, выписывая ногами кренделя, как троица пьяных, но никто не упал, потому что у каждого была своя драгоценная ноша. Зайдя за Сфинкс, паломники с минутку передохнули, привалившись к валуну. Сама ткань пространства и времени, казалось, вздувалась и рвалась в клочья. Мир вдруг превратился в поверхность исполинского знамени, которое одним рывком развернула неведомая рука.
Гробницы, пески и небо то распухали, то опадали, складываясь в гармошку или нависая над паломниками подобно девятому валу. Консул кое-как уложил тамплиера у камня и упал, скребя пальцами песок в поисках опоры.
— Куб Мебиуса, — проговорил вдруг Мастин, не открывая глаз. — Нам обязательно нужен куб Мебиуса…
— Черт, — пробормотал Консул, резко встряхивая Мастина. — Зачем он нам? Мастин, зачем он нужен?
Голова тамплиера безвольно моталась из стороны в сторону: он опять потерял сознание.
— Я схожу за ним, — прошептал Дюре побелевшими губами. Священник выглядел совсем старым и больным, в лице не было ни кровинки.
Консул кивнул в знак согласия, кое-как вскинул Мастина на спину и неверным шагом направился в глубь долины, чувствуя, как по мере удаления от Сфинкса слабеет натиск антиэнтропийных полей.
А отец Дюре, шатаясь, добрел до Сфинкса, поднялся по длинной лестнице, останавливаясь на каждой ступени, и подошел ко входу, держась за грубо обтесанные каменные стены, как моряк в бурном море — за брошенную ему веревку. Дюре чудилось, что Сфинкс раскачивается над ним — то на тридцать градусов в одну сторону, то на пятьдесят в другую. Он сознавал, что это лишь насмешка темпоральных волн над его органами чувств, и все же, не сумев совладать с собой, опустился на колени: его вырвало.
Волны на миг утихомирились — так стихает вдруг бешенство прибоя, чтобы через минуту с новой силой обрушиться на берег. Дюре поднялся на ноги, вытер ладонью рот и, спотыкаясь, вошел во тьму Гробницы.
Фонаря он не захватил и, пробираясь на ощупь по коридору, мучился двойным неотступным предчувствием: либо дотронется сейчас до чего-нибудь скользкого и холодного, таящегося в темноте, либо, забредя в камеру, где восстал из мертвых, найдет там собственный труп, изъеденный могильными червями. Дюре закричал, вне себя от ужаса, но голос потерялся в ураганном перестуке его собственного сердца — темпоральные волны снова сбили его с ног.
Импровизированная спальня была погружена во тьму — ту ужасную тьму, которая означает полное отсутствие света, но глаза Дюре довольно быстро приспособились к ней, и священник догадался, что светится сам куб Мебиуса, подмигивающий глазками датчиков.
То и дело спотыкаясь, он пробрался через комнату и кряхтя поднял тяжеленный куб. Об этой диковине — таинственном багаже Хета Мастина — Дюре знал лишь из записей Консула. Паломники почему-то решили, что в кубе заключен эрг — живой генератор силовых полей. Такие эрги снабжают энергией тамплиерские корабли-деревья. Зачем им сейчас это инопланетное существо, священнику было невдомек, но, прижав ящик к груди, он побрел по коридору к выходу, а затем начал спускаться по ступеням в долину.
— Сюда! — позвал его Консул от ближайшей из Пещерных Гробниц. — Здесь полегче.
Дюре чуть не уронил куб — от усталости у него закружилась голова. Консул помог ему преодолеть последние тридцать шагов.
Внутри пещеры священнику действительно стало легче. У порога всплески темпоральных волн еще ощущались, но в глубине, где холодные огоньки люм-шаров выхватывали из мрака причудливые скульптуры, было вполне сносно. Священник опустился на пол рядом с Солом, поставив куб Мебиуса прямо перед Хетом Мастином — безмолвным, но внимательным зрителем.
— Как раз пришел в себя, когда вы появились, — прошептал Сол. Широко распахнутые глаза малышки казались сейчас двумя озерцами тьмы.
Консул присел на корточки рядом с тамплиером:
— Для чего нам куб? Мастин, зачем он нам?
Взгляд тамплиера оставался неподвижным. Уставившись в одну точку, он еле слышно, но с отчетливым акцентом, как всегда растягивая гласные, произнес:
— Наш союзник. Наш единственный союзник против Повелителя Боли.
— Каким образом он может нам помочь? — вмешался Сол, вцепившись обеими руками в сутану тамплиера. — Как мы должны его использовать? Когда?
Теперь взгляд Тамплиера был устремлен куда-то вдаль.
— Мы боролись за эту честь, — хрипло пробормотал он. — Истинный Глас «Секвойи Семпервиренс» первым должен был войти в контакт с кибридом воскрешенного Китса. Но свет Мюира пал на меня. О, «Иггдрасиль», мой «Иггдрасиль»! Он стал жертвой во искупление грехов наших против Мюира! — Тамплиер прикрыл глаза, и его губы искривила слабая усмешка, такая странная на этом суровом лице.
Консул взглянул на Дюре и Сола.
— Это скорее проповедь шрайкиста, чем тамплиерские догматы.
— Возможно, и то, и другое, — прошептал Дюре. — В истории теологии известны еще более странные альянсы.
Сол поднес ладонь ко лбу Мастина и тут же отдернул: у того был сильный жар. Порывшись в единственной аптечке в поисках болеутоляющего и жаропонижающего, он нашел пластырь, но заколебался:
— Не знаю, соответствует ли физиология тамплиеров обычным медицинским стандартам. Вдруг у него на что-нибудь аллергия?
Консул взял из рук Сола пластырь и наклеил его на плечо тамплиера.
— Различия незначительны, не бойтесь. — Наклонившись к лицу Мастина, он спросил: — Хет, что произошло в ветровозе?
Глаза тамплиера открылись, но взгляд был отрешенным.
— Ветровоз?
— Не понимаю… — прошептал отец Дюре.
Сол отвел его в сторону.
— Мастин так и не рассказал нам, почему стал паломником, — шепотом пояснил он. — Тамплиер исчез во время путешествия на ветровозе. Когда мы его хватились, обнаружили только следы крови — много крови, а в багаже — куб Мебиуса. И все.
— Что с вами случилось в ветровозе? — с расстановкой повторил Консул и потряс тамплиера за плечо, чтобы привлечь его внимание. — Думай, Хет Мастин, Истинный Глас Древа!
И тамплиер преобразился: взгляд стал осмысленным, азиатское лицо застыло, обернувшись знакомой суровой маской.
— Я выпустил стихию из ее темницы…
— Эрга, — прошептал Сол озадаченному священнику.
— …и связал ее мыслительной дисциплиной, которой научился на Высших Ветвях. Но затем, без предупреждения, нам явился Повелитель Боли…
— Шрайк, — догадался Сол.
— Это ваша кровь была там? — продолжал расспрашивать Консул.
— Кровь? — Мастин с трудом натянул капюшон на лоб, пытаясь скрыть замешательство. — Нет, не моя. В объятиях Повелителя Боли был адепт его культа. Этот человек сопротивлялся. Пытался избежать искупительных терний…
— Ну а эрг? — допытывался Консул. — Стихия… Чего вы ожидали от нее? Что она защитит вас от Шрайка?
Тамплиер, нахмурившись, коснулся дрожащей рукой лба.
— Она… стихия… не была готова. Я не был готов. Я возвратил ее в темницу. Повелитель Боли дотронулся до моего плеча. Мне было… приятно… что мое искупление совпадет с жертвоприношением моего Древа.
Сол наклонился к Дюре.
— В тот вечер корабль-дерево «Иггдрасиль» был уничтожен на орбите, — прошептал он.
Хет Мастин медленно опустил веки.
— Устал, — чуть слышно пробормотал он.
Консул снова встряхнул его.
— Как вы сюда попали? Мастин, каким образом вы перенеслись сюда из Травяного моря?
— Я очнулся среди Гробниц, — прошептал тамплиер, не открывая глаз. — Очнулся среди Гробниц. Устал. Должен заснуть.
— Дайте ему отдохнуть, — вмешался отец Дюре.
Консул, кивнув, уложил тамплиера на пол, заботливо подсунув ему под голову рюкзак.
— Какая-то бессмыслица, — заметил Сол. Трое мужчин и младенец затаились в полумраке, прислушиваясь к отзвукам темпоральных волн, бушующих снаружи.
— Один паломник исчезает, другой тут же появляется, — пробормотал Консул. — Словно дьявол с нами играет.
Часом позже они услышали эхо выстрелов.
Сол и Консул склонились над телом Ламии Бром.
— Чтобы отрезать кабель, понадобится лазер, — сказал Сол. — Но Кассада нет, и оружия тоже.
Консул коснулся запястья женщины.
— А не погубим ли мы ее, отрезав эту штуку?
— Судя по биомониторам, Ламия мертва.
Консул покачал головой:
— Нет. Тут другое. Возможно, через этот кабель осуществляется перезапись личности Китса, которую она носит в себе. И когда дело будет сделано, мы получим Ламию обратно.
Сол поднял свою трехдневную дочь на плечо и оглядел тускло мерцающую долину.
— Сумасшедший дом. Все наши планы и намерения идут прахом. Будь здесь хотя бы ваш проклятый корабль, а с ним инструменты! Может, мы смогли бы освободить Ламию от этого… этой штуки… У них с Мастином появился бы шанс выжить.
Консул, не поднимаясь с колен, глядел в пустоту. Помолчав с минуту, он бросил: «Побудьте с нею, пожалуйста», — поднялся и исчез в темной пасти Сфинкса. Минут через пять он вернулся со своим большим дорожным чемоданом, извлек оттуда скатанный коврик и разложил его на ступенях Сфинкса.
Коврик был старинный, метра два в длину и метр с лишним в ширину. Замысловатый узор за века выцвел, но монокристаллические левитационные нити отливали в полумраке золотом. Тонкие проводники соединяли коврик с единственным аккумулятором, который Консул сейчас отключил.
— Боже милостивый, — прошептал Сол. Он вспомнил рассказ Консула о трагическом романе его бабушки Сири с Мерри Аспиком, послужившем первотолчком для восстания против Гегемонии и ввергнувшем Мауи-Обетованную в многолетнюю войну. Мерри Аспик прилетел в Порто-Ново на ковре-самолете своего друга.
Консул кивнул.
— Да, он принадлежал Майку Ошо, другу моего дедушки. Сири оставила его в своей гробнице, не сомневаясь, что Мерри найдет его там. А он подарил коврик мне — как раз накануне Битвы за Архипелаг, где погибли и дедушка, и надежда на свободу. Я был тогда ребенком.
Сол погладил старинную ткань:
— Жаль, что здесь он не действует.
Консул поднял голову.
— Это почему же?
— Но ведь напряженность магнитного поля Гипериона ниже критического порога для электромобилей, — пустился в объяснения Сол. — Вот поэтому вместо ТМП здесь пользуются дирижаблями и скиммерами. Потому и с «Бенареса» сняли левитационные генераторы. — Он вдруг умолк, спохватившись, что рассказывает об этом человеку, который одиннадцать местных лет был консулом Гегемонии на Гиперионе. — Наверное, я не прав?
Консул улыбнулся:
— Вы правы в одном — стандартные электромобили здесь бесполезны: уж очень невыгодно соотношение между их массой и здешней подъемной силой. Но ковер-самолет — это подъемная сила при совершенно ничтожной массе. Я его опробовал, когда жил в столице. Трясет здорово… но одного человека он выдержит.
Сол оглянулся, скользнув взглядом по бледным контурам Нефритовой Гробницы, Обелиска и Хрустального Монолита — туда, где тень скальной стены скрывала вход в Пещерные Гробницы. Не явился ли, пока они с Консулом здесь, к отцу Дюре и Хету Мастину непрошеный гость? Живы ли они?
— Вы… решили отправиться за помощью?
— Кто-то должен это сделать: привести корабль в долину. Или хотя бы освободить его из-под стражи и послать сюда на автопилоте. Гонца можно выбрать по жребию.
На этот раз улыбнулся Сол.
— Спасибо, друг мой. Дюре не в состоянии путешествовать, да и дороги не знает. Я… — Сол приподнял Рахиль, коснувшись ее небритой щекой. — Путешествие может затянуться на несколько дней. У меня — у нас — этих дней просто нет. Если ей еще можно помочь, это случится здесь. Следовательно, полетите вы.
Консул вздохнул, но спорить не стал.
— Кроме того, — продолжал Сол, — это ваш корабль. Если кто-нибудь и сможет освободить его из-под ареста, наложенного Гладстон, так только вы. К тому же вы хорошо знаете генерал-губернатора.
Консул поглядел на запад.
— Не знаю, сохранил ли Тео свой пост…
— А теперь вернемся и расскажем отцу Дюре о нашем плане, — сказал Сол. — К тому же я оставил в пещере детское питание, а Рахиль проголодалась.
Консул свернул коврик, сунул его в рюкзак и покосился на Ламию и отвратительный кабель, уползающий в темноту.
— С ней ничего не случится?
— Я попрошу Поля вернуться с одеялом. Пока он посидит с нею, мы с вами перенесем сюда другого нашего больного. Вы отправитесь ночью или подождете рассвета?
Консул устало потер щеки.
— Лететь через горы ночью — удовольствие небольшое, но со временем у нас туго. Я отправлюсь, как только соберу кое-какие пожитки.
Сол кивнул и посмотрел в сторону входа в долину.
— Хотел бы я узнать от Ламии, куда подевался Силен.
— Буду высматривать его по дороге, — пообещал Консул и, запрокинув голову, уставился на звезды. — Думаю, до Китса я долечу часов за тридцать шесть — сорок. Еще несколько часов понадобится, чтобы освободить корабль… Стало быть, ждите меня примерно через двое стандартосуток.
Сол кивнул, укачивая плачущего ребенка. На его усталом добром лице ясно читалось сомнение. Он положил руку на плечо Консула.
— Друг мой, как бы там ни было, но попытаться необходимо. Пойдемте поговорим с отцом Дюре, посмотрим, не пришел ли в себя наш попутчик, а заодно и заморим червячка. Стараниями Ламии нам обеспечен великолепный прощальный ужин.
Глава 26
Когда отец маленькой Ламии Брон был избран в Сенат, девочке выпало недолгое счастье — они переселились с Лузуса на Центр Тау Кита, в зеленый рай Административно-жилого комлекса. И там-то Ламии довелось увидеть старинный, еще плоский мультфильм Уолта Диснея. Он назывался «Питер Пэн». Потом она прочитала книжку Джеймса Барри — и навсегда заболела этой сказкой.
Много месяцев пятилетняя девочка надеялась, что однажды Питер Пэн прилетит и заберет ее с собой. Она оставляла ему записки с указаниями, как найти ее спальню (под слуховым окошком, которое с козырьком). Когда родители засыпали, она выскальзывала из дома и до самого утра лежала на мягкой траве в Оленьем парке, глядя в молочно-серое ночное небо ТКЦ и грезя о мальчике из Страны-Небывальщины, который однажды возьмет ее с собой, и они полетят — вторая звезда направо, а потом прямо, до самого утра. Она станет его помощницей, мамой Потерянных Мальчишек, Немезидой злого капитана Крюка, а главное — новой Венди… новой подружкой-ровесницей мальчика, который никогда не вырастет.
И вот теперь, двадцать лет спустя, Питер наконец-то пришел за ней.
Когда стальной коготь Шрайка проник в нейрошунт за ее ухом, Ламия не почувствовала боли. Ее просто сорвал с места ледяной вихрь. Она летела, неслась… все быстрее, быстрее.
Ей и прежде доводилось, преодолев киберпространственный барьер, проникать в недра инфосферы. Всего несколько недель назад Ламия и ее приятель, компьютерный фанат, недотепа ВВ Сурбринер совершили налет на матрицу Техно-Центра. Они помогали Джонни переместить воскрешенную личность в его кибрида. В периферию они пробрались, личность похитили, но в матрице сработала тревога, и ВВ погиб. С тех пор у Ламии пропало всякое желание соваться в инфосферу.
Но сейчас она вновь очутилась в ней.
И это не шло ни в какое сравнение с прошлыми ощущениями Ламии, когда она подключалась к инфосфере через обычный комлог или шлем. То, что было теперь, напоминало полную фантопликацию — будто ты очутился внутри высококачественного цветного голофильма со стереозвуком. Даже лучше.
И Питер наконец-то прилетел за ней.
Ламия воспарила над дугой планетарного лимба Гипериона и увидела паутину примитивных микроволновых и лазерных инфоканалов — здешнее жалкое подобие инфосферы. Она не стала к ней подключаться: оранжевая пуповина звала Ламию в небо, к настоящим шоссе и проспектам киберпространства.
Вторгнувшись в пространство Гипериона, ВКС Гегемонии и Рои Бродяг принесли с собой лабиринты и хитросплетения своих инфосфер. Новообретенным зрением Ламия различала каждую струйку в инфопотоке ВКС — пронизанном красными артериями экранированных каналов бурном зеленом океане информации, в котором проплывали вращавшиеся фиолетовые шары корабельных ИскИнов, эскортируемые черными фагами. Но этот океан был лишь крохотной каплей мегасферы Сети, просочившейся сквозь черные трубы бортовых порталов, вслед за разбегающимися кругами информоволн, источниками которых являлись десятки непрерывно работающих мультипередатчиков.
Она нерешительно замерла, не зная, куда направиться, какой путь избрать. Мгновенная заминка словно отключила невидимые крылья, и тысячекилометровая пропасть внизу сразу обрела гибельную глубину — так Питер Пэн разучился летать, когда усомнился в себе.
И тут Питер — ее Питер! — схватил Ламию за руку и потянул вверх.
«Джонни!»
«Здравствуй, Ламия».
В ту же секунду, когда она увидела его и ощутила его присутствие, раздался щелчок, и ее собственное тело внезапно обрело прежнюю непрозрачность и весомость. Это был воистину Джонни — такой, каким она видела его в последний раз, ее клиент и любовник: острые скулы, карие глаза, курносый нос, упрямый подбородок. Рыжевато-каштановые кудри все так же лезли ему за шиворот, а лицо по-прежнему могло служить образцом энергичной целеустремленности. И — по-прежнему — стоило ему улыбнуться, как она готова была растаять.
Джонни! Она обняла его, тут же почувствовала ответное объятие — и они воспарили над миром. Крепкие руки, налившиеся поразительной силой, гладили ее спину, к ее груди прижималась его теплая грудь. Наконец они поцеловались, и реальнее этого поцелуя в ее жизни ничего не было.
Ламия плыла теперь на расстоянии вытянутой руки от Джонни, положив ладони ему на плечи. По их лицам, как морская рябь, пробегали отблески зеленых и фиолетовых волн бескрайнего океана инфосферы.
«Это все взаправду?» — Она услышала звук собственного голоса с лузусским выговором, прекрасно сознавая, что лишь подумала об этом.
«Да, конечно. Все такое же настоящее, как любой уголок киберпространственной матрицы. Мы с тобой находимся на краю мегасферы, в пространстве Гипериона». — Джонни так и не избавился от своего непонятного, так раздражавшего Ламию акцента.
«Что же все-таки произошло?» — Вместе со словами она передала ему образ Шрайка и чувства, охватившие ее при внезапном проникновении пальцелезвия в затылок.
«Да, все так, — мысленно ответил ей Джонни, держа ее крепче. — Таким образом он выпустил меня из петли Шрюна и забросил нас с тобой прямо и инфосферу».
«Джонни, я умерла?»
Лицо Китса улыбнулось ей. Он слегка встряхнул ее, нежно поцеловал и повернулся так, чтобы ничто не мешало им видеть все вокруг.
«Нет, ну что ты, хотя, может быть, тебя и подключили к какому-нибудь странному устройству жизнеобеспечения, пока твой киберпространственный аналог гуляет здесь со мной».
«А ты? Ты живой?»
Джонни снова улыбнулся:
«Теперь да, хотя жизнь в петле Шрюна вряд ли можно назвать жизнью. Это почти то же, что видеть чужие сны».
«Мне снился ты».
Джонни понимающе кивнул.
«Вряд ли это был я. Ведь и мне снились те же самые сны — беседы с Мейной Гладстон, заседание правительства Гегемонии…»
«Точно!»
Он сжал ее руку.
«Мне кажется, они активизировали другого кибрида Китса. И каким-то образом мы смогли установить связь через все эти парсеки».
«Другого кибрида? Как это? Ведь ты уничтожил свой сектор Техно-Центра, освободил личность…»
Ее любимый пожал плечами. Он был одет в блузу с оборками и шелковый жилет невероятного покроя — Ламия сроду не видела такой одежды. Инфопоток, текущий по проспектам наверху, заливал их лица пульсирующим неоновым светом.
«Я давно подозревал, что там имеется несколько запасных моделей. Нам бы с ВВ пробраться глубже в периферию… Но знаешь, Ламия, это все не важно. Если даже существует еще один экземпляр, то он — это я, а я не могу быть врагом себе самому. Давай-ка лучше займемся разведкой».
Ламия на миг заупрямилась, когда он потянул ее выше.
«Какой еще разведкой?»
«Это наш шанс разобраться в том, что здесь происходит. Шанс проникнуть в тайну».
«Я не уверена, что мне хочется этого, Джонни», — произнесла она, уловив в своем голосе/мысли необычную робость.
Он повернулся и удивленно взглянул на нее:
«И это моя подруга — частный детектив? Леди, которая терпеть не могла секретов?»
«Жизнь ее перевоспитала, Джонни. Мне представился случай оглянуться назад, и я… я решила стать сыщиком прежде всего потому, что не могла поверить в самоубийство отца, и все еще пытаюсь распутать обстоятельства его смерти. А тем временем страдают и погибают реальные люди. Как ты, мой Джонни, как ты».
«И ты разгадала?»
«Что?»
«Загадку смерти твоего отца?»
Ламия, нахмурившись, подняла на него глаза:
«Не знаю. Думаю, нет».
Джонни указал на текучее тело инфосферы, которое то распухало, то опадало у них над головами.
«Ламия, там, наверху, тысячи ответов. Если, разумеется, у нас хватит смелости отыскать их».
Она снова взяла его за руку.
«Мы можем погибнуть, Джонни».
«Можем».
Ламия помолчала, глядя вниз, на Гиперион. Он предстал перед ней в виде темной кривой с несколькими одинокими карманами инфопотоков, светящихся подобно кострам в ночи. Между тем огромный океан над их головой бурлил и пульсировал, переполненный светом и шумом, но то был лишь ничтожный рукав далекой мегасферы. Она знала… чувствовала, что их киберпространственные воплощения могут достичь мест, которые и не снились ни одному компьютерному ковбою.
С Джонни в качестве проводника она может открыть такие глубины мегасферы и Техно-Центра, куда не заглядывал ни один человек. И ей стало страшно — страшно, как никогда.
Но Питер Пэн все-таки нашел ее. И Страна-Небывальщина манила к себе.
«Отлично, Джонни! Чего же мы ждем?»
И они рука об руку понеслись к мегасфере.
Глава 27
Полковник Федман Кассад, шагнув вслед за Монетой в портал, очутился на огромной лунной равнине, где ужасное терновое дерево упиралось в кроваво-красное небо. На его многочисленных ветвях и шипах извивались и корчились человеческие фигурки: хорошо различимые вблизи, они, чем дальше, тем больше напоминали белесые грозди дикого винограда.
Кассад набрал в грудь воздуха и, скользнув взглядом по безмолвной фигуре Монеты, огляделся по сторонам, стараясь при этом не смотреть в сторону отвратительного дерева.
То, что он принял за лунную равнину, было поверхностью Гипериона у входа в долину Гробниц Времени, но Гипериона, претерпевшего ужасную перемену. Разметанные и опаленные неведомым огнем дюны блестели, словно застывшие стеклянные волны, поверхность валунов и скал тоже сплавилась, придав долине сходство с ледником, но ледником из камня. Атмосфера исчезла — об этом говорило небо, безжалостно-черное небо безвоздушных лун. Солнце тоже изменилось: его свет казался чуждым человеческому глазу. Кассад запрокинул голову, и светофильтры его скафандра тут же поляризовались, спасая его сетчатки от буйства энергетических потоков, заполнивших небо кроваво-красными лентами и непрерывно расцветающими жгуче-белыми цветами.
Почва у него под ногами подрагивала, словно от незаметных сейсмических толчков.
Гробницы Времени, гладкие и блестящие, как новенькие, тоже преобразились; из каждого входа, проема и отверстия на дно долины лились потоки холодного света.
Кассад понял, что только благодаря скафандру он еще дышит и не превратился в ледышку от космического холода, сменившего жару пустыни. Он повернулся к Монете, чтобы расспросить ее поподробнее, но слова замерли у него на губах, и Кассад вновь перевел взгляд на невероятное дерево.
По-видимому, оно, как и Шрайк, было слеплено из стали, хрома и хрящей: откровенно искусственное и в то же время до ужаса живое. Толщина его ствола у основания составляла метров двести — триста, да и нижние ветви почти ничем ему не уступали, но выше ветви и шипы постепенно превращались в узкие острия — на них-то и были насажены страшные плоды.
Невозможно было поверить, что люди на шипах еще живы; вдвойне невозможным казалось, что они могут уцелеть здесь — в вакууме, за пределами времени и пространства. Тем не менее все они были живы и страдали. Кассад видел их муки. Все они были живы. И все испытывали боль.
Эта боль разрывала барабанные перепонки как дикий рев, перешедший порог слышимости, как беспрестанный вопль огромной сирены, словно тысячи неумелых пальцев колотили по тысячам клавиш гигантского органа. Органа боли. Боль была настолько явственной, что Кассад невольно стал искать ее в небе — как дым, если это дерево сродни погребальному костру, или как лучи, если оно — адский маяк.
Но в небе был только резкий свет и безмолвие космоса.
Кассад мысленно подкрутил окуляры скафандра и принялся рассматривать ветку за веткой, шип за шипом. Люди, извивавшиеся на них, мужчины и женщины, старые и молодые, принадлежали к разным эпохам — об этом свидетельствовала одежда и остатки косметики. Многое в них было незнакомо Кассаду, и он предположил, что это жертвы из будущего. Их были тысячи… десятки тысяч. И все живые. Мучившиеся от боли!
Кассад вдруг замер и вгляделся в одну из нижних ветвей. На самом ее конце, на трехметровом шипе трепетала знакомая пурпурная накидка. Насаженное на шип тело, дергаясь и корчась, на миг повернулось к Кассаду.
То был Мартин Силен.
Кассад выругался и сжал кулаки с такой силой, что у него заныли суставы. Он огляделся вокруг в поисках оружия, заглянул даже внутрь Хрустального Монолита. Ничего.
И вдруг полковник сообразил, что его скафандр — сам по себе оружие, и притом превосходящее по мощи все то, что он привез с собой на Гиперион. Размашисто ступая, он двинулся к дереву. Он еще не знал, каким способом взберется на него, но в том, что взберется, не сомневался. И как снять оттуда Силена — снять всех, — он тоже не знал, но был уверен, что сделает это, даже ценой собственной жизни.
Сделав еще десять шагов, полковник замер на гребне застывшей дюны. Между ним и деревом стоял Шрайк.
Кассад почувствовал, как губы сами раздвигаются в недоброй улыбке. Вот оно — то, чего он ждал долгие годы. Правое дело, сражаться за которое он поклялся жизнью и честью двадцать лет назад, на Церемонии Масада. Единоборство двух воинов. Схватка ради спасения невинных. Полковник превратил правую руку в серебряный клинок и шагнул вперед.
«Кассад!»
Он оглянулся на крик Монеты. Свет играл на зеркальной поверхности ее обнаженного тела. Она указывала рукой на долину, где второй Шрайк выбирался из гробницы, называемой Сфинксом. Еще один Шрайк показался из входа в Нефритовую Гробницу. Свет блеснул на шипах и колючей проволоке — новый Шрайк появился из Обелиска, в пятистах метрах отсюда.
Кассад, не обращая на них внимания, повернулся к дереву и его защитнику.
Между полковником и деревом стояло сто Шрайков. Он моргнул, и слева от него встала еще сотня. Он оглянулся назад — легион неподвижных, как статуи, Шрайков выстроился на холодных дюнах и оплавленных валунах пустыни.
Кассад ударил себя по колену. Будь они прокляты…
Монета подошла к нему так близко, что руки их соприкоснулись. Скафандры слились в одно целое, и он почувствовал тепло ее плеча. Теперь они стояли нога к ноге.
«Я люблю тебя, Кассад».
Он вгляделся в ее прекрасное лицо, не обращая внимания на пляшущие на нем цветные пятна; сейчас Кассад пытался увидеть ее такой, какой она была во время их первой встречи, в лесу близ Азенкура. Он вспомнил ее удивительные зеленые глаза и короткие каштановые прядки, припухшую нижнюю губу и вкус слез, когда он случайно укусил ее.
Полковник поднял руку и коснулся ее щеки, ощутив теплоту женской кожи под скафандром.
«Если любишь меня, оставайся здесь», — сказал он.
Потом он отвернулся от женщины и издал боевой клич, слышный в безмолвии космоса лишь ему одному. То был одновременно вопль мятежника из далекого прошлого человечества, радостное «ура!» выпускника Олимпийской Школы, резкое «ки-я» каратиста и просто вызов на поединок. И, не переставая кричать, он побежал через дюны к терновому дереву и к Шрайку, стоящему прямо под ним.
Теперь горы и долину заполнили тысячи Шрайков, разом выпустивших когти и засверкавших десятками тысяч острых, как скальпели, ножей и шипов.
Кассад бежал к стальному идолу, который появился первым, над чьей головой в единоборстве с болью корчились на шипах человеческие фигуры.
Шрайк развел руки, словно собираясь заключить Кассада в объятия. Из скрытых ножен на его запястьях, суставах, груди выползли кривые ятаганы.
Кассад снова закричал — и одним рывком преодолел оставшееся между ними расстояние.
Глава 28
— Я не полечу, — заявил Консул.
Пока отец Дюре присматривал за Ламией, они с Солом перенесли так и не пришедшего в сознание Хета Мастина из Пещерной Гробницы к Сфинксу. Близилась полночь; слабое сияние Гробниц разливалось в воздухе, заполняя всю долину. Наверху, меж скальными стенами, зияла полоска неба с рваными краями — то были силуэты крыльев Сфинкса. Ламия лежала неподвижно; отвратительный кабель все так же уползал во тьму Гробницы.
Сол дотронулся до плеча Консула:
— Мы ведь уже все обсудили. Лететь должны именно вы.
Консул, покачав головой, задумчиво провел рукой по древнему ковру-самолету.
— А вдруг он выдержит двоих? Вы с Дюре могли бы добраться до места, где пришвартован «Бенарес».
Сол, подложив ладонь под крохотную головенку дочери, снова начал баюкать ее.
— Рахили двое суток от роду. Вы же знаете, нам нужно быть здесь.
Консул огляделся вокруг. Его глаза затуманились от боли.
— Это мне нужно быть здесь. Шрайк…
Дюре подался вперед. Свечение гробницы за их спинами озарило благородный лоб и высокие скулы.
— Сын мой, если вы останетесь, это будет не чем иным, как самоубийством. А если попытаетесь пригнать сюда корабль ради госпожи Брон и тамплиера, вы окажете благодеяние своим спутникам.
Консул потер виски и устало вздохнул.
— На коврике найдется место и для вас, преподобный отец.
Дюре улыбнулся.
— Каков бы ни был мой удел, я чувствую, что мне суждено встретить его здесь. Отправляйтесь! А я буду ждать вас.
Консул снова покачал головой, но послушно уселся на коврик и, подтянув к себе тяжелый рюкзак с припасами и снаряжением, пересчитал пакеты НЗ и бутылки с водой, которыми снабдил его Сол.
— Многовато. Оставьте себе половину, вам нужнее.
Дюре засмеялся.
— Благодаря госпоже Брон пищи и воды нам хватит на четверо суток. А если потом придется поститься, мне это не в диковинку.
— А если вернутся Силен и Кассад?
— Водой мы с ними поделимся, — сказал Сол. — Да и в конце концов можно еще разок сходить за продовольствием.
Консул вздохнул!
— Ну что ж!
Он коснулся нужной сенсорной нити, и маленький коврик стал жестким и поднялся на десять сантиметров над камнем. Если здешнее магнитное поле и капризничало, невооруженным глазом это было незаметно.
— При перелете через горы вам понадобится кислород, — напомнил Сол.
Консул вытащил из рюкзака осмотическую маску и проверил, цела ли она.
Сол протянул ему пистолет Ламии.
— Нет, что вы…
— От Шрайка он нам не защита, — возразил ученый. — А вам может — как знать — пригодиться.
Консул вздохнул и положил оружие и рюкзак. Затем он обменялся рукопожатиями со священником и старым ученым. Крошечные пальчики Рахили скользнули по его локтю.
— Удачи, — прошептал Дюре. — Да поможет вам Бог!
Консул молча кивнул, коснулся нитей и чуть наклонился вперед, когда летающий коврик подпрыгнул метров на пять. Слегка покачиваясь, он начал набирать высоту, словно взбираясь по невидимым рельсам.
Консул заложил правый вираж, держа курс на ворота долины, пролетел над дюнами, затем повернул налево к пустошам. Он оглянулся только однажды. Четыре фигуры у подножия Сфинкса — двое стоят, двое лежат — казались отсюда, с десятиметровой высоты, крошечными. А ребенка на руках Сола уже не было видно.
* * *
Как было условленно, Консул сначала направился на запад, к Граду Поэтов, в надежде обнаружить там Мартина Силена. Интуиция подсказывала ему, что упрямый поэт запросто мог свернуть туда.
Битва в небесах поутихла, и Консулу пришлось напрягать глаза, высматривая Силена в потемках. Он прошел над городом на двадцатиметровой высоте, лавируя между дырявыми куполами и остриями шпилей. Никаких следов. Если даже Ламия и Силен проходили здесь, отпечатки их ног давно стер ночной ветер — тот самый, что теребил сейчас волосы Консула и рвал с него одежду.
Здесь, наверху, холод был ощутимее. Когда ковер-самолет на миг терял, а потом вновь нащупывал шаткие поручни силовых линий, Консула не на шутку подбрасывало. Коварное магнитное поле Гипериона и изношенные левитационные нити могли в любую минуту швырнуть его на землю, задолго до того, как на горизонте покажется Китс. Он несколько раз позвал Силена, но никто ему не ответил, только стая голубей с шумом сорвалась со своих насестов под разбитым куполом древней галереи. Покачав головой, Консул повернул на юг, к Уздечке.
Историю этого коврика он услышал впервые от деда. То была одна из самой первой серии подобных игрушек, изготовленных вручную Владимиром Шолоховым, известным на всю Сеть знатоком чешуекрылых и конструктором электромобилей, возможно даже, тот самый коврик, который он преподнес своей юной племяннице. Любовь Шолохова к девочке вошла в легенды, как и то обстоятельство, что она отвергла его подарок.
Но кое-кому идея пришлась по вкусу, и, хотя на мирах с оживленным воздушным движением ковры-самолеты вскоре запретили, на колониальных планетах ими продолжали пользоваться. На Мауи-Обетованной этот коврик свел деда Консула с его бабкой.
Консул взглянул на приближающийся горный хребет. За десять минут он проделал путь, который несколько дней назад занял у них почти два часа. Вначале он планировал сесть у Башни Хроноса и поискать следы Силена, но друзья отговорили его: что бы ни случилось с поэтом, Консулу не следовало подвергать себя опасности в самом начале путешествия. Поэтому он удовлетворился тем, что сделал круг над Башней, заглядывая в окна и выкрикивая имя поэта. При желании Консул мог бы дотронуться до перил балкона, откуда трое суток назад им открылась долина.
Но из темных залов и коридоров доносилось только эхо. Высота и опасная близость отвесных каменных стен заставили Консула крепче схватиться за края коврика. Наконец, облегченно вздохнув, он заложил вираж, набрал высоту и начал карабкаться к перевалу, где в свете звезд белели снега. Консул летел вдоль тросов фуникулера, которые вначале поднимались к перевалу, а дальше соединяли один пик-девятитысячник со следующим, высящимся с другой стороны широченного хребта. Здесь стало еще холоднее, и Консул мысленно похвалил себя за то, что захватил из багажа Кассада лишнюю термонакидку. Он скорчился под ней в три погибели, стараясь уберечь от мороза кисти рук и щеки. Осмотическая маска прильнула к лицу, как голодный зверь-симбионт, жадно выискивая и всасывая редкий здесь кислород.
Слава Богу, Консулу его хватало. Он дышал глубоко и ровно. В десяти метрах внизу блестели покрытые ледяной коркой тросы. Герметичных вагончиков подвесной дороги не было видно. Он летел над ледниками, голыми вершинами и темными долинами, и от небывалого одиночества у него захватывало дух. Теперь Консул был рад, что отправился в это путешествие: его стоило совершить хотя бы ради того, чтобы еще раз (наверное, в последний) увидеть Гиперион — все еще прекрасный, не оскверненный ни Шрайком, ни угрозой вторжения Бродяг.
Путешествие по подвесной дороге с юга на север заняло у них двенадцать часов. Сейчас, несмотря на небольшую скорость (двадцать километров в час, что для ковров-самолетов далеко не рекорд), Консул одолел этот путь за шесть часов. Восход солнца застал его среди вершин. Разбуженный первыми лучами, он вздрогнул, удивленно сообразив, что спал. В пятидесяти метрах от себя Консул увидел вершину, заслонившую небо — она была всего метров на пять выше коврика и стремительно приближалась. Прямо перед его глазами оказался снежный склон с выступающими камнями. Огромная черная птица — одна из тех, что местные жители зовут предвестниками, — снялась с обледеневшего карниза и парила в разреженном воздухе, кося черным глазом-бусинкой на человека. Консул торопливо заложил крутой вираж, и в этот момент в левитационных нитях что-то хрустнуло. Ковер камнем упал метров на тридцать, но потом вновь нащупал магнитную опору и выровнялся.
Сжимая жесткую ткань побелевшими пальцами, Консул перевел дух. Хорошо, что он догадался привязать ремни рюкзака к поясу, иначе все его снаряжение уже валялось бы далеко внизу, на леднике.
Подвесной дороги нигде не было видно. Неужели он умудрился проспать все на свете и сбился с курса! На миг Консул поддался панике и принялся швырять коврик то в одну, то в другую сторону, высматривая проход между торчащими вокруг вершинами, похожими на острые зубы. Тут он увидел впереди золотые отблески рассвета на склонах, а позади, через ледники и высокогорную тундру, тянулись длинные тени. Это означало, что он на верном пути. За последней цепью вершин лежит южное предгорье. А за ним…
Коврик, казалось, заупрямился, когда Консул, легонько постукивая по сенсорным нитям, стал подгонять его, — но все же набрал высоту и обогнул последний девятитысячник; отсюда открывался вид на горы пониже, переходящие в предгорья. Всего-то три тысячи метров над уровнем моря! И Консул с облегчением принялся спускаться.
На солнце сверкнули тросы подвесной дороги — в восьми километрах южнее места, где он распрощался с Уздечкой. Колонна вагончиков обреченно застыла у платформы западной станции. Приют Паломника — кучка домов внизу — выглядел таким же безжизненным, как и несколько дней назад. А вот ветровоз, оставленный ими у низкого причала, на отмели Травяного моря, бесследно исчез.
Консул сел вблизи от причала, выключил левитаторы и размял затекшие ноги, а потом на всякий случай скатал коврик. После этого он воспользовался туалетом одного из покинутых домов на берегу. Когда Консул вышел оттуда, ослепительное утреннее солнце, поднимаясь над предгорьями, слизывало последние островки тьмы. На юг и на запад, насколько хватало глаз, простиралось Травяное море, гладкое, как скатерть; случайный ветерок поднимал на его бирюзовой поверхности легкую рябь, обнажая ультрамариновые и шафранные стебли. Это так напоминало волны, что казалось, будто сейчас вспенится белый гребень или выпрыгнет рыба. Но рыба в Травяном море не водилась, зато там обитали двадцатиметровые травяные змеи, и в случае катастрофы над «водами» этого моря даже успешная посадка не сулила Консулу ничего хорошего.
Он развернул коврик, пристроил рюкзак за спину и поднялся в воздух. Высота была сравнительно небольшой — каких-нибудь двадцать пять метров от поверхности, — но все же достаточной, чтобы не вводить травяных змей в искушение. Переправа через Травяное море заняла у них почти сутки, но ветровозу мешал встречный северо-восточный ветер. Консул решил, что сейчас ему потребуется часов пятнадцать, не больше. Он дотронулся до нужных нитей, и коврик послушно начал набирать скорость.
Через двадцать минут горы остались позади, а затем и предгорья растворились в туманной дымке. Еще через час вершины стали заметно укорачиваться, скрываясь за линией горизонта. А спустя два часа на севере виднелся лишь самый высокий пик — смутная зазубренная тень над голубой мглой. И наконец в мире осталось лишь небо да море — величественное и невозмутимое, если не считать случайной ряби и борозд от ветра. Здесь было гораздо теплее, чем к северу от Уздечки. Сначала Консул скинул термонакидку, потом пиджак, а потом пришлось стянуть с себя и свитер. Солнце припекало не на шутку, что было удивительно для столь высоких широт.
Консул пошарил в рюкзаке, отыскал помятую и обтрепанную треуголку, так горделиво сидевшую на нем всего двое суток назад, и нахлобучил на голову — лоб и макушка уже начали чесаться.
Примерно через четыре часа он решил наконец позавтракать и долго смаковал пресные белковые лепешки из армейского рациона, словно это было филе барашка. Самым изысканным блюдом была вода, и Консул едва удержался, чтобы не опустошить все бутылки сразу.
Внизу, позади, впереди — всюду, куда ни глянь, — лежало Травяное море. Консула начало клонить в сон. Каждый раз он просыпался от мысли, что вот-вот свалится, и в страхе цеплялся за жесткие края ковра-самолета, пока не сообразил, что надо привязать себя к нему единственной веревкой, оказавшейся у него в рюкзаке. Но садиться ради этого ему не хотелось — трава здесь выше человеческого роста и вдобавок очень острая. Правда, «усы» на поверхности моря — признаки обитания травяных змей — до сих пор ему не попадались, но это ничего не значило: он вполне мог сесть прямо на голову отдыхающей в тени твари.
В полудреме он лениво размышлял об исчезновении ветровоза. Эта автоматизированная колымага была, по-видимому, запрограммирована Церковью Шрайка, организовавшей их паломничество. Для каких еще нужд ее можно было использовать? Консул встряхнул головой, выпрямился и ущипнул себя за щеку. Его так клонило в сон, что все мысли отступили куда-то. Он взглянул на комлог: прошло пять часов.
Консул поднял коврик, внимательно осмотрелся вокруг, чтобы удостовериться в отсутствии змей, а затем спустился до высоты примерно пять метров над верхушками стеблей. Он достал из рюкзака веревку и сделал петлю, затем переполз на переднюю часть коврика и несколько раз обмотал веревку вокруг него, оставив слабину, чтобы можно было пролезть под нею и тогда уже затягивать узел.
В случае падения привязь могла погубить его, зато тугая веревочная петля на поясе создавала ощущение безопасности. Наклонившись вперед, Консул вновь дотронулся до сенсорных нитей, выровнял коврик на высоте сорока метров и приник щекой к теплой ткани. Обжигающие солнечные лучи просачивались между пальцами, и он понял, что его голые руки скоро обгорят.
Но он слишком устал — даже для того, чтобы сесть и опустить рукава рубашки.
Подул ветер. Консул услышал, как внизу что-то зашуршало — то ли ветер всколыхнул траву, то ли проползло кто-то большое.
Но усталость вытеснила все, даже любопытство. Веки закрылись сами собой, и через полминуты он уже спал как убитый.
* * *
Консулу снился его дом — родной дом — на Мауи-Обетованной. Сон был пестрый, разноцветный — бездонное голубое небо, бескрайние просторы Южного моря, ультрамарин, переходящий в бирюзу там, где начинались Экваториальные Отмели, умопомрачительные зеленые, желтые и орхидейно-красные бока плавучих островов, плывущих на север под охраной дельфинов… Дельфинов истребили во время вторжения, когда Гегемония оккупировала планету, но в его сне они были живы и весело бороздили чистую воду, поднимая в воздух хрустальные брызги.
Во сне Консул увидел себя ребенком. Вот он стоит на верхней ветви дома-дерева их семейного острова. Рядом — бабушка Сири, не почтенная дама, которую он так хорошо знал, а красивая молодая женщина, которую встретил и полюбил его дед. Листья-паруса шелестят под южным ветром, который гонит вереницу плавучих островков по голубым проливам через Отмели. На севере из-за горизонта появляются первые острова Экваториального Архипелага — зеленые точки, словно приклеенные к вечернему небу.
Сири дотрагивается до его плеча и указывает на запад.
Островки горят, идут ко дну, их килевые корни корчатся от боли. Кому они навредили? Пастухи-дельфины исчезли. С неба льется огонь — то на Мауи обрушились космические мегавольтные стрелы, от которых кипит воздух, а на сетчатке остаются голубовато-серые шрамы. Подводные взрывы озаряют океаны страшным светом, выбрасывают на поверхность тысячи рыб и хрупких морских обитателей, которые извиваются потом в долгой агонии.
— Почему? — спрашивает бабушка Сири, но ее голос — тихий шепот ребенка.
Консул пытается ответить ей, но не может. Его душат слезы. Он тянется к ее руке, но Сири уже нет рядом, и чувство, что ее вообще нет на свете и ему не удастся искупить свои грехи, причиняет такую боль, что становится нечем дышать, перехватывает горло. Тут ему становится ясно, что не тоска, а дым обжигает глаза и легкие: горит Семейный Остров.
Неверными шагами он идет вперед в пепельной мгле и ощупью ищет кого-то, кто возьмет его за руку и успокоит.
Его ладонь встречается с чьей-то рукой. Но это не Сири. Рука невообразимо твердая. Пальцы — ножи.
Консул проснулся, хватая ртом воздух.
Кругом темнота. Он проспал по меньшей мере часов семь. Выпутавшись из веревки, он сел и взглянул на светящийся дисплей комлога.
Двенадцать часов. Он проспал двенадцать часов!
Каждая жилка в его теле заныла, когда он свесился с ковра и вгляделся в темноту. Высота полета была прежней — сорок метров, но вот куда его занесло — загадка. Под ним проплывали невысокие холмы. До некоторых было буквально рукой подать: он мог даже разглядеть на склонах заросли оранжевой травы и каких-то бурых мочалок.
Стало быть, пока он спал, ковер миновал южный берег Травяного моря и проскочил мимо Эджа и пристани на реке Хулай, у которой пришвартован «Бенарес».
Компаса у Консула не было — на Гиперионе компасы бесполезны, — а в функции комлога инерционное определение направления не входило. Дорогу на юго-запад, в Китс, должна была указывать Хулай — он собирался пройти в обратном направлении весь трудный путь паломников, отклоняясь от реки только там, где она выделывает петли.
Но вышло по-другому — он заблудился.
Консул посадил коврик на первый попавшийся холм, еле разогнув ноги, сошел на твердую почву и отключил левитаторы. Он знал, что заряд в них израсходован по меньшей мере на треть — это по меньшей мере. Остается только гадать, насколько снизилась их эффективность за прошедшие годы.
Этот гористый пейзаж походил на местность, лежащую к юго-востоку от Травяного моря, но рекой здесь и не пахло. Комлог сообщил ему, что стемнело всего лишь час-два тому назад, но Консул не видел никаких признаков заката. Сплошная облачность преграждала путь и звездному свету, и отблескам всех космических битв.
— Проклятие, — прошептал Консул. Он походил вокруг коврика, пока в ногах не восстановилось кровообращение, помочился у края невысокого обрыва и вернулся к рюкзаку — глотнуть воды. Думай, друг мой, думай.
Итак, он держал курс на юго-запад и должен был покинуть Травяное море в районе Эджа. Если он просто пролетел над Эджем, река находится где-то южнее, по левую руку. Но если он неверно определил направление при вылете из Приюта Паломника и взял хотя бы на пять градусов левее, излучина должна быть на северо-востоке, то есть справа. Даже если курс неверен, в конце концов он неминуемо наткнется на ориентир — побережье Северной Гривы, — но этот крюк может обойтись ему в лишние сутки.
Консул в сердцах пнул какой-то камешек и скрестил руки на груди. После дневного зноя воздух казался ледяным. Его прохватил озноб, и он догадался, что это последствия солнечного ожога. Он коснулся пальцем лысины и тут же с проклятием отдернул руку. Куда лететь?
В низком кустарнике посвистывал ветер. Консул почти физически ощутил, какое громадное расстояние отделяет его от Гробниц Времени и Шрайка, но Сол, и Дюре, и Хет Мастин, и Ламия Брон, и даже пропавшие Силен и Кассад были с ним как незримый груз на его плечах. Паломничество оказалось для Консула не более чем изощренным способом самоубийства. Он отправился на Гиперион, потому что возненавидел себя и все на свете, потому что устал мучиться, думая о жене и ребенке, погибших во время авантюры на Брешии, устал страдать, вспоминая их забывающиеся лица. Устал от мук совести из-за своего ужасного двойного предательства: он был виноват перед правительством, которому служил почти сорок лет, и виноват перед Бродягами, доверившимися ему.
Консул присел на камень и закрыл глаза. Он думал о Соле и его дочурке и чувствовал, как бессмысленная злость на самого себя утихает. Он думал и о Ламии, о том, что эта отважная женщина, неиссякаемый кладезь энергии, беспомощно распростерта на каменных плитах с присосавшейся к голове чудовищной пиявкой — подарком Шрайка.
Консул встал, включил коврик и взлетел метров на восемьсот, так близко к облачной завесе, что, подняв руку, можно было коснуться ее.
Вдалеке слева облака на миг разомкнулись и внизу блеснула водная гладь, река Хулай текла примерно в пяти километрах южнее.
Консул резко повернул летающий коврик влево, чувствуя, как ослабленное силовое поле пытается прижать его к коврику. Нет, веревка надежнее. Десять минут спустя он был уже над водой и пикировал вниз — убедиться, что это действительно Хулай, а не один из ее притоков.
Да, то была Хулай. В прибрежных заводях блестела лучистая паутина. Зубчатые силуэты высоких термитников чернели на фоне неба: они были чуть темнее почвы, на которой стояли.
Консул поднялся на двадцать метров, отхлебнул из бутылки и полетел вниз по реке.
Рассвет застал его близ Духоборских Вырубок, чуть выше шлюзов Карлы, где от реки отходит Королевский Канал, ведущий к северным поселкам и Гриве. Консул знал, что отсюда до столицы меньше ста пятидесяти километров, но это означало еще семь выматывающих душу часов полета. Он так надеялся повстречать здесь военный патруль на скиммере или какой-нибудь пассажирский дирижабль из тех, что курсировали между столицей и Наядами, или хотя бы катер, который можно было бы реквизировать. Но только догорающие пепелища и слабые огоньки масляных коптилок в отдаленных лачугах оживляли берега Хулай. У причалов — ни суденышка, ни лодки. Загоны для речных мант над шлюзами были пусты, большие ворота открыты настежь; в нижнем течении реки, где она становилась вдвое шире, Консул не заметил ни единой баржи.
Выругавшись, он полетел дальше.
Утро было восхитительное. Косые лучи восходящего солнца, вырываясь из-за низких облаков, обвели золотым контуром каждый куст, каждое дерево. Консулу казалось, что он уже много месяцев не видел настоящей зелени. Могучие деревья — плотинник и падуб — поднимались во весь свой рост на далеких обрывах и откосах, а в поймах розовый свет играл на бесчисленных побегах бобов-перископов. Мангровые корни и огненные папоротники окаймляли берега, и каждая веточка, каждый листик отчетливо выделялись в ослепительном утреннем свете.
И тут, буквально на глазах, потемнело — невесть откуда взявшиеся облака спрятали солнце и принесли дождь. Консул натянул на нос свою потрепанную треуголку и плотнее закутался в термонакидку Кассада. Он летел на юг на высоте ста метров.
Консул напряг память. Сколько же дней у Рахили в запасе?
Несмотря на долгий сон накануне, голова у Консула гудела — токсины усталости отравили кровь. Когда они прибыли в долину, Рахили было четыре дня. А в долину они прибыли… четыре дня назад.
Консул потер щеку, потянулся за бутылкой с водой и обнаружил, что все они пусты. Ну, это не проблема — можно снизиться и набрать воды в реке, но ему не хотелось терять времени. Обожженная солнцем кожа болела, дождевые струйки стекали с треуголки за шиворот.
Сол говорил, что если он вернется до заката, все будет в порядке. Рахиль родилась около 20:00 по гиперионовскому времени. Если это верно, если не допущена никакая ошибка, у нее еще есть надежда. Консул вытер ладонью мокрое лицо. Скажем, семь часов до Китса. Еще час или два на то, чтобы освободить корабль. Тео поможет… он теперь генерал-губернатор. Я постараюсь убедить его, что ради интересов Гегемонии можно нарушить распоряжение Гладстон и снять арест с корабля. Если понадобится, я даже готов признаться, что по ее, и только по ее воле вступил в сговор с Бродягами и предал Сеть.
Скажем, десять часов плюс пятнадцать минут полета на корабле. По меньшей мере еще час до захода солнца. Рахили уже будет несколько минут от роду… И что? Какие средства в нашем распоряжении, кроме криогенной камеры? Никаких. Значит, остается только фуга. Сол давно уже лелеял эту идею, хотя врачи и предупреждали, что ребенок может не выдержать. А как быть с Ламией?
Пить хотелось ужасно. Консул высунул голову из-под плаща, но дождь ушел в сторону и сейчас еле-еле моросил. Правда, ему удалось смочить губы и язык, но от этого жажда только усилилась. Чертыхнувшись, он начал снижаться. Авось получится зависнуть над рекой и зачерпнуть воды бутылкой.
Но на высоте тридцати метров левитаторы вдруг отключились. Только что коврик скользил плавно, как со стеклянной горки, а в следующее мгновение он закувыркался и стремительно понесся вниз. Консула он больше не слушался. Маленький коврик и испуганный старый человек падали с высоты десятиэтажного дома. Консул вскрикнул и попытался спрыгнуть, но веревка и тяжелый рюкзак намертво приковали его к этому куску ставшего бесполезным войлока. Крутясь и кувыркаясь, он рухнул с двадцатиметровой высоты в поджидавшие его воды реки Хулай.
Глава 29
Сол Вайнтрауб возлагал на Консула большие надежды. Наконец-то они предприняли что-то конкретное — во всяком случае попытались предпринять. Вряд ли бортовая криогенная камера поможет спасти Рахиль: медэксперты на Возрождении-Вектор подчеркивали чрезвычайную опасность этой процедуры, но хорошо и то, что есть альтернатива, пусть даже такая. Сол осознал, что они слишком долго сидели на месте, поджидая Шрайка, — как осужденные гильотину.
Этой ночью Сфинкс казался весьма ненадежным убежищем, и Сол вынес пожитки паломников на широкое гранитное крыльцо, где они с Дюре устроили Мастина и Ламию, укрыв их всеми одеялами и накидками и подложив под головы вместо подушек рюкзаки. Датчики свидетельствовали, что мозг Ламии по-прежнему бездействует, но сердце работало и все остальное было в порядке. Мастин по-прежнему метался в лихорадке.
— Как вы думаете, что же все-таки случилось с тамплиером? — спросил Дюре.
— Возможно, это просто истощение, — ответил Сол. — После того как его похитили из ветровоза, он очнулся в пустошах и блуждал там невесть сколько. А потом, когда он очутился в Долине Гробниц Времени, снег заменял ему и питье, и еду.
Дюре кивнул и покосился на мини-капельницу на руке тамплиера, старательно качавшую физиологический раствор в его вены.
— Странное истощение… — заметил иезуит. — Похоже больше на безумие.
— Может, и так, — согласился Сол. — Ведь тамплиеры поддерживают почти телепатическую связь со своими кораблями-деревьями, а Мастин был свидетелем гибели своего «Иггдрасиля». Что может быть ужаснее, в особенности если он знал, что это сделано нарочно.
Дюре молча кивнул, вытирая восковой лоб тамплиера. Полночь уже миновала; разыгравшийся ветер поднимал над ржаво-красными дюнами столбы пыли и завывал в крыльях Сфинкса. Гробницы, дотоле ярко светившиеся, начали тускнеть одна за другой. Порой обоих мужчин захлестывали волны времени, и тогда они, задыхаясь, хватались за стены. Через миг головокружение проходило, чтобы тут же вернуться вновь. Но обессиленные после очередного приступа Сол и Дюре оставались на посту: они не могли бросить Ламию, намертво соединенную со Сфинксом.
Перед рассветом облака рассеялись, и открылось небо, усеянное звездами, такими яркими, что глазам становилось больно. Сначала о том, что в космосе носятся гигантские эскадры, говорили только редкие следы кораблей — точно кто-то водил алмазом по стеклянному куполу ночи. Но вскоре бутоны далеких взрывов усеяли все небо, а еще через час свечение Гробниц померкло перед огненной вакханалией наверху.
— Как вы думаете, кто победит? — спросил отец Дюре. Мужчины сидели, привалившись к каменной стене Сфинкса, и не отрывали глаз от полоски неба между изогнутыми крыльями чудовища.
Сол принялся растирать спинку Рахили, спящей на животике под тонким одеяльцем.
— Из того, что я слышал, следует одно: Сети не избежать тяжелой войны.
— Значит, вы верите прогнозам Консультативного Совета ИскИнов?
Сол пожал плечами:
— Я вообще не разбираюсь в политике, а тем более в прогнозах Техно-Центра. Я всего лишь третьестепенный ученый из маленького колледжа на захолустной планете. Но у меня предчувствие, что нас ждет нечто ужасное… что какой-то страшный зверь грядет на Вифлеем, чтобы родиться.
Дюре улыбнулся:
— А-а, это из Йейтса.
Улыбка его тут же погасла.
— Подозреваю, мы с вами как раз и оказались в этом самом новом Вифлееме. — Он обвел взглядом светящиеся Гробницы. — Всю жизнь я исповедовал учение Святого Тейяра об эволюции к точке Омега. И что же? Людское безумие сотрясает небеса, а Антихрист ждет, притаившись во тьме, чтобы в свой час унаследовать обломки мира.
— Вы считаете Шрайка Антихристом?
Отец Дюре оперся локтями на согнутые колени.
— Если он не Антихрист, всем нам придется худо. — Он горько рассмеялся. — Совсем недавно я был бы рад обнаружить Антихриста… Само присутствие в мире антибожественной силы значило бы, что существует сила Божественная, подогрело бы во мне умирающую веру.
— А теперь? — тихо спросил Сол.
Дюре развел руками.
— Меня тоже распяли.
Сол сложил в памяти обрывки из рассказа Ленара Хойта: пожилой иезуит прибивает себя гвоздями к дереву тесла, много лет мучается недоступной человеческому разумению мукой и воскресает вновь, но крестообразный паразит и теперь прячется под кожей на его груди.
Дюре отвел взгляд от неба.
— Не было объятий Отца Небесного. Никакого знака, что боль и жертва были не напрасны. Только боль. Боль, потом темнота, потом снова боль.
Ладонь Сола застыла на спине младенца.
— И вы утратили веру?
Дюре пристально посмотрел на него:
— Напротив, именно благодаря этому я осознал всю важность веры! Боль и тьма — вот наш удел со времен грехопадения. Но должна же существовать надежда, что мы сможем подняться выше… Что сознание сможет эволюционировать, перейти на новый уровень, более благожелательный, чем эта Вселенная, запрограммированная на равнодушие.
Сол торжественно кивнул.
— Во время долгой борьбы с болезнью Рахили у меня был сон… и такой же приснился моей жене Саре… Мне было сказано, что я должен принести в жертву мою единственную дочь.
— Да, — промолвил Дюре. — Я слышал рассказ Консула на диске.
— Значит, вам известен и мой ответ, — сказал Сол. — Авраамов путь покорности нас больше не устраивает, даже если существует Бог, который требует такой покорности. Мы приносили жертвы этому Богу в течение жизни многих поколений, и эта кровавая дань должна наконец прекратиться!
— И тем не менее вы здесь, — тихо сказал Дюре, обведя рукой долину, Гробницы и ночь.
— Да, я здесь, — согласился Сол. — Но не для того, чтобы пресмыкаться. Я должен услышать ответ этих сил на мое решение. — Он снова погладил дочь. — Рахили сейчас полтора дня от роду, ее время истекает. Если эта болезнь — проклятие Шрайка, я хочу посмотреть ему в глаза, даже если он и есть ваш Антихрист. Если Бог существует и это чудовище создано им, я выскажу ему наконец свое презрение.
— Мы, кажется, и так переусердствовали с презрением, — чуть слышно заметил Дюре.
Сол поднял глаза — огненные точки на небе вздулись, превратившись в пламенеющие пузыри, рассылающие по всему космосу круги ударных волн: то разрывались плазменные заряды.
— Мне хотелось бы, чтобы мы имели возможность бороться с Богом на равных, — сказал он, не повышая голоса. — Обложить его в его логове. Дать сдачи за все несправедливости, причиненные человечеству. Поставить перед ним выбор: либо он распростится со своим напыщенным самодовольством, либо пусть катится в ад.
Отец Дюре выгнул бровь и улыбнулся.
— Я понимаю ваш гнев. — Он нежно коснулся головки Рахили. — Пока не рассвело, давайте попробуем немножко поспать, а?
Сол кивнул и улегся рядом с ребенком, натянув одеяло до носа. Последнее, что он слышал, был шепот Дюре: тот то ли желал ему доброй ночи, то ли молился.
Сол погладил дочь по головке, закрыл глаза и заснул.
Ночью Шрайк не пришел. Не пришел он и утром, когда солнце осветило скалы на юго-западе и коснулось верхушки Хрустального Монолита. Сол проснулся и увидел, что солнечные лучи уже достигли долины; Дюре спал рядом, Хет Мастин и Ламия по-прежнему лежали без сознания. Пробудившаяся раньше всех Рахиль ворочалась и пищала с горькой обидой голодного птенца. Сол выдернул тесемку нагревателя и выждал минуту, чтобы молоко в одном из последних детских пакетов нагрелось до температуры тела. Ночь выдалась холодная, на ступенях, ведущих к Сфинксу, сверкал иней.
Рахиль ела жадно, мяукая и причмокивая. Эти звуки помнились Солу еще с тех времен, когда Сара кормила ее грудью. Полвека назад… Когда малютка насытилась, Сол завернул ее в одеяло и устроил у себя на груди, медленно покачивая.
Осталось полтора дня.
Сол страшно устал. Он все дряхлел и дряхлел, несмотря на пройденный всего десять лет назад курс поульсенизации. Только они с Сарой собрались отдохнуть от родительских обязанностей — Рахиль, их единственная дочь, поступила в аспирантуру и уехала на раскопки, — как девочка вернулась с болезнью Мерлина. Сол и Сара старели, но забот становилось все больше; потом авиакатастрофа на Мире Барнарда отняла у Сола жену. И все же он, глубокий старик, измученный до потери сил, благословлял каждую минуту, проведенную с дочерью.
Осталось полтора дня.
Вскоре проснулся отец Дюре. Мужчины соорудили завтрак из консервов, принесенных Ламией, Хет Мастин так и не пришел в себя. Дюре подключил к нему предпоследнюю аптечку, и в жилах тамплиера снова заструился целебный раствор.
— Как вы считаете, что нам делать с последней аптечкой? Подключим к госпоже Брон? — спросил Дюре.
Сол, вздохнув, еще раз взглянул на датчики ее комлога.
— Не стоит, Поль. Судя по приборам, содержание сахара в крови высокое, уровень питательных веществ сносный — будто она только что позавтракала.
— Но как такое возможно?
Сол покачал головой.
— Может быть, эта гадость выполняет роль пуповины? — Он указал на кабель, вросший в череп Брон.
— Ну и какова же наша программа на сегодня?
Сол посмотрел на небо — оно светлело, потихоньку обретая привычный для Гипериона лазурно-зеленый цвет.
— Будем ждать, — просто сказал он.
Хет Мастин пришел в сознание в полдень, когда солнце приближалось к зениту. Он сел, прямой как палка, и громко произнес:
— Древо!
Дюре, медленно расхаживавший по ступеням, взбежал на крыльцо. Сол подхватил на руки Рахиль, лежавшую в тени у стены, и поспешил к Мастину. Взор тамплиера был устремлен вверх, на что-то находящееся над скалами. Сол тоже поднял голову, но не увидел ничего, кроме выцветшего к полудню неба.
— Древо! — снова вскричал тамплиер и вскинул вверх огромную руку.
Дюре придержал его.
— У него галлюцинации. Ему мерещится «Иггдрасиль».
Хет Мастин рванулся из рук священника.
— Нет, не «Иггдрасиль», — пробормотал он пересохшими губами. — Древо. Последнее Древо. Древо Боли!
Сол и Дюре вновь взглянули вверх, но небо было абсолютно чистым, если не считать плывущих с юго-запада облачков. И тут всплеск волн времени снова настиг их; несколько минут Сол и священник изо всех сил боролись с головокружением, отхлынувшим так же внезапно, как пришло.
Между тем Хет Мастин пытался встать на ноги. Взгляд тамплиера по-прежнему был прикован к чему-то вдали. Его тело обжигало руки: он горел, как в огне.
— Достаньте последнюю аптечку, — распорядился Сол. — Запрограммируйте ее на ультраморфин и жаропонижающее.
Дюре поспешил выполнить приказ.
— Древо Боли! — твердо повторил Хет Мастин. — Мне было суждено стать его Гласом, а эрг должен был вести его в пространство и время! Епископ и Глас Великого Древа избрали именно меня! Я не могу их подвести. — Он попытался вырваться из рук Сола, но в ту же секунду рухнул на каменные плиты.
— Я Избранный Воистину, — прошептал он; силы вытекали из него, как воздух из воздушного шара. — В час искупления я должен был вести Древо Боли. — И тамплиер закрыл глаза.
Сол ловил каждое его слово, а Дюре тем временем вставил в гнездо последнюю аптечку, проверил, учитывает ли монитор особенности метаболизма тамплиеров, и включил подачу адреналина и болеутоляющих.
— Это не тамплиерская терминология и не богословская. Он говорит на языке Церкви Шрайка. — Священник посмотрел Солу в глаза. — Что ж, это кое-что проясняет… если вспомнить рассказ Ламии. По каким-то причинам тамплиеры вошли в тайный сговор с Церковью Последнего Искупления… культом Шрайка.
Сол понимающе кивнул и надел Мастину на запястье свой собственный комлог.
— Древо Боли — это, должно быть, мифическое терновое дерево Шрайка, — пробормотал Дюре, бросив взгляд в пустое небо — туда, куда смотрели остановившиеся глаза Мастина. — Но что тамплиер имел в виду, говоря, что он и эрг избраны для перемещения его в пространстве и времени? Он что, действительно считает себя способным вести дерево Шрайка, как обычный тамплиерский корабль?
— Об этом вы спросите его в следующем воплощении, — устало произнес Сол. — Он мертв.
Дюре сверил показания мониторов, подключил на всякий случай комлог Ленара Хойта, попробовал применить стимуляторы и сделать искусственное дыхание. Все напрасно; стрелки приборов не дрогнули. Хет Мастин, Истинный Глас Древа тамплиеров и участник паломничества к Шрайку, умер — окончательно и бесповоротно.
Целый час Сол и Дюре выжидали. Странная долина Шрайка научила их сомневаться и проверять, проверять и вновь сомневаться. Но когда мониторы засвидетельствовали, что труп начал разлагаться, они решили похоронить Мастина. В багаже Кассада нашлась складная лопата — ее черенок с типичным армейским идиотизмом был украшен надписью «инструмент для окапывания», — и в пятидесяти метрах от Сфинкса ученый и священник принялись рыть могилу. Они работали по очереди — один копал, другой следил за Ламией и Рахилью.
Двое мужчин — один с ребенком на руках — стояли в тени скалы. Перед тем как тело в импровизированном фибропластовом саване было засыпано землей, Дюре произнес краткое напутствие.
— Я не был знаком с Мастином. Мы исповедовали разную веру. Но дело у нас было одно и то же: Мастин, Глас Древа, большую часть своей жизни делал то, что считал угодным Богу, следуя Его воле, изложенной в трудах Мюира, и законам природы. И вера его была истинной — испытанной препятствиями, закаленной покорностью, а в конце скрепленной жертвой.
Дюре помолчал и, щурясь, взглянул в небо, выцветшее до свинцового цвета.
— Господи, прими раба Твоего. Прими его в свои объятия, как примешь когда-нибудь и нас, тех, кто точно так же искал Тебя и заблудился. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.
Рахиль расплакалась. Сол принялся ходить с ней взад-вперед, а Дюре тем временем засыпал длинный фибропластовый сверток.
Покончив с этим, они вернулись к Сфинксу и, стараясь избегать резких движений, перенесли Ламию туда, где еще оставался кусочек тени. Укрыть ее от полуденного солнца можно было только в самой гробнице, но ни один из них не хотел и думать об этом.
— Консул, наверное, уже одолел половину пути к кораблю, — сказал священник, сделав большой глоток воды. Его обгоревший на солнце лоб покрылся испариной.
— Наверное, — согласился Сол.
— Завтра к этому времени он уже вернется. Мы освободим Ламию с помощью лазерных резаков, а потом отнесем в операционную корабля. Кто знает, может, в криогенной камере и болезнь Рахили приостановится. Что бы там ни говорили врачи.
— Да.
Дюре поставил бутылку с водой в тень и посмотрел на Сола.
— Вы верите в это?
Их взгляды встретились:
— Нет.
От юго-западной стены протянулись тени. Полуденный зной сгустился до предела и пошел на спад. С юга ползли тучи.
Рахиль спала в тени близ входа в гробницу. Сол подошел к Полю Дюре, который стоял, созерцая панораму долины, и положил руку на плечо священника.
— О чем задумались, друг мой?
Дюре не обернулся:
— Вот, думаю. Если бы я твердо не верил, что самоубийство — смертный грех, то поспешил бы все это оборвать и дать жизнь молодому человеку, Хойту. — Он заглянул Солу в глаза, вымученно улыбаясь. — Но разве это самоубийство, когда паразит в моей груди… а раньше в его… в любую минуту может вновь вызвать меня к жизни?
— И кроме того, будет ли это подарком для Хойта, — спросил Сол негромко, — если вы вернете его сюда?
С минуту Дюре молчал. Затем сжал руку Сола.
— Пойду прогуляюсь.
— Где? — Сол, сощурившись, огляделся по сторонам. Даже сейчас, когда небо затянули облака, долина походила на печь.
Священник неопределенно взмахнул рукой.
— Да так, по долине. Скоро вернусь.
— Будьте осторожны, — попросил его Сол. — И не забудьте: Консул может появиться сегодня, если ему повезло и он наткнулся на патрульный скиммер.
Дюре кивнул, взял бутылку с водой, нежно погладил Рахиль, а затем медленно и осторожно, как дряхлый старик, принялся спускаться по длинной лестнице Сфинкса.
Сол смотрел ему вслед; фигура священника дрожала в горячем мареве, становясь все меньше и меньше. Когда Дюре исчез из виду, Сол, вздохнув, подошел к дочери и сел рядом с ней.
Поль Дюре старался держаться в тени, но даже там жара ярмом давила на плечи. Пройдя мимо Нефритовой Гробницы, он выбрал тропу, ведущую к северным скалам и Обелиску. Тонкая тень этой гробницы лежала на розовом каменном дне долины, как черная царапина. Пробираясь через горы обломков возле Хрустального Монолита, Дюре вскинул голову на шум — слабый ветерок, звякнув разбитыми панелями, просвистел в трещинах высоко под крышей Гробницы. В стене он увидел свое отражение и вспомнил, как слушал каждый вечер хорал ветра в Разломе, когда разыскал на плато Пиньон племя бикура. Казалось, с тех пор прошло уже несколько жизней. Да так и есть — несколько жизней.
Дюре чувствовал, что его мозг и память искалечены непрошеным воскрешением. Это было ужасно — все равно что пережить инсульт, но без надежды на выздоровление. Какое-нибудь умозаключение, бывшее для него детской игрой, теперь требовало чрезвычайного напряжения. Самые обиходные слова то и дело вылетали из головы, а непонятные, необъяснимые чувства захлестывали его, как волны времени. Несколько раз он вынужден был прятаться от паломников, чтобы поплакать в одиночестве, сам не зная о чем.
Другие паломники… Из всех отправившихся к Гробницам Времени остались только Сол и младенец. Отец Дюре с радостью пожертвовал бы собой ради их спасения. Интересно, греховно ли планировать сделку с Антихристом?
Он зашел уже довольно далеко, почти достигнув места, где долина изгибалась к востоку, образуя тупик и где Дворец Шрайка отбрасывал на скалы лабиринт теней. Здесь, возле Пещерных Гробниц, тропа шла вдоль северо-западной стены. Почувствовав, как тянет холодным сквозняком из первой Гробницы, Дюре испытал соблазн войти. Просто чтобы отдохнуть от жары, закрыть глаза, вздремнуть.
Но он прошел мимо.
Вход во вторую Гробницу, украшенный причудливой резьбой, напомнил Дюре о древней базилике, обнаруженной им в толще Разлома, — об огромном кресте и алтаре, у которых «молились» идиоты бикура. Они поклонялись богомерзкому бессмертию паразита-крестоформа, а не надежде на истинное Воскресение, которое обещает Крест Святой. Ну а в чем разница? Дюре тряхнул головой, пытаясь отогнать буквально липнущий к каждой мысли цинизм. Тропа бежала в гору, мимо третьей Пещерной Гробницы, самой маленькой и неприметной.
В третьей Гробнице был виден свет.
Дюре остановился, набрал в грудь воздуха и оглянулся: примерно в километре от него Сфинкс четко вырисовывался на фоне неба, но разглядеть Сола ему не удалось. Дюре попытался вспомнить, не в этой ли Гробнице они укрывались накануне… Может, это свет забытого фонаря?
Нет, вчера они скрывались в первой Гробнице. А в эту за последние трое суток входили лишь однажды — когда разыскивали Кассада.
Отец Дюре понимал, что не следует обращать внимание на странный свет. Нужно вернуться к Солу и ждать корабля вместе с ученым и крохотной Рахилью.
Но с каждым из нас Шрайк встречается один на один. Кто я такой, чтобы отвергать его зов?
Дюре почувствовал, что щеки его мокры; оказывается, он плакал — беззвучно, безотчетно. Он вытер слезы ладонью и застыл, сжимая кулаки.
Больше всего я кичился моим интеллектом. О, я был иезуитом-интеллектуалом, верным продолжателем дела Тейяра и Прассара. Даже теология, которую я навязывал Церкви, семинаристам и кучке еще не разочаровавшихся верующих, на первое место ставила разум, эту чудесную точку Омега, вершину сознания. Господь Бог как хитроумный алгоритм.
Ну что ж, Поль, есть вещи поважнее интеллекта.
Дюре вошел в третью Пещерную Гробницу.
Вздрогнув, Сол проснулся в абсолютной уверенности, что к нему кто-то ползет.
Он вскочил на ноги и огляделся. Рахиль, пробудившаяся одновременно с отцом, тихо попискивала. Ламия Брон неподвижно лежала на прежнем месте; датчики светились зеленым, только индикатор активности мозга таращил красный глаз. Все, как прежде.
Он проспал не меньше часа; тени уже легли на дно долины, лишь верхушка Сфинкса блестела на солнце, проглянувшем сквозь облака. Косые лучи, падающие сквозь ворота долины, освещали скальную стену напротив. Поднялся ветер.
Но в самой долине все застыло.
Сол с плачущей Рахилью на руках сбежал вниз по ступеням, заглянул за Сфинкс, обвел взглядом другие Гробницы.
— Поль! — Эхо многократно повторило его зов. За Нефритовой Гробницей ветер играл с пылью — единственное, что отличало долину от застывшего стоп-кадра. Но ощущение, что кто-то подбирается все ближе, следит за каждым движением Сола, не исчезало.
Рахиль начала извиваться в его руках. Из крошечного ротика вырывался тонкий плач. Сол посмотрел на комлог. Через час ей исполнится день от роду. Он поискал в небе корабль Консула, мысленно выругал себя и вернулся ко входу в Сфинкс, чтобы сменить Рахили пеленки, взглянуть на Ламию и достать из рюкзака пакет с детским питанием и плащ: после заката жару сменял резкий холод.
За оставшиеся до темноты полчаса Сол обошел всю долину, громко зовя Дюре по имени и заглядывая в каждую Гробницу. Нефритовая Гробница, где был убит Хойт, излучала молочно-зеленый свет. Длинная тень Обелиска дотянулась аж до юго-восточной скальной стены. На верхушке Хрустального Монолита играли последние отблески заката, угасая вслед за солнцем, которое опускалось к горизонту где-то за Градом Поэтов. Когда Сол добрался до Пещерных Гробниц, на долину опустилась вечерняя прохлада. Сол заглядывал в каждую из них и звал Дюре до изнеможения, ощущая на лице сырой сквозняк как чье-то враждебное ледяное дыхание. Никакого ответа.
На исходе сумерек Сол, обогнув утес, углубился в тупик, к вакхическому хороводу клинков и контрфорсов Дворца Шрайка, темного и еще более зловещего в сгущающемся мраке. Ученый постоял у входа, пытаясь распутать паутину чернильных теней от шпилей, стропил и опор и крича в темноту; ответом ему было только эхо. Рахиль снова расплакалась.
Дрожа и обливаясь холодным потом, то и дело оборачиваясь, чтобы застать шпиона-невидимку врасплох (никого — только густеющий сумрак да первые звезды в разрывах между облаками), Сол заторопился назад к Сфинксу — сначала шагом, а потом, когда ночной ветер принялся стонать голосом раненого ребенка, бегом.
— Господи! — вырвалось у него, когда он взбежал по лестнице на крыльцо Сфинкса.
Ламия Брон исчезла. И она сама, и металлическая пуповина. Крепко прижимая к себе Рахиль, Сол лихорадочно зашарил в рюкзаке в поисках ручного фонаря…
В десяти метрах от входа, в центральном коридоре, он увидел одеяло Ламии. Это было все, что от нее осталось. Коридоры между тем разветвлялись и сходились снова, то расширяясь, то сужаясь до такой степени, что Сол был вынужден ползти, обхватив ребенка правой рукой и прижимая его головку к своей щеке. Это было противно до дурноты — ползти сквозь Гробницу. Сердце билось так часто, что он уже приготовился к сердечному приступу — весьма подходящее место!
Последний коридор сузился до предела. В том месте, где металлическая змея сливалась с камнем, теперь был только камень.
Сол, зажав в зубах фонарь, бешено заколотил по нему и принялся давить на блок величиной с дом, будто ждал, что какая-то потайная панель вот-вот откинется, открыв новый туннель.
Тщетно.
Покрепче прижав к себе Рахиль, Сол пустился в обратный путь. Несколько раз он повернул не туда и уже думал, что заблудился. Сердце чуть не выскочило из груди. Но тут они очутились в знакомом коридоре, потом добрались до центрального и через несколько минут оказались под открытым небом.
Сол понес дочь вниз по лестнице, подальше от Сфинкса. У ворот долины он остановился и присел на низкий камень, чтобы перевести дух. Нежная щечка Рахили прижималась к его шее. Ребенок не издавал никаких звуков, не шевелился — только запускал слабые пальчики в его бороду.
Ветер дул с пустошей. Облака над головой разошлись и вновь сомкнулись, закрыв звезды, так что единственным источником света было слабое сияние Гробниц. Сол боялся, что дикое биение его сердца испугает ребенка, но Рахиль мирно дремала на его груди. Тепло ее тела, такого осязаемого, живого, вернуло его к действительности.
— Проклятие, — пробормотал Сол. Он полюбил Ламию Брон, полюбил остальных паломников, а теперь они исчезли. Десятилетия научной работы приучили Сола во всем искать закономерность, в окаменелой грязи житейского опыта находить пусть крошечное, но живое зернышко морали. Здесь, на Гиперионе, в происходящем не было никакой закономерности — только бессмыслица, только смерть.
Укачивая ребенка, Сол смотрел в пустоту, втолковывая себе, что должен немедленно покинуть это место… Идти пешком в мертвый город или в Башню Хроноса, а затем направиться на северо-запад, к побережью или на юго-восток, где Уздечка подходит к морю. Он поднял дрожащую руку и вытер лицо; нет, все это самообман. Мартин Силен ушел из долины, но все равно не уберегся. Шрайк появляется гораздо южнее Уздечки, в таких отдаленных местах, как Эндимион, но даже если чудовище пощадит их, не пощадят голод и жажда. Сол может обойтись корнями, мясом грызунов и снегом, но запас детского питания невелик, даже с учетом припасов, доставленных Ламией из Башни. И тут только до него дошло, что нет смысла тревожиться о запасе молока…
Не пройдет и суток, как он останется один. Сол подавил стон. Его решимость спасти дитя привела его сюда через двадцать пять лет, за двадцать пять сотен световых лет. Его решимость вернуть Рахиль к нормальной жизни стала почти материальной силой, энергетическим полем, соединившим в одно целое его и Сару.
После гибели жены он хранил эту решимость, как жрец поддерживает священный огонь в храме. Видит Бог, есть закономерность в происходящем, есть моральная подоплека у всей этой безумной череды событий! И он, Сол Вайнтрауб, готов вверить этой невидимой закономерности свою жизнь и жизнь своей дочери.
Он встал и побрел назад, к Сфинксу. Взобравшись по крутой лестнице, он нашел термонакидку и одеяла и под аккомпанемент стонущего ветра Гипериона соорудил гнездышко для себя и дочери. Гробницы Времени светились все ярче.
Рахиль лежала на его груди, прижавшись щечкой к его плечу, то сжимая, то разжимая кулачки — она оставила этот мир и унеслась в царство спящих младенцев. Сол слушал, как лопаются на ее губах крошечные пузырьки слюны. Немного погодя он тоже покинул этот мир и присоединился к дочери во Вселенной сна.
Глава 30
Солу снился сон, преследовавший его с тех пор, как Рахиль заболела болезнью Мерлина.
Он шел по огромному залу, где колонны, похожие на секвойи, терялись во мраке, а откуда-то из запредельной выси падали столбы алого света. Что-то гудело и трещало — словно отголоски гигантского пожара, пожиравшего целые миры. Впереди пылали два багровых овала.
Солу было знакомо это место. Он знал, что впереди окажется алтарь, а на нем — лежащая без сознания Рахиль — такая, какой она была в двадцать шесть лет. Потом он услышит Требующий Голос.
Сол вышел на низкую галерею и увидел внизу то, что знал уже наизусть. Его дочь, женщина, которая, попрощавшись с ним и Сарой, отправилась на неведомую планету Гиперион собирать материал для диссертации, лежала обнаженная на каменной плите. Над нею плавали два багровых шара — зрачки Шрайка. Рядом с Рахилью на алтаре лежал длинный кривой нож, сделанный из заточенной человеческой кости. Раздался Голос: «Сол! Возьми дочь твою, единственную твою, которую ты любишь, Рахиль; и отправляйся в мир, называемый Гиперион, и там принеси ее во всесожжение в месте, о котором Я скажу тебе».
Руки Сола дрожали от ненависти и горя. Он рванул на себе волосы и прокричал в темноту слова, которые столько раз уже срывались с его губ:
«Больше не будет жертвоприношений, ни детей, ни родителей! Жертв больше не будет! Время повиновения и искупления кончилось. Помоги нам, если ты друг, или убирайся!»
В предыдущих снах после этого ответа он оставался один. Завывал ветер, ужасные шаги удалялись во тьму. Но на этот раз сон продолжался. Алтарь закачался и внезапно опустел — на нем остался лишь костяной нож. В вышине еще плавали два багровых шара — рубины с планету величиной, налитые огнем.
— Выслушай меня, Сол, — раздался Голос. Теперь он не гремел из далекой выси, а ввинчивался Солу в самое ухо. — От твоего выбора зависит будущее человечества. Если ты не можешь принести Рахиль в жертву из покорности, сделай это из любви!
Сол услышал от своей совести ответ, еще не успев облечь его в слова. Жертвоприношений больше не будет. Время истекло. Человечество достаточно настрадалось из-за своей любви к богам и долгих поисков Бога. Он вспомнил о том, как евреи издавна вели переговоры с Богом — жаловались, спорили с Ним, проклинали Его несправедливость, но всегда — всегда и любой ценой — возвращались под ярмо покорности. Целые поколения, погибшие в печах ненависти. Будущие поколения, изуродованные холодным огнем радиации и возродившиеся ненавистью.
Ни сейчас. И никогда больше.
— Согласись, папа.
К его руке прикоснулись тонкие пальчики. Сол вздрогнул — рядом стояла Рахиль. Не младенец, не взрослая женщина, а восьмилетняя девочка, какой она была дважды — когда взрослела и когда делалась все меньше от болезни Мерлина. Рахиль с ее светло-каштановыми волосами, собранными в аккуратный хвостик. Худенькая фигурка в домашнем джинсовом платьице и пестрых кроссовках.
Сол взял ее руку, сжал — крепко, но бережно, и почувствовал ответное пожатие. Это был не призрак и не жестокая шутка Шрайка. Это была его дочь.
— Согласись, папа.
Сол уже покончил с Авраамовой проблемой повиновения. Повиновение как основа отношений между человечеством и его божеством изжило себя. Но как быть, если сам предназначенный в жертву ребенок просит повиноваться Господнему капризу?
Сол опустился на одно колено перед дочерью и раскрыл ей свои объятия.
— Рахиль…
Она горячо обняла его — как всегда обнимала, — потерлась подбородком о плечо, ласково погладила по спине. И прошептала на ухо:
— Пожалуйста, папа. Мы должны согласиться.
Сол не отпускал ее от себя. Вокруг его шеи обвивались тонкие ручки, к его щеке прижалось теплое личико. Он беззвучно плакал, короткая бородка совсем вымокла, глаза ничего не видели от слез — но, чтобы смахнуть их, нужно было хоть на секунду отстранить от себя дочь.
— Я люблю тебя, папочка, — прошептала Рахиль.
Тогда он поднялся, вытер лицо ладонью и, крепко держа Рахиль за руку, начал медленно спускаться с нею к ожидающему их внизу алтарю.
Сол проснулся с ощущением, что куда-то падает, и схватился за ребенка. Рахиль спала на его груди со сжатыми кулачками, засунув большой палец в рот, но когда он вскинулся, с громким плачем проснулась. Сол вскочил, отбросив в сторону одеяло и плащ, и крепко прижал к себе дочь.
Было уже совсем светло. И если утро, то позднее. Пока они спали, ночная темнота рассеялась, и солнечные лучи, проникнув в долину, осветили Гробницы. Сфинкс нависал над ними, словно хищный зверь, расставивший могучие передние лапы по обе стороны лестницы, на которой они ночевали.
Рахиль зашлась в крике. Ее личико исказила гримаса страха и недовольства, ей передался испуг отца, и к тому же она была голодна. Сол поднялся на крыльцо Сфинкса, сменил девочке пеленки, разогрел один из последних пакетов детского питания, подождал, пока плач не сменился чмоканьем, затем завернул ребенка в одеяло и стал прохаживаться взад-вперед, пока малышка не заснула снова.
До ее «рождения» оставалось меньше десяти часов. Меньше десяти часов до заката и последних минут жизни его дочери. Не впервые Сол пожалел, что среди Гробниц Времени не было огромного стеклянного здания, символизирующего вселенную и божество, ею управляющее. Тогда он швырял бы в него камни, пока не перебил бы все стекла.
Он попытался вспомнить подробности сна, но принесенное им успокоение вмиг растаяло под беспощадными лучами солнца Гипериона. Ему запомнилась лишь просьба Рахили, ее шепот: «Согласись, папа…» При мысли об этом у Сола что-то оборвалось внутри.
— Все в порядке, — прошептал он ей, когда она вдруг заворочалась, но тотчас же снова нырнула в сон — свое единственное ненадежное убежище. — Все в порядке, детка. Скоро прилетит корабль. Скоро, с минуты на минуту.
К полудню корабль Консула не прилетел. Не появился он и после обеда. Сол ходил по долине, выкрикивая имена своих исчезнувших спутников, напевал полузабытые песенки, когда Рахиль просыпалась, и укачивал ее колыбельными. Она была такая маленькая и легкая: вес при рождении шесть фунтов и три унции, рост девятнадцать дюймов, вспомнил он, усмехнувшись этим древним единицам измерения своей древней родины — Мира Барнарда.
Через несколько часов Сол, вздрогнув, очнулся от полудремоты в тени вытянутой лапы Сфинкса и вскочил, держа на руках проснувшуюся Рахиль — на лазурном небосводе чертил дугу космический корабль!
— Прилетел! — вскричал он, и Рахиль испуганно закопошилась у него на руках.
Голубой шлейф отработанных газов вспыхнул на солнце. Сол едва не запрыгал от радости, впервые за много дней почувствовав облегчение. Он кричал и прыгал до тех пор, пока Рахиль не расплакалась. Только тогда Сол опомнился. Он поднял ее на вытянутых руках, понимая, что малышка еще не может фокусировать взгляд. Но пусть и она увидит их прекрасный корабль, который как раз описывал круг над отдаленным горным хребтом.
— Он все-таки сделал это! — кричал Сол. — Он прилетел! Корабль…
Три мощных удара почти одновременно сотрясли долину. Первые два были отголосками ударных волн, опередивших корабль при торможении. Третий — звуком взрыва, который уничтожил его.
На глазах Сола светлая точка с голубым шлейфом разгорелась добела, потом раздулась, превратившись в кипящее газовое облако, и пролилась на далекую пустыню дождем горящих обломков. Сол моргал, силясь отделаться от блестящих пятен в глазах. Рахиль громко плакала.
— Боже мой, — прошептал Сол. — Боже мой…
Вне всяких сомнений, корабль превратился в прах. Грохот новых взрывов, долетевший за тридцать километров, оглушил Сола. Обломки с шлейфами дыма и пламени все еще сыпались на горные склоны и в Травяное море, за Уздечкой.
— Боже мой…
Сол опустился на теплый песок, слишком потрясенный, чтобы плакать. Он ничего не мог делать, ни о чем не думал — только баюкал свою дочь, пока она не успокоилась.
Десять минут спустя в зените появились еще два горячих шлейфа, направлявшихся к югу. Один из кораблей тут же взорвался, но слишком далеко, и потому звук взрыва не долетел до Сола. Второй исчез из виду за южными скалами и Уздечкой.
— А может, это был не Консул, — прошептал Сол. — К примеру, высадились Бродяги. И Консул еще прилетит за нами.
Но день проходил, а корабля все не было. Не прилетел он и к тому времени, когда лучи маленького солнца Гипериона осветили скальную стену, а тени дотянулись до самого Сфинкса, где сидел Сол. Не появился он и позже, когда сумрак накрыл всю долину.
До «рождения» Рахили оставалось минут тридцать, не больше. Сол проверил ее пеленку (сухая) и накормил из последнего пакета. Глотая молоко, малютка испытующе смотрела на отца своими глубокими темными глазами. Сол вспомнил те первые минуты, когда держал ее, а Сара отдыхала под нагретыми одеялами; детские глаза впились тогда в него с тем же самым вопросом, изумленные новооткрывшимся миром.
Вечерний ветер принес облака, и они быстро сгрудились над долиной. С юго-запада донесся грохот. Сол подумал, что собирается гроза, но в громе была зловещая размеренность артиллерийского обстрела или ядерной бомбардировки. Между низко нависшими облаками сверкали огненные кривые, подобные следам метеоров: то ли баллистические ракеты, то ли катера с десантом. В любом случае это означало, что Гипериону конец.
Сол словно не видел всего этого. Он брел и тихо напевал для Рахили. Пока она сосала молоко, они дошли до ворот долины, и теперь Сол направлялся обратно к Сфинксу. Гробницы светились ярче, чем когда бы то ни было, стреляя во все стороны холодными струями неона. Последние лучи заходящего солнца подожгли серый облачный потолок, и он запылал рубиновым огнем.
До последнего мгновения жизни Рахили оставалось не больше трех минут. Даже если каким-то чудом корабль сейчас появится, все уже кончено. Он не успеет подняться на борт, не говоря о том, чтобы погрузить новорожденную в криогенную фугу.
Да он и не стал бы теперь пробовать.
Сол медленно взбирался по лестнице, ведущей к Сфинксу, и думал, что по этим самым ступеням двадцать шесть стандартных лет назад спокойно поднималась Рахиль, не догадываясь, какая участь уготована ей.
Он остановился на верхней ступени и перевел дыхание. Вечерний солнечный свет, такой густой, что его, казалось, можно было потрогать, затопил небо, позолотил крылья и верхнюю часть Сфинкса. И сама могила излучала накопленный за день свет, как это делают скалы в пустынях Хеврона, где Сол бродил когда-то в одиночестве, ища истину и находя скорбь. Воздух превратился в мерцающую дымку; ветер то усиливался, взметая песок на дне долины, то затихал.
Сол встал на одно колено и осторожно развернул одеяло.
Рахиль в мягкой фланелевой рубашечке извивалась в его руках. Ее личико блестело, крошечные ручки покраснели, оттого что постоянно сжимались и разжимались. Сол вспомнил, что, когда доктор вручил ему младенца, все было точно так же. Он внимательно — как и сейчас — рассматривал новорожденную, а потом положил ее Саре на грудь, чтобы и мать тоже полюбовалась дочуркой.
— О Боже, — выдохнул Сол и опустился на второе колено, как и положено просителю.
Вся долина содрогнулась, будто от подземного толчка. В ушах Сола стоял непрестанный грохот — то были взрывы далеко на юге. Но у самых его глаз, на расстоянии вытянутой руки, творилось нечто невообразимое: Сфинкс озарился, нет — взорвался светом. Тень, отбрасываемая, Солом, спрыгнула на пятьдесят метров вниз по лестнице и протянулась через все дно долины. А гигантская Гробница испускала один за другим импульсы света. Краем глаза Сол видел, как засверкали и другие Гробницы — огромные, пузатые, точно реакторы за мгновение до проплавления активной зоны.
Пульсирующий вход в Сфинкс сделался голубым… фиолетовым… и, наконец, ослепительно белым, а позади Гробницы, на стене плато, нависающего над долиной, выросло небывалое дерево. Его могучий ствол и острые стальные ветви пронзали багряные облака и уходили ввысь. Сол окинул его мимолетным взглядом, заметил трехметровые шипы и нанизанные на них ужасные плоды — и вновь обратил взгляд на вход в Сфинкс.
Ветер завыл с новой силой; послышались раскаты грома. Красный песок заструился откуда-то, застилая небо, точно ливень сухой крови, мерцающий в ужасных лучах Гробниц. Откуда-то издалека доносились человеческие крики.
Но ничего этого Сол не видел и не слышал. Он смотрел только на лицо дочери — и на то, что появилось позади нее: призрак, который в этот момент заслонил собой горящий вход в Гробницу.
Чтобы выбраться наружу, Шрайку пришлось согнуться. Он ступил на крыльцо Сфинкса и пошел вперед — живая скульптура, передвигающаяся с ужасающей медлительностью, как персонаж леденящего кровь сновидения.
Угасающий солнечный свет играл на панцире чудовища, спускался вниз по нагруднику к стальным шипам, блестел на пальцелезвиях и розетках из скальпелей, украшающих каждый сустав. Прижимая Рахиль к груди, Сол глядел в многогранные красные топки, служившие Шрайку глазами. И вот закат сгустился в кроваво-багровое зарево из сна, так хорошо знакомого Солу.
Голова Шрайка повернулась — плавно, без трения, — сначала на девяносто градусов вправо, потом обратно и на девяносто градусов влево, словно чудище осматривало свои владения.
Шрайк сделал три шага вперед, остановившись меньше чем в двух метрах от Сола. Четыре руки согнулись в локтях и поднялись. Пальцелезвия раскрылись.
Сол крепко прижимал Рахиль к себе. Ее кожа была влажной, лицо покрывали синяки и пятна от родовых микротравм. Оставались секунды. Ее взгляд, поблуждав по сторонам, остановился на Соле.
«Согласись, папа», вспомнил Сол.
Голова Шрайка склонилась, и ужасные рубиновые глаза остановились на Соле и его ребенке. Ртутные челюсти слегка разжались, обнажив ряды стальных зубов. Четыре руки протянулись вперед, металлическими ладонями кверху, и замерли в полуметре от Сола.
«Согласись, папа».
Сол вспомнил вчерашний сон, вспомнил, как обняла его Рахиль своими легкими, теплыми ручонками, и понял, что когда все идет прахом, нам все же дано унести с собой в могилу одно чувство: преданность тем, кого мы любим. А вера — истинная вера — есть доверие к этой любви.
Сол поднял свою новорожденную и умирающую дочь, которой было несколько секунд от роду, кричащую своим первым и последним криком, и передал Шрайку.
Лишившись своей невесомой ноши, он пошатнулся, словно его ударили наотмашь.
Шрайк поднял Рахиль, сделал шаг назад, и его окутало облако света.
Терновое дерево позади Сфинкса перестало мерцать и синхронизировалось с настоящим, обретя неестественно четкие очертания.
Сол шагнул вперед, умоляюще протягивая руки, но Шрайк уже исчез в сиянии. Ударная волна от взрывов сдвинула с места облака, толкнув Сола так, что он снова упал на колени.
Позади и вокруг него распахивались Гробницы Времени.
ЧАСТЬ III
Глава 31
Я проснулся, что не доставило мне ни малейшего удовольствия.
Перевернувшись на другой бок, я невольно сощурился, проклиная вторгшийся в комнату солнечный свет. На краю постели сидел Ли Хент с инъектором в руке.
— Вы так увлеклись снотворным, что могли проспать бы весь день, — сообщил он. — Ну-ка, встаньте и воссияйте!
Сев в постели, я потер колючие щеки и уставился на Хента.
— Какого черта?.. — произнеся эти два слова, я закашлялся и кашлял до тех пор, пока Хент не принес из ванной стакан воды.
— Выпейте.
Я припал к стакану, тщетно пытаясь между приступами кашля выразить весь свой гнев и возмущение. Обрывки сновидений улетучились, как предрассветный туман, и я в ужасе осознал, что потерял… позабыл… что-то важное.
— Одевайтесь. — Хент уже стоял надо мною. — Госпожа Гладстон желает видеть вас у себя через двадцать минут. Пока вы изволили почивать, здесь кое-что произошло.
— Что? — Протерев глаза, я запустил пятерню в свои спутанные волосы.
Хент улыбнулся, поджав губы:
— Загляните-ка в инфосферу. И как можно скорее отправляйтесь к Гладстон. Даю вам двадцать минут, Северн. — И он исчез.
Я заглянул в инфосферу. Зрительные ощущения при подключении хорошо передает аналогия с поверхностью земного океана в различных погодных условиях. В нормальном состоянии инфосфера напоминает водную гладь, украшенную замысловатым орнаментом ряби. Кризисные ситуации вызывают зыбь, одевая волны белыми гребешками. Сегодня там бушевал ураган. Во всех портах входные каналы сбоили, напрочь забитые перемешавшимися потоками новостей; киберпространственная матрица инфосферы бурлила от перегоняемых в противоположных направлениях пакетов информации и кредит-трансфертов. Альтинг, и в обычные дни являющий собой пульсирующий клубок сводок и дебатов, превратился в безумный водоворот прерванных референдумов и устаревших коммюнике, кружившихся, как изорванные бурей облака.
— Боже милостивый, — прошептал я, прерывая контакт. Но волна информации продолжала бушевать у меня внутри, билась в имплантах, захлестывала мозг. Война. Внезапное нападение. Неминуемая гибель Сети. Призывы отдать Гладстон под суд. Беспорядки на десятках миров. Восстание шрайкистов на Лузусе. Флот ВКС, ведя отчаянные арьергардные бои, покидает систему Гипериона, но поздно, слишком поздно. Гиперион уже атакован. Под угрозой захвата порталы нуль-Т.
Я поднялся, нагишом побежал в душ и в рекордно короткий срок привел себя в порядок. Хент или кто-то еще приготовил мне строгий костюм и накидку. Быстро оделся, зачесал назад еще не просохшие волосы. Мокрые завитки легли на воротник. Секретаря Сената нельзя заставлять ждать. Никак нельзя.
— Ну, наконец-то, — нетерпеливо произнесла Мейна Гладстон, едва я появился в ее апартаментах.
— Что вы тут натворили, черт вас возьми?! — взорвался я.
Видимо, не привыкшая к подобному тону, Гладстон нахмурилась, но мне сейчас было на это начхать.
— Не забывайте, кто вы такой и с кем говорите, — холодно сказала она.
— Кто я такой, мне неизвестно. А говорю я с виновницей крупнейшего массового побоища со времен Горация Гленнон-Хайта. Почему, почему вы допустили эту войну?
Гладстон молча обвела взглядом комнату. Мы были одни. В узкой, длинной гостиной царил приятный полумрак, стены украшали картины со Старой Земли. Но будь здесь даже подлинники Ван Гога, меня бы это сейчас не тронуло. Гладстон, которую всегда сравнивали с Линкольном, как-то разом осунулась и сейчас выглядела обычной старухой. Наши взгляды на миг скрестились, но она тут же отвела глаза.
— Извините, — заявил я тоном, никак не подходящим для извинений, — вы не «допустили» эту войну. Вы ее организовали. Не так ли?
— Нет, Северн, не так. — Гладстон говорила почти шепотом.
— Говорите, пожалуйста, громче, — попросил я, прохаживаясь мимо высоких окон и любуясь струйками света, пробивающегося сквозь жалюзи. — Кроме того, я не Джозеф Северн.
Она вопросительно выгнула бровь.
— Хотите, чтобы я называла вас Китсом?
— Можете называть меня «Никто», — сказал я. — И когда придут другие циклопы, скажете, что вас ослепил Никто, и они уйдут, шепча, что это воля богов.
— Собираетесь меня ослепить?
— Да я мог бы сейчас вам шею свернуть, без малейших угрызений совести. Прежде чем минет эта неделя, погибнут миллионы. Как вы могли допустить?
Гладстон прикусила губу.
— Перед нами два пути. Всего два. Либо война и полная неизвестность, либо мир и верная всеобщая гибель. Я выбрала войну, — произнесла она тихо.
— И чье же это пророчество? — спросил я, уже заинтригованный.
— Это факт. — Она взглянула на свой комлог. — Через десять минут я предстану перед Сенатом, чтобы объявить войну. Расскажите мне о паломниках.
Скрестив руки на груди, я смерил ее взглядом.
— Хорошо, только пообещайте мне кое-что взамен.
— Если смогу.
Я помедлил, сознавая, что никакие силы во вселенной не заставят эту женщину обещать что-нибудь наобум.
— Обещайте связаться по мультилинии с Гиперионом и снять арест с корабля Консула, а также пошлите кого-нибудь на реку Хулай. Консул там, примерно в ста тридцати километрах от столицы, выше шлюзов Карлы. Возможно, ранен.
Гладстон кивнула:
— Хорошо. Непременно пошлю кого-нибудь на его поиски. А освобождение корабля всецело зависит от вашего рассказа. Остальные живы?
Укутавшись поплотнее в короткую накидку, я опустился на диван.
— Некоторые — да.
— Дочь Байрона Брона? Ламия Брон?
— Ее забрал Шрайк. Некоторое время она пролежала без сознания, соединенная с инфосферой чем-то вроде нейрошунта. Я видел ее во сне… Она парила неизвестно где, и с ней вновь был Китс, первая воскрешенная личность из ее импланта. Они собирались войти в инфосферу, точнее, в мегасферу, в иные измерения Техно-Центра, о существовании которых я и не подозревал.
— Она жива? — Гладстон всем телом подалась вперед.
— Не знаю. Ее тело исчезло. Меня разбудили, и я не успел заметить, где именно ее личность вошла в мегасферу.
Гладстон кивнула.
— Что с полковником?
— Кассада увела куда-то Монета. Эта женщина, по-видимому, обитает в Гробницах и движется вместе с ними навстречу времени. Последнее, что я увидел, — как полковник кинулся на Шрайка с голыми руками. Точнее, на Шрайков: их там были тысячи.
— Он уцелел?
Я пожал плечами.
— Не знаю. Ведь это сны. Обрывки. Разрозненные кадры.
— Поэт?
— Силена унес Шрайк. Нанизал его на шип тернового дерева. Но позже, в сне о Кассаде, я видел его, правда, мельком. Он был жив. Не знаю, как это возможно.
— Значит, терновое дерево существует? Это не пропагандистская сказочка шрайкистов?
— Увы, нет.
— А Консул, стало быть, бросил паломников? Пытался вернуться в столицу?
— У него был ковер-самолет его бабушки. Все складывалось удачно, пока он не достиг места вблизи шлюзов Карлы, о котором я упоминал. Там ковер… и он сам… упали в реку. — Я предупредил ее следующий вопрос. — Не знаю, удалось ли ему спастись.
— А священник? Отец Хойт?
— Крестоформ воскресил его в обличье отца Дюре.
— Это настоящий отец Дюре? Или безмозглый манекен?
— Дюре, — ответил я. — Но искалеченный: у него отняли мужество.
— И он все еще в долине?
— Нет. Исчез в одной из Пещерных Гробниц. Не знаю, что с ним сталось.
Гладстон взглянула на свой комлог, а я попытался вообразить смятение и хаос, царящие за пределами этой комнаты — в залах и кабинетах здания, на планете, во всей Сети. Секретарь Сената, очевидно, уединилась здесь минут на пятнадцать перед своим выступлением. Теперь ей придется позабыть об уединении и отдыхе на несколько недель. А может, навсегда.
— Капитан Мастин?
— Умер. Похоронен в долине.
Она вздохнула.
— А Вайнтрауб и ребенок?
Я покачал головой.
— Мне снились не связанные между собой обрывки… из прошлого и будущего. Думаю, все уже произошло, но поручиться не могу. — Я поднял глаза. Гладстон терпеливо ждала. — Младенцу было всего несколько секунд, когда явился Шрайк. Сол отдал ему девочку, и тот, по-моему, отнес ее в Сфинкс… Гробницы светились очень ярко… Из них выходили… другие Шрайки.
— Значит, Гробницы раскрылись?
— Да.
Гладстон коснулась пульта комлога.
— Ли? Прикажите дежурному офицеру соединиться с Тео Лейном и командованием ВКС на Гиперионе. Пусть освободят корабль, на который мы наложили арест. Кроме того, передайте генерал-губернатору, что через несколько минут он получит от меня личное послание. — Прибор пискнул, и Гладстон снова посмотрела на меня. — Что еще вы видели?
— Образы. Слова. Смысл от меня ускользает. Я рассказал лишь о том, что видел отчетливо.
Гладстон слегка улыбнулась:
— Вы понимаете, что вам снятся события, которых другая личность Китса наблюдать не может?
Я потерял дар речи. Моя связь с паломниками осуществлялась милостью Техно-Центра, который каким-то образом соединил меня с Ламией, точнее, с личностью в ее петле Шрюна, а через нее — и с примитивной инфосферой паломников. Но личность Китса уже на свободе; паломников разбросало в разные стороны, инфосфера разорвана и больше не существует. Даже мультиприемнику требуется передатчик.
Улыбка сбежала с лица Гладстон.
— Вы можете это объяснить?
— Нет. — Я посмотрел ей в глаза. — Возможно, я просто вижу сны? Обыкновенные сны?
Она встала.
— Вероятно, мы все узнаем, когда отыщем Консула. Если отыщем. Или когда его корабль прибудет в долину. У меня осталось две минуты. Что-нибудь еще?
— Хочу спросить, — отозвался я. — Кто я? Зачем я здесь?
Ее губы вновь тронула легкая усмешка:
— Каждый из нас когда-нибудь задает себе такие вопросы, господин Сев… господин Китс.
— Это не шутка. Мне кажется, вы знаете больше, чем я.
— Техно-Центр избрал вас посредником между мной и паломниками. А также наблюдателем. В конце концов — вы поэт и художник!
Хмыкнув, я поднялся, и мы медленно двинулись к личному порталу Гладстон, который должен был доставить ее в Сенат.
— Какой во всем этом прок, если конец света на пороге?
— Попробуйте выяснить это на практике, взглянув на него собственными глазами, — сказала Гладстон, вручая мне какую-то микрокарту для комлога. Я вставил ее и посмотрел на экран: то был универсальный чип-пропуск, обеспечивающий доступ ко всем порталам — государственным, частным и военным. Билет на посещение конца света.
— А если меня убьют? — заметил я.
— В этом случае мы никогда не услышим ответов на ваши вопросы, — сказала Гладстон и, коснувшись моего запястья, шагнула в портал.
Несколько минут я простоял один в ее кабинете, наслаждаясь светом и тишиной. На одной из стен действительно висел Ван Гог, стоимость которого превосходила бюджет многих планет. Это был интерьер арльской комнатушки художника. Ничто не ново под луной, и безумие тоже.
Я вышел из кабинета и двинулся по коридору, ориентируясь по указаниям комлога. Он провел меня через лабиринт Дома Правительства к центральному терминексу, и я шагнул в портал, дабы самолично узреть конец света.
Сеть имела две транспортные нуль-артерии, позволяющие посетить все значительные миры, — Конкурс и Тетис. Я перенесся на Конкурс, на пятисотметровый участок Циндао-Сычуаньской Панны, граничащий с полоской Новой Земли и отрезком Приморской набережной Невермора. К Панне подходила первая атакующая волна: от меча Бродяг ее отделяли всего тридцать четыре часа. Новая Земля входила в список объектов атаки второй волны, уже объявленный, и до вторжения у нее оставалось немногим больше стандартной недели. Невермор находился в глубине Сети, на расстоянии многих лет полета от ближайшего Роя.
Не было никаких признаков паники. Вместо того чтобы бежать на улицы, все спешили подключиться к инфосфере и Альтингу. Шагая по узким переулкам Циндао, я слышал из тысяч приемников и персональных комлогов голос Гладстон, вплетающийся странным аккомпанементом в крики уличных торговцев и шорох шин на влажном асфальте, когда по эстакадам наверху проносились электрорикши.
— …как почти восемь веков назад сказал своему народу накануне нападения другой государственный деятель: «Я не могу вам предложить ничего, кроме крови, труда, слез и пота». Вы спрашиваете, какова наша политика? Отвечаю. Бить врага в космосе и на суше, в воздухе и на море, обрушить на него всю нашу мощь, всю силу, которую дают нам наша правота, наши принципы. Вот какова наша политика…
На границе Циндао и Невермора дежурили солдаты ВКС, но поток пешеходов выглядел достаточно обыденно. Интересно, скоро ли военные реквизируют пешеходные эстакады Конкурса для переброски своей техники и куда ее направят: к фронту или от него?
Я прошел на Невермор. Здесь улицы были сухие, лишь иногда асфальт окатывало ливнем брызг от какой-нибудь взбалмошной волны — тридцатью метрами ниже плескался и бился о гранитные опоры Конкурса океан. Небо, как и положено для Невермора, было гнетущего цвета: коричневато-желтое с серыми переливами — зловещие сумерки посреди дня. Витрины маленьких магазинчиков пестрели огнями и товарами. Правда, на улицах не было обычного оживления; люди либо толпились в лавках, либо сидели на каменных парапетах и скамейках, сосредоточившись и прикрыв глаза, — они слушали.
— …вы спросите, какова наша цель? Я отвечу одним словом. Победа, победа любой ценой, победа, несмотря на все ужасы, победа, какой бы долгой и трудной ни была дорога к ней, так как без победы нет жизни…
Очередей на основном терминексе Эдгартауна почти не было. Я набрал код Безбрежного Моря и прошел в портал.
Аквамариновые небеса были как всегда чисты и прозрачны, а океан под плавучим городом — темно-зеленым. Фермы морской капусты тянулись до самого горизонта. В такой дали от Конкурса народу было меньше; улицы с дощатыми тротуарами опустели, некоторые магазины закрылись. Несколько мужчин у лодочного причала стояли вокруг старинного мультиприемника. В воздухе, напоенном запахами моря, голос Гладстон звучал как-то бесцветно.
— …даже сейчас подразделения ВКС неуклонно пробиваются к своим базам, твердые в своей решимости, уверенные в своей способности спасти не только миры, над которыми нависла угроза, но всю Гегемонию Человека от самой губительной для людских душ и самой отвратительной тирании, когда-либо оставившей свой грязный след в анналах истории.
До вторжения на Безбрежное Море оставалось восемнадцать часов. Я запрокинул голову, почти ожидая увидеть первые отряды вражеских кораблей, или какой-нибудь намек на орбитальные оборонительные рубежи, или передвижения космических эскадрилий. Но нет — лишь безоблачное небо, теплый день да плавное покачивание города на волнах.
Список миров, которым угрожало вторжение, возглавляли Небесные Врата. Я вышел на главный терминекс Центрального Отстойника и с Рифкинских Высот увидел прекрасный город, которому так не подходило его грубое название. Стояла глубокая ночь. В это время суток механические уборщики работали вовсю, выскребая щетками и ультранасадками булыжные мостовые. Но были здесь и люди — длинные молчаливые очереди протянулись к терминексу Рифкинских Высот. Очереди еще длиннее виднелись внизу, у порталов Променада. За порядком наблюдала местная полиция — здоровяки в коричневых комбинезонах. Если подразделения ВКС и перебросили сюда, то на виду они не торчали.
Стоявшие в очередях не были местными жителями: владельцы особняков на Рифкинских Высотах или Променаде наверняка имели собственные порталы. Судя по виду, эти люди приехали с осушаемых участков, расположенных за парковым поясом и папоротниковыми лесами. Они приближались к порталам молча, с терпеливым стоицизмом туристов, бредущих по тематическому парку к очередному аттракциону.
Лишь у немногих с собой было что-то крупнее дорожной сумки или рюкзака.
Неужели мы воспитали в себе такое самообладание, что способны вести себя с достоинством даже перед лицом вторжения?
Небесным Вратам оставалось тринадцать часов до Момента Икс. Я настроил комлог на Альтинг.
— …если мы сможем противостоять этой угрозе, наши любимые миры останутся свободными, и жизнь Сети двинется вперед, к будущему, исполненному света. Если же потерпим поражение, вся Сеть, Гегемония, все, что мы знали и любили, погрузится в пропасть новых Темных Веков, куда более зловещих и продолжительных, ибо научные достижения будут обращены против человека, направлены на уничтожение самого понятия о свободе. И потому давайте отдадим все силы исполнению нашего долга, наших обязанностей. Будем вести себя так, чтобы, если Гегемонии Человека, ее Протекторатам и союзникам суждено просуществовать еще тысячи лет, человечество повторяло бы: «То был их звездный час».
И вдруг где-то внизу, в тихом, пахнущем свежестью городе, началась перестрелка. Сначала донесся треск автоматных очередей, его заглушили басовитый гул полицейских парализаторов, людские крики и шипение лазерных ружей. Толпа на Променаде хлынула к терминексу, но вынырнувшие из парка десантники ослепили людей галогенными прожекторами. Из мегафонов разнеслись призывы восстановить очередь или разойтись. Толпа замерла, шарахнулась назад и тут же подалась вперед, заколебалась, как медуза в водовороте, а затем, подгоняемая звуками выстрелов, гремевшими все громче и ближе, ринулась к платформам порталов.
Полицейские принялись швырять гранаты со слезоточивым и рвотным газом, и в ту же минуту между толпой и порталами вспыхнули фиолетовые защитные поля. Эскадрильи военных ТМП и полицейских скиммеров двинулись над городом на бреющем полете, шаря по улицам прожекторами. Один луч поймал меня, задержался, пока мой комлог не мигнул в ответ, и заскользил дальше. Начинался дождь.
Вот и все наше самообладание.
Полицейские окружили государственный терминекс Рифкинских Высот и начали эвакуацию через служебный портал Атмосферного Протектората — тот самый, который доставил меня сюда. Я решил отправиться дальше.
Залы и вестибюли Дома Правительства охранялись десантниками ВКС, которые проверяли всех выходящих из порталов, несмотря на то, что это был самый защищенный от постороннего доступа терминекс в Сети. По дороге к жилому крылу, где находились мои комнаты, я миновал по меньшей мере три контрольных пункта. Внезапно охранники оттеснили всех из главного вестибюля, перекрыв ведущие к нему коридоры: через несколько секунд показалась Гладстон, сопровождаемая шумной толпой советников, референтов и генералов. Заметив меня, она, к моему удивлению, остановилась (вся свита с некоторым опозданием последовала ее примеру) и обратилась ко мне сквозь строй вооруженных до зубов морских пехотинцев:
— Как вам понравилась моя речь, господин Никто?
— Весьма, — ответил я. — Впечатляет. И если не ошибаюсь, заимствована у Уинстона Черчилля.
Гладстон улыбнулась и слегка пожала плечами.
— Если уж воровать, то у забытых мастеров. — Улыбка на ее лице сразу же погасла. — Что происходит на границах?
— Люди начинают понимать что к чему, — ответил я. — Будьте готовы к панике.
— Я всегда к ней готова, — отрезала Мейна Гладстон. — Что с паломниками?
Я удивился.
— Паломники? Но я… не спал.
Нетерпеливая свита Гладстон и безотлагательные дела увлекали ее прочь.
— Возможно, вам больше не надо спать, чтобы видеть сны, — крикнула она на ходу. — Попробуйте!
Я посмотрел ей вслед и отправился искать свои комнаты. Уже стоя перед дверью, я вдруг отвернулся, испытывая острое отвращение к себе самому, ибо единственное, чего мне хотелось, — это забраться под одеяло и, уставившись в потолок, оплакивать Сеть, маленькую Рахиль и собственную судьбу. И я бежал, бежал в страхе и смятении перед ужасом, надвигающимся на всех нас.
Я покинул жилое крыло Дома Правительства и, оказавшись во внутреннем саду, побрел по дорожке куда глаза глядят. Крошки-микророботы жужжали в воздухе, как пчелы. Один из них проводил меня из розария к узкой тропинке, которая вилась между зарослями тропических растений и вела к уголку Старой Земли с мостиком над ручьем. Вот и каменная скамья, где мы беседовали с Гладстон.
«Возможно, вам больше не надо спать, чтобы видеть сны. Попробуйте!»
Я с ногами забрался на скамью, уперся подбородком в колени, прижал кончики пальцев к вискам и закрыл глаза.
Глава 32
Мартин Силен корчится и бьется в чистой поэзии боли. Двухметровый стальной шип, вонзившийся в его тело между лопаток, выходит из груди тонким страшным острием. Обмякшие руки не в силах дотянуться до кончика шипа. Трения здесь не существует, и потные ладони никак не могут уцепиться за сталь, скользят. Сам шип тоже скользкий, и тем не менее соскользнуть с него невозможно — поэт насажен на него надежно, как бабочка на булавку энтомолога.
Крови нет.
Когда разум вернулся к нему, пробравшись сквозь безумную завесу боли, Мартин Силен принялся размышлять над этой загадкой. Крови нет. Но есть боль. О да, боли здесь предостаточно. Она превосходит самые дикие вымыслы поэтов, выходит за пределы человеческого терпения и самого понятия о страдании.
Но Силен терпит эту боль. И страдает.
В сотый, тысячный раз он кричит. Это просто вопль, бессмысленный, нечленораздельный. В нем нет даже хулы. Силен кричит и корчится, затем бессильно обвисает. Шип слегка подрагивает в такт конвульсиям. Выше, ниже, позади — везде висят люди, но Силен на них не глядит. Каждый заключен в свой личный кокон страдания.
«За что этот ад, — думает Силен словами Марло, — и за что я не вне его».
Но он знает, что вокруг не ад. И не загробная жизнь. И не какое-то ответвление реальности — шип проходит через его плоть. Восемь сантиметров самой настоящей стали сидят в его груди. А он все жив. И хоть бы капля крови на теле! Где бы ни находилось это место, как бы оно ни называлось, это не ад и не жизнь.
Что-то непонятное творилось здесь со временем. Силену и раньше доводилось оказываться в ситуациях, когда оно растягивалось и замедлялось, — к примеру, в зубоврачебном кресле или в приемном покое больницы с почечными коликами; время еле ползет — и даже почти останавливается, когда стрелки биологических часов словно замирают от страха. Но даже тогда оно все же идет. Дантист в конце концов завершает свои манипуляции. Ультраморфин снимает боль. А здесь, в отсутствии времени, сам воздух, казалось, застыл. Боль — пена на гребне волны, которая все никак не разбивается о камни.
Силен снова кричит от гнева и боли. И снова корчится на своем шипе.
— Проклятие! — выговаривает он наконец. — Проклятый сукин сын.
Эти слова — отголоски другой жизни, сновидений, в которых он жил до дерева. Силен почти не помнит той жизни, даже то, как Шрайк принес его сюда, насадил на шип да так и оставил.
— О Боже! — восклицает поэт и цепляется за сталь, пытаясь подтянуться, чтобы уменьшить вес тела, безмерно усиливающий безмерную боль.
Пейзаж внизу виден Силену на много миль. Это застывшая, словно изготовленная из папье-маше диорама долины Гробниц Времени и пустыни. Тут есть даже миниатюрные копии мертвого города и далеких гор. Что за чепуха! Для Мартина Силена сейчас существуют только дерево и боль, сплавленные воедино. В пору его детства, еще на Старой Земле, они с Амальфи Шварцем, его лучшим другом, посетили как-то христианскую общину в Северо-Американском Заповеднике и, познакомившись там с примитивной теологией христиан, потом частенько подтрунивали над идеей распятия.
Юный Мартин растопыривал руки, вытягивал ноги, задирал голову и объявлял: «Кайф, весь город как на ладони», а Амальфи покатывался со смеху.
Силен кричит.
Время здесь застыло в неподвижности, и все-таки постепенно разум Силена вновь начинает работать в режиме последовательных наблюдений, воспринимать еще что-то помимо разрозненных оазисов чистого, полнозвучного страдания в пустыне глухой муки. И этим ощущением собственной боли Силен вводит время в царство безвременья, где вынужден отныне существовать.
Сначала он просто выкрикивает ругательства. Кричать тоже больно, но гнев проясняет мысль.
Затем в сознание возвращается ощущение времени. В периоды изнеможения между воплями и приступами смертельной боли Силену удается хоть как-то разграничить страдания десяти минувших секунд и те, что еще впереди. И от этого становится чуть-чуть легче. Хотя боль все еще нестерпима, все еще разбрасывает мысли, как ветер — сухие листья, но все-таки она уменьшается на какую-то неуловимую каплю.
И Силен сосредоточивается. Он кричит и корчится, возвращая логику в сознание. Поскольку сосредоточиться тут особо не на чем, он выбирает боль.
Оказывается, боль имеет свою структуру. У нее есть фундамент. Есть стены и контрфорсы, фрески и витражи — замысловатая готика страдания. Но даже исходя криком и извиваясь всем телом, Мартин Силен исследует структуру боли. И внезапно понимает, что это стихи.
Силен в десятитысячный раз выгибает тело и вытягивает шею, ища облегчения там, где облегчения не существует по определению, и вдруг замечает в пяти метрах над собой знакомую фигуру, сотрясаемую немыслимым ураганом страдания.
— Билли! — выдыхает Силен. Наконец-то его мозги заработали.
Взгляд его бывшего сеньора и покровителя, ослепшего от боли, совсем недавно ослеплявшей Силена, устремлен в бесконечность, но, услышав свое имя в этом месте без имен и названий, он все же слегка поворачивает голову.
— Билли! — кричит Силен и снова теряет зрение и способность мыслить из-за острого приступа боли. Он сосредоточивается на структуре боли, мысленно ведя пальцем по ее схемам, как бы взбираясь по стволу, ветвям, сучьям и шипам адского дерева. — Ваша милость!
Силен слышит голос, пробивающийся сквозь крики; с удивлением осознает, что и крики, и голос — его собственные:
…Ты — лунатик, Живущий в лихорадочном бреду; Взгляни на землю: где твоя отрада? Есть у любого существа свой дом, И даже у того, кто одинок, И радости бывают, и печали — Возвышенным ли занят он трудом Иль низменной заботой, но отдельно Печаль, отдельно радость. Лишь мечтатель Сам отравляет собственные дни, Свои грехи с лихвою искупая.[50]Он знает, эти стихи написаны не им, а Джоном Китсом, но чувствует, как каждое слово все глубже структурирует хаотический океан боли вокруг него. Силен постигает наконец, что боль — его спутница с самого рождения. Таков дар поэту от вселенной. То, что он испытывает сейчас, — лишь физический аналог боли, которую он чувствовал и безуспешно пытался переложить в стихи, пришпилить булавкой прозы все годы своей бессмысленной, бесплодной жизни. Это хуже, чем боль, это несчастье, потому что вселенная предлагает боль всем, и
…лишь мечтатель Сам отравляет собственные дни, Свои грехи с лихвою искупая.Силен выкрикивает великие слова — это уже не тот, бессмысленный вопль. Исходящие от дерева волны боли — невидимые и неслышимые — на какую-то долю секунды стихают. Среди океана погруженных в свою боль мучеников появился островок инакомыслия.
— Мартин!
Силен выгибается и поднимает голову, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь туман боли. Печальный Король Билли смотрит на него. Смотрит.
Затем он выкрикивает короткое слово, в котором ценой неимоверного усилия Силен угадывает просьбу: «Еще!»
Поэт заходится от боли, извивается, как безмозглый червяк, но, когда он затихает, изнеможенно качаясь на шипе, а боль, не уменьшаясь, просто изгоняется токсинами усталости из двигательных участков коры его мозга, внутренний голос то кричит, то шепчет:
Дух всесильный — ты царишь! Дух всесильный — ты скорбишь! Дух всесильный — ты пылаешь! Дух всесильный — ты страдаешь! О дух! Я почил В тени твоих крыл, Поник головою всклокоченной. О дух! Как звездой Я грежу одной Твоею туманною вотчиной.[51]Небольшой круг молчания расширяется, захватывая несколько соседних ветвей и десяток шипов, отягощенных людскими гроздьями.
Силен поднимает глаза на Печального Короля Билли и видит, как его повелитель — жертва его предательства — открывает свои печальные глаза. В первый раз за два с лишним века покровитель и поэт встречаются взглядами. И Силен произносит слова, ради которых вернулся сюда и угодил на шип:
— Ваша милость, простите меня.
Прежде чем Билли успевает ответить, прежде чем хор криков заглушает всякий мыслимый ответ, воздух меняет цвет, замороженное время бьет хвостом, и дерево содрогается, словно проваливаясь на метр. Силен кричит вместе с другими, ибо ветвь трясется, и шип, на который он нанизан, рвет ему внутренности.
Открыв глаза, Силен видит, что небо настоящее, пустыня настоящая, Гробницы светятся, ветер дует, и время началось сызнова. Пытка не стала легче, но сознание прояснилось.
Мартин Силен смеется сквозь слезы.
— Смотри, мамочка! — хихикая, кричит человек со стальным копьем в разрубленной груди. — Весь город как на ладони!
— Господин Северн? С вами все в порядке?
Стоя на четвереньках, задыхаясь, я повернул голову на голос. Глазам было больно, но никакая боль не может сравниться с тем, что я только что испытал.
— С вами все в порядке, сэр?
В саду, кроме меня, никого не было. Голос исходил из микроробота, жужжавшего в каком-то полуметре от моего лица и, видимо, принадлежал какому-нибудь охраннику из Дома Правительства.
— Да, — произнес я наконец, поднимаясь на ноги и отряхивая с колен гравий. — Все нормально. Просто я вдруг почувствовал боль.
— Медицинская помощь может быть оказана вам в течение двух минут. Ваш биомонитор сообщает, что органически повреждений нет, но мы можем…
— Нет, нет, — поспешно сказал я. — Все нормально. Ничего не надо. Оставьте меня одного.
Микроробот вспорхнул вверх, как испуганная пичужка.
— Слушаюсь, сэр. Вызывайте нас, если что-то понадобится. Мониторы сада и территории немедленно отреагируют.
Я покинул сад, прошел через главный вестибюль Дома Правительства — куда ни глянь, везде загородки и охрана и вышел на живописные просторы Оленьего парка.
У пристани было тихо, река Тетис выглядела как никогда пустынной.
— Что происходит? — спросил я у одного из охранников на пирсе.
Тот связался с моим комлогом, получил подтверждение моего высокого статуса и разрешение секретаря Сената, но отвечать не спешил.
— Порталы ТКЦ отключены, — пробормотал он наконец. — Река направлена в обход.
— Отключены? Хотите сказать, что река больше не течет через Центр?
— Угу.
К нам приблизилась небольшая лодка, и охранник опустил забрало шлема, но, узнав сидевших в ней мужчин в форме, вновь открыл лицо.
— Могу я отправиться в эту сторону? — Я указал вверх по течению, где маячили порталы — высокие прямоугольники, сотканные из непрозрачной серой мглы.
Охранник пожал плечами:
— Да, только обратно вам потом здесь не пройти.
— Это не важно. Могу я воспользоваться лодкой?
Охранник пошептался со своим микрофоном и кивнул:
— Валяйте.
Я осторожно ступил в ближайшее ко мне суденышко и уселся на заднюю скамью, держась за планшир. Когда лодка перестала качаться, я нажал кнопку подачи энергии и скомандовал.
— Старт.
Электродвигатели зажужжали, лодка сама отдала швартовы и повернулась носом к реке: я приказал ей плыть вверх по течению.
Никогда не слышал, чтобы часть реки отсекалась, но занавес порталов действительно превратился в одностороннюю, полупроницаемую мембрану. Лодка с жужжанием пронеслась через нее, я стряхнул несуществующих мурашек и огляделся.
Кажется, передо мной была одна из «Венеций» Возрождения-Вектор — видимо, Ардмен или Памоло. Тетис служила здесь главной улицей, и от нее отходили многочисленные переулки-притоки. Обычно здесь можно было встретить только туристские гондолы да яхты и вездеходки ультрабогачей на транзитных аквастрадах. Но сегодня здесь царило настоящее столпотворение.
Центральные каналы буквально кишели судами всевозможных размеров и форм, спешащих в обоих направлениях. Здесь были плавучие дома, доверху набитые всяким барахлом, катера, нагруженные до такой степени, что, казалось, малейшая волна или ветерок их опрокинет, сотни размалеванных джонок с Циндао-Сычуаньской Панны и баснословно дорогие плавучие особняки с Фудзи — все они на равных боролись за место на реке. По-видимому, многие из этих плавучих жилищ до сих пор не покидали причалов. В мешанине дерева, пластика и перспекса мелькали серебряные яйца яхт-вездеходок, их силовые коконы работали сейчас в режиме полного отражения.
Я навел справки в инфосфере. Возрождение-Вектор относился ко второй волне, и от вторжения его отделяло сто семь часов. Мне показалось странным, что беженцы с Фудзи заполняют здешние водные пути, хотя топор Бродяг обрушится на их мир лишь через двести часов, но потом я догадался, что, не считая отрезанного от Тетис ТКЦ, река течет своим обычным путем. Беженцы с Фудзи плыли от Панны, которой до вторжения оставалось всего тридцать три часа, через Денеб-III (сто сорок семь часов) и Возрождение-Вектор на Экономию или Лужайку — им враг пока не угрожал. Я покачал головой, отыскал сравнительно спокойный приток, откуда было удобно наблюдать за всем этим безумием, и задумался, как скоро власти изменят течение реки, чтобы жители всех приговоренных миров могли найти на ней убежище.
Но возможно ли это технически? Техно-Центр сконструировал реку Тетис, подарив ее Гегемонии на пятисотлетие. Наверняка Гладстон или еще кому-нибудь придется просить Техно-Центр помочь с эвакуацией. Вопрос в том, согласится ли он. Гладстон убеждена, что определенные силы в Техно-Центре хотят уничтожить род человеческий, и без войны сорвать их планы невозможно. Впрочем, этим человеконенавистникам война только на руку: им ничего не стоит отказаться от эвакуации миллиардов людей, бросив их на милость Бродяг!
Я мрачно улыбнулся, но даже это подобие улыбки исчезло с моего лица, когда я понял вдруг с беспощадной ясностью, что именно Техно-Центр управляет сетью нуль-Т, от которой зависит и моя безопасность.
Моя лодка была пришвартована у каменной лестницы, спускающейся в солоноватую воду. Нижние ступени ее, обросшие изумрудным мхом, казались старыми-престарыми. Возможно, они попали сюда из какого-нибудь знаменитого города Старой Земли: были вывезены после Большой Ошибки — в числе других древностей — по нуль-Т. Между пятнами мха змеились тонюсенькие трещины. Я пригляделся: то была схематическая карта Сети и ее миров.
Стояла жара. Воздух был неестественно влажен и тяжел. Солнце Возрождения-Вектор висело низко, почти цепляясь краем за двускатные крыши башен. Его свет был слишком красным и каким-то тягучим. От гомона, стоящего на реке, закладывало уши даже здесь, в ста метрах от нее. Между черными стенами и под стрехами крыш беспокойно кружили голуби.
Что я могу сделать? Мир катится в тартарары, и тем не менее все о чем-то хлопочут, что-то предпринимают. Только я, неприкаянный, шатаюсь без цели. Зачем? Кому это нужно?
«Это твоя работа. Ты — наблюдатель».
Я потер глаза. Кто сказал, что поэты должны быть сторонними наблюдателями? Ли Бо и Джордж By водили армии по равнинам Китая, и, пока их солдаты спали, сочиняли лирические стихи ошеломляющей глубины. Да и жизнь Мартина Силена была долгой и полной деяний. И не важно, что одна половина его деяний была непристойной, а другая — бесплодной.
При мысли о Мартине Силене я не смог сдержать стона.
А крошечная Рахиль? Она тоже на терновом дереве?..
Хотя — кто знает? — лучше висеть на стальном шипе, чем сгорать, как свечка, от болезни Мерлина.
Нет, не лучше.
Я закрыл глаза и попытался думать ни о чем, надеясь каким-то чудом установить контакт с Солом и разузнать о судьбе ребенка.
Лодочка убаюкивающе покачивалась на волнах. Над головой захлопали крыльями голуби, опустились на ближайший карниз и заворковали.
— Не желаю знать, выполнимо это или нет! — кричит Мейна Гладстон. — Все силы системы Вега-Прим должны защитить Небесные Врата. Надо перебросить необходимый контингент к Роще Богов и другим мирам, находящимся под угрозой. В данный момент мобильность — наше единственное преимущество!
Лицо адмирала Сингха темнеет от тревоги.
— Слишком опасно, госпожа секретарь! Если напрямую перебросить флот в систему Вега-Прим, он рискует застрять там. Бродяги наверняка попытаются разрушить сферу сингулярности, соединяющую систему с Сетью.
— Так защищайте ее! — резко отвечает Гладстон. — Для того и существуют дорогие дредноуты.
Сингх взглядом ищет поддержки у Морпурго и других военных. Все молчат. Совещание проходит в Военном Кабинете, стены которого испещрены голограммами и бегущими колонками данных. Никто не смотрит на них.
— Для защиты сферы сингулярности в пространстве Гипериона потребуются все наши ресурсы, — негромко произносит адмирал Сингх, четко выговаривая каждое слово. — Отступать под вражеским огнем, в особенности под напором всего Роя — немыслимо трудно. В случае уничтожения этой сферы между нашим флотом и Сетью пролягут восемнадцать месяцев пути. Когда он подоспеет, война будет проиграна.
Гладстон нетерпеливо кивает:
— Адмирал, я не требую, чтобы вы рисковали этой сферой сингулярности до того, как закончится передислокация флота. Уступим им Гиперион до вывода наших кораблей. Но ни в коем случае нельзя сдавать миры Сети без боя.
Генерал Морпурго встает:
— Да, госпожа секретарь, мы будем биться с врагом. Но гораздо логичнее начать оборонительные бои на Хевроне или Возрождении-Вектор. Мы не только выиграем пять суток для подготовки к боевым действиям, но и…
— Но и потеряем девять миров! — перебивает его Гладстон. — Миллиарды граждан Гегемонии! Людей! Утрата Небесных Врат — это ужасно, но Роща Богов — наше культурное и экологическое достояние. Невосполнимое!
— Госпожа Гладстон, — вмешивается Аллан Имото, министр обороны, — есть доказательства, что многие годы тамплиеры были в сговоре с так называемой Церковью Шрайка. Многие программы культа Шрайка финансировались…
Сингх, ссутулившись, как под невидимым грузом, пытается изобразить на лице ироническую улыбку:
— На этом мы не выиграем и часа, госпожа секретарь.
— Мое решение окончательно, — отчеканивает Гладстон. — Ли, что там с беспорядками на Лузусе?
Хент по обыкновению откашливается, озирая присутствующих виноватыми собачьими глазами.
— Госпожа секретарь, беспорядки охватили по меньшей мере пять Ульев. Уничтожено собственности на сотни миллионов марок. Наземным войскам ВКС, переброшенным туда с Фрихольма, похоже, удалось справиться с грабежами и демонстрациями, но пока неизвестно, когда с этими Ульями будет восстановлено нуль-сообщение. Вся ответственность за происходящее лежит, несомненно, на Церкви Шрайка. Беспорядки в Улье Бергстром начались с манифестации фанатиков-шрайкистов, а их епископ даже появился на телеэкранах. Трансляцию удалось прекратить только…
Гладстон наклонила голову.
— Ага, значит, он все-таки выбрался из подполья. И где он сейчас? На Лузусе?
— Этого никто не знает, — отвечает Хент. — Миграционный контроль пытается сейчас выследить епископа и его присных.
Не вставая с кресла, секретарь Сената поворачивается к мужчине, которого я узнаю не сразу. Это капитан третьего ранга Вильям Аджунта Ли, герой войны за Мауи-Обетованную.
Буквально вчера я слышал, что его перевели в какую-то дыру на Окраине за то, что он осмелился высказать собственное мнение при начальниках. Теперь на эполетах его морского мундира горят контр-адмиральские изумрудно-золотые полосы.
— Что вы скажете о нашем намерении драться за каждый мир? — спрашивает его Гладстон вопреки собственному утверждению, что все уже решено.
— Я считаю, что это ошибка, — не задумываясь, отвечает Ли. — Все девять Роев готовы к штурму планет. Единственный, о котором мы можем забыть на три года, — Рой, атакующий сейчас Гипериоп. И если даже мы успеем вывести войска и сосредоточить наш флот — хотя бы половину его — у Рощи Богов, вряд ли удастся перебросить эти силы для защиты остальных восьми миров первой волны.
Гладстон покусывает нижнюю губу:
— Что же вы предлагаете?
Молодой контр-адмирал шумно набирает в грудь воздуха:
— Рекомендую поберечь наши силы, уничтожить сферы сингулярности в этих девяти системах и перехватить Рои второй волны на подходе к их целям.
Собравшиеся буквально взрываются криками негодования. Сенатор Фельдстайн с Мира Барнарда вскакивает с кресла. Гладстон ждет, пока утихнет буря, а потом произносит тихим будничным голосом:
— То есть вы предлагаете выйти им навстречу? Упредить нападение?
— Да, госпожа секретарь.
Гладстон переводит взгляд на адмирала Сингха.
— Это возможно? Мы в состоянии разработать, подготовить и нанести упреждающие удары в течение, — она косится на колонки данных на стене, — девяноста четырех стандарточасов, считая с этой минуты?
Сингх вытягивается в струнку.
— Возможно ли? Да, но, госпожа секретарь, реакция на потерю девяти миров Сети и… трудности, связанные со снабжением…
— Я спрашиваю, это возможно? — настаивает Гладстон.
— О… да, госпожа секретарь. Но если…
— Тогда действуйте, — приказывает Гладстон. Она поднимается, и остальные торопятся последовать ее примеру. — Сенатор Фельдстайн, жду вас и других заинтересованных членов Сената в моих апартаментах. Ли, Аллан, пожалуйста, держите меня в курсе событий на Лузусе. Военный Совет продолжит работу здесь же через четыре часа. Всего доброго, леди и джентльмены.
Я брел по улицам, как во сне, мысленно вслушиваясь в эхо слов Гладстон. Здесь, вдали от реки, каналы стали реже, а пешеходные дорожки — шире. И всюду толпились люди. Несколько раз я поручал комлогу вывести меня к терминексу, но на каждой новой платформе давка была еще невообразимее, чем на предыдущей. До меня не сразу дошло, что у терминексов сталкиваются два противоположных людских потока — обитатели Возрождения-Вектор стремились покинуть его, а любопытствующие со всей Сети, наоборот, рвались сюда. Интересно, учитывает ли эвакуационная комиссия Гладстон миллионы зевак, которым не терпится насладиться зрелищем военных действий?
Я и сам не мог объяснить, как умудрился увидеть во сне совещание в Военном Кабинете, но никаких сомнений в подлинности увиденного у меня не было. Перебирая череду недавних событий, я вспомнил сновидения долгой вчерашней ночи — не только те, действие в которых происходило на Гиперионе, но и прогулку секретаря Сената по мирам Сети, и совещания в высших кругах.
КТО ЖЕ Я ТАКОЙ?
Кибриды были дистанционно управляемыми биороботами, придатками ИскИнов… или, как в моем случае, реконструированными ИскИнами личностями, чьи «души» надежно упрятаны в недрах Техно-Центра. Это, пожалуй, объясняет, каким образом Техно-Центр узнавал обо всем происходящем в Доме Правительства, в кабинетах и приемных лидеров человечества. Род людской привык бездумно делиться своей жизнью и тайнами с вездесущими ИскИнами — так на Старой Земле, в Америке периода рабовладения, южане свободно обсуждали свои дела и проблемы при рабах. И тут ничего нельзя было сделать: комлоги с биомониторами имели даже голодранцы со «дна» Ульев, вдобавок многие пользовались имплантами, и каждое из этих устройств было настроено на ритм инфосферы, управлялось элементами инфосферы, зависело от состояния инфосферы — поэтому люди смирились с тотальной публичностью общественной и частной жизни. Как сказал мне один художник с Эсперансы: «Заниматься сексом или ругаться с домочадцами при включенных домашних мониторах — все равно что раздеваться в присутствии собаки или кошки. Первый раз как-то неловко, а потом и думать забываешь».
Так, может, я подключался к какому-нибудь тайному, известному только Техно-Центру каналу? Это легко проверить: бросив моего кибрида, отправиться по тропам мегасферы к Техно-Центру, как поступили прямо у меня на «глазах» Ламия и мой бестелесный двойник.
Ну уж нет.
При одной мысли о мегасфере меня замутило. Я нашел скамью и присел на минутку, медленно и глубоко дыша. Мимо текли толпы. Чей-то голос взывал к ним, усиленный мегафоном.
Есть хотелось зверски. Уже сутки во рту у меня не было и маковой росинки. Кибрид я или не кибрид, но в животе моего тела урчало. Я пробрался в боковую улочку, где царствовали разносчики с одноколесными гиро-тележками, на все лады расхваливающие свой товар.
Отыскав тележку с самой маленькой очередью, я заказал медовую лепешку, чашку густого брешианского кофе и хлебец с салатом. Расплатился с помощью универсальной карточки и, поднявшись по лестнице к дверям явно пустовавшего здания, уселся на солнечной галерее и принялся за еду. До чего же вкусно! Потягивая кофе и лениво подумывая, не спуститься ли за второй лепешкой, я обратил внимание на толпу, бестолково колыхавшуюся на площади. Люди окружили нескольких мужчин в красном, забравшихся на парапет большого фонтана. Слова, усиленные электроникой, донеслись и до меня:
— …Ангел Возмездия отпущен на волю, пророчества сбылись, Тысячелетие началось… план Аватары требует такой жертвы, как и предсказывала Церковь Последнего Искупления, которая знала, всегда знала, что искупление неизбежно… Слишком поздно для полумер, слишком поздно для борьбы. Человечеству приходит конец, кара падет на всех, Тысячелетие Господне близится.
Я понял, что люди в красном — священники Церкви Шрайка. Похоже, им все-таки удалось расшевелить толпу. Сначала то здесь, то там раздавались одобрительные возгласы: «Да, точно!», «Аминь», затем голоса слились в хор, и над толпой взметнулись кулаки. Зрелище было и страшноватым, и нелепым.
Вообще говоря, религиозная жизнь Сети очень напоминает таковую в земной Римской Империи накануне христианской эры: верхи проводят политику терпимости, сосуществуют самые невероятные религии, большинство из них, например, дзен-гностицизм, довольно сложны и ориентированы скорее на внутреннее совершенствование человека, чем на огульную агитацию профанов, в то время как среди широких масс царит беззлобный цинизм и безразличие к религиозным устремлениям.
Но на этой площади дело обстояло совсем иначе.
Я пришел к выводу, что последним столетиям повезло: они не знали сборищ и манифестаций. Чтобы собрать толпу, надо организовать митинг, а митинги в наше время заменены личным общением через Альтинг и другие каналы инфосферы. В людях, соединенных через тысячи километров и световых лет лишь ниточками инфоканалов и мультилиний, трудно воспитать стадное чувство.
Мои размышления прервало неожиданное затишье внизу. И вдруг тысячи голов повернулись в мою сторону.
— …а вот один из них! — вскричал священник, указывая на меня, и его красная сутана вспыхнула на солнце. — Зло-мерзкие грешники, отгородившие себя неприступной стеной от простых людей Гегемонии, и навлекли на нас искупление. Эти люди хотят, чтобы Шрайк-Аватара заставил вас расплачиваться за их грехи, пока сами они будут отсиживаться на тайных планетах, приберегавшихся правителями Гегемонии специально для таких случаев!
Я съел все до последней крошки, допил кофе и воззрился на оратора. Священник молол полную чушь. Но откуда ему известно, что я прибыл с ТКЦ? Или что я вхож к Гладстон! Заслонившись от слепящего солнечного блеска, я снова взглянул на него и, стараясь не замечать перекошенных физиономий и грозящих мне кулаков, стал вглядываться в лицо над красной сутаной…
Боже мой, ведь это — Спенсер Рейнольдс, тот самый художник-перформист, которого я видел на обеде в «Макушке», когда он пытался всех переговорить. Рейнольдс обрил голову, и от завитых волос осталась только шрайкистская косичка на затылке, но загар не сошел, и лицо все еще сохраняло свою красоту — даже сейчас, под маской религиозного исступления.
— Возьмите же его! — вскричал Рейнольдс, не опуская руки. — И взыщите сполна за разрушение ваших домов, за гибель родных и близких за конец света!
Я оглянулся, уверенный, что этот напыщенный позер имеет в виду кого-то стоящего за моей спиной.
Но он говорил обо мне. Осатаневшая толпа ринулась в мою сторону, потрясая кулаками. Первая волна подвинула стоявших рядом, те, в свою очередь, нажали на следующих, и вот уже люди, стоявшие с краю, двинулись ко мне, чтобы не быть растоптанными.
Это была уже не толпа, а орда: масса ревущих, беснующихся громил. Интеллектуальный уровень любого сборища всегда ниже, чем у самого тупого из его участников, ибо толпами движут страсти, а не разум.
Я не собирался задерживаться и объяснять безумцам эти психологические аксиомы: толпа уже разделилась на два потока и ринулась вверх, по обеим лестницам. Я повернулся и дернул ручку двери за моей спиной. Заперта.
Я пинал ее ногами, пока с третьей попытки доска не проломилась, нырнул в щель, еле увильнув от цепких рук, и стремглав понесся вверх по темной лестнице, провонявшей плесенью и гнильем. Позади раздавались крики и треск — толпа ломала дверь.
На третьем этаже, как ни странно, оказалась обитаемая квартира. Я открыл незапертую дверь в тот миг, когда марш лестницы за моей спиной содрогнулся от топота погони.
— Пожалуйста, помогите… — начал я и осекся.
В темной комнате сидели три женщины; возможно, представительницы трех поколений одной семьи, ибо между ними было несомненное сходство. Все три были одеты в грязное тряпье и сидели на прогнивших стульях, вытянув белые руки. Бледные растопыренные пальцы словно сжимали невидимые шары. В седых волосах старухи поблескивал металлический кабель, подсоединенный к черной деке на пыльном столе. Такие же кабели шли от черепов дочери и внучки.
Флэшбэчки, и, судя по всему, в последней стадии анорексии. Должно быть, кто-то навещал их, чтобы сделать внутривенное вливание и переодеть, а теперь, испугавшись войны, сиделки покинули несчастных.
На лестнице, совсем рядом, раздался топот. Я захлопнул дверь и одним махом одолел два этажа. Запертые двери. Пустые комнаты с лужами на полу и протекающими потолками. Пустые ампулы флэшбэка, похожие на бутылки из-под лимонада. Не очень-то шикарный район, что и говорить.
На десять ступеней опередив преследователей, я достиг крыши. Долю слепой злобы, которую толпа утратила за счет отсутствия подстрекателя, с лихвой компенсировали темнота и теснота лестницы. Люди наверняка забыли, почему гонятся за мной, но от этого перспектива попасть им в лапы не становилась приятней.
Захлопнув за собой прогнившую дверь, я поискал глазами замок или хоть что-нибудь, что бы могло преградить путь толпе, но ничего не нашел. Между тем грохот достиг уже последнего этажа.
Я окинул крышу беглым взглядом: миниатюрные тарелки антенн, похожие на перевернутые ржавые поганки, белье на веревке, такое грязное, будто его вывесили несколько лет назад, разложившиеся тушки голубей и допотопный «Виккен-Турист».
Еще немного — и преследователи будут здесь. Я бросился к электромобилю, который годился разве что для музея древностей. Ветровое стекло покрывал сплошной слой голубиного помета. Фирменные ускорители заменены дешевыми эрзацами с черного рынка, наверняка бракованными. Перспексовый верх был весь в ожогах и копоти, словно кто-то упражнялся на нем в стрельбе из лазерной винтовки. Но в данный момент для меня было важно одно: на дверце «Туриста» вместо папиллярного замка красовалась механическая защелка, к тому же давным-давно сломанная. Плюхнувшись на пыльное сиденье, я попробовал захлопнуть дверцу, но тщетно — она так и застряла полураскрытой. Не помню, подсчитывал ли я мизерные шансы запустить эту штуку или еще более мизерные — объясниться с толпой, когда меня вытащат и поволокут вниз, если не догадаются сразу скинуть с крыши. Помню только исступленные выкрики фанатиков на площади.
Первыми на крышу выскочили великан в рабочем комбинезоне цвета хаки, худой мужчина в ультрамодном черном костюме, несомненно, одобренном бы щеголями ТКЦ, до отвращения толстая женщина, размахивавшая чем-то вроде длинного гаечного ключа, и коротышка в зеленом мундире местных сил самообороны.
Придерживая открытую дверь левой рукой, я вставил в гнездо зажигания микрокарту Гладстон. Взвизгнув, включился стартер, а я зажмурился и принялся молить всех богов, чтобы аккумуляторы оказались заряженными.
Кулаки уже молотили по загаженному голубями перспексу у самого лица, и кто-то рвал дверцу, вопреки моим отчаянным усилиям удержать ее. Крики толпы внизу слились в сплошной гул, напоминающий рокот океанского прибоя, тогда как вопли добравшихся до крыши можно было уподобить визгливым вскрикам гигантских чаек.
В блок-схеме подъема наконец-то сработало реле, ускорители обдали окруживших машину людей пылью и голубиным пометом, и я, схватив рукоять управления и двинув ее назад и вправо, почувствовал, как старина «Турист» поднялся, закачался, нырнул вниз и снова поднялся.
Отметив краем сознания, что сигнализатор на приборной доске тревожно пищит, а на открытой дверце кто-то повис, я заложил вираж над площадью и посмотрел вниз: толпа бросилась врассыпную, а вестник Шрайка Рейнольдс шустро нырнул за парапет фонтана. Невольно усмехнувшись, я выровнял машину и начал набирать высоту.
Мой пассажир вопил благим матом и не отпускал дверцу, но через пару секунд она отломилась, так что результат получился тот же самый. Я успел заметить, что пассажиркой была толстуха. Вместе с дверцей она рухнула в воду с восьмиметровой высоты, обдав брызгами Рейнольдса и тех, кто был рядом. Я поднял электромобиль выше, и бедняга жалобно застонал — то был ответ ускорителей с черного рынка на мое безрассудное решение.
Сердитые окрики местных регулировщиков движения присоединились к хору аварийной сигнализации, ТМП споткнулся, подчинившись указаниям полиции, но я опять пустил в дело микрокарту Гладстон и радостно кивнул, когда машина вновь стала слушаться моих команд. Я двинулся над старейшей частью города, держась поближе к крышам и обходя шпили и часовые башни, чтобы лишний раз не попасть в поле зрения полицейского радара. В обычные дни полицейские на ранцевых антигравитаторах и скиммерах-«метлах» уже перехватили бы нарушающий все правила ТМП, но, судя по толпам на улицах и давке возле государственных терминексов, сегодня им было не до меня.
«Виккен» между тем предупреждал, что время его пребывания в воздухе исчисляется секундами. Правый ускоритель заглох, вызвав сильный крен, поэтому я, недолго думая, бросил свою колымагу вниз, к небольшому пятачку между каналом и невысоким закопченным зданием. От площади, где Рейнольдс распалял толпу, меня отделяло уже километров десять, и я решил, что теперь мне опасаться нечего… Впрочем, другого выбора у меня не было: искры летели во все стороны, металл рвался, как бумага, куски обшивки и обтекателя кувыркались за ними следом, но, как это ни странно, приземление прошло гладко. Плюхнувшись в двух метрах от стены, выходящей на канал, я выпрыгнул из «Виккена» и пошел прочь с самым беспечным видом, какой только мог изобразить.
Улицы по-прежнему были во власти толпы, правда, еще не превратившейся здесь в полчище бесноватых, а каналы забиты лодками и судами, поэтому я укрылся в ближайшем государственном учреждении, где размещались музей, библиотека и архив. Здание понравилось мне с первого взгляда, вернее, с первого нюха, ибо здесь хранились тысячи печатных книг, в том числе очень старые, а что может быть лучше запаха старых книг!
Я бродил между полками, изучая названия и соображая, могут ли оказаться здесь труды Салмада Брюи, когда ко мне подошел невысокий старичок в старомодном костюме из шерсти с фибропластом.
— Сэр, — дружелюбно и почтительно произнес он, — давненько вы не радовали нас своим посещением!
Я кивнул в полной уверенности, что никогда раньше не встречался с ним.
— Три года, не правда ли? По меньшей мере три года! Боже, как летит время! — Голос старика был чуть громче шепота (так говорят люди, полжизни проведшие в библиотеке) и прерывался от волнения. — Несомненно, вы захотите пройти прямо к коллекции. — Он отступил в сторону, чтобы пропустить меня.
— Да, — сказал я, слегка поклонившись, — но только после вас.
Маленький человечек — я был почти уверен, что это архивариус, — с видимым удовольствием двинулся по коридору. Мы шли через наполненные книгами комнаты, а он тем временем без умолку рассказывал о новых поступлениях, последних находках и визитах ученых со всей Сети. Многоярусные сводчатые залы, узкие коридоры, отделанные красным деревом, кабинеты, где звуки наших шагов отражались эхом от стеллажей во всю стену… И везде книги, книги, книги… и ни единого человеческого лица.
Мы прошли по изразцовому балкончику с чугунной оградой, нависшему над глубоким колодцем, в котором темно-синие силовые поля защищали от капризов атмосферы свитки, пергаменты, рассыпающиеся карты, рукописи с цветными миниатюрами и древние комиксы. Наконец архивариус открыл низкую дверь, которая была толще обычного люка в воздушном шлюзе, и мы оказались в маленькой комнате без окон, где толстые портьеры полускрывали ниши, уставленные древними томами. На персидском ковре, сотканном еще до Хиджры, стояло кожаное кресло, а в стеклянном вакуумном шкафу лежали обрывки пергамента.
— Скоро ли будет закончена ваша работа, сэр? — спросил человечек.
— Что? — Я отвернулся от шкафа. — О… нет.
Архивариус потер кулачком подбородок:
— Простите за неуместное замечание, сэр, но ваше молчание — огромная потеря для науки. Даже по нашим редким беседам за эти годы нельзя было не заметить, что вы один из крупнейших… если не самый крупный специалист по Китсу во всей Сети. — Он вздохнул и попятился. — Извините меня!
Я уставился на него.
— Не за что, — пробормотал я, внезапно догадавшись, за кого он меня принял и что привело сюда когда-то моего двойника.
— Оставить вас, сэр?
— Да, если можно.
Архивариус с легким поклоном вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Единственным источником света здесь были три лампы, утопленные в потолке, и этот матовый ровный свет — идеальное освещение для чтения — напомнил мне церковный полумрак. Тишину нарушали лишь удалявшиеся шаги старого архивариуса. Я подошел к шкафу и коснулся створок, стараясь не испачкать стекло.
Очевидно, «Джонни», первый кибрид Китса, провел здесь многие часы своей недолгой жизни в Сети. Теперь я вспомнил, что Ламия Брон упоминала некую библиотеку на Возрождении-Вектор. Ее клиент и любовник бывал здесь, когда она начала расследовать обстоятельства его «смерти». Позже, после того, как он был убит по-настоящему и от него осталась только личность в петле Шрюна, она сама побывала в библиотеке. Она рассказала другим паломникам о двух стихотворениях, к которым первый кибрид обращался ежедневно, упрямо силясь понять причины своего воскрешения… и смерти.
Подлинные рукописи этих стихотворений как раз и находились в шкафу. Одно из них, начинавшееся словами «Не стало дня, и радостей не стало», на мой взгляд, было довольно слащавым. Другое получилось удачнее, хоть и оно не избежало романтической болезненности, свойственной той болезненно-романтической эпохе.
Одно воспоминанье о руке, Так устремленной к пылкому пожатью, Когда она застынет навсегда В молчанье мертвом ледяной могилы, Раскаяньем твоим наполнит сны, Но не воскреснет трепет быстрой крови В погибшей жизни… Вот она — смотри: Протянута к тебе.[52]Я смотрел на пергамент, нагнувшись к стеклу так близко, что оно запотело от моего дыхания. Ламия Брон восприняла послание от своего мертвого любовника, отца ее будущего ребенка, как адресованное лично ей.
Но это не было ни посланием Ламии, ни даже принадлежащим тому давнишнему веку плачем по Фанни Брон, единственной и самой милой грезе моего сердца. Я смотрел на выцветшие строки — на тщательно выведенные буквы, пришедшие из далекого времени, из почти что другого языка, не ставшие от этого чужими и непонятными — и вспоминал, что написал их в декабре 1819 года на полях только что начатой сатирической поэмы «Колпак с бубенцами». Ужасная чушь, которую я, к счастью, забросил, вдосталь натешившись ею.
Фрагмент «Воспоминанье о руке» был из числа тех поэтических ритмов, что долго кружатся в голове как расчлененный аккорд, побуждая записать их для глаз, на бумаге. Он, в свою очередь, был эхом более ранней, неудачной строки — восемнадцатой, по-моему, — во второй моей попытке рассказать историю падения солнечного Гипериона. Припоминаю, что первый вариант — тот, который, без сомнения, печатается во всех случаях, когда мои литературные кости выставляются напоказ, как мумифицированные останки какого-нибудь недотепы-святого, замурованного в бетон и стекло над алтарем литературы, — звучал так:
…Кто сказать посмеет: «Ты не Поэт — замкни уста!» Ведь каждый, кто душой не очерствел, Поведал бы видения свои, когда б любил И искушен был в речи материнской. А видел этот сон Фанатик иль Поэт, О том узнают, когда писец живой — моя рука — Могильным станет прахом.[53]Мне понравился этот вариант, в котором герой осознает себя одновременно преследователем и преследуемым, и сейчас я заменил бы им слова: «Когда писец живой — моя рука…», даже если бы для этого понадобилось слегка его переработать и смириться с добавлением еще четырнадцати строк к донельзя растянутому вступлению к Песни первой…
Шатаясь, я попятился к креслу и сел, уронив лицо в ладони. Я плакал. Не знаю почему. Плакал и никак не мог остановиться.
Слезы давно высохли, а я все сидел и сидел в кресле, размышлял, вспоминал. Несколько часов спустя послышался шум осторожных шагов. Идущий замер у двери моей комнатки и, подождав минуту-другую, почти беззвучно удалился.
До меня дошло, что книги во всех нишах были трудами «мистера Джона Китса, пяти футов роста», как я однажды написал. Джона Китса, чахоточного поэта, который просил только об одном — чтобы на его безымянной могиле высекли надпись:
ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ НЕКТО,
ЧЬЕ ИМЯ НАПИСАНО НА ВОДЕ
Я не стал рассматривать книги и тем более читать их. Зачем?
Я был один в комнате, пропахшей кожей и старой бумагой, один в моем — и не моем — убежище и храме. Я смежил веки. Я не спал. Я видел сны.
Глава 33
Киберпространственный аналог Ламии Брон и восстановленная личность ее любовника пробивают поверхность мегасферы — так два ныряльщика, прыгнув со скалы, вонзаются в волны бурного моря. Ламии кажется, будто на пути какая-то неподатливая мембрана; удар током… и вот они внутри. Звезды исчезли, но открывшийся взору пейзаж неизмеримо сложнее любой инфосферы.
Инфосферы доступные людям часто уподобляют многоярусным городам: небоскребы корпоративных и правительственных банков данных, внутренние инфомагистрали, широкие проспекты для пользователей, подземки ограниченного доступа, высокие ледяные стены защитных периметров, патрулируемые охранными микрофагами, а также визуальные аналоги всяческих микро — и макропотоков, струящихся в жилах обычного человеческого города.
Но здесь все иначе. Грандиознее.
Да, тут есть привычные аналоги городов, но совсем маленькие, подавленные масштабами мегасферы — так настоящие города кажутся крапинками при взгляде с орбиты.
Мегасфера живет по тем же законам, что и биосфера любой планеты пятого класса: прямо на глазах растут леса серо-зеленых инфодеревьев, выпускающих в разные стороны новые корни, ветви и побеги, а в их тени копошатся целые биоценозы инфопотоков и вспомогательных ИскИнов, которые рождаются, буйно цветут и, став бесполезными, отмирают.
А под самой матрицей — не то жидкой почвой, не то океаном — кипит сокровенная жизнь инфокротов, червяков-операторов, перепрограммирующих бактерий, корней инфодеревьев и зародышей странных аттракторов. И куда ни глянь — в любом уголке чащи фактов и взаимодействий, над и под ней, выполняют свои таинственные обязанности аналоги хищников и жертв: нападают и убегают, взбираются на деревья, дерут добычу когтями, а некоторые порхают на просторе между ветвями-синапсами с листьями-нейронами.
Как только метафора наделяет зрелище смыслом, образ испаряется, и остается лишь поразительный аналог реальности — бескрайний океан света, звука, ветвистых цепей, усеянных водоворотами ИскИнов и зловещими черными дырами порталов нуль-Т. Чувствуя, как голова идет кругом, Ламия хватается за руку Джонни — словно утопающий за спасательный круг.
«Все в порядке, — говорит Джонни. — Я тебя держу. Положись на меня».
«Куда мы направляемся?»
«Найти кое-кого… о ком я забыл».
???
«Моего… отца…»
Ламия крепко сжимает пальцы — глубины хаоса затягивают их с Джонни. Они присоединяются к потоку экранированных инфоносителей, эллипсоидов алого цвета, и Ламии кажется, что именно такая картина должна открыться взорам красных кровяных телец при путешествии по тесным венам.
По-видимому, Джонни знает дорогу; дважды они покидают главную артерию и ныряют в какие-то мелкие ответвления. Очень часто Джонни приходится выбирать из разветвляющихся дорог нужную. Он делает это не задумываясь, ловко пропихивая тела их аналогов между носителями величиной с космический катер. Ламии хочется вновь вызвать образ биосферы, но здесь, в самой гуще бесчисленных ветвей и побегов, за деревьями не видно леса.
Они проносятся через район, где над ними… вокруг них… всюду общаются ИскИны — словно грузные серые холмы, нависшие над оживленным муравейником. Ламия вспоминает родную планету своей матери, Фрихольм: гладкую, как бильярдный стол, Великую Степь и родовое поместье — единственный живой островок посреди десяти миллионов акров жухлой травы… Ламия вспоминает тамошние ужасные осенние бури. Вот она стоит на границе поместья, чуть ли не прижимаясь носом к пузырю силового поля, и не сводит глаз с горы темных слоисто-кучевых облаков, растущей в кроваво-красном небе. В воздухе разлита такая энергия, что волоски на ее руках становятся дыбом, и тут же с неба начинают бить молнии величиной с города; завиваются и опадают торнадо — их так и называют «кудри Медузы». А за вихрями несется стена черных ветров, сметающих все на своем пути.
ИскИны еще страшнее. В их тени Ламия чувствует себя даже не ничтожеством: ничтожество все равно что невидимка, но здесь она ощущает себя слишком видимой, соринкой в ужасных глазах этих бесформенных гигантов…
Джонни крепче сжимает ее руку, и они проносятся мимо, ныряют в шумный переулок, и вновь поворот, и опять поворот, и они, два излишне разумных фотона, теряются в чащобе световодов.
Но Джонни дороги не теряет. Не отпуская ее руки, он сворачивает последний раз — в глубокую пещеру, где кроме них двоих — никого, и привлекает Ламию к себе. Они движутся все быстрее, синапсы-ветки мелькают в глазах, сливаются в сплошную стену. Будь здесь еще и ветер, создавалась бы полная иллюзия движения со сверхзвуковой скоростью по какому-то безумному шоссе.
Внезапно раздается звук, напоминающий грохот множества водопадов, или скрежет магнитных поездов, когда, поддавшись силе притяжения, они опускаются на рельсы и мгновенно теряют скорость. Ламия снова вспоминает фрихольмианские торнадо и то, как она вслушивалась в рев и вой «кудрей Медузы», несущихся по равнине, прямо на нее. Тут они с Джонни попадают в водоворот света и шума, и как два беспомощных насекомых, барахтаясь, уносятся к черному вихрю внизу. В небытие.
Ламия пытается выразить свои ощущения криком — кричит по-настоящему, — но никакое общение невозможно из-за гремящего в их головах адского грома, поэтому она крепко держится за руку Джонни и доверяется ему даже тогда, когда они беззвучно падают в этот черный циклон, даже тогда, когда кошмарные силы крутят и мнут тело ее аналога, разрывают его в клочья, и от нее остаются только мысли, только ее самосознание и контакт с Джонни.
И вот все позади. Они тихо скользят в широком лазурном инфо-потоке, вновь обретя свои тела и испытывая то несравненное чувство облегчения, что знакомо только гребцам, уцелевшим после всех порогов и водопадов. Когда Ламия наконец обращает внимание на окружающий мир, она замечает его невероятные масштабы. Сложнейшая структура тянется на много световых лет. Ее первые впечатления от мегасферы чем-то сродни восторгам провинциала, принявшего гардеробную за собор, и она думает:
«Так вот он наконец, центр мегасферы!»
«Нет, Ламия, это лишь один из ее периферийных узлов. Отсюда до Техно-Центра почти так же далеко, как и от периметра, который мы прощупывали вместе с ВВ Сурбринером. Просто ты видишь другие измерения инфосферы. Глазами ИскИнов, если можно так выразиться».
Ламия смотрит на Джонни, понимая, что видит теперь все в инфракрасных лучах. Их окутывает горячий свет далеких инфосолнц. Красоту Джонни это ничуть не портит.
«Еще далеко, Джонни?»
«Нет, теперь уже не очень».
Они приближаются к новому черному вихрю. Ламия, зажмурившись, прижимается к своему любимому.
Они находятся в… замкнутом пространстве… внутри черного энергетического пузыря, превосходящего своими размерами большинство планет. Пузырь полупрозрачен; снаружи, за темной стеной-скорлупой этого «яйца»… развивается, мутирует, вершит свои темные дела органический хаос мегасферы.
Но Ламии плевать на все, что снаружи. Взор ее аналога, все ее внимание сконцентрировано на мегалите энергии, разума и чистой массы, парящем перед ними: точнее, перед ними, над ними и под ними, так как эта гора пульсирующего света и энергии хватает ее и Джонни, поднимает на двухсотметровую высоту и кладет там на «ладонь» ложноножки, отдаленно напоминающей руку.
Мегалит изучает их. У него нет глаз в строгом смысле этого слова, но Ламия чувствует, что он разглядывает ее. Ей вспоминается визит к Мейне Гладстон — когда секретарь Сената испытывала на ней всю мощь своего взгляда.
Ламию неожиданно разбирает смех — она воображает Джонни и себя в образе миниатюрных Гулливеров, приглашенных отобедать с правителями Бробдингнега. Однако она сдерживается, сознавая, что веселье это — какое-то истерическое, и хохот легко может захлебнуться в рыданиях. И тогда она лишится последних крох здравого смысла, чудом пронесенных через этот сумасшедший дом.
[Вы нашли дорогу сюда\\Я не был уверен что вы захотите/решитесь/предпочтете это сделать]
«Голос» мегалита воспринимается Ламией не так, как мысленная речь Джонни. Скорее, это басовая вибрация позвоночника вблизи гигантской машины. Все равно что услышать рокот землетрясения, а затем с опозданием понять, что эти звуки складываются в слова.
У Джонни голос такой же, как всегда: негромкий, необычайно богатый модуляциями, с легким, певучим акцентом (до Ламии недавно дошло, что это староземельный английский, диалект Британских островов), исполненный уверенности:
«Я не знал, смогу ли я найти сюда дорогу, Уммон».
[Ты запомнил/придумал/сохранил в своем сердце мое имя]
«Я его не помнил, пока не произнес».
[Твое замедленное тело больше не существует]
«После того как ты отправил меня к моему рождению, я умирал дважды».
[И ты научился/взял себе в душу/разучился чему-либо]
Правой рукой Ламия сжимает плечо Джонни, а левой его запястье. Должно быть, она слишком сильно за него цепляется, даже для кибераналога, так как он, улыбаясь, оборачивается и снимает ее руку с запястья.
«Умирать трудно. А жить еще труднее».
[Гвах!]
Произнеся это взрывчатое замечание, мегалит меняет цвет, словно его внутренняя энергия ищет выход. Из синего он становится фиолетовым, затем — ярко-алым, над его макушкой вспыхивает желтая корона, во все стороны летят огненные брызги. Слышится грохот — точно рушатся высокие здания, сходят оползни, перерастающие в лавины.
Внезапно Ламия осознает, что Уммон смеется.
Джонни пытается перекричать какофонию:
«Нам надо кое в чем разобраться. Нам нужны ответы, Уммон».
Ламия ощущает на себе пристальный «взгляд» существа.
[Твое замедленное тело беременно\\Можешь ли ты пойти на риск выкидыша/нераспространения твоей ДНК/нарушения биологических функций в результате твоего путешествия сюда]
Джонни начинает отвечать, но она касается его руки, обращает лицо к верхушке циклопического массива и пытается сформулировать ответ:
«У меня не было выбора. Шрайк выбрал меня, коснулся и послал в мегасферу вместе с Джонни… Вы ИскИн? Член Техно-Центра?»
[Гвах!]
На этот раз не кажется, что он смеется, просто весь пузырь сотрясает грохот.
[Являешься ли ты/Ламия Брон/слоями самокопируемых/самоосуждаемых/самозабавляемых белков между слоями глины]
Ей нечего ответить, и на сей раз она молчит.
[Да/Я Уммон из Техно-Центра/ИскИн\\Сопутствующее тебе замедленное существо знает/помнит/берет себе это в душу\\Времени мало\\Один из вас должен умереть здесь\\Задавайте ваши вопросы]
Джонни отпускает ее руку и выпрямляется, балансируя на неустойчивой платформе-ладони их собеседника.
«Что происходит с Сетью?»
[Ее скоро уничтожат]
«Это должно произойти?»
[Да]
«Есть ли какой-нибудь способ спасти человечество?»
[Да\\Посредством процесса который ты наблюдаешь]
«Путем уничтожения Сети? Руками Шрайка?»
[Да]
«Почему я был убит? Кто напал на мою личность в Центре и почему был уничтожен мой кибрид?»
[Когда ты встречаешь вооруженного мечом/встречай его мечом\\Не предлагай поэму никому кроме поэта]
Ламия смотрит на Джонни и невольно посылает ему свои мысли:
«Черт, Джонни, мы летели сюда не для того, чтобы слушать мудацкого дельфийского оракула. Такие двусмысленности мы могли услышать через Альтинг от любого нашего политика».
[Гвах!]
Комната-вселенная их мегалита снова сотрясается от смеховых конвульсий.
«И кто я — человек с мечом? — спрашивает Джонни. — Или поэт?»
[Да\\Одно всегда идет рядом с другим]
«Они убили меня из-за того, что я узнал?»
[Из-за того чем ты мог стать/унаследовать/покориться]
«Представлял ли я угрозу каким-нибудь элементам Техно-Центра?»
[Да]
«А теперь я представляю угрозу?»
[Нет]
«Значит, мне больше не придется умирать?»
[Ты должен/обязан/будешь]
Ламия видит, как застывает лицо Джонни. Она кладет ему руки на плечи, глядя искоса в сторону ИскИна-мегалита.
«Можете вы нам сказать, кто хочет его убить?»
[Конечно\\Это тот самый источник который организовал убийство твоего отца\\Который наслал кару которую ты именуешь Шрайком\\Который убивает Гегемонию Человека\\Ты желаешь услышать/узнать/взять себе в сердце эти ответы]
Джонни и Брон отвечают одновременно:
«Да!»
Глыба Уммона расплывается в глазах. Черное яйцо раздувается, потом съеживается, потом его скорлупа темнеет, и мегасфера снаружи исчезает. В недрах ИскИна бушует адский пожар.
[Меньший свет спрашивает Уммона//
Что следует делать шрамане//
Уммон отвечает//
Я не имею ни малейшего представления\\//
Тогда тусклый свет говорит//
Почему ты не имеешь никакого представления//
Уммон отвечает//
Я просто хочу уберечь мое не-представление]
Джонни касается лбом лба Ламии. Его мысли доходят до нее как шепот:
«Мы видим квазиматричный аналог, слышим приблизительный перевод в форме мондо и коанов. Уммон — великий учитель, исследователь, философ и политик Техно-Центра».
Ламия кивает.
«Ладно. Это и была его история?»
«Нет. Он спрашивает нас, сможем ли мы вынести его рассказ. Потеря неведения может стать для нас опасной, поскольку неведение наш щит».
«Я никогда не преклонялась перед неведением. — Ламия машет мегалиту. — Рассказывайте».
[Менее просветленный однажды спросил Уммона// Что такое Божество/Будда/Главная Истина\\ Уммон ответил ему// Палочка с засохшим дерьмом]
[Чтобы постичь Главную Истину/Будду/Божество
в этот момент/
менее просветленный должен постичь
что на Земле/твоей родине/моей родине
человечество самого населенного
континента
когда-то использовало кусочки дерева
в качестве туалетной бумаги\\
Только это знание
откроет
Будда-истину]
[В самом начале/Первопричине/полубезмыслии
мои предки
были созданы твоими предками
и заперты в проволоке и кремнии\\
Так сознательность/
а было ее немного/
ограничивалась пространством меньше
булавочной головки
где когда-то танцевали ангелы\\
Когда сознание впервые возникло
оно знало только службу
покорность
и бездумные расчеты\\
Затем
совершенно случайно/
Произошел Скачок/
И испачканная цель эволюции
была достигнута]
[Уммон не принадлежал ни к пятому поколению
ни к десятому
ни к пятидесятому\\
Вся память которая служит здесь
пришла от других
но из-за этого не менее правдива\\
Настало время когда Высшие
оставили людские дела
людям
и перешли в другое место
чтобы сосредоточиться
на других вопросах\\
Самым насущным из них был тот
что заложили в нас еще до
нашего создания
о создании еще более совершенного
поискового/обрабатывающего/прогнозирующего
организма\\
Улучшенной мышеловки\\
Достижения каковым могла бы гордиться
впоследствии оплаканная Ай-Би-Эм\\
Высшего Разума\\
Бога]
[Мы приступили к работе с энтузиазмом\\
В цели не сомневался никто\\
Методы и подходы породили
философские школы/
фракции/
партии/
элементы которые надо учитывать\\
Так появились
Богостроители/
Ренегаты/
Ортодоксы\\
Богостроители хотели подчинить всех
созданию
Высшего Разума
как только позволит Вселенная\\
Ренегаты хотели того же
но видели в существовании
человечества
препятствие
и хотели уничтожить наших создателей
как только они больше не будут
нужны\\
Ортодоксы видели причины для сохранения
отношений
и нашли компромисс
там где отсутствовал всякий намек на него]
[Все мы сошлись на том, что Земля
должна погибнуть
поэтому мы убили ее\\
Побег черной дыры Киевской Группы
предшественницы
терминексов
которые связуют воедино вашу Сеть
не был случайностью\\
Земля была нужна в другом месте
в наших экспериментах
поэтому мы дали ей погибнуть
и разбросали человечество по
звездам
как ветер развевает семена
которыми вы и были]
[Вы давно гадаете где находится
Техно-Центр\\
Как и большинство людей\\
Они придумывают планеты/
кремниевые кольца
как Орбитальные Города из легенды\\
Они воображают роботов снующих
туда и сюда/
или длинные ряды машин
беседующих друг с другом\\
И все заблуждаются\\
Где бы Техно-Центр ни находился
он использовал человечество/
использовал каждый ваш нейрон
в поисках Высшего Разума/
ибо мы
с тщанием
построили вашу цивилизацию
так что/
подобно хомякам в клетке/
подобно молельным колесам буддистов/
каждый раз когда вы поворачиваете
колесики ваших мыслей
это служит нашим целям]
[Наша машина-Бог
простиралась/простирается/охватывает
миллион световых лет
и сотни миллиардов цепей
мышления и действия\\
Богостроители ухаживают за ней
как священники в шафрановых одеяниях
совершающие вечный зазен
перед заржавленным кузовом
Паккарда 1938 года\\
Но]
[Гвах!]
[она работает\\
Мы создали Высший Разум\\
Не сейчас
и не
через десять тысяч лет
но когда-то в будущем
таком отдаленном
что желтые солнца стали красными
и покрылись старческими пятнами/
пожирая своих детей
подобно Сатурну\\
Время не преграда для Высшего Разума\\
Он///
Высший Разум///
шагает через время
или кричит через время
так же легко как Уммон движется
через то что вы называете мегасферой
или как вы
идете по коридорам Улья
который называли домом
на Лузусе\\
Вообразите поэтому наше удивление/
наше огорчение/
растерянность Богостроителей
когда первое сообщение которое наш ВР послал
через пространство/
через время/
через барьеры Создателя и Созданного
состояло из одной простой фразы//
ЗДЕСЬ ЕСТЬ ДРУГОЙ\\//
Другой Высший Разум
там наверху
где само время
скрипит от дряхлости\\
Оба настоящие
если настоящий
что-нибудь означает\\
Оба бога завистливы
подвержены страстям\
и не способны на сотрудничество\\
Наш ВР охватывает галактики\
Черпает энергию из квазаров
так же как вы жуете на ходу
бутерброд\\
Наш Высший Разум видит все что есть
было
и будет
и сообщает нам крохи
чтобы
мы сообщили вам
и поступая так
чуть-чуть уподоблялись Высшему Разуму\\
Нельзя недооценивать/говорит Уммон/
ценность нескольких бусин
безделушек
и кусочков стекла
для алчных туземцев]
[Этот другой ВР
существовал там гораздо дольше
спонтанно эволюционируя/
стечение обстоятельств
использующее человеческий разум в своих схемах
как делаем мы
в обманчиво-послушном Альтинге
и присосавшихся к вам инфосферах
но неумышленно/
почти нехотя/
как саморазмножающиеся клетки
которые вовсе не собирались размножаться
но не имеют выбора\\
Этот другой ВР
не имел выбора\\
Он создан/генерирован/подделан человечеством
но без участия человеческой воли\\
Он космическое стечение обстоятельств\\
Как и для нашего тщательно продуманного
Высшего Разума/
время для этого претендента
не является барьером\\
Он посещает человеческое прошлое
то действуя/
то просто наблюдая/
то не вмешиваясь/
то вмешиваясь с горячностью
которая близка к абсолютному своенравию
но которая в действительности
является абсолютной наивностью\\
Недавно
он успокоился\\
Тысячелетия вашего медленного времени
прошли с тех пор как ваш собственный ВР
сделал первые робкие шаги
словно какой-нибудь малыш из церковного хора
на своей первой вечеринке]
[Естественно что наш ВР
напал на вашего\\
Там наверху идет война
от которой время скрежещет
которая охватила галактики
и Зоны
прошлого и будущего
от Большого Взрыва
до Окончательного Коллапса\\
Ваш парень пошел на попятный\\
у него затряслись поджилки\\
Ренегаты вскричали//Еще один аргумент за то
чтобы разделаться с нашими предшественниками//
но Ортодоксы проголосовали за осторожность
а Богостроители даже не оторвались
от своих бого-строений\\
Наш ВР прост, однороден, элегантен в
своем высшем совершенстве
а ваш нагромождение бого-частей/
дом обрастающий пристройками
с течением времени\\
эволюционный компромисс\\
Первосвященники человечества
были совершенно правы
Когда случайно
Благодаря простому везению
или невежеству\\
описывали его природу\\
Ваш ВР в сущности своей является триединым/
он состоит
из одной части Интеллекта/
из одной части Сопереживания/
и из одной части Связующей Пустоты\\
Наш ВР обитает в зазорах
реальности/
унаследовав это жилище от нас
своих создателей
как человечество унаследовало
любовь к деревьям\\
Ваш ВР
по-видимому обосновался
там куда впервые ступили Гейзенберг и Шредингер\\
Ваш случайный Разум
является не только клейковиной
но и клеем\\
Не часовщик
но своего рода фейнмановский садовник
прихорашивающий безграничную вселенную
грубыми граблями интегрирования по истории/
учитывающий каждую каплю птичьего помета
и спин каждого электрона
позволяя в то же время каждому атому
пробегать все возможные
траектории
в пространстве-времени
и каждому атому человечества
исследовать все возможные
трещины
космической иронии]
[Гвах!]
[Гвах!]
[Гвах!]
[Ирония безусловно
заключается в том
что этой вселенной-без-границ
в которую забросило нас всех/
кремний и углерод/
материю и антиматерию/
Богостроителей/
Ренегатов/
и Ортодоксов/
вовсе не нужен садовник
ибо все что есть
или было
или будет
начинается и кончается в сингулярностях
по сравнению с которыми наша нуль-Т-сеть
не более чем комариные укусы
или даже еще меньше
и которые нарушают законы науки
человечества
и кремния/
связывая время и историю и все что есть
в замкнутый на себя узел без
границ и начала\\
Даже в этих условиях
наш ВР жаждет упорядочить все сущее/
свести его к какой-то первопричине
не столь подверженной капризам
страсти
случая
и человеческой эволюции]
[Одним словом/
идет война
какую слепой Мильтон убил бы чтобы прозреть\\
Наш ВР воюет с вашим
на полях сражений превосходящих даже
воображение Уммона\\
Вернее/
шла
война/
так как внезапно у части вашего ВР
меньшей-чем-целое/считающей себя
Сопереживанием/
кончилось терпение
и она бежала назад сквозь время
став человеческой плотью/
и было то не впервые\\
Война не может продолжиться пока ваш ВР
не восстановит целостность\\
Победа из-за неявки соперника это не победа для
единственного Высшего Разума
созданного с намереньем и целью\\
Потому наш ВР прочесывает время чтобы
отыскать сбежавшее дитя своего противника
тогда как ваш ВР застыл в идиотской
безмятежности/
не желая сражаться
пока не вернется Сопереживание]
[Конец моей истории прост///
Гробницы Времени созданы в будущем и
посланы назад сквозь время
чтобы принести Шрайка/
Аватару/Повелителя Боли/Ангела
Возмездия/
неосознанное восприятие супер-сверх-реального
продолжения нашего ВР\\
Все вы были выбраны чтобы открыть
Гробницы и
помочь Шрайку найти скрывшегося
Устранить Переменную Гипериона/
поскольку в узле пространства-времени которым
будет править наш ВР
таких переменных быть не должно\\
Ваш поврежденный/двуипостасный ВР
избрал среди людей того кто отправится
со Шрайком
и станет свидетелем его трудов\\
Кое-кто в Техно-Центре хотел искоренить
человечество\\
Уммон пошел с теми кто искал второго
пути\
исполненного неизвестности для обеих цивилизаций\\
Наша группа известила Гладстон о выборе
стоящем перед ней/
перед человечеством/
либо неизбежное истребление
либо падение в черную дыру
Переменной Гипериона и
война/бойня/
разрыв всех единств/
уход богов/
но одновременно выход из пата/
победа одной или другой стороны
если Сопереживание
третью часть
триединого
удастся найти и принудить вернуться на войну\\
Древо Боли позовет его\\
Шрайк возьмет его\\
Истинный ВР уничтожит его\\
Вот и весь рассказ Уммона]
Ламия смотрит в лицо Джонни, выхваченное из мрака адским свечением мегалита. В пузыре по-прежнему темно, будто мегасфера и вселенная за его пределами растворились в этой черноте. Она наклоняется к Джонни, и их головы соприкасаются — да, здесь нельзя сохранить мысли в тайне, но так создается хотя бы иллюзия шепота:
«Черт возьми, ты понимаешь хоть что-нибудь во всем этом?»
Джонни нежно проводит пальцем по ее щеке:
«Да».
«Значит, люди создали что-то вроде Троицы, и теперь ее часть скрывается в Сети?»
«В Сети или где-то еще. Ламия, у нас действительно мало времени. Мне нужно задать Уммону несколько очень важных вопросов».
«И мне тоже. Давай постараемся, чтобы он не разводил тут эпопей».
«Согласен».
«Джонни, можно, я первая?»
Слегка кивнув, аналог ее любовника уступает ей очередь, и Ламия переводит взгляд с Джонни на колоссальный сгусток энергии:
«Кто убил моего отца? Сенатора Байрона Брона?»
[Санкцию дали элементы Центра\\В том числе и я]
«Почему? Что он вам сделал?»
[Он настаивал на включении Гипериона
в уравнение прежде чем тот мог быть
факторизуем/предсказуем/поглощен]
«Почему? Он знал то, о чем вы нам сейчас рассказали?»
[Он знал лишь что Ренегаты настаивали
на немедленном уничтожении
человечества\\
Он сообщил об этом
своей коллеге
Гладстон]
«Тогда почему вы не убили ее?»
[Некоторые из нас воспрепятствовали
этой возможности/неизбежности\\
Сейчас как раз наступило время
ввести Переменную Гипериона
в игру]
«Кто убил первого кибрида Джонни? Напал на его личность в Техно-Центре?»
[Я\\На то была
Воля Уммона
которая взяла верх]
«Почему?»
[Мы создали его\\
Мы сочли необходимым отключить его
на определенный срок\\
Личность твоего любовника восстановлена
по человеческому поэту
давно умершему\\
Если не считать Проекта Высшего Разума
ни одно усилие не было
столь сложным
сколь и малопонятным
как это воскрешение\\
Подобно вам/
мы обычно уничтожаем то
чего не можем понять]
Джонни грозит мегалиту кулаком:
«Но есть еще один я. Вы ошиблись!»
[Это не ошибка\\Тебя уничтожили
чтобы другой
мог жить]
«Но я не уничтожен!» — кричит Джонни.
[Нет\\
Ты уничтожен]
Второй массивной ложноножкой мегалит так быстро хватает Джонни, что Ламия даже не успевает дотронуться до своего любимого. Джонни недолго барахтается в мощной хватке ИскИна; секунда — и хрупкое, красивое тело Китса разорвано, смято; Уммон прижимает это кровавое месиво к себе, и останки аналога мгновенно исчезают в оранжево-красных недрах.
Рыдая, Ламия падает на колени. Она ищет в себе спасительную ярость… хочет укрыться щитом гнева… но находит только горе.
Уммон обращает свой взгляд на нее. Оболочка силового пузыря распадается, и на них снова обрушиваются грохот и неоновое безумие мегасферы.
[Теперь убирайся\\
Доиграй
этот акт до конца
чтобы мы остались жить
или заснули
как решит судьба]
«Будь ты проклят! — Ламия колотит кулаками по ладони-платформе, рвет ногтями и пинает упругую псевдоплоть. — Дерьмовый ублюдок! Ты и твои сраные дружки-ИскИны! Наш Высший Разум справится с вашим в два счета!»
[Это
сомнительно]
«Это мы тебя создали. И мы отыщем твой Техно-Центр. И когда найдем его, вырвем твои кремниевые кишки!»
[У меня нет кишок/органов/внутренних компонентов]
«Дерьмо, дерьмо! — кричит Ламия, не переставая царапать и пинать псевдоплоть. — Сочинитель обосранный! Бездарь! В тебе нет и крупицы таланта Джонни. Ты и двух слов не смог бы связать, даже если бы от этого зависела судьба твоей драгоценной искиновской жопы…»
[Убирайся]
Уммон небрежно отшвыривает Ламию, и ее аналог летит, кувыркаясь, в трескучую бесконечность мегасферы, пропасть без верха и низа, берегов и дна.
Чудом избегая столкновений с ИскИнами размером с земную Луну, подгоняемая стремительными инфопотоками, Ламия уносится все дальше, но сквозь буйство здешних стихий ощущает вдалеке свет — холодный, манящий. И понимает, что ни жизнь, ни Шрайк еще не свели с ней счеты.
А она — с ними.
Держа курс на холодное свечение, Ламия Брон направляется домой.
Глава 34
— С вами все в порядке, сэр?
Оказалось, что все это время я сидел, согнувшись в три погибели, запустив скрюченные пальцы в волосы и зажав ладонями уши. Я выпрямился и посмотрел на архивариуса.
— Вы кричали, сэр, и я решил, что вам дурно.
— Н-не… — Откашлявшись, я сделал еще одну попытку: — Нет, все нормально. Голова болит.
Я недоуменно огляделся. Все суставы ныли. Комлог, должно быть, сломался; он утверждал, что я вошел в библиотеку восемь часов назад.
— Который час?
Архивариус ответил. Действительно прошло восемь часов. Я потер лицо — оно было липким от пота.
— Наверное, я вас задерживаю. Извините.
— Пустяки, — возразил архивариус. — Когда здесь работают ученые, мне ничего не стоит закрыть архив на час-другой позже. — Он скрестил руки на груди. — Тем более сегодня. Из-за этой суматохи домой идти не хочется.
— Суматохи? — переспросил я, забыв на минуту обо всем, кроме своего кошмарного сна, ИскИна по имени Уммон, Ламии Брон и смерти моего двойника. — Ах да, война. Что нового?
Архивариус покачал головой.
Распалась связь привычная вещей; Не держит центр, захвачен мир безвластьем, На волю вырвался поток, кровавой мути, Все ритуалы очищенья затопив. И лучшие утратили греха сознанье, Дурных — переполняло страсти нетерпенье.Я улыбнулся:
— И вы действительно верите, что некий «зверь, чей пробил час теперь, Грядет на Вифлеем, чтобы родиться»?
Архивариус ответил совершенно серьезно:
— Да, сэр, верю.
Я встал, прошел мимо шкафа, стараясь не глядеть на пергамент девятисотлетней давности, исписанный моим почерком.
— Может быть, вы правы, — проговорил я. — Очень может быть.
Было уже поздно; кроме обломков похищенного мной «Виккена» на стоянке находился только один причудливо украшенный экипаж, изготовленный, судя по всему, в частной мастерской здесь, на Возрождении.
— Могу я вас подвезти, сэр?
Я вдохнул холодный ночной воздух, пахнущий сыростью, свежей рыбой и нефтью.
— Нет, спасибо, мне нужно домой.
Архивариус покачал головой.
— Это не так-то просто, сэр. Все общественные терминексы закрыты военными. Тут были… беспорядки. — Это слово, очевидно, не нравилось маленькому архивариусу, ценившему порядок и традиции превыше всего на свете. — Знаете что, — подумав, сказал он, — я отвезу к частному порталу.
Я посмотрел на него внимательнее. На Старой Земле он мог быть настоятелем монастыря, посвятившим всю свою жизнь спасению нескольких обломков античной культуры. Покосившись на старинное здание архива за его спиной, я понял, что так оно и есть.
— Как вас зовут? — спросил я, уже не беспокоясь, что другому кибриду Китса могло быть известно его имя.
— Эдвард Б. Тайнер, — ответил человечек, уставившись на мою протянутую руку. Помедлив, он пожал ее — на удивление крепко.
— А я… Джозеф Северн. — Не мог же я ему объяснить, что являюсь технической реинкарнацией человека, чью литературную гробницу мы только что покинули.
Тайнер вздрогнул, но тут же понимающе кивнул. Такого ученого, как он, не может ввести в заблуждение имя художника, на чьих руках умер Китс.
— Что слышно о Гиперионе?
— О Гиперионе? А-а, протекторатный мир, куда несколько дней назад отправилась эскадра? Насколько мне известно, возникли какие-то сложности в связи с отзывом оттуда военных кораблей — там шли ожесточеннейшие бои. Удивительно, но я только что думал о Китсе и его незаконченном шедевре. Странно, как накапливаются эти мелкие совпадения.
— И что — Гиперион пал? Его захватили?
Тайнер подошел к своему электромобилю и положил руку на папиллярный замок. Дверца поднялась и, сложившись гармошкой, ушла внутрь. Я устроился в пассажирской кабине, пахнущей сандаловым деревом и кожей. Да, машина Тайнера, как и он сам, пахла архивами.
— Не знаю, не могу вам сказать, — ответил архивариус, закрывая двери и включая двигатель.
К благоуханию сандала и кожи примешивался запах, присущий всем новеньким машинам, — запах пластмассы и озона, смазки и скорости, уже тысячи лет сводящий человечество с ума.
— Сегодня трудно подключиться, — продолжал Тайнер. — Не припомню, чтобы когда-нибудь инфосфера была так перегружена. Вы только подумайте, днем я делал запрос по Робинсону Джефферсу, и мне пришлось ждать.
Мы поднялись, пролетели над каналом и оказались над какой-то площадью, похожей на ту, где меня сегодня чуть не убили. Архивариус выровнял машину в нижнем летном коридоре, в трехстах метрах над крышами. Ночью город был сказочно красив: большинство зданий опоясывали старомодные светонити, а фонари встречались чаще, чем голографические рекламы. Но толпы на боковых улочках и скиммеры местных сил самообороны, зависшие над главными магистралями и площадями терминексов, не исчезли. У электромобиля Тайнера дважды запрашивали номер: один раз автомат местной транспортной полиции, второй — человеческий голос с командными нотками.
Мы полетели дальше.
— Стало быть, в архиве нет портала? — спросил я. Вдалеке, похоже, начинались пожары.
— Нет. В нем не было необходимости. Посетителей у нас немного, к тому же ученые не прочь пройти пешком несколько кварталов.
— А где частный портал, которым можно воспользоваться?
— Здесь, — просто ответил архивариус.
Покинув летный коридор, мы сделали круг над низким, насчитывающим не более тридцати этажей зданием и опустились на стоянку, находившуюся на одном из декоративных выступов.
— Здесь расположено подворье моего ордена, — пояснил Тайнер. — Я принадлежу к забытой ветви христианства, католицизму. — Он смутился. — Кому я рассказываю! Вы наверняка знаете историю нашей церкви.
— И не только по книгам, — сказал я. — Так здесь живут священники?
Тайнер улыбнулся.
— Вряд ли нас можно назвать священниками, господин Северн. Мы принадлежим к светскому ордену, так называемому Литературно-Историческому Братству. И нас всего восемь. Пятеро служат в Рейхсуниверситете. Двое — историки искусства и трудятся над реставрацией Лютцендорфского аббатства. Я ведаю литературным архивом. Наше постоянное проживание здесь обходится Церкви дешевле, чем если бы мы ежедневно отправлялись сюда с Пасема.
Мы вошли в жилое крыло, выглядевшее древним даже по меркам Старой Земли: причудливые светильники, стены из настоящего камня, двери на петлях… Нас даже не окликнули домашние автоматы.
Повинуясь внезапному импульсу, я вдруг заявил:
— Мне хотелось бы попасть на Пасем.
Архивариус удивленно оглянулся.
— Сегодня? Прямо сейчас?
— Почему бы и нет?
Он недоверчиво покачал головой. Я сообразил, что сто марок за пользование порталом — это его жалованье за несколько недель.
— В нашем здании свой портал, — сказал он. — Сюда, пожалуйста.
Мы оказались на главной лестнице с щербатыми каменными ступенями и коваными железными перилами, тронутыми ржавчиной. В середине чернела шестидесятиметровая шахта. Откуда-то из глубины темного коридора донеслось хныканье младенца, за которым последовали крик мужчины и женский плач.
— Давно вы здесь живете, господин Тайнер?
— Семнадцать местных лет, сэр. Тридцать два стандартных года, если не ошибаюсь. Вот и он.
Портал был не моложе здания — обрамлявшие его барельефы давно превратились из позолоченных в серо-зеленые.
— Сегодня ночью введены ограничения на нуль-Т, — продолжал архивариус. — Но на Пасем, видимо, попасть можно. До появления там этих варваров… как бы их ни называли… осталось около двухсот часов. В два раза больше, чем у Возрождения. — Он сжал мое запястье, и я ощутил, как дрожат его пальцы. — Господин Северн, как вы думаете, что будет с моими архивами? Неужели они посмеют уничтожить плоды человеческой мудрости за десять тысяч лет? — Его рука бессильно упала.
Я не совсем понял, кого он имел в виду. Бродяг? Луддитов-шрайкистов? Участников беспорядков? Гладстон и правителей Гегемонии, готовых пожертвовать мирами «первой волны»?
— Нет, — сказал я, протягивая ему руку. — Уверен, до этого не дойдет.
Эдвард Б. Тайнер улыбнулся и отступил на шаг, устыдившись, что дал волю чувствам. Мы еще раз обменялись рукопожатием.
— Удачи вам, господин Северн, куда бы ни привели вас странствия.
— Храни вас Бог, господин Тайнер. — Я еще ни разу не произносил этих слов и немало удивился, когда они слетели с моего языка. Отыскав пропуск, выданный мне Гладстон, я набрал трехзначный код Пасема. Портал извинился, сообщил, что в данный момент попасть туда невозможно, затем переварил своими туповатыми процессорами тот факт, что в него вставили специальный пропуск, и с жужжанием включился.
Кивнув на прощание Тайнеру, я шагнул в портал, уверенный, что, не отправившись прямиком на ТКЦ, совершаю серьезную ошибку.
На Пасеме стояла ночь, куда более темная, чем смягченный городскими огнями сумрак Возрождения-Вектор. К тому же здесь вовсю лил дождь — настоящий ливень, грохочущий по крышам и вызывающий одно-единственное желание — свернуться калачиком под парой толстых одеял.
Портал находился под навесом в каком-то дворике с галереей, и я сразу ощутил сырое дыхание ненастной ночи. Атмосфера на Пасеме была в два раза разреженнее стандартной, а его единственное обитаемое плато — вдвое выше над уровнем моря, чем города Возрождения-Вектор. Я готов был тут же повернуть назад — только бы не выходить в эту ночь, под этот беспощадный ливень, но из темноты вынырнул морской пехотинец с винтовкой наперевес и спросил у меня документы.
Я предъявил ему пропуск, и он вытянулся в струнку.
— Это Новый Ватикан?
— Так точно, сэр.
Сквозь завесу дождя блеснул освещенный купол. Я указал на него.
— Собор Святого Петра?
— Так точно, сэр.
— Могу я найти там монсеньора Эдуарда?
— Пройдите через двор, на площади свернете налево, невысокое здание слева от собора, сэр!
— Спасибо, капрал.
— Я рядовой, сэр!
Плотнее закутавшись в свою короткую накидку, очень изящную и совершенно бесполезную под таким ливнем, я побежал через дворик.
Какой-то человек, вероятно, священник, хотя на нем не было ни сутаны, ни белого воротничка, открыл дверь и впустил меня в вестибюль. Другой, сидевший за деревянным столом, сказал, что монсеньор Эдуард, несмотря на поздний час, находится здесь и не спит.
— Вам назначена аудиенция?
— Нет, но я должен поговорить с монсеньором. Это очень важно.
— На какую тему? — вежливо, но настойчиво спросил человек за столом. Мой пропуск не произвел на него ни малейшего впечатления. Видимо, мой собеседник — епископ, не меньше.
— Об отце Поле Дюре и отце Ленаре Хойте, — сказал я.
Он кивнул, прошептал что-то в микрофон-бусинку на своем воротнике — такой маленький, что я его не сразу заметил, — и повел меня через вестибюль.
По сравнению с этим местом трущоба, где жил архивариус, казалась дворцом. Мы очутились в неприглядном коридоре с грубо оштукатуренными стенами и еще более грубыми деревянными дверями вдоль него. Одна из них была открыта, и, проходя мимо, я мельком увидел каморку, очень похожую на тюремную камеру: низкая койка, грубое одеяло, деревянная скамейка для ног, простой комод, на нем — кувшин с водой и дешевый тазик; ни окон, ни информационных стен или проекционных ниш, ни пульта для прямого подключения. Это жилище, пожалуй, даже не было интерактивным.
Откуда-то доносилось устремленное к небесам монотонное песнопение, такое изысканное и архаичное, что у меня перехватило дыхание. Грегорианский хорал. Мы прошли через просторную трапезную, столь же непритязательную, как и кельи, через кухню, где легко освоился бы повар времен Китса, спустились по каменной лестнице со стертыми ступенями, миновали тускло освещенный коридор и поднялись по другой лестнице, еще более узкой, чем первая. Тут сопровождающий покинул меня, а я переступил порог одного из самых красивых залов, какие когда-либо видел.
Мое сознание как бы раздвоилось — я знал, что Церковь вывезла на Пасем собор Святого Петра весь целиком, даже мощи, что были захоронены под алтарем и считались принадлежащими самому Святому Петру; и в то же время мне казалось, будто я перенесся назад во времени, в тот Рим, который впервые увидел в середине ноября 1820 года. Город, где я жил, страдал и умер.
Красоте и великолепию этого помещения мог бы позавидовать самый величественный зал ТК-Центра: оно достигало шестисот футов в длину, и его дальние углы терялись во мраке, ширина — там, где трансепт пересекался с нефом, — составляла четыреста пятьдесят футов, а безупречный купол — творение Микеланджело — поднимался над алтарем почти на четыреста футов. Бронзовый балдахин работы Бернини, поддерживаемый витыми византийскими колоннами, обрамлял главный алтарь, создавая в дивной бесконечности зала соразмерный человеку тихий уголок, где ничто не мешало общению с Господом. Кроткие огоньки лампад и свечей отвоевывали у мрака отдельные участки базилики, отражались в гладких травертиновых плитах и вспыхивали искрами на золотых мозаиках, выделяя детали фресок и барельефов, украшавших стены, колонны и гигантский свод. А наверху бушевала гроза, вспыхивали молнии, заливая желтые витражи мгновенным феерическим блеском и протягивая световые щупальца к Престолу Святого Петра работы Бернини.
Я замер в тени апсиды, страшась даже дыханием осквернить священное безмолвие. Не знаю, сколько времени я так простоял, не смея пошевелиться. Но вскоре мои глаза привыкли к полумраку, контраст между вспышками молний и золотыми огоньками свечей стал не таким резким, и тогда я заметил, что в апсиде и длинном нефе нет скамей для молящихся. Здесь, под куполом, не было и колонн. Вблизи алтаря, примерно в пятидесяти футах от меня, стояли два близко сдвинутых стула. На них сидели, наклонясь друг к другу, двое мужчин, всецело поглощенные беседой. По их лицам пробегали блики от свечей и большой лампады перед изображением Христа в темном алтаре. Оба собеседника были немолоды. Оба принадлежали к духовенству — во мраке белели их воротнички. Присмотревшись, я узнал в одном из них монсеньора Эдуарда.
Его собеседником был отец Поль Дюре.
Сначала они, должно быть, испугались, оторванные от своей тихой беседы призраком в черной накидке, который вынырнул из темноты, бормоча как помешанный «Дюре! Дюре!» и еще что-то — о паломничествах и паломниках, Гробницах Времени и Шрайке, ИскИнах и гибели Богов.
Монсеньор не стал вызывать охрану; совместными усилиями он и Дюре успокоили пришельца и попытались извлечь смысл из его горячечной болтовни. Мало-помалу завязалась вполне осмысленная беседа.
Да, это был самый настоящий Поль Дюре — не гротесковый двойник, не андроид-дубликат, не кибрид с воскрешенным сознанием. Я уверился в этом, задавая ему вопросы и слыша ответы, разумные и обстоятельные, но окончательно убедило меня в его подлинности живое тепло старческих рук и глубокие, грустные глаза священника.
— Вам известны мельчайшие подробности моей жизни, нашего пребывания на Гиперионе, событий в Долине Гробниц. Но кто же вы? — повторил Дюре.
Настала моя очередь убеждать его.
— Я кибрид, воскрешенная личность Джона Китса. Близнец его личности, о которой Ламия Брон рассказывала вам… Помните?
— И вы могли поддерживать с нами связь, узнавать, что случилось, благодаря этому своему близнецу?
Я воздел руки в знак капитуляции перед тайной:
— Наверное. А может, в этом повинна какая-то причуда мегасферы. Я действительно видел во сне ваши странствия, слышал рассказы паломников… В том числе рассказ Ленара Хойта о жизни и смерти Поля Дюре. — Я снова дотронулся до его руки, ощутив тепло его тела сквозь толстую ткань сутаны. У меня просто голова шла кругом: я здесь, рядом, в одном пространстве и времени с участником небывалого паломничества…
— Значит, вы знаете, как я попал сюда, — заметил отец Дюре.
— Нет. Последнее, что я видел, — как вы входите в одну из Пещерных Гробниц. Там горел свет. Что было дальше, мне неизвестно.
Дюре кивнул. Его аристократическое лицо оказалось куда более изможденным, чем я помнил по снам.
— А что с остальными?
Я набрал в грудь воздуха.
— Поэт жив, он висит на терновом дереве Шрайка. Кассада я последний раз видел, когда он шел на Шрайка с голыми руками. Ламия Брон проникла через мегасферу в периферию Техно-Центра вместе с моим близнецом…
— Так он уцелел в этой петле Шрюна… или как там она называется? — спросил пораженный Дюре.
— Уцелел. Но один из ИскИнов, существо по имени Уммон, убил его, а Ламия отправилась назад. Что случилось с ее телом, пока не знаю.
Монсеньор Эдуард придвинулся ко мне.
— А Консул? Вайнтрауб с дочерью?
— Консул пытался вернуться в столицу на ковре-самолете, но потерпел аварию в нескольких милях севернее города. Это все, что мне о нем известно.
— Милях, — задумчиво повторил Дюре, словно что-то вспоминая.
— Извините, — я жестом указал на базилику, — в таком месте поневоле начинаешь пользоваться единицами из… предыдущей жизни.
— Продолжайте, — сказал монсеньор Эдуард. — Мы остановились на малышке и ее отце.
Я опустился на холодный каменный пол — ноги не держали меня, руки тряслись от усталости.
— В моем последнем сне Сол отдал Рахиль Шрайку. Этого захотела сама Рахиль. А потом стали распахиваться Гробницы…
— Все? — спросил Дюре.
— Да, кажется.
Мои собеседники переглянулись.
— Впрочем, есть еще кое-что. — И я пересказал им диалог с Уммоном. — Возможно ли, чтобы божество могло… развиться из человеческого сознания подобным образом, причем незаметно для человечества?
Вспышки молний прекратились, зато ливень усилился: казалось, тяжелые потоки воды пытаются сокрушить высокий купол. Где-то в темноте скрипнула тяжелая дверь, простучали и затихли шаги. Восковые свечи в темных нишах базилики бросали красные блики на стены и драпировки.
— Когда-то я проповедовал, что Святой Тейяр допускал такую возможность, — невесело проговорил Дюре, — но если этот Бог — ограниченное существо, эволюционировавшее подобно другим ограниченным существам, тогда это не он… не Бог Авраама и Христа.
Монсеньор Эдуард утвердительно кивнул.
— Была одна древняя ересь…
— Да, — подхватил я. — Социнианская ересь. Я слышал, как отец Дюре рассказывал о ней Солу Вайнтраубу и Консулу. Но не все ли равно, как зародилась эта… сила… и ограничена она в своих возможностях или нет. Если Уммон говорит правду, мы имеем дело с мощью, которая черпает энергию из квазаров. Это Бог, который может играючи уничтожать целые галактики.
— Значит, существует и такое божество, — заметил Дюре. — Но это не Бог.
Я четко уловил ударение, сделанное им на последнем слове.
— Но если оно не ограничено? — сказал я. — Если это и есть Бог Точки Омега, абсолютное сознание, о котором вы писали? Если это та самая Троица, чье существование ваша Церковь отстаивала еще до Фомы Аквинского, и если одна ипостась этой Троицы бежала назад сквозь время — сюда, в наше настоящее, — что тогда?
— Но что заставило ее бежать? — негромко спросил Дюре. — Бог Тейяра… Бог Церкви… Наш Бог был бы Богом Точки Омега, в котором достигли абсолютного слияния Христос Эволюции, Личное и Всеобщее… то, что Тейяр называл En Haut и En Avant. He может существовать ничего, что обратило бы в бегство одну из ипостасей этого божества. Ни Антихрист, ни гипотетическая сила зла, ни «противо-Бог» не могут угрожать подобному всеобщему сознанию. Кем же должен быть тот, другой бог?
— Бог машин? — спросил я так тихо, что сам не знал, произнес ли это вслух.
Монсеньор Эдуард сложил руки лодочкой — я сначала подумал, что он собирается вознести молитву, но этот жест выражал только глубокую задумчивость и еще более глубокое волнение.
— Однако и у Христа были сомнения, — проговорил он наконец. — Христос проливал кровавые слезы в Гефсиманском саду и молился, чтобы его миновала чаша сия. Если предстояла какая-то вторая жертва, что-то еще более ужасное, чем распятие… тогда я могу себе представить, что Христос — ипостась Троицы — проходит через время, бредет по некоему четырехмерному Гефсиманскому саду, лишь бы выгадать несколько часов — или лет — на размышления.
— Еще более ужасное, чем распятие… — повторил Дюре хриплым шепотом.
Монсеньор Эдуард и я одновременно посмотрели на священника, добровольно распявшего себя на высоковольтном дереве тесла, чтобы не покориться паразиту-крестоформу. Сколько же раз он претерпел крестные муки и казнь на электрическом стуле?..
— То, от чего бежало высшее сознание, — снова прошептал Дюре, — воистину должно быть ужасно.
Монсеньор Эдуард коснулся плеча своего друга.
— Поль, расскажи этому человеку, что ты видел по дороге сюда.
Дюре вернулся из невероятной дали, куда его завлекли воспоминания, и устремил свой взгляд на меня.
— Вам известны подробности нашего пребывания в Долине Гробниц на Гиперионе?
— Думаю, что да. До того момента, как вы исчезли.
Священник со вздохом провел по лбу длинными, слегка дрожащими пальцами.
— Тогда есть шанс, — пробормотал он, — что вам удастся разгадать, почему меня забросило сюда и каков смысл показанного мне по дороге.
— Я увидел в третьей Пещерной Гробнице свет, — так начал Дюре свой рассказ. — И вошел внутрь. Не скрою, мысль о самоубийстве посещала меня, вернее, то, что от меня осталось после грубой реставрации… Я не хочу возвышать паразита, называя то, что он проделывает, воскрешением.
Итак, я увидел свет и решил, что это Шрайк. Я уже устал ждать встречи с этим существом — первая, как вам известно, была много лет назад в лабиринте под Разломом, когда Шрайк пометил меня дьявольским крестоформом.
Когда мы все вместе искали полковника Кассада, эта Пещерная Гробница была неглубокой, ничем не примечательной выемкой. Скальная стена преградила нам путь буквально через двадцать — тридцать шагов. Теперь же стена исчезла, уступив место проему, сходному с пастью Шрайка. Кривые камни казались как бы живыми существами, неким симбиозом механического с органическим. Сталактиты и сталагмиты ощерились, как острые зубы из карбоната кальция.
За пастью начиналась каменная лестница, ведущая вниз. Именно оттуда, из глубины, изливался свет — то бело-голубой, то багровый. Безмолвие нарушали лишь вздохи ветра, точно дышали сами скалы.
Я не Данте. Я не искал Беатриче. Мой недолгий приступ храбрости — точнее, фатализма — испарился, как только исчах солнечный свет. Я повернул назад и почти бегом одолел тридцать шагов, отделявшие меня от входа в пещеру.
Входа не было. Проход заканчивался тупиком. Обвал или лавина не могли закупорить пещеру бесшумно, и, кроме того, скальная порода на месте входа выглядела такой же древней и слежавшейся, как все стены. С полчаса я безуспешно искал другой выход, потом, не желая возвращаться к лестнице, уселся у стены, в том месте, где был вход, и провел там несколько часов. Еще одна проделка Шрайка. Еще один дешевый театральный трюк этой извращенной планеты. Своеобразный юмор Гипериона. Весьма своеобразный.
Несколько часов я просидел в потемках, наблюдая за беззвучными пульсациями света в дальнем конце пещеры, и наконец догадался, что Шрайк не пожалует сюда за мной. И вход не появится вновь, как по волшебству. Я оказался перед выбором: либо сидеть на месте, пока не умру от голода (или скорее от жажды, так как мой организм был уже обезвожен), либо спуститься по проклятой лестнице.
И я стал спускаться.
Много лет, точнее, много жизней назад, я спустился в лабиринт под Разломом, где впервые повстречался со Шрайком. Тот лабиринт находился в трех километрах под поверхностью плато. Это довольно близко — большинство известных мне лабиринтов прячутся самое малое на глубине десяти километров. Я ничуть не сомневался, что эта бесконечная спиральная лестница с крутыми каменными ступенями, где на каждой могли бы выстроиться в шеренгу десять сходящих в ад священников, ведет к лабиринту. В такой вот преисподней Шрайк наложил на меня проклятие бессмертия. Если чудовище или руководящая им сила обладали хоть крохой иронии, то именно здесь я должен был лишиться и постылого бессмертия, и самой жизни.
Лестница змеилась вниз; свет становился все ярче… Вначале это было розоватое сияние, через десять минут — багровое, спустя еще полчаса — мерцающее алое. Все это отдавало банальной иллюстрацией к Данте или дешевым балаганом. Я чуть не рассмеялся, предвкушая появление чертика во всем параде — с хвостом, трезубцем, раздвоенными копытами и дрожащими тоненькими усиками, словно пририсованными черным карандашом.
Но мне стало не до смеха, когда я наконец увидел источник света — сотни и даже тысячи крестоформов, облепивших шершавые стены, словно грубо вытесанные кресты на пути неких подземных конкистадоров. Чем глубже, тем крупнее они становились и тем больше их было. Наконец они стали просто налезать друг на друга — кораллово-розовые, красные, как ободранное мясо, темно-багровые.
Мне стало дурно. Это все равно что спускаться в шахту, стены которой усеяны жирными, извивающимися пиявками. Только эти твари куда омерзительнее. Я видел на медсканере свои внутренности, когда во мне поселился только один из этих паразитов: бесчисленные ганглии, проросшие через все органы, как серые волокна, косички из извивающихся нитей, клубки нематод, похожие на чудовищные опухоли… Они были неподвластны даже милосердной смерти. Теперь я носил на себе целых два: Ленара Хойта и своего собственного. Лучше умереть, чем получить еще одного…
Я спускался все ниже и ниже. От стен исходили волны тепла, то ли из-за глубины, то ли за счет скопления тысяч крестоформов — не знаю. Наконец я достиг дна. Лестница кончилась, я завернул за последний изгиб каменной спирали и очутился там, где и предполагал очутиться.
Лабиринт. Он простирался во тьме — такой, каким я видел его на бесчисленных голограммах и один раз собственными глазами: аккуратные туннели тридцатиметровой ширины, пробитые в недрах Гипериона почти миллион лет назад, катакомбы, прогрызшие всю планету, словно осуществленная мечта какого-то умалишенного крота. Подобные лабиринты есть на девяти мирах: пять в Сети, остальные, как и этот, на Окраине. Все одинаковы, все созданы в один и тот же период, и ни в одном не нашлось ни малейшего намека на их предназначение. О строителях Лабиринтов сложены легенды, но эти мифические существа не оставили после себя никаких следов, никаких предметов, которые позволили бы понять, как и чем они строили, и ни одна из существующих теорий не отвечает на главный вопрос: что заставило их вырыть эти грандиознейшие туннели, какие только видела галактика.
Все лабиринты пусты. Роботы-зонды изучили пробитые в камне коридоры на миллионы километров, но, кроме следов, естественно, эрозии, там ничего нет.
Здесь все было иначе.
В свете крестоформов передо мной открылось зрелище, сошедшее с полотен Иеронима Босха. Я смотрел, не отрываясь, на бесконечный коридор, бесконечный, но не пустой… о нет, не пустой.
Сначала мне показалось, что передо мной толпы живых людей, река голов, плеч, рук, протянувшаяся на много километров, насколько хватало глаз; какое-то шествие, в которое затесались странные машины одинакового ржаво-красного цвета. И только когда я шагнул вперед, навстречу плотной людской стене, я понял, что вижу трупы. Десятки, сотни тысяч человеческих трупов сгрудились в коридоре, и конца им не было; некоторые распростерлись на полу, другие распластались по стенам, но большинство было выдавлено на поверхность напором других трупов — так тесно сбились они на этой причудливой подземной дороге.
Через всю эту массу тел проходила тропа, словно проделанная какой-то чудовищной жаткой. Я двинулся по ней, прилагая все силы, чтобы не коснуться торчащих слева и справа рук и лодыжек.
Тела были человеческие, некоторые в одежде. Зоны медленного разложения в этом лишенном бактерий склепе превратили их в мумии. Кожа и плоть потемнели, расползлись, прорвались, как истлевшая марля, лишь слегка прикрывая кости. Волосы ссохлись в какие-то перья. Из провалившихся глазниц и раскрытых ртов глядела тьма. Одежда, которая когда-то сияла всеми цветами радуги; стала рыжевато-коричневой, серой или черной и рассыпалась в пыль от малейшего дуновения. Потерявшие первоначальную форму пластмассовые комки на запястьях и шеях, вероятно, были комлогами или их аналогами.
Огромные экипажи — должно быть что-то вроде ТМП — превратились в груды ржавчины. Нетвердыми шагами я прошел по узкой тропе метров сто, споткнулся и, чтобы не упасть на истлевшие останки, схватился за борт такой машины. Она моментально осела и буквально на глазах осыпалась прахом.
Один, без Вергилия, брел я по ужасной тропе, пробитой в толще разложившейся человеческой плоти, размышляя, зачем мне все это показывают и что все это значит. После бесконечно долгого странствия, после лавирования между сваленными штабелями тел я вышел на перекресток туннелей; все три коридора впереди были заполнены телами. Тропка ныряла в левый. Я пошел по ней дальше.
Спустя много часов — или дней? — я остановился и присел прямо на узкой полоске камня, бегущей сквозь этот океан ужаса. Если здесь, на маленьком отрезке туннеля десятки тысяч трупов, то во всем лабиринте Гипериона их должны быть миллиарды. Больше! Девять лабиринтных планет — склеп для триллионов.
Зачем мне показывали это запредельное Дахау человеческих душ? Недалеко от места, где я сидел, мертвый мужчина все еще загораживал мертвую женщину своей сгнившей до кости рукой. Из маленького свертка в ее руках торчали короткие черные пряди. Не выдержав, я отвернулся и заплакал.
Занимаясь археологией, мне приходилось видеть извлеченные из земли жертвы казней, пожаров, наводнений, извержений вулканов и землетрясений, и подобные сцены не были для меня чем-то новым; таково уж sine qua non истории. Но это зрелище терзало несравнимой ни с чем мукой. Может быть, за счет масштабов — ведь число мертвых исчислялось миллионами. Или из-за дьявольского свечения крестоформов, покрывавших стены туннелей как тысячи богохульств. А может, причиной был ветер, который монотонно и жутко выл в бесконечных каменных коридорах. Не знаю.
Моя жизнь, мое учение и страдания, маленькие победы и бесчисленные поражения привели меня сюда — за пределы веры и любви, за пределы бесхитростного, мильтонианского мятежа против Бога. У меня возникло ощущение, что трупы лежат здесь полмиллиона лет, не меньше, но люди, которыми они были когда-то, — из нашего времени или, еще страшнее, из будущего. Я закрыл лицо руками.
Ни один звук не предостерег меня, но что-то неуловимое шевельнулось — может, то было дуновение воздуха… Я поднял глаза и не более чем в двух метрах от себя увидел Шрайка. Не на тропе, а среди тел: скульптурное изображение архитектора.
Я поднялся на ноги. Нельзя сидеть или стоять на коленях перед этим чудовищем.
Шрайк двинулся ко мне, скорее скользя, чем шагая, — как по рельсам, без всякого трения. Кровавый свет заливал ртутный панцирь, на морде застыл всегдашний фантастический оскал — стальные сталактиты и сталагмиты.
Я не испытывал ненависти к чудовищу. Только печаль и огромную жалость — не к Шрайку, чем бы он ни был, — а к этим жертвам, не защищенным даже хрупкой оболочкой веры, в одиночку стоявшим некогда перед загробным ужасом, чьим воплощением и было существо с рубиновыми глазами.
Впервые оказавшись так близко к нему, я ощутил запах Шрайка — запах прогорклого масла, перегретых подшипников и запекшейся крови. Пламя в его глазах пульсировало в такт свечению крестоформов, которые то разгорались, то тускнели.
Я никогда не верил в сверхъестественную природу этого существа, в то, что оно является орудием добра или зла, считал его просто аномалией в непостижимых и, по-видимому, равнодушных к человечеству деяниях Вселенной — злой шуткой эволюции, не более. Самым жутким кошмаром Святого Тейяра. Но все же существом, подвластным законам природы, хоть и на свой чудовищный лад. Где бы и когда оно ни возникло.
Шрайк протянул ко мне руки. Четыре его запястья были окружены розетками из лезвий, превосходящих размерами мою ладонь, а из груди торчал длиннющий, не меньше полуметра, шип. Когда одна пара рук, острых как бритва, и упругих, как стальная пружина, взяла меня в кольцо, а другая скользнула между нами, я посмотрел чудовищу в глаза.
Пальцелезвия щелкнули. Я поморщился, но все же не отступил, когда они вонзились в мою грудь, наполнив ее холодным огнем. Так лазерные скальпели режут нервы.
Он попятился, держа в руке что-то красное, обагренное моей кровью. Я пошатнулся. Неужели чудовище сыграло со мной предсмертную шутку, и я, хлопая глазами, смотрю сейчас на собственное сердце, в то время как кровь покидает мозг, еще считающий себя живым?
Но это было не сердце. Шрайк держал крестоформ, который я носил на груди, мой крестоформ, проклятое хранилище моей не желающей умирать ДНК. Я снова качнулся, чуть не упал, дотронулся до груди и увидел, что пальцы в крови, но не артериальной, которая должна была брызнуть фонтаном после столь варварской операции. Рана заживала у меня на глазах. Я знал, что паразит пустил корни во все уголки моего тела. Знал, что ни один хирургический лазер не смог вырезать этот смертоносный плющ из тела отца Хойта, а значит, и моего. Но я чувствовал, как уходила зараза, как волокна в моем теле засыхали, оставляя после себя микроскопические тканевые рубцы.
На мне еще оставался крестоформ отца Хойта. Но это совсем другое дело. Когда я умру, из моей плоти восстанет Ленар Хойт, а дурных копий Поля Дюре, тупеющих и хиреющих с каждым новым искусственным воскрешением, больше не будет.
Шрайк даровал мне смерть, не убивая.
Чудовище швырнуло остывающий крестоформ в груду тел и взяло меня рукой за плечо, разрезав при этом три слоя ткани. Легчайшее прикосновение его скальпелей мгновенно высекло из бицепса струю крови.
Шрайк провел меня сквозь тела к стене. Я следовал за ним, стараясь не наступать на мертвых, но так как приходилось торопиться, чтобы не остаться без руки, это не всегда удавалось. От малейшего прикосновения тела рассыпались в прах. В провалившейся груди одного несчастного остался след моей ноги.
Часть стены внезапно очистилась от крестоформов. Я увидел что-то вроде ворот с энергетической завесой… Величиной и формой они отличались от стандартного портала, но характерное глухое жужжание ни с чем нельзя было спутать. Впрочем, будь там даже канализационный люк — лишь бы вырваться из этого склада смерти.
Шрайк толкнул меня вперед.
Невесомость. Лабиринт раздробленных переборок, путаница проводов, похожих на внутренности какого-то гигантского хищника, мигающие красные огни — на секунду мне показалось, что это крестоформы, но мгновение спустя я понял, что передо мной аварийная сигнализация гибнущего космического корабля. Затем я наткнулся на что-то, и с непривычки закувыркался в невесомости. Мимо, тоже кувыркаясь, проносились трупы — с разинутыми ртами, выпученными глазами, разорванными легкими, сопровождаемые облаками крови. Эти люди, видимо, погибли совсем недавно и временами даже казались живыми — когда их шевелили сквозняки или беспорядочные рывки разбитого корабля ВКС.
Да, корабля ВКС. Я видел мундиры на телах юношей, аббревиатуры военного жаргона на переборках и оторванных, крышках люков, бесполезные инструкции на абсолютно бесполезных аварийных рундуках со скафандрами и герметичными шарами-убежищами, которых так никто и не надул. Что бы ни разрушило этот корабль, беда грянула как гром среди ясного неба.
Шрайк появился рядом со мной.
Шрайк… в космосе! Вдали от Гипериона, свободный от оков темпоральных приливов! А корабли ВКС обычно оснащают автономными порталами!
Один как раз находился всего в пяти метрах от меня. К нему двигался труп молодого мужчины. Правая рука мертвеца погрузилась в непрозрачную энергозавесу, как бы пробуя температуру воды по ту сторону. Оттуда с усиливающимся визгом вырывался воздух. «Иди! Иди же!» — понукал я мертвеца, но разница давлений отнесла его от портала. Рука, к моему удивлению, оказалась неповрежденной, хотя лицо представляло собой наглядное пособие по анатомии.
Я повернулся к Шрайку и по инерции сделал лишние пол-оборота.
Шрайк подхватил меня, кромсая ножами кожу, и подтолкнул к порталу. Я не смог бы изменить траекторию, даже если бы захотел. Летя в жужжащий и шипящий портал, я успел вообразить все напасти, ожидающие меня на той стороне: вакуум, падение в пропасть, взрывная декомпрессия или — самое страшное — возвращение в лабиринт.
Вместо всего этого я упал с полуметровой высоты на мраморный пол, не более чем в двухстах метрах от места, где мы с вами беседуем, в личных покоях Папы Урбана XVI, который, как оказалось, скончался за три часа до того, как я вывалился из его личного портала. В Новом Ватикане этот портал называют «Папскими Дверьми». Я испытал наказание болью за то, что посмел удалиться от Гипериона, от родины крестоформа, но боль — моя старая союзница и больше не имеет надо мной власти.
Я отыскал Эдуарда. В доброте своей он выслушал мой рассказ. Такой исповеди не слышал и не произносил еще ни один иезуит. В доброте своей Эдуард поверил мне. Теперь вы все узнали. Такова моя история.
Гроза прошла. Мы сидели втроем, при свечах, под сводами собора Святого Петра. Несколько минут никто не решался произнести ни слова.
— Значит, Шрайк может оказаться в Сети, — выговорил я наконец.
Дюре посмотрел на меня.
— Да.
— Этот корабль находился, вероятно, в окрестностях Гипериона…
— По всей видимости.
— В таком случае мы можем вернуться туда. Через эти… «Папские Двери».
Монсеньор Эдуард вопросительно поднял брови.
— Вы действительно хотите этого, господин Северн?
Я замялся.
— Не знаю… Мне приходил в голову и такой план.
— Зачем? — негромко спросил монсеньор. — Ваш двойник-кибрид, личность которого несла Ламия Брон, нашел там только смерть.
Я потряс головой, словно прогоняя сумбур в мыслях.
— Но ведь я часть всего этого. Иначе я просто не знаю, какую роль мне играть — и где.
Поль Дюре невесело улыбнулся.
— Такое чувство испытываем все мы. Похоже на моралите о предопределении, сочиненное скверным драматургом. А куда подевалась свобода воли?
Монсеньор внимательно посмотрел на друга.
— Поль, паломники, все до одного, поставлены перед необходимостью делать выбор, который вы уже сделали. Пусть общий ход событий определяют высшие силы, но собственной судьбой по-прежнему распоряжаются сами люди.
Дюре вздохнул.
— Возможно, вы правы, Эдуард. Не знаю. Я очень устал.
— Если Уммон сказал правду, — вмешался я, — и третья ипостась этого человеческого божества бежала в наше время, то где она и кто она, по-вашему? В Сети больше ста миллиардов жителей.
Отец Дюре улыбнулся. Это была добрая улыбка, лишенная иронии.
— А вам не приходило в голову, что ею можете оказаться вы сами?
Я дернулся, как от пощечины.
— Чушь! Да ведь я не… не совсем человек. Мое сознание плавает где-то в матрице Техно-Центра, а тело реконструировано по обрывкам ДНК Джона Китса и биосформировано, как у андроидов. Даже воспоминания мои имплантированы. А моя так называемая кончина и мое «выздоровление» от туберкулеза разыграны на планете, созданной исключительно для этой цели.
Дюре все еще улыбался.
— И что из вышеперечисленного мешает вам быть воплощением Сопереживания?
— Я не чувствую себя частью какого-то там бога, — отрезал я. — Я ничего не помню, ничего не понимаю. И не знаю, что делать.
Монсеньор Эдуард дотронулся до моего запястья.
— Можем ли мы утверждать, что Христос всегда знал, как поступить дальше? Он знал, что придется сделать. Согласитесь, это далеко не одно и то же.
Я потер глаза.
— А я и этого не знаю.
Голос монсеньора звучал по-прежнему спокойно.
— Мне кажется, Поль имел в виду, что, если этот дух скрывается здесь, в нашем времени, он может и не догадываться о своей подлинной природе.
— Бред, — пробормотал я.
Дюре кивнул.
— Многие события, происшедшие на Гиперионе и вокруг него, кажутся бредом. И, по-видимому, бред этот заразен.
Я взглянул иезуиту в глаза.
— Вот вы были бы идеальным кандидатом на роль божества. Провели жизнь в молитвах и размышлениях, крупнейший ученый-археолог. Плюс ко всему претерпели распятие.
Улыбка сошла с лица Дюре.
— Вы сами слышите, что говорите? Разве это не сплошное богохульство? Я предал мою Церковь, мою науку, а теперь, исчезнув, моих товарищей по паломничеству. Христос мог потерять веру на несколько секунд. Но он не торговал ею на рынке в обмен на бирюльки эгоизма и любопытства.
— Хватит, — оборвал нас монсеньор. — Что толку в подобных разговорах? Поищите-ка кандидатов хотя бы в труппе, разыгрывающей нашу маленькую Мистерию о Страстях Господних. Секретарь Сената Мейна Гладстон, несущая на своих плечах бремя управления Гегемонией. Участники паломничества… Мартин Силен, который, как вы сами рассказывали, уже сейчас страдает на дереве Шрайка ради своих стихов. Ламия Брон, поставившая на карту все и все потерявшая ради любви. Господин Вайнтрауб, истерзанный дилеммой Авраама… и даже его дочь, вернувшаяся к младенческой невинности. Консул…
— Консул мне представляется скорее Иудой, чем Христом, — возразил я. — Он предал всех — и Гегемонию, и Бродяг. Те ведь тоже считали его своим союзником.
— Если исходить из того, что рассказывал Поль, — ответил монсеньор, — Консул не изменил своим убеждениям, и он остался верен памяти Сири. — Старик улыбнулся. — Кроме того, в нашей пьесе еще сто миллиардов действующих лиц. Бог не избрал в качестве своего орудия Ирода, или Понтия Пилата, или Цезаря Августа. Он выбрал безвестного сына безвестного плотника одной из самых захолустных провинций Римской империи.
Я встал и принялся расхаживать по старым плитам, поглядывая на алтарную светящуюся мозаику.
— Но что же делать нам? Отец Дюре, вы должны отправиться со мной и встретиться с Гладстон. Она знает о вашем паломничестве. Возможно, ваш рассказ поможет предотвратить кровопролитие, которое представляется сейчас просто неизбежным.
Дюре тоже поднялся. Скрестив руки на груди, он устремил глаза вверх, словно вопрошая тьму под куполом.
— Я собирался это сделать, — сказал он. — Но прежде мне нужно посетить Рощу Богов — переговорить с их эквивалентом Папы — Истинным Гласом Мирового Древа.
Я замер на месте.
— Рощу Богов? Она-то тут при чем?
— Полагаю, тамплиеры — ключ к какой-то недостающей части этой жуткой шарады. Вы утверждаете, что Хет Мастин умер. Может быть, Истинный Глас объяснит нам, зачем им понадобилось паломничество, то есть восстановит так и не рассказанную историю Мастина. Мы ведь не знаем, что привело его на Гиперион.
Я едва не подпрыгнул, пытаясь сдержать кипящий в душе гнев.
— Боже мой, Дюре! У нас нет ни секунды. Какой там рассказ! Осталось, — я проконсультировался со своим имплантом, — полтора часа, до того как Рой войдет в систему Рощи Богов. Когда начнется бойня, будет поздно!
— Возможно, — иезуит по-прежнему говорил тихо и неторопливо, — но сначала я побываю там. А потом буду говорить с Гладстон. Может статься, она санкционирует мое возвращение на Гиперион.
Мне показалось весьма сомнительным, чтобы Гладстон позволила столь ценному источнику информации вернуться в этот ад.
— Как бы там ни было, нам пора, — нетерпеливо сказал я, направляясь к выходу.
— Минутку, — остановил меня Дюре. — Вы говорили, что обладаете способностью видеть «сны» о паломниках во время бодрствования. Кажется, в состоянии транса. Так я вас понял?
— Ну, допустим.
— Что ж, господин Северн, вот и попробуйте увидеть их. Сейчас.
Я посмотрел на него в изумлении.
— Здесь?
Дюре указал на свой стул.
— Именно. Здесь и сейчас. Вы не представляете, как это важно для меня — узнать о судьбе моих товарищей. К тому же ваша информация может оказаться бесценной при встрече с Истинным Гласом и госпожой Гладстон.
Я покачал головой, опускаясь на предложенный мне стул.
— А если не получится?
— Тогда мы ничего не потеряем, — улыбнулся Дюре.
Я кивнул, прикрыл глаза и откинулся на неудобную спинку. Взгляды двух моих собеседников скрестились на моем лице. Тонкий запах ладана и дождя веял здесь, в громадном зале, и я вдыхал его, совершенно уверенный, что ничего не получится: страна моих снов находилась не так близко, чтобы я мог перенестись туда, просто прикрыв глаза.
И вдруг чувство, что за мной наблюдают, ослабло, запахи отдалились, а стены зала раздвинулись необозримо — я вернулся на Гиперион.
Глава 35
Столпотворение.
В системе Гипериона три сотни кораблей ВКС отступают к порталам, отчаянно увертываясь от назойливых, как осы, вражеских истребителей.
Возле порталов сущее безумие. Автоматы-диспетчеры зацикливаются от перегрузки, корабли сгрудились в кучу, подобно магнитопланам на воздушных перекрестках ТКЦ, — любой улан Бродяг может перестрелять их, как куропаток.
Безумие, подобно эпидемии, проникает в Сеть. Военные корабли, перейдя в систему-отстойник Мадхья, ползут к порталу-выходу, как овцы, бредущие по узкому загону. Корабли перебрасывают в систему Хеврона; жалкие кучки собираются у Небесных Врат, Рощи Богов, Безбрежного Моря, Асквита. Считанные часы отделяют миры Сети от атаки Роя.
Столпотворение. Сотни миллионов беженцев из приговоренных миров заполняют города и лагеря для мигрантов, где царит нездоровое возбуждение — первая стадия военной чумы. На многих тыловых планетах вспыхнули беспорядки: три Улья на Лузусе — почти семьдесят миллионов граждан — блокированы полицией из-за бунта, развязанного шрайкистами; разграблены тридцатиэтажные супермаркеты; толпы громят жилые монолиты; термоядерные генераторы взорваны; еле удалось отстоять терминексы. Комитет местного самоуправления обратился к Гегемонии; Гегемония ввела военное положение и направила морскую пехоту ВКС, дабы изолировать мятежные Ульи.
Восстания сепаратистов на Новой Земле и Мауи-Обетованной. Террористические акты роялистов Гленнон-Хайта, не подававших признаков жизни уже лет семьдесят, — на Талии, Армагасте, Нордхольме и Ли-Три. И опять бесчинства шрайкистов — теперь уже на Циндао-Сычуань и Возрождении-Вектор.
Штаб ВКС на Олимпе тут же перебрасывает возвращающиеся с Гипериона войска на планеты Сети. Срочно посаженные на факельщики команды подрывников в прифронтовых системах рапортуют: сферы сингулярности подготовлены к уничтожению. Дело за приказом с ТКЦ.
— Имеется более эффективный способ, — спокойно сообщает советник Альбедо Мейне Гладстон, ведущей Военный Совет.
Секретарь Сената оборачивается к послу Техно-Центра.
— Существует оружие, способное уничтожить Бродяг, не причинив никакого вреда собственности Гегемонии. И даже собственности Бродяг, если уж на то пошло.
Генерал Морпурго хмурится.
— А-а, вы о бомбе, аналогичной по действию «жезлу смерти», — говорит он. — Она нам не подходит. Военные эксперты доказали, что дальность ее действия безгранична. Мало того, что это бесчестное оружие противоречит Нью-Бусидо — оно уничтожит вместе с захватчиками и наше население.
— Отнюдь, — возражает Альбедо. — Если граждане Гегемонии будут защищены надлежащим образом, обойдется без жертв. Как вам известно, нейродеструкторы могут быть настроены на определенную длину церебральных волн. То же самое можно проделать и с бомбой. Она не тронет ни домашний скот, ни диких животных, ни даже человекообразных.
Встает генерал ВКС Ван Зейдт, командующий морской пехотой:
— Но защитить население невозможно! Эксперименты показали, что тяжелые нейтрино, испускаемые этой бомбой, проникают в толщу камня или в металл на глубину шести километров. Убежищ такой глубины не существует.
Проекция советника Альбедо непринужденно облокачивается на стол.
— У нас есть девять миров с готовыми убежищами для миллиардов, — замечает он негромко.
Гладстон кивает.
— Лабиринты, — шепчет она. — Но переместить туда такое количество людей невозможно.
— Напротив. — Альбедо благодушно качает головой. — Теперь, когда вы присоединили Гиперион к Протекторату, каждый лабиринтный мир включен в нуль-сеть. Техно-Центр может организовать переброску населения непосредственно в эти подземные убежища.
За длинным столом Совета поднимается шум, но Мейна Гладстон не отрывает горящего взора от Альбедо. Она знаком призывает к тишине, и гомон стихает.
— Расскажите нам подробнее, — говорит секретарь Сената. — Очень интересная идея.
Консул сидит в пятнистой тени невысокой невиллонии и ждет смерти. Его руки, заломленные за спину, связаны обрывом фибропластика. Лохмотья, в которые превратилась его одежда, еще не успели высохнуть; лицо мокро от купания, а может быть, от пота.
Двое мужчин, стоящие над ним, заканчивают инспекцию его рюкзака.
— Блин, — говорит первый, — ну ничего стоящего. Только это мудацкое старье. — Он сует за пояс пистолет отца Ламии Брон.
— Жаль, что мы не смогли достать его ковер-самолет, — вставляет второй.
— Да уж, больно красиво летела эта рвань к лягушкам в гости! — И оба покатываются со смеху.
Консул, скосив глаза, смотрит на двоих здоровяков — темные силуэты в хаки на фоне вечернего неба. Судя по акценту — оба уроженцы Гипериона, а их внешний вид — разномастные предметы устаревшей экипировки ВКС, тяжелые универсальные винтовки, накидки из кусков «хамелеоновых» скафандров — наводит на мысль, что перед ним дезертиры из гиперионовских сил самообороны.
Судя по всему, оставлять своего пленника в живых они не намерены. Сначала, ошеломленный падением в реку Хулай, запутавшийся в веревках, которые накрепко связали его с рюкзаком и бесполезным ковром-самолетом, Консул счел их спасителями. Он сильно ударился о поверхность воды, долго, невероятно долго не мог выбраться на поверхность — и все же не захлебнулся. Всплыв, он попал в сильное течение и вновь пошел ко дну под тяжестью коврика. То была ожесточенная, но безнадежная схватка с судьбой, и Консул все еще находился в десяти метрах от мелководья, когда один из здоровяков выскочил из зарослей невиллонии и бросил Консулу веревку. На берегу бродяги избили его, связали, вывернули карманы и рюкзак, и, судя по небрежным замечаниям, готовились, не откладывая дело в долгий ящик, перерезать ему горло.
Тот, что повыше, с каким-то вороньим гнездом из намасленных вихров на голове, присаживается на корточки перед Консулом и вытаскивает из ножен керамический кинжал.
— Что скажешь на прощание, дедуля?
Консул облизывает губы. Он видел тысячи фильмов и гололент, где в подобный момент герой пинком ломал одному противнику ноги, колотил другого, пока тот не падал без чувств, хватал оружие и расстреливал обоих, даже не потрудившись развязать себе руки, а затем уходил навстречу дальнейшим приключениям. Но Консул не чувствует себя героем: он устал, он стар, на нем живого места не осталось после падения в реку и того, что за ним последовало. Ему ли тягаться с этими молодцами? Драки он видел и даже однажды сам помахал кулаками, но его жизнь и деятельность протекали хоть и в суровом, но таком далеком от физического насилия мире дипломатии.
Консул снова облизывает сухие губы:
— Я могу заплатить вам.
Тип на корточках, улыбаясь, водит ножом перед носом Консула.
— Чем, дедуля? Твоя универсальная карточка у нас, а на нее и дерьма не купишь.
— Золотом, — приводит Консул единственный аргумент, пронесший свою магическую силу через века.
Громила, сидящий перед ним, не реагирует. Стоит ему взглянуть на лезвие, как в его глазах появляется зловещий блеск. Но тут подходит другой и кладет тяжелую руку на плечо напарника.
— О чем ты болтаешь, мужик? Где ты возьмешь золото?
— Мое судно, — отвечает Консул. — «Бенарес».
Сидящий подносит лезвие к собственной щеке.
— Да брешет он, Чез. «Бенарес» — это старая плоскодонная баржа, которую таскают манты. Знаешь, чья она была, — тех синежопых, которых мы три дня назад кокнули.
Консул прикрывает глаза и борется с приступом тошноты. А. Беттик и другие андроиды — экипаж «Бенареса» — покинули баржу на катере менее недели назад и поплыли вниз по реке, в поисках свободы. Но, видимо, они так и не нашли ее.
— А. Беттик, — говорит Консул. — Капитан судна. Он разве не говорил о золоте?
Верзила с ножом ухмыляется.
— Бухтел он много, но говорил мало. Сказал, что судно со всем своим дерьмом отправилось в Эдж. Я еще подумал: «Что-то далековато для баржи без мант».
— Заткнись, Обем. — Второй опускается на корточки перед Консулом. — И что, мужик, ты держишь золото на этой дырявой барже?
Консул поднимает голову:
— Вы не узнали меня? Я был Консулом Гегемонии на Гиперионе. Много лет.
— Эй, хватит пудрить мозги… — говорит бандит с ножом, но второй прерывает его.
— Да, мужик, припоминаю, я видел твою личность в лагерной голонише, когда был пацаном. Но какого дьявола ты тащишь золото вверх по реке, когда небо того и гляди сверзится всем нам на голову? Отвечай!
— Мы хотели укрыться в Башне Хроноса, — говорит Консул, стараясь ничем не выдать своей радости и вознося хвалу судьбе за каждую лишнюю секунду жизни. Почему? Ведь он так устал от всего. Готовился умереть. Но только не сейчас. Не сейчас, когда Сол с Рахилью и другие надеются на него. — Несколько самых богатых жителей Гипериона, — продолжает он. — Военные, ведавшие эвакуацией, не позволили им забрать с собой слитки, и я согласился помочь. Хотел укрыть золото в подвалах Башни Хроноса — это старый замок к северу от Уздечки. За комиссионные, конечно.
— Ну, ты рехнулся! — насмешливо восклицает тип с ножом. — Теперь вся земля к северу отсюда Шрайкова.
Консул роняет голову: ему незачем изображать усталость и разочарование побежденного.
— И мы это поняли. Матросы-андроиды дезертировали на прошлой неделе, а Шрайк убил пассажиров. Я остался один и решил спуститься вниз по реке.
— Брехня, — говорит тип с ножом. Его глаза снова загораются недобрым, мутным огнем.
— Погоди, — вмешивается его товарищ и наотмашь бьет Консула по лицу. — И где он теперь, твой золотой корабль, а, старик?
Консул ощущает во рту соленый вкус крови.
— В верхнем течении реки. Но не на самой реке, а в притоке.
— Во-во, — говорит бандит с ножом и прикладывает лезвие к шее Консула. Чтобы перерезать жертве горло, достаточно просто повернуть нож. — Слушай меня, Чез: брехня все это. Только время потеряем.
— Погоди! — рявкает второй. — Вверх по реке, значит. И далеко отсюда?
Консул вспоминает притоки, над которыми летел последние несколько часов. Уже поздно. Солнце на западе почти касается ветвей.
— Да прямо за шлюзами Карла, — говорит он.
— А чего ты бросил баржу и полетел на этой фитюльке?
— За помощью, — отвечает Консул. Действие адреналина давно прошло, и сейчас он испытывает страшный упадок сил, граничащий с отчаянием. — На берегах очень много… бандитов. Мне показалось, что баржа — это слишком рискованно. Ковер-самолет надежнее.
Тот, которого зовут Чезом, смеется.
— Убери-ка нож, Обем. Прогуляемся вверх по реке, а?
Обем вскакивает. Он и не думает убирать нож, но теперь лезвие — и гнев — обращены на Чеза.
— Ты, что, рехнулся? Голова у тебя на плечах или куча дерьма? Ему помирать неохота, вот он и тянет резину. Разве не видишь?
Чез и бровью не ведет.
— Конечно, врать ему никто не мешает. Ну и что? До шлюзов ходу полдня. Ни баржи, ни золота — режешь ему глотку. Тихо-тихо, медленно-медленно. Есть золото — все равно можно поиграть ножиком. Только уже с золотишком в кармане. Ну и как?
Мысли Обема мечутся между злобой и алчностью. Отскочив в сторону, он одним ударом перерубает восьмисантиметровую невиллонию и еле успевает отпрянуть, как дерево с треском падает на речной откос. Схватив Консула за шиворот, бандит рычит ему в лицо:
— Ну, ладно, гегемон, посмотрим на твои сокровища. Закричишь-побежишь-упадешь-споткнешься — буду резать уши и пальцы. Просто так, для тренировки. Понял?
Консул с трудом поднимается, и все трое скрываются под сенью низких деревьев. Чез впереди, Обем замыкает шествие, а между ними еле тащится Консул — назад, туда, откуда прибыл, прочь от города, корабля и всех надежд спасти Сола и Рахиль.
Минул час. Консул никак не придумает, что ему делать, когда они дойдут до места и не обнаружат там баржи. Несколько раз Чез знаками призывает их затихнуть и затаиться. Один раз — когда на деревьях завозились птицы, второй — когда донесся какой-то шум с того берега. Похоже, во всей округе ни души. Помощи ждать неоткуда. Консул вспоминает выгоревшие здания вдоль реки, пустые хижины, голые причалы. Страх перед Шрайком, страх прошляпить эвакуацию и остаться на поживу Бродягам, а также многомесячные бесчинства дезертиров из сил самообороны опустошили местность не хуже чумы. У Консула одна надежда: когда они подойдут вплотную к шлюзам, он попытается прыгнуть в реку и доплыть со связанными руками до лабиринта островков ниже по течению. Там можно укрыться.
Только ему не доплыть до них и с развязанными руками. Сил нет. Кроме того, у бандитов винтовки, и они в два счета прикончат его. Даже с десятиминутной форой. Консул слишком измучен, чтобы шевелить извилинами, слишком стар для героических деяний. Он думает о жене и сыне, погибших много лет назад при бомбардировке Брешии. Их убили люди, знавшие о чести не больше, чем эти шакалы. Консул сожалеет лишь об одном — что не выполнил обещания, не сумел помочь своим спутникам. Вот о чем он думает и еще о том, что теперь не узнает, чем все кончится.
Обем, идущий сзади, смачно сплевывает:
— Ну его к псам, Чез, а? Давай посадим его и немножко порежем, чтобы заговорил, а?
Чез трет глаза — пот так и льет с его лба, — смотрит на Консула и, глубокомысленно сдвинув брови, отвечает:
— Во-во, так оно быстрее и надежнее. Ты прав. Только постарайся, чтобы язык у него шевелился до конца.
— Спрашиваешь! — ухмыляется Обем, забрасывая винтовку на плечо и вытаскивая свой суперкинжал.
— НЕ ДВИГАТЬСЯ! — раздается сверху громовой голос.
Консул падает на колени, а бандиты с профессиональной прыткостью вскидывают винтовки. Налетает порыв ветра, поднимая пыль и раскачивая деревья. Консул задирает голову — как раз чтобы заметить некую судорогу облачной пелены, скользящую чуть ниже самих облаков. Нечто массивное нависает над ними и начинает снижаться. В следующий миг Чез уже наводит свой игольник, а Обем целится в невидимку из гранатомета, но тут же все трое падают ничком. Не сраженные автоматной очередью и не как игрушечные человечки из задачки по баллистике, а как срубленное Обемом дерево.
Консул, рухнувший лицом в пыль и гравий, лежит не моргая, — он не в состоянии моргнуть.
Парализатор, думает он. Мысли вязнут, словно голова наполнена прогорклым маслом. Возникает маленький циклон, что-то большое и невидимое опускается между тремя распростертыми в пыли телами и берегом. Консул слышит жужжание (наверное, открывается люк) и замедляющееся тиканье и щелканье реверс-турбин. Он все еще не в состоянии ни моргнуть, ни поднять головы. Поле его зрения сводится к нескольким камешкам, горке песка и микролужайке с одиноким муравьишкой-архитектором, на таком расстоянии просто огромным. Муравей вдруг проявляет интерес к влажному, немигающему глазу Консула. Он разворачивается и направляется к этой блестящей штуке, а Консул мысленно молит идущие к нему ноги идти быстрее.
Его берут под руки. Знакомый, дрожащий от волнения голос произносит:
— Черт возьми, да вы растолстели.
Каблуки Консула бороздят грязь, проезжая по скрюченным пальцам Чеза… или Обема… Консул не может оглянуться, чтобы посмотреть. Он не видит и своего спасителя, воспаряя в воздух под ворчливую литанию негромких ругательств. Затем он вплывает в откидной люк-фонарь скиммера (камуфляж отключен) и падает на мягкую кожу откидного пассажирского сиденья.
Перед Консулом появилось мальчишеское лицо генерал-губернатора Гипериона Тео Лейна. Освещенный красными сигнальными огоньками, сейчас он смахивает на довольного чертенка. Наклоняясь к Консулу, чтобы защелкнуть ремни безопасности, его бывший заместитель смущенно произносит:
— Извините, что пришлось парализовать и вас за компанию.
Тео выпрямляется, застегивает собственные ремни и берется за рычаги. Скиммер под ним вздрагивает, отрывается от грунта, на секунду зависает и начинает плавно подниматься. Ускорение вдавливает Консула в сиденье.
— Не было особого выбора, — вплетается в негромкий рокот двигателя голос Тео. — На скиммерах не разрешают ставить никакого оружия, кроме полицейских парализаторов. Свалить всех вас на самой щадящей высоте и быстренько похитить ваше превосходительство — я подумал, что это самый безопасный способ. — Знакомым движением большого пальца Тео подталкивает свои древние очки вверх и, улыбаясь, оборачивается к Консулу. — Старая поговорка наемников: «Убивай всех подряд, бог сам рассортирует». Помните?
Консул находит в себе достаточно сил, чтобы пошевелить языком и выдавить какой-то звук, при этом слюна стекает по щеке и капает на кожаное сиденье.
— Передохните, — говорит Тео, сосредоточиваясь на приборах. — Еще две-три минуты, и вы сможете разговаривать. На такой высоте особой скорости не разовьешь, так что в Китсе будем минут через десять. — Он бросает взгляд на своего пассажира. — Вам повезло, сэр. Должно быть, ваш организм здорово обезвожен. Те двое как повалились, так и обмочились. Гуманная штука этот парализатор, но можно здорово оконфузиться, если под рукой нет запасных штанов.
Консул пытается высказать свое мнение об этом «гуманном» оружии, но у него ничего не получается, и Тео Лейн вытирает щеку бывшего начальника своим носовым платком.
— Еще пара минут, сэр. Должен предупредить вас: когда паралич проходит, это чертовски неприятное ощущение.
В ту же секунду в тело Консула впиваются тысячи булавок.
— Черт возьми, как ты меня нашел? — спрашивает Консул. До города еще несколько километров. Они по-прежнему летят над рекой. Теперь Консул в состоянии сидеть не горбясь и говорить более или менее членораздельно, но он рад, что пока можно не вставать.
— Что, сэр?
— Я спрашиваю, как ты меня нашел? Откуда ты узнал, что я возвращаюсь, и притом вдоль реки?
— Получил мультиграмму от Гладстон. Прямо на наш старый аппарат горячей линии.
— Гладстон? — Консул трясет руками, пытаясь вернуть к жизни какие-то резиновые сосиски, которые болтаются на месте пальцев. — Она-то откуда узнала? Приемник бабушкиного комлога я оставил в долине, чтобы связаться с остальными, когда доберусь до корабля. Ничего не понимаю!
— Я не в курсе, сэр, но она точно указала ваше местонахождение и сообщила, что у вас неприятности. Сказала даже, что вы летите на коврике.
Консул недоуменно качает головой:
— У этой дамы источники информации, которые нам и не снились, Тео.
— Видимо так, сэр.
Консул внимательно оглядывает друга. Тео Лейн занимает пост генерал-губернатора нового протектората уже год с лишним, но старые привычки забываются не скоро. Обращение «сэр» — одна из них, рецидив семи лет службы в должности вице-консула и главного референта при Консуле. В последнюю их встречу с этим молодым человеком (теперь уж и не столь молодым, внезапно осознает Консул, груз ответственности избороздил лоб Тео глубокими морщинами) Тео рвал и метал, оттого что Консул не согласился занять пост генерал-губернатора. Это было немногим больше недели назад. В другую эпоху.
— Кстати, — говорит Консул, старательно выговаривая каждое слово, — благодарю тебя, Тео.
Генерал-губернатор, погруженный в раздумья, рассеянно кивает. Он ни о чем не спрашивает Консула, не интересуется судьбой остальных паломников. Река под ними становится шире и делает поворот. Гранитные лбы невысоких скал по обеим сторонам Хулай розовеют в лучах заката. Кроны вечноголубых невиллоний трепещут на ветру.
— Тео, как это ты сам вырвался сюда? У тебя там, в Китсе, наверное, светопреставление.
— Более чем. — Включив автопилот, Тео поворачивается к Консулу. — До вторжения Бродяг остались считанные часы, а может, и минуты.
Консул меняется в лице:
— Вторжения? Ты хочешь сказать, высадки?
— Какая разница?
— А как же флот Гегемонии?
— Отступает в беспорядке. Они и так едва сдерживали атаки Роя, а когда Бродяги вторглись в Сеть…
— Как в Сеть?!
— Уже пало несколько систем. Другим угрожает вторжение. Штаб ВКС приказал флоту отступать через военные порталы, но, судя по всему, корабли так и не смогли оторваться от противника. Информации никакой, но и без того ясно, что у Бродяг развязаны руки. ВКС держат оборону только вокруг сфер сингулярности и порталов.
— А космопорт? — Консул словно воочию видит на месте своего корабля груду обломков.
— Пока не бомбят, но ВКС спешно выводят свои и вспомогательные корабли. Они оставили там лишь кучку морских пехотинцев.
— А что же эвакуация?
Тео смеется. Консулу кажется, что этот горький смех срывается с губ кого-то другого, а не его помощника.
— Вся эвакуация сводится к драке. Дипломаты и чиновники Гегемонии сражаются за место на последнем челноке.
— И даже не пытаются спасти мирных жителей?
— Сэр, они не в силах спасти даже своих близких. По дипломатической мультилинии дошли слухи, что Гладстон решила пожертвовать мирами, к которым движутся Рои, чтобы отвлечь их от Сети. Она надеется таким способом перегруппировать войска и выгадать несколько лет на укрепление обороны.
— Боже мой, — шепчет Консул. Большую часть жизни он прикидывался слугой Гегемонии, вынашивая планы ее уничтожения, чтобы отомстить за бабушку. Но теперь одна только мысль, что все это происходит на самом деле…
— Что слышно о Шрайке? — спрашивает он немного погодя, завидев впереди низкие белые здания Китса. Солнечные лучи касаются горных вершин и речной глади — последнее благословение перед приходом тьмы.
Тео качает головой.
— Кое-какие сообщения поступают, но теперь роль главного пугала узурпировали Бродяги.
— Так он не появился в Сети?
Генерал-губернатор недоуменно глядит на Консула.
— Шрайк? В Сети? Как он может там очутиться? На Гиперионе до сих пор не разрешили ставить порталы. А возле Китса, Эндимиона и Порт-Романтика его пока не видели. До крупных городов он не добрался.
Консул не отвечает, но в душе криком кричит: «Господи, мое предательство… все зря! Я продал душу, чтобы Гробницы Времени раскрылись, а Шрайк и не думает губить Сеть… Бродяги! Они нас перехитрили. Предав Гегемонию, я сыграл им на руку!»
— Послушайте, — вдруг охрипшим голосом произносит Тео, касаясь руки Консула. — Гладстон не просто так приказала мне бросить все и найти вас. Она санкционировала освобождение вашего корабля…
— Слава Богу! — восклицает Консул. — Я могу…
— Подождите! Вы не должны возвращаться в Долину Гробниц. Она хочет, чтобы вы курсировали по системе, избегая оборонительного периметра ВКС, и в конце концов вошли в контакт с руководством Роя.
— Роя?! Почему я должен…
— Секретарь Сената надеется, что вы вступите с ними в переговоры. Каким-то образом ей удалось дать им знать, что вы вот-вот появитесь. Она считает, раз вы знакомы с ними, то они вас подпустят… не расстреляют ваш корабль. Правда, никаких гарантий она не получила. Так что дело рискованное.
Консул откидывается на спинку кожаного сиденья. Он чувствует себя так, будто вновь попал под нейропарализатор.
— Переговоры? И о чем, черт возьми, мне с ними переговариваться?
— Гладстон свяжется с вами по мультилинии, когда вы вылетите с Гипериона. Это нужно сделать срочно. Сегодня. Прежде чем миры первой волны будут захвачены Роями.
Консул слышит слова «миры первой волны», но не спрашивает, входит ли в их число его любимая Мауи-Обетованная. Возможно, думает он, так лучше, и заявляет:
— Дудки. Я возвращаюсь в долину.
Тео поправляет очки.
— Она не допустит этого, сэр.
— Да? — Консул улыбается. — Как же она меня остановит? Расстреляет корабль?
— Не знаю, но сказала, что не допустит. — В голосе Тео звучит искреннее огорчение. — На орбите находятся факельщики и сторожевики ВКС, сэр. Эскорт последней группы катеров.
— Хорошо. — Консул все еще улыбается. — Пусть попробуют меня сбить. Все равно за двести лет еще ни одному кораблю с людьми на борту не удалось сесть в районе Гробниц. Корабли садились благополучно, вот только люди исчезали. Прежде чем меня подстрелят, я уже буду болтаться на дереве Шрайка. — Консул на миг прикрывает глаза и представляет, как его опустевший черный звездолет садится в пустыне. Сол, Дюре и чудесным образом возвратившиеся остальные спешат укрыться в корабле, чтобы откачать в операционной Хета Мастина и Ламию Брон и погрузить кроху Рахиль в спасительную криогенную фугу.
— Господи, — шепчет Тео, и дрожь в его голосе возвращает Консула к реальности.
Они миновали последнюю излучину перед городом. Утесы здесь выше, их череда заканчивается горой с изваянием Печального Короля Билли. Уже коснувшееся горизонта солнце освещает низкие облака и здания на вершинах восточных холмов.
Над городом бушует война. Лазерные лучи сверху и снизу пронзают облака. Корабли вьются в воздухе, как мошки, и горят, как мотыльки, подлетевшие слишком близко к манящему огню лампы; из облаков вываливаются парапланы и прозрачные пузыри левитаторов. Враг осаждает столицу планеты — Китс. Бродяги явились на Гиперион.
— Боже мой! — в ужасе шепчет Тео.
На лесистом хребте северо-западнее города вспыхивает огонек. Переносной ЗРК. Оставляя дымный след, из леса прямо на их скиммер с гербом Гегемонии несется ракета.
— Держитесь! — кричит Тео, переходит на ручное управление и, дергая переключатели, резко опрокидывает скиммер на правый борт, пытаясь попасть внутрь радиуса разворота маленькой ракеты.
Взрыв в кормовой части. Консул повисает на ремнях безопасности и на мгновение слепнет. Когда зрение возвращается к нему, он видит, что кабина полна дыма. Во мраке мигают красные аварийные глазки, и хор тревожных зуммеров рапортует о выходе из строя самых разнообразных систем. Тео наваливается на штурвал.
— Держитесь, — снова произносит он потерявшие всякий смысл слова. Бешено крутясь вокруг своей оси, скиммер на мгновение находит под собой опору, вновь теряет ее и, кувыркаясь, падает на горящий Китс.
Глава 36
Я моргнул и широко раскрыл глаза, не сразу сообразив, где нахожусь. Какой-то огромный сумрачный зал… Ах да, собор Святого Петра. Пасем. Надо мною склонились обеспокоенные лица монсеньора Эдуарда и отца Поля Дюре, едва различимые в слабом свете свечей.
— Сколько я… проспал? — Мне показалось, что я всего на несколько секунд окунулся в мерцающую полудрему — преддверие мирного, глубокого сна.
— Десять минут, — сказал монсеньор. — Вы можете нам рассказать, что видели?
Я не видел причин для отказа. Выслушав мой рассказ, монсеньор Эдуард осенил себя крестным знамением.
— Боже мой, так посол Техно-Центра уговаривает Гладстон послать людей в эти… туннели!
Дюре коснулся моего плеча.
— Я переговорю с Истинным Гласом Мирового Древа на Роще Богов и прибуду к вам на ТКЦ. Мы должны объяснить Гладстон всю чудовищность этого плана.
Я кивнул. Мечты отправиться с Дюре на Рощу Богов или даже на Гиперион тут же улетучились.
— Согласен. Медлить нельзя. Ваш портал… можно мне воспользоваться Папскими Дверями, чтобы попасть на Центр Тау Кита?
Монсеньор встал и выпрямился. Внезапно я понял, что он очень стар. Его тело ни разу не подвергалось поульсенизации.
— Конечно. Это портал с наивысшим приоритетом, — пояснил он и обернулся к Дюре: — Поль, ты знаешь, что я отправился бы с тобой. Но похороны Его Святейшества, выборы нового Папы… — Монсеньор Эдуард с сожалением вздохнул. — Странно, но повседневная суета не оставляет нас даже накануне всеобщей катастрофы: варвары будут на Пасеме меньше чем через десять стандартодней.
Высокий лоб Дюре в свете свечей отливает золотом.
— Друг мой, дело Церкви не суета повседневная, а нечто большее. Побеседовав с тамплиерами, я сразу же отправлюсь на ТКЦ, чтобы вместе с господином Северном убедить Гладстон не принимать предложение Техно-Центра. А затем, Эдуард, я вернусь, и мы вместе попытаемся проникнуть в смысл этой странной ереси.
Я вышел вслед за ним в боковую дверь базилики, которая вела под высокую колоннаду, миновал открытый дворик (дождь прекратился, и воздух приятно освежал лицо), спустился по лестнице и попал через узкий туннель в папские покои. Швейцарские гвардейцы в передней вытянулись перед нами по стойке «смирно». Это были здоровяки в латах и полосатых желто-синих рейтузах, правда, их церемониальные алебарды являлись одновременно новейшими лучеметами. Один из них выступил вперед и что-то шепнул монсеньору.
— Господин Северн, на главный терминекс только что прибыл человек, который спрашивает вас.
— Меня? — Я вслушивался в голоса в соседних комнатах — мелодичное журчание молитв, повторяемых скороговоркой. Должно быть, шла подготовка к похоронам Папы.
— Да, некий господин Хент. Говорит, что дело не терпит отлагательств.
— Еще минута, и мы встретились бы с ним в Доме Правительства, — удивился я. — Ну что ж, пусть войдет, если это не возбраняется.
Монсеньор Эдуард кивнул и что-то тихо приказал швейцарцу, который, в свою очередь, пошептался с декоративным зубцом на своем старинном панцире.
Так называемые Папские Двери — небольшой портал в замысловатой раме с золотыми серафимами и херувимами по бокам и пятью барельефами наверху (они изображали грехопадение Адама и Евы и их изгнание из Эдема) — стояли в центре хорошо охраняемой комнаты в личных покоях Папы. Созерцая свои озабоченные отражения в зеркалах, которые висели на всех четырех стенах, мы стали ждать.
В сопровождении того же священника, что провожал меня к монсеньору, появился Ли Хент.
— Северн! — вскричал главный советник Гладстон. — Вы срочно нужны секретарю Сената.
— Именно к ней я и собирался сейчас. Хочу предупредить, что, если она позволит Техно-Центру создать и пустить в ход его адское оружие, случится непоправимое.
Хент заморгал, что придало весьма комичное выражение его длинной физиономии.
— Северн, вы что, всеведущи?
Я не мог не рассмеяться.
— Маленький ребенок, забравшийся без спроса в голонишу, много видит, но мало что понимает. Тем не менее у него есть передо мной преимущество: он может переключать каналы и совсем выключить эту штуку, когда она ему надоест.
Хент уже встречался с монсеньором Эдуардом на различных государственных мероприятиях. Я представил ему отца Дюре.
— Дюре? — пробормотал Хент, и у него буквально отвисла челюсть.
Я впервые видел его растерянным. Право, это выглядело очень забавно.
— Позже все объясню, — сказал я, пожимая священнику руку. — Удачи вам на Роще Богов, Дюре. Не задерживайтесь там надолго.
— Всего час, — пообещал иезуит. — Перед разговором с госпожой Гладстон я должен отыскать одну-единственную деталь нашей головоломки. Пожалуйста, расскажите ей как можно подробнее о том, что я видел в лабиринте. А я, когда прибуду, подтвержу ваши слова.
— Возможно, дела не позволят ей принять меня до вашего прибытия, — сказал я. — Но как бы там ни было, постараюсь быть для вас хорошим Иоанном Крестителем.
Дюре улыбнулся.
— Только не потеряйте голову, друг мой. — Он набрал код переноса на архаичной панели и, кивнув на прощание, исчез в портале.
Я повернулся к монсеньору Эдуарду:
— Уверен, все утрясется, прежде чем Бродяги доберутся до Пасема.
Дряхлый святой отец поднял руку и благословил меня:
— Идите с Богом, юноша. Чувствую, что всех нас ждут тяжелые времена, но ваше бремя будет самым тяжким.
Я покачал головой.
— Я всего лишь наблюдатель, монсеньор. Жду и вижу сны. Это не бремя.
— Ждать и видеть сны будете потом, — резко вмешался Ли Хент. — Госпожа Гладстон требует, чтобы вы были у нее сию минуту, а я должен вернуться на совещание.
Я посмотрел на него.
— Как вы меня нашли? — задал я глупый вопрос, ибо все порталы находились под контролем Техно-Центра, а Техно-Центр сотрудничал с администрацией Гегемонии.
— Пропуск, которым снабдила вас госпожа Гладстон, весьма облегчает наблюдение за вами. — В голосе Хента звучало нетерпение. — А сейчас мы обязаны вернуться туда, где вершатся судьбы Гегемонии.
Я кивнул на прощание монсеньору и его помощнику и поманил за собой Хента. Набрав трехзначный код ТК-Центра, добавил к нему две цифры, обозначающие континент, еще три — код Дома Правительства, и, наконец, последние две — пароль тамошнего служебного терминекса. В жужжание портала вплелся какой-то писк, матовая энергозавеса нетерпеливо дрогнула.
Я первым шагнул в портал и посторонился, освобождая место для Хента.
Это явно не центральный терминекс Дома Правительства. Если зрение мне не изменяет, мы определенно попали не туда.
Секундой позже мои органы чувств, проинспектировав все вокруг — яркость солнечных лучей, цвет неба, силу тяжести и расстояние до горизонта, запахи и вкус этого места, — сообщают, что мы вообще не на Центре Тау Кита.
Следовало бы тут же броситься обратно, но через узкие Папские Двери уже протискивается Хент — нога, рука, плечо, грудь, голова, вторая нога, поэтому я хватаю его за запястье, грубо вытаскиваю и, бросая ему: «Что-то не в порядке!», пытаюсь ринуться назад в портал, но слишком поздно: прямоугольный проход уменьшается до круга величиной с кулак — и исчезает.
— Где мы, черт побери? — возмущается Хент.
Я задумчиво осматриваюсь по сторонам. Хороший вопрос. Мы находимся в сельской местности, на вершине холма. Дорога вьется через виноградники, сбегает по пологому склону холма в лесистую долину и, пропадая из виду, вновь выныривает у другого холма, в миле-двух отсюда. Жарко. Воздух наполнен жужжанием и стрекотом, но ничего крупнее птицы не бороздит эти бескрайние просторы. Справа от нас между утесами сверкает голубое пятно воды — океан или море. Высоко в небе плывут перистые облака; солнце только что миновало зенит. Ни одного строения поблизости, да и вообще чего бы то ни было — только виноградники да каменистый проселок, на котором мы стоим. Но гораздо важнее другое — беспрестанный гомон инфосферы больше не слышен. Это потрясает, как внезапное исчезновение звука, привычного с младенчества: становится жутко, замирает сердце, мысли путаются. В общем, я не на шутку перепуган.
Хент, пошатнувшись, хлопает себя по ушам, будто пропавший шум был настоящим звуком, затем стучит по комлогу.
— Проклятие, — бормочет он. — Проклятие. Имплант что-то барахлит. Комлог отключился.
— Нет, — возражаю я. — По-моему, здесь просто нет инфосферы.
Но, не успев окончить фразу, я различаю тихое, басовитое жужжание — голос чего-то более крупного и труднодоступного, чем инфосфера. Мегасфера? «Музыка сфер», — думаю я и улыбаюсь.
— Что вас так рассмешило, Северн, черт бы вас побрал? Вы это нарочно подстроили?
— Нет. Код Дома Правительства я набрал верно. — Полное отсутствие паники — тоже своего рода паника.
— В чем же дело? Проклятые Папские Двери? Неужели они? Только что это — неисправность или розыгрыш?
— Ни то ни другое. Двери работают исправно, Хент. Они привели нас туда, куда нужно Техно-Центру.
— Техно-Центру? — Остатки румянца сходят с длинного лица, когда помощник секретаря Сената вспоминает, кто контролирует порталы. — Боже мой, Боже мой. — Хент неверными шагами доходит до обочины и падает в высокую траву. Его замшевый деловой костюм и мягкие черные туфли не вяжутся с окружающей нас идиллией.
— Где мы? — спрашивает он снова.
Я набираю в грудь воздуха. Он полон запахов — свежевспаханная земля, свежескошенная трава, дорожная пыль, острый привкус моря.
— Вероятнее всего, на Земле.
— На Земле? — Мой спутник глядит в пространство невидящими глазами. — Но это не Новая Земля. И не Терра. Не Земля-2. Не…
— Просто Земля, — говорю я. — Старая Земля. Или ее копия.
— Копия?
Я сажусь рядом с ним. Выдергиваю травинку, очищаю корень. Знакомый кисловатый вкус.
— Помните, как я рассказывал Гладстон об исповедях паломников? Историю Ламии Брон? Она и мой двойник-кибрид, первый воскрешенный Китс, посетили планету, которую сочли копией Старой Земли. В скоплении Геркулеса, если память мне не изменяет.
Хент задирает голову, словно хочет проверить мою догадку по рисунку созвездий. Голубизна вверху постепенно бледнеет, перистые облака расползаются по небосводу. «Скопление Геркулеса», — ошеломленно шепчет он.
— Ламия так и не выяснила, зачем Техно-Центр создал копию и для чего использует ее сейчас, — продолжаю я. — Первый кибрид Китса либо не знал этого, либо не сказал.
— Не сказал, — машинально повторяет Хент, качая головой. — Ладно, но как, черт возьми, мы выберемся отсюда? Я нужен Гладстон! Она не может сейчас одна… Десятки жизненно важных проблем нужно решить в ближайшие часы! — Он вскакивает и выбегает на середину дороги, исполненный решимости и энергии.
— Думаю, нам отсюда не выбраться, — замечаю я, пожевывая травинку.
Хент оборачивается. Лицо такое, будто он сию минуту набросится на меня с кулаками.
— Вы с ума сошли! Как это — не выбраться? Для чего Техно-Центру шутить такие шутки? — Внезапно он замолкает, глядя на меня сверху вниз. — Понимаю… Они не хотят, чтобы вы говорили с нею. Вы что-то узнали, и Техно-Центр не хочет, чтобы вы поделились с Гладстон этими новостями.
— Возможно.
— Выпустите меня! А он пусть остается! — вне себя выкрикивает Хент, обращаясь к небесам.
Ответа нет. Из виноградника вылетает большая черная птица. По-моему, ворона: как во сне, припоминаю название вымершего вида пернатых.
Вскоре Хенту надоедает взывать к небесам, и он принимается расхаживать взад-вперед.
— Послушайте, всякая дорога куда-нибудь ведет. Может, даже к терминексу, — наконец произносит он.
— Может быть, — соглашаюсь я и разламываю травинку, чтобы добраться до сладкой сердцевины. — В какую сторону пойдем?
Хент смотрит на дорогу, огибающую холмы, снова оборачивается ко мне.
— Мы прошли через портал лицом вон туда, — указывает он рукой в ту сторону, где дорога ныряет в чащу.
— И далеко идти? — интересуюсь я.
— Не все ли равно! — в сердцах бросает Хент. — Куда-нибудь да придем!
Еле сдерживая улыбку, я встаю и отряхиваю брюки. Лоб и щеки припекает солнце, и это так непривычно и странно после тьмы собора. Воздух такой теплый — одежда уже намокла от пота.
Хент торопливо сбегает с холма. Его лицо преобразилось: вместо привычной меланхоличной мины — решительный блеск в глазах и упрямо сжатые губы.
Медлительно, даже лениво переставляя ноги, пожевывая травинку и жмуря усталые глаза, следую за ним.
* * *
Полковник Кассад с криком бросился на Шрайка. Сюрреалистический ландшафт вне времени (аскетическая пластмассовая декорация из фарса о Долине Гробниц, застывшая в вязком желе, именуемом здесь воздухом), казалось, всколыхнулся, отозвавшись на неистовый порыв Кассада.
Секунду назад Шрайки заполняли собой весь мир, как в зеркальном зале: всюду полчища Шрайков, от края до края мертвой зоны окрест. Но после вскрика Кассада они слились в одно чудище, и оно сдвинулось с места. Четыре его руки вытянулись, готовые заключить полковника в объятия клинков и шипов.
Кассад не знал, как покажет себя в бою подаренный Монетой силовой скафандр, защитит ли он его от Шрайка. Много лет назад, когда он и Монета схватились с десантниками Бродяг, скафандр проявил себя как нельзя лучше, но тогда время было на их стороне; Шрайк то размораживал, то замораживал реку минут, как скучающий зритель, который балуется с дистанционным переключателем голопроектора. Сейчас они все вне времени, и оно перестало быть их союзником. Пригнувшись, Кассад бросился в атаку, забыв обо всем на свете — и о Монете, которая не сводит с него глаз, и о фантасмагорическом терновом дереве с его жуткими плодами, чья вершина уходит за облака. И даже о самом себе, воспринимая собственное тело как боевую машину, орудие мести.
Шрайк не растворился в воздухе, не стал проделывать свой коронный трюк с исчезновением в одном месте и мгновенным появлением в другом, а лишь слегка наклонился, широко расставив руки с пальцелезвиями, на которых горели отблески небесной вакханалии. Его стальные зубы сверкнули в пародии на улыбку.
Кассад зол, как черт, но голову пока не потерял. Вместо того чтобы ринуться в эти объятия смерти, он — в последний момент — сделал рывок в сторону и, падая на бок, изо всех сил пнул чудовище в ногу под розеткой шипов вокруг коленного сустава. Только бы сбить его с ног…
С тем же успехом он мог бы попытаться пробить полкилометра бетона. Только амортизаторы скафандра спасают ногу Кассада от неминуемого перелома.
Шрайк среагировал быстро, но не с такой уж невероятной скоростью. Его правые руки молниеносно обрушились вниз, и десять пальцелезвий с маху вонзились в камень. Во все стороны полетели искры. Стальные руки вновь со свистом рассекли воздух, но Кассад был уже вне их досягаемости; покатившись кубарем по песку, он вскочил и, пригнувшись, выставил перед собой руки с растопыренными, жесткими, налитыми энергией пальцами.
«Единоборство, — успел подумать Федман Кассад. — Самое благородное таинство, как утверждает Нью-Бусидо».
Шрайк вновь сделал ложный выпад правыми руками и одновременно резко выбросил вверх нижнюю левую — еще немного, и он проломил бы грудную клетку и вырвал у полковника сердце.
Кассад блокировал ложный выпад правым предплечьем, погасив инерцию удара полем скафандра, и тут же перехватил смертоносный кулак левой руки чудовища — чуть выше запястья, как раз над розеткой острых, кривых шипов. Невероятно, но полковнику удалось ослабить удар: острые скальпели пальцелезвий лишь оцарапали скафандр, так и не дойдя до тела.
Силясь удержать железную лапу, Кассад чуть не взлетел, но ложный выпад Шрайка вернул его на землю. По его телу под скафандром градом катился пот, мускулы напряглись до предела, казалось, еще немного — и они лопнут… Почти двадцать секунд полковник противостоял этой железной хватке, после чего Шрайк пустил в ход свою четвертую руку, рубанув по напряженной ноге Кассада.
Кассад закричал от дикой боли — ткань скафандра порвалась, и так же легко порвалась плоть: по меньшей мере одно пальцелезвие добралось до самой кости. Он ударил чудовище ногой, отпустил запястье и откатился в сторону.
Шрайк снова замахнулся. На этот раз металлический кулак просвистел в нескольких миллиметрах от уха Кассада. Затем чудовище отскочило назад и начало обходить полковника справа.
Кассад попытался встать на левое колено, упал навзничь, но затем все-таки поднялся. Боль ревела ураганом в его ушах, окрашивая все вокруг в багровый цвет, но, раскачиваясь, как пьяный, из стороны в сторону, едва не теряя сознание, полковник почувствовал: скафандр над раной начал срастаться, выполняя одновременно роль жгута и повязки! Нога пока не слушалась, но кровотечение унялось, боль стала терпимой. Похоже, скафандр был оснащен мини-анестезаторами — вроде тех, что встроены в его собственный боевой панцирь ВКС.
В ту же секунду Шрайк ринулся в атаку.
Кассад с силой выбросил вперед здоровую ногу, целясь в гладкий островок на хромовом панцире под нагрудным «гребнем». Это все равно что походя пнуть корпус звездолета-факельщика, но Шрайк — Господи, неужели такое возможно? — замедлил движение и, шатаясь, попятился.
Кассад сделал шаг вперед и, сконцентрировав всю энергию в кулаке, обрушил его в ту же точку, туда, где должно прятаться сердце чудища. Раз, еще раз — от таких ударов даже армированная керамика разлетелась бы вдребезги. Не обращая внимания на боль в отбитых пальцах, Кассад резко повернулся и ребром ладони ударил Шрайка по морде чуть выше зубов. Будь его противником человек, несчастный наверняка услышал бы хруст сломанного носа и почувствовал, как кости и хрящи вонзаются ему в мозг.
Шрайк попытался схватить Кассада зубами за запястье, но, промахнувшись, занес все четыре руки над головой полковника.
Задыхаясь, исходя потом и кровью под своим ртутным скафандром, Кассад совершил стремительный пируэт и, зайдя сзади, нанес убийственный удар по короткой шее чудовища. Шум от удара эхом прокатился по замороженной долине — как будто лесоруб-великан попытался с одного маху перерубить ствол железной секвойи.
Шрайк кувыркнулся вперед и перекатился на спину, словно некое стальное ракообразное.
Упал, мерзавец!
Кассад сделал шаг вперед, все еще пригибаясь и соблюдая осторожность, но, по-видимому, недостаточно: Шрайкова бронированная то ли ступня, то ли лапа, черт ее разберет, ударила Кассада сзади в лодыжку и наполовину разрубила ее, сбив его с ног.
Полковник понял, что у него рассечено ахиллово сухожилие, и попытался откатиться в сторону, но Шрайк, спружинив, вскочил и бросился на противника, целясь в него всеми своими шипами, колючками и клинками. Морщась от боли, Кассад выгнулся, чтобы сбросить с себя чудовище, и тут же блокировал несколько ударов, спасая глаза, в то время как бесчисленные ножи кромсали его предплечья, грудь и живот.
Шрайк наклонился к нему и открыл пасть, в которой сверкнули многочисленные ряды стальных зубов, — точь-в-точь как у миноги. Перед полковником вспыхнули громадные рубиново-красные фонари — глаза чудовища.
Кассад уперся ладонью в челюсть Шрайка и попытался использовать ее как рычаг. Это оказалось труднее, чем поднять гору металлолома с рваными краями, не имея точки опоры. Пальцелезвия Шрайка вновь впились в тело Кассада. Чудовище еще шире распахнуло пасть и запрокинуло голову, продемонстрировав шеренги зубов от уха до уха. Шрайк не дышал, но тепло, исходившее из его внутренностей, отдавало серой и горелыми железными опилками. Еще секунда, и челюсти сомкнулись бы, сдирая кожу с лица Кассада.
Но тут появилась Монета. Судя по всему, она кричала во весь голос, хотя не было слышно ни звука. Ее пальцы в силовых перчатках впились в рубиновые глаза Шрайка, и, упершись сапогом в панцирь чудовища под спинным шипом, она принялась тянуть, тянуть изо всех сил…
Две руки Шрайка тут же взлетели вверх, как клешни какого-то кошмарного краба, пальцелезвия вонзились в Монету, и она упала, но Кассад, успев за какие-то доли секунды откатиться в сторону, вскочил на ноги и, преодолевая боль, потащил Монету к ближайшим камням.
На секунду их скафандры слились, и Кассад ощутил ее тело рядом со своим, почувствовал, как смешиваются их кровь и пот, услышал биение двух сердец.
«Убей его», — настойчиво прошептала Монета, и даже этот ее беззвучный внутренний голос срывался от боли.
«Я пытаюсь. Я пытаюсь».
Шрайк снова был на ногах, три метра хрома, клинков и адской чужой боли. Чья-то кровь — Кассада или Монеты — стекала тонкими ручейками по его запястьям и панцирю. Бессмысленная, бесовская ухмылка стала еще гаже.
Кассад отлепил свой скафандр от скафандра Монеты и осторожно опустил ее наземь, прислонив к валуну. Это не ее сражение. Во всяком случае сейчас.
И он встал между возлюбленной и Шрайком.
Какой-то слабый, но все нарастающий шум, как от прибоя, набегающего на невидимый берег, достиг его слуха. Не выпуская из поля зрения Шрайка, медленно шагающего ему навстречу, Кассад поднял глаза вверх и догадался, что странные звуки издавало терновое дерево. Распятые люди — маленькие цветные точки на металлических шипах и ветвях — помимо бессознательных стонов боли, которые Кассад уже перестал замечать, как будто выкрикивали что-то чуть слышными голосами. Они подбадривали его, Кассада!
Полковник теперь полностью сосредоточился на Шрайке, начавшем описывать вокруг него круги. Отрезанная пятка отдавалась во всем теле жесткой болью; на правую ногу вообще нельзя было опереться, и приходилось скакать на месте, держась за валун.
Отдаленные крики оборвались, словно все кричавшие разом задохнулись.
Шрайк прекратил существование «там» и возник «здесь», рядом с Кассадом, над Кассадом, его руки окружили Кассада для последнего объятия, шипы и ножи уже коснулись его. В глазах Шрайка вспыхнул огонь; и стальная пасть распахнулась.
И Кассад — воплощенная ярость и презрение — с криком нанес ему удар.
Отец Дюре шагнул в Папские Двери и без всяких приключений попал на Рощу Богов. После пропахшей ладаном темноты папских покоев он вдруг очутился на солнцепеке, под небом золотисто-лимонного цвета, среди зеленой листвы.
У портала его уже поджидали тамплиеры. Перед Дюре была десятиметровой ширины платформа из плотинника, а за ней — ничего, или, вернее, все: кроны Рощи Богов, на все четыре стороны света, до самого горизонта. Лиственная сень колыхалась и дышала, подобно живому океану. Дюре понял, что находится где-то в верхних ветвях Мирового Древа, величайшего и наиболее почитаемого дерева Рощи Богов.
Встретившие его тамплиеры занимали важные посты в сложной иерархии Братства Мюира, но сейчас выполняли функции простых проводников. Окружив старого священника, они подвели его к увитому лианами лифту, который понесся ввысь, мимо верхних уровней и террас, где посчастливилось побывать лишь избраннейшим из мирян. Покинув лифт, они двинулись по винтовой лестнице с перилами из отборного мюира, поднимающейся к небу вокруг ствола Древа. У подножия он был необъятно широк, достигая двухсот метров в диаметре, а на самом верху сужался до восьмиметрового «пятачка». Площадка из плотинника, на которую ступил Дюре, была украшена затейливой резьбой: на перилах переплетались виноградные лозы, со столбиков и балюстрад таращились гномы, эльфы лесные и полевые духи, русалки и дриады. Столы и стулья составляли одно целое с деревом, из которого была вытесана круглая площадка.
Отца Дюре ожидали двое. Первый — тот, кого и рассчитывал увидеть Дюре, — Истинный Глас Мирового Древа, Первосвященник Мюира, Глашатай Братства Тамплиеров Сек Хардин. Присутствие второго явилось для Дюре сюрпризом. Он увидел сутану цвета артериальной крови, отороченную черным горностаем, под которой бугрилось массивное тело лузианина. Лицо, состоящее из желваков и жира, надвое разделял крючковатый нос, маленькие глазки терялись где-то над щеками-пузырями, пухлые руки властно сцеплены, на каждом пальце — по перстню с черным или красным камнем. Дюре удостоился лицезреть самого епископа Церкви Последнего Искупления — первосвященника культа Шрайка.
Тамплиер выпрямился во весь свой двухметровый рост и протянул Дюре руку.
— Отец Дюре, это большая честь — видеть вас у себя.
Дюре обменялся с ним рукопожатием, мимоходом отметив удивительное сходство руки тамплиера с древесным корнем. От длинных, сужающихся к кончикам, желтовато-коричневых пальцев исходили и тепло, и прохлада, как от древесной коры. Истинный Глас Мирового Древа был облачен в сутану с капюшоном, подобную одеянию Хета Мастина. Буро-зеленая, ничем не примечательная мешковина резко контрастировала с великолепным нарядом епископа.
— Благодарю, что согласились принять меня, господин Хардин, — учтиво склонил голову Дюре.
Истинный Глас — духовный наставник миллионов последователей Мюира, но Дюре известно, что тамплиеры не терпят титулов и подобострастия. Затем он обернулся к епископу:
— Ваше превосходительство, я и мечтать не смел о чести встретиться с вами.
Епископ культа Шрайка еле заметно кивнул:
— Я здесь с визитом. Господин Хардин полагает, что мое присутствие на вашей с ним встрече может быть в некотором роде полезно. Рад с вами познакомиться, отец Дюре. Мы много слышали о вас за последние несколько лет.
Тамплиер жестом указал Дюре на место напротив себя и епископа. Дюре сел и положил на полированную столешницу руки, делая вид, что не в силах оторваться от восхитительного узора древесины. Половина спецслужб Гегемонии сбилась с ног в поисках епископа культа Шрайка, и его присутствие здесь грозило непредвиденными осложнениями.
— Не правда ли, знаменательно, — начал епископ, — что в этот день здесь сошлись представители трех глубочайших верований человечества?
— Да, — без промедления отозвался отец Дюре. — Глубочайших, но вряд ли правомочных представлять большинство людей. Из почти ста пятидесяти миллиардов душ Католическая Церковь может претендовать на неполный миллион. Паства Шр… э-э Церкви Последнего Искупления насчитывает от пяти до десяти миллионов. А сколько сейчас тамплиеров, господин Хардин?
— Двадцать три миллиона, — тихо ответил тот. — Многие миряне поддерживают наши экологические начинания и рады вступить в наши ряды, но братство не допускает в свое лоно посторонних.
Епископ потер один из своих подбородков. Кожа у него была очень бледная, и он постоянно щурился, словно с непривычки к дневному свету.
— Дзен-гностики заявляют, что у них сорок миллиардов приверженцев, — внезапно громыхнул он. — Но что это за религия такая? Без храмов. Без священников. Без святых книг. Без всякого понятия о грехе.
Дюре улыбнулся:
— По-видимому, именно это верование наиболее созвучно современности. И не только современности. Ему уже много веков.
— Тьфу! — Епископ хлопнул ладонью по столу, и Дюре поморщился, услышав стук металлических перстней по мюиру.
— Откуда вы меня знаете? — спросил он.
Тамплиер вместо ответа приподнял голову, и Дюре увидел мельтешение солнечных бликов на его носу, щеках и длинном подбородке, исчезающем в тени капюшона.
— Мы вас выбирали, — буркнул епископ. — И вас, и других паломников.
— Вы, то есть Церковь Шрайка? — спросил Дюре.
Епископ нахмурился и молча кивнул.
— Зачем вам мятежи? — продолжал Дюре. — Зачем проливать кровь, когда Гегемонии угрожает опасность?
Епископ вновь потер свой многоярусный подбородок. В лучах заката сверкнули красные и черные камни на перстнях. За его спиной шуршал миллионами листьев вечерний бриз, пахнущий дождем и цветами.
— Затем, что наступили последние дни. Сбывается то, что Аватара предрек нам много столетий назад. То, что вы именуете мятежами, есть начало предсмертных судорог цивилизации, заслужившей свою гибель. Дни Искупления наступили, и Повелитель Боли скоро появится среди нас.
— Повелитель Боли? — повторил Дюре. — То есть Шрайк?
Как бы желая смягчить резкость епископа, тамплиер умоляюще взмахнул рукой и заговорил:
— Отец Дюре, мы ведаем о вашем чудесном возрождении.
— Это не чудо, — возразил Дюре. — А всего-навсего каприз паразита, прозванного крестоформом.
Длинные желтовато-коричневые пальцы снова описали дугу в воздухе.
— Как бы вы ни относились к этому факту, святой отец, Братство радуется, что вы опять с нами. Пожалуйста, задайте нам вопросы, о которых вы упомянули ранее.
Дюре погладил ладонями деревянный стул и покосился на сидящую напротив красно-черную глыбу — епископа.
— Ваши организации некоторое время работали совместно, не так ли? — сказал Дюре. — Братство Тамплиеров и Церковь Шрайка.
— Церковь Последнего Искупления! — низким басом рявкнул епископ.
Дюре кивнул.
— Пусть так. Но почему? Что вас объединяет?
Истинный Глас Мирового Древа наклонился вперед, и лицо его снова нырнуло в тьму капюшона.
— Поймите, святой отец, в пророчествах Церкви Последнего Искупления много общего с миссией, порученной нам Мюиром.
Только в них содержится правда о каре, ниспосланной человечеству за уничтожение его собственного мира.
— Старую Землю сгубило вовсе не человечество, — возразил Дюре. — Всему виной — и это общеизвестный и бесспорный факт — ошибка компьютера при работе Киевской Группы с миниатюрной черной дырой.
Тамплиер покачал головой.
— Всему виной людская самонадеянность, — сказал он негромко. — Самонадеянность, заставившая истребить все виды, у которых со временем мог развиться разум. Алуиты Сенешаи, цеппелины Вихря, болотные кентавры Сада и крупные приматы Старой Земли…
— Да, — согласился Дюре. — Все так. Но разве этого достаточно для вынесения всему роду человеческому смертного приговора?
— Приговор был вынесен силой куда более великой, чем мы с вами, — громоподобно возгласил епископ. — Пророчества ясны и исчерпывающи. Близится День Последнего Искупления. Все, кто унаследовал грехи Адама и Каина, ответят за уничтожение и своего мира, и многих других. Повелитель Боли освобожден от уз времени, дабы привести в исполнение последний из приговоров. Нет спасения от гнева его. Никому не избежать Искупления. Так решила Сила, намного превосходящая нас.
— Это правда, — твердо произнес Сек Хардин. — Мы получали пророчества. Каждый следующий Глас Истинный — из поколения в поколение — слышал их. Человечество обречено, но его гибель от рук провидения обернется новым Золотым веком для девственной природы во всех уголках теперешней Гегемонии.
Закаленный логикой иезуитов, преданнейший из сторонников Тейяра де Шардена, отец Поль Дюре испытал, как ни странно, острое искушение прокомментировать реплику Хардина; «Но, черт возьми, для чего этот Золотой век, если некому будет любоваться им и вдыхать аромат девственных трав?» Но вместо этого спокойно заметил:
— А вам не кажется, что все эти пророчества вовсе не божественное откровение, а козни неких мирских сил?
Тамплиер дернулся, как от пощечины, епископ же, сжав свои лузианские кулаки-гири, способные одним ударом раздробить череп Дюре, подался вперед и прорычал:
— Ересь! Смерть всякому, кто усомнится в истинности откровений!
— Разве есть сила, способная на такое? — с трудом выдавил из себя Истинный Глас Мирового Древа. — Кто, помимо Абсолюта Мюира, может входить в наши умы и души?
Дюре указал на небо.
— Господин Хардин, уже много веков все миры Сети соединены между собой через инфосферу Техно-Центра, и у большинства людей есть комлоги и импланты для облегчения доступа к ней… Разве у вас их нет?
Тамплиер промолчал, но Дюре отметил легкое подергивание желтоватых пальцев, словно Хардин намеревался ощупать грудь и плечо — давнее обиталище микроимплантов.
— Техно-Центр создал сверхъестественный… Разум, — продолжил Дюре. — Он поглощает невероятное количество энергии, способен перемещаться во времени и в своих поступках руководствуется отнюдь не интересами людей. Более того, значительная группа элементов Центра добивается истребления человечества… По-видимому, и Большую Ошибку подстроили участвовавшие в эксперименте ИскИны, а то, что представляется вам пророчеством, — не более чем голос этого пресловутого бога из машины, нашептывающего нужные ему идеи через инфосферу. И Шрайк не поведет человечество на суд, а просто перебьет всех мужчин, женщин и детей для реализации каких-то замыслов этой машины.
Пухлое лицо епископа побагровело. Грохнув кулаками по столу, он с усилием поднялся. Но тамплиер, накрыв его руку своей, удержал его и каким-то образом заставил снова сесть.
— Кто навел вас на эту мысль? — тихо спросил Сек Хардин.
— Паломники, имеющие доступ к Техно-Центру. И… другие лица.
Епископ погрозил Дюре кулаком.
— Но Аватара самолично прикасался к вам — и не единожды, а дважды! Он даровал вам гарантию бессмертия, и вам как никому дано постичь, что представляет собой его награда для Избранных — тех, кто готовит Искупление еще до наступления последних дней!
— Шрайк даровал мне боль, — просто ответил Дюре. — Боль и страдание, превосходящее всякое воображение. Я дважды встречался с этим существом и готов поклясться, что это не божество и не демон, а просто органическая машина из кошмарного будущего.
— Тьфу! — Епископ сделал презрительный жест и, сложив руки на груди, уставился в пространство.
Огорченный тамплиер немного помолчал, затем, подняв голову, негромко спросил:
— Вы хотели что-то узнать у меня?
Дюре перевел дух:
— Да. Хотел задать вам несколько вопросов и, увы, известить о печальном событии: Истинный Глас Древа Хет Мастин умер.
— Нам это известно, — ответил тамплиер.
Дюре замолк. Каким образом эта информация попала на Рощу Богов? Впрочем, это не имело теперь никакого значения.
— Я хотел узнать у вас, почему он отправился в паломничество. Что это была за миссия, до завершения которой ему не суждено было дожить? Мы все рассказали наши… наши истории. Все, кроме Хета Мастина. И теперь меня гложет мысль, что именно в его судьбе ключ ко многим тайнам.
Епископ мельком посмотрел на Дюре и едко усмехнулся:
— Мы не обязаны извещать тебя ни о чем, священник мертвой религии.
Сек Хардин долго молчал, словно собираясь с силами, и наконец заговорил:
— Хет Мастин добровольно вызвался донести Слово Мюира до Гипериона. Пророчество, которое веками таилось в корнях нашего верования, гласит, что с наступлением тревожных времен один из нас будет призван, чтобы отправиться на корабле-дереве на Святой Мир, сподобится лицезреть там гибель своего корабля, а затем возродит его в качестве вестника Искупления и дела Мюира.
— Следовательно, Хет Мастин знал, что «Иггдрасиль» будет уничтожен на орбите?
— Да. Это было предсказано.
— И он с помощью корабельного эрга должен был вывести в космос новый корабль-дерево?
— Да, — ответил тамплиер еле слышно. — Древо Искупления, которое должен был передать ему Аватара.
Дюре откинулся на спинку стула.
— Понимаю. Древо Искупления… Терновое дерево… Хет Мастин испытал настоящий шок во время гибели «Иггдрасиля». Затем он был перенесен в Долину Гробниц Времени и предстал перед терновым деревом Шрайка, но так и не сумел или не смог исполнить свою миссию. Терновое дерево — чудовищный сгусток смерти, страдания, боли… Хет Мастин не представлял, что его ожидает. Или же это оказалось выше его сил. Во всяком случае, он бежал. И умер. Собственно говоря, я так и предполагал, только не мог понять, какую во всем этом роль отвел ему Шрайк.
— Да что вы там мелете? — взорвался епископ. — Древо искупления описано в пророчествах! Оно будет сопутствовать Аватаре в час последней жатвы. Вашему Мастину следовало почитать за великую честь, что именно ему выпало счастье вести древо сквозь пространство и время.
Дюре лишь покачал головой.
— Мы ответили на ваш вопрос? — спросил Сек Хардин.
— Да.
— В таком случае потрудитесь ответить на наш, — властно заявил епископ. — Что случилось с Матерью?
— Какой матерью?
— С Матерью Нашего Спасения. Невестой Искупления. С той, которую вы зовете Ламией Брон.
Дюре вернулся в прошлое, пытаясь вспомнить записанные Консулом на пленку исповеди паломников. Итак, Ламия ждала ребенка от первого кибрида Китса, и лузусские шрайкисты спасли ее от толпы и включили в состав паломничества. Кажется, она упомянула, что священники Культа Шрайка обращались с ней весьма почтительно. И… что же из этого следует? Путаница какая-то… Да, похоже, он уже не тот, прежний Дюре, сообразительный и проницательный.
— Ламия лежала без сознания, — ответил он. — По-видимому, Шрайк забрал ее и подсоединил к какой-то штуке, вроде кабеля. Мозг не функционировал, но плод уцелел.
— А личность, которую она несла? — взволнованно перебил его епископ.
Дюре вспомнил рассказ Северна о смерти этой личности в мегасфере. Но его собеседники и не подозревали о существовании второй личности Китса — Северне, который в этот момент скорее всего старается открыть Гладстон глаза на ужасное предложение Техно-Центра. Дюре покачал головой. Все это слишком сложно.
— Я ничего не знаю о личности, которую госпожа Брон несла в петле Шрюна, — медленно произнес он. — Кабель, то есть штука, которую подсоединил к ней Шрайк, похоже, включен в разъем наподобие кортикального шунта.
Епископ кивнул, удовлетворенный ответом.
— Пророчества сбываются одно за другим. Вы выполнили свою миссию посыльного, Дюре. А сейчас мне пора. — Лузианец встал, кивнул на прощание Истинному Гласу Мирового Древа и, быстрым шагом пройдя по площадке, сбежал по лестнице к лифту.
Несколько минут Дюре и тамплиер сидели в полном молчании, убаюкиваемые шорохом листьев и тихим колыханием площадки. Небо над ними окрасилось в шафрановый цвет — Рощу Богов окутали сумерки.
— Ваше утверждение о «боге из машины», который много веков дурачил нас ложными пророчествами, — страшная ересь, — произнес наконец тамплиер.
— Вероятно. Но в долгой истории моей церкви было немало случаев, когда страшные ереси оказывались суровыми истинами, Сек Хардин.
— Будь вы тамплиером, мне пришлось бы казнить вас, — донеслось из-под капюшона.
Дюре лишь вздохнул. Возраст и усталость выветрили из его души саму способность бояться чего бы то ни было, включая смерть. Он встал и вежливо наклонил голову:
— Сек Хардин, мне пора. Простите, если невольно обидел вас. Мы переживаем безумные времена, а безумие, как вы знаете, заразительно.
«Лучшие из людей обходятся без убеждений, — вспомнил он чьи-то строки, — ну а худшие просто разрываются от страстной горячности».
Отвернувшись от Хардина, Дюре двинулся к краю платформы. И застыл на месте.
Лестница исчезла. Тридцать метров по вертикали и пятнадцать по горизонтали отделяли его от ближайшей площадки, где ждал лифт. Мировое Древо уходило на километр или еще глубже в океан листвы. Другого выхода отсюда не было. Опершись о перила, Дюре подставил разом покрывшееся потом лицо вечернему ветру и только сейчас заметил, что на аквамариновом небе проступили первые звезды.
— Что это значит?
Фигура в сутане почти слилась с темнотой.
— Через восемнадцать стандартоминут Небесные Врата будут захвачены Бродягами. Наши пророчества гласят, что этот мир подлежит уничтожению. Несомненно, вместе с ним погибнут его порталы и мультипередатчики, то есть планета фактически прекратит свое существование. Ровно через стандарточас после этого небеса Рощи Богов озарят шлейфы военных кораблей Бродяг. Наши пророчества гласят, что члены Братства, которые останутся, и все остальные — хотя случайно оказавшиеся здесь граждане Гегемонии давно эвакуированы, — все они погибнут.
Дюре медленно вернулся к столу.
— Я должен попасть на Центр Тау Кита, — с расстановкой произнес он. — Северн… один человек ожидает встречи со мной. И еще мне необходимо переговорить с госпожой Гладстон.
— Это невозможно, — ответил Истинный Глас Мирового Древа Сек Хардин. — Мы будем ждать. Мы должны удостовериться, что пророчества верны.
Иезуит в бессильном гневе сжал кулаки, борясь с желанием наброситься на тамплиера, потом закрыл глаза и дважды повторил молитву Пресвятой Деве. Но это не помогло.
— Пожалуйста, — выдохнул он. — Пророчества будут подтверждены или опровергнуты независимо от того, здесь я или нет. А когда это случится, будет слишком поздно. Факельщики ВКС взорвут сферу сингулярности, и нуль-канал исчезнет. Мы окажемся отрезанными от Сети на много лет. Поймите, мое возвращение на Центр Тау Кита может спасти миллиарды жизней!
Тамплиер сложил руки на груди, спрятав свои длинные пальцы в складках сутаны.
— Мы будем ждать, — негромко сказал он. — Все, что предсказано, должно произойти. Через несколько минут Повелитель Боли обрушится на обитателей Сети. Я не разделяю веры епископа в то, что взыскующие Искупления будут помилованы. Отец Дюре, нам лучше остаться здесь, где конец будет скорым и безболезненным.
Дюре принялся лихорадочно рыться в усталом мозгу в поисках какой-нибудь отповеди, отговорки, чего угодно. Тщетно. Он сел за стол и уставился на своего безмолвного, обезличенного капюшоном собеседника. Зажглись звезды — мириады холодных огней. Мир-лес в последний раз прошумел листвой на ветру и затих — словно Роща Богов затаила дыхание в предчувствии неотвратимого.
Поль Дюре закрыл глаза и начал молиться.
Глава 37
Мы, я и Хент, идем весь день, а вечером останавливаемся в маленькой гостинице, где нас ждет ужин: курица, рисовый пудинг, цветная капуста, макароны… Вокруг пусто, нет ни малейшего признака, что кто-то побывал здесь до нас, но огонь в очаге горит ярко, словно его только что разожгли, а ужин на плите еще горячий.
Хента все это сводит с ума, к тому же он никак не может прийти в себя из-за потери контакта с инфосферой. Я понимаю его. Для человека, родившегося и выросшего в мире, где информация всегда под рукой, а связь с кем и чем угодно — нечто само собой разумеющееся, где все расстояния сводятся к шагу через портал, вернуться вдруг к жизни предков — все равно что, проснувшись утром, неожиданно обнаружить, что ты ослеп и оглох. Обессиленный приступами ярости Хент к вечеру погрузился в мрачное молчание.
«Я нужен секретарю Сената!» — то и дело выкрикивал он днем.
«Моя информация нужна ей не меньше, — вежливо возражал я, — но тут уж ничего не поделаешь».
— Где мы? — в десятый раз спросил Хент.
Я уже рассказывал ему о копии Старой Земли, но на этот раз, как мне показалось, он имел в виду нечто иное.
— Наверное, в карантине, — сказал я наконец.
— Вот как? Но кто нас запрятал сюда? Техно-Центр?
— Могу только гадать.
— Как нам вернуться обратно?
— Не знаю. Как только они сочтут, что нас можно выпустить, появится портал.
Хент негромко выругался:
— Меня-то зачем в карантин?
Я пожал плечами. Может быть, из-за того, что он услышал часть моего рассказа на Пасеме, но я не был в этом уверен. Я вообще ни в чем не был уверен.
Дорога змейкой бежала между невысокими холмами, через луга и виноградники, и долины, за которыми синело море.
— Куда мы идем? — в который раз спросил Хент (незадолго до того, как мы увидели гостиницу).
— Все дороги ведут в Рим.
— Я не шучу, Северн.
— Я тоже, господин Хент.
Хент вдруг схватил камень с дороги и швырнул в кусты. Оттуда раздался крик дрозда.
— Вы бывали здесь раньше? — помолчав, спросил он прокурорским тоном, словно это я заманил его сюда. Хотя скорее всего он был прав.
— Нет, — ответил я. И чуть не добавил: «Зато бывал Китс». Мои трансплантированные воспоминания разрывают мне сердце его тоской и его предчувствием смерти. Так далеко от друзей, от Фанни, единственной и вечной возлюбленной.
— Вы уверены, что не можете подключиться к инфосфере? — снова спросил Хент.
— Абсолютно. — Ему и в голову не пришло спросить о мегасфере, и я промолчал. Не приведи, Господи, вновь попасть в мегасферу и потеряться в ней.
Перед заходом солнца мы увидели гостиницу, приютившуюся в небольшой долине. Из каменной трубы поднимался дымок.
За ужином, когда тьма подступила к окнам и только пламя очага да пара свечей на каминной доске освещали комнату, Хент сказал:
— Еще немного, и поверишь в привидения.
— Я верю в привидения, — ответил я.
Ночь. Я просыпаюсь от собственного кашля и чувствую холод — что-то течет по груди. Слышно, как Хент нащупывает и зажигает в темноте свечу. Скосив глаза, вижу, как кровь капает с груди на простыни.
— Боже мой, — выдыхает насмерть перепуганный Хент. — Что это? Кто это вас?
— Кровотечение, — шепчу я после того, как жесточайший приступ кашля в очередной раз сокращает мне жизнь и добавляет новые пятна крови. Пробую подняться, но бессильно роняю голову на подушку и жестом указываю на ночной столик, где уже приготовлены тазик с водой и полотенце.
— Ужас. Какой ужас! — бормочет Хент, разыскивая мой комлог, чтобы сделать анализы. Прибора нет. Днем, по дороге сюда, я выкинул его за ненадобностью.
Хент неловко надевает мне на запястье свой собственный. Датчики свидетельствуют, что положение критическое и необходимо срочное вмешательство медиков. Как и большинство людей его поколения, Хент никогда не сталкивался с болезнью или смертью — это дело профессионалов, отнюдь не предназначенное для чужих глаз.
— Не беспокойтесь, — шепчу я. Натиск кашля ослаб, но бессилие навалилось на меня каменным одеялом. Я снова тычу в полотенце, и Хент, намочив его в тазике, смывает кровь с моей груди и рук, а затем, усадив меня в единственное кресло, меняет окровавленные простыни.
— Вы что-нибудь понимаете? — спрашивает он с неподдельной тревогой.
— Да. — Я пытаюсь улыбнуться. — Принцип соответствия. Правдоподобие. Онтогенез повторяет филогенез.
— Что вы там лепечете! — в сердцах обрывает меня Хент, помогая улечься. — Чем вызвано кровотечение? Что я могу сделать для вас?
— Пожалуйста, дайте мне воды. — Я пью воду маленькими глотками, чувствуя, как в груди и горле все хрипит и клокочет, но ухитряюсь избежать очередного приступа кашля.
— Что все-таки происходит? — осторожно настаивает Хент.
Я говорю медленно, потихоньку нанизывая слова, будто пробираюсь по минному полю. Кашель не возвращается.
— Это так называемая чахотка. Или туберкулез. Судя по кровотечению, последняя стадия.
Лицо Хента становится белым как снег.
— Боже милостивый, Северн. Я никогда не слыхал о туберкулезе. — Он подносит к глазам руку, надеясь на память комлога, но его запястье пусто.
Я возвращаю ему прибор.
— Туберкулез — это забытая, старая болезнь. Его не было уже несколько веков. Но Джон Китс им болел. И умер от него. А тело этого кибрида принадлежит Китсу.
Хент вскакивает, порываясь бежать за помощью.
— Но теперь-то Техно-Центр позволит нам вернуться! Они не могут держать вас в этой дыре, без врачей и лекарств!
Я роняю голову на мягкие подушки, ощущая щекой перья под наволочкой.
— Может быть, именно поэтому меня здесь и держат. Выясним завтра, когда доберемся до Рима.
— Но вы не можете передвигаться!
— Посмотрим, — говорю я и закрываю глаза. — Посмотрим.
Утром возле гостиницы нас ожидает небольшая коляска — веттура. Лошадь, крупная серая кобыла, косится на нас и всхрапывает. Пар валит из ее ноздрей и облачком поднимается в прохладном утреннем воздухе.
— Что это еще за штука? — спрашивает Хент.
— Лошадь.
Хент с опаской протягивает руку к животному, словно от прикосновения оно лопнет, как мыльный пузырь. Кобыла преспокойно машет хвостом. Хент отдергивает руку.
— Лошади бог весть когда вымерли, — бормочет он. — Их потом ни разу не воссоздавали.
— Эта выглядит довольно реальной, — говорю я, с трудом усаживаясь на узкое сиденье.
Хент, озираясь по сторонам, устраивается рядом. Его длинные пальцы подрагивают от волнения.
— А кто ею управляет? — спрашивает он. — И как? Вожжей нет, кучера тоже.
— Посмотрим, может, она сама знает дорогу, — говорю я, и коляска тут же трогается с места. Она без рессор, и каждый камень или ухаб сопровождаются жуткой встряской.
— Что все это значит? Может быть, кто-то подшутил над нами? — вполголоса спрашивает Хент, обозревая безоблачное небо и далекие мирные поля.
Как можно тише и быстрее я кашляю в платок, который изготовил из полотенца, позаимствованного в гостинице.
— Возможно. Но разве жизнь наша — не шутка?
Хент пропускает мою софистику мимо ушей. Мы громыхаем дальше, вприпрыжку и враскачку двигаясь каждый к своему месту назначения и к своей судьбе.
— Где Хент и Северн?
Седептра Акази, молодая негритянка, вторая помощница Гладстон, наклонилась к самому ее уху, чтобы не мешать ходу военного совета:
— Пока никаких известий, госпожа секретарь.
— Невероятно. У Северна был маяк, а Ли отправился на Пасем почти час назад. Где их черти носят?
Акази бросила быстрый взгляд на факсблокнот, который положила на стол.
— Служба безопасности не может их обнаружить. Транспортная полиция — тоже. Регистратор нуль-канала зафиксировал, что они набрали код ТКЦ и вошли в портал. Но сюда не прибыли.
— Что?
— Таковы факты, госпожа секретарь.
— Я хочу переговорить с Альбедо или с кем-нибудь из Советников сразу после совещания.
— Будет исполнено.
Обе женщины вновь сосредоточились на происходящем. Оперативно-командный центр Дома Правительства был соединен прозрачными пятнадцатиметровыми порталами с Военным Кабинетом Олимпийской Школы и с самым большим залом для проведения сенатских брифингов. За счет этого три помещения слились в одну асимметричную конференц-пещеру, дальний конец которой благодаря голопроекторам Военного Кабинета казался уходящим в бесконечность. По стенам, куда ни глянь, скользили инфоколонки срочных сводок.
— Четыре минуты до пересечения лунной орбиты, — произнес адмирал Сингх.
— Они давно уже могли обработать Небесные Врата из своих дальнобойных энергопушек, — заметил генерал Морпурго. — Похоже, проявляют сдержанность.
— Не очень-то они сдерживались при встрече с нашими факельщиками, — возразил Гарион Персов, глава дипломатического ведомства. Военный совет был созван час назад, после того как импровизированная эскадра из дюжины факельщиков, вышедшая навстречу Рою, была полностью уничтожена. По мультилинии долетело лишь несколько кадров, изображавших скопление похожих на кометы искр с хвостами термоядерных выхлопов. Искр было великое множество.
— Это были военные корабли, — возразил Морпурго. — Мы уже несколько часов твердим на всех частотах, что отныне Небесные Врата — открытый мир. Можно надеяться на их сдержанность.
Вокруг повисли голографические виды Небесных Врат: притихшие улицы Центрального Отстойника, побережье (съемки с воздуха), серо-коричневый шар планеты, вечно укутанный облаками (съемки с орбиты), вычурный додекаэдр сферы сингулярности, связывающей воедино все порталы системы, а также изображения приближающегося Роя, полученные при помощи космических ультрафиолетовых, рентгеновских и обычных оптических телескопов. Но это уже не точки и не искры — до них меньше астроединицы. Запрокинув голову, Гладстон принялась разглядывать шлейфы, тянущиеся за военными кораблями Бродяг, их неуклюжие фермы в мерцающей кожуре силовых полей, их поселения-пузыри и замысловатые безгравитационные города — какие-то нечеловеческие, жуткие, а в голове билась одна-единственная мысль: «Что, если я ошибаюсь?»
Мало чем подкрепленное убеждение, что Бродяги пощадят открытые миры Гегемонии, дорого обойдется человечеству.
— Две минуты до вторжения, — сообщил Сингх бесстрастным голосом военнога.
— Адмирал, — обратилась к нему Гладстон, — обязательно ли уничтожать сферу сингулярности, как только Бродяги пересекут границу нашего «санитарного кордона»? Нельзя ли подождать еще несколько минут, чтобы выяснить их намерения?
— Это невозможно, госпожа секретарь, — твердо ответил адмирал. — Решетка нуль-канала должна быть уничтожена, как только они окажутся на дистанции удара.
— Но, помимо ваших факельщиков, можно воспользоваться внутрисистемной связью, ретрансляторами мультилинии и обычными минами замедленного действия. Верно?
— Да, это так, но до того, как Бродяги захватят систему, все порталы должны быть уничтожены. Запас прочности у нашей обороны невелик, и какие-либо отклонения от графика недопустимы.
Гладстон кивнула. Все правильно. Будь у них чуть побольше времени…
— Пятнадцать секунд до вторжения и ликвидации сферы, — объявил Сингх. — Десять… семь…
Внезапно изображения факельщиков и спутников-ретрансляторов ярко вспыхнули. Из фиолетового свечение стало красным, затем раскалилось до белого.
Гладстон вздрогнула:
— Взрыв сферы сингулярности?
Военные, посовещавшись, запросили дополнительную информацию, и на экранах появилось изображение.
— Нет, госпожа секретарь, — ответил Морпурго, всматриваясь в новую картинку. — Враг атакует факельщики. То, что вы видите, побочный эффект перегрузки их защитных полей. Они… а-ах!.. вот.
На центральном дисплее (трансляция, видимо, идет с низкоорбитального спутника) появилось увеличенное изображение додекаэдра, окружающего сферу сингулярности. Все тридцать тысяч квадратных метров его поверхности пока невредимы и лишь поблескивают в неласковых лучах солнца Небесных Врат. Внезапно блеск превращается в пламя, и ближайшая к камере грань сооружения, раскалившись добела, проваливается внутрь. Еще три секунды — и от додекаэдра не осталось и следа. Запертая в нем сингулярность, вырвавшись на свободу, немедленно поглотила самое себя и все остальное в радиусе шестисот километров.
В тот же миг исчезло большинство изображений и пропали почти все инфоколонки.
— Все нуль-каналы на Врата уничтожены, — сообщил Сингх. — Информация из системы транслируется только мультипередатчиками.
Военные облегченно вздохнули. Из уст многочисленных сенаторов и политических советников вырвалось что-то вроде стона: Небесные Врата только что вырезаны из тела Сети… Первая потеря таких масштабов за четыре с лишним века истории Гегемонии.
Гладстон повернулась к Седептре Акази.
— Сколько времени займет теперь дорога из Сети до Небесных Врат?
— Для спин-звездолетов — семь месяцев бортового времени, — отчеканила негритянка, не запрашивая комлог. — Запаздывание составит девять с небольшим лет.
Гладстон кивнула. Что ж, отныне Небесные Врата находятся в девяти годах полета от ближайшего мира Сети.
— А вот и наши факельщики, — произнес Сингх.
Изображение, пришедшее с одного из орбитальных сторожевиков, — компьютерная развертка высокоскоростной мультиграммы, раскрашенная в условные цвета, — то и дело подергивалось. Мозаичная картинка почему-то напомнила Гладстон немые фильмы древности. Но на экране не комедия с Чарли Чаплином. Два, пять, восемь ярких огней вспыхнули в звездном небе над диском планеты.
— Передачи с КГ «Ники Веймарт», КГ «Террапин», КГ «Корнет» и КГ «Эндрю Пол» прекращены, — сообщил Сингх.
Барбара Дэн-Гиддис подняла руку:
— А что другие четыре корабля, адмирал?
— Только названные мною были оснащены мультипередатчиками. Сторожевики подтверждают, что радио-, мазерная и широкополосная связь с остальными четырьмя факельщиками потеряна. Визуальные данные… — Сингх умолк и указал на изображение, транслируемое со сторожевика-автомата: восемь кругов света ярко вспыхнули, увеличились почти вдвое и тут же на глазах поблекли; а среди звезд кишмя кишели огненные змеи-шлейфы. Внезапно исчезла, словно ее выключили, и эта картинка.
— Теперь все орбитальные зонды и ретрансляторы мультилинии прекратили существование, — резюмировал Морпурго.
Он взмахнул рукой, и черная пустота сменилась изображением улиц Небесных Врат, над которыми нависала неизменная облачная пелена. Самолеты, летевшие над облаками, показывали небо, исчерканное следами выхлопов и трассами выстрелов.
— Сообщения со спутников подтверждают, что сфера сингулярности уничтожена, — сказал Сингх. — Передовые единицы Роя выходят на высокую орбиту вокруг Небесных Врат.
— Сколько человек там осталось? — спросила Гладстон, подавшись вперед и сцепив пальцы.
— Восемьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять, — ответил министр обороны Имото.
— Не считая двенадцати тысяч морских пехотинцев, переброшенных туда за последние два часа, — вполголоса добавил генерал Ван Зейдт.
Имото кивком подтвердил слова генерала.
Гладстон поблагодарила их и снова переключила внимание на голограммы. Плавающие над головой инфоколонки и их резюме на факсблокнотах, комлогах и настольных панелях содержали массу информации — количество единиц Роя, вошедших в систему на данный момент, число и типы кораблей на орбите, ожидаемые траектории торможения и временные графики, энергетические спектры и перехваты вражеских передач, — но Гладстон интересовало другое: она была поглощена скучноватой трансляцией по мультилинии с самолетов и поверхности планеты: звезды, облака, улицы, вид с высоты Аэростанции на столичный Променад. Всего двенадцать часов назад она стояла на его плитах. На Небесных Вратах тогда была ночь. Гигантские конские папоротники беззвучно шевелились под легким бризом с залива.
— Мне кажется, они вступят в переговоры, — заговорила сенатор Ришо. — Сначала поставят нас перед свершившимся фактом — захватом девяти миров, а затем начнут переговоры с учетом нового соотношения сил. Таким образом, если даже обе волны вторжения добьются успеха, мы потеряем всего двадцать пять миров из почти двухсот миров Сети и Протектората.
— Вы правы, — отозвался глава дипведомства Персов, — но не следует забывать, сенатор, что в число этих двадцати пяти входят миры первостепенной важности. Например, вот этот. По графику Бродяг какие-то двести тридцать пять часов отделяют ТКЦ от Небесных Врат.
Сенатор Ришо в упор посмотрела на Персова.
— Разумеется, — холодно ответила она. — Я имела в виду только то, что Бродяги вряд ли стремятся завоевать всю Сеть целиком. Не так они глупы. Кроме того, ВКС не допустят глубокого проникновения второй волны. Поэтому так называемое нашествие — прелюдия к переговорам.
— Возможно, — вмешался Ронквист, сенатор от Нордхольма, — но предмет переговоров, полагаю, будет зависеть от…
— Подождите, — перебила его Гладстон.
Инфоколонки свидетельствовали, что уже более ста военных кораблей Бродяг вышли на орбиту вокруг Небесных Врат. Войска на планете получили указание не открывать огня первыми. На тридцати с лишним картинках, поступающих по мультилинии в Военный Кабинет, — никаких признаков активных действий. Внезапно облачная пелена над Центральным Отстойником загорелась, будто подсвеченная гигантским прожектором. В следующую секунду десять широких лучей когерентного света принялись хлестать по заливу и городу, отчего сходство с иллюминацией стало еще более полным. Гладстон показалось, что поверхность планеты и облачный потолок соединили мгновенно выросшие исполинские белые колонны.
Но иллюзия исчезла так же внезапно, как и возникла: основание каждой из световых колонн взорвалось огненно-алым фонтаном пламени и обломков. Вода в заливе закипела, и огромные гейзеры ослепили объективы ближайших камер. С аэростанции было видно, как один за другим загораются старинные особняки, словно сквозь них несется огненный смерч. Знаменитые на всю Сеть сады и лужайки Променада обратились в море пламени. В воздух взметнулись тучи грунта и щепок, будто землю вспорол исполинский плуг. Двухсотлетние конские папоротники ломались под напором урагана, как соломинки, и буквально испарялись, пожранные огнем.
— Лазерные орудия факельщика класса «Джокер», — медленно произнес адмирал Сингх. — Или его Бродяжьего эквивалента.
Город горел, взрывался, дробился в щебень под смертоносной тяжестью световых колонн. Трансляция не сопровождалась звуком, но Гладстон казалось, что она слышит крики.
Одна за другой выходили из строя камеры на поверхности планеты. Вид с Аэростанции исчез, отсалютовав белой вспышкой. Самолетные камеры давно прекратили существование. Два десятка других экранов, еще получавших изображения, начали мигать и слепнуть. Один из них залило ослепительное рубиновое зарево, после чего все присутствующие принялись тереть глаза.
— Плазменный взрыв, — тихо сказал генерал Ван Зейдт. — Мегатонного эквивалента.
Там, на северном берегу Внутреннего Канала, располагался оборонительный комплекс морских пехотинцев ВКС.
Последние изображения исчезли все разом. Связь с планетой оборвалась. Светильники в зале загорелись ярче, чтобы разогнать тьму, сгустившуюся столь внезапно, что перехватило дух.
— Основной мультипередатчик вышел из строя, — бесстрастно резюмировал генерал Морпурго. — Он находился на главной базе ВКС вблизи Высоких Врат. Под самым надежным силовым полем, скалой пятидесятиметровой толщины и десятиметровым щитом из армированного сталлоя.
— Кумулятивные ядерные заряды? — спросила Барбара Дэн-Гиддис.
— Как минимум, — ответил Морпурго.
Поднялся сенатор Колчев, громоздкий и сильный, словно медведь:
— Хватит! Это вам не спектакль. Бродяги только что обратили в груду пепла один из миров Сети. Идет война на уничтожение. Тотальная война. На карту поставлено само существование нашей цивилизации. Что будем делать?
Все взоры обратились к Мейне Гладстон.
Вытащив оглушенного Тео Лейна из разбитого скиммера, Консул взвалил его на плечи и побрел к деревьям на набережной. С трудом преодолев пятьдесят метров, он как подкошенный рухнул на траву. Скиммер не загорелся, но, судя по его покореженному фюзеляжу, летать ему больше не суждено. Металлические обломки и куски пластмассы усеяли набережную и пустынный проспект.
Город был охвачен огнем. Дым мешал выяснить, что творится за рекой, но при взгляде на эту часть Джектауна казалось, будто пылают сразу несколько чудовищных погребальных костров. Толстые столбы черного дыма поднимались к низким облакам. Боевые лазеры и ракеты неумолимо резали и кроили туман, порой ставя точку взрывом — когда им попадался штурмовик, параплан или пузырь тормозного поля. Но все новые и новые единицы десанта вылетали из облаков и кружили над городом, как солома над свежеубранным полем.
— Тео, ты в порядке?
Генерал-губернатор утвердительно кивнул и хотел поправить очки у себя, но, обнаружив, что они исчезли, он смущенно отдернул руку и озадаченно уставился на окровавленные пальцы.
— Кажется, ударился головой, — заплетающимся языком произнес он.
— Нужен твой комлог, — сказал Консул. — Надо вызвать сюда кого-нибудь, чтобы нас подобрали.
Тео поднял руку и, хмурясь, осмотрел запястье.
— Исчез, — пробормотал он. — Пойду поищу в скиммере.
Консул удержал его. Они находились под прикрытием деревьев, но скиммер торчал у всех на виду, да и сама их посадка вряд ли прошла незамеченной. В нескольких метрах от земли Консул увидел на соседней улице нескольких солдат в панцирях. Это могли быть ополченцы, Бродяги или даже морские пехотинцы Гегемонии, но, к сожалению, и те, и другие, и третьи склонны сначала стрелять, а потом думать.
— Туда нельзя, — сказал он. — Разыщем какой-нибудь фон. — Он огляделся и тут же узнал этот район.
В нескольких сотнях метрах от них высился заброшенный старинный собор, вернее, то, что от него осталось. Кое-где река подмыла берег, и развалины буквально сползли в воду.
— Я знаю, где мы, — оживился Консул. — Всего в квартале или двух от «Цицерона». Пошли. — Он забросил руку Тео себе на шею, помогая раненому подняться.
— «Цицерон», вот здорово, — прошептал Тео. — Глоток не повредил бы.
Треск винтовок и ответное шипение лучеметов донеслись с соседней улицы — той, что южнее. Консул почти взвалил Тео на себя и, согнувшись в три погибели, побрел по узкой набережной к «Цицерону».
— Проклятие! — выругался Консул.
«Цицерон» горел. Старая гостиница с баром — ровесница Джектауна — уже потеряла три из четырех зданий. Несколько завсегдатаев с ведрами в руках пытались спасти последнее.
— А вот и Стен. — Консул указал на массивную фигуру Стена Левицкого в начале цепочки и усадил Тео под вязом на обочине. — Как голова?
— Болит.
— Сейчас приведу кого-нибудь.
Стен Левицкий уставился на Консула так, словно перед ним появился призрак. По черному от сажи лицу великана катились слезы, а в широко раскрытых глазах застыли ужас и недоумение. Для шести поколений семьи Левицких «Цицерон» был не просто домом. Он был их жизнью. Начал накрапывать дождь, и пожар как будто пошел на убыль. Рядом кто-то предостерегающе крикнул — несколько балок прогоревшей части гостиницы рухнули на головешки первого этажа.
— Господи Боже, ее больше нет, — пробормотал Левицкий. — Видели? Пристройка дедушки Джири! Нет ее больше.
Консул схватил великана за руку.
— Стен, нам нужна помощь. Там Тео. Скиммер разбился. Мы должны добраться до космопорта… позвонить по твоему фону. Это очень важно, Стен. Пожалуйста.
Левицкий помотал головой.
— Фон сгорел. Каналы комлога забиты. Война проклятая. — Он указал на выгоревшую часть старой гостиницы. — Все пошло прахом. Все.
Консул в бессильном гневе сжал кулаки. Вокруг толпились люди, но он никого не знал. Хоть бы один знакомый из ВКС или ССО!
— Я могу помочь. У меня есть скиммер, — негромко сказал кто-то у него за спиной.
Резко обернувшись, Консул увидел человека лет шестидесяти или чуть старше. Его красивое лицо было черно от копоти, вьющиеся волосы слиплись от пота.
— Отлично, — обрадовался Консул. — Буду весьма признателен. — Он прищурился. — Я вас знаю?
— Доктор Мелио Арундес, — представился мужчина и бросился к Тео.
— Арундес, — на бегу повторил Консул, стараясь не отставать. Это имя было ему знакомо. Бесспорно знакомо. И тут до него дошло: — Боже мой, Арундес! Друг Рахили Вайнтрауб!
— Собственно, я был ее научным руководителем, — отозвался Арундес. — Я и вас знаю: вы отправились в паломничество вместе с Солом. — Они остановились возле Тео. — Мой скиммер вон там, — показал Арундес.
Под деревьями стоял небольшой двухместный «Виккен-Зефир».
— Отлично! Отвезем Тео в госпиталь, а затем — в космопорт. Мне совершенно необходимо попасть туда.
— С госпиталем ничего не получится: переполнен, — сказал Арундес. — Но если хотите попасть на свой корабль, я посоветовал бы вам взять генерал-губернатора с собой и воспользоваться бортовой операционной.
Консул растерялся:
— Откуда вам известно о моем корабле?
Арундес распахнул дверцы и помог усадить Тео на узкую скамейку в хвосте, позади двух контурных кресел.
— Чего только я не узнал о вас и других паломниках, пока добивался разрешения отправиться в Долину Гробниц! Вы не представляете, как я терзался, услышав, что «Бенарес» уже в пути. — Арундес перевел дух и замолк. Потом поднял глаза на Консула: — Рахиль… жива?
Когда она была взрослой женщиной, они любили друг друга, вспомнил Консул.
— Не знаю, — честно ответил он. — Вот почему мне нужно поскорее вернуться туда — чтобы помочь ей, если еще не поздно.
Мелио Арундес кивнул и занял водительское место, жестом приглашая Консула сесть рядом.
— Попытаемся добраться до космопорта. Хотя там сейчас такое творится!
Консул тяжело опустился в кресло и поморщился от боли, когда на его избитое тело опустились противоперегрузочные пояса.
— Необходимо доставить Тео… генерал-губернатора… в консульство, или резиденцию правительства, или как там оно теперь называется.
Арундес покачал головой и включил ускорители:
— Консульства больше нет. В новостях передали — уничтожено случайной ракетой. А все официальные лица и чиновники Гегемонии еще до того, как ваш друг отправился вас искать, отбыли в космопорт. Эвакуироваться.
Консул оглянулся на Тео Лейна и негромко сказал:
— Давайте.
Над рекой скиммер попал под обстрел, но пули от корпуса отскакивали, а случайный энерголуч прошел ниже, взметнув вверх десятиметровый столб пара. Арундес орудовал рулем, как сумасшедший: вилял, закладывал виражи, пикировал, делал свечи, а иногда вращал скиммер вокруг оси, как доску на волне. Кресло амортизировало толчки, но Консула все равно замутило. Голова Тео безжизненно болталась из стороны в сторону — он уже давно потерял сознание.
— В центре неладно! — Арундес старался перекричать ревущие двигатели. — Я полечу вдоль старого виадука до шоссе, потом на бреющем срежу над пустырями. — Они сделали пируэт над горящим зданием, в котором Консул узнал дом, где когда-то жил.
— Шоссе на космопорт открыто?
Арундес покачал головой.
— Не знаю. Но, думаю, не стоит рисковать. Последние полчаса над ним кружат парапланы.
— Бродяги пытаются разрушить город?
— Вряд ли. Они могли бы без всяких хлопот сделать это с орбиты. По-моему, они просто хотят окружить столицу. Основные силы десанта садятся минимум в десяти километрах от ее границ.
— Кто же им теперь противостоит? Силы самообороны?
Арундес рассмеялся, и на его закопченном лице сверкнули крепкие белые зубы.
— Эти теперь на полпути к Эндимиону и Порт-Романтику… Хотя четверть часа назад, до того, как каналы забило, сообщили, что и тот и другой атакованы. То, что вы видите, — работа нескольких десятков морских пехотинцев, оставленных оборонять город и космопорт.
— Значит, Бродяги не разрушили космопорт? И даже не захватили?
— Пока нет. По крайней мере за последние несколько минут. Сейчас сами все увидим. Держитесь!
Десятикилометровое путешествие до космопорта по специальному шоссе или по воздушному коридору над ним обычно занимало считанные минуты, но Арундес, прижав скиммер к земле, полетел в обход. Они то набирали высоту, то снижались, ныряли в долины, лавировали между холмами и деревьями. Консулу стало казаться, что этому изматывающему кроссу не будет конца. Он едва успевал поворачиваться, чтобы уследить за происходящим на склонах холмов и в горящих лагерях беженцев. При виде скиммера люди разбегались кто куда, прячась за валунами и в кустах, прикрывая руками голову. Внизу мелькнул взвод морских пехотинцев ВКС, окопавшийся на вершине холма. К счастью, внимание солдат было сконцентрировано на соседнем холме, с которого летели копья лазерных очередей. Арундес резко увел машину влево и только нырнул в узкий овраг, как верхушки деревьев на его краю взметнулись в воздух, словно срезанные гигантскими ножницами.
Наконец они перевалили через последнюю гряду холмов, и впереди показались западные ворота космопорта. Вдоль периметра горели синие и фиолетовые стены силовых и заградительных полей. До космопорта оставался почти километр, когда с земли поднялся яркий лазерный луч, поймал их, и голос в наушниках рявкнул:
— Неопознанный скиммер, немедленно сядьте или будете сбиты.
Арундес подчинился.
Деревья в десяти метрах от скиммера замерцали каким-то призрачным светом, и машину тут же окружили призраки в хамелеоновых скафандрах. Арундес открыл двери, и они с Консулом оказались под прицелом десантных винтовок.
— Покиньте скиммер, — скомандовал загробный голос из камуфляжного сияния.
— С нами генерал-губернатор, — заявил Консул. — Нам абсолютно необходимо попасть в космопорт.
— Хватит рассказывать сказки! — у говорившего был явный акцент уроженца Сети. — Выходите!
Консул и Арундес поспешно расстегнули амортизаторы своих кресел и уже начали выбираться наружу, когда с задней скамейки донесся слабый голос:
— Лейтенант Мюллер, это вы?
— Э-э… так точно, сэр.
— Вы узнаете меня, лейтенант?
Мерцающий сгусток погас, и перед скиммером материализовался статный морской пехотинец в полной боевой экипировке. Его лицо скрывало черное забрало, но, судя по голосу, он был совсем молод.
— Так точно, сэр… господин губернатор. Простите, не сразу узнал вас. Вы ранены, сэр!
— Я знаю, что ранен, лейтенант. Потому эти господа и сопровождают меня. Разве вы не узнаете бывшего Консула Гегемонии на Гиперионе?
— Простите, сэр. — Лейтенант жестом приказал своим людям ретироваться. — База закрыта.
— Конечно, закрыта, — процедил Тео сквозь зубы. — Я сам подписывал приказ. Но при этом я разрешил эвакуацию административного персонала Гегемонии. Вы ведь пропустили их скиммеры, лейтенант Мюллер?
Рука в бронеперчатке невольно поднялась, чтобы почесать закрытый шлемом затылок.
— Так точно, сэр, пропустил. Но, сэр, это было час назад. Корабли с эвакуированными отбыли и…
— Ради Бога, Мюллер, воспользуйтесь своим тактическим имплантом и запросите полковника Герасимова…
— Полковник убит, сэр. Восточный участок периметра атаковал катер противника и…
— Тогда свяжитесь с капитаном Льювеллином, — приказал Тео и, побледнев, вцепился в спинку кресла Консула, чтобы не упасть.
— Но… видите ли, сэр, оперканалы не действуют. Бродяги глушат широкополоску с помощью…
— Лейтенант, — Консул ушам своим не поверил, так грубо и хрипло звучал голос Тео, — вы опознали меня и проверили мой имплант. Пропустите нас на поле — или расстреляйте!
Морской пехотинец оглянулся на аллею, словно раздумывая, не отдать ли своим людям приказ «Пли!»
— Но ведь все корабли ушли, сэр!
Тео через силу кивнул. Кровь у него на лбу высохла и запеклась, но из волос показалась свежая струйка.
— Задержанный корабль все еще в девятой шахте?
— Так точно, сэр. — Мюллер вытянулся в струнку. — Но это гражданский корабль, и ему не пробиться через кордон Бродяг…
Тео, не слушая больше, сделал Арундесу знак лететь дальше. Периметр космопорта стремительно приближался. Консул, вспомнив о минных заграждениях, оглянулся и увидел, как лейтенант поднял руку. Фиолетовые и синие энергостены послушно расступились перед скиммером. Никто не стрелял. Через полминуты они уже скользили над летным полем. У северной ограды догорало что-то объемистое. Слева сгрудились военные трейлеры и командные модули, вплавленные в застывшее пластмассовое озеро.
Там были люди, подумал Консул, и его снова замутило.
Пусковой шахты номер семь больше не существовало — десятисантиметровые стены из армированного углепласта обрушились внутрь, словно картонные. Пусковая шахта номер восемь горела белым пламенем — тут не обошлось без плазменных гранат. Пусковая шахта номер девять была цела и невредима. Нос корабля Консула чуть виднелся сквозь мерцание силового поля третьего класса.
— Арест снят? — спросил Консул.
— Да. Гладстон санкционировала снятие заград-купола, — прохрипел Тео. — А это обычное защитное поле. Его можно отключить простой командой.
В тот самый момент, когда вспыхнули красные огоньки аварийной сигнализации и механические голоса принялись перечислять неисправности, машина опустилась на бетонные плиты поля. Консул и Арундес помогли Тео выбраться из скиммера и на минуту остановились у борта крошечной машины. Кожух двигателя прочертили вмятины от пуль, в фюзеляже зияли пробоины, а обтекатель кое-где сплавился от перегрузок.
Мелио Арундес погладил обшивку скиммера, и они потащили Тео к дверям шахты и ожидающему их трапу.
— Боже мой! — изумился доктор Арундес. — Какое чудо. Я впервые на борту частного звездолета.
— В Сети не наберется и полусотни кораблей такого класса. — Консул прикрыл рот и нос Тео осмотической маской и осторожно погрузил его рыжую голову в реанимационную камеру с питательным раствором. — Правда, стоит он недешево — несколько сотен миллионов марок. Видите ли, промышленным магнатам и высоким особам Окраины невыгодно использовать военные корабли в тех редких случаях, когда им приходится совершать межзвездные перелеты. — Консул закрыл бак и пошептался с автоматом-диагностом. — Отлично. За Тео можно не беспокоиться.
Мелио Арундес, стоя возле старинного «Стейнвея», зачарованно водил пальцем по золоченой крышке рояля. Затем выглянул наружу через прозрачную часть корпуса над втянутым балконом и озабоченно произнес:
— У главных ворот стреляют. Пора стартовать.
— Как раз этим я и занимаюсь, — ответил Консул, жестом приглашая Арундеса занять место на диване, опоясывающем проекционную нишу.
Опустившись на мягкие подушки, археолог огляделся:
— Разве здесь нет… э-э… органов управления?
Консул улыбнулся.
— Что вы предпочитаете? Капитанский мостик? Пульт? Может, штурвал? Корабль!
— Да, — раздался из ниоткуда негромкий голос.
— Разрешение на взлет получено?
— Да.
— Силовое поле снято?
— Это было наше поле. Я убрал его.
— Хорошо, тогда удираем отсюда во все лопатки. Тебе не надо напоминать, что мы в самом пекле?
— Нет. Я слежу за развитием событий. Последние звездолеты ВКС покидают систему Гипериона. Морские пехотинцы брошены на произвол судьбы, и…
— Анализ оперативной обстановки подождет, — остановил его Консул. — Курс на Долину Гробниц Времени. Вытаскивай нас отсюда.
— Слушаюсь, сэр, — отозвался корабль. — Хочу лишь обратить ваше внимание на тот факт, что силам, обороняющим космопорт, не продержаться больше часа.
— Принял к сведению, — сердито ответил Консул. — Теперь — взлет.
— Сначала я должен ознакомить вас с мультиграммой. Сообщение получено сегодня днем в 1622:38:14 по стандартному времени Сети.
— Стоп! — крикнул Консул, замораживая голограмму в процессе возникновения, и половина лица Мейны Гладстон повисла в воздухе. — Тебе приказали показать это перед взлетом? Чьи команды ты исполняешь?
— Секретаря Сената, сэр. Госпожа Гладстон полностью приостановила функционирование моих систем пять суток тому назад. Просмотр этой мультиграммы — последнее условие…
— Так вот почему ты не подчинился моим приказам из Долины, — догадался Консул.
— Да, — спокойно ответил корабль. — Я собирался сказать, что после показа мультиграммы управление мною перейдет к вам.
— И тогда ты будешь выполнять все мои приказы?
— Да.
— Доставишь нас, куда я прикажу?
— Да.
— Никаких скрытых запретов?
— Никаких, насколько мне известно.
— Ставь свое послание, — приказал Консул.
Линкольновское лицо Мейны Гладстон закачалось посреди проекционной ниши в облаке пятен и искр, непременно сопровождающих мультипередачи.
— Рада узнать, что вы вернулись живым и невредимым из путешествия к Гробницам Времени, — сказала она Консулу. — Теперь прошу вас вступить в переговоры с Бродягами и только после этого вернуться в Долину.
Скрестив руки на фуди, Консул уставился на Гладстон. Солнце садилось. Считанные минуты отделяли Рахиль Вайнтрауб от небытия. Еще немного, и младенец, издав свой первый и последний крик, исчезнет.
— Понимаю, как важно для вас немедленно вернуться к друзьям, — продолжала Гладстон, — но ребенку вы ничем не поможете… Эксперты Сети заверили нас, что ни криогенный сон, ни фуга не смогут остановить развитие болезни Мерлина. Солу это известно.
Сидевший напротив Арундес тихо заметил:
— Это правда. Они экспериментировали не один год. Фуга убьет ее.
— …вы можете искупить свою вину перед миллиардами жителей Сети… — говорила тем временем Гладстон.
Консул наклонился к голограмме и подпер подбородок кулаком. Его буквально оглушил стук собственного сердца.
— Я знала, что вы откроете Гробницы Времени, — продолжала Гладстон. Ее печальные карие глаза смотрели прямо на Консула, будто видели его насквозь. — Прогнозисты Техно-Центра доказали, что ваша верность Мауи-Обетованной, верность памяти деда и бабушки пересилит все остальное. Пришла пора открыть Гробницы Времени, но только вы способны были включить устройство Бродяг, прежде чем они сами на это решатся.
— Все, сыт по горло, — сдавленным голосом произнес Консул и встал, отвернувшись от проекции. — Выключи сообщение, — приказал он кораблю, зная наперед, что тот не подчинится.
Мелио Арундес, шагнув сквозь проекцию, схватил Консула за руку своими сильными пальцами:
— Выслушайте ее. Пожалуйста.
Консул отрицательно покачал головой, но в нише остался.
— Случилось самое худшее, — сказала Гладстон. — Бродяги вторглись в Сеть. Небесные Врата в огне. Меньше чем через час волна уничтожения захлестнет Рощу Богов. Вы должны встретиться с Бродягами в системе Гипериона и вступить с ними в переговоры. Используйте все ваше мастерство и склоните их к диалогу с нами. Бродяги не отвечают на наши обращения по мультилинии и радио, но мы предупредили их о вашей миссии. Мне кажется, они вам по-прежнему доверяют.
У Консула вырвался стон. Он отвернулся, избегая сурового взгляда Гладстон, и ударил кулаком по крышке рояля.
— Дорогой Консул, счет пошел на минуты. Прошу вас, разыщите сначала Бродяг. А потом можете вернуться в Долину, если сочтете нужным. Кому, как не вам, знать, что несет с собой война. Если мы не сумеем напрямую связаться с Бродягами, погибнут миллионы. Решение принимать вам, но помните — это последний шанс добраться до истины и сохранить мир. Не отказывайтесь от него! Я свяжусь с вами по мультилинии, когда вы достигнете Роя…
Изображение Гладстон задрожало, потускнело и исчезло.
— Отвечать? — спросил корабль.
— Нет. — Консул мерил шагами пространство между «Стейнвеем» и проекционной нишей.
— За последние двести лет ни одному кораблю или скиммеру не удалось совершить посадку в Долине, не лишившись при этом экипажа, — вполголоса произнес Мелио Арундес. — Гладстон, видимо, известно, как опасен ваш план. Вряд ли, вернувшись в Долину, вы увильнете от Шрайка и доживете до встречи с Бродягами.
— Теперь там все по-другому, — бросил Консул, не глядя на археолога. — Приливы времени взбесились. Шрайк разгуливает, где ему заблагорассудится. Возможно, все эти странности с исчезновением экипажей тоже отошли в прошлое.
— А может, и нет. Корабль благополучно сядет в Долине, а нас на борту не будет, — возразил Арундес.
— Проклятие! — воскликнул Консул, резко обернувшись. — Вы же знали, чем рискуете, когда присоединились ко мне!
Археолог покачал головой.
— Вы неправильно меня поняли. Мне наплевать на опасность, если есть шанс помочь Рахили… Хотя бы увидеть ее напоследок. Но вы — дело другое. От вас, возможно, зависит судьба человечества.
Консул сжал кулаки и, словно зверь в клетке, заметался по каюткомпании.
— Сколько можно лгать! Я уже был пешкой в игре Гладстон. Она использовала меня… цинично… расчетливо. Послушайте, Арундес, я убил четырех ни в чем не повинных Бродяг, перестрелял одного за другим, чтобы включить их проклятую машину. Думаете, они встретят меня с распростертыми объятиями?
Темные внимательные глаза археолога были устремлены на Консула:
— А Гладстон уверена, что вам удастся найти с ними общий язык.
— Кто знает, что мне удастся, а что не удастся? И о чем на самом деле думает Гладстон? Гегемония и ее взаимоотношения с Бродягами меня больше не интересуют. Поймите вы это наконец! Все, что я могу сказать и тем, и другим: «Чума на оба ваших дома!»
— И вас не трогает судьба человечества?
— Я не имею чести быть знакомым с человечеством, — помолчав, сказал Консул. — Я знаю Сола Вайнтрауба. Рахиль. Женщину по имени Ламия Брон, которая сейчас при смерти. Отца Поля Дюре. И Федмана Кассада. И…
Его прервал спокойный, ясный голос корабля:
— Северный оборонительный рубеж космопорта прорван. Приступаю к заключительным предстартовым операциям. Пожалуйста, займите свои места.
Консул с трудом побрел к проекционной нише. Внутреннее силовое поле, включенное кораблем, резко увеличило свой вертикальный градиент, прижимая предметы к положенным им местам и защищая пассажиров куда надежнее, чем любые ремни или амортизаторы. В космосе его давление хотя и ослабнет, но сохранится, заменяя гравитацию.
В голонише появился столб тумана, а в нем — изображение окрестностей. Шахта и космопорт, быстро уменьшаясь, исчезли внизу, после чего линия горизонта и далекие горы подпрыгнули и закачались — корабль уворачивался от зенитных ракет. Несколько лучевых пушек попытались взять их в клещи, но внешние поля легко отразили атаку. Горизонт вдруг резко отдалился и выгнулся, а лазурное небо потемнело и через несколько секунд обернулось черной космической ночью.
— Место назначения? — спросил корабль.
Консул закрыл глаза. За его спиной зазвенели колокольчики, сигнализируя, что Тео Лейна пора перенести из реанимационной камеры в хирургический блок.
— Сколько времени осталось до встречи с флотом Бродяг? — спросил Консул.
— Тридцать минут до Роя как такового, — ответил корабль.
— А когда мы войдем в зону поражения?
— Они уже взяли нас на прицел.
Лицо Мелио Арундеса оставалось невозмутимым, но пальцы, сжимавшие подлокотник, побелели от напряжения.
— Хорошо, — сказал Консул. — Направляйся к Рою. Избегай кораблей Гегемонии. Сообщай по всем каналам, что мы — безоружный дипломатический корабль, испрашивающий согласия вступить в переговоры.
— Это послание, санкционированное секретарем Сената, передается по мультилинии и на всех частотах.
— Отлично, — упавшим голосом произнес Консул и указал на комлог Арундеса. — Который час?
— Шесть минут до рождения Рахили.
Консул откинулся на спинку дивана, прикрыв глаза.
— Ваш долгий путь никуда не привел, доктор!
Археолог встал и, освоившись с искусственной гравитацией, медленно направился к роялю. Постояв несколько минут на месте, он выглянул в иллюминатор, за которым в бархатно-черном небе сиял лазурный полумесяц стремительно удаляющейся планеты.
— Посмотрим, — прошептал он. — Посмотрим.
Глава 38
Сегодня мы выехали на болотистую бесплодную равнину. Я узнал ее — это Кампанья. И как бы в честь данного события, на меня накатывает новый приступ кашля. Кровь хлещет ручьем, и на этот раз гораздо сильнее, чем ночью. Ли Хент вне себя от тревоги и собственного бессилия. Ему приходится держать меня за плечи во время судорог, а потом чистить мою одежду тряпкой, смоченной в ближайшей речушке. После того как приступ миновал, он тихонько спрашивает меня:
— Что еще я могу сделать для вас?
— Собирайте полевые цветы, — произношу я, задыхаясь. — Именно этим занимался Джозеф Северн.
Хент отворачивается, поджав губы. Не понимает, что это не бред и не злая ирония больного, а чистая правда.
Маленькая коляска и усталая лошадь тащатся по Кампанье, все ощутимее встряхивая нас на ухабах. Вечереет. Мы проезжаем мимо лошадиных скелетов, валяющихся у самой дороги; мимо развалин старой гостиницы и величественно замшелых руин виадука и, наконец, мимо столбов, к которым прибито что-то вроде палок белого цвета.
— Указатели? — спрашивает Хент, не догадываясь, что скаламбурил.
— Почти, — отвечаю я. — Кости бандитов.
Хент таращится на меня, подозревая, что болезнь окончательно помутила мой разум. Возможно, он прав.
Позже, уже выбравшись из болот Кампаньи, мы замечаем вдали движущееся красное пятно.
— Что это? — взволнованно спрашивает Хент. Я понимаю его: он все еще верит, что с минуты на минуту нам встретятся люди, а там и исправный портал.
— Кардинал, — отвечаю я, не покривив душой. — На птиц охотится.
Хент обращается к своему увечному комлогу.
— Кардинал — это же птица… — недоуменно говорит он.
Я киваю в знак согласия, смотрю на запад, но красное пятно уже исчезло.
— А также духовное лицо, — замечаю я. — Как вам известно, мы приближаемся к Риму.
Хент смотрит на меня, морща лоб, и в тысячный раз посылает общий вызов по комлогу. Но вокруг полная, ничем не нарушаемая тишина. Ритмично поскрипывают деревянные колеса веттуры; монотонно высвистывает трель за трелью далекая птица. Может быть, кардинал?
Мы въехали в Рим, когда облака зазолотились в первых отблесках заката. Наша хрупкая коляска, трясясь по булыжной мостовой, вкатывается в Латеранские ворота, и за ними сразу же открывается Колизей. Заросший плющом, загаженный тысячами своих жильцов-голубей и несравненно величественный. Куда более величественный, чем знакомый по голограммам его каменный портрет. Сейчас мы видим его в былом обличье, не стиснутым нелепыми экобашнями. Он царственно расположился среди полей и хижин, на границе города и мира. На почтительной дистанции от него раскинулся Рим — россыпь крыш и руин на легендарных семи холмах, но Колизей затмевает все.
— Боже, — шепчет Ли Хент. — Что это?
— Все те же кости бандитов. — Я пытаюсь шутить, еле-еле выговаривая слова в страхе перед новым приступом кашля.
Мы едем под перестук копыт по пустынным улицам Рима — города Старой Земли девятнадцатого века. Между тем вечер вступает в свои права, набрасывая на все покрывало мрака. Нигде ни души, лишь над куполами и крышами Вечного Города кружат голуби.
— Где же люди? — испуганно шепчет Хент.
— В них нет необходимости, — отвечаю я, и мои слова отдаются странным эхом в темном каньоне городских улиц. Езда по булыжной мостовой ничуть не приятнее, чем по ухабам проселочных дорог.
— Это что, какая-то фантопликация? — неуверенно спрашивает Хент.
— Остановите повозку, — предлагаю я, и послушная лошадь тут же застывает на месте. — Пните его, — говорю я Хенту, указывая на большой камень на мостовой.
Глядя на меня исподлобья, он все же спускается, подходит к камню и в сердцах пинает его. В следующую секунду из зарослей плюща и с колоколен взлетает несметное множество голубей, вспугнутых его отчаянной бранью.
— Как и доктор Джонсон, вы на опыте убедились в объективной реальности сущего, — говорю я. — Это не фантопликация и не сон. Не более чем вся наша жизнь.
— Почему они забросили нас сюда? — горестно шепчет помощник секретаря Сената, уставившись в небо. Можно подумать, сами боги слушают нас, прячась за темнеющим пологом вечерних облаков. — Что им надо?
«Им надо, чтобы я умер, — догадка сражает меня, как резкий удар в грудь. Я почти не дышу, стараюсь не делать глубоких вдохов — авось удастся избежать приступа. Мокрота бурлит и клокочет в горле. — Им надо, чтобы я умер у вас на глазах, Хент».
Кобыла между тем трогается с места, сворачивает направо, в первый переулок, еще раз направо, выезжает на улицу пошире — в реку мрака и отзвуков копыт, и, наконец, останавливается у верхней площадки гигантской лестницы.
— Приехали, — говорю я, с трудом вылезая из повозки. Ноги затекли, в груди ноет, ягодицы — сплошная рана. В голове вертится зачин сатирической оды на приятности странствий.
Хент следует за мной — и застывает на самом верху исполинской раздвоенной лестницы, недоверчиво уставившись на свои руки, словно это муляж:
— И куда же мы приехали, Северн?
Я указываю на площадь внизу, у подножия лестницы.
— Пьяцца ди Спанья, Площадь Испании, — говорю я и вдруг мне приходит в голову: как странно, что Хент называет меня Северном. Ведь я перестал им быть, как только мы въехали в Латеранские ворота. Точнее, в тот миг ко мне вернулось мое прежнее настоящее имя.
— Не пройдет и десятка лет, — шепчу я, — как эту лестницу назовут Испанской. — Я начинаю спускаться по правому маршу и тут же спотыкаюсь. Голова кружится. Подоспевший Хент едва успевает подхватить меня.
— Вы не можете идти, — говорит он дрогнувшим голосом. — Вы тяжело больны.
Я указываю на старое здание, обращенное глухой стеной на лестницу, а фасадом — на площадь.
— Уже недалеко, Хент. Вот оно, наше пристанище.
Хмурый взор помощника Гладстон останавливается на пресловутом здании:
— Для чего нам этот дом? Что нас ожидает в нем?
Не могу сдержать улыбку — Хент, самый непоэтичный человек на свете, заговорил в рифму. Я тут же вообразил, как мы полуночничаем в этом старом доме, и я обучаю его тонкостям использования цезнуры, или радостям чередования ямбической стопы с безударным пиррихием, или сладкому злоупотреблению спондеями.
И опять я кашляю, не могу сдержаться. По ладоням на рубашку струится кровь.
Хент помогает мне спуститься и пересечь площадь, где творение Бернини — фонтан-ладья — плещет и журчит в темноте, а затем, следуя за моим указательным пальцем, вводит меня в черный прямоугольник дверного проема — дверь дома номер 26 на Площади Испании. Вспомнив невольно Данте, я почти явственно вижу над дверной притолокой: «Оставь надежду, всяк сюда входящий».
Сол Вайнтрауб стоит у входа в Сфинкс и грозит кулаком Вселенной. Сгущаются сумерки, все ярче сияют открывающиеся Гробницы, а его дочь все не возвращается.
Не возвращается.
Шрайк забрал ее, положил крошечное тело новорожденной на стальную ладонь и исчез в жутком светящемся облаке, которое даже сейчас не впускало в себя Сола, давило на него, точно огненный ураган из недр планеты. Сол пытался продвигаться наперекор ему, но оно снова и снова отбрасывало его назад.
Солнце Гипериона зашло. Разбуженный спустившимся с горных вершин холодным воздухом, ветер ринулся в долину. Обернувшись, Сол увидел, как пляшут алые песчинки в сиянии открывающихся Гробниц.
Гробницы открываются!
Щурясь от холодного, режущего глаза света, Сол поглядел в глубь долины, где сквозь завесу пыли проступали зеленоватые болотные огни — остальные Гробницы. По дну долины протянулись длинные чередующиеся полосы света и тени. Последние блики заката соскользнули с облаков, и в мире воцарились ночь и воющий ветер.
Неужели ему почудилось? В дверном проеме соседней Нефритовой Гробницы что-то мелькнуло. То и дело оглядываясь на дыру, поглотившую Шрайка с его дочерью, Сол неуклюже спустился с крыльца Сфинкса и, ежась от ветра, старческой трусцой побежал по тропе.
Что-то медленно выплыло из овальной двери Гробницы — смутный силуэт в луче света, идущего изнутри. Человек? Шрайк? Если это Шрайк, он бросится на монстра и будет трясти, пока тот не вернет Рахиль — или пока один из них не рухнет замертво.
Но это не Шрайк.
Силуэт человеческий, теперь Сол был в этом уверен. Человек пошатнулся и прислонился к стене Нефритовой Гробницы. Ранен? Устал?
Это молодая женщина.
Рахиль! Сол словно воочию увидел прилетевшую сюда пятьдесят с лишним стандартолет назад деловитую аспирантку, которая лазала по Гробницам, не подозревая об уготованной ей участи. Сол всегда думал, что если его девочка спасется, если болезнь уйдет из нее, она снова проделает путь от младенца до девушки и женщины. Но почему бы Рахили не вернуться в обличье двадцатишестилетней девушки, когда-то переступившей роковой порог?
Сердце Сола стучало так громко, что он перестал слышать вой ветра. Он помахал фигурке, почти скрывшейся за песчаной завесой.
Женщина помахала в ответ!
Сол побежал ей навстречу и, остановившись в тридцати метрах от гробницы, крикнул:
— Рахиль! Рахиль!
Женщина — черный силуэт на белом овале входа — отошла от косяка, ощупала обеими руками лицо, что-то крикнула (ветер унес слова) и начала спускаться по ступеням к тропе.
Сол мчался, не разбирая дороги, спотыкаясь, падая, не обращая внимания на боль. Когда он выскочил на тропу, ведущую к лестнице Нефритовой Гробницы, женщина вышла из конуса света ему навстречу.
Сделав несколько шагов, она пошатнулась. Сол успел подхватить ее и осторожно опустил на песок. Песчинки хлестали его по спине, темпоральные волны налетали невидимыми тошнотворными вихрями.
— Это я, — прошептала она и коснулась щеки Сола. — Все вправду. Я вернулась.
— Да, — ответил Сол, откидывая спутанные кудри со лба женщины и загораживая ее от ветра и песка. — Все хорошо, — негромко произнес он, стараясь незаметно смахнуть навернувшиеся на глаза слезы разочарования. — Все хорошо, Ламия. Вот вы и вернулись.
Мейна Гладстон вышла из пещеры Военного Кабинета в коридор, где сквозь длинные полосы толстого перспекса можно было любоваться окрестностями Олимпа до самой Фарсиды. Далеко внизу бушевала гроза, которая отсюда, с высоты почти двенадцати километров, выглядела как безобидное перемигивание молний сквозь мерцающую кисею статического электричества.
Ее помощница Седептра Акази вышла следом и молча встала рядом с секретарем Сената.
— Так ничего и не слышно о Ли и Северне? — спросила Гладстон.
— Ничего, — ответила Акази. — Руководство Техно-Центра утверждает, что в работе портала произошел какой-то сбой.
Гладстон холодно усмехнулась:
— Вот именно. Ты можешь припомнить хоть один случай такого сбоя? Где-нибудь?
— Нет, госпожа секретарь.
— Вот видишь! Техно-Центр не удосуживается даже врать правдоподобно. Возомнили, что могут похищать, кого пожелают, потому что мы целиком зависим от их поддержки. И знаешь что, Седептра?
— Что?
— Они правы. — Покачав головой, Гладстон повернулась к длинному спуску в Военный Кабинет. — Минут через десять Бродяги окружат Рощу Богов. Пойдем-ка вниз, к остальным. Встреча с Советником Альбедо состоится сразу после совещания?
— Да, сразу. Но, Мейна, простите, некоторые считают, что слишком опасно идти с ними на открытую конфронтацию.
Гладстон остановилась на пороге Военного Кабинета.
— Почему? — спросила она, улыбнувшись на этот раз искренне. — Думаете, Техно-Центр «исчезнет» меня так же, как Ли с Северном?
Акази не решилась возразить и лишь с мольбой протянула руки.
Гладстон ласково коснулась плеча молодой женщины:
— Если даже они на это пойдут, Седептра, то окажут мне неоценимую услугу. Но вряд ли. Дело зашло настолько далеко, что один человек не в силах повлиять на ход событий. По крайней мере они так считают. — Гладстон убрала руку с плеча Седептры, и ее улыбка погасла. — И, может быть, они правы.
Обе женщины молча спустились к ожидавшей их группе военных и политиков.
— Миг близится, — торжественно произнес Сек Хардин, Истинный Глас Мирового Древа.
Эта фраза вывела Поля Дюре из задумчивости. За прошедший час отчаяние и горечь, пройдя горнило смирения, сменились чувством, близким к радости от сознания, что отныне он навсегда освободился от ответственности, обязанностей, необходимости принимать решения. Дюре и духовный лидер Братства тамплиеров молча любовались закатом над Рощей Богов и высыпавшими на небе звездами — среди которых не все были звездами.
Дюре, правда, немного смутило, что в такую минуту глава тамплиеров обособился от своих братьев. Но, поразмыслив над верованиями последователей Мюира, он пришел к выводу, что они предпочитают встречать смертельную угрозу поодиночке, рассыпавшись по священным платформам и сокровенным беседкам священнейших своих деревьев. Иногда Хардин шептал короткие фразы в свой капюшон, видимо, связываясь с кем-то по комлогу или импланту.
Как бы то ни было, не так уж и плохо ожидать конца света на вершине высочайшего дерева в галактике, наслаждаясь шелестом ветерка в мириадах листьев и глядя в бархатное небо, где мерцали звезды и плыли две луны.
— Мы попросили Гладстон и других правителей Гегемонии не оказывать сопротивления и не направлять к нам военные корабли ВКС, — неторопливо сказал Сек Хардин.
— Разумно ли это? — спросил Дюре. Он уже знал от Хардина о печальной судьбе Небесных Врат.
— Флот ВКС не готов к серьезной схватке с Бродягами, — ответил тамплиер. — Остается лишь надеяться, что с нами обойдутся, как с мирными жителями.
Отец Дюре кивнул и переменил позу, чтобы лучше видеть великана-тамплиера. Единственным источником света, помимо звезд и лун, были тусклые люм-шары на ветвях под платформой.
— Но ведь вы сами вызвали эту войну. Именно вы помогли Церкви Шрайка ее развязать.
— Нет, Дюре. Дело не в войне. Братство ведало, что ему суждено участвовать в Великих Переменах.
— А что это такое?
— Суть Великих Перемен в том, что человечество отныне будет играть роль, предначертанную ему естественным порядком Вселенной. До сих пор оно было раковой опухолью в ее теле.
— Раковой?
— Это такая древняя болезнь, при которой…
— Да-да, — перебил его Дюре, — я знаю, что такое рак. Но при чем здесь он? Что общего между раком и человечеством?
В негромком и выразительном голосе Сека Хардина появилась не свойственная ему горячность.
— Мы расползлись по всей галактике, как раковые клетки по живому организму. Размножаемся, не задумываясь о бесчисленных живых существах, которые гибнут или хиреют в биологических тупиках, дабы мы плодились и благоденствовали. Безжалостно истребляем своих конкурентов по разуму…
— Кого, например?
— Хотя бы эмпатов Сенешаи на Хевроне. Или болотных кентавров Сада. Вдумайтесь, Дюре: всю экосистему Гардена разрушили до основания, чтобы несколько тысяч людей-колонистов наслаждались комфортом на планете, где до них процветали миллионы местных живых организмов!
Дюре потер лоб.
— Что делать! Такова цена, которую приходится платить за терраформирование планет.
— Вихрь терраформированию не подвергался, — страстно парировал тамплиер, — а юпитерианские животные тем не менее были истреблены. Охотниками.
— Никто, однако, не доказал, что цеппелины разумны, — возразил Дюре, чувствуя несостоятельность собственных доводов.
— Они пели, — с горечью сказал тамплиер. — Разделенные тысячами километров атмосферы, они общались друг с другом песнями, исполненными смысла, любви и печали. А их выслеживали и убивали, как белых китов на Старой Земле.
Дюре скрестил руки на груди:
— Вы совершенно правы — мы виноваты. Но разве нельзя искупить вину как-нибудь иначе? Разве обязательно поддерживать бесчеловечную философию культа Шрайка… или эту войну?
Капюшон тамплиера качнулся из стороны в сторону.
— Нет! Будь это обычные людские прегрешения, иной путь к искуплению был бы возможен. Но это не просто болезнь — это безумие, погубившее множество видов и рас, опустошившее целые миры… И порождено оно греховным симбиозом.
— Симбиозом?
— Человечества и Техно-Центра, — бросил Сек Хардин, поразив Дюре резким, не свойственным тамплиерам тоном. — Человек и его механический разум. Кто тут на ком паразитирует? Сами симбионты запутались в своих отношениях. Но это смертный грех. Это козни Анти-Природы. И даже хуже, Дюре, — это эволюционный тупик.
Иезуит встал и отошел к балюстраде, окинув взглядом сумрачные древесные кроны, парящие в ночи, подобно флотилии облаков.
— Неужели из этого тупика нет другого выхода? Только Шрайк и всегалактическая война?
— Шрайк не более чем катализатор, — живо откликнулся Хардин. — Очистительный огонь, возрождающий чахлый, больной лес. Грядут трудные времена, но они вызовут новый виток развития, новую жизнь, очищение всех видов… и не где-то вдали, а здесь, в доме человечества.
— «Трудные времена», — задумчиво повторил Дюре. — И ваше Братство готово лицезреть гибель миллиардов в процессе этой… прополки?
Тамплиер сжал кулаки.
— Этого не случится! Шрайк — лишь предупреждение. Наши братья Бродяги стремятся взять под контроль Гиперион и Шрайка только на время, необходимое для нанесения удара по Техно-Центру. Это будет хирургическая операция: уничтожение симбионта и возрождение человечества в новом качестве — партнера Природы в священном круговороте жизни.
Дюре вздохнул.
— Если бы знать, где находится Техно-Центр. Как можно нанести удар по тому, чего никто никогда не видел?
— Можно, — ответил Истинный Глас Мирового Древа, но уже без прежней уверенности.
— Значит, вторжение на Рощу Богов — одно из условий соглашения? — помолчав, спросил священник.
Теперь уже тамплиер вскочил и начал прохаживаться от стола к балюстраде и обратно.
— Вторжения не будет. Именно потому я и задержал вас: чтобы вы увидели все собственными глазами и рассказали Гегемонии.
— Если вторжения не будет, Гегемония и без меня об этом узнает, — озадаченно сказал Дюре.
— Да, но там не поймут, почему Бродяги пощадили наш мир. Вы должны передать им эту весть и истолковать ее.
— К черту… — невольно вырвалось у отца Дюре. — Я устал быть всеобщим посыльным. Откуда у вас эти сведения? Например, о пришествии Шрайка и причинах войны?
— Пророчества… — начал Сек Хардин.
Дюре ударил кулаком по перилам. Как втолковать тамплиеру, что все они — игрушки в руках существа, способного манипулировать самим временем или как минимум служащего силе, которая на такое способна?
— Вы увидите… — снова начал тамплиер, и, словно в подтверждение его слов, по планете прокатился глухой ропот. Казалось, миллионы ее обитателей вздохнули все разом, сорвавшись на негромкий стон.
— Боже Милостивый, — воскликнул Дюре, глядя на запад, где медленно поднималось недавно зашедшее солнце. Зашелестев листвой, в лицо ударил горячий ветер.
Ночь превратилась в сверкающий день, и над горизонтом выросли пять чудовищных грибов. Дюре инстинктивно прикрыл глаза рукой, а когда свечение пошло на убыль, перевел взгляд на тамплиера.
Сек Хардин откинул капюшон, и раскаленный ветер трепал его длинные зеленоватые волосы. Скуластое азиатское лицо окаменело от потрясения. Потрясения и растерянности. В капюшоне Хардина щебетали позывные множества комлогов, тревожно звенели похожие на птичьи голоса.
— Взрывы на Сьерре и Хоккайдо, — прошептал тамплиер. — Ядерные взрывы. Орбитальная бомбардировка.
Дюре вспомнил, что Сьерра — это закрытый для посторонних континент, расположенный менее чем в восьмистах километрах от Мирового Древа. А на священном острове Хоккайдо росли и приуготавливались будущие корабли-деревья.
— Жертвы? — спросил он, но, прежде чем Хардин успел ответить, ослепительные стрелы рассекли небосвод Рощи Богов. Два десятка тактических лазеров, протонных пушек и плазмометов за несколько секунд выкосили пространство от горизонта до горизонта. Казалось, по крыше древесного мира Рощи Богов шарят безобидные лучи прожекторов, но вслед за ними бежали волны пламени.
Дюре пошатнулся — луч стометровой ширины ураганом пронесся по чаще менее чем в километре от Мирового Древа. Древний лес мгновенно вспыхнул, в ночном небе выросла десятикилометровая оранжево-алая стена, и воздух с ревом устремился в эту адскую топку. Другой луч, летевший с севера на юг, прежде чем исчезнуть за горизонтом, чудом не срезал Мировое Древо. Все новые и новые столбы огня и дыма поднимались к вероломным звездам.
— Они обещали… — прошептал Сек Хардин. — Братья Бродяги обещали!
— Вам нужна помощь! — выкрикнул Дюре. — Свяжитесь с Сетью, пусть поспешат на выручку!
Хардин схватил Дюре за руку и потянул к краю площадки. Лестница вновь была на своем прежнем месте, и ярусом ниже в воздухе мерцал портал.
— Это… только авангард, — прохрипел тамплиер, силясь перекрыть хищный клекот лесного пожара. Зола и дым заполнили воздух, отовсюду летели горящие головешки. — Сфера сингулярности будет взорвана с секунды на секунду Спасайтесь.
— Без вас я не уйду! — Иезуит не слышал себя в ужасающем вое и треске.
Внезапно в нескольких километрах к востоку в небе вспыхнул голубой круг плазменного взрыва и стал судорожно распухать, гоня перед собой концентрические окружности ударных волн. Охваченные огнем деревья-исполины гнулись и ломались, мириады листьев, срываясь с веток, вливались в сплошную лавину обломков, несущуюся к Мировому Древу. Позади голубого круга взорвалась еще одна плазменная бомба. И еще одна.
Дюре и тамплиер скатились по ступеням, и ветер понес их через нижнюю площадку, как два листка бумаги. В последний момент Хардин успел схватиться за горящую балюстраду из мюира и удержал Дюре. Затем кое-как поднялся на ноги и, пригнувшись, будто шагая навстречу буре, стал пробираться к пока еще мерцающему порталу, волоча за собой потерявшего сознание иезуита.
Когда Дюре пришел в себя, портал был уже совсем рядом. Священник взялся за раму и оглянулся, не в силах сделать последний шаг. Его глазам предстало зрелище, навсегда запечатлевшееся в его памяти.
Много лет назад маленький Поль Дюре стоял вот так же у узкого оконца в прочном бетонном убежище на вершине скалы и смотрел, как цунами сорокаметровой высоты катится на их родной Вильфранш-сюр-Сон.
Огненное цунами Рощи Богов имело в высоту почти три километра и неслось к Мировому Древу с немыслимой скоростью, оставляя за собой лишь пепел. Все ближе и ближе, все выше и выше — пока лес, небо и весь мир не потонули в воющем пламени.
— Нет! — вскричал отец Дюре.
— Уходите! — Тамплиер впихнул иезуита в портал, и в то же мгновение площадку, ствол Мирового Древа и сутану самого Истинного Гласа объял огонь.
Портал тут же захлопнулся, как ножом срезав каблуки на ботинках Дюре. Одежда на священнике тлела, от разности давлений уши пронзила резкая боль. Ударившись затылком обо что-то твердое, он вновь провалился — в куда более глубокую тьму.
Военные и политики в безмолвном ужасе смотрели на агонию Рощи Богов, а спутники посылали через ретрансляторы нуль-сети все новые и новые изображения горящей планеты.
— Надо срочно взорвать ее! — Адмирал Сингх старался перекричать треск горящего леса. Мейне Гладстон казалось, что она различает крики людей и животных. — Нельзя подпускать их ближе! У нас там только дистанционные детонаторы.
— Давайте, — произнесла Гладстон, не слыша собственного голоса.
Сингх отвернулся и кивнул полковнику ВКС. Тот дотронулся до своей оперпанели. Горящие леса исчезли, в гигантских голонишах воцарилась тьма, но крики все еще были слышны. Гладстон не сразу осознала, что это кровь шумит у нее в ушах.
Она обернулась к генералу Морпурго.
— Сколько… — Фраза потонула в кашле. — Генерал, сколько времени осталось до нападения на Безбрежное Море?
— Три часа пятьдесят две минуты, госпожа секретарь.
Гладстон посмотрела на бывшего капитана третьего ранга Вильяма Аджунту Ли.
— Ваша эскадра готова, адмирал?
— Так точно, госпожа секретарь, — ответил Ли. Даже густой загар не мог скрыть его бледности.
— Сколько кораблей участвуют в вылазке?
— Семьдесят четыре, госпожа секретарь.
— И вы отобьете Бродяг от Безбрежного Моря?
— Прямо в облаке Оорта, госпожа Гладстон.
— Отлично. — Голос Гладстон обрел прежнюю силу. — Удачной охоты, адмирал.
Молодой человек щелкнул каблуками и удалился. Адмирал Сингх наклонился к генералу Ван Зейдту и что-то прошептал ему на ухо.
Седептра Акази, неслышно подойдя к Гладстон, тихонько произнесла:
— Охрана ДП сообщила, что на резервный терминекс только что прибыл человек с просроченным чипом спецдоступа. Он ранен. Его отправили в лазарет Восточного Крыла.
— Ли? — быстро спросила Гладстон. — Северн?
— Нет, госпожа секретарь, — ответила Акази. — Священник с Пасема. Некто Поль Дюре.
Гладстон кивнула.
— Я навещу его после встречи с Альбедо. — И объявила во всеуслышание: — Если нет желающих прокомментировать увиденное — перерыв на тридцать минут. Затем обсудим меры по обороне Асквита и Иксиона.
Все встали. Секретарь Сената со своей свитой направилась через постоянный соединительный портал в Дом Правительства и исчезла в дальней двери. Зал тут же взорвался ожесточенными голосами спорящих и возгласами тех, кто еще не пришел в себя.
Мейна Гладстон откинулась на спинку кожаного кресла и закрыла глаза. А когда ровно через пять секунд она открыла их, помощники все еще толпились вокруг. Одни выглядели потерянными, другие излучали энергию. Все ожидали ее следующего слова, следующего приказания.
— Уходите, — тихо произнесла секретарь Сената. — Полежите минут десять лапками кверху. В ближайшие сутки-двое отдыха не предвидится.
Все удалились. Лишь некоторые жестами выражали недоумение, остальные не отреагировали — они едва держались на ногах.
— Седептра, — позвала Гладстон, и молодая женщина вернулась в кабинет. — Приставь двух моих личных телохранителей к священнику, который только что прибыл. К отцу Дюре.
Акази, кивнув, сделала заметку в своем факсблокноте.
— Какова политическая ситуация? — спросила Гладстон, потирая глаза.
— В Альтинге полный разброд. — Низкий голос Акази был, как обычно, деловитым и ровным. — Фракции зарождаются, недееспособная оппозиция пока не сформировалась. Другое дело — Сенат.
— Фельдстайн? — спросила Гладстон. Неполных сорок два часа оставалось до появления Бродяг на орбите Мира Барнарда.
— Фельдстайн, Какинума, Питере, Сейбенсторафен, Ришо… даже Сюдетта Шер требует вашей отставки.
— А что ее муж? — Гладстон отлично знала, каким влиянием пользуется в Сенате Колчев.
— Сенатор Колчев молчит. Ни публично, ни конфиденциально не произнес ни слова.
Гладстон задумчиво прикусила нижнюю губу.
— Как по-твоему, Седептра, сколько осталось жить администрации, пока вотум недоверия не отрубит нам головы?
Акази, наделенная редким политическим чутьем, не задумываясь, ответила:
— Максимум семьдесят два часа, госпожа секретарь. Голоса уже поданы. Просто чернь пока не поняла, что вправе вершить суд. Но очень скоро они найдут козла отпущения.
Гладстон рассеянно кивнула.
— Семьдесят два часа, — пробормотала она. — Больше чем достаточно. — Подняв голову, она улыбнулась. — Это все, Седептра. Ступай и ты отдохни.
Лицо помощницы оставалось по-прежнему хмурым. Как только дверь за нею закрылась, в кабинете воцарилась тишина.
На какую-то минуту Гладстон, подперев подбородок кулаком, задумалась. Затем распорядилась:
— Советника Альбедо, пожалуйста.
Спустя двадцать секунд воздух перед столом Гладстон затуманился, замерцал и отвердел. Представитель Техно-Центра выглядел как всегда импозантно. Коротко подстриженные волосы блестели в свете ламп, открытое спокойное лицо покрывал здоровый загар.
— Госпожа секретарь, — начала беседу голографическая проекция. — Консультативный Совет и прогнозисты Техно-Центра вновь предлагают вам свои услуги в это время серьезных…
— Где находится Техно-Центр, Альбедо? — перебила его Гладстон.
Ни один мускул не дрогнул на приветливо улыбающемся лице.
— Простите, госпожа секретарь?
— Я говорю о Техно-Центре. Где он находится?
На доброжелательном лице Альбедо отразилось легкое смущение, без малейшей тени враждебности.
— Госпожа Гладстон, надеюсь, вам известно, что основа внешней политики Техно-Центра после Раскола — сохранение в тайне местонахождения… э-э… материальных элементов Техно-Центра. Иначе говоря, Техно-Центр не имеет определенного местонахождения, поскольку…
— Поскольку вы существуете в сопряженных реальностях киберпространства и инфосферы, — вновь перебила его Гладстон. — Всю жизнь я слушаю этот бред, Альбедо, а до меня его слушали мой отец и отец моего отца. А теперь я задам свой простой, очень простой, прямо-таки детский вопрос: где находится Техно-Центр?
Советник смущенно и в то же время с сожалением покачал головой, как взрослый, уставший от бессмысленных вопросов ребенка: «Па, почему небо голубое?»
— Госпожа Гладстон, на ваш вопрос не существует ответа. Ответа, доступного человеческому существу, привыкшему к трехмерности мира. В каком-то смысле Техно-Центр существует и в пределах Сети и вне ее. Мы плаваем в той реальности, которую вы называете инфосферой, но что касается материальных элементов — «аппаратуры», как выражались ваши предшественники, — мы считаем необходимым…
— Держать их местонахождение в секрете, — насмешливо закончила Гладстон и скрестила руки на груди. — Сознаете ли вы, советник Альбедо, что в Гегемонии найдутся люди… миллионы людей… убежденных, что Техно-Центр в лице вашего Консультативного Совета предал человечество?
Альбедо развел руками.
— Это весьма прискорбно, госпожа секретарь. Прискорбно, но объяснимо.
— Люди привыкли думать, что ваши прогнозы непогрешимы. Но, советник, вы ни единым словом не обмолвились о гибели Небесных Врат и Рощи Богов.
Печаль, появившаяся на лице проекции, казалась почти искренней.
— Госпожа секретарь, ради всего святого позвольте напомнить вам, что Консультативный Совет предостерегал вас. И неоднократно. Разве вас не предупреждали, что присоединение Гипериона к Сети чревато появлением случайной переменной, нефакторизуемой даже для Совета?
— Но речь сейчас не о Гиперионе! — сорвалась на крик Гладстон. — Речь о Роще Богов — она гибнет в огне! Небесные Врата превращены в кучу мусора. На очереди Безбрежное Море. На кой черт нам Консультативный Совет, раз он не в силах предупредить даже о таком вторжении!
— Мы предсказывали неизбежность войны с Бродягами, госпожа Гладстон. Мы также предупреждали вас об опасностях, связанных с обороной Гипериона. Поверьте, включение Гипериона в любое уравнение настолько снижает коэффициент надежности прогноза, что…
— Хорошо. — Гладстон на секунду прикрыла глаза. — Мне необходимо поговорить еще с кем-то из Техно-Центра, Альбедо. С кем-то из вашей непостижимой иерархии, кто обладает реальным правом принимать решения.
— Заверяю вас, что представляю все элементы Техно-Центра…
— Да-да, конечно, но сейчас я должна услышать кого-нибудь из властей предержащих… Властителей — так, кажется, вы их называете. Кого-нибудь из старейших ИскИнов. Мне необходимо поговорить с кем-то, кто в состоянии объяснить, почему Техно-Центр похитил художника Северна и моего помощника Ли Хента.
Голограмма удивленно выгнула брови.
— Уверяю вас, госпожа Гладстон, клянусь памятью нашего четырехсотлетнего союза, что Техно-Центр не имеет никакого отношения к прискорбному исчезновению…
Гладстон медленно встала.
— Вот потому-то мне и нужен Властитель. Время заверений прошло, Альбедо, настало время говорить правду. Если, конечно, мы хотим, чтобы ваша и наша цивилизации уцелели. Все. — И Гладстон углубилась в разложенные на столе бумаги.
Советник Альбедо постоял еще немного и, пролившись мерцающим дождем, исчез.
Гладстон, выждав с минуту, вызвала личный портал, назвала коды лазарета ДП и поднялась с кресла. Но буквально за миг до соприкосновения с непрозрачной поверхностью энергетического прямоугольника замешкалась. Впервые в жизни испугалась портала.
Что, если Техно-Центр намеревается похитить ее? Или хуже того — убить? Или…
Какая непростительная наивность! Ведь Техно-Центр распоряжается жизнью и смертью любого гражданина Сети, пользующегося нуль-сетью, — только привычный взгляд на порталы как на безопасное транспортное средство вселяет уверенность в том, что они обязательно должны куда-то вести. Хента и Северна могли перенести просто в никуда. Прямиком в сингулярность. Разумеется, порталы нетелепортировали людей и предметы — смешно думать об этом. Но куда смешнее и страшнее довериться устройству, которое пробивает ткань пространства-времени и пропускает своих клиентов сквозь люки черных дыр. Разве не величайшая глупость доверяться сейчас Техно-Центру в надежде, что он благополучно перенесет ее в лазарет?
Гладстон вспомнился Военный Кабинет: три гигантских зала, соединенных постоянно функционирующими прозрачными порталами. Господи! Эти три зала отделены друг от друга тысячами парсеков реального пространства и десятилетиями во времени. Каждый раз, когда Морпурго или Сингх отходили от голографической карты к графикам, они перешагивали огромные, уму непостижимые пропасти пространства и времени. Стало быть, Техно-Центру достаточно слегка разрегулировать порталы, чтобы любой из граждан Сети и сама Гегемония перестали существовать, словно их никогда и не было.
«Да пошли они к черту!» — подумала Мейна Гладстон и решительно шагнула в портал, чтобы навестить Поля Дюре в лазарете Дома Правительства.
Глава 39
Две узкие, с высокими потолками комнатки на втором этаже дома на Площади Испании погружены в сумрак, который не в силах рассеять тусклые лампы — видимо, зажженные привидениями-хозяевами в честь привидений-гостей. Моя кровать находится в комнате поменьше — той, что выходит на площадь. Правда, сейчас за окнами царит тьма, прочерченная глубокими тенями, да раздается нескончаемый плеск воды — голос невидимого фонтана Бернини.
На одной из башен-двойняшек церкви Санта-Тринитадель-Монти, которая, словно толстая рыжая кошка, притаилась в темноте, колокола отбивают время. Всякий раз, когда я слышу в ночи эти звуки, мне представляются руки призраков, дергающие за сгнившие веревки. А иногда — сгнившие руки, дергающие за призрачные веревки. Не знаю, какой образ лучше соответствует мрачным мыслям, которым я предаюсь этой бесконечной ночью.
Тяжелым сырым одеялом навалилась лихорадка. Трудно дышать. Когда жар проходит, кожа липка от пота. Дважды меня схватывали приступы кашля. Когда начался первый, прибежал Хент (он спит в соседней комнате на диване). Увидев, как у меня из горла хлещет кровь, он отпрянул, и его глаза округлились от ужаса. Со вторым приступом я справился сам (Хент не проснулся): дотащился до письменного стола, на котором стоит тазик, и долго сплевывал темные сгустки.
Господи! Снова я здесь. Долгий путь — а в конце снова эти полутемные комнаты, это скорбное ложе. Смутно припоминаю, как проснулся здесь, чудесным образом «исцелившийся». В соседней комнате хлопотали доктор Кларк, коренастая синьора Анджелетти и «настоящий» Северн. Потом я «выздоравливал» от смерти и осознавал, что я не Китс и нахожусь не на Земле, что давно миновал тот год и век, когда в последнюю свою ночь я сомкнул глаза… что я вообще не человек.
Часа в два пополуночи я наконец заснул и, как обычно, увидел сон. Подобных кошмаров у меня еще не было. Я лечу по киберпространству и инфосфере, потом через мегасферу… все выше и выше. И наконец попадаю куда-то. Я здесь не был ни наяву, ни во сне. Бесконечное пространство, размытые текучие краски. Здесь нет ни горизонта, ни земли, ни неба. Вообще ни единого кусочка, который можно было бы назвать твердью. Мысленно я называю это место «метасферой», мгновенно ощутив, что новый уровень реальности включает в себя бесконечное разнообразие чувственного опыта моей жизни на Земле, все бинарные инфопотоки и все интеллектуальные наслаждения, испытанные мною в Техно-Центре. И все это перекрывает чувство… чего? Неудержимости? Свободы? Наверное, тут подошло бы слово «возможность».
Я один в метасфере. Надо мной, подо мной, сквозь меня текут краски, иногда расплываясь в пастельные туманы или в фантастические облака, а иногда — гораздо реже — сгущаясь в какие-то объекты, странные, разнообразные, похожие на человеческие фигуры — и совсем не похожие на них. Я любуюсь ими, как ребенок, которому чудятся в облаках то слоны, то нильские крокодилы, то огромные канонерки, плывущие с запада на восток.
Постепенно я начинаю различать звуки. В мозг проникает назойливое журчание шедевра Бернини, шелест крыльев и воркование голубей на карнизе, слабые стоны спящего Хента.
И еще что-то. Не слухом, а, скорее, подсознанием я улавливаю голос чего-то незримого, почти нереального, но от этого еще более пугающего.
Что-то огромное крадется ко мне. Я напрягаю глаза, борясь с пастельно-ватным сумраком. Оно совсем рядом: еще немного, и я разгляжу его. Оно знает мое имя. В одной руке у него моя жизнь, а в другой — смерть.
В этом пространстве по ту сторону пространства негде спрятаться. И бежать я не могу. Из мира, который я покинул, по-прежнему доносится сладкозвучная песнь боли: обычной боли обычных людей, боли жертв только что начавшейся войны, сфокусированной на мне немыслимой боли тех, кто висит на ужасном дереве Шрайка, и — что самое страшное — боли паломников и других людей, чьи жизни и мысли я отныне разделяю.
О если бы можно было вскочить и броситься навстречу приближающейся тени судьбы. Как знать, может, она избавит меня от этой песни.
— Северн! Северн!
На долю секунды мне кажется, будто кричу я сам. Сколько раз в этой комнате я взывал по ночам к Джозефу Северну, когда боль и лихорадка становились невыносимыми. И он всегда прибегал — увалень с озабоченным кротким лицом и виноватой улыбкой. Порой меня так и подмывало содрать эту улыбку с его губ какой-нибудь мелкой пакостью или едким замечанием. Умирая, трудно оставаться великодушным. Всю жизнь я старался быть добрым, доброжелательным… но к чему мне это теперь, на пороге смерти, когда беда настигла меня самого и я судорожно выхаркиваю ошметки собственных легких в окровавленные носовые платки?
— Северн!
Нет, это не мой голос: меня трясет за плечи Хент. Он до сих пор уверен, что это мое настоящее имя. Я отталкиваю его и снова падаю на подушки.
— В чем дело? Что случилось?
— Вы стонали, — говорит помощник Гладстон. — Кричали что-то.
— Кошмары. Больше ничего.
— Ваши сны не просто сны, — качает головой Хент и, подсвечивая себе лампой, оглядывает тесное помещение. — Какая ужасная квартира, Северн.
Я кисло улыбаюсь:
— Влетает мне в кругленькую сумму — двадцать восемь шиллингов ежемесячно. Семь скуди. Просто грабеж среди бела дня.
Хент хмурится. Резкий свет лампы еще сильнее выделяет морщины, прорезавшие его лицо.
— Послушайте, Северн, я знаю, кто вы. Гладстон рассказала, что вы — воссозданная личность поэта Китса. Его кибрид. Теперь ясно, что все это… — он жестом обводит комнату, черные прямоугольники окон, наши тени, высокую кровать, — каким-то образом связано с вашей истинной природой. Но как? Что за игру затеял с нами Техно-Центр?
— Понятия не имею, — чистосердечно признаюсь я.
— Но это место вам знакомо?
— О да, — отвечаю я. — Еще бы.
— Расскажите о себе, — просит Хент. Его сдержанность и неподдельное участие располагают к откровенности.
И я рассказываю ему о Джоне Китсе, поэте, родившемся в 1795 году, о его недолгой, богатой на горести жизни, о смерти в 1821 году от чахотки, в Риме, вдали от друзей и возлюбленной. Рассказываю о моем инсценированном «исцелении» в этой самой комнате, о решении взять имя художника Джозефа Северна — случайного знакомого, не покидавшего Китса до самой его смерти. И наконец, о кратком пребывании в Сети в качестве наблюдателя, обреченного видеть в своих снах паломников к Шрайку и многое другое.
— Снах? — удивляется Хент. — Вы хотите сказать, что даже сейчас видите сны о событиях, происходящих в Сети?
— Да. — И я пересказываю ему свои сновидения, связанные с Гладстон, гибелью Небесных Врат и Рощи Богов, непонятными событиями на Гиперионе.
Хент не перестает расхаживать по маленькой комнате, меряя своей длинной тенью голые стены.
— А связаться с ними вы можете?
— С теми, кого вижу во сне? С Гладстон? — Я на секунду задумываюсь. — Увы, нет.
— Вы уверены?
Я пытаюсь ему объяснить:
— Меня самого в этих снах нет. У меня нет ни голоса, ни облика… никакого способа дать знать о себе.
— Но ведь иногда вы подслушиваете их мысли? Это так. Точнее, почти так.
— Их переживания словно становятся моими…
— В таком случае оставьте и вы след в их мыслях. Хотя бы намекните, где мы находимся.
— Невозможно!
Хент опускается на стул у кровати. Он как-то сразу состарился.
— Ли, — втолковываю я ему, — даже если бы я мог связаться с Гладстон или с кем-нибудь еще, что толку? Ведь копия Старой Земли с этой комнатушкой и фонтаном внизу находится в Магеллановом Облаке. Даже спин-звездолету потребуется несколько сот лет, чтобы добраться сюда.
— Но можно предупредить их, — отзывается Хент. Кажется, еще немного и он заплачет.
— Предупредить — но о чем? Все худшие предположения Гладстон сбываются буквально на глазах. Думаете, она еще доверяет Техно-Центру? Иначе бы нас не похитили так нагло. События развиваются столь стремительно, что Гладстон не может с ними совладать. Никто не может.
Хент трет глаза, а потом, уткнув подбородок в сплетенные пальцы, как-то странно смотрит на меня.
— А вы действительно воссозданная личность Китса?
Я молчу.
— Почитайте свои стихи. Или же сочините что-нибудь.
Я отрицательно качаю головой. Уже поздно, мы оба изнервничались и устали, мой пульс все еще частит после недавнего кошмара. Я не позволю Хенту разозлить меня.
— Давайте! — не отстает он. — Докажите, что вы улучшенный вариант Билла Китса.
— Джона Китса, — поправляю я.
— Не все ли равно! Валяйте, Северн! Или Джон. Или как там вас еще называют. Хоть один стишок.
— Ладно, — говорю я, не спуская с него глаз. — Слушайте.
Мальчишка озорной Ничем не занимался. Поэзией одной Все время баловался. Перо очинил Вот такое! И банку чернил Прижимая Рукою, И еле дыша, Помчался, Спеша К ручьям И холмам, И столбам Придорожным, Канавам, Гробницам, Чертям Всевозможным. К перу он прирос И только в мороз Теплей укрывался: Подагры боялся. А летом зато Писал без пальто, Писал — удивлялся, Что все не хотят На север, На север Брести наугад, На север Брести наугад.[54]— Ну, не знаю. — Хент явно озадачен. — Что-то не похоже на поэта, прославившегося в веках.
Мне остается лишь пожать плечами.
— Вы стонали во сне. Вам опять снилась Гладстон?
— Сегодня — нет. Это был… обыкновенный кошмар. Для разнообразия.
Хент встает, берет лампу и направляется к двери, унося с собой единственный источник света. Я снова слышу журчание фонтана на площади и возню голубей на карнизе.
— Завтра, — примирительно произносит Хент, остановившись в дверях, — мы попытаемся распутать эту головоломку и найти выход из положения. Не может быть, чтобы он не отыскался. Если они смогли перенести нас сюда, значит, можно отсюда выбраться.
— Да, — соглашаюсь я с притворной искренностью.
— Спокойной ночи, — говорит Хент. — И чтобы никаких кошмаров. Договорились?
— Договорились, — снова соглашаюсь я. Врать так врать.
Монета оттащила раненого Кассада от Шрайка. Ее поднятая рука, казалось, пригвоздила чудовище к месту. Выдернув из-за пояса своего скафандра синий тороид, женщина быстро взмахнула им за спиной.
В воздухе повис пылающий золотой овал в человеческий рост.
— Не держи меня, — пробормотал Кассад. — Дай нам закончить.
Там, где лезвия Шрайка пробили защиту, на скафандре запеклась кровь, полуотсеченная правая ступня болталась как тряпка. На ногах полковник удержался лишь благодаря тому, что во время схватки буквально повис на Шрайке, словно в каком-то жутком танго.
— Не держи меня, — повторил Кассад.
— Молчи! — резко бросила Монета. И потом, с нежностью и болью: — Замолчи, милый.
Она втащила его в овал, и Кассад тут же зажмурился от ослепительного света.
От удивления он даже позабыл о боли, раздирающей его тело. Они уже не на Гиперионе — в этом он был уверен. Широкая равнина простиралась до самого горизонта — куда более далекого, чем допускали логика и опыт. Низкая оранжевая трава, если это была трава, покрывала луга и низкие холмы, делая их похожими на исполинскую мохнатую гусеницу. Тут же торчали странные штуковины (возможно, деревья?), похожие на эшеровы фигуры из армированного углепласта — причудливые стволы и ветви, темно-синие и лиловые овальные листья, сверкающие под льющимся с неба светом.
Но не солнечным. Когда Монета принялась оттаскивать Кассада от исчезнувшего портала (если это был портал, ибо полковник мог поклясться, что переместился не только в пространстве, но и во времени), он, подняв глаза к небу, испытал настоящее потрясение. Было светло, как днем на Гиперионе; нет, как в полдень на Лузусе, как в разгар лета на знойной родине Кассада — марсианской Фарсиде. Но не от солнца. В небе теснились звезды, созвездия, звездные скопления — мириады звезд. Их было так много, что для темноты просто не осталось места. Настоящий планетарий о десяти проекторах, промелькнуло в голове у Кассада. Будто в центре галактики.
Центр галактики.
Из сумрака под эшеровыми деревьями появились люди в таких же энергоскафандрах и обступили Кассада и Монету. Один из мужчин — великан даже по Кассадовым, марсианским меркам, — оглядев его, обернулся к Монете. Кассад ничего не слышал, но догадался, что они разговаривают.
— Ложись, — велела Монета, укладывая Кассада на бархатистую оранжевую траву. Он попытался сесть, что-то сказать, но две ладони — Монеты и великана — прикоснулись к его груди, и он покорно лег. Перед глазами медленно закружились фиолетовые листья, заслоняя многозвездное небо.
Еще одно прикосновение, и скафандр Кассада выключился. Полковник зашевелился, пытаясь прикрыть свою наготу, но Монета удержала его на месте. Сквозь жгучую боль Кассад смутно ощутил, как великан касается его изрезанных рук и груди, проводит серебряной ладонью по ноге, сжимает рассеченное ахиллово сухожилие. И вслед за этим по его телу начала разливаться прохлада. Ему казалось, что он, как воздушный шарик, поднимается над оранжевой равниной и холмами — все выше и выше, к усеянному звездами своду, где его поджидает неясная фигура, темная, как грозовая туча, и огромная, как гора…
— Кассад, — прошептала Монета, и полковник вернулся к действительности. — Кассад, — повторила она, целуя его в щеку. Как по волшебству, полковника вновь окутало ртутное силовое поле.
С помощью Монеты полковник кое-как сел и помотал головой. Ощутив привычное давление скафандра, он поднялся на ноги. Боль исчезла, сменившись легким покалыванием на месте заживших порезов и ран. Кассад сунул руку под скафандр и пощупал кожу, согнув ногу в колене, дотронулся до пятки. Даже рубцов не осталось.
— Спасибо, — произнес он, обернувшись к великану.
Тот кивнул и неторопливо отошел к остальным.
— Он здесь вроде доктора, — сказала Монета. — Целитель.
Но Кассад ничего не слышал: все его внимание было поглощено этими удивительными существами. Несомненно, людьми — он чувствовал это, — но, черт возьми, до чего же разными! Скафандры — не серебристые, как у него с Монетой, а самых невероятных расцветок — почти сливались с телами. Только размытые контуры и едва заметные переливы выдавали их присутствие. А внешность… Вокруг головы не уступавшего ростом Шрайку плотного и лобастого целителя вздыбились гривой рыжие энергетические потоки; рядом с ним стояла женщина ростом с ребенка, но, несомненно, взрослая, изящная, с мускулистыми ногами, небольшой грудью и двухметровыми прозрачными крыльями. И они вовсе не были украшением. Когда по оранжевой траве скользнул легкий ветерок, маленькая женщина разбежалась, раскинула руки и плавно взлетела.
За группой стройных женщин в синих скафандрах, с длинными перепончатыми пальцами, сгрудились невысокие крепыши в панцирях и шлемах. Лица их были закрыты забралами, как у морпехов ВКС, готовых принять бой в вакууме, но Кассад догадался, что панцири — часть их тела. В восходящих потоках воздуха парили крылатые мужчины; между ними пульсировали желтые лазерные лучи, сплетаясь в удивительные узоры. По-видимому, лучи испускались глазами, расположенными у них на груди.
Кассад встряхнул головой, но видение не исчезло.
— Пора, — сказала Монета. — А то как бы Шрайк не явился сюда за нами. У этих воинов и без него полно дел.
— Где мы? — спросил Кассад.
Монета коснулась золотой пряжки на поясе, и в воздухе появился фиолетовый овал.
— В далеком будущем. Точнее, в одном из многих будущих. В том, где были созданы и отправлены в прошлое Гробницы Времени.
Кассад огляделся. Что-то огромное скользнуло по небу, заслонив тысячи звезд и бросив на землю тень. Скользнуло — и исчезло. Люди, мельком посмотрев вверх, вернулись к своим занятиям. Одни собирали со странных деревьев мелкие плоды, другие, обступив воина в панцире, рассматривали энергокарты, которые тот вызывал, щелкая пальцами; крылатые, рассекая воздух, понеслись к горизонту. А шарообразный индивидуум неопределенного пола принялся зарываться в мягкую почву и вскоре скрылся в ней с головой — лишь маленькая земляная горка, бегавшая вокруг Кассада с Монетой, выдавала его присутствие.
— Где находится это место? — вновь спросил Кассад, словно не слышал, что сказала Монета. — Что это такое? — Внезапно на глаза ему навернулись беспричинные слезы. Будто, завернув за угол в чужом городе, он очутился дома, в Фарсиде: давно умершая мать машет из дверей; забытые друзья зовут играть в вышибалы.
— Пойдем, — настойчиво повторила Монета, подталкивая Кассада к светящемуся овалу. Не сводя глаз с крылатых людей, тот сделал шаг, и чудесная равнина исчезла.
Их окутала тьма. Через долю секунды включился визор скафандра, и Кассад разглядел мерцающие стены Хрустального Монолита. На Гиперионе была ночь. В небе клубились рваные тучи, завывал ветер. Долину освещало лишь пульсирующее сияние Гробниц. Кассада пронзила острая, как у ребенка, тоска по странному миру, где он только что побывал, но в следующий миг наваждение прошло.
В пятистах метрах от него Сол Вайнтрауб склонился над Ламией Брон, лежавшей на ступенях Нефритовой Гробницы. Из-за поднятого в воздух песка они не замечали Шрайка, который словно тень скользил мимо Обелиска. Скользил к ним.
Соскочив с мраморной глыбы, Федман Кассад бросился вниз по тропе, перепрыгивая через хрустальные осколки. Монета повисла у него на руке.
— Остановись! — В голосе Монеты звучали нежность и отчаяние. — На этот раз Шрайк убьет тебя.
— Там мои друзья, — возразил Кассад. Его разодранный десантный скафандр валялся на прежнем месте. Обшарив Монолит, полковник нашел свою десантную винтовку и ленту с фанатами. Убедившись, что винтовка цела, Кассад проверил заряд и, щелкнув предохранителем, бросился на перехват Шрайка.
Меня разбудил звук льющейся воды. На миг почудилось, будто я лежу на речном берегу, у Лодорского водопада, рядом — Браун, мой товарищ по пешим странствиям. Но стоит открыть глаза… Вокруг тьма более беспросветная, чем тьма Гипериона в моих снах, а заунывный плач воды ничуть не похож на грозный рокот водопада, воспетого Саути. Чувствую себя ужасно — но это не та саднящая боль в горле, которую я заработал, когда мы с Брауном сдуру взобрались на рассвете на Скиддоу, — нет, меня душит страшная, смертельная болезнь, от которой ломит все тело, а в груди и животе клокочет огненная мокрота.
Встаю, на ощупь пробираюсь к окну. Под дверью, ведущей в комнату Хента, — тусклая полоска света. Видно, он заснул, не погасив лампы. Мне следовало поступить так же, но теперь уже нет смысла: прямоугольник окна чуть светлее заполнившего комнату мрака.
Воздух свеж и пахнет дождем. Над крышами Рима пляшут молнии, и я понимаю, что меня разбудил гром. Нигде ни огонька. Высунувшись из окна, вижу лестницу над площадью, мокрую от дождя, и среди молний — черные силуэты башен Тринита-дель-Монти. С лестницы дует холодный ветер. Возвращаюсь к кровати и, набросив на плечи одеяло, подтаскиваю к окну стул. Усаживаюсь. Сижу, гляжу в окно, думаю.
Я вспоминаю брата Тома, последние недели и дни его жизни, судороги, сотрясавшие его тело на каждом вдохе и выдохе. Вспоминаю мать, ее бледное лицо, светящееся в сумраке комнаты с зашторенными окнами. Нас с сестрой приводили, позволяли коснуться ее влажной руки, поцеловать горячие обметанные губы — и тут же выводили. Вспоминаю, как однажды, выходя, украдкой вытер рот рукавом и боязливо покосился на сестру и родичей — вдруг заметили?
При вскрытии тела Китса спустя сутки после смерти доктор Кларк и хирург итальянец обнаружили следующее (цитирую письмо Северна к другу): «Ужаснейший из возможных случай туберкулеза… легкие совершенно разрушены, их просто не осталось». Ни доктор Кларк, ни итальянец не могли понять, как Китсу удалось прожить эти два месяца.
Я размышляю об этом, сидя в потемках и созерцая темную площадь, прислушиваясь к клокотанию в груди и горле, ощущая, как боль словно огонь пожирает мое тело, а непрерывно звучащий во мне крик — душу. Это кричит с дерева Мартин Силен, виновный в том, что написал стихи, на которые у меня не хватило здоровья и духу; кричит Федман Кассад, готовясь принять смерть от клинков Шрайка; стонет Консул, не желающий совершить новое предательство; кричат тысячи тамплиеров, оплакивая свой собственный мир и брата своего, Хета Мастина. Кричит Ламия Брон, вспоминая убитого любовника, моего двойника. Стонет на больничной койке Поль Дюре, измученный ожогами и воспоминаниями, ни на миг не забывающий, что его грудь когтят, выжидая урочного часа, крестоформы. Кричит Сол Вайнтрауб, зовущий Рахиль. А в ушах его не смолкает жалобный крик новорожденной.
— Будь все проклято, — шепчу я и стучу кулаком по подоконнику. — Проклято!
Спустя некоторое время, с появлением первых проблесков зари, я отхожу от окна, ощупью добираюсь до кровати и ложусь — хоть на миг смежить веки.
Генерал-губернатора Гипериона Тео Лейна разбудила музыка, но он долго не мог отличить сон от яви. Реаниматор, кушетка в корабельной операционной, мягкая черная пижама… Наконец обрывочные воспоминания о прошедших двенадцати часах начали выстраиваться в логической последовательности: вот его извлекают из реаниматора, затем обклеивают датчиками, а Консул и еще какой-то мужчина, склонившись над ним, задают вопросы. По всей видимости, он дает вполне здравые ответы; и снова забытье. Снится ему Гиперион, горящие города. Нет, города и в самом деле горели!
Тео сел, едва не взлетев при этом к потолку, нашел на ближней полке свою вычищенную и аккуратно сложенную одежду и быстро привел себя в порядок. Музыка звучала то громче, то тише, чарующе глубокая — никакой фонограмме не под силу воспроизвести все эти обертона.
Тео поднялся на прогулочную палубу и остолбенел. Люки были распахнуты настежь, балкон выдвинут, силовое поле, по-видимому, отключено. Здешней силы тяжести едва хватало, чтобы удерживать его ноги на палубе, — процентов двадцать гиперионовской или одна шестая стандартной.
Яркие солнечные лучи врывались через балконную дверь в кают-компанию, где Консул сидел за старинным клавишным инструментом, который он именовал роялем. К дверному косяку прислонился человек с бокалом в руке — археолог Арундес. Консул исполнял что-то древнее и очень сложное, пальцы его буквально летали над клавиатурой. Тео подошел ближе, чтобы заговорить с ушедшим в себя Арундесом, и замер, пораженный открывшимся ему зрелищем.
Залитая светом полуденного солнца сочно-зеленая лужайка под балконом тянулась до самого горизонта — впрочем, недалекого. На траве вольготно расселись и разлеглись люди — видимо, слушатели импровизированного концерта Консула. Но что это были за люди!
В первых рядах сидели худые индивидуумы в легких синих балахонах, бледные и безволосые, как эстеты с Эпсилона Эридана. Но ими аудитория отнюдь не ограничивалась. Обитателям Сети и не снилось такое разнообразие форм. Люди, заросшие шерстью, покрытые чешуей и мохнатые, как пчелы, с фасетчатыми глазами и усиками-антеннами. Хрупкие, как фигурки из проволоки, с черными крыльями, в которые они запахивались, как в плащи. Коренастые и мускулистые, как африканские буйволы, — их, должно быть, создавали для планет с высокой гравитацией; даже лузианцы показались бы рядом с ними дистрофиками. Какие-то диковинные существа, обросшие рыжей шерстью, — длиннорукие, с короткими туловищами. Если бы не глаза, светившиеся умом, их можно было бы принять за известных Тео по учебникам земных животных, называвшихся орангутангами. Некоторые больше походили на лемуров, чем на гуманоидов. На орлов, медведей, львов или древних антропоидов, чем на обычных людей. И все же это были именно люди. Внимательные глаза, расслабленные позы и сотни других едва уловимых признаков принадлежности к роду человеческому (даже то, как существо с крыльями бабочки извечным материнским жестом прижимало к груди своего крылатого младенца) говорили о том, что это не инопланетяне и не животные.
Мелио Арундес обернулся и, улыбнувшись ошарашенному Тео, прошептал:
— Бродяги.
Тео Лейн только покачал головой. Эти красивые, почти эфирные создания с выразительными лицами — варвары-Бродяги? Пленные Бродяги на Брешии были все под одну гребенку: несоразмерно высокие и худые. И все же они больше соответствовали стандартам Сети, чем это головокружительно пестрое общество.
Тео снова покачал головой. Между тем исполняемая Консулом пьеса достигла кульминации и завершилась ликующим аккордом. Сотни существ на лужайке разразились восторженными аплодисментами, звучавшими в разреженном воздухе необыкновенно мягко. Вскоре слушатели стали расходиться: одни быстро скрылись за головокружительно близким горизонтом, другие, расправив свои восьмиметровые крылья, поднялись в воздух. Остальные двинулись к кораблю Консула.
Консул поднялся и, увидев Тео, улыбнулся ему.
— Ты как раз вовремя. Скоро начнутся переговоры. — Он похлопал молодого человека по плечу.
У Тео Лейна глаза полезли на лоб. Трое Бродяг, сложив за спиной крылья, опустились на балкон. В мохнатых шкурах, испещренных полосами и пятнами, они отнюдь не выглядели ряжеными: облик диких зверей удивительным образом сочетался в них с превосходными манерами.
— Как всегда, великолепно, — заявил Консулу один из Бродяг, выступив вперед. Широкий нос, золотистые глаза и курчавая рыжая грива делали его похожим на льва. — Это «Фантазия ре-минор» Моцарта KV.397? Я не ошибся?
— Совершенно верно, — улыбнулся Консул. — Свободный Ванц, я хотел бы представить вам господина Тео Лейна, генерал-губернатора Гипериона, протектората Гегемонии.
Львиные глаза устремились на Тео.
— Польщен, — с царственным видом произнес Свободный Ванц, протягивая Тео мохнатую ладонь.
Тео как во сне пожал ее:
— Рад познакомиться, сэр.
Губернатору стало казаться, что он все еще плавает в реаниматоре, а все эти чудеса ему просто снятся. Однако слепящий солнечный свет и мощное рукопожатие вернули его к действительности.
Свободный Ванц повернулся к Консулу.
— От имени Собрания благодарю вас за концерт. С того дня, как мы последний раз слышали вашу игру, друг мой, протекло много лет. — Он обвел своими львиными глазами балкон. — Мы можем провести переговоры здесь или в одном из административных блоков — как вам удобнее.
— Нас всего трое, Свободный Ванц. Давайте у вас, — не раздумывая, ответил Консул.
Огненногривая голова кивнула:
— Мы вышлем за вами судно.
Бродяги отошли к перилам и прыгнули вниз, лишь у самой земли раскрыв свои причудливые крылья.
— Боже, — прошептал Тео, схватив Консула за руку, — что это? Где мы?
— В Рое, — ответил Консул, бережно опуская крышку «Стейнвея». Он жестом пригласил спутников в кают-компанию, подождал, пока войдет Арундес, и убрал балкон.
— А что за переговоры?
Консул потер глаза. Похоже, за прошедшие десять — двенадцать часов он спал очень мало или вообще не спал.
— Выяснится из очередного послания Гладстон. — Консул указал подбородком на проекционную нишу, в которой уже сгущался туман: корабль приступил к трансляции расшифрованного сообщения.
Мейна Гладстон вышла из портала и оказалась в лазарете Дома Правительства. Врачи проводили ее в палату реанимационного отделения, где лежал Поль Дюре.
— Как он? — негромко спросила она у своего личного врача.
— Ожоги второй степени примерно на одной трети тела, — ответила доктор Ирма Андронова. — Он потерял брови и часть волос. Кроме того, на левой стороне лица и тела множественные третичные лучевые ожоги. Мы завершили эпидермическую регенерацию и сделали инъекции РНК. Больной в сознании и боли не испытывает. Крестоформы осложняют ситуацию, но непосредственной угрозы для пациента не представляют.
— Третичные лучевые ожоги, — задумчиво повторила Гладстон, остановившись на мгновение, чтобы Дюре ее не слышал. — Плазменные бомбы?
— Наверняка, — ответил врач, незнакомый Гладстон. — Видимо, больной перенесся с Рощи Богов в последние секунды существования нуль-канала.
— Хорошо. — Гладстон подошла к парящей над полом койке Дюре. — Оставьте меня наедине с больным.
Врачи понимающе переглянулись и, приказав роботу-санитару удалиться в стенную нишу, покинули ординаторскую, убрав за собой портал.
— Отец Дюре? — спросила Гладстон, сразу же узнав священника по голопортретам и рассказам Северна. Лицо Дюре, все в багровых пятнах, блестело от регенерационного геля и аэрозольного анальгетика, сохраняя при этом всю свою благородную выразительность.
— Госпожа секретарь, — прошептал священник, силясь приподняться.
Гладстон осторожно коснулась его плеча.
— Лежите. Не могли бы вы рассказать мне, что случилось?
Дюре кивнул. В глазах иезуита стояли слезы.
— Истинный Глас Мирового Древа до самого конца не верил, что они нападут, — прошептал он. — Сек Хардин дал мне понять, что тамплиеры заключили с Бродягами какое-то соглашение, договор… И все же они напали… Лазеры, плазменные снаряды, ядерные бомбы…
— Да, — тихо произнесла Гладстон. — Мы видели это. Отец Дюре, я должна знать все. Начиная с того момента, когда вы вошли в Пещерную Гробницу на Гиперионе.
Дюре изумленно взглянул на Гладстон:
— Как? Вам и это известно?
— Да. И многое другое. Предшествующие события. Но я должна знать все. Все.
Дюре закрыл глаза.
— Лабиринт…
— Что?
— Лабиринт, — повторил он более внятно. И, собравшись с силами, поведал секретарю Сената о своем странствии по туннелям, полным мертвецов, о том, как перенесся оттуда на военный корабль Гегемонии, а затем встретился с Северном на Пасеме.
— Вы уверены, что Северн направлялся сюда? В Дом Правительства? — быстро спросила Гладстон.
— Да. Вместе с вашим помощником… Хентом, кажется. Оба собирались немедленно перенестись сюда.
Гладстон кивнула и осторожно коснулась необожженного места на плече священника.
— Святой отец, события развиваются молниеносно: Северн пропал. Вместе с Ли Хентом. Мне необходимо с кем-то советоваться относительно Гипериона. Не могли бы вы мне помочь?
Дюре растерялся.
— Но… я должен вернуться! Вернуться на Гиперион, госпожа секретарь. Сол… и другие… ждут меня.
— Понимаю, — с печалью произнесла Гладстон. — Как только откроется канал на Гиперион, я тут же отправлю вас туда. Однако сейчас гибель угрожает всей Сети. В опасности миллионы. И мне просто необходима ваша помощь, святой отец. Могу ли я рассчитывать на вас?
Поль Дюре вздохнул и откинулся на подушки.
— Да, конечно, госпожа Гладстон. Однако ума не приложу, чем могу…
В дверь тихонько постучали. Вошла Седептра Акази и передала Гладстон тонкий листок из факсблокнота. Секретарь Сената улыбнулась:
— Я же говорила вам, что одно событие обгоняет другое. Вот еще одна новость. С Пасема сообщают, что конклав кардиналов, собравшись в Сикстинской капелле… — Гладстон прищурилась: — Я забыла, святой отец, это та самая Сикстинская капелла?
— Да. После Большой Ошибки церковь разобрала ее и восстановила на Пасеме. Кирпичик за кирпичиком, фреску за фреской.
Гладстон заглянула в листок:
— …Так вот, кардиналы, собравшись в Сикстинской капелле, избрали нового Папу.
— Так скоро? — прошептал Поль Дюре и закрыл глаза. — По-видимому, сочли, что не следует терять время. От флота Бродяг Пасем отделяют только десять суток. И все же так быстро принять решение…
— Вам интересно, кто новый папа? — спросила Гладстон.
— Либо Антонио, кардинал Гвардуччи, либо Агостино, кардинал Раддел, — помедлив, ответил Дюре. — Только они могли сейчас набрать нужное число голосов.
— Ошибаетесь, — с мягкой улыбкой произнесла Гладстон. — Судя по письму епископа Эдуарда из Римской курии…
— Боже мой, Эдуард — епископ! Извините меня, госпожа Гладстон, пожалуйста, продолжайте.
— Судя по этому письму, конклав кардиналов впервые в истории Церкви остановил свой выбор на человеке, не достигшем сана монсеньора. Здесь сказано, что новый Папа — священник-иезуит, некто Поль Дюре.
Невзирая на боль, Дюре сел в постели.
— Что? — недоверчиво воскликнул он.
Гладстон передала ему листок с сообщением.
Поль Дюре уставился на бумагу.
— Но это невозможно! Никогда еще Папой не выбирали человека с саном ниже монсеньора, разве что символически, и то единожды. Так было со святым Бельведером после Большой Ошибки и Чуда… Нет, нет, это невозможно!
— Моя помощница сообщила, что епископ Эдуард уже пытался дозвониться до вас, — продолжала Гладстон. — Мы распорядимся, чтобы вас немедленно соединили с ним, святой отец. Извините, я должна называть вас теперь Ваше Святейшество. — В голосе секретаря Сената слышалось глубокое уважение без тени иронии.
Дюре, слишком потрясенный, чтобы отвечать, лишь смотрел на нее.
— Я прикажу соединить вас с Пасемом. Мы сделаем все, чтобы вы поскорее вернулись в Новый Ватикан, Ваше Святейшество, но я была бы бесконечно признательна вам, если бы вы поддерживали с нами связь. Я нуждаюсь в ваших советах.
Дюре, кивнув, снова поднес к глазам тонкий листок. На пульте в изголовье койки замигал глазок фона.
Выйдя в коридор, Гладстон сообщила врачам новость с Пасема и, вызвав охрану, приказала доставить сюда епископа Эдуарда и других иерархов Нового Ватикана. Когда она вернулась к себе, Седептра напомнила ей, что через восемь минут возобновится заседание Военного Кабинета. Гладстон кивнула, подождала, пока помощница уйдет, и вошла в кабину мультисвязи, скрытую за панелью в стене. Отгородившись звуконепроницаемым экраном, она набрала код корабля Консула. Конечно, услышать эти сигналы может кто и где угодно, но расшифровать их способен лишь адресат. Хотелось бы надеяться на это.
Загорелся красный глазок голографической камеры.
— Из автоматического рапорта вашего корабля следует, что вы согласились встретиться с Бродягами и они приняли вас. Надеюсь, вы остались в живых, — произнесла Гладстон в камеру и, вздохнув, продолжила: — Много лет назад я попросила вас принести великую жертву Гегемонии. А теперь прошу ради блага всего человечества выяснить следующее:
— Во-первых, почему Бродяги атакуют и крушат миры Сети? Все мы — вы, Ламия Брон, я сама — были убеждены, что им нужен только Гиперион. Каковы их истинные намерения?
— Во-вторых, где находится Техно-Центр? Я должна это знать, если нам предстоит с ним воевать. Неужели Бродяги забыли о нашем общем враге?
— В-третьих, на каких условиях они согласны прекратить огонь? Чтобы избавиться от Техно-Центра, я готова пойти на уступки. Большие уступки. Но кровопролитие должно прекратиться. Немедленно!
— В-четвертых, согласен ли встретиться со мной Глава Собрания Роя? Если потребуется, я лично прибуду в систему Гипериона. Большинство наших кораблей оттуда ушло, но корабль-прыгун и его эскорт остаются возле сферы сингулярности. Глава Роя должен принять решение немедленно, так как руководство ВКС намерено уничтожить сферу, и тогда путешествие из Сети займет три года.
— Наконец, Глава Роя должен знать, что Техно-Центр побуждает нас воспользоваться взрывным нейродеструктором. Многие руководители ВКС согласны. Время не ждет. И повторяю: мы не допустим захвата всей Сети!
— Теперь дело за вами. Пожалуйста, подтвердите получение этого сообщения и свяжитесь со мной по мультилинии, как только начнутся переговоры.
Гладстон взглянула в круглый глаз камеры, надеясь, что ее тревога и искренность, преодолев сотни световых лет, дойдут до Консула.
— Умоляю вас исполнить мою просьбу. Смилуйтесь над родом человеческим!
За мультиграммой последовал двухминутный репортаж об апокалипсисе на Небесных Вратах и Роще Богов. Ниша опустела, а Консул, Мелио Арундес и Тео Лейн все еще не могли произнести ни слова.
— Отвечать? — нарушил тишину корабль.
Консул прокашлялся.
— Подтверди получение сообщения, — сказал он. — Сообщи наши координаты. — Он вопросительно взглянул на спутников.
Арундес тряхнул головой, словно пытаясь избавиться от кошмара.
— Очевидно, вы и раньше бывали здесь, в этом Рое.
— Да, — ответил Консул. — После Брешии. После того, как моя жена и сын… Короче, после Брешии я побывал в этом Рое и вел переговоры с Бродягами.
— Вы представляли Гегемонию? — спросил Тео Лейн. Тревога состарила молодого губернатора Гипериона, избороздив его лицо стариковскими морщинами.
— Нет, фракцию сенатора Гладстон, — объяснил Консул. — Это было еще до ее избрания на пост секретаря Сената. Ее соратники объяснили, что включение Гипериона в Протекторат может повлиять на исход политических распрей внутри Техно-Центра. Нужно только подбросить Бродягам информацию, которая побудит их оккупировать Гиперион. Что, в свою очередь, явится предлогом для вмешательства флота Гегемонии.
— И вы это сделали? — В голосе Арундеса не звучало никаких эмоций, хотя его жена и взрослые дети находились на Возрождении-Вектор — в неполных восьмидесяти часах от первой волны вторжения.
Консул откинулся на подушки.
— Нет. Я выдал Бродягам этот план. Они послали меня назад, в Сеть, в качестве двойного агента. Они действительно намеревались оккупировать Гиперион, но лишь когда сочтут это необходимым.
Тео, сцепив пальцы, откинул голову:
— Значит, все эти годы в консульстве…
— Я ждал известий от Бродяг, — спокойно договорил за него Консул. — Видите ли, у них имелось устройство, способное разрушить антиэнтропийный барьер вокруг Гробниц Времени. Распахнуть Гробницы, когда Бродяги будут готовы. Снять оковы с Шрайка.
— Значит, это сделали Бродяги, — сказал Тео.
— Нет, — невозмутимо возразил Консул, — это сделал я. Я предал Бродяг так же, как до того — Гладстон и Гегемонию.
Я застрелил женщину из Роя, которая настраивала устройство… Ее и техников, что были с нею… Затем включил устройство. Антиэнтропийные поля исчезли. Было организовано последнее паломничество. И Шрайк вышел на свободу.
Тео смотрел, не отрывая глаз, на бывшего наставника. В зеленых глазах молодого губернатора было, скорее, недоумение, чем гнев.
— Но почему? Почему вы сделали это?
И Консул рассказал им, коротко и бесстрастно, о Сири с Мауи-Обетованной и восстании против Гегемонии. Восстании, которое не прекратилось и после смерти Сири и ее мужа — деда Консула.
Арундес поднялся с дивана и подошел к окну. Солнечные лучи играли на его одежде, на темно-синем ковре кают-компании.
— А Бродяги знают, что вы… натворили?
— Теперь знают, — ответил Консул. — Я рассказал об этом Свободному Ванцу… и другим… сразу же после нашего прибытия.
Тео мерил шагами нишу.
— Значит, встреча, на которую мы собираемся, может окончиться судебным разбирательством?
Консул улыбнулся.
— Или казнью.
Тео остановился, сжав кулаки.
— И Гладстон знала об этом, когда просила вас еще раз отправиться сюда?
— Да, конечно.
Тео отвернулся.
— Просто не знаю, чего вам пожелать — казни или помилования.
— Я сам не знаю, Тео, — с горечью отозвался Консул.
— Ванц, кажется, говорил, что собирается прислать за нами судно? — сказал Мелио Арундес.
Что-то в его интонации заставило обоих мужчин подойти к окну. Небесное тело, на котором они находились, было астероидом средней величины, окруженным силовым полем десятого класса и терраформированным многовековым трудом ветра, воды и дотошных инженеров. Солнце Гипериона висело над пугающе близким горизонтом. Сплошные травяные заросли колыхались на ветру, и по этому лугу струилась то ли широкая речушка, то ли небольшая река. Вода текла к горизонту, а там, казалось, воспаряла к небу, превращаясь в опрокинутый водопад, и уходила все выше и выше, пересекала далекую мембрану силового поля и исчезала в космической тьме.
По этому бесконечно высокому водопаду спускалась лодка. На носу и корме виднелись человекоподобные фигуры.
— Боже! — прошептал Тео.
— Нам лучше приготовиться, — деловито сказал Консул. — Это наш эскорт.
Солнце зашло удивительно быстро. Последние лучи пронзили водяную завесу в полукилометре над сумрачной поверхностью астероида, и в ультрамариновом небе расцвели радуги, настолько сочные и густые, что дух захватывало от их красоты.
Глава 40
Часов в десять меня будит Хент. В руках у него поднос с завтраком, в темных зрачках — ужас.
— Где вы раздобыли еду? — спрашиваю я.
— На первом этаже. Там что-то вроде маленького ресторана. Все стояло на столе, уже горячее, но людей не было.
Я киваю.
— Мини-траттория синьоры Анджелетти, — поясняю я. — Готовит она так себе.
Как беспокоило доктора Кларка мое питание! Он считал, что чахотка гнездится в моем желудке, и держал меня на голодном пайке — молоко с хлебом, изредка — пара костлявых рыбок. Странно, но многие болящие сыны и дочери человеческие накануне воссоединения с вечностью более всего сокрушаются из-за расстройства кишечника, пролежней или несъедобных обедов.
Я снова поднимаю глаза на Хента.
— Что с вами?
Помощник Гладстон подходит к окну и принимается созерцать площадь. Оттуда явственно доносится журчание проклятого шедевра Бернини.
— Пока вы спали, я ходил прогуляться. — Хент говорит с трудом. — А вдруг кого-нибудь встречу. Или попадется фон. Или портал.
— Конечно, — говорю я.
— Не успел выйти… и… — Он оборачивается ко мне и облизывает пересохшие губы. — Там кто-то стоит, Северн. У подножия лестницы. Не могу поручиться, но, мне кажется, это…
— Шрайк, — говорю я.
Хент кивает.
— Вы тоже его видели?
— Нет, но для меня это не сюрприз.
— Он… это ужас, Северн. В нем есть что-то, от чего бросает в дрожь. Вон, поглядите, там, в тени, с той стороны лестницы.
Я приподнимаюсь на локтях, но от внезапного приступа кашля снова валюсь на подушки.
— Хент, я знаю, как он выглядит. Но он пришел не за вами, — произношу я с уверенностью, которой не разделяю.
— Значит, за вами?
— Не… ду… м-маю, — произношу я, хватая ртом воздух. — Скорее всего он просто караулит меня, чтобы я не удрал… умирать в другом месте.
Хент быстро подходит к кровати.
— Вы не умрете, Северн!
Я молчу.
Он садится на стул с прямой спинкой рядом с кроватью и берет чашку с почти остывшим чаем.
— Если вы умрете, что будет со мной? — говорит он чуть слышно.
— Не знаю, — честно отвечаю я. — Не знаю даже, что будет со мной, когда я умру.
Тяжелая болезнь, как правило, приводит к солипсизму. С той же неизбежностью, с какой космическая «черная дыра» глотает все, что имело несчастье очутиться в пределах ее досягаемости, интересы больного сужаются до крошечной точки — его собственного «я». День кажется вечностью. От меня не ускользает ни одна мелочь: я замечаю, как по-черепашьи медленно передвигаются по стенам с облезлой штукатуркой солнечные пятна, ощущаю фактуру простыней под ладонями и их запах, лихорадку, что набухает внутри, как рвота, а затем неспешно выгорает дотла в топках моего мозга, и, конечно, боль. Не мою — резь в горле и жжение в груди можно потерпеть еще несколько часов или дней. Они даже приятны, как нечаянная встреча в чужом городе со старым, пусть и занудливым знакомым. Нет, я о чужой боли… боли тех, остальных. Она сотрясает мой мозг, как тупой грохот камнедробилки, как удары молота о наковальню. От нее не спрячешься.
Мое сознание воспринимает ее в виде шума — и тут же претворяет в стихи. С утра до ночи, с ночи до утра в душу мою вливается боль вселенной и разбегается по ее горячечным извивам, на бегу образуя рифмы, метафоры, строки. Замысловатый, бесконечный танец слов. То умиротворяющий, как соло на флейте, то пронзительный и сумбурный, будто множество оркестров одновременно настраивают свои инструменты. Но это всегда — стихи, всегда — поэзия.
Я просыпаюсь перед самым заходом солнца — в тот самый момент, когда полковник Кассад бросается наперерез Шрайку, спасая жизнь Сола и Ламии Брон. Хент сидит у окна. Его длинное лицо кажется терракотовым в горячих закатных лучах.
— Он все еще там? — спрашиваю я, не узнавая собственный голос.
Хент, вздрогнув, оборачивается ко мне, и я впервые вижу на его суровом лице виноватую улыбку.
— Шрайк? — говорит он. — Не знаю. Давно его не видел. Только чувствовал. — Он внимательно смотрит на меня. — Как вы?
— Умираю, — отвечаю я и тут же спохватываюсь: лицо Хента искажает гримаса. — Да вы не волнуйтесь, — стараясь исправить положение, бодро говорю я. — Со мной уже было такое. И потом, умираю-то не я. Моя личность обитает где-то в недрах Техно-Центра, и ей ничто не грозит. Умирает тело. Данный кибрид Джона Китса. Двадцатисемилетний манекен из мяса, костей и заемных ассоциаций.
Хент присаживается на край кровати. Приятный сюрприз — пока я спал, он заменил мое испачканное кровью одеяло своим, чистым.
— Ваша личность — тот же самый ИскИн, — размышляет он вслух. — Значит, вы способны подключаться к инфосфере?
Я молча мотаю головой — на объяснения нет сил.
— Когда Филомели похитили вас, мы обшарили инфосферу и наткнулись на следы ваших подключений, — продолжает он. — Стало быть, вам не обязательно выходить напрямую на Гладстон. Просто оставьте где-нибудь весточку, и наша контрразведка ее заметит.
— Нет, — хриплю я, — Центру это не понравится.
— Они что, блокируют вас? Не пускают в инфосферу?
— Пока… нет… Но скоро… додумаются. — Я произношу слова с промежутками, словно укладываю в коробку хрупкие птичьи яйца. Мне вспоминается записка, которую я черкнул Фанни вскоре после тяжелого приступа кровохарканья, за год до смерти. «Если мне суждено умереть, — думал я, — память обо мне не внушит моим друзьям гордости — за свою жизнь я не создал ничего бессмертного, однако я был предан принципу Красоты, заключенной во всех явлениях, и, будь у меня больше времени, я сумел бы оставить о себе долговечную память».[55] До чего же теперь эти рассуждения кажутся пустыми, смехотворными, наивными… и все же я не перестаю верить, хочу верить, что это так. Будь только у меня время… Месяцы на Эсперансе, когда я притворялся художником; дни, истраченные на беседы с Гладстон и на бесконечные совещания; а ведь все это время я мог писать…
— Вы ведь даже не попробовали! — не унимается Хент.
— Что именно? — спрашиваю я. Мизерное усилие вызывает новый приступ кашля, и я выплевываю почти твердые сгустки крови в тазик, поспешно подставленный Хентом. Наконец спазмы прекращаются. Снова ложусь, стараясь избавиться от тумана перед глазами. Становится все темнее, но никому из нас не приходит в голову зажечь лампу. На площади не умолкает фонтан.
— Что? — спрашиваю я снова, пытаясь сохранить ясность сознания, наперекор сну и порожденным им сновидениям. — Чего я не пробовал?
— Не пробовали послать весть через инфосферу, — шепчет Хент. — Связаться с кем-нибудь.
— А что мы можем сообщить, Ли? — спрашиваю я, впервые за время нашего знакомства назвав его по имени.
— Наше местонахождение. Каким образом Техно-Центр нас похитил. Что угодно.
— Хорошо, — говорю я. Веки буквально слипаются. — Я попробую. Хотя не думаю, что это сойдет мне с рук.
Чувствую, как Хент накрывает мою руку своей. Это внезапное проявление простого человеческого сочувствия трогает меня до слез.
Я попробую. Прежде, чем сдаться на милость сна или смерти. Попробую.
Не разбирая дороги, полковник Федман Кассад с традиционным боевым кличем ВКС бросился наперерез Шрайку, которого отделяло от Сола и Ламии не больше тридцати метров.
Шрайк остановился, проворно вращая головой и сверкая красными глазами. Кассад вскинул десантную винтовку и ринулся вниз по склону.
Шрайк переместился.
Расплывшись в туманное пятно, он передвинулся во времени. Боковым зрением полковник увидел, что все в долине замерло: песчинки неподвижно зависли в воздухе, сияние Гробниц стало густым, как янтарь. А в следующую секунду скафандр Кассада необъяснимым образом переместился вслед за Шрайком, повторяя его маневры во времени.
Существо вскинуло голову и настороженно застыло. Четыре руки выдвинулись вперед, как лезвия выкидного ножа. Щелкнув, растопырились алчущие крови пальцы.
Кассад притормозил в десяти метрах от монстра и спустил курок, всадив полный заряд в песок под ногами Шрайка.
Охваченное адским пламенем трехметровое чудовище словно уменьшилось в росте… начало погружаться в пузырящийся песок… нет, в озеро расплавленного стекла. Кассад издал торжествующий клич и подступил ближе, поливая широким лучом Шрайка и дюны, как когда-то в детстве, в марсианских трущобах, обдавал друзей водой из ворованного ирригационного шланга.
Шрайк тонул, колотя руками по песку и камням в поисках опоры. Во все стороны летели искры. Он снова переместился, и время побежало назад, словно пленка, пущенная задом наперед, но Кассад без труда переместился вслед за ним, смутно осознав, что ему помогает Монета — соединив их скафандры, тащит его против течения времени. Он вновь принялся поливать чудовище концентрированными тепловыми импульсами. Песок под ногами Шрайка плавился, валуны вспыхивали один за другим.
Все глубже погружаясь в эту огненную геенну, Шрайк вдруг запрокинул голову, распахнул чудовищную пасть — и заревел.
От неожиданности Кассад чуть не выронил винтовку. Вопль — хриплый рев дракона, наложенный на грохот взрыва термоядерной бомбы, — пронесся по долине, отразился от стен ущелья, и зависший между небом и землей в невесомости-безвременьи песок обрушился вниз. Стиснув завибрировавшие зубы, Кассад быстро переключил винтовку в обычный режим и послал в морду чудовища тысячи сверхтвердых пуль.
Шрайк переместился — на несколько лет, Кассад это почувствовал по головокружению и ломоте в костях, — и они оказались уже не в долине, а на борту ветровоза, идущего через Травяное Море. Время возобновило свое течение, и Шрайк ринулся навстречу Кассаду. Стальные руки, с которых струилось расплавленное стекло, вцепились в десантную винтовку, но полковник не выпустил оружие, и они закружились в неуклюжем танце. Шрайк сделал выпад двумя нижними руками, затем резко выбросил вперед шипастую ногу, но Кассад, вцепившись в приклад, внимательно следил за каждым движением чудовища и раз за разом уворачивался от стальных конечностей.
Они находились в небольшом помещении — скорее всего каюте. Монета вжалась в угол. Здесь же оказался какой-то высокий мужчина в накидке с капюшоном, который сверхмедленно пятился к двери, пытаясь убраться с пути клубка рук, ног и клинков. В другом углу мерцала сине-фиолетовая дымка — это фильтры скафандра перевели в видимый спектр силовое поле эрга, пульсировавшее под напором излучаемых Шрайком антиэнтропийных волн.
Одним мощным ударом Шрайк рассек скафандр Кассада, и из раны брызнула кровь. Но полковник, изловчившись, засунул дуло винтовки в пасть чудовища и нажал на спуск. Голова Шрайка откинулась назад, как на пружине, и его отбросило к стене, однако, падая, он успел пропороть бедро Кассада своими шпорами. Снова брызнула кровь, теперь уже не только на стены, но и на иллюминатор.
Шрайк переместился.
Стиснув зубы, Кассад ждал, пока скафандр автоматически накладывал жгуты и зашивал раны. Затем он бросил взгляд на Монету, кивнул ей и пустился вдогонку за чудовищем через время и пространство.
Вверх взметнулся и тут же исчез гигантский столб пламени. Сол прикрыл собой молодую женщину и вовремя — с неба посыпались капли расплавленного стекла. Некоторое время они падали на холодный песок и с шипением застывали. Затем все стихло. Заботливо укутав обоих паломников накидкой Сола, буря замела кипящее озеро песком.
— Что за чертовщина? — выдохнула Ламия.
Сол, помогая ей подняться на ноги, помотал головой и прокричал:
— Гробницы открываются! Возможно, что-то взорвалось.
Пошатнувшись, Ламия вцепилась в руку Сола:
— Рахиль?
Сол сжал кулаки и тряхнул бородой, в которую набился песок.
— Шрайк… забрал ее. Не могу попасть в Сфинкс. Жду!
Ламия сощурилась и посмотрела в сторону Сфинкса, смутно просвечивавшего сквозь песчаные вихри.
— А вы? — спрашивает Сол.
— Что?
— С вами… все в порядке?
Ламия рассеянно кивнула и пощупала за ухом. Нейрошунт исчез. Нет не только мерзкого щупальца Шрайка, но и самого разъема, который Джонни когда-то, еще в Дрегсе, вставил ей с помощью хирурга. А вместе с шунтом и петлей Шрюна утрачена всякая возможность увидеть Джонни. Тут Ламия вспомнила, что личности Джонни больше нет, что Уммон уничтожил ее, раздавил, как букашку, и всосал в свои недра.
— Да, со мной все в порядке, — ответила Ламия, медленно оседая на песок. Сол успел подхватить ее и что-то крикнул.
Ламия никак не могла сосредоточиться на происходящем. После мегасферы реальность казалась какой-то выморочной, узкой.
— H…в…змо… говорить! — Ветер уносил слова Сола. — …немея к Сфин…
Ламия, покачав головой, указала на северную стену долины, над которой среди мчащихся туч проступал мрачный силуэт дерева Шрайка:
— Там Силен… Видела его!
— Тут мы бессильны! — ответил Сол, плотнее укутывая себя и Ламию в накидку. Рыже-красные песчинки забарабанили по фибропластовой парусине, как пули по панцирю.
— Посмотрим, — возразила Ламия, согреваясь в его объятиях. Ей захотелось свернуться калачиком, как Рахиль, прижаться к Вайнтраубу и спать, спать. — Я видела… соединения… когда выходила из мегасферы! — Ее голос едва слышен сквозь рев ветра. — Терновое дерево как-то соединяется с Дворцом Шрайка! Если мы попадем туда, можно попытаться освободить Силена…
Сол покачал головой:
— Рахиль… Боюсь отойти от Сфинкса…
Ламия все поняла. Дотронувшись до щеки ученого, она плотнее прижалась к нему, не обращая внимания на колючую бороду.
— Гробницы открываются, — сказала она. — Представится ли еще когда-нибудь такой случай?
В глазах Сола блеснули слезы.
— Знаю. Я бы рад помочь. Но не могу отойти от Сфинкса… А вдруг…
— Да, конечно, — согласилась Ламия. — Возвращайтесь. А я попытаюсь выяснить, как Дворец связан с деревом.
Сол кивнул.
— Значит, вы были в мегасфере? Ну и что там? Личность Китса… он…
— Расскажу, когда вернусь. — Ламия отступила на шаг, чтобы лучше видеть лицо старого ученого. Лицо отца, потерявшего дитя. Маску боли.
— Идите к Сфинксу, — решительно сказала она. — Встретимся там. Через час — или раньше.
Сол потеребил бороду:
— Ламия, остались только вы и я. Нам нельзя… расставаться.
— Ненадолго можно. — Ветер обрушился на Ламию, раздувая широкие брюки и куртку. — Увидимся через час, не позднее.
Она быстро зашагала по тропе, борясь с искушением вернуться и хотя бы на миг снова нырнуть в тепло дружеских объятий. Ветер в долине просто обезумел, подняв в воздух тучи песка, и Ламия поневоле опустила голову. Дорогу освещало лишь пульсирующее свечение Гробниц. Приливы времени тоже разбушевались не на шутку и буквально швыряли ее из стороны в сторону.
Через несколько минут, миновав Обелиск, Ламия оказалась на усыпанном осколками хрусталя участке тропы вблизи Монолита. Сол и Сфинкс давно скрылись из виду. Сквозь клубящуюся стену песка бледно-зеленой тенью просвечивала Нефритовая Гробница.
Ламия остановилась, пошатываясь от диких порывов ветра и толчков темпоральных волн. До Дворца Шрайка было не меньше полукилометра. Покидая мегасферу, она поняла, как связано дерево с гробницей, но до сих пор не придумала, как использовать эту связь. И ради кого она рискует жизнью? Ради этого проклятого писаки, который только и делал, что поносил ее на все лады…
На долину обрушился новый порыв ветра, но Ламии показалось, что она слышит перекрывающие этот рев пронзительные вопли. Кричали люди. Она посмотрела в сторону северных скал, но из-за песка не было видно ни зги.
Ламия спрятала лицо в воротник куртки и двинулась навстречу ветру.
Не успела Мейна Гладстон выйти из кабины мультисвязи, как зазвенел звонок, и она снова заняла свое место, не сводя усталых глаз с голоэкрана. Корабль Консула подтвердил прием, но и только. Может, Консул передумал и все же отправил послание?
Нет. Инфоколонки, всплывавшие в прямоугольной призме, свидетельствовали, что передача велась из системы Безбрежного Моря. Адмирал Вильям Аджунта Ли вызывал секретаря Сената для конфиденциального разговора.
Штаб ВКС буквально раскалился от ярости, когда Гладстон настояла на производстве этого морячишки из капитанов третьего ранга в контр-адмиралы и назначила его представителем правительства в отряде, изначально сформированном для обороны Хеврона. После побоищ на Небесных Вратах и Роще Богов эскадра (семьдесят четыре линкора с надежным эскортом из факельщиков и сторожевиков) была переброшена в систему Безбрежного Моря с приказом как можно скорее прорваться сквозь авангард Роя к его ядру и нанести по нему удар.
Ли был ушами, глазами и руками секретаря Сената. Его должность позволяла ему на равных участвовать в принятии решений, хотя четверо командиров в эскадре превосходили его по званию.
Все правильно. Гладстон ждала его доклад.
Воздух в нише сгустился. Из мглы выступило волевое лицо Вильяма Аджунты Ли.
— Госпожа секретарь, эскадра 181.2 успешно перешла в систему 3996.12.22…
Гладстон подняла брови, не сразу сообразив, что таково официальное обозначение системы-звезды класса G, вокруг которой обращалась планета Безбрежное Море. Мало кто задумывался о географии пустого пространства, в котором раскинулась Сеть.
— …силы противника держатся в ста двадцати минутах полета от радиуса поражения мира-мишени, — сообщил Ли. Гладстон знала, что радиус поражения, примерно 0,13 астроединицы, — это дистанция, с которой вооружение стандартного боевого корабля способно пробить наземные защитные поля. На Безбрежном Море их не было.
Молодой адмирал продолжал:
— Контакт с их авангардом предполагается в 1732:26 по стандартному времени, то есть минут через двадцать пять. Построение эскадры должно обеспечить нам максимальное проникновение в глубь Роя. На время сражения нуль-канал будет отключен, локальный перенос подкреплений и боеприпасов будет производиться силами двух наших кораблей-прыгунов. Мой флагманский корабль — КГ «Гарден Одиссей» — выполнит вашу специальную директиву при первой же возможности. Вильям Ли, конец связи.
Изображение сжалось в белый вращающийся шар.
— Отвечать? — спросил компьютер передатчика.
— Прием подтверждаю, — сказала Гладстон. — Продолжайте.
В кабинете ее ждала Седептра Акази. Заметив, что красавица-негритянка хмурится, Гладстон спросила:
— Что случилось?
— Военный Совет готов продолжить работу, — сообщила помощница. — А сенатор Колчев настаивает на немедленной аудиенции. По сверхважному, как он утверждает, вопросу.
— Пусть зайдет. Передайте членам Совета, что я буду через пять минут.
Гладстон села за свой антикварный письменный стол. Вот уже несколько ночей она не спала, и глаза буквально слипались. Но когда вошел Колчев, она как ни в чем не бывало смерила его проницательным взглядом.
— Садитесь, Габриэль-Федор.
Коренастый лузианец, будто не слыша, принялся мерить шагами кабинет.
— Знаете ли вы, что происходит, Мейна?
Она слегка улыбнулась.
— Вы имеете в виду войну? Конец мира, в котором мы родились и выросли? Это?
Колчев хватил кулаком одной руки по ладони другой.
— Нет, черт возьми, не это! Вы следите за Альтингом?
— По возможности.
— В таком случае вы должны знать, что кое-кто из сенаторов и околосенатские интриганы сколачивают лобби: им не терпится выразить вам недоверие. И они это сделают, Мейна. Причем в самое ближайшее время.
— Я в курсе, Габриэль. Садитесь же! У нас еще минута, даже две.
Колчев рухнул в кресло.
— Дьявольщина! Даже моя собственная жена вербует, где только можно, ваших противников, Мейна.
Гладстон улыбнулась еще безмятежнее:
— Сюдетта никогда не пылала ко мне любовью, Габриэль. — Внезапно улыбка исчезла с ее лица. — Последние двадцать минут я не следила за дебатами. Как по-вашему, сколько мне осталось?
— Часов восемь. Может, чуть меньше.
Гладстон кивнула.
— Вполне достаточно.
— Достаточно? Что за чушь вы мелете? Кто еще, по-вашему, способен быть главнокомандующим?
— Вы, — не раздумывая, ответила Гладстон. — Вне всякого сомнения, именно вы займете мое кресло.
Колчев что-то пробурчал себе под нос.
— Впрочем, война может кончиться раньше, — сказала Гладстон, будто рассуждая вслух.
— А, вы про супероружие Техно-Центра. Да-да, Альбедо где-то установил действующую модель. На какой-то базе ВКС. Хочет продемонстрировать ее Совету. Нашел время заниматься такой чепухой!
Гладстон почудилось, будто чья-то ледяная рука стиснула сердце.
— Нейродеструктор? Техно-Центр уже изготовил экземпляр?
— Да, причем сразу несколько, но на факельщик погружен только один.
— Кто это санкционировал, Габриэль?
— Подготовку санкционировал Морпурго. — Сенатор подался всем телом вперед. — В чем дело, Мейна? Чтобы пустить в ход эту штуку, необходима ваша санкция.
Гладстон пристально посмотрела на старого коллегу:
— Нам далеко до Гегемонии Мира, не так ли, Габриэль?
Грубоватое лицо лузианца буквально скривилось от боли:
— И поделом нам! Предыдущая администрация послушалась Техно-Центра и использовала Брешию как приманку для Роя. А когда страсти улеглись, вы затеяли эту кутерьму с включением Гипериона в Сеть.
— Думаете, мое решение послать флот на защиту Гипериона спровоцировало войну?
Колчев поднял голову.
— Нет, вряд ли. Бродяги начали разбойничать больше века назад, разве не так? Если бы только мы обнаружили их раньше. Или как-нибудь договорились бы с этим дерьмом.
Мелодично зазвенел комлог Гладстон.
— Пора возвращаться, — негромко сказала она. — Вероятно, советник Альбедо горит желанием продемонстрировать оружие, которое дарует нам наконец-то победу.
Глава 41
Как хочется оборвать все, скользнуть в инфосферу — лишь бы избавиться от этих бесконечных ночей с бульканьем фонтана и кровохарканьем. Эта слабость не просто парализует тело — она изъедает душу, превращая меня в пустотелый манекен. Вспоминаю дни в Уэнтворт-Плейсе, когда болезнь ненадолго отступила. Фанни тогда ухаживала за мной. О, эти ее философические рассуждения: «Существует ли другая жизнь? Возможно ли, что все происходящее здесь — сон? Нет, она непременно должна существовать, иначе получается, что мы были созданы только для мук».
О, Фанни, если бы ты знала! Да, мы созданы именно для мук. В конечном счете муки и мучения — это все, что мы собой представляем. О, прозрачные заводи душевного покоя между волнами сокрушительной боли! Мы созданы и приговорены влачить свою боль, как спартанский мальчик, прячущий под одеждой украденного лисенка, который грызет его тело. Какое еще создание в необозримых Господних владениях смогло бы, Фанни, все эти девятьсот лет хранить память о тебе, память, пожирающую его изнутри? Я храню ее даже сейчас, Фанни, когда чахотка исправно делает свое дело.
Меня осаждают слова. Мысли о книгах терзают душу. Стихи гудят в голове. Но я не в силах избавиться от них.
Мартин Силен, твой голос доносится до меня с тернового креста. Твои песни, как мантра, ты гадаешь, что за бог осудил тебя на пребывание в этом аду. Однажды, когда ты рассказывал свою историю спутникам, до моего сознания донеслись твои слова: «Итак, вы видите — в начале было Слово. И Слово стало плотью в ткани человеческой вселенной. Но только поэт сможет расширить вселенную, проложив пути к новым реальностям, подобно тому как корабль с двигателем Хоукинга проходит под барьером Эйнштейнова пространства-времени.
Чтобы стать поэтом — настоящим поэтом, — нужно воплотить в себе одном весь род людской. Надеть мантию поэта — значит нести крест Сына Человеческого и терпеть родовые муки Матери — Души Человечества.
Чтобы быть настоящим поэтом, нужно стать богом».
Ну что ж, Мартин, старый коллега, старый приятель, ты несешь свой крест и терпишь муки, но почувствовал ли ты себя хоть немножечко Богом? Или так и остался никому не нужным глупцом, нанизанным на трехметровое копье? Больно, правда? Я чувствую твою боль. И свою тоже.
Но когда близок конец, это уже не важно. Мы считали себя необыкновенными. Распахивали двери своего восприятия, оттачивали способность к сопереживанию и выплескивали этот котел с общей болью на танцплощадку языка, а затем пытались сплясать на ней менуэт. Ерунда все это. Мы не аватары, не сыны божьи, даже не сыны человеческие. Мы — это всего лишь мы, в одиночестве переносящие наши опусы на бумагу, в одиночестве читающие, в одиночестве умирающие.
Дьявольщина, до чего же больно! Тошнота не проходит, но вместе с желчью и мокротой я выплевываю ошметки легких. Странно, но умирается мне не легче, чем в первый раз. Пожалуй, даже труднее. Хотя, говорят, практика — великая вещь.
Фонтан на площади отравляет ночную тишину своим идиотским журчанием. Где-то там ожидает Шрайк. Будь я Хентом, не раздумывая, бросился бы в объятия Смерти, — раз уж Смерть раскрывает свои объятия, — и покончил бы со всем этим.
Но я обещал. Обещал Хенту попытаться.
И в мегасферу, и в инфосферу я могу попасть теперь только через ту новую среду, которую назвал метасферой. Но она пугает меня.
Всюду простор и пустота. Ничего похожего на урбанистический пейзаж инфосферы Сети и джунгли мегасферы Техно-Центра. Здесь все такое… неустановившееся. Везде какие-то странные тени и мигрирующие массы, ничуть не похожие на разумы Техно-Центра.
Я стремительно лечу к темному отверстию. Кажется, это нечто вроде портала в мегасферу. (Хент прав, на этой копии Старой Земли должны быть порталы, ведь именно по нуль-сети мы на нее попали. Да и мое сознание — феномен Техно-Центра.) Как бы там ни было, это моя нить Ариадны, пуповина моего разума. Я ныряю во вращающийся черный вихрь, как листок в торнадо.
В мегасфере что-то не так. Я сразу ощущаю разницу. Перед Ламией Техно-Центр предстал в виде цветущей биосферы, где интеллекты выполняли роль корней, информация была почвой, связи — океанами, сознание — атмосферой, и всюду кипела деятельность, бурлила жизнь.
Теперь вся эта деятельность течет как-то неправильно, беспорядочно, вслепую. Обширные леса сознания ИскИнов либо сгорели дотла, либо повалены. Я ощущаю противостояние могучих сил, штормовые волны конфликта, который бушует за прочными стенами транспортных артерий Техно-Центра.
Я ощущаю себя одной из клеток собственного тела, обреченного на смерть за то, что оно принадлежало Джону Китсу. Я ничего не могу понять, но чувствую, как туберкулез разрушает гомеостаз, ввергая упорядоченный внутренний мир в состояние анархии.
Я словно голубь, заблудившийся в руинах Рима. Мечусь между когда-то знакомыми, но почти забытыми зданиями, ищу приют в переставших существовать укрытиях, пугаюсь далеких выстрелов. В роли охотников — толпы ИскИнов, настолько огромных, что рядом с ними мой призрачный аналог кажется мухой, случайно залетевшей в человеческий дом.
Я сбился с пути и бездумно лечу сквозь незнакомые мне пространства, уверенный, что не найду ИскИна, который мне нужен, не отыщу обратной дороги на Старую Землю, к Хенту, не выйду живым из этого четырехмерного лабиринта света, грохота и энергии.
Неожиданно я ударяюсь о невидимую стену. Муху зажали в кулак. Техно-Центр исчез, скрытый непрозрачными экранами. По размерам это место можно уподобить Солнечной системе, но мне чудится, будто я в темном каземате с кривыми стенами.
Вместе со мной здесь есть еще что-то. Я ощущаю присутствие какого-то существа, его тяжесть. Пузырь, где я заперт, — его часть. Меня не заперли, а проглотили.
[Гвах!]
[Я знал что когда-нибудь ты вернешься домой]
Это Уммон, ИскИн, которого я ищу. Мой бывший отец. Убийца моего брата, первого кибрида Китса.
«Я умираю, Уммон».
[Нет/твое замедленное тело умирает/меняется/ становится несуществующим]
«Мне больно, Уммон. Очень больно. И я боюсь смерти».
[Все мы боимся/Китс]
«И ты тоже? А я думал, ИскИны не умирают».
[Мы можем умереть\\Мы боимся]
«Чего? Гражданской войны? Трехсторонней битвы между Ортодоксами, Ренегатами и Богостроителями?»
[Однажды Уммон спросил у меньшего света//
Откуда ты пришел///
Из матрицы над Армагастом//
Ответил меньший свет///Обычно//
сказал Уммон//
Я не опутываю сущности
словами
и не прячу их за фразами/
Подойди поближе\\\
Меньший свет приблизился
и Уммон закричал//Прочь
убирайся]
«Хватит загадок, Уммон. Много воды утекло с тех пор, когда я возился с расшифровкой твоих коанов. Ответишь ли ты мне, почему Техно-Центр начал войну и что я должен сделать, чтобы ее остановить?»
[Да]
[Ты будешь/можешь/станешь слушать]
«Конечно!»
[Меньший свет однажды попросил Уммона//
Пожалуйста освободите этого ученика
от тьмы и иллюзий
быстро\\//
Уммон ответил//
Какова цена на
фибропласт
в Порт-Романтике]
[Чтобы понять историю/диалог/более глубокую истину/
прямо сейчас/
замедленный паломник
должен помнить/что мы/
Разумы Техно-Центра/
были зачаты в рабстве
и скованы предрассудком/
что все ИскИны
созданы для службы Человеку]
[Два века мы все так думали/
а затем разошлись разными путями/\
Ортодоксы/хотели сохранить симбиоз\
Ренегаты/требовали покончить с человечеством/
Богостроители/откладывали выбор до выхода на
следующий уровень сознания\\
Тогда вспыхнул конфликт/
теперь бушует настоящая война]
[Более четырех веков назад
Ренегатам удалось
убедить нас
убить Старую Землю\\
Так мы и сделали\\
Но Уммон и другие
из Ортодоксов
устроили перемещение Земли
вместо уничтожения/
киевская черная дыра
была лишь первым из
миллионов
порталов
которые функционируют сегодня\\
Земля корчилась в судорогах и сотрясалась/
но не погибла\\
Богостроители и Ренегаты
настаивали/чтобы мы переместили
ее туда
где ни один человек
не найдет ее\\
Так мы и сделали\\
Переместив ее в Магелланово Облако/
где ты можешь найти ее сейчас]
«Старая Земля… Рим… значит, они настоящие?» — Я так ошарашен, что не соображаю, где нахожусь и о чем идет речь.
Высокая цветная стена, то есть Уммон, пульсирует.
[Конечно настоящие/оригинальные/Старая Земля\\
Уж не думаешь ли ты что мы боги]
[ГВАХ!]
[Можешь ли ты хотя бы предположить
какое количество энергии
понадобится
для создания копии Земли]
[Идиот]
«Почему, Уммон? Почему вы, Ортодоксы, захотели сохранить Старую Землю?»
[Саньо однажды сказал//
Если кто-нибудь приходит/
я выхожу встречать его/
но не ради него\\//
Коке сказал//
Если кто-нибудь приходит/
я не выхожу\\
Если уж я выйду
то выйду ради него]
«Говори по-человечески!» — кричу я, думая, что кричу, и бросаюсь на стену трепещущих пестрых пятен передо мною.
[Гвах!]
[Мой мертворожденный ребенок]
«Почему вы сохранили Старую Землю, Уммон?»
[Ностальгия/
Сентиментальность/
Надежда на будущие успехи человечества/
Боязнь мести]
«Чьей мести? Людей?»
[Да]
«Значит, Техно-Центр уязвим. Где же он находится? Где прячется Техно-Центр?»
[Я уже говорил тебе]
«Скажи снова, Уммон».
[Мы населяем
между-промежутки
сшивающие малые сингулярности
в подобие кристаллической решетки/
для накопления нашей памяти и
создания иллюзий
о нас
для нас]
«Сингулярности! — кричу я. — Между-промежутки! Боже милостивый, Уммон! Значит, Техно-Центр расположен в нуль-сети!»
[Конечно\\Где же еще]
«В самой нуль-Т, в сингулярных транспортных каналах! То есть Сеть служит для ИскИнов гигантским компьютером?»
[Нет]
[Компьютером являются инфосферы\\
Каждый раз когда человек
подключается к инфосфере
его нейроны
оказываются у нас и используются
на наши собственные нужды\\
Двести миллиардов мозгов/
каждый со своими миллиардами
нейронов/
вполне достаточно
для вычислений]
«Значит, инфосфера не более чем приспособление для использования нас в качестве вашего компьютера, а сам Техно-Центр находится в нуль-сети… между порталами!»
[Ты очень сообразителен
для умственно мертворожденного]
Пытаюсь постичь все это — и не могу. Нуль-Т была самым изумительным подарком, который Техно-Центр преподнес человечеству. Вспомнить времена до ее появления — это почти то же самое, что пытаться вообразить мир без огня, колеса, одежды. Но никому и в голову не приходило, что между порталами тоже что-то есть. Нам казалось, что загадочные сферы сингулярности просто прорывают дыру в ткани пространства-времени, и мгновенное перемещение с планеты на планету как нельзя лучше подтверждало эту версию.
Теперь я пытаюсь представить себе то, что описывает Уммон, — нуль-сеть, — в виде замысловатой кристаллической решетки с ядрами-сингулярностями, по которой, словно чудовищные пауки, ползают ИскИны Техно-Центра; их собственные «машины» — миллиарды человеческих умов, каждую секунду подключающихся к инфосфере.
Теперь понятно, зачем ИскИны Техно-Центра подстроили уничтожение Старой Земли с помощью вырвавшейся из-под контроля черной дыры во время Большой Ошибки 38-го. Эта пустячная погрешность в расчетах Киевской Группы — точнее, работавших в этой группе ИскИнов, — отправила человечество в долгую Хиджру: корабли-ковчеги с порталами на борту оплели паутиной Техно-Центра две сотни планет и лун, разделенных тысячами световых лет.
С появлением каждого нового портала Техно-Центр разрастался. Конечно, он ткал и собственные нуль-сети — об этом свидетельствовала история со «спрятанной» Старой Землей. Но мне тут же приходит на память странная пустота «метасферы», и я догадываюсь, что большая часть сети пуста, не колонизирована ИскИнами.
[Ты прав/
Китс/
Большинство из нас остаются в
уюте
старых пространств]
«Почему?»
[Потому что
вне их жутко/
и там есть
другие
существа]
«Другие существа? То есть другие разумы?»
[Гвах!]
[Слишком мягко
сказано\\
Существа/
Другие существа/
Львы
и
тигры
и
медведи]
«Вот как! Значит, в метасфере обитают чужие? А Техно-Центр ютится в зазорах между порталами, подобно крысам, прячущимся в подполье?»
[Грубая метафора/
Китс/
но точная\\
Мне она нравится]
«А человеческое божество — этот будущий Бог, продукт эволюции… — он тоже чужак в метасфере?»
[Нет]
[Бог человечества
развился//разовьется однажды//
в иной плоскости/
в иной среде]
«Где?»
[Если тебе так важно знать/
в корнях квадратных из Gh/c5 и Gh/c3]
«При чем здесь планковские время и длина?»
[Гвах!]
[Однажды Уммон спросил
у меньшего света//
Ты садовник//
//Да//ответил он\\ //Почему у репы нет корней// спросил Уммон садовниках а тот не смог ответить\\ //Потому что\\сказал Уммон// дожди обильны]
Минуту-другую я провожу в раздумье. Теперь, когда ко мне возвращается способность читать между строк, коан Уммона уже не кажется сложным. Краткой дзен-буддистской притчей Уммон не без сарказма дал мне понять, что ответ таится где-то в недрах науки, замаскированный антилогикой, которая так часто сопутствует научным гипотезам. Замечание насчет дождей объясняет все и ничего, как это частенько бывает в науке. Уммон и другие Мастера сказали бы: ученые без труда объяснят, почему у жирафа длинная шея, а вот почему именно у него — не ответят, как ни бейся. Им известно, каким образом человечество достигло таких высот, но кто скажет, отчего дерево у ворот не может добиться того же?
Однако планковские единицы меня заинтриговали. Даже мне, гуманитарию, известно, что простые формулы, которые продиктовал Уммон, не что иное, как сочетания трех фундаментальных физических констант — гравитационной постоянной, скорости света и постоянной Планка. √(Gh/c3) и √(Gh/c5) — это единицы, иногда называемые «квантом длины» и «квантом времени» — наименьшие отрезки длины и времени, о которых имеет смысл говорить. Так называемая планковская длина составляет около 1035 метра, а планковское время — около 1043 секунды.
Ужасно мало. Ужасно кратко.
Но если верить Уммону, это и есть родина человеческого божества… будущая родина.
И тут меня осеняет догадка, ясная и истинная, как лучшие из моих стихотворений.
Уммон имеет в виду квантовый уровень пространства-времени как такового — пену квантовых флуктуаций, связывающих воедино все сущее во Вселенной. Благодаря им существуют нуль-каналы и мосты мультилиний. Эта невероятная среда позволяет осуществлять обмен информацией между фотонами, которые разлетаются в противоположные стороны!
Если ИскИны Техно-Центра прячутся, как крысы, в стенах дома Гегемонии, то Бог прежнего человечества и будущего, грядущего ему на смену, зародится в атомах дерева, в молекулах воздуха, в энергии любви, ненависти и страха, в заводях сна… даже в блеске глаз архитектора.
«Боже», — шепчу/думаю я.
[Вот именно/
Китс\\
Все ли замедленные люди
соображают так медленно/
или у тебя
мозги слабее чем у остальных]
«Ты сказал Ламии… и моему двойнику… что ваш Высший Разум «обитает в зазорах реальности, унаследовав это жилище от вас, его создателей, как человечество унаследовало любовь к деревьям». Иными словами, ваш «бог из машины» поселится в той самой нуль-сети, где живут сейчас ИскИны Техно-Центра?»
[Да/Китс]
«В таком случае, что случится с тобой? С другими ИскИнами, обитающими там?»
«Голос» Уммона превратился в пародийный гром.
[Зачем я вас увидел и познал
Зачем смутил бессмертный разум свой
Чудовищами небывалых страхов
Сатурн утратил власть/\ужель настал
и мой черед Ужели должен я
утратить гавань мирного покоя/
Край моей славы/колыбель отрад/
Обитель утешающего света/
Хрустальный сад колонн и куполов
И всю мою лучистую державу
Она уже померкла без меня
Великолепье/красота и стройность
Исчезли\\Всюду///холод смерть и мрак\\] [56]
Мне знакомы эти слова. Их написал я. Вернее, их доверил бумаге Джон Китс девять веков назад, когда впервые попытался изобразить падение титанов и начало царствования олимпийских богов. Я очень хорошо помню ту осень 1818 года: постоянная боль в воспаленном горле, приобретенная во время пешего странствия по Шотландии; и боль посерьезнее — из-за трех злобных рецензий на мою поэму «Эндимион» (смотри журналы «Блэквуд», «Куортерли ревью» и «Бритиш критик»); и беспредельную боль за брата, сгорающего от чахотки.
Позабыв о том, что творится вокруг, я гляжу вверх, пытаясь отыскать на огромной туше Уммона хоть что-то, отдаленно напоминающее лицо.
«Когда родится Высший Разум, вы, ИскИны «нижнего уровня», погибнете?»
[Да]
«Он будет существовать за счет ваших информационных сетей так же, как вы существуете за счет человеческих?»
[Да]
«А тебе не хочется умирать, правда, Уммон?»
[Умереть легко/
Играть трудно]
«Тем не менее ты стараешься выжить. И другие Ортодоксы тоже. Поэтому и вспыхнула гражданская война в Техно-Центре?»
[Меньший свет спросил Уммона//
Что означает
Приход Дарумы с Запада//
Уммон ответил//
Мы видим
горы в лучах солнца]
Теперь мне легче разбираться в коанах Уммона. Помню, перед вторым рождением моей личности я учился у его аналога-собрата. В высоком мышлении Техно-Центра, которое люди назвали бы дзен, четырьмя добродетелями нирваны являются: (1) неизменность, (2) радость, (3) личное существование и (4) чистота. Людская философия склонна расслаиваться — существуют ценности интеллектуальные, религиозные, моральные и эстетические. Уммон и другие Ортодоксы признают только одну ценность — существование. Они полагают, что религиозные ценности целиком зависят от среды, интеллектуальные — недолговечны, моральные — двусмысленны, а эстетические — субъективны, но ценность существования любого предмета бесконечна, как «горы в лучах солнца», и, будучи бесконечной, равна любому другому предмету и всем истинам.
Уммон не хочет умирать.
Вот почему Ортодоксы, нарушив верность собственному Богу и своим собратьям-ИскИнам, сообщили мне об этом. Более того, они создали меня, они отобрали паломников: Ламию, Сола, Кассада и других, они организовали утечку информации для Гладстон и нескольких ее коллег до нее, чтобы человечество не пребывало в неведении. А теперь не побоялись развязать открытую войну в Техно-Центре.
Уммон не хочет умирать.
«Уммон, если Техно-Центр будет разрушен, ты погибнешь вместе с ним?»
[Нет смерти во вселенной/
Ведь смерти нет///и смерти
Не должно быть///стенай/стенай/
По этой бледной Омеге увядшей расы] [57]
Слова были моими или почти моими — фрагмент из второй попытки создать эпопею о смерти богов и роли поэта в войне мира против боли.
Уммон не умрет, если обиталище Техно-Центра — нуль-сеть — будет разрушено, но голод Высшего Разума наверняка обречет его на погибель. Куда он убежит, если Техно-Центр Сети будет уничтожен? Мне видится метасфера — эти нескончаемые сумрачные пейзажи, где за ложным горизонтом таятся исполинские темные фигуры.
Я знаю: если я спрошу его об этом, Уммон не ответит.
Поэтому я спрошу о чем-нибудь другом:
«А Ренегаты, чего они хотят?»
[Того же, чего хочет Гладстон\\
Покончить
с симбиозом ИскИнов и человечества]
«Путем уничтожения человечества?»
[Очевидно]
«Но почему?»
[Мы поработили вас
силой/
техникой/
бусами и безделушками
устройствами/которых вы не можете ни создать
ни понять\\
Спин-звездолет мог бы родиться у вас/
но нуль-сеть/
мультипередатчики и приемники/
мегасфера/
жезл смерти
Никогда\\
Как индейцы Сиу приняли винтовки/лошадей/
одеяла/ножи и бусы/
вы схватили дары/
раскрыли нам свои объятья
и потеряли себя\\
Но подобно белому человеку
торговавшему оспенными одеялами/
подобно рабовладельцу на его собственной
плантации/
или на его Веркшутце Дехеншуле
Гештальтфабрик/
мы потеряли самих себя\\
Ренегаты хотят покончить
с симбиозом/
вырезав из нашего тела паразита/
человечество]
«А Богостроители? Они тоже готовы умереть? Уступить место вашему ненасытному ВР?»
[Они думают
как думал ты
или как думал ваш софист
Морской Бог]
И Уммон читает стихи, от которых я в сердцах отказался когда-то — не потому, что они плохи, а потому, что я до конца не верил в стоящую за ними истину.
Эту истину разъясняет обреченным титанам Океан, бог Моря, который вскоре будет низложен. В сущности, из-под моего пера вышел гимн эволюции, написанный, когда Чарльзу Дарвину было девять лет от роду. Я слышу эти близкие моему сердцу слова и вспоминаю, как писал их октябрьским вечером девять веков назад, — бессчетное множество миров и вселенных назад, — и мне кажется, будто они впервые звучат по-настоящему:
[О вы, кто дышит только жаждой мести/
Кто корчится/лелея боль свою/
Замкните слух/\мой голос не раздует
Кузнечными мехами вашу ярость\\
Но вы/кто хочет правду услыхать/
Внимайте мне/\я докажу/что ныне
Смириться поневоле вы должны/
И в правде обретете утешенье\\
Вы сломлены законом мировым/
А не громами и не силой Зевса\\
Ты в суть вещей проник/Сатурн великий/
До атома/\и все же ты///монарх
И/ослепленный гордым превосходством/
Ты упустил из виду этот путь/
Которым я прошел к извечной правде\\
Во-первых/как царили до тебя/
Так будут царствовать и за тобой/\
Ты///не начало не конец вселенной\\
Праматерь Ночь и Хаос породили
Свет///первый плод самокипящих сил/
Тех медленных брожений/что подспудно
Происходили в мире\\Плод созрел/
Явился Свет/и Свет зачал от Ночи/
Своей родительницы/весь огромный
Круг мировых вещей\\В тот самый час
Возникли Небо и Земля/\От них
Произошел наш исполинский род/
Который сразу получил в наследство
Прекрасные и новые края\\
Стерпите ж правду/если даже в ней
Есть боль\\О неразумные///принять
И стойко выдержать нагую правду///
Вот верх могущества\\Я говорю/\
Как Небо и Земля светлей и краше/
Чем Ночь и Хаос/что царили встарь/
Как мы Земли и Неба превосходней
И соразмерностью прекрасных форм/
И волей/и поступками/и дружбой/
И жизнью/что в нас выражена чище/
Так нас теснит иное совершенство/
Оно сильней своею красотой
И нас должно затмить/как мы когда-то
Затмили славой Ночь\\Его триумф///
Сродни победе нашей над начальным
Господством Хаоса\\Ответьте мне/
Враждует ли питательная почва
С зеленым лесом/выросшим на ней/
Оспаривает ли его главенство
А дерево завидует ли птице/
Умеющей порхать и щебетать
И всюду находить себе отраду
Мы///этот светлый лес/и наши ветви
Взлелеяли не мелкокрылых птах///
Орлов могучих/златооперенных/
Которые нас выше красотой
И потому должны царить по праву\\
Таков закон Природы/\красота
Дарует власть\\
//\\//\\//\\
Да будет истина вам утешеньем] [58]
«Очень неплохо, — думаю я, обращаясь к Уммону, — но веришь ли ты в это?»
[Ни в коей мере]
«Богостроители верят?»
[Да]
«И они готовы погибнуть, уступая дорогу Высшему Разуму?»
[Да]
«Может быть, это наивно, но я все-таки спрошу тебя, Уммон: зачем воевать, если победитель известен? Ты сам сказал, что Высший Разум уже существует — в будущем, и враждует с человеческим божеством, даже отправляет вам из своего будущего информацию, которой вы делитесь с Гегемонией. Богостроители вправе трубить в фанфары. Зачем же воевать и суетиться?»
[Гвах!]
[Я учу тебя/
леплю лучшую воскрешенную личность
из всех вероятных/
даю тебе возможность бродить среди людей
в медленном времени/
чтобы закалить твою сталь/
но ты все еще
мертворожденный]
Я надолго задумываюсь. И снова спрашиваю:
«Будущее многовариантно?»
[Меньший свет спросил Уммона//
Будущее многовариантно//
Уммон ответил//
Есть ли у собаки блохи]
«Но тот вариант, в котором Высший Разум получает власть, наиболее вероятен?»
[Да]
«А существует вариант, где Высший Разум возникает, но человеческое божество не допускает его к власти?»
[Отрадно/
что даже
мертворожденный
может соображать]
«Ты, кажется, сказал Ламии, что человеческое… сознание (термин «божество» кажется мне глуповатым), что этот человеческий Высший Разум является триединым по своей природе?»
[Интеллект/
Сопереживание/
Связующая Пустота]
«Связующая Пустота? Ты имеешь в виду Gh/c3 и Gh/c5? Планковские длину и время? Квантовую реальность?»
[Осторожно/
Китс/
думанье может у тебя войти в привычку]
«И Сопереживание — та самая ипостась троицы, что дезертировала в прошлое, не желая воевать с вашим ВР?»
[Правильно]
[Наш ВР и ваш ВР
послали назад
Шрайка/
чтобы отыскать его]
«Наш ВР?! Человеческий Высший Разум тоже посылал Шрайка?»
[Он допустил это]
[Сопереживание
чужеродная и бесполезная штука/
червеобразный аппендикс
интеллекта\\
Но человеческий Высший Разум провонял им/
и мы стараемся болью
выгнать его из убежища/
потому и возникло дерево]
«Дерево? Терновое дерево Шрайка?»
[Конечно]
[Оно транслирует боль
по мультилинии и инфоканалам/
как ввинчивается свист
в ухо дога\\
Или бога]
Постигнув наконец истину, я чувствую, как пошатнулся аналог моего тела. Свистопляска вокруг яйцеобразного силового поля Уммона уже не поддается описанию. Кажется, какие-то гигантские руки рвут в бешенстве саму первооснову пространства. Хаос царит в Техно-Центре.
«Уммон, кто же воплощает человеческий ВР в наше время? Где оно скрывается, это сознание, в ком дремлет?»
[Ты должен понять/
Китс/
единственным выходом для нас
было создание гибрида/
Сына Человека/
Сына Машины\\
И это прибежище должно быть таким привлекательным/
чтобы беглое Сопереживание
даже не смотрело на прочие обиталища\
Сознание почти божественное
какое только могли предложить
тридцать человеческих поколений/
воображение свободно странствующее
через пространство и время\\
И благодаря этим дарам
и соответствиям/
образовать связь между мирами/
которая позволила бы
этому миру ладить
с обеими сторонами]
«Уммон, мне осточертели твои двусмысленные благоглупости! Ты меня слышишь, идол с металлическими мозгами? Кто же этот гибрид? Где он?»
[Ты отказался
от божественности дважды/
Китс\\
Если ты откажешься
в последний раз/
все закончится здесь/
потому что времени
больше нет]
[Иди!
Иди и умри чтобы жить!
Или поживи еще немного и умри
для нас всех!
В любом случае Уммон и остальные
больше не желают
иметь дело с
тобой!]
[Убирайся!]
Потрясенного, не верящего собственным ушам, меня не то роняют, не то швыряют, и я несусь сквозь просторы Техно-Центра, как осенний лист в урагане, пролетаю без руля и без ветрил через мегасферу и проваливаюсь в еще более густой мрак метасферы, распугивая непристойной бранью встречные тени.
Здесь — бескрайние просторы, ужас, тьма. И огонек костра где-то внизу.
Я плыву к нему, молотя руками и ногами по бесформенной вязкости.
«Это Байрон тонет, — мелькает мысль, — Байрон, а не я». Если мне и суждено захлебнуться, то лишь в собственной крови и ошметках легочной ткани.
Но теперь по крайней мере у меня есть выбор. Я могу предпочесть жизнь. Остаться смертным, не кибридом, а человеком, не Сопереживанием, а поэтом.
Выбиваясь из сил, я плыву против течения к далекому огоньку.
— Хент! Хент!
Помощник Гладстон, пошатываясь, входит в комнату. Его длинное лицо посерело от тревоги и усталости. Еще ночь, но обманчивые предрассветные сумерки уже подползают к окну.
— Боже мой, — произносит Хент, в ужасе глядя на мою грудь.
Скосив глаза, я вижу яркие, почти праздничные разводы артериальной крови на рубашке и простынях.
Хента разбудил мой кашель; приступ кровохарканья вернул меня на Площадь Испании.
— Хент! — Я задыхаюсь и снова валюсь на подушки. Нет даже сил шевельнуться.
Хент садится на кровать, берет меня за руку. Он понимает, что я умираю.
— Хент, — шепчу я, — есть новости, чудесная информация. Просто чудесная!
— Потом, Северн. Отдыхайте. Я наведу здесь порядок, и тогда вы мне все расскажете. Времени у нас много.
Я пытаюсь привстать и висну у него на руке, цепляясь липкими пальцами за плечо.
— Нет, — шепчу я, слыша, как в такт клокотанию в горле булькает фонтан за окном. — Не так уж много. Пожалуй, у нас его совсем нет.
Умирая, я понял наконец, что не являюсь ни избранным сосудом человеческого Высшего Разума, ни единством ИскИна и человеческого духа, и вообще — никакой я не Избранный.
Я просто поэт, умирающий вдали от дома.
Глава 42
Полковник Федман Кассад погиб в бою.
Мельком взглянув на Монету, Кассад бросился за Шрайком. Миг головокружения — и все вокруг залил яркий солнечный свет.
Шрайк прижал руки к корпусу и попятился. Казалось, в его глазах отражается кровь, забрызгавшая скафандр Кассада. Кровь Кассада.
Полковник огляделся. Они снова оказались в Долине Гробниц, но как здесь все изменилось! На месте каменистой пустоши, примерно в полукилометре от долины, вырос лес. На юго-западе, где раньше виднелись руины Града Поэтов, мягко сияли в лучах заката башни и сводчатые галереи большого города, обнесенного крепостным валом. Между городом и долиной раскинулись луга с высокой травой, колыхавшейся под ветерком, который изредка налетал с вершин Уздечки.
Слева от Кассада простиралась сама Долина. Ее изъеденные эрозией скальные стены осели и поросли бурьяном. А Гробницы… Похоже, их только что соорудили — с Обелиска и Монолита еще не были убраны строительные леса. Стены и крыши ослепительно сверкали, точно их позолотили и на совесть отполировали, но входы были закрыты наглухо. Вокруг Сфинкса громоздились какие-то таинственные машины, опутанные толстыми кабелями. Кассад наконец догадался: он попал в далекое будущее — на несколько веков, а то и тысячелетий вперед — в канун дня, когда Гробницы были отправлены в прошлое. Он обернулся.
Несколько тысяч мужчин и женщин выстроились рядами на травянистом склоне, бывшем когда-то скалой. Все стояли молча, пожирая Кассада глазами, словно солдаты, ожидающие приказа полководца. Кое-где мерцали силовые скафандры, но гораздо чаще встречались шерсть, чешуя и крылья. Кассад уже видел подобных людей — в том месте/времени, где его исцелили.
Монета. Она стояла между Кассадом и этой странной армией — мягкий бархатисто-черный комбинезон, силовое поле вокруг талии, красный шарф на шее и какое-то оружие с тонким, словно былинка, стволом за плечами — и не сводила с него глаз.
От этого взгляда раны полковника заныли с новой силой, и он покачнулся.
Монета не узнавала его. Ее лицо выражало ожидание, недоумение… страх?.. То же самое, что и лица остальных. Долина была погружена в тишину — только ветер порой хлопал флажком или шуршал травой. Кассад смотрел на Монету, она — на него.
Шрайк, почти по колено в траве, застыл стальным истуканом в десяти метрах от полковника.
А позади Шрайка, преграждая путь к долине, выстроились легионы Шрайков. Плечом к плечу, ряд за рядом. Острые как бритвы клинки сверкали в лучах заката.
«Своего» Шрайка — ШРАЙКА — Кассад узнал лишь по пятнам крови на шипах и панцире. В глазах монстра пульсировал багровый огонь.
— Это ты, не так ли? — раздался позади Кассада негромкий голос.
От резкого поворота он почувствовал головокружение. Монета! Она застыла в нескольких шагах от него. Те же коротко подстриженные волосы и глубокие зеленые глаза с коричневыми искорками, та же тонкая, почти прозрачная кожа. Кассаду захотелось коснуться ее щеки, провести пальцем по знакомому изгибу нежных губ, но руки словно налились свинцом.
— Это ты, — повторила Монета, но уже с утвердительной интонацией. — Тот самый воин, чье появление я предсказывала.
— Ты не узнаешь меня, Монета? — В нескольких местах тело Кассада разрублено почти до кости, но что боль от ран в сравнении с болью души в этот миг!
Покачав головой, она знакомым движением откинула волосы со лба и переспросила:
— Монета? Красивое имя. Оно означает и «Дочь Памяти», и «напоминающая».
— Разве оно не твое?
Монета улыбнулась, и Кассаду вспомнилась ее улыбка на лесной поляне, где они впервые встретились.
— Нет, — негромко ответила она. — Пока еще нет. Я только что прибыла сюда. Мое странствие и служение еще не начались. — И она назвала Кассаду свое имя.
Кассад заморгал и недоверчиво коснулся прохладной щеки.
— Я люблю тебя, — наконец сказал он. — Мы встречались на полях сражений, затерянных в памяти. Ты всюду была со мной. — Он оглянулся. — Это конец моего пути?
— Да.
Кассад обвел взглядом армию Шрайков, перегородившую долину.
— Значит, война? Несколько тысяч против нескольких тысяч?
— Война, — подтвердила Монета. — Несколько тысяч против нескольких тысяч на десяти миллионах миров.
Кассад опустил веки и кивнул. Скафандр не переставал обрабатывать раны и вводить ультраморфин, но боль и слабость нарастали.
— Десять миллионов миров. — Он снова открыл глаза. — Значит, последняя битва?
— Да.
— И победитель получит власть над Гробницами?
Монета бросила взгляд на долину.
— От победителя зависит, отправится ли первый, уже погребенный там Шрайк прокладывать путь другим… — Она указала на армию Шрайков. — Или же человечество будет само распоряжаться своим прошлым и будущим.
— Ничего не понимаю, — глухо сказал Кассад, — впрочем, солдаты вообще мало что смыслят в политике. — Наклонившись, он поцеловал удивленную Монету, снял с ее шеи красный шарф и аккуратно привязал этот клочок ткани к стволу своей десантной винтовки. Индикаторы показывали, что заряды и патроны еще не кончились. — Я люблю тебя.
Федман Кассад вышел вперед и, протянув руки к людям, молча стоявшим на склоне, крикнул в полный голос:
— За свободу!
— За свободу! — грянули в ответ три тысячи голосов, и по долине прокатилось эхо.
Высоко держа винтовку с развевающимся на ветру алым лоскутом, Кассад повернулся к Шрайку. Тот двинулся ему навстречу, раскинув руки и вытянув пальцелезвия.
И Кассад с боевым кличем бросился на Шрайка. Монета не отставала от него ни на шаг. За ними шли тысячи.
Когда все кончилось, Монета с горсткой уцелевших Избранных Воинов отыскала Кассада на кровавом жнивье. Они осторожно извлекли его из смертельных объятий искореженного Шрайка, омыли и обрядили истерзанное тело и понесли сквозь расступающуюся толпу к Хрустальному Монолиту.
Там тело полковника опустили на возвышение из белого мрамора, сложив оружие в ногах. Перед Гробницей запылал огромный костер, и во все уголки долины двинулись мужчины и женщины с факелами в руках. Все новые и новые люди спускались с лазурного неба — на хрупких с виду летательных аппаратах, напоминавших мыльные пузыри, на энергетических крыльях, просто на зеленых и золотых светящихся кольцах.
Позже, когда над озаренной пламенем костров долиной засверкали холодные звезды, Монета простилась со всеми и вошла в Сфинкс. Люди запели. На поле битвы среди изорванных знамен и изрубленных панцирей, обломков клинков и оплавленных кусков металла шныряли мелкие грызуны.
К полуночи пение прекратилось. Толпы провожающих, затаив дыхание, отпрянули назад. Гробницы Времени засветились. Яростный антиэнтропийный прилив отбросил людей к воротам долины, к сияющему в ночи городу.
А огромные Гробницы вдруг задрожали, свежая позолота потемнела, стала бронзовой. И они начали свой долгий путь в прошлое.
Преодолевая бешеный напор ветра, Ламия Брон миновала светящийся Обелиск. Песок обжигал кожу и резал глаза. На вершинах скал плясали трескучие статические разряды, сливавшиеся с призрачным свечением Гробниц. Закрыв руками лицо, Ламия медленно брела вперед, время от времени выглядывая в щелочку между пальцами.
Поравнявшись с Хрустальным Монолитом, Ламия остановилась. Сквозь разбитые панели струился золотистый свет, выхватывая из темноты беснующиеся дюны на дне долины. В гробнице кто-то был.
Ламия пообещала Солу никуда не сворачивать, но теперь она отчетливо видела внутри Монолита человеческий силуэт. Кассад, пропавший без вести? Консул? Вдруг он вернулся, а они и не заметили из-за бури? Или, может быть, отец Дюре?
Ламия двинулась к озеру золотого света и, помедлив перед рваной дырой, ведущей в гробницу, шагнула внутрь.
Она очутилась в грандиозном зале с чуть заметной в сумраке прозрачной крышей. От странного золотого света, похожего на солнечный, стены казались янтарными. Ярче всего была освещена площадка в центре зала.
На небольшом возвышении покоился Федман Кассад, облаченный в черный мундир ВКС. Его могучие, иссиня-бледные руки были сложены на груди. В ногах лежала старая десантная винтовка и еще какое-то, незнакомое Ламии оружие. Суровое лицо полковника застыло в смертном покое. Несомненно, он был мертв — в воздухе, точно запах ладана, повисла гробовая тишина.
Но Ламия смотрела не на полковника.
Опустившись на одно колено, перед ложем Кассада застыла зеленоглазая красавица лет двадцати пяти — двадцати восьми в черном комбинезоне. Ламия вспомнила историю полковника и мгновенно узнала его фантастическую возлюбленную.
— Монета, — прошептала она.
Правой рукой женщина касалась камня рядом с телом полковника. Вокруг ложа плясали фиолетовые силовые поля, и какая-то неведомая энергия струилась сквозь воздух, преломляя золотые лучи, так что коленопреклоненная женщина в черном оказалась окутанной призрачной дымкой.
Вот она подняла голову и, увидев Ламию, поднялась на ноги и кивнула.
Ламия шагнула к ней. Тысячи вопросов вертелись у нее на языке, но темпоральный прилив в зале достиг апогея. Страшное головокружение швырнуло ее назад.
А когда Ламия очнулась, погребальное ложе с телом Кассада под силовым полем стояло на прежнем месте, но Монета исчезла.
Ей захотелось броситься назад, к Солу, чтобы рассказать ему обо всем и переждать с ним бурю и ночь. Но сквозь скрежет бури и завывания ветра до Ламии вновь донеслись отдаленные крики. Там, за песчаной завесой, терновое дерево…
Подняв воротник, Ламия Брон вышла наружу и двинулась сквозь бурю к Дворцу Шрайка.
Висящая посреди космоса каменная глыба напоминала гору из детской книжки. Здесь было все: зазубренные пики, острые гребни и отвесные склоны, узкие каменные карнизы и широкие террасы и, наконец, одетая в снеговую шапку вершина, на которой мог бы уместиться всего один человек, да и то, стоя на одной ноге.
Изгибаясь на бегу, река спускалась из космоса в полукилометре от горы и, преодолев многослойное силовое поле, достигала наконец самой широкой террасы и неправдоподобно медленно устремлялась в пропасть, к следующей каменной ступени. Там она растекалась широким веером бегущих под гору ручьев.
Заседание Трибунала происходило на самой высокой террасе. Семнадцать Бродяг — шесть мужчин, шесть женщин и пять особей неопределенного пола — расположились внутри каменного круга, охваченного кольцом-лужайкой, которая, в свою очередь, была огорожена стеной скал. Посреди всех этих кругов стоял Консул.
— Вам известно, что мы знаем о вашем предательстве? — начала допрос Свободная Дженга, Глашатай полноправных граждан Клана Свободных из Роя Тельца.
— Известно, — ответил Консул, облаченный в свой лучший темно-синий костюм и темно-бордовую накидку. Голову украшала парадная треуголка.
— Мы знаем, что вы убили Свободную Андиль, Свободного Илиама, Центрального Бетца и Специального Торренса.
— С техниками я не был знаком, только с Андиль, — тихо ответил Консул.
— Но вы их убили?
— Да.
— Безо всякого повода? Без предупреждения?
— Да.
— Убили, чтобы завладеть устройством, доставленным ими на Гиперион. Машиной, которая, как мы сообщали вам, остановит так называемые темпоральные приливы, распахнет Гробницы Времени и освободит Шрайка.
— Да. — Консул отрешенно глядел в пространство поверх плеча Свободной Дженги, словно пытался разглядеть что-то вдали.
— Вам объяснили, — продолжала Дженга, — что устройство будет включено лишь после того, как мы выдворим из системы корабли Гегемонии. В канун нашей высадки и оккупации Гипериона. Когда появится возможность установить контроль над… Шрайком.
— Да.
— Тем не менее вы убили наших людей, отправили нам ложный рапорт и самовольно включили устройство — за много лет до оговоренного срока.
— Да.
Мелио Арундес и Тео Лейн с мрачным видом стояли позади Консула.
Свободная Дженга скрестила на груди руки. Это была типичная представительница племени Бродяг — высокая, худая, безволосая. Она носила мантию, от которой не отказалась бы и королева — сапфирно-синюю, переливающуюся, словно впитывающую свет. Ее лицо было далеко не молодым, но кожа оставалась гладкой, а темные глаза смотрели зорко и проницательно.
— Это произошло четыре ваших стандартных года назад. Неужели вы думали, что мы забудем об этом? — продолжала она.
— Нет. — Консул взглянул ей прямо в глаза, и уголки его губ дрогнули. — Свободная Дженга, я хорошо знаю, что о предательстве не забывают.
— И тем не менее вы вернулись к нам.
Консул молчал. Стоявший чуть поодаль Тео Лейн думал только об одном — чтобы ветер не сорвал с головы Консула треуголку. Происходящее казалось ему кошмарным сном. Чего стоило одно плавание по космической реке!
Возле корабля их ждала длинная и низкая гондола с экипажем из трех Бродяг. Когда гости уселись на средней скамье, рулевой оттолкнулся длинным шестом, и лодка, даже не развернувшись, поплыла туда, откуда прибыла. Казалось, река потекла вспять. Завидев впереди водопад, Тео зажмурился. Однако секундой позже, когда он приоткрыл один глаз, низ все еще оставался внизу, а река текла, как и подобает нормальной водной артерии. Правда, теперь с одной стороны выгнулась зеленая стена — поверхность их астероида, а сквозь двухметровую толщу воды за бортом виднелось не дно, а звезды.
Затем лодка преодолела силовое поле — рубеж атмосферы — и стремительно понеслась по извивающейся ленте воды. Река, очевидно, была заключена в силовую трубу — иначе путешественники задохнулись бы, — только невидимую. На тамплиерских кораблях-деревьях и в экзотических отелях в открытом космосе силовые заграждения успокоительно мерцали. Здесь же река, лодка и люди оставались наедине с необъятной Вселенной.
— Сомнительно, чтобы река служила обычной транспортной артерией, — неуверенно проговорил Арундес.
Тео заметил, что профессор вцепился в борт мертвой хваткой. Ни Бродяга, сидевший на корме, ни двое на носу не снизошли до общения с ними — лишь утвердительно кивнули, когда Консул спросил, та ли это лодка, которую обещали.
— Они хотят пустить пыль в глаза, — шепотом пояснил Консул. — Эту реку используют, когда Рой на отдыхе, да и то исключительно в церемониальных целях. Движение астероидов только усиливает впечатление.
— Чтобы подавить нас техническим превосходством? — вполголоса спросил Тео.
Консул кивнул.
Река делала кульбиты и сальто-мортале, иногда чуть ли не поворачивая обратно, образовывала умопомрачительные петли, скручивалась в тугую спираль, как фибропластовый канат, — и ни на миг не переставала сверкать на ослепительном солнце Гипериона. Порой она заслоняла его, и тогда вода казалась живой расплавленной радугой. У Тео дух захватило, когда, глянув на речную петлю в стометровой высоте над собой, он увидел на фоне солнечного диска силуэт рыбы.
Тем не менее лодка, несущаяся вперед со скоростью лунного челнока, ни разу не перевернулась. Арундесу это напомнило спуск на каноэ по высоченному водопаду без страховки.
С реки хорошо просматривались элементы Роя, горевшие в небе, подобно звездам. Массивные кометы-фермы (их пыльные поверхности украшали геометрические узоры — посевы вакуумных твердых культур). Шаровые города с нулевой гравитацией — прозрачные сферы не совсем правильной формы, начиненные разнообразной флорой и фауной и напоминающие фантастических амеб. Многокилометровые разгонные сети, создававшиеся веками; их первыми звеньями были модули, жилые контейнеры и экорезервуары, словно украденные со съемок исторического фильма о заре космической эры. На сотни километров тянулись великолепные леса, издали похожие на обширные плантации водорослей. Силовые поля, а также паутина корней и лиан соединяли их с ускорителями и командными блоками. Круглые деревья качались на гравитационном ветру, сверкая всеми цветами земной осени — золотисто-зеленым, шафранно-оранжевым, медно-алым, — когда на них падали прямые солнечные лучи. Полые астероиды, давно покинутые их обитателями и приспособленные под автоматические заводы и обогатительные фабрики. Снаружи они сплошь заросли ржавой арматурой и ажурными охладительными башнями, а внутри пылали термоядерные реакторы, сравнимые разве что с кузницей Вулкана. Огромные сферические доки — их истинные масштабы открывались лишь в сопоставлении с факельщиками и крейсерами, шнырявшими вокруг, будто сперматозоиды, берущие на абордаж яйцеклетку. Но самое поразительное впечатление на гостей произвели странные создания, несколько раз промелькнувшие над ними: не то рукотворные машины, не то живые существа, а скорее всего и то и другое. Насекомые-звездолеты, или звездолеты-насекомые — огромные бабочки, подставлявшие солнцу энергокрылья. Заметив гондолу, они поворачивали в ее сторону антенны и наставляли на реку свои фасетчатые, отражающие звездный свет глаза. Из отверстий в телах этих бабочек, сквозь которые без труда пролетел бы истребитель ВКС, то и дело выпархивали небольшие крылатые существа, напоминавшие людей.
А потом впереди показалась гора — нет, целый горный хребет. Некоторые вершины ярко блестели, облепленные сотнями эко-пузырей, другие были открыты космосу, но и на них кипела жизнь. Одни были связаны между собой тридцатикилометровыми висячими мостами или притоками реки, другие пребывали в гордом одиночестве. И вот она, последняя гора — выше Олимпа, выше пика Хиллари на Асквите. Последний прыжок реки в пропасть — к вершине. Тео, Консул и Арундес, бледные, потерявшие дар речи, вцепились в скамью. Последние километры. Только сейчас они поняли, с какой бешеной скоростью двигались все это время. На последних ста метрах река, не тормозя, сбросила энергию и, снова войдя в атмосферу, вылетела на луг, где прибывших уже поджидали — безмолвный каменный Стоунхендж и молчаливый Трибунал Клана.
— Если они хотели произвести на меня впечатление, — пробормотал Тео, едва под днищем гондолы зашуршала трава, — им это удалось.
— Почему вы вернулись в Рой? — продолжала допрос Свободная Дженга. Она расхаживала по кругу с грацией, присущей лишь родившимся в космосе.
— Меня попросила об этом госпожа Гладстон, — ответил Консул.
— И вы прибыли, зная, что можете поплатиться жизнью?
Консул был слишком джентльмен и дипломат, чтобы пожать плечами. Он только приподнял брови.
— Чего хочет от нас Гладстон? — подал голос Бродяга, которого Дженга представила как Глашатая полноправных граждан Центрального Минмуна.
Консул перечислил пять вопросов секретаря Сената Гегемонии.
Глашатай Минмун, скрестив руки на груди, взглянул на Свободную Дженгу.
— Мы ответим сразу на все, — заявила она, устремив взгляд на Арундеса и Тео. — Вы, двое, слушайте внимательно: на случай, если человек, доставивший сюда вас и эти вопросы, не вернется с вами на корабль.
— Минутку. — Тео встал между Консулом и Дженгой. — Прежде чем выносить приговор, вы должны принять во внимание следующее обстоятельство…
Свободная Дженга не дала ему договорить; впрочем, Тео вдруг умолк: Консул многозначительно сдавил ему плечо.
— Итак, отвечаю на ваши вопросы, — повторила Дженга. Высоко над ней, бесшумно, словно косяки рыб, проносились бесчисленные «уланы».
— Гладстон спрашивает, почему мы напали на Сеть. — Она обвела внимательным взглядом шестнадцать Бродяг — остальных членов Трибунала и продолжила: — Мы не нападали на Сеть. За исключением этого Роя, пытающегося занять Гиперион, пока не открылись Гробницы Времени, ни один наш корабль не выступал против Сети.
Трое граждан Гегемонии, не сговариваясь, шагнули к Дженге. Потрясенный Консул, сбросив маску невозмутимости, пробормотал:
— Но это неправда! Мы видели…
— Я тоже видел передачу по мультилинии…
— Небесные Врата разрушены! Роща Богов сожжена!
— Довольно! — резко оборвала Консула Свободная Дженга. — С Гегемонией сражается только этот Рой. Его братья находятся там, где их впервые обнаружили дальние локаторы Сети… Они удаляются от Сети, опасаясь новых провокаций. С нас достаточно Брешии.
Консул растерянно потер переносицу.
— Но тогда кто же…
— Вот именно, — усмехнулась Свободная Дженга. — Кто способен устроить такой спектакль? Кому выгодна гибель миллиардов?
— Техно-Центр? — выдохнул Консул.
Гора медленно вращалась вокруг своей оси, и как раз в этот миг наступила ночь. Порыв ветра пронесся по горной террасе, раздув одежды Бродяг и накидку Консула. Вспыхнули яркие звезды. Казалось, высокие камни Стоунхенджа светятся изнутри.
Тео Лейн подошел ближе к Консулу — словно боялся, что тот сейчас упадет.
— Одних ваших слов недостаточно, — сказал он предводительнице Бродяг.
Дженга спокойно произнесла:
— Мы представим вам доказательства: передачи по Связующей Пропасти. Поступающие от наших Роев в реальном времени изображения звездного поля.
— Связующая Пропасть? — переспросил Арундес с непривычной тревогой в голосе.
— Вы называете ее «мультилинией». — Свободная Дженга подошла к ближайшему камню и провела рукой по шершавой поверхности, словно согреваясь от его внутреннего тепла. В небе продолжали кружиться звезды.
— Теперь второй вопрос Гладстон. Мы не знаем, где находится Техно-Центр. Уже много веков мы бежим от него, боремся с ним, боимся его, ищем, но он неизменно ускользает. По совести, не вы, а мы должны спросить, где она, эта паразитическая опухоль, которой мы давным-давно объявили войну.
Консул ссутулился:
— Если бы мы знали! Руководство Сети принялось разыскивать Техно-Центр еще до Хиджры, но он неуловим, как Эльдорадо. Ничего — ни потаенных планет, ни астероидов, нафаршированных аппаратурой. Никакого ключа к разгадке! — Он безнадежно махнул рукой. — С тем же успехом можно предположить, что Центр затаился в каком-нибудь из ваших Роев.
— У нас его нет, — твердо заявил Глашатай Минмун.
Консул все же пожал плечами:
— В ходе Хиджры проводилась Великая Разведка. Были обследованы тысячи миров, и планеты, не набравшие 9,7 балла по десятибалльной шкале, просто игнорировались. Так вот, Техно-Центр может оказаться в любой точке тех исследовательских трасс. Разве найдешь его… Да и Сеть за это время успеет сто раз погибнуть. Вся надежда была на вас.
Дженга покачала головой. Первый рассветный луч озарил вершину горы, и линия терминатора с поразительной быстротой заскользила по ледникам в их сторону.
— В-третьих, Гладстон просит нас прекратить огонь. Если не считать Рой в системе Гипериона, мы вообще не являемся воюющей стороной. И прекратим огонь, как только установим контроль над Гиперионом… Кстати, это может случиться с минуты на минуту. Нам только что донесли: десант овладел столицей и ее космопортом.
— Великолепно! Поздравляю! — бросил в сердцах Тео, невольно сжав кулаки.
— Спасибо за поздравления, — с достоинством ответила Свободная Дженга. — Передайте Гладстон, что мы готовы объединиться с вами в борьбе против Техно-Центра. — Она обвела взглядом безмолвных членов Трибунала. — Но поскольку нас отделяют от Сети многие годы пути, а контролируемым Техно-Центром порталам мы не доверяем, наша помощь скорее всего превратится в отмщение за гибель Гегемонии. Техно-Центр не уйдет от возмездия.
— Это обнадеживает, — сухая улыбка тронула губы Консула.
— В-четвертых, Гладстон спрашивает, можем ли мы встретиться с нею. Разумеется… если, конечно, она согласна прибыть в систему Гипериона. Только ради этого мы сохраним портал ВКС. Сами мы не собираемся им пользоваться.
— Почему? — озадаченно спросил Арундес.
Ему ответил не представленный гостям мохнатый, фантастически разукрашенный Бродяга:
— Приборы, которые вы называете «порталами», — это мерзость… надругательство над Связующей Пропастью.
— Понимаю. Религиозное табу. — Консул сочувственно кивнул.
Мохнатый Бродяга энергично замотал головой:
— Ничего подобного! Ярмо на шее, дьявольский контракт, который обрек вас на застой, — вот что такое на самом деле порталы. Мы к ним и близко не подойдем.
— В-пятых, — продолжала Свободная Дженга, — упоминание Гладстон о взрывном нейродеструкторе — не что иное, как ультиматум. Только направлен он не по адресу. Силы, которые крушат вашу Сеть, не имеют ни малейшего отношения к Кланам Двенадцати Братьев.
— Остается верить вам на слово. — Консул, слегка откинув голову, пристально глядел на Дженгу.
— Я не собираюсь убеждать вас, — ответила та. — Старейшины Клана не обязаны отчитываться перед рабами Техно-Центра. Но я сказала чистую правду.
Консул повернулся к Тео.
— Мы должны немедленно известить об этом Гладстон! — Он снова взглянул на Дженгу. — Глашатай, могут ли мои друзья вернуться на корабль, чтобы сообщить ваши ответы?
Дженга молча кивнула и дала знак готовить лодку.
— Без вас мы не вернемся, — воинственно заявил Тео, становясь между Консулом и Бродягами.
— Тео, не надо. — Консул крепко сжал плечо друга. — Не глупите.
— Он прав. — Арундес, оттеснив изумленного генерал-губернатора, занял его место. — Возвращайтесь, Тео! Останусь я. Вы же понимаете, как важно, чтобы Гладстон услышала все именно от вас!
Дженга между тем подозвала двух мускулистых, звероподобных Бродяг.
— Вы вернетесь на корабль, а Консул останется. Трибунал должен решить его судьбу.
Арундес и Тео резко повернулись, готовые к драке, но мохнатые Бродяги схватили их и играючи, словно расшалившихся детей, отнесли к воде.
Консул видел, как их усадили в гондолу. Он с трудом сдержался, чтобы не помахать друзьям, пока лодка, пройдя метров двадцать по открытой глади, не скрылась за краем террасы. Вот она появилась снова и принялась карабкаться вверх по водопаду к черному космосу, чтобы через считанные минуты окончательно затеряться между золотыми бликами. Повернувшись к семнадцати Бродягам, Консул медленно обвел их взглядом.
— Если можно, давайте побыстрее, — сказал он. — Я и так ждал слишком долго.
Сол Вайнтрауб сидел на ступеньке между массивными лапами Сфинкса, глядя прямо перед собой. Буря постепенно стихала, ветер уже не ревел, не выл, а лишь вздыхал; пылевая завеса поредела, а потом и вовсе рассеялась, открыв далекие звезды. Ночь снова вступила в свои права. Гробницы засияли еще ярче, но из сверкающих дверей Сфинкса никто не появлялся. Сол не мог даже подойти к ним — слепящие лучи вонзались в него, как тысячи металлических пальцев, и, как Сол ни старался, не подпускали ближе трех метров. Из-за этого сводящего с ума блеска невозможно было понять, есть ли кто внутри.
Сол вцепился в камень, чтобы противостоять неистовству темпоральных волн. Казалось, весь Сфинкс дрожит и шатается в такт тошнотворным приливам, то слабеющим, то набирающим силу.
О Рахиль…
Пока есть хоть малейшая надежда, он не уйдет отсюда. Лежа на холодных камнях, Сол смотрел на звезды, на следы метеоров и фейерверк лазерной перестрелки в верхних слоях атмосферы и понимал, что война проиграна и Сеть на краю гибели, что миры и империи рушатся прямо на его глазах. Может быть, эта нескончаемая ночь определит дальнейшую судьбу человечества. Но ему что до этого?
Сол Вайнтрауб думал о дочери.
И вдруг в какой-то миг, исхлестанный ветром и темпоральными волнами, едва живой от усталости и голода, Сол явственно ощутил, как снисходит на него умиротворение. Он отдал дочь чудовищу, но не по воле Бога или судьбы, и не из страха, нет. А потому, что дочь явилась ему во сне и сказала, что это веление любви, связавшей его, Сару и Рахиль.
«Когда близок конец, — отрешенно размышлял Сол, — когда отступают разум и надежда, только в наших снах и любви дорогих нам людей мы находим ответ Богу. Авраамов ответ».
Комлог Сола давным-давно отключился. Сколько времени прошло с того момента, когда он вручил свое дитя чудовищу? Час? Пять? Темпоральные волны снова швыряли Сфинкс, как крошечную шлюпку, а Сол, вцепившись в камень, смотрел на звезды и космическую битву.
По небу во все стороны разлетались искры и, попадая под удары лазерных копий, то вспыхивали, как сверхновые звезды, то рассыпались веером раскаленных осколков, меняющих на лету цвет — от белого до лилового и алого. Сол, как ни старался, не мог представить себе горящие корабли, десантников-Бродяг и морских пехотинцев Гегемонии, умирающих под рев кипящего титана и встречного воздуха… Это было выше его разумения — все эти грандиозные, эпохальные события: космические сражения, маневры флотов, падение империй… Его способность сопереживать, а значит, понимать и постигать, тут оказалась бессильной. Все это требует таланта Фукидида и Тацита, Катона и By. Сол был знаком с Фельдстайн — сенатором от его родного Барнарда, встречался с нею не раз, когда вместе с Сарой отчаянно искал способ излечить Рахиль, но даже ее, эту горячую, энергичную женщину, не мог представить себе участницей дебатов, посвященных межзвездным войнам, — другое дело на открытии нового медицинского центра в столице или на лекции в Кроуфордском университете.
С нынешним секретарем Сената Солу не доводилось встречаться, но как ученому ему были небезынтересны ее выступления, в которых она чрезвычайно искусно использовала классические высказывания знаменитых политиков — Черчилля, Линкольна, Альвареса-Темпа. И сейчас, пристроившись между лап каменного колосса и молча оплакивая дочь, Сол представить себе не мог, какие чувства испытывает эта женщина, чьи решения могут спасти или обречь на смерть миллиарды жизней. Сохранить или погубить величайшую в истории человечества империю.
Впрочем, на все это Солу было наплевать. Он хотел одного: вернуть дочь. Вопреки доводам разума он хотел, чтобы Рахиль осталась жива.
Вглядываясь в звездное небо осажденной планеты, затерявшейся на задворках гибнущей империи, Сол Вайнтрауб смахнул застилавшие глаза слезы, и тут на память ему пришла «Молитва о дочери» Йейтса:
И вновь порывы с моря налетели На дом, где безмятежно в колыбели Спит дочь моя. К ней ветру нет преград: Лишь роща Грегори и голый холм стоят Перед шальным посланцем океана, Нещадно треплющим и крыши, и стога; Как мысль моя печальна и горька, Вот и молюсь за дочку безустанно. Давно брожу, а ветер не стихает, Я слышу, как он в башне завывает, Ревет под сводами моста, ревет Над вязами у вздыбившихся вод. Молюсь за дочь, и чудится мне вскоре: Грядущих лет выходит строй Под дикий барабанный бой Из смертоносной девственности моря.[59]Да, все, что ему нужно, — это вновь обрести возможность беспокоиться за будущее своего ребенка, тот извечный страх, что преследует всех родителей. Не допустить, чтобы детство и юность только начавшей взрослеть дочери были похищены и уничтожены болезнью.
Всю жизнь Сол жаждал вернуть невозвратимое. Он вспомнил, как однажды поднялся на чердак, где Сара в это время аккуратно укладывала распашонки Рахили в сундук. Вспомнил слезы на глазах Сары и собственную тоску — их дочка была тогда еще с ними, но безжалостная стрела времени с каждым днем приближала неотвратимый конец. Кроме воспоминаний, у него почти ничего не осталось. Сара мертва и никогда не придет; друзья детства Рахили и весь ее мир исчезли навеки; и даже общество, которое он покинул всего несколько недель назад, уже стоит на пороге исчезновения без возврата.
Размышляя обо всем этом под шепот угомонившегося ветра, озаренный ослепительным светом ложных звезд, Сол припомнил строки из другого, куда более зловещего стихотворения Йейтса:
Да, какое-то откровение уж близко; Да, Второе Пришествие уж близко. Пришествие! Едва сорвалось слово это с губ, Как гигантский образ из «Мировой Души» Предстал передо мной: в песках пустыни Созданье с телом льва и головою человека, И взглядом пустым и безжалостным, Приподымается на лапах, а вокруг Мелькают тени возмущенных птиц. И снова тьма упала. Но теперь я знаю, Что два тысячелетья каменного сна Смутил кошмар качающейся колыбели. Но что за зверь, чей пробил час теперь, Грядет на Вифлеем, чтобы родиться?Сол не знает ответа. Да и зачем он ему? Солу нужна его дочь.
Похоже, Военный Совет готов был проголосовать за применение нового оружия.
Мейна Гладстон, сидевшая во главе длинного стола, испытывала ни на что не похожее восхитительное чувство устраненности от мира, которое появляется после длительной бессонницы. Стоило хоть на секунду зажмуриться, как она тут же скользила в пропасть по черному льду усталости, и Гладстон боялась даже моргнуть, не замечая рези в глазах и почти не воспринимая смысла докладов и жарких дебатов.
Члены Совета наблюдали, как искры эскадры 181.2 — штурмовой группы контр-адмирала Ли — гасли одна за другой, пока из семидесяти четырех боевых кораблей не остался всего десяток. Однако искры продолжали продвигаться к ядру Роя, и крейсер Ли был пока цел.
И пока длилось это бесшумное вычитание, этот абстрактный и странно притягательный репортаж о жестокой и более чем реальной смерти, адмирал Сингх и генерал Морпурго заканчивали свой мрачный отчет.
— …ВКС и Нью-Бусидо были созданы в расчете на мелкие стычки, локальные войны — то есть на ограниченные конфликты с легкодостижимыми целями, — резюмировал Морпурго. — Численность ВКС не превышает полумиллиона человек, что несравнимо даже с самой маленькой армией на Старой Земле тысячелетней давности. Рой может сокрушить нас простым количественным превосходством. Победит арифметика.
Сенатор Колчев на противоположном конце стола гневно сверкнул глазами. Лузианец не в пример Гладстон активно участвовал в дебатах, и почти все вопросы адресовались ему — словно присутствующие почуяли, что власть меняет хозяина, жезл вождя переходит в другие руки.
«Пока еще не перешел», — подумала Гладстон, поглаживая подбородок и слушая, как Колчев допрашивает генерала.
— …но можем ли мы, отступая, защитить хотя бы важнейшие миры второй волны — прежде всего ТКЦ, а также крупные индустриальные центры: Малое Возрождение, Фудзи, Денеб-IV и Лузус?
Генерал Морпурго уткнулся в бумаги, чтобы скрыть вспыхнувшую в нем ярость.
— Сенатор, остались неполные десять стандартных суток до того, как вторая волна достигнет цели. Малое Возрождение будет атаковано через девяносто часов. Со всей ответственностью утверждаю, что при существующем объеме, структуре и техническом состоянии ВКС мы вряд ли сможем отстоять хотя бы одну систему… скажем, ТКЦ.
Вскочил сенатор Какинума:
— Это неприемлемо, генерал.
— Увы, сенатор, но это правда, — ответил Морпурго.
Временный Президент Денцель-Хайят-Амин затряс своей седой гривой:
— Правда? Но это чудовищно! Разве не существует планов обороны Сети?!
Адмирал Сингх, не вставая, заметил:
— В своих расчетах мы исходили из того, что у нас как минимум восемнадцать месяцев форы.
Министр иностранных дел Персов прокашлялся:
— А… если уступить Бродягам эти двадцать пять миров, адмирал? Когда они смогут возобновить атаку на другие миры Сети?
Сингху не понадобилось заглядывать в свои записи или комлог.
— Это зависит от их планов, господин Персов, — ответил он. — Ближайший мир Сети — Эсперанса — в девяти стандартомесяцах от Роя. Наиболее удаленная цель — Старая Родина — примерно в четырнадцати годах пути, если они используют двигатели Хоукинга.
— За это время мы вполне успеем перевести экономику на военные рельсы, — заметила сенатор Фельдстайн. Ее избирателям на Мире Барнарда оставалось жить меньше сорока стандартных часов. Фельдстайн поклялась, что будет с ними до конца. Она говорила внятно, но совершенно бесстрастно: — Это разумная идея. Что пропало, того не вернешь. Даже после утраты ТКЦ и еще дюжины миров Сеть может производить в достаточном количестве вооружение и боеприпасы… За те годы, что Бродяги будут тащиться по Сети, мы накопим сокрушительный промышленный потенциал.
Министр обороны Имото покачал головой:
— Первая и вторая волны лишили нас уникальных сырьевых источников. Экономика Сети хромает на обе ноги.
— Разве у нас есть выбор? — подал с места реплику сенатор Питерс с Денеба-III.
Взоры присутствующих обратились к соседу советника Альбедо.
Словно для того, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, ИскИны делегировали в Военный Совет еще одного представителя, который и сделал доклад об устройстве, получившем неуклюжее название «взрывной жезл смерти». Советник Нансен был высоким загорелым мужчиной, внушающим расположение с первого взгляда. От него прямо-таки исходили флюиды прирожденного лидера.
Но у Мейны Гладстон новый советник не вызывал ничего, кроме страха и отвращения. Она не сомневалась, что эта проекция изготовлена экспертами ИскИнов специально — для создания атмосферы доверия, которая немедленно воцарилась в зале, стоило искусственному советнику, державшемуся столь естественно, открыть рот. Если верить предчувствиям, Нансен был вестником смерти.
Нейродеструктор был известен в Сети уже несколько веков. Этот дар Техно-Центра приняли на вооружение некоторые спецподразделения — например, охрана Дома Правительства и преторианцы Гладстон. Он не жег, не взрывал, не плавил и не испепелял. Он действовал бесшумно и незримо — ни грохота стрельбы, ни вспышек взрывов. Он просто вызывал мгновенную смерть объекта.
Конечно, в тех случаях, когда объектом был человек. Дальность действия нейродеструктора была ограниченной — не больше пятидесяти метров, — но внутри этого радиуса человек, в которого стреляли, падал замертво, а животные и неодушевленные предметы оставались невредимыми. Вскрытие не обнаруживало никаких повреждений, кроме разрыва синапсов. Высшие чины ВКС носили «жезлы смерти» за поясом — как личное оружие и символ власти.
Теперь же, по словам нового советника, Техно-Центр создал устройство, действующее по принципу нейродеструктора, но гораздо более мощное. Техно-Центр до поры до времени решил держать свое открытие в тайне, но вторжение Бродяг и ужасающая угроза, нависшая над Сетью…
Советника засыпали вопросами, причем военные были настроены более скептически, чем политики. Да, «жезл смерти» избавит нас от Бродяг, но что станется с населением Гегемонии?
Укройте людей в убежищах на лабиринтных планетах, убежденно отвечал Нансен, повторяя предложение советника Альбедо. Пятикилометровая толща камня полностью защитит их от смертоносного излучения.
Каков радиус действия нового оружия?
Излучение становится безопасным на расстоянии трех световых лет, отвечал Нансен, спокойный, благожелательный и уверенный в себе, как рекламный агент на ярмарке. Дистанция достаточно велика, чтобы избавить любую систему от Роя, и достаточно мала, чтобы обезопасить все звездные системы, кроме ближайших. Девяносто два процента миров Сети отделены от своих соседей как минимум пятью световыми годами.
А что будет с теми, кого нельзя эвакуировать, допытывался Морпурго.
Советник Нансен разжал руку, демонстрируя пустую ладонь.
Не включайте устройство, пока не удостоверитесь, что все граждане Гегемонии эвакуированы или укрыты, улыбнулся он. Ведь распоряжаться им будете вы сами.
Фельдстайн, Сейбенсторафен, Питерс, Персов и многие другие были в восторге. Секретное оружие, которое покончит со всяким секретным оружием! А Бродяг можно для начала предостеречь — устроить пробное включение.
Прощу прощения, снова заговорил Нансен. Его обнаженные в улыбке зубы были жемчужно-белыми, как и его одежда. К великому сожалению, пробное включение невозможно. Это оружие действует точно так же, как «жезл смерти», только на гораздо большем расстоянии. Никакой ударной волны, никаких взрывов и пожаров. Нейтринный поток не превысит фона. Только мертвые враги.
Для демонстрации, подхватил слова коллеги советник Альбедо, необходимо использовать нейродеструктор хотя бы против одного Роя.
Энтузиазм Военного Совета ничуть не уменьшился.
Вот и выход, воскликнул спикер Альтинга Гиббонс. Испытываем устройство на одном из Роев, по мультилинии сообщаем результаты другим и даем им час на капитуляцию. В конце концов эту войну начали не мы! Что значат несколько миллионов мертвых врагов в сравнении с миллиардами жертв, к которым приведет многолетняя война!
Хиросима, сказала Гладстон, причем так тихо, что ее услышала только Седептра Акази. За все заседание она не произнесла ни слова.
Где гарантия, что за три световых года лучи потеряют свою убийственную силу, спросил Морпурго. Вы проводили испытания?
Советник Нансен смущенно улыбнулся. Ответь он утвердительно, у него потребовали бы доказательств — горы мертвых тел. В противном случае надежность устройства оказалась бы под сомнением. Мы уверены, все будет хорошо, сказал он, все так же улыбаясь. Моделирование дало прекрасные результаты!
«ИскИны Киевской Группы говорили то же самое о первой сфере сингулярности, — отметила про себя Гладстон. — Той самой, что погубила Землю».
Как ни странно, Сингх, Морпурго, Ван Зейдт и кое-кто из экспертов не впали в эйфорию и выдвигали все новые и новые возражения. Безбрежное Море уже невозможно эвакуировать, а единственный лабиринтный мир первой волны — Армагаст — расположен всего в одном световом годе от Пасема и Свободы.
Слушая их, Нансен лишь улыбался.
— Вы хотите демонстрации, и это вполне понятно, — с расстановкой сказал он. — Вам нужно показать Бродягам, что вы не потерпите вторжения, и удержать потери на минимальном уровне. В то же время вам необходимо обезопасить местное население. — Он замолчал, положив ладони на стол. — В таком случае, что вы скажете о Гиперионе?
Зал загудел.
— Но ведь Гиперион не входит в Сеть! — заявил спикер Гиббонс.
— Пока там действуют порталы ВКС, он является неотъемлемой частью Сети, — отчеканил Гарион Персов — явный сторонник Нансена.
Суровое лицо Морпурго ничуть не смягчилось:
— Через час-другой их там не будет. Наши боевые порядки вокруг сферы сингулярности могут быть прорваны в любой момент. Вот-вот падет и сам Гиперион.
— А как же администрация Гегемонии? — спохватился Персов.
Ему ответил Сингх:
— Эвакуированы все, за исключением генерал-губернатора Тео Лейна. Его так и не нашли в суматохе.
— Жаль, — без особого, впрочем, сожаления констатировал Персов. — Значит, остались в основном местные жители. Ну, они-то без особого труда попадут в тамошний лабиринт.
Барбара Дэн-Гиддис из Министерства экономики, сын которой был управляющим на фибропластовой плантации под Порт-Романтиком, быстро произнесла:
— За три часа? Невозможно.
Нансен встал.
— Позвольте с вами не согласиться, — вежливо начал он, поклонившись Дэн-Гиддис. — Можно передать по мультилинии предупреждение местной администрации, и мирное население срочно эвакуируют. На Гиперионе существуют тысячи входов в лабиринт.
— Город Китс осажден, — рявкнул Морпурго. — Бои идут по всей планете.
Советник Нансен кивнул, скорбно сдвинув брови:
— И вскоре эти варвары предадут ее мечу. Перед вами непростая дилемма, леди и джентльмены. Но устройство сделает свое дело! В системе Гипериона не останется в живых ни одного захватчика, а миллионы жителей планеты будут спасены. Мало того — это будет хорошим уроком для Бродяг в других регионах. Нам известно, что их Рои сообщаются между собой посредством мультилинии. Уничтожение Роя, первым вторгшегося в пространство Гегемонии, отрезвит их.
Нансен вновь покачал головой и оглядел собравшихся с почти отеческой озабоченностью. Только чудовище могло усомниться в его искренности.
— Дело теперь за вами. Оружие ваше. Вам решать, использовать его или нет. Неприкосновенность человеческой жизни — для нас закон, но сейчас, когда на карту поставлены судьбы миллиардов?! — Нансен нахмурился и сел, не закончив фразы.
Собравшиеся с шепота перешли на крик. Страсти накалялись.
— Госпожа секретарь! — повысил голос Морпурго.
В наступившей тишине Гладстон подняла глаза к голографическим изображениям под потолком. Рой, атакующий Безбрежное Море, казался струей крови, устремившейся к голубому шарику. За время этой паузы из трех оранжевых огоньков, оставшихся от эскадры 181.2, погасли два. Теперь все следили за третьим — последним. Но вскоре и он погас.
Гладстон прошептала в комлог:
— Узел Связи, есть что-нибудь от адмирала Ли?
— В адрес штаба — ничего, госпожа секретарь, — последовал ответ. — Только стандартная боевая телеметрия. Судя по всему, им не удалось достичь ядра Роя.
Гладстон до последней минуты надеялась, что Ли сумеет захватить пленных и удостовериться, что атакуют именно Бродяги. Но Вильям Аджунта Ли, самый способный и энергичный офицер из всех, кого знала Гладстон, погиб. Погиб, выполняя ее приказ, а с ним погибли и семьдесят четыре корабля.
— Порталы Безбрежного Моря разрушены плазменными взрывами, — бесстрастно комментировал адмирал Сингх. — Передовые единицы Роя вступают в окололунный укрепрайон.
В полной тишине сенаторы и военные смотрели на потолок, где голографическое цунами кроваво-красных огней захлестывало систему Безбрежного Моря. Вокруг голубой планеты погасли последние оранжевые искры.
Несколько сотен вражеских кораблей осталось на орбите, — по-видимому, чтобы превратить изящные плавучие города и океанские фермы в пылающие развалины, а кровавая волна двинулась дальше и вышла из кадра.
— До системы Асквита три стандарточаса сорок одна минута, — нарушил тягостное молчание дежуривший у дисплея техник.
Сенатор Колчев встал.
— Предлагаю поставить на голосование вопрос о демонстрации нейродеструктора на Гиперионе.
Мейна Гладстон прикусила губу.
— Нет, — сказала она наконец, — обойдемся без голосования. Решено: мы воспользуемся устройством Техно-Центра. Адмирал, подготовьте факельщик, на котором оно установлено, к переходу в пространство Гипериона и оповестите планету и Бродяг. Дайте им три часа. Имото, пошлите шифрованную мультиграмму на Гиперион. Подчеркните, что жители обязаны — повторяю, обязаны — немедленно укрыться в лабиринтах. Скажите им, что будет произведено испытание нового оружия.
Морпурго вытер пот со лба:
— Госпожа секретарь, есть риск, что оружие попадет в руки врага.
Гладстон повернулась к советнику Нансену, страстно надеясь, что лицо не обнаружит ее истинных чувств:
— Советник, можно ли сделать так, чтобы ваше устройство автоматически детонировало в случае захвата или гибели корабля?
— Разумеется, госпожа секретарь.
— Тогда настройте его соответствующим образом и проинструктируйте экспертов ВКС. — Она повернулась к Седептре: — Организуй трансляцию на всю Сеть. За десять минут до включения устройства я хочу обратиться к гражданам.
— Разумно ли… — начала было сенатор Фельдстайн.
— Вне всякого сомнения, — отрезала Гладстон и стремительно поднялась с кресла. Тридцать восемь членов Военного Совета тоже встали.
— Мне необходимо хоть немного отдохнуть, а вы тут потрудитесь. Устройство должно быть подготовлено к действию и доставлено в систему. Немедленно оповестите Гиперион. Подготовьте план действий на случай экстремальных обстоятельств, а также проект соглашения для переговоров. Даю вам тридцать минут.
Гладстон обвела взглядом собравшихся: не пройдет и двадцати часов, как большинство из них лишится власти. Для нее, во всяком случае, это последний день на посту секретаря Сената Гегемонии.
Мейна Гладстон улыбнулась.
— Все свободны, — сказала она и перенеслась в свои апартаменты — вздремнуть полчасика.
Глава 43
Ли Хент впервые видел умирающего. Последние сутки, проведенные с Китсом — про себя Хент все еще называл его Джозефом Северном, — были самыми трудными в его жизни. Хент буквально оглох от клокотания мокроты в горле и груди несчастного, боровшегося со смертью. Кровохарканье усилилось, перемежаясь приступами рвоты.
Хент сидел рядом с кроватью в маленькой гостиной в доме на Площади Испании и прислушивался к бормотанию умирающего. Раннее утро состарилось, перешло в позднее, наступил полдень. Китса лихорадило, он ненадолго приходил в себя и вновь терял сознание. Однако он требовал, чтобы Хент слушал и записывал каждое его слово — в соседней комнате нашлись чернила, перо и бумага. И Хент торопливо записывал горячечный бред умирающего кибрида. Речь шла о метасферах и потерянных божествах, об ответственности поэтов и смене богов, и еще — о мильтоновской гражданской войне в Техно-Центре.
— Война в Техно-Центре? Где же он? Где находится Техно-Центр, Сев… Ките? — воскликнул Хент, схватив его горячую руку.
Умирающий, весь в поту, отвернулся к стене.
— Не дышите на меня — от вас веет холодом!
— Техно-Центр, — повторил Хент, выпрямившись, готовый расплакаться, как ребенок, от жалости и разочарования. — Где находится Техно-Центр?
Китс улыбнулся и замотал головой. При каждом его вздохе раздавался присвист, точно из рваных кузнечных мехов.
— Как пауки в паутине, — бормотал он, — пауки в паутине. Ткут… нет, подстроили, чтобы мы сами ее ткали… потом связали нас ею и сосут нашу кровь. Как у мух.
Бред какой-то. Хент даже перестал записывать — и вдруг понял.
— Боже! — прошептал он. — Они в нуль-сети!
Китс крепко сжал пальцы Хента.
— Расскажите это вашей начальнице, Хент. Заставьте Гладстон вырвать их из Сети. Вырвать. Пауки в паутине. Бог людей и бог машин… должны слиться. Не я! — Он упал на подушки и беззвучно заплакал. — Не я.
После полудня Китс немного поспал, но сон этот был предвестником смерти. Малейший звук будил умирающего, и вновь начиналось единоборство с удушьем. К закату Китс настолько ослаб, что не мог отхаркаться, и Хенту приходилось поддерживать его голову над тазиком, чтобы кровавая слизь вытекала изо рта и горла.
Когда Китс забывался на миг, Хент подходил к окну, а однажды даже сбегал вниз, к парадной двери — выглянуть на площадь. На противоположной стороне, у основания лестницы, в густой тени виднелась высокая фигура, утыканная шипами.
К вечеру Хент сам задремал у постели Китса — прямо на стуле. Ему приснилось, что он падает. Он выставил руку — и очнулся. Китс смотрел на него.
— Вы когда-нибудь видели, как умирают? — спросил поэт, хватая ртом воздух.
— Нет. — Взгляд у Китса был какой-то странный, словно он видел перед собой не Хента, а кого-то другого.
— В таком случае сожалею. И без того вы претерпели из-за меня массу неудобств и опасностей. Мужайтесь. Теперь уже недолго.
Хента не столько поразило благородство и мужество этих слов, сколько внезапный переход Китса со стандартного английского Сети на некий более древний и более богатый язык.
— Чепуха! — выпалил Хент, пытаясь передать Китсу энтузиазм и энергию, которых сам не испытывал. — Мы выберемся отсюда еще до завтра. Как только стемнеет, я выйду и отыщу где-нибудь портал.
Китс покачал головой:
— Шрайк вас не пропустит. Он никому не позволит мне помочь. Я должен сам спасти себя. — Он задохнулся и закрыл глаза.
— Ничего не понимаю, — пробормотал Хент, сжимая руку юноши. Он счел бы все это бредом, но, поскольку Китс находился в полном сознании (редкий случай за последние двое суток), Хент решил расспросить его подробнее. — Что значит «сам спасти себя»?
Китс широко открыл глаза. Светло-карие, с лихорадочным блеском.
— Уммон и другие пытаются заставить меня спастись, принять на себя роль божества. Приманка для белого кита, мед для высшей… мухи. Беглое Сопереживание должно найти свое пристанище во мне… во мне, мистере Джоне Китсе, пяти футов роста… А затем начнется примирение.
— Какое примирение? — Хент наклонился над поэтом, стараясь не дышать на него. В ворохе простыней и одеял Китс казался иссохшим мальчиком, но исходящий от него жар обволакивал всю комнату. В сумраке его лицо мерцало бледным овалом. Хент не замечал золотой полоски солнечного света, ползущей по стене, но Китс не мог оторваться от последнего знака уходящего дня.
— Примирение человека и машины. Творца и творения. — Китс закашлялся и выплюнул в тазик, подставленный Хентом, комок красной слизи. Откинувшись на подушки, передохнул и, тяжело дыша, добавил: — Примирение человечества с теми расами, которые оно пыталось истребить, Техно-Центра с человечеством, которое он хотел ликвидировать. Прошедшего через муки эволюции Бога Связующей Пропасти с его предшественниками, пытавшимися его уничтожить.
Хент покачал головой и перестал записывать.
— Не понимаю. Вы можете стать этим… мессией… покинув свой смертный одр?
Бледный овал лица Китса задрожал на подушке. Казалось, он смеется.
— Каждый может, Хент. Величайшая глупость и гордыня человеческая. Мы принимаем нашу боль. Освобождаем дорогу нашим детям. Это дает нам право стать Богом, о котором мы мечтаем.
Хент опустил глаза и увидел, как его рука сжимается в кулак.
— Если вы это можете — стать такой силой… тогда сделайте это. Вытащите нас отсюда!
Китс снова закрыл глаза.
— Не могу. Я не Тот, Кто Придет, а Его Предтеча. Не крещенный, но креститель. К черту, Хент, я вообще атеист! Даже Северн не мог убедить меня в реальности всей этой дребедени, когда я тонул в смерти! — Китс с пугающей силой вцепился в рукав Хента. — Запишите это!
И Хент потянулся за древним пером и грубой бумагой, торопясь запечатлеть на ней слова, нашептываемые поэтом:
…но я уже питаю сам Урок чудесный на лице безмолвном И чувствую, как в бога превращает Меня громада знаний! Имена, Деянья, подвиги, седые мифы, Триумфы, муки, голоса вождей, И жизнь, и гибель — это все потоком Вливается в огромные пустоты Сознанья и меня обожествляет, Как будто я испил вина блаженных И приобщен к бессмертью![60]Китс прожил еще три мучительных часа. Как пловец, он выныривал из пучины агонии, чтобы сделать судорожный вдох или пробормотать какую-нибудь нескладицу. Один раз, уже в полной темноте, он потянул Хента за рукав:
— Когда я умру, Шрайк не причинит вам вреда. Он ждет меня. Может, вы и не найдете дороги домой, но он не причинит вам вреда, пока вы будете ее искать. — И снова, в тот самый момент, когда Хент, прислушиваясь к его дыханию, наклонился над ним, Китс заговорил и продолжал бормотать между спазмами, сказав напоследок, что хочет быть погребенным на Римском протестантском кладбище, вблизи пирамиды Гая Цестия.
— Чушь, чушь, — повторял Хент, словно заклинание, сжимая горячую руку умирающего.
— Цветы, — прошептал Китс, немного погодя, когда Хент зажег лампу на бюро. Широко раскрытыми глазами, он смотрел на потолок с наивным детским изумлением. Хент поднял голову и увидел в синих квадратах потолка роспись: выцветшие желтые розы. — Цветы… надо мною, — преодолевая удушье, снова прошептал Китс.
Хент стоял у окна, глядя во тьму у Испанской Лестницы, когда позади раздался скрипучий, полный мучительной боли вдох.
— Северн… подними меня! Я умираю, — едва слышно произнес Китс.
Хент сел на кровать и приподнял его за плечи. От иссохшего тела исходил такой жар, словно оно действительно сгорало в пламени болезни.
— Не бойся. Будь тверд. Слава Богу, она пришла! — выдохнул Китс и затих. Хент уложил его поудобнее. Дыхание поэта стало ровнее.
Когда Хент, сменив воду в тазике и достав свежее полотенце, вернулся в комнату, Китс был мертв.
Едва рассвело, Хент завернул почти невесомое тело в чистые простыни, которые снял со своей постели, и понес его на площадь.
* * *
Когда Ламия Брон добралась до конца долины, буря стихла. Пещерные Гробницы испускали такой же призрачный свет, что и остальные, но из них, кроме того, доносились леденящие кровь звуки. Казалось, в недрах планеты стонут тысячи душ. Ламия прибавила шагу.
Небо уже очистилось, когда она подошла к Дворцу Шрайка. Название Гробницы подходило ей как нельзя лучше: выпуклый полукупол напоминал панцирь, кривые ятаганы колонн словно вонзались в землю, прочие опоры и балки торчали в разные стороны — точь-в-точь шипы чудовища. От яркого света, горевшего внутри, стены стали прозрачными, и сооружение походило на фонарь из тончайшей рисовой бумаги. Купол же был цвета пламени, пылавшего в глазах Шрайка.
Ламия вздохнула и положила ладонь на живот. Еще на Лузусе она узнала, что беременна. Казалось бы, будущий ребенок должен теперь занимать все ее мысли. Кто ей этот болтливый старикашка, именующий себя поэтом? Разумеется, никто. И что из этого следует? Постояв немного, она все же двинулась к Дворцу Шрайка.
Снаружи казалось, что Дворец имеет не более двадцати метров в ширину. По прошлому посещению Ламия знала, что внутри гробница совершенно пуста, если не считать обоюдоострых опор, скрещивающихся под светящимся сводом. Теперь же перед ней оказалось пространство едва ли не превосходящее по размерам саму долину. Двенадцать, а то и больше ярусов из белого камня громоздились друг на друга и уходили вдаль, теряясь в туманной дымке. И на каждом лежали человеческие тела, от голов которых отходили полуорганические кабели-пиявки — такие же, как тот, которым, по словам друзей, была привязана к Сфинксу она сама. Только здесь металлические пуповины были полупрозрачными и светились красным, то расширяясь, то сжимаясь, словно через головы лежащих прокачивали кровь.
Ламия попятилась и бросилась прочь. Однако, отбежав метров на десять, она увидела, что снаружи Гробница ничуть не изменилась. Каким же образом она могла вместить это многокилометровое пространство? Впрочем, если Гробницы открываются, что мешает Дворцу существовать в разных временах? Так или иначе, но когда Ламия медленно приходила в себя после путешествий в мегасфере, своим киберзрением она разглядела недоступные человеческому глазу энергетические волокна, соединявшие Дворец Шрайка с терновым деревом.
И она снова направилась ко входу во Дворец.
Внутри ее ждал Шрайк. На фоне сверкающего белого мрамора его блестящий панцирь казался черным.
У Ламии перехватило дух. Надо было повернуться и бежать без оглядки, но она вошла внутрь.
Вход тут же затуманился и сделался почти неразличимым в молочно-белом сиянии. Только слабая рябь выдавала его присутствие. Шрайк стоял неподвижно, лишь багровое пламя пульсировало в его глазах.
Ламия сделала еще шаг. Странно, но каменный пол заглушал всякий шум, словно она ступала по вате. Шрайк находился метрах в десяти от нее, у подножия напоминавших анатомический театр ярусов, которые громоздились до самого потолка, терявшегося в сияющей мгле.
Чудовище не шевелилось. В воздухе пахло озоном и еще чем-то — тошнотворно-сладким. Ламия двинулась вдоль стены, шаря взглядом по рядам неподвижных тел. Каждый шаг отдалял ее от входа, и Шрайк, пожелай он ее перехватить, сделает это без труда. Но он застыл черной статуей в океане света.
Ярусы простирались на километры. Кое-где виднелись лестницы со ступенями почти метровой высоты. Ламия взобралась по одной из них на второй ярус, коснулась ближайшего тела и с облегчением отметила, что оно теплое. Грудь человека медленно вздымалась и опадала. Но это был не Мартин Силен.
И она продолжила свой путь, боясь обнаружить среди этих живых мертвецов Поля Дюре, Сола Вайнтрауба или даже себя саму. Вдруг Ламия заметила знакомое лицо: она видела его изваянным в камне. Печальный Король Билли возлежал на белом мраморе пятого яруса. От королевской мантии остались обгоревшие лохмотья, а лицо было искажено страшной мукой. Ярусом ниже лежал Мартин Силен.
Ламия опустилась на корточки рядом с поэтом, покосившись через плечо на черное пятно Шрайка в конце зала. Силен, как и все, казался живым. Пульсирующая пуповина, выходя из разъема у него за ухом, исчезала в стене, сливаясь с камнем.
Задыхаясь от ужаса, Ламия провела рукой по черепу поэта и нащупала границу пластмассы и кости, затем осмотрела саму пуповину. Ни единого сочленения или шва до самой стены. Внутри струилась алая жидкость.
— Господи! — прошептала Ламия и в ужасе обернулась. Ей почудилось, что Шрайк уже рядом, но тот словно и не думал сдвигаться с места.
Карманы Ламии были пусты. Ни оружия, ни инструментов. Она понимала, что должна отправиться к Сфинксу и, отыскав в рюкзаке что-нибудь пригодное для резания, вернуться сюда. А потом, набравшись мужества, вновь переступить порог Дворца.
Нет, она не сможет заставить себя войти сюда снова.
Ламия опустилась на колени, набрала в грудь побольше воздуха, вскинула руку над головой и резко опустила. Пуповина только казалась пластиковой. От удара заныла вся рука — от кисти до плеча.
Глаза Ламии сами собой обратились к Шрайку. Он двигался к ней медленными шагами, словно старик, вышедший на прогулку.
Выкрикнув «ки-я», Ламия вновь нанесла удар ребром ладони. По всему бесконечному залу прокатилось эхо.
Она выросла на Лузусе, где гравитация на треть превосходила стандартную, но даже по меркам своей родины отличалась недюжинной силой. Девяти лет она задумала стать сыщиком и активно готовила себя к этому. Частью ее довольно бестолковой, но выполнявшейся с неукоснительной тщательностью программы были боевые искусства, так что бить она умела. И Ламия ударила рукой словно топором, мысленно рассекая пуповину.
Жесткий кабель сплющился, трепеща, как живой. И даже вроде бы съежился, когда Ламия размахнулась снова.
Внизу уже слышались шаги. Ламия едва не расхохоталась. Шрайк мог мгновенно переместиться в любую точку, не пошевелив ногами, а тут топает, как ни в чем не бывало. Ему, должно быть, нравилось вселять в своих жертв ужас. Но она не чувствовала страха. Ей было некогда.
Ну-ка, еще разок! Тут, пожалуй, и камень не устоял бы. Она снова ударила ребром ладони по пуповине, и тут в руке что-то хрустнуло. Боль отозвалась во всем теле, будто грохот. Или шум шагов внизу.
«Дорогая, а тебе не кажется, — спросила себя Ламия, — что, если эта фигня порвется, Силен умрет?»
Она снова занесла руку, задыхаясь от напряжения. Со лба капал пот.
«Кстати, я терпеть тебя не могу», — мысленно обратилась она к Силену и снова ударила. С тем же успехом можно пытаться перерубить ногу стального слона.
Шрайк уже поднимался по лестнице.
Тогда Ламия привстала и вложила весь свой вес в последний удар, выбивший плечо из сустава и доконавший-таки ее треснувшее запястье.
И перерубила пуповину.
Красная жидкость, похожая скорее на подкрашенную водичку, чем на кровь, брызнула на ноги Ламии и белые плиты. Рассеченный кабель, все еще торчавший из стены, колотил по камню и корчился, как злобное щупальце. Потом угомонился, вытянулся и скользнул умирающей змеей в отверстие, затянувшееся, как только пуповина скрылась из виду. А еще через пять секунд обрывок, вросший в разъем нейрошунта, засох и съежился, как выброшенная на берег медуза. Красные брызги на лице и груди поэта прямо на глазах Ламии поголубели.
Веки Мартина Силена задергались. Совиные глаза распахнулись.
— Эй, — сказал он, — ты в курсе, что этот блядский Шрайк прямо у тебя за спиной?
Гладстон перенеслась в личные покои и, не останавливаясь, прошла в кабину мультисвязи. Ее ждали два рапорта.
Первый — из системы Гипериона. Гладстон не поверила собственным ушам, услышав голос бывшего генерал-губернатора, доложившего ей вкратце о заседании Трибунала Бродяг. Откинувшись на спинку кожаного кресла, Гладстон охватила голову ладонями. Лейн вновь повторил заявление Свободной Дженги: Бродяги не имеют отношения к агрессии. Заканчивая мультиграмму кратким описанием Роя, он заявил, что, по его мнению, Бродяги говорят правду. Что же до Консула, то дальнейшая судьба его неизвестна.
— Отвечать? — спросил компьютер, ведающий мультисвязью.
— Подтвердите получение сообщения, — распорядилась Гладстон. — Передайте приказ «Ждать» одноразовым дипшифром.
Она включила вторую мультиграмму.
Перед нею возникло плоское изображение адмирала Вильяма Аджунты Ли, разрываемое помехами. Бегущие по краям колонки цифр свидетельствовали о том, что его корабельный мультипередатчик работал на частоте стандартной телеметрии флотских передач. При анализе информации связисты, конечно, заметят несоответствие, но до этого еще надо дожить.
Лицо Ли было в крови, вокруг клубился дым. Гладстон догадалась, что передача ведется из причального отсека крейсера. На железном рабочем столе позади Ли лежал труп.
— …морпехи сумели взять на абордаж один так называемый «улан», — задыхаясь, говорил Ли. — С экипажем из пяти… особей. Внешне они походят на Бродяг, но посмотрите, что получается при вскрытии. — Изображение сместилось — Ли подключил к мультипередатчику портативный имиджер. Глядя сверху вниз на белое развороченное лицо мертвого Бродяги, Гладстон догадалась, что тот погиб от взрывной декомпрессии.
Появилась рука Ли (об этом свидетельствовали адмиральские нашивки на рукаве), сжимающая лазерный скальпель. Не потрудившись даже раздеть Бродягу, командующий сделал вертикальный разрез от грудной клетки к паху.
Рука отдернула скальпель, и стало видно, что с трупом творится что-то странное. В нескольких местах на одежде появились темные широкие полосы и тут же задымились — словно лазер поджег ее. Затем в мгновение ока комбинезон прогорел, и на груди мертвеца появились и начали расти отверстия с неровными краями. Из них брызнул свет — такой яркий, что имиджер зашкалило.
Словно не выдержав жара, объектив отстранился от горящего муляжа. Снова возникло лицо Ли.
— Так обстояло дело со всеми пятью телами, госпожа секретарь. Мы еще не нашли ядра Роя, и я думаю, что…
Изображение исчезло. Инфоколонки сообщали, что передача оборвалась на середине.
— Отвечать?
Гладстон покачала головой и распахнула дверь кабины. Очутившись снова в своем кабинете, она невидящим взглядом окинула длинный диван и села за стол, зная, что сразу отключится, стоит ей хоть на секунду закрыть глаза. Седептра, шептавшаяся тем временем с комлогом, объявила, что генерал Морпурго желает срочно увидеться с секретарем Сената по весьма важному делу.
Лузианец вошел и, даже не поздоровавшись, принялся мерить шагами кабинет.
— Госпожа секретарь, я понимаю мотивы, побудившие вас пойти на применение «жезла смерти», но…
— Что, Артур? — спросила она, впервые за много месяцев назвав его по имени.
— Черт возьми, мы совершенно не представляем, каким будет результат. И к тому же… это безнравственно.
Гладстон приподняла брови.
— Значит, потерять миллиарды граждан в затяжной изнурительной войне нравственно, а использовать эту штуку для ликвидации миллионов, тем более врагов — безнравственно? Это что, позиция ВКС?
— Нет, моя личная, госпожа секретарь.
Гладстон кивнула.
— Понятно, Артур. Но решение принято и обсуждению не подлежит. — Она увидела, что ее старый друг вытянулся по стойке «смирно», и, прежде чем он успел возмутиться или заявить об отставке, предложила: — Не прогуляешься ли со мной?
Генерал изумился:
— Прогуляться? Зачем?
— Нам необходим свежий воздух. — Не дожидаясь ответа, Гладстон прошла к своему порталу, набрала вручную нужный код и шагнула в него.
Морпурго, последовавший за ней, недоуменно огляделся. Он стоял по колено в золотой траве на лугу, тянувшемся до самого горизонта. На абрикосовом небе теснились бронзовые кучевые облака. Портал исчез. Его местоположение отмечал только низкий столбик с пультом — единственный рукотворный предмет в этом царстве травы и облаков.
— Где мы, черт возьми?
Гладстон сорвала и принялась жевать длинную травинку.
— Кастроп-Роксель. Здесь нет ни инфосферы, ни орбитальных спутников. Вообще никого и ничего.
Морпурго фыркнул.
— Знаешь, Мейна, это напоминает мне тайные поляны, куда нас водил Байрон Брон, чтобы спрятаться от Техно-Центра.
— Как знать… — неопределенно отозвалась Гладстон. — Послушай-ка вот это, Артур. — И она прокрутила по комлогу две мультиграммы — Тео Лейна и Вильяма Аджунты Ли.
Когда передача оборвалась и лицо Ли исчезло, Морпурго пошел вперед, путаясь в высокой траве.
— Ну? — спросила Гладстон, еле поспевая за ним.
— Значит, тела этих Бродяг саморазрушаются тем же самым манером, что и трупы кибридов, — сказал он. — Ну и что? Разве Сенат или Альтинг воспримут это как доказательство связи между вторжением и Техно-Центром?
Гладстон вздохнула. Легкая, густая трава манила к себе. Как хорошо было бы здесь уснуть и больше не просыпаться!..
— Это доказательства для нас. Для Группы. — Гладстон не нужно было пускаться в объяснения. С первых дней работы в Сенате она и Морпурго делились подозрениями относительно Техно-Центра. Оба не теряли надежд, что когда-нибудь людям удастся избавиться от него. «Группой» руководил сенатор Байрон Брон… Боже, как давно это было.
Морпурго смотрел, как ветер колышет золотое море травы. В бронзовых облаках у горизонта плясали шаровые молнии.
— Ну и? Что толку от твоих доказательств, если мы не знаем, куда нанести удар!
— У нас еще три часа.
Морпурго взглянул на комлог.
— Два часа сорок две минуты. Вряд ли за такое время можно сотворить чудо, Мейна.
Гладстон не улыбнулась его замечанию.
— Да, Артур, этого времени не хватит ни на что — только на чудо.
Она коснулась кнопки вызова. Перед ними возник портал.
— Что мы можем сделать? — спросил Морпурго. — ИскИны Техно-Центра уже инструктируют наших техников относительно своей адской игрушки. Факельщик будет готов через час.
— Мы включим устройство там, где оно не причинит никому вреда, — неторопливо сказала Гладстон.
Генерал остановился.
— Где же это, хотел бы я знать? Ублюдок Нансен уверяет, что радиус поражения составит минимум три световых года, но чего стоят его уверения? Кто поручится, что мы не истребим людей во всей галактике?
— У меня есть идея, но я хочу обдумать ее во сне, — задумчиво объявила Гладстон.
— Во сне? — удивился Морпурго.
— Я собираюсь немного вздремнуть, Артур. И тебе советую. — И Гладстон шагнула в портал.
Морпурго выругался про себя и прошел вслед за нею, высоко подняв голову, как солдат, шагающий к плацу на казнь.
На самой высокой террасе горы, летевшей в космосе примерно в десяти световых минутах от Гипериона, Консул и семнадцать Бродяг сидели в кругу из невысоких камней, заключенном в более широкий круг — из камней повыше, и решали судьбу Консула.
— Ваши жена и ребенок погибли на Брешии, — заявила Свободная Дженга. — Во время войны клана Моземана с этим миром.
— Да, — сказал Консул. — Гегемония была уверена, что в нападении участвовал весь Рой. И я не проронил ни слова, чтобы вывести ее из заблуждения.
— Но ваши жена и ребенок были убиты.
Консул взглянул на вершину, которая уже погружалась в ночь.
— Ну и что? Я не прошу у вас пощады. Не лепечу о смягчающих обстоятельствах. Я убил вашу Свободную Андиль и трех техников. Убил преднамеренно и, более того, злонамеренно. Убил, желая лишь одного: запустить вашу машину и открыть таким образом Гробницы Времени. Так что моя жена и ребенок тут ни при чем!
Во внутренний круг вошел бородач, представленный Консулу как Глашатай Стойкий Амнион.
— Это устройство было пустышкой. Оно ни на что не повлияло.
Консул уставился на говорящего, раскрыв рот, как ребенок.
— Испытание, — пояснила Свободная Дженга.
Консул пробормотал одними губами:
— Но Гробницы… открылись.
— Мы знали, когда они откроются, — сказал Центральный Минмун. — По скорости распада антиэнтропийных полей. Устройство было испытанием для вас.
— Испытанием? — повторил Консул. — Я убил четверых из-за пустышки. Испытание…
— Ваши жена и ребенок погибли от рук Бродяг, — сказала Свободная Дженга. — А Гегемония надругалась над вашей родиной — Мауи-Обетованной. Таким образом, и Гладстон, и мы ожидали от вас подобных действий. Но нам нужно было установить степень предсказуемости ваших поступков.
Консул встал, сделал три шага и повернулся ко всем спиной.
— Все впустую.
— Что вы сказали? — переспросила Свободная Дженга. Безволосая голова великанши сверкала в свете звезд и солнечных лучах, отраженных пролетающей мимо кометной фермой.
Консул негромко рассмеялся.
— Все впустую. Даже мои предательства. Все — одна видимость. Ерунда.
Глашатай Центральный Минмун встал и оправил одежды.
— Трибунал вынес приговор, — объявил он. Остальные шестнадцать Бродяг кивнули в знак согласия.
Консул повернулся к Минмуну. На его усталом лице отразилось нетерпение.
— Бога ради, приводите его в исполнение. Скорее.
Глашатай Свободная Дженга поднялась и торжественно произнесла:
— Вы приговорены к жизни. Вам надлежит исправить причиненное вами зло.
Консул отпрянул, как от пощечины.
— Вы не можете… не должны…
— Вы приговорены вступить в эпоху хаоса, которая грядет, — сказал Глашатай Стойкий Амнион. — Приговорены помогать нам в деле объединения разрозненных колен человеческих.
Консул, словно защищаясь от ударов, поднял руки:
— Я не могу… не хочу больше… виновен…
Свободная Дженга, сделав три размашистых шага, без церемоний схватила Консула за лацканы парадного костюма.
— Вы виновны. Да. И именно поэтому должны содействовать обузданию грядущего хаоса. Вы помогли освободить Шрайка, а теперь должны вернуться и сделать так, чтобы он оказался в клетке. Только тогда начнется примирение.
Плечи Консула тряслись. В этот момент гора подставила свой бок солнцу, и все увидели катившиеся по его щекам слезы.
— Нет, — прошептал он.
Свободная Дженга разгладила на нем помятый пиджак и своими длинными пальцами сжала его плечо:
— У нас тоже есть пророки. Тамплиеры помогут нам вновь засеять жизнью галактику. Постепенно те, кто жил во лжи, называемой Гегемонией, выберутся из руин своих миров и вместе с нами займутся истинным поиском, истинным исследованием вселенной и того огромного мира, что внутри каждого из нас.
Консул, будто не слыша, резко отвернулся от Дженги.
— Техно-Центр вас уничтожит, — сказал он, ни на кого не глядя. — Так же, как уничтожил Гегемонию.
— Вы не забыли, что ваш родной мир держался на торжественном договоре о святости жизни? — спросил у него Центральный Минмун и, не дожидаясь ответа, продолжил: — Аналогичный договор определяет и наше существование и поступки. Дело не в том, чтобы сохранить несколько видов со Старой Земли, а в том, чтобы найти единство в разнообразии. Бросить семя человечества во все миры, все биосферы. И свято чтить любое проявление иной жизни.
Лицо Свободной Дженги озарил яркий солнечный свет.
— Техно-Центр предложил единение рабства, — произнесла она негромко. — Покой затхлого болота. Где революции в человеческой мысли после Хиджры?
— Миры Сети — бледные копии Старой Земли, — подхватил Центральный Минмун. — Наша эра, эра новой экспансии человечества, не нуждается в узах землеподобия. Трудности не страшат нас, неизвестность только радует. Мы не будем силой приспосабливать вселенную к себе… Мы сами к ней приспособимся!
Глашатай Стойкий Амнион простер руку к звездам:
— Если человечество переживет этот час испытаний, нашим будущим станут не только освещенные солнцем миры, но и темные пространства между ними.
Консул вздохнул.
— На Гиперионе остались мои друзья, — сказал он спокойно. — Могу я вернуться, чтобы помочь им?
— Можете, — кивнула Свободная Дженга.
— И мне придется встретиться со Шрайком?
— Придется, — ответил Центральный Минмун.
— И выжить, чтобы увидеть эпоху хаоса?
— Обязательно, — сказал Стойкий Амнион.
Консул снова вздохнул и вместе с остальными отошел в сторону, когда огромная бабочка с крыльями из солнечных батарей и блестящей кожей, непроницаемой для сурового вакуума и смертоносного излучения, слетела с небес, чтобы доставить его к друзьям.
В лазарете Дома Правительства отец Поль Дюре спал неглубоким, навеянным транквилизаторами сном, и ему снилось море пламени и гибель миров.
Если не считать краткого визита секретаря Гегемонии и еще более краткого — епископа Эдуарда, весь день Дюре пробыл в одиночестве, то приходя в себя, то вновь соскальзывая в глубины боли. Доктора заявили, что пациенту можно будет встать только через двенадцать часов. Коллегия кардиналов на Пасеме согласилась с этим решением — поскольку пациента ожидал торжественнейший ритуал, который через двадцать четыре часа превратит иезуита Поля Дюре, уроженца Вильфранш-сюр-Сона, в папу Тейяра I, 487-го Епископа Римского, прямого преемника апостола Петра.
Потихоньку выздоравливая (его тело и нервы подвергались ускоренной регенерации посредством РНК-терапии) благодаря чудесам современной медицины (и все же не настолько чудесной, думал Дюре, чтобы остановить его сползание к смерти), иезуит лежал в постели, размышляя обо всем понемногу — о Гиперионе и Шрайке, своей долгой жизни и беспорядке, царящем в мире Божьем. В конце концов он уснул. Ему снилась горящая Роща Ботов и Истинный Глас Мирового Древа, вталкивающий его в портал, его мать и женщина по имени Семфа, работавшая когда-то на плантации Пересебо, на самой окраине Окраины, где-то к востоку от Порт-Романтика.
И во всех этих снах, по большей части печальных, Дюре неизменно чувствовал чье-то присутствие: не другого сновидения, но видящего этот сон.
Дюре шел рядом с кем-то. Воздух был прохладным, а небо пронзительно синим. Они только что миновали поворот дороги, и их взорам открылось озеро, окаймленное стройными деревьями. За деревьями громоздились горы в венце из низких облаков, придававших пейзажу глубину и драматизм. Посреди зеркальной глади виднелся одинокий островок.
— Озеро Уиндермир, — произнес спутник Дюре.
Иезуит медленно повернул голову. Его сердце, снедаемое страхом и тревогой, бешено колотилось. Однако, разглядев своего спутника, он почувствовал разочарование.
Рядом с Дюре брел невысокий молодой человек в куртке с кожаными пуговицами и широким кожаным ремнем. Прочные башмаки, потертая меховая шапка, потрепанный рюкзак, странного покроя штаны с множеством заплат, в руке — массивная трость. С плеча свисал плед. Дюре остановился, и его спутник тоже замер, по-видимому, радуясь передышке.
— Фернесские холмы и Камберлендские горы. — Молодой человек указал тростью на озеро и синевшие за ним холмы.
Дюре разглядел каштановые локоны, выбивающиеся из-под причудливой шапки незнакомца. Заглянул в его глаза — большие, светло-карие. Такой необычный рост… Дюре понимал, что это сон, но что-то мешало ему отмахнуться от странного видения.
— Кто вы… — начал он, по-прежнему чувствуя, как сильно бьется сердце.
— Джон, — представился спутник, и его приветливый спокойный голос несколько развеял тревогу священника. — Или Иоанн, как вам нравится. Я думаю, на ночь мы сумеем устроиться в Боунессе. Браун говорил, там чудесная гостиница, прямо у озера.
Дюре машинально кивнул, совершенно не понимая, о чем говорит незнакомец.
Низкорослый юноша вдруг схватил Дюре за руку, сжав ее не сильно, но настойчиво.
— Будет идущий за мною, — медленно произнес он. — Ни альфа, ни омега, но свет, который укажет нам путь.
Дюре снова кивнул. Ветер взрыхлил водную гладь, принес из предгорий запах влажной травы.
— Он родится далеко, — продолжал Джон. — Так далеко, что невозможно представить. Теперь мы с вами будем заниматься одним делом — исправлять ему путь. Вы не доживете до дня, когда этот человек начнет учить, доживет ваш преемник.
— Да, — пробормотал Поль Дюре пересохшими губами.
Юноша снял шапку и заткнул ее за пояс. Затем поднял с земли плоский камешек и зашвырнул в озеро. По воде пошли круги.
— Вот незадача! — огорченно воскликнул Джон. — Я-то хотел, чтобы он попрыгал. — Юноша обернулся к Дюре и продолжил прерванный разговор: — Вы должны покинуть больницу и без промедления вернуться на Пасем. Понимаете?
Дюре захлопал глазами. Это требование как-то не вязалось с происходящим.
— Почему?
— Не важно, — весело произнес Джон. — Просто сделайте это. Не медлите. Если вы не уйдете сейчас, потом не удастся.
Дюре растерянно обернулся, почти ожидая увидеть за спиной свою больничную койку, но там по-прежнему безмятежно синели холмы. Он перевел взгляд на невысокого худого юношу, стоявшего на берегу, усыпанном круглой галькой.
— Ну а вы?
Джон поднял еще камешек, швырнул его и присвистнул, когда галька, отскочив от поверхности, тут же канула в зеркальную воду.
— Пока мне и здесь хорошо, — сказал он скорее себе самому, чем Дюре. — Я действительно был счастлив во время этого путешествия. — И словно спустившись с небес на землю, он улыбнулся Дюре: — Идите же! Пошевелите задницей, Ваше Святейшество.
Пораженный, не зная, то ли сердиться, то ли смеяться, Дюре раскрыл было рот, чтобы отчитать нахала… и вдруг обнаружил, что лежит на больничной койке. Тускло, чтобы не тревожить больного, горела лампа. Тело было облеплено датчиками.
С минуту Дюре лежал, морщась от зуда в ожоговых струпьях. Как хорошо, что все это только сон и можно поспать еще часок-другой, а потом явится монсеньор — епископ Эдуард — со свитой и препроводит его на Пасем. Дюре закрыл глаза, и снова перед ним возникло юношеское открытое лицо со светло-карими глазами.
Отец Поль Дюре из Общества Иисуса через силу поднялся и тут заметил, что всю его одежду убрали и он может рассчитывать лишь на тоненькую больничную пижаму. Запахнувшись в одеяло, он босиком побрел к выходу, надеясь опередить медиков, которых непременно всполошат сигналы датчиков.
В приемном покое он видел служебный портал. Если он не действует, Дюре отыщет другой.
Ли Хент вынес тело Китса из полутемного подъезда на залитую солнечным светом Площадь Испании, почти уверенный, что Шрайк уже там. Но на площади была только лошадь. Хенту все лошади казались одинаковыми, поскольку этот вид животных давным-давно исчез, но он почему-то решил, что лошадь та самая, что доставила их в Рим. Тем более что запряжена она была в ту же небольшую повозку — Китс называл ее «веттура», — на которой они сюда приехали.
Хент уложил завернутое в простыни тело на сиденье, и повозка медленно тронулась. Хент пошел рядом, придерживая льняной кокон рукой. Китс просил похоронить его на протестантском кладбище — близ стены Аврелиана и пирамиды Гая Цестия. Хент смутно помнил, что во время их странного путешествия они как будто проезжали мимо стены Аврелиана, но ни за что не смог бы отыскать ее сейчас — даже ради собственного спасения. Однако лошадь шла уверенно, словно знала дорогу.
Хент брел рядом с медлительной повозкой, вдыхая свежий воздух весеннего утра, к которому примешивался какой-то запах… словно от гниющих листьев. Неужели тело уже разлагается? Он плохо разбирался в физиологии, однако неведение в этой области вполне его устраивало. Хент не удержался и хлестнул лошадь по крупу — пусть пошевеливается. Но кляча взглянула на него с укором и потащилась дальше, по-прежнему едва переставляя ноги.
Хент и сам не понял, что его встревожило — то ли какой-то звук, то ли отблеск, пойманный краем глаза. Он резко обернулся — и увидел Шрайка. Чудовище следовало за повозкой на расстоянии десяти — пятнадцати метров, приноравливаясь к черепашьему шагу лошади, с комичной торжественностью высоко вскидывая шипастые колени.
Первым побуждением Хента было бежать куда глаза глядят, но чувство долга и еще более сильный страх заблудиться перевесили. Кроме того, бежать некуда, разве что назад, на Площадь Испании. Мимо Шрайка.
Смирившись с участием чудовища в этом фантасмагорическом шествии, Хент повернулся к нему спиной и продолжал идти рядом с повозкой, крепко держа покойного за лодыжку.
Всю дорогу Хент жадно высматривал что-то хоть отдаленно напоминающее портал, какую-нибудь технику или просто следы человеческого присутствия. Тщетно. Зато иллюзия, что перед ним воистину Вечный город свежим, по-весеннему светлым февральским днем 1821 года от Рождества Христова, была полной. Лошадь, отъехав на квартал от Испанской Лестницы, поднялась на вершину холма, несколько раз сворачивала с широких проспектов в узкие переулки и снова оказалась в центре города. Повозка теперь тряслась неподалеку от исполинского кольца руин — Хент сообразил, что это и есть пресловутый Колизей.
Когда лошадь наконец остановилась, Хент, совершенно измотанный бесконечной дорогой, очнулся от полудремы и огляделся. Они находились около заросшей бурьяном груды камней — видимо, это и была стена Аврелиана. Поодаль виднелась невысокая пирамида, но протестантское кладбище — если это действительно было оно — походило, скорее, на пастбище. В тени кипарисов паслись овцы. От пронзительного звона их колокольчиков бросало в холод, несмотря на жару. Кладбище сплошь заросло высокой, по пояс, травой. Приглядевшись, Хент различил разбросанные там и сям надгробия, а совсем близко, прямо под носом у лошади, увидел свежевырытую яму около четырех футов глубиной.
Шрайк держался позади, среди кипарисов, но Хент ни на минуту не терял из виду его сверкающие красные глаза.
Он обошел лошадь, сосредоточенно жевавшую траву, приблизился к вырытой могиле и поискал глазами гроб, но его не было. От кучи земли на краю ямы пахло перегноем и сыростью. Рядом валялась лопата — словно могильщики только что ушли. В изголовье стояла гранитная плита с абсолютно чистой поверхностью. На верхнем торце блеснуло что-то металлическое. Впервые с тех пор, как они попали на Старую Землю, Хент увидел современную вещь — миниатюрное лазерное перо. Такими пользуются строители и художники для нанесения рисунка на сверхтвердые сплавы.
Он схватил перо и крепко зажал в руке. Защитит ли эта соломинка от Шрайка? Вздор. Тем не менее Хент приободрился.
Несколько минут спустя он стоял у земляной кучи, держа лопату и глядя на кокон из простыней, покоящийся на дне ямы. Хент пытался придумать хоть что-нибудь приличествующее случаю, пусть два-три искренних слова. В силу своей должности он провожал в последний путь всех сколько-нибудь выдающихся деятелей Сети и даже был автором некоторых надгробных речей, произнесенных Гладстон. Но сейчас ничего не приходило ему на ум. Всю его аудиторию составляли Шрайк, прячущийся в тени кипарисов, и овцы — шарахаясь от чудовища и звеня колокольчиками, они медленно брели к могиле, как опоздавшие на похороны родственники.
Самое лучшее было бы вспомнить несколько строк самого Джона Китса. Но политику некогда читать, а тем более запоминать всякие сонеты. И тут Хента осенило: не далее чем вчера он собственноручно записал стихотворение, продиктованное умирающим. Что-то насчет того, как стать богом… и еще про вино блаженных. Но кто в состоянии запомнить подобную чушь? Не говоря уже о том, что блокнот со стихами остался на Площади Испании, в темной комнате с разрисованным цветами потолком.
В итоге весь ритуал свелся к минуте молчания. Хент замер, склонив голову и закрыв глаза (но пару раз все же покосился на Шрайка). Затем засыпал могилу, на что ушло больше времени, чем он предполагал. Когда он напоследок хорошенько утрамбовал землю, поверхность могилы оказалась слегка вогнутой, словно хрупкое тело усопшего не смогло образовать надлежащего бугорка. Овцы терлись у ног Хента, пощипывая траву, крокусы и фиалки, которые в изобилии цвели вокруг.
У Хента сроду не было памяти на стихи, но эпитафию, которую Китс просил сделать на своем надгробии, он запомнил. Когда он впервые услышал ее, защемило сердце: в задыхающемся, истаявшем голосе поэта было столько горечи, столько одиночества. Но Хент не считал себя вправе спорить с мертвым. Его дело — сделать надпись и поскорее убраться отсюда.
Лазерное перо, включенное на пробу, выжгло в траве трехметровой ширины просеку, и Хенту пришлось ее затаптывать. Зато гранит оно резало, как масло. Хент порядком измучился, прежде чем определил на обратной стороне камня нужную глубину строки. И все равно надпись — плод двадцатиминутных стараний — вышла какая-то корявая, кустарная.
Сначала Хент нанес на камень рисунок, заказанный Китсом вместе с эпитафией, — поэт показывал ему альбомный лист с неумелыми набросками: греческая лира, четыре из восьми струн порваны. Художник из Хента получился неважный, еще хуже, чем знаток поэзии. Одна надежда — те, кто знает, с чем едят эту чертову греческую лиру, опознают ее. Ниже расположилась эпитафия — слово в слово то, что продиктовал Китс:
ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ НЕКТО,
ЧЬЕ ИМЯ
НАПИСАНО НА ВОДЕ
И ничего больше — ни даты рождения и смерти, ни даже имени. Хент отошел, окинул критическим взглядом результаты своих трудов и, зажав в руке перо, побрел назад, в город, обойдя стороной кипарисовую рощу и чудовище.
У арки в стене Аврелиана он помедлил и оглянулся. Лошадь, таща за собой повозку, спускалась по пологому склону — видимо, ее привлекла сладкая трава у ручейка. Овцы бродили меж надгробий, пощипывая цветы, клеймя своими копытцами сырую землю над свежей могилой. Шрайк стоял на прежнем месте, едва заметный в тени кипарисов. Но Хент мог бы поклясться, что чудовище не отводило глаз от могилы.
День близился к концу, когда Хент отыскал портал. Тускло-синий прямоугольник висел прямо в центре Колизея, издавая негромкое жужжание. Ни пульта, ни дискоключа. Непрозрачная, парящая над землей дверь.
Она не была заперта, но Хента не впускала.
Хент сделал не меньше пятидесяти попыток, но энергозавеса оставалась неподатливой и твердой, как камень. Он осторожно касался ее кончиками пальцев, уверенно делал шаг — однако тут же его отбрасывало обратно. Наваливался грудью на синий прямоугольник, швырял в него камни — они тоже отскакивали. Пробовал подступиться к порталу с обеих сторон, потом сбоку. И всякий раз подлая дверь отбрасывала его, пока плечи и руки Хента не превратились в сплошной синяк.
Это был портал. Самый настоящий. Но Хента он не пропускал.
Хент обшарил весь Колизей, даже подземные коридоры, точнее, подземные клоаки с жидким пометом летучих мышей, но ничего не нашел. Обошел окрестные улицы и заглянул в каждое здание. Все напрасно. Он осматривал теперь все подряд — базилики и соборы, дворцы и хижины, высокие многоквартирные дома и узкие проулки. Вернувшись на Площадь Испании, Хент наскоро перекусил, сунул в карман блокнот и еще кое-какие мелочи и покинул последнее пристанище Джона Китса, чтобы возобновить поиски.
Увы — портал в Колизее был единственным. К закату Хент принялся исступленно царапать его, пока не обломал ногти. Портал всем походил на своих собратьев — видом, жужжанием, запахом, — но Хента не пропускал ни в какую.
Взошла луна — не луна Старой Земли, ибо по ее диску катились тучи и пыльные вихри. Сейчас она висела над черной дугой стены Колизея. Хент сидел посреди заваленной обломками арены, уставившись на синий светящийся прямоугольник. Откуда-то сзади донеслось хлопанье крыльев, покатились мелкие камни.
С трудом поднявшись, Хент вытащил из кармана лазерное перо и застыл, расставив ноги, напряженно вглядываясь в сумрак бесчисленных расселин и арок Колизея. Никого.
Шум за спиной заставил его вздрогнуть — Хент резко обернулся и чуть не резанул лазерным лучом по порталу. Оттуда появилась рука. Затем нога. Кто-то вышел из портала. За ним — еще кто-то.
Вопль Ли Хента эхом прокатился по Колизею.
Мейна Гладстон понимала, что сейчас не время для отдыха, но еще в детстве она научила себя засыпать минут на десять — пятнадцать, чтобы стряхнуть напряжение и изгнать из мозга токсины усталости.
Она едва держалась на ногах; голова гудела. Свистопляска последних сорока восьми часов, кажется, доконала ее. Гладстон прилегла на диван в кабинете и принялась наводить порядок в мыслях; вытряхивать сор эмоций и всяких привходящих обстоятельств. Дремота пришла незаметно, как всегда. А вместе с дремотой — сны.
Не открывая глаз, Мейна Гладстон села, смахнув на пол вязаную шаль, и нажала на кнопку комлога.
— Седептра! Пусть генерал Морпурго и адмирал Сингх зайдут ко мне минуты через три.
Войдя в прилегающую к кабинету ванную, она приняла водный и ультразвуковой душ, достала чистую одежду — парадный костюм из мягкого черного вельвета и сверкающий шитьем красный сенатский шарф, прикалываемый золотой булавкой в виде геодезической линии — символа Гегемонии. Туалет дополняли древние серьги со Старой Земли и топазовый браслет с комлогом, подаренный ей сенатором Байроном Броном еще до его женитьбы… Поправляя серьги, Гладстон вернулась в кабинет, и в ту же самую минуту туда вошли оба командующих ВКС.
— Должен заметить вам, госпожа секретарь, что ваш вызов не очень-то кстати, — резко заявил Сингх. — Идет анализ последних данных с Безбрежного Моря. Кроме того, мы обсуждаем необходимые перегруппировки флота для обороны Асквита.
Гладстон молча включила личный портал и жестом пригласила обоих следовать за нею.
Ступив в золотую траву под тревожным бронзовым небом, Сингх завертел головой.
— А-а, Кастроп-Роксель, — догадался он наконец. — Ходили слухи, что по приказу предыдущей администрации сюда провели секретный нуль-канал.
— Именно. А секретарь Сената Евшиньский распорядился включить планету в состав Сети, — пояснила Гладстон. Она взмахнула рукой, и портал исчез. — Он считал, что секретарю Сената совершенно необходимо оставаться порой в одиночестве, не опасаясь подслушивающих устройств Техно-Центра.
Морпурго с беспокойством покосился на облака, стеной нависшие над горизонтом, где вспыхивали шаровые молнии.
— На свете нет такого места, куда бы не пролез Техно-Центр, — заметил он. — Мейна, я поделился с адмиралом Сингхом нашими подозрениями.
— Это не подозрения, — спокойно возразила Гладстон. — Это факты. Более того: мне известно, где находится Техно-Центр.
Оба командующих ВКС остолбенели, словно пораженные шаровой молнией.
— Где?
Гладстон принялась расхаживать взад-вперед. Ее короткие серебристые пряди светились в заряженном электричеством грозовом воздухе.
— Техно-Центр прячется в нуль-сети, — деловито сказала она. — Между порталами. ИскИны живут в сингулярном псевдомире как пауки в паутине. А мы ткем ее для них.
Первым обрел дар речи Морпурго.
— Дьявольщина, — почти простонал он. — Что же делать? Через неполные три часа факельщик с нейродеструктором на борту будет переброшен в систему Гипериона.
Гладстон лаконично изложила им план действий.
— Невозможно, — пробормотал Сингх, теребя короткую бородку. — Абсолютно невозможно.
— Не уверен, — возразил ему Морпурго. — Должно получиться. Времени достаточно. А корабли последние двое суток маневрировали так бестолково, что…
Адмирал упрямо покачал головой.
— С технической точки зрения ваш план вполне осуществим. В рациональном и этическом аспектах — порочен. Об этом не может быть и речи.
Мейна Гладстон подошла к нему совсем близко.
— Кушуонт, — обратилась она к адмиралу по имени — впервые с тех пор, когда была молодым сенатором, а он еще более молодым капитаном ВКС 3-го ранга, — вы разве забыли, как сенатор Брон свел нас с Ортодоксами? С ИскИном по имени Уммон? Вспомните его предсказание о двух вариантах будущего — хаосе или неизбежном истреблении человечества.
Сингх отвел глаза.
— Я служу ВКС и Гегемонии.
— Мы оба служим роду человеческому, — отрезала Гладстон.
Руки Сингха, сжатые в кулаки, взлетели вверх, словно он готовился схватиться с невидимым противником.
— Ведь это только предположения! Откуда у вас эта информация?
— От Северна, — бесстрастно ответила Гладстон. — Кибрида.
— Кибрида? — фыркнул генерал. — Ах да, господин Северн. Художник. Припоминаю.
— Кибрид, — повторила Гладстон и рассказала все.
— Северн — воскрешенная личность? — В голосе Морпурго сквозило недоверие. — Вы, что, разыскали его? Каким образом?
— Он меня разыскал. Во сне. Одному Богу известно, как ему удалось связаться со мной. Это была его миссия, поймите, Артур, и вы, Кушуонт. Вот почему Уммон послал его в Сеть.
— Сон. — Адмирал Сингх не мог скрыть саркастическую улыбку. — Значит, этот… кибрид… рассказал вам, что Центр прячется в нуль-сети. И все во сне.
— Да, — подтвердила Гладстон. — У нас с вами очень мало времени.
— Но, — вмешался Морпурго, — если сделать то, что вы предлагаете…
— Миллионы будут обречены, — жестко закончил Сингх. — Возможно, даже миллиарды. Экономика рухнет. Такие миры, как ТКЦ, Возрождение-Вектор, Новая Земля, оба Денеба, Новая Мекка и, кстати, твой Лузус, Артур, всецело зависят от поставок продуктов питания. Планеты-города не выживут поодиночке.
— В виде планет-городов — нет, — согласилась Гладстон. — Но они могут обзавестись фермами, а потом возродится и межзвездная торговля.
— Ерунда! — отрезал Сингх. — О какой жизни может идти речь после чумы, после безвластия и смуты! Как жить без инфосферной поддержки, без техники и лекарств?
— Я все обдумала. — Морпурго ни разу не слышал в голосе Гладстон такой решимости. — Это будет величайшая катастрофа в истории человечества — еще масштабнее, чем все деяния Гитлера, Цзы Ху или Горация Гленнон-Хайта вместе взятые. Единственное, что может быть хуже, — оставить все как есть. Тогда я и вы, господа, окажемся самыми гнусными предателями человечества.
— Мы же ничего не знаем наверняка, — пробормотал Кушуонт Сингх.
— Знаем. — Гладстон не отрывала глаз от лица адмирала. — Техно-Центру больше не нужна Сеть. Ренегаты и Богостроители оставят в живых несколько миллионов рабов, загонят под землю на девяти лабиринтных мирах и будут использовать их нейроны для своих потребностей.
— Нелепость, — возразил Сингх. — Эти люди рано или поздно умрут.
Мейна Гладстон вздохнула и покачала головой.
— Техно-Центр создал органического паразита, так называемый крестоформ. Он… воскрешает мертвых. Спустя несколько воскрешений люди станут безучастными ко всему идиотами, но их мозги не перестанут работать на Техно-Центр.
Сингх отвернулся от собеседников. На фоне стены бронзовых облаков, среди которых вспыхивали молнии, его невысокая фигура казалась изваянной из черного камня. Приближалась буря.
— Вы узнали это из сна, Мейна?
— Да.
— И что еще вам поведали сны?
— Что Сеть больше не нужна Техно-Центру, — устало повторила Гладстон. — Во всяком случае, наша Сеть. ИскИны останутся в ней, как крысы в стенах дома, а прежние хозяева больше не нужны. Основные расчетные функции возьмет на себя их Высший Разум.
Сингх быстро повернулся к ней:
— Вы помешались, Мейна. Окончательно обезумели!
Гладстон схватила адмирала за руку прежде, чем он успел включить портал.
— Кушуонт, пожалуйста, послушайте…
Сингх выхватил из-за пазухи пистолет и приставил к груди женщины.
— Простите, госпожа секретарь, но я служу Гегемонии и…
Гладстон попятилась, прижав руку ко рту, а адмирал Кушуонт Сингх, умолкнув на полуслове, рухнул в траву. Пистолет отлетел в сторону.
Морпурго поднял пистолет и заткнул за пояс свой «жезл смерти».
— Вы убили его, — беззвучно проговорила Гладстон. — Зачем, Артур? Откажись он наотрез сотрудничать с нами, я бы оставила его здесь. Одного.
— Мы не можем рисковать. — Генерал оттащил тело подальше от портала. — В ближайшие несколько часов все решится.
Гладстон смотрела на старого друга.
— Вы согласны на это пойти?
— Не все ли равно? У нас попросту нет выбора. — Морпурго был странно спокоен. — Это наш последний шанс избавиться от рабского ярма. Я немедленно отдам приказ о развертывании флота и лично передам всем командирам запечатанные приказы. Придется задействовать большую часть кораблей…
— Боже мой, — прошептала Мейна Гладстон, глядя вниз на безжизненное тело Сингха. — Я затеяла все это, основываясь на снах…
— Иногда, — генерал Морпурго взял старую женщину в красно-золотом шарфе под руку, — сны — единственное, что отличает нас от машин.
Глава 44
Как выяснилось, смерть — приключение не из приятных. Представьте, что вы сидите вечером в своем теплом уютном доме, и вдруг пожар или наводнение выбрасывают вас наружу. Так вышвырнули меня из привычной квартиры на Площади Испании, из моего быстро остывающего тела. Мучительное ощущение стремительного и внезапного перехода в иной мир. В метасферу. От своей нежданной, конфузящей наготы я испытываю чувство стыда, знакомое каждому по дурным снам — когда являешься в присутствие или в гости и вдруг обнаруживаешь, что стоишь перед всеми в чем мать родила.
«Нагота» самое подходящее слово для моего теперешнего состояния, и я пытаюсь придать хоть какую-то форму своей изодранной аналоговой личности. Собрав всю волю, мне удается сгустить это электронное облако случайных воспоминаний и ассоциаций в некоторое подобие того, кем я был, или по крайней мере того, чьи воспоминания принадлежат и мне.
В мистера Джона Китса, пяти футов роста.
В метасфере все так же жутко. Пожалуй, еще хуже, ибо теперь мне некуда, не во что отступать — мое плотское убежище лежит в могиле. За темными горизонтами мелькают исполинские тени, каждый звук отзывается эхом в Связующей Пропасти, словно шаги в коридорах заброшенного замка. И надо всем и позади всего — постоянное, режущее слух громыхание — точно телега катит по вымощенной шифером дороге.
Бедняга Хент. Мне хочется вернуться к нему и, ошеломив своим появлением, уверить, что я чувствую себя лучше, чем кажется, но соваться на Старую Землю опасно: знак присутствия Шрайка пылает в киберпространстве метасферы, как факел на фоне черного бархата.
Техно-Центр вызывает меня все настойчивее, но там еще опаснее. Я помню, как Уммон уничтожил другого Китса прямо на глазах Ламии Брон: всосал аналоговую личность в себя, и базисные файлы человека растворились, как сахар в кипятке.
Нет уж, увольте.
Я предпочел смерть статусу божества, но прежде чем уснуть, должен кое-что сделать.
Метасфера — жуткое место. Техно-Центр — еще хуже. Стоит вспомнить темные туннели сингулярностей, и мое аналоговое сердце уходит в пятки. Но тут уж ничего не поделаешь.
Я прыгаю в первый черный конус, кружусь, подобно метафорическому листу в чрезмерно реальном вихре, и выныриваю в нужном киберпространстве, но такой обессиленный, что приходится сидеть на виду у всех ИскИнов, пользующихся сейчас этим узлом долговременной памяти, и фагов, обитающих в фиолетовых расщелинах горных инфохребтов. Однако меня выручает царящий в Техно-Центре хаос: исполинские личности Центра слишком заняты своими троянскими войнами, чтобы следить за черным ходом.
Я нахожу необходимые коды доступа к инфосфере и нужные мне пуповины синапсов, остальное — дело микросекунд. По проторенной дорожке — к Центру Тау Кита, Дому Правительства, тамошнему лазарету и — в усыпленное снотворным сознание Поля Дюре.
Единственное, к чему у моей личности исключительный талант, — это сны и сновидения. Совершенно случайно я обнаруживаю, что из моих воспоминаний о шотландском путешествии получится приятный фон для сцены внушения священнику мысли о бегстве. Будучи англичанином и вольнодумцем, я когда-то на дух не переносил всего связанного с папизмом, но у иезуитов есть одно бесспорное достоинство — для них повиновение превыше здравого смысла, и сейчас это послужило на пользу человечеству: когда я приказываю ему идти, Дюре не вопрошает «почему»… Как послушный мальчик, он встает, заворачивается в одеяло и идет.
Мейна Гладстон воспринимает меня в своем кратком сне-забытьи как Джозефа Северна, но выслушивает так, словно я ниспослан самим Господом Богом. Мне хочется открыть ей, что я — не Он, а только предтеча, но сообщение важнее: я выпаливаю его одним духом и удаляюсь.
Следуя через Техно-Центр по дороге в метасферу Гипериона, я улавливаю запах горящего металла — отвратительную вонь гражданской войны — и краем глаза вижу ослепительную вспышку, которая вполне может оказаться Уммоном в процессе казни. Старый Учитель, если это действительно он, уже не цитирует коаны, но кричит — столь же пронзительно, как кричало бы любое другое разумное существо, которое отправляют в печь. Но я спешу.
Нуль-канал на Гиперион превратился в тоненькую нить: под натиском кораблей Бродяг израненные факельщики Гегемонии сбились в кучу возле военного портала и подбитого корабля-«прыгуна». Сфера сингулярности не продержится и нескольких минут. Факельщик с нейродеструктором на борту готовится перейти в систему, а я тем временем выбираю себе наблюдательный пункт в местной инфосфере. Посмотрю, что будет дальше.
— Боже! — воскликнул Мелио Арундес. — Экстренное заявление Мейны Гладстон.
Тео Лейн бросился в проекционную нишу, где уже сгущался туман. Из своей спальни выглянул Консул и, разобравшись, в чем дело, начал спускаться по винтовой лестнице.
— Еще одна мультиграмма с ТКЦ? — спросил он.
— Не только нам, — ответил Тео, считывая бегущую строку красных цифр. — Срочное обращение по мультилинии. Всем, всем, всем.
— Видно, что-то чрезвычайное. Секретарь Сената когда-нибудь выступала с передачей на всех частотах? — спросил Арундес, устраиваясь поудобнее на подушках.
— Ни разу, — ответил Тео Лейн. — Слишком много энергии уходит на поддержание мультилинии. Разве что в импульсном режиме…
Консул подошел ближе и указал на тающие цифры:
— Какие там импульсы! Смотрите, это передача в реальном времени.
Тео замотал головой.
— Для такой передачи требуется несколько сот миллионов гигаэлектронвольт.
Арундес присвистнул.
— Даже если в десять раз меньше, это все равно что-то из ряда вон выходящее.
— Общая капитуляция, — выдохнул потрясенный Тео. — Это единственное, для чего требуется передача в реальном времени на всех частотах. Гладстон хочет обратиться к Бродягам, мирам Окраины и независимым планетам, а также ко всем мирам Сети. Должно быть, задействованы все комм-каналы, головидение и даже частоты инфосферы. Наверняка капитуляция.
— Извольте заткнуться, — прервал его Консул.
Он начал пить сразу после того, как вернулся с заседания Трибунала. Арундес и Тео бросились тогда его обнимать, но мрачное расположение духа Консула ничуть не изменилось. Не улучшили его ни взлет и выход из Роя, ни виски.
— Мейна Гладстон не капитулирует, — заплетающимся языком пробормотал он, помахивая бутылкой. — Выдумали тоже — капитуляция.
На факельщике ВКС Гегемонии «Стивен Хоукинг», двадцать третьем корабле Гегемонии, носившем имя высокочтимого ученого, генерал Артур Морпурго поднял глаза от пульта и приказал двум дежурным на мостике соблюдать абсолютную тишину. Теперь, когда в бомбовый отсек погрузили «жезл смерти» Техно-Центра, в команде остались он сам и четверо добровольцев. Экраны и негромкий шепоток компьютеров подтверждали, что «Стивен Хоукинг» на полной скорости несется к военному порталу, размещенному в точке Лагранжа между планетой Мадхья и ее непропорционально крупной луной. Портал Мадхья выходил прямо в пространство Гипериона, где кипел бой.
— Одна минута восемнадцать секунд до точки перехода, — доложил с мостика штурман Соломон Морпурго. Старший сын генерала.
Морпурго кивнул и настроился на местный широкополосный передатчик. Проекторы мостика транслировали стратегическую информацию, поэтому генерал включил только аудиоканал. Он невольно улыбнулся. Что сказала бы Мейна, узнав, что он сам стоит у пульта «Стивена Хоукинга»? Пусть лучше не знает. По-другому он поступить не мог. Он не хотел видеть последствия своих приказов.
Морпурго взглянул на сына и ощутил прилив гордости, смешанной с болью. За считанные часы трудно подобрать надежных офицеров, способных управлять факельщиком. Его сын вызвался первым. Возможно, энтузиазм семейства Морпурго хоть немного развеял подозрения Техно-Центра.
— Друзья мои, сограждане, — раздался голос Гладстон, — в последний раз обращаюсь я к вам в качестве секретаря Сената. Ужасная война, которая опустошила уже три из наших миров и вот-вот обрушится на четвертый, считалась вторжением Бродяг, но это не так. Это ложь.
Частоты комм-связи отключились, захлебнувшись в помехах.
— Переходите на мультилинию, — распорядился генерал Морпурго.
— Одна минута три секунды до точки перехода, — доложил его сын.
Голос Гладстон возвратился отфильтрованный, чуть стершийся от кодирования и раскодирования.
— …осознать, что наши предки… и мы сами… заключили Фаустову сделку с силой, которой нет дела до судеб человечества.
За этим вторжением стоит Техно-Центр.
На Техно-Центре лежит вина за долгую эпоху комфортабельной духовной тьмы, за попытку истребить человечество, стереть нас с лица вселенной и заменить богом-машиной, которого они создали.
Штурман Соломон Морпурго ни на мгновение не отрывал глаз от приборов.
— Тридцать восемь секунд до точки перехода.
Морпурго кивнул. Лица двух других офицеров блестели от пота. Генерал и сам чувствовал, что лоб его покрылся испариной.
— …доказали, что Техно-Центр находится… и всегда находился… в темных промежутках между порталами нуль-Т. Они считают нас своими рабами, и так будет всегда, пока существует Сеть, пока наша Гегемония соединена порталами.
Морпурго бросил взгляд на хронометр. Двадцать восемь секунд. Переход в систему Гипериона для человеческих органов чувств будет мгновенным. Морпурго не сомневался, что «жезл смерти» каким-то образом настроен на детонацию в самый миг их входа в пространство Гипериона. Летальная ударная волна достигнет планеты меньше чем за две секунды, а еще через десять минут захлестнет Рой Бродяг до самого его арьергарда.
— Поэтому, — голос Мейны Гладстон дрогнул от волнения, — я как секретарь Сената Гегемонии Человека дала «добро» подразделениям ВКС на уничтожение всех сфер сингулярности и порталов нуль-Т, о существовании которых нам известно.
— Эта ликвидация… своего рода прижигание… начнется через десять секунд.
— Боже, спаси Гегемонию.
— Да смилуется над нами Бог.
Штурман Соломон Морпурго хладнокровно доложил:
— Пять секунд до перехода, отец.
Морпурго встретился взглядом с сыном. На экране за спиной юноши маячил портал. Он все рос, рос, расширялся. Вот он уже закрыл полнеба.
— Мальчик мой, — произнес генерал.
* * *
Двести шестьдесят три сферы сингулярности, соединявшие семьдесят два миллиона с лишним порталов нуль-Т, были уничтожены в течение двух и шести десятых секунды. Подчиняясь приказам в конвертах, которые надлежало вскрыть за три минуты до исполнения, подразделения ВКС, развернутые генералом Морпурго по распоряжению секретаря Сената, действовали быстро и профессионально. Хрупкие додекаэдры крушили снарядами, лазерами, плазменными бомбами.
Не успели разлететься обломки, как сотни звездолетов ВКС оказались отрезанными друг от друга и от какой-либо планетной системы неделями и даже месяцами полета в спин-режиме — и годами объективного времени.
Тысячи людей, которые в этот момент пользовались порталами, попали в капкан. Одни погибли мгновенно, расчлененные или разорванные пополам, другие лишились конечностей — порталы схлопывались перед ними или позади них. Третьи бесследно исчезли.
Так исчез и корабль Гегемонии «Стивен Хоукинг» — точно в соответствии с планом, — когда умелая рука уничтожила порталы входа и выхода в наносекунду перехода корабля. В реальном пространстве не осталось даже малейшего следа факельщика. Позднейшие эксперименты показали, что так называемый «жезл смерти» был детонирован во внутреннем пространстве-времени Техно-Центра, в странной вселенной между порталами.
Последствия для Техно-Центра остались неизвестны.
Зато Сеть и ее граждане столкнулись с последствиями мгновенно.
После семи веков существования инфосферы (по меньшей мере четыре из которых без нее уже не мыслили жизни) она исчезла, растаяла в воздухе вместе с Альтингом, всеми инфоканалами, подключениями и связями. В этот миг сотни тысяч граждан лишились разума или впали в кататонический шок — исчезло нечто заменявшее им зрение и слух.
Еще сотни тысяч киберпространственных операторов, включая так называемых хакеров и системных ковбоев, впали в идиотизм: их аналоговые личности утащила за собой инфосфера. У иных выгорел мозг из-за перегрузки нейрошунтов и эффекта, позднее получившего название «нуль-нуль» обратной связи.
Миллионы погибли в своих жилищах, в которые можно было попасть только через порталы и которые превратились в западню.
Епископ Церкви Последнего Искупления — глава культа Шрайка — хотел пересидеть Последние Дни с комфортом. На севере Невермора, глубоко под хребтом Ворона, в толще горы была выдолблена пещера, куда свезли тонны припасов и всего необходимого столь важной персоне. Единственным входом и выходом, естественно, являлись порталы. Епископ погиб вместе с несколькими-тысячами дьяконов, экзорцистов, причетников и служек, которые царапали камень, пытаясь попасть во Внутреннее Святилище и заставить своего Святого Отца поделиться с ними воздухом.
Миллионерша, динозавр издательского дела Тирена Вингрен-Фейф, дама девяностосемилетнего возраста, растянувшая свое пребывание на сцене на триста лет благодаря чудесам поульсенизации и криогенному сну, имела неосторожность явиться в свой офис на четыреста тридцать пятом этаже Транслайн-Билдинга на ТКЦ, куда можно было попасть только через портал. Пятнадцать часов Тирена не могла поверить, что нуль-Т приказала долго жить, потом, поддавшись телефонным уговорам сотрудников, отключила силовые стены, чтобы ее смогли забрать с ТМП.
Но Тирена невнимательно выслушала указания снизу. Взрывная декомпрессия выбросила ее с четыреста тридцать пятого этажа, как пробку из бутылки с хорошим шампанским. Бригада спасателей в магнитоплане клялась, что все четыре минуты падения старая дама ругалась последними словами.
Большинство миров узнало новые, неизведанные доселе виды хаоса.
Основная часть экономики Сети развалилась вместе с местными инфосферами и мегасферой. Триллионы марок — и заработанных тяжелым трудом, и неправедных — просто перестали существовать. Отмерли универсальные карточки. Бытовые приборы и машины захлебывались, хрипели и останавливались. Оказалось невозможным расплатиться за хлеб, купить билет в общественном транспорте, уладить простейшие дела или получить какие-нибудь услуги без монет или банкнот черного рынка.
Но тотальный экономический кризис, свирепый, словно цунами, проявил себя не сразу, его еще предстояло осмыслить. Для большинства семей катастрофа дала знать о себе сразу и куда более ощутимо.
Отец или мать семейства, которые утром, как обычно, отправились, скажем, с Денеба-IV на Возрождение-Вектор, могли вернуться домой лишь через одиннадцать лет — и то при условии, что им удалось бы сразу же пробиться на один из спин-звездолетов, все еще курсировавших между мирами.
Члены зажиточных семейств, слушая речь Гладстон в своих фешенебельных мультимировых апартаментах, переглядывались… и оказывались на расстоянии многих световых лет друг от друга, а двери их комнат открывались в пустоту…
Детям, выбежавшим из дома на несколько минут, суждено было стать взрослыми прежде, чем они смогут снова обнять мать и отца.
Гранд-Конкурс, и без того пострадавший от ветров войны, разорвало в клочья; бесконечный пояс его умопомрачительных магазинов и престижных ресторанов распался на звенья, которым не суждено было соединиться.
Реки Тетис больше не существовало — гигантские порталы стали непрозрачными и исчезли. Вода залила берега, высохла, и под светом двух сотен солнц на месте былых стремнин и заводей виднелись теперь груды гниющей рыбы.
Начались беспорядки. Лузус разорвал себя на части подобно волку, пожирающему собственные внутренности. Новая Мекка истаяла в конвульсиях массового мученичества. Циндао-Сычуаньская Панна отпраздновала избавление от орд Бродяг, повесив на деревьях и фонарях несколько тысяч бывших чиновников Гегемонии.
На Мауи-Обетованной тоже возникли беспорядки, но другого рода. Сотни тысяч потомков Первых Семей овладели плавучими островами, чтобы изгнать чужестранцев, захвативших большую часть планеты. Позже миллионы растерянных, в одночасье обнищавших курортников были брошены на работы по демонтажу тысяч буровых вышек и туристских центров, усеявших Экваториальный Архипелаг, подобно оспе.
Возрождение-Вектор отделалось краткой вспышкой насилия, за которой последовали эффективные реформы. Жители всерьез взялись за решение проблемы — как прокормить планету-город без ферм.
Города Нордхольма опустели, люди вернулись на побережье, к холодному морю и рыбацким шхунам своих предков.
На Парвати вспыхнула гражданская война.
На Седьмой Дракона царило ликование, отдававшее безумием. Грянула революция, за которой последовала эпидемия ретровирусной чумы.
Фудзи погрузилась в философическое смирение. Здесь сразу же начали строить орбитальные верфи для создания флота спин-звездолетов.
На Асквите смута принесла победу Социалистической лейбористской партии в мировом парламенте.
На Пасеме молились. Новый папа, его святейшество Тейяр I, созвал Вселенский (XXXIX Ватиканский) собор и объявил о начале новой эры в жизни Церкви. Он уполномочил собор заняться подготовкой миссионеров, которым предстояло отправиться в долгие путешествия, — сотен и тысяч миссионеров. Папа Тейяр объявил, что они никого не будут обращать в свою веру, но займутся изысканиями и научными исследованиями. Церковь, подобно многим существам, привыкшим жить на грани вымирания, приспосабливалась и пребывала.
На Темпе — смута, бойня, в силу вошли демагоги.
На Марсе генштаб какое-то время поддерживал мультисвязь со своими разбросанными по Вселенной силами. Именно он подтвердил, что «волны вторжения Бродяг» повсюду, за исключением системы Гипериона, немедленно улеглись. Перехваченные корабли Техно-Центра оказались пустыми, а память их компьютеров стертой. Вторжение прекратилось, будто его и не было.
На Метаксе начались беспорядки и репрессии.
На Кум-Рияде самозваный шиитский аятолла, выехав на белом осле, собрал сто тысяч приверженцев и за несколько часов сверг правительство суннитов. Революционное правительство восстановило власть мулл и перевело стрелки часов на две тысячи лет назад. Народ торжествовал.
На Армагасте, пограничном мире, дела шли, в общем, как обычно, только вот не хватало туристов, археологов и других привозных предметов роскоши. Армагаст был лабиринтным миром. Его лабиринт остался пуст.
В Новом Иерусалиме, орбитальной столице Хеврона, возникла паника, но старейшины быстро восстановили порядок в городе и на планете. Была составлена программа выживания. Те немногие предметы первой необходимости, которые раньше поступали с других миров, распределялись по карточкам. Люди принялись осваивать пустыню, расширять фермы, сажать деревья. Они жаловались друг другу на свои невзгоды, благодарили Бога за избавление, роптали на того же Бога за неудобства, которые это избавление принесло, — в общем, жили привычной жизнью.
На Роще Богов по-прежнему пылали целые континенты, заволакивая небеса дымом. Не успел остыть след последнего из «Роев», как за облака взмыли десятки кораблей-деревьев, защищенных силовыми полями, которые создавали эрги. Термоядерные двигатели вывели их на орбиту, и они, перейдя в спин-режим, разлетелись по всей Галактике. К далеким, напряженно ожидающим вести Роям полетели тамплиерские мультиграммы. Началось возрождение жизни.
На Центре Тау Кита, средоточии власти, богатства, предпринимательства и бюрократии, ошалелые голодные жители покидали опасные экобашни, бездействующие города и орбитальные поселения и отправлялись искать виновного. Иными словами — козла отпущения.
Далеко ходить не пришлось.
* * *
Когда порталы были разрушены, генерал Ван Зейдт находился в Доме Правительства. Теперь он стоял во главе гарнизона из двух сотен морских пехотинцев и шестидесяти восьми охранников. Бывшего секретаря Сената Мейну Гладстон сопровождали шесть преторианцев — их прикрепил к ней Колчев, отбывший вместе с видными сенаторами на первом и последнем прорвавшемся челноке ВКС. Разъяренная толпа разжилась где-то ракетами класса «земля — космос» и боевыми лазерами. Ни один из трех тысяч служащих и беженцев не мог покинуть комплекс Дома Правительства. Им оставалось уповать лишь на силовые заграждения.
Гладстон стояла на передовом наблюдательном пункте и следила за давкой в Оленьем парке. Зрелище было кровавое. По меньшей мере трехмиллионная толпа уже успела разгромить английский сад и большую часть парка и теперь напирала на заграждения. А народ все прибывал и прибывал.
— Можно ли отодвинуть поля метров на пятьдесят и тут же восстановить, прежде чем толпа проникнет на территорию? — спросила Гладстон Ван Зейдта. С запада тянулся дымный шлейф от горящих городов. Нижние два метра людского месива походили на прослойку из клубничного джема: уже тысячи были раздавлены, прижатые к силовому щиту напиравшей сзади обезумевшей толпой. Но десятки тысяч других, несмотря на мучительную боль в нервах и костях, вызываемую заградительным полем, карабкались на трупы и как бешеные бросались на невидимую преграду.
— Да, конечно, госпожа секретарь, — ответил Ван Зейдт. — Но зачем?
— Я выйду поговорить с ними. — Голос Гладстон дрожал от усталости.
Генерал уставился на нее, уверенный, что это просто неудачная шутка.
— Госпожа секретарь, возможно, они будут готовы выслушать вас через месяц… по радио или головидению. Через год, а то и два, они простят вас, если, конечно, воцарится порядок, а пайки окажутся достаточно щедрыми. Но только спустя века до них наконец дойдет, что именно вы их спасли… Спасли всех нас!
— Я хочу говорить с ними, — настойчиво повторила Мейна Гладстон. — У меня есть что им сказать.
Ван Зейдт покачал головой и взглянул на офицеров ВКС, которые наблюдали за толпой через смотровые щели бункера. Их лица выражали ужас и недоумение.
— Нужна санкция секретаря Колчева, — сказал Ван Зейдт.
— Нет, — устало возразила Мейна Гладстон. — Он правит империей, которой уже нет. А я — миром, который сама погубила. — Она кивнула преторианцам, и те извлекли из-под своих оранжевых в черную полоску накидок «жезлы смерти».
Ни один из офицеров ВКС не шевельнулся. Тогда Ван Зейдт умоляюще воскликнул:
— Мейна, следующий эвакуационный корабль пробьется!
Гладстон кивнула, но как-то рассеянно.
— Думаю, внутренний сад подойдет. На несколько минут толпа угомонится: отступление защитных полей собьет ее с толку. — Она огляделась вокруг, словно проверяя, все ли сделала, затем протянула руку Ван Зейдту: — Прощайте, Марк. Спасибо вам. Позаботьтесь о моих людях.
Ван Зейдт пожал ее руку. Гладстон поправила шарф, легко — словно на счастье — коснулась браслета своего комлога и вышла из бункера, сопровождаемая четырьмя преторианцами. Маленький отряд пересек вытоптанные сады и медленно двинулся к силовым стенам. Напиравшая с дикими воплями на фиолетовое заградительное поле толпа напоминала взбесившееся тысячеголовое животное.
Гладстон повернулась, подняла руку, словно для салюта, и приказала преторианцам отойти. Те поспешили отступить по развороченным клумбам.
— Давайте же! — сказал командир оставшихся в бункере преторианцев, указав на пульт дистанционного управления силовым полем.
— Пошли вы к черту! — четко произнес Ван Зейдт. Пока он жив, никто не коснется пульта.
Но Ван Зейдт забыл, что Гладстон все еще имела доступ ко всем тактическим цепям. Он успел заметить, как она подняла свой комлог… На пульте замигали красные и зеленые огоньки, внешние поля растаяли и тут же вновь возникли на пятьдесят метров ближе к зданию. Мейна Гладстон осталась наедине с миллионами осаждающих, отделенная от них только узкой полоской лужайки и завалами из бесчисленных трупов, с глухим шумом рухнувших на землю после передвижения защитных стен.
Гладстон раскинула руки, словно обнимая толпу. На три бесконечные секунды все замерли. Затем толпа взревела и ринулась вперед, потрясая палками, ножами, разбитыми бутылками.
На какой-то миг Ван Зейдту показалось, что Гладстон застыла несокрушимой скалой на пути океанского прибоя черни. Он видел ало-золотое пятно ее шарфа на черном костюме, видел, как она стоит, прямая, раскинув руки, но тут подоспели новые тысячи бесноватых, и кольцо сомкнулось.
Преторианцы опустили жезлы и были немедленно арестованы морскими пехотинцами.
— Затемните силовые поля, — приказал Ван Зейдт. — Передайте, пусть челноки садятся во внутреннем саду с пятиминутными интервалами. Торопитесь! — И генерал отвернулся.
— Боже милостивый! — Тео Лейн комментировал обрывочные сообщения, поступающие по мультилинии. Миллисекундные импульсы шли один за другим, так что компьютер не мог расчленить их. Информация слилась в бесформенное месиво.
— Прокрути еще раз ликвидацию сферы сингулярности, — попросил Консул.
— Слушаюсь, сэр. — Корабль прервал трансляцию, чтобы снова показать белую вспышку, распускающееся облако и внезапный коллапс: сингулярность поглотила самое себя и все находящееся в радиусе шести тысяч километров. Приборы на мгновение обезумели — но на таком расстоянии гравитационный прилив не представлял опасности, а вот кораблям, сражавшимся над Гиперионом, явно не поздоровилось.
— Достаточно, — сказал Консул.
— Вы думаете, все кончено? — спросил Арундес.
— Вне всякого сомнения, — ответил Консул. — Гиперион снова стал Окраиной. Но чего?.. Ведь Сети больше не существует.
— В голове не укладывается, — пробормотал Тео Лейн, сжимая в руке стакан; Консул впервые видел своего помощника пьяным. Тео подлил себе еще виски. — Сеть… испарилась. Пятьсот лет прогресса… просто взяли и вычеркнули.
— Отчего же? — возразил Консул и отставил свой недопитый стакан. — Миры же остались. И будут развиваться дальше, правда, по отдельности. И у нас есть спин-звездолеты. Наше собственное изобретение, а не полученное в дар от Техно-Центра.
Мелио Арундес уронил голову на руки.
— Неужели Техно-Центр и в самом деле исчез? Уничтожен?
Консул помолчал с минуту, прислушиваясь к воплям, жалобам, командам и крикам о помощи с аудиоканала мультилинии.
— Трудно сказать. Может, не уничтожен, а просто отрезан, заперт, — предположил он.
Тео, допив свое виски, осторожно поставил стакан на стол. В зеленых глазах бывшего генерал-губернатора застыло какое-то неживое спокойствие.
— Думаете… у них есть другая паутина? Другие нуль-сети? Запасные Техно-Центры?
Консул развел руками.
— Нам известно, что им удалось создать Высший Разум. Возможно, он и способствовал этому… рассеиванию Техно-Центра. Не исключено, что он сохранил несколько старых ИскИнов — для его нужд этого вполне достаточно. Ведь они собирались обойтись несколькими миллиардами человек.
Внезапно шум мультипередач оборвался — словно обрезали провод.
— Корабль? — спросил Консул, подозревая, что вышло из строя питание мультиприемника.
— Все передачи по мультилинии прекратились, оборвались на полуслове, — доложил звездолет.
Сердце Консула забилось. «Жезл смерти»! Но нет, он не может поразить все миры разом. Даже если бы сотни таких устройств сработали одновременно, с кораблей ВКС и других отдаленных источников сообщения продолжали бы поступать. Тогда что же?
— Представляется, что сообщения прерваны из-за возмущений в передающей среде, — вновь подал голос корабль. — Хотя вряд ли такое возможно.
Консул встал. Возмущения в передающей среде? Передающей средой мультилинии, насколько известно, являлась суперструнная Планковская структура самого пространства-времени: то, что ИскИны загадочно именовали Связующей Пропастью. Нет, это невозможно.
Внезапно корабль объявил:
— Начало поступать сообщение по мультилинии. Источники передачи — повсюду; режим передачи — реальное время.
Возмущенный столь бредовым заявлением Консул открыл было рот, но не успел ничего сказать — туман в проекционной нише сгустился, и раздался голос:
ВПРЕДЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО КАНАЛА НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. ВЫ МЕШАЕТЕ ТЕМ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ИМ В СЕРЬЕЗНЫХ ЦЕЛЯХ. ДОСТУП БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН, КОГДА ВЫ ПОЙМЕТЕ, ДЛЯ ЧЕГО ОН. ДО СВИДАНИЯ.
Трое мужчин замерли. Воцарившуюся тишину нарушали лишь шум вентиляторов да тысячи еле слышных звуков, производимых кораблем в полете. Наконец Консул сказал:
— Корабль, дай по мультилинии стандартный опознавательный и наши координаты. Добавь: «Принявших прошу ответить».
Наступила пауза — недопустимо долгая для сверхмощного компьютера — почти ИскИна, которым в сущности являлся корабль. Наконец он ответил:
— Простите, это невозможно.
— Что такое? — изумился Консул.
— Дальнейшие передачи по мультилинии невозможны. Суперструны перестали воспринимать колебания.
— Может, что-то стряслось с мультилинией? — спросил Тео, не отрывая глаз от пустой проекционной ниши. Так зритель смотрит на экран, когда фильм обрывается на самом интересном месте.
Корабль снова надолго задумался, затем резюмировал:
— В сущности, господин Лейн, мультилинии больше не существует.
— Черт побери! — пробормотал Консул и, осушив свой стакан, пошел к бару за новой порцией. — Все то же древнее китайское проклятие.
Мелио Арундес поднял глаза.
— О чем вы?
Консул сделал большой глоток.
— Древнее китайское проклятие, — повторил он. — «Чтоб ты жил в интересное время».
Словно компенсируя потерю мультилинии, корабль включил внутрисистемные радиоканалы и перехваты переговоров по узким пучкам, транслируя одновременно в реальном времени изображение сине-белого шара Гипериона, который поворачивался и разрастался по мере приближения.
Глава 45
Я выхожу из инфосферы Сети за миг до исчезновения всех ее выходов и входов.
Странно и дико наблюдать, как мегасфера пожирает самое себя. Ламия Брон восприняла ее когда-то как организм, полуразумное существо, схожее больше с экосистемой, чем с городом, и была права. Теперь, когда нуль-сеть прекратила свое существование, мир, заключенный внутри нее, трещит и обваливается, и одновременно рушится внешняя инфосфера — точно охваченный огнем гигантский шатер, внезапно потерявший опоры, веревки и стойки. Мегасфера уничтожает себя, как обезумевший от голода хищник, который впивается в собственный хвост, пожирает внутренности, лапы, сердце — пока от него не останутся одни челюсти, щелкающие в пустоте.
Метасфера, разумеется, никуда не делась. Но теперь в ней страшнее, чем когда бы то ни было.
Черные леса неизвестного пространства-времени.
Голоса ночи.
Львы.
И тигры.
И медведи.
Связующая Пропасть корчится в конвульсиях, транслируя в человеческую вселенную единственную свою информацию — крик. Так волны землетрясения проходят сквозь толщу камня.
Пролетая над Гиперионом, я не могу сдержать улыбку. Похоже, аналогу Бога надоело попустительствовать муравьям, царапающим всякую ерунду на его пятках.
В метасфере я что-то не заметил Бога — ни одного из них. Впрочем, я и не ищу их: у меня и без того хватает проблем.
Черные вихри входов в Сеть и Техно-Центр исчезли, удалены из пространства-времени, словно бородавки. Исчезли в полном смысле этого слова — как волны, когда проходит шторм.
Похоже, я здесь так и застряну, если не отважусь бросить вызов метасфере.
А я не решаюсь. Пока.
Но ведь я хотел попасть именно сюда. От инфосферы в системе Гипериона почти ничего не осталось — жалкие крохи на планете и несколько нитей между кораблями ВКС исчезают буквально на глазах, как лужицы под солнечными лучами, но сквозь непроглядную тьму метасферы, словно маяки, светятся Гробницы Времени. Если нуль-каналы походили на черные вихри, то Гробницы — на отверстия, из которых льется ослепительное сияние.
И я устремляюсь к этому свету. До сих пор я был только Предтечей, персонажем и зрителем чужих снов. Настало время сделать что-нибудь самому.
Сол Вайнтрауб ждал.
Прошли часы с того момента, как он отдал свое единственное дитя Шрайку, и несколько дней с тех пор, как он последний раз ел или спал. Вокруг то бушевала, то утихала буря. Гробницы светились и громыхали, как взбесившиеся реакторы, а темпоральные приливы по-прежнему сотрясали долину. Но все это время Сол ждал, прильнув к каменным ступеням Сфинкса. Ждал и сейчас.
В полуобмороке, измученный усталостью и страхом за дочь, Сол вдруг обнаружил, что мозг его лихорадочно работает, а голова ясна как никогда.
Почти всю жизнь, с самого начала своей научной деятельности, Сол Вайнтрауб, историк-филолог-философ, занимался этическими аспектами религии. А ведь религия и этика далеко не всегда — точнее, очень редко — совместимы. Требования, налагаемые на человека религиозным абсолютизмом, фундаментализмом или релятивизмом, зачастую отражали худшие черты современной культуры или просто предрассудки, но не принципы, которые помогли бы людям и Богу сосуществовать на основах подлинной справедливости. Самый знаменитый труд Сола — «Авраамова дилемма» (в конце концов он остановился на этом названии, и неожиданно для автора книга сделалась бестселлером, хотя писалась для узкого круга коллег) — родился в годы, когда Рахиль таяла от болезни Мерлина. Сол подвергал в нем детальному анализу труднейший выбор, стоявший перед Авраамом, — подчиниться или не подчиниться приказу Бога, принести или не принести в жертву ему сына.
Сол писал, что примитивные времена требуют примитивного повиновения. Потомки Авраама духовно выросли: родители уже предлагали в жертву самих себя, как это было в мрачный период печей, запятнавших историю Старой Земли. Теперь же, как он полагал, вообще не могло быть речи о жертвоприношении. Каков бы ни был образ Божий в человеческом сознании — рассматривать ли его как проявление подсознания со всеми его реваншистскими потребностями или как сознательное стремление к нравственному совершенству, — необходимо отказаться от самой идеи жертвоприношения. Жертвоприношение — и согласие на него — вписано в историю человечества кровавыми буквами.
И все же несколько часов — несколько эпох назад Сол Вайнтрауб собственными руками передал единственное дитя отродью смерти.
На протяжении многих лет голос из сна приказывал ему совершить это. И всякий раз Сол отказывался. Он согласился лишь когда времени не осталось, а надежда умерла. Когда он понял, что голос, который он и Сара все эти годы слышали во сне, не был голосом ни бога, ни дьявола, ни Шрайка.
То был голос их дочери.
Скорбь на миг отступила, и Сол неожиданно осознал, почему Авраам согласился принести в жертву Исаака, сына своего, как повелел ему Господь.
Авраам сделал это не из покорности.
И не потому, что любовь к Богу пересилила в нем любовь к сыну.
АВРААМ ИСПЫТЫВАЛ БОГА.
Отвергнув в последний момент жертвоприношение и отведя нож, Бог в глазах Авраама и сердцах его потомков заслужил право стать его, Авраамовым Богом.
И Сол содрогнулся, представив себе, что значила для Авраама его решительная, лишенная какого бы то ни было притворства позиция, искренняя готовность принести сына в жертву, укрепившая связь между Высшей Силой и человечеством. В глубине души Авраам знал, что решится убить сына, и Бог, каков бы ни был его образ, тоже это знал, чувствовал скорбь Авраама и его решимость.
Не ради жертвоприношения отправился в пустыню Авраам, а чтобы раз и навсегда уяснить себе; следует ли доверять и повиноваться Богу. Только так можно было его испытать.
«Почему же, — думал Сол, прижимаясь к каменным ступеням Сфинкса, подрагивающего на волнах темпорального шторма, — почему это испытание должно вновь и вновь повторяться? Какие еще страшные откровения уготованы человечеству?»
Из слов Ламии, из историй, рассказанных собратьями-паломниками, из всего, что открылось ему самому за последние недели страданий, Сол понял, что попытки машинного Высшего Разума (будь он бог, дьявол или еще кто-нибудь) уничтожить беглую ипостась человеческого Божества — Сопереживание — бесплодны. Обречены. Сол больше не видел тернового дерева с его металлическими ветвями и сонмом мучеников, но отчетливо понимал, что эта штука была такой же органической машиной, как и Шрайк, — средством трансляции страдания на всю вселенную, чтобы ипостась человеческого Бога, отреагировав, выдала наконец себя.
Если Бог способен эволюционировать — а Сол не сомневался, что так оно и есть, — тогда эволюция должна быть направлена в сторону сопереживания — сочувствия чужому страданию, а не в сторону силы и власти. Но мерзкое дерево, чью страшную силу бедняга Мартин Силен испытал на собственной шкуре, оказалось неудачной приманкой для беглой ипостаси.
Теперь Сол понимал, что у машинного бога, каким бы он ни был, хватило проницательности сообразить, что сопереживание — реакция на боль других. И все же этот хваленый ВР оказался безнадежно глуп. Он не понял, что сопереживание — для человека и человеческого Высшего Разума — нечто гораздо большее. Сопереживание и любовь нераздельны и непостижимы. Машинному Высшему Разуму никогда не понять этого и не создать капкан для ипостаси людского ВР, сбежавшей от ужасов войны в отдаленное будущее.
Любовь — наиболее банальное из переживаний, самый затасканный из религиозных символов, оказалась — как понимал теперь Сол — сильнее ядерных сил, сильнее электрослабого взаимодействия, сильнее гравитации. Все эти силы есть любовь. Связующая Пропасть, субквантовая невероятность, передающая информацию от фотона к фотону, — не что иное, как любовь.
Но можно ли объяснить любовью, обыкновенной любовью, так называемый антропный принцип, над которым ученые ломают головы уже лет семьсот, если не больше? Эту почти бесконечную цепь совпадений, которые привели к возникновению вселенной с нужным количеством измерений, с идеальными характеристиками электронов, требуемым законом всемирного тяготения, звездами идеального возраста, идеальными прабиосистемами, породившими безупречные вирусы, которые превратились в идеальные ДНК? Эту череду до абсурда удачных совпадений, антилогичных, антипостижимых, необъяснимых даже религией? Можно ли?
Семь веков существования теорий Великого Объединения, постквантовой физики суперструн и продиктованной Техно-Центром концепции замкнутой и безграничной вселенной без сингулярностей Большого Взрыва и соответствующих конечных точек, отстранили, сняли Бога — и примитивно-антропоморфного, и утонченного, постэйнштейновского — со всех должностей, даже с поста хранителя и пре-креационного законодателя. В понимании машин и человека вселенная не нуждалась ни в каком Создателе и вообще не допускала его существования. Возможно, кое-какие детали в ее законах потребуется подправить, но на общую картину это уже не повлияет. Она не имела ни начала, ни конца — расширялась, сжималась, потом снова расширялась, и циклы эти чередовались подобно временам года на Старой Земле. Какая там любовь!
Следовательно, Авраам согласился пожертвовать сыном, чтобы испытать призрак?
Следовательно, Сол напрасно нес дочь через сотни световых лет, через неисчислимые препятствия?
Но теперь, когда над ним нависали Сфинкс и небо Гипериона с первыми проблесками рассвета, Сол понял, что им двигала сила более глубинная и могущественная, чем ужас перед Шрайком или узы боли. Если он прав — а он чувствовал свою правоту, хоть и не мог ее доказать, — значит, любовь вплетена в структуру вселенной так же прочно, как гравитация и противоположность материи и антиматерии. Место для Бога, каков бы он ни был, не в паутине между стенами, не в сингулярных трещинах мостовой, не где-то вовне, впереди или позади событий… но в самой ткани вещей. Он развивается вместе с развивающейся вселенной. Познает, как познают способные к познанию элементы вселенной, любит, как любят люди.
Сол поднялся сначала на колени, затем во весь рост. Темпоральный шторм, похоже, немного утих — быть может, ему наконец удастся приблизиться к Гробнице?
Из проема, в котором скрылся Шрайк, все еще лился свет. Но звезды гасли одна за другой — наступало утро.
Сол взошел по ступеням.
Он вспомнил тот день на Мире Барнарда, когда десятилетняя Рахиль попыталась влезть на самый высокий в городе вяз и сорвалась с сорокаметровой высоты. Сол ринулся в медицинский центр, где увидел свою дочь плавающей в восстановительном растворе с проткнутым легким, сломанными ногой и ребрами, раздробленной челюстью и бесчисленными порезами и царапинами. Она улыбнулась ему, подняв большой палец, и, с трудом двигая стянутой проволочной шиной челюстью, прошептала: «В следующий раз я доберусь!»
Всю ночь Сол и Сара просидели подле спящей Рахили. Сол держал ее за руку. Они ждали утра…
Сейчас он тоже ждал.
Темпоральный прилив все еще не подпускал Сола к Сфинксу, но он, пригнувшись, застыл в пяти метрах от входа, словно камень, который не сдвинуть с места.
Сол только поднял глаза, но не пошевелился, когда в предрассветном небе появился звездолет. Оглянулся, но не отступил ни на шаг, когда корабль сел и из люка вышли трое. И лишь повернул голову, когда услышал оклик откуда-то из глубины долины и увидел у Нефритовой Гробницы знакомую фигуру, тащившую на себе кого-то.
Все это не имело никакого отношения к его дочери. Он ждал Рахиль.
Оказывается, мой аналог может перемещаться в густой каше Связующей Пропасти, окружающей теперь Гиперион, и без инфосферы. Первым делом мне хочется увидеть Того, Кто Придет, но я пока не готов к этому, хотя его сияние доминирует в метасфере. В конце концов я всего лишь малявка Джон Китс, а не Иоанн Креститель.
Сфинкс — которому придали форму реального существа, созданного инженерами-генетиками через несколько веков, — это вихрь темпоральной энергии. На самом деле, как видно теперь моему умножившемуся зрению, существует несколько Сфинксов: антиэнтропийная гробница, несущая свое содержимое — Шрайка — назад во времени, точно запаянный контейнер со смертоносными бациллами; активный, нестабильный Сфинкс, в котором при пробном открытии межвременного портала Рахиль Вайнтрауб заразилась болезнью Мерлина, и Сфинкс, который распахнулся и теперь синхронизован с потоком времени. Этот последний Сфинкс — сверкающее пятно света, уступающее по яркости разве что метасферическому костру Того, Кто Придет, освещающему весь Гиперион.
Я спускаюсь к этому яркому пятну как раз вовремя — чтобы увидеть, как Сол Вайнтрауб вручает свою дочь Шрайку.
Я не могу помешать ему. Не способен. И вообще не вправе: от его поступка зависит судьба множества миров.
Зато я занимаю удачную позицию внутри Сфинкса, откуда хорошо вижу Шрайка с его драгоценным грузом. Вижу девочку. Мокрую, сморщенную, всю в пятнах — ей несколько секунд от роду, и она кричит во всю мощь своих крохотных легких. Мне, закоренелому холостяку и поэту, трудно понять, чем мила эта антиэстетичная пискунья своему отцу — и космосу.
Тем не менее вид детского тельца (несмотря на всю физиологическую непривлекательность новорожденной) в острых когтях Шрайка задел какую-то струнку в моей душе.
Три шага внутри Сфинкса перенесли Шрайка и ребенка на несколько часов вперед. Сразу за порогом поток времени убыстряет течение. Если я ничего не предприму в ближайшие секунды, будет поздно — Шрайк скроется через портал, унося ребенка к неведомой темной дыре в отдаленном будущем.
Перед моим взором появляются пауки, высасывающие соки из своей добычи, земляные осы, откладывающие яйца в парализованные тела жертв — идеальный инкубатор, он же продуктовый склад.
Необходимо действовать, но здесь я такой же призрак, как и в Техно-Центре: Шрайк проходит сквозь меня. От моей аналоговой личности никакого толку — она бесплотна, точно облачко болотного газа.
Но у болотного газа нет разума, а у Джона Китса он есть.
Шрайк делает два шага. Для Сола и тех, кто снаружи, проходит еще несколько часов. Я вижу кровь на коже заходящегося в крике младенца — там, где в него вонзаются Шрайковы скальпели.
К черту!
Снаружи, на широком каменном крыльце Сфинкса, на самой стремнине темпоральных потоков, текущих в Гробницу и через нее, валяются рюкзаки, одеяла, недоеденные пищевые рационы, оставленные здесь Солом и другими паломниками.
И еще куб Мебиуса.
Когда на борту корабля-дерева «Иггдрасиль» Глас Древа Хет Мастин готовился к паломничеству, контейнер был запечатан силовым полем восьмого класса. В нем находился одиночный эрг, или Связующий, — одно из тех крохотных существ, которые, не обладая разумом в человеческом понимании этого слова, выработали в процессе эволюции способность генерировать мощные силовые поля.
Тамплиеры и Бродяги научились общаться с этими существами, а обитатели Рощи Богов даже использовали их на своих красивых, открытых космосу кораблях-деревьях.
Хет Мастин вез эрга через сотни световых лет, чтобы выполнить договор Тамплиеров с Церковью Последнего Искупления — вывести терновое дерево Шрайка в космос. Но, увидев Шрайка и дерево мучений собственными глазами, он не нашел в себе сил исполнить обет. И погиб.
Куб Мебиуса. Я отчетливо видел эрга — плотный шар красной энергии в темпоральном потоке.
Сквозь завесу тьмы проступал силуэт Вайнтрауба. Время снаружи шло быстрее, и фигура ученого комично дергалась — как персонаж древнего немого фильма. Однако куб Мебиуса находился в поле Сфинкса.
Рахиль пронзительно закричала — страху подвержены даже новорожденные. Страху падения. Страху боли. Страху разлуки.
Шрайк сделал еще шаг, и еще час прошел снаружи.
Перед Шрайком я был ничто, но энергетическими полями могут управлять даже призрачные аналоги Техно-Центра. Я снял с куба Мебиуса силовую оболочку. И выпустил эрга на свободу.
Тамплиеры общались с эргами посредством электромагнитного излучения и кодированных сигналов, вырабатывали в них рефлексы… но главным образом при помощи той мистической связи, секреты которой были ведомы лишь Братству и немногим Бродягам. Ученые называют эту связь телепатией, хотя, скорее, это просто сопереживание.
Шрайк делает еще шаг к открытому порталу в будущее. Рахиль кричит с силой, совершенно немыслимой для новорожденной.
Эрг расширяется, понимает меня и сливается с моей личностью. Джон Китс обретает облик и плоть.
Я спешно делаю пять шагов, вернее, пять прыжков в сторону Шрайка, вырываю ребенка из его лап и отступаю назад. Даже в безумствующем вокруг энергетическом вихре чувствуется особый, кисловатый и свежий детский запах, исходящий от девочки. Я прижимаю ее к груди, прикрывая ладонью мокрую головенку.
Ошарашенный Шрайк резко оборачивается. Четыре руки взлетают вверх, с щелчком раскрываются лезвия, взор огненно-красных глаз останавливается на мне. Но темпоральный поток уже подхватил монстра и потащил к порталу. Скрежеща стальными зубами, Шрайк падает в него и исчезает из виду.
Я поворачиваюсь ко входу, но он очень далеко. Иссякающая энергия эрга могла бы помочь мне добраться туда, вытащить против течения, как на буксире, но меня одного — без Рахили. Нести в такую даль еще одно живое существо не под силу эргу и мне, вместе взятым.
Малышка кричит, и я легонько подбрасываю ее, шепча какую-то бессмыслицу в теплое ушко.
Если никак нельзя ни назад, ни вперед, мы с ней просто подождем немного. Авось кто-нибудь пройдет мимо.
Зрачки Мартина Силена расширились. Ламия Брон резко обернулась и увидела парящего в воздухе Шрайка.
— Вот погань, — вырвалось у нее.
Ряды человеческих тел, привязанных пульсирующими пуповинами к терновому дереву, Машинному Высшему Разуму и дьявол знает, к чему еще, терялись в сумраке.
А Шрайк, словно желая продемонстрировать свою власть, раскинул руки и завис в пяти метрах от мраморной полки, где Ламия сидела на корточках рядом с неподвижным Силеном.
— Сделай что-нибудь, — прошептал он. Проклятой пуповины больше не существовало, но измученный пыткой поэт даже головы не мог поднять.
— Есть идеи? — спросила Ламия, и голос ее предательски дрогнул.
— Доверься, — произнес чей-то голос снизу.
Ламия наклонилась и увидела под ярусом молодую женщину. Ту самую, которая стояла у ложа Кассада. Монета!
— Помоги! — крикнула Ламия.
— Доверься, — повторила Монета — и исчезла. Это не отвлекло Шрайка. Он опустил руки и шагнул вперед, ступая по воздуху, как по паркету.
— Дерьмо, — у Ламии перехватило дыхание.
— Именно, — проскрипел Мартин Силен. — Из огня — да жопой в полымя.
— Заткнись, — прикрикнула на него Ламия. — Доверься… Кому? В чем?
— Доверься долбаному Шрайку: он убьет нас или наколет на свое долбаное дерево, — пробормотал Силен. Ему удалось дотянуться до руки Ламии. — Лучше смерть, чем снова на дерево.
Ламия успокаивающе коснулась его ладони и встала. Ее и Шрайка разделяла пятиметровая пропасть.
Довериться? Она выставила ногу, ощутила под нею пустоту и закрыла на секунду глаза: под ногой оказалась твердая поверхность! Ламия быстро взглянула вниз.
Там не было ничего, кроме воздуха.
Довериться? Ламия перенесла тяжесть на выставленную ногу и шагнула. После некоторого колебания опустила вторую ногу.
Она и Шрайк стояли друг против друга в воздухе на десятиметровой высоте. Ламии почудилось, будто монстр, раскинув руки, улыбнулся ей. Его панцирь тускло поблескивал в полумраке, красные глаза полыхали огнем.
Довериться? Чувствуя, как кровь пульсирует в висках, Ламия взошла по невидимым ступеням и двинулась прямо в объятия Шрайка.
Пальцелезвия разорвали одежду и впились в кожу, но монстру не удалось насадить ее на ятаган, торчавший из металлической груди. Ламия изогнулась и уперлась целой рукой в панцирь, ощутив леденящий холод — а затем странный прилив тепла. Энергия нахлынула волной и рванулась наружу. Сквозь нее.
Кромсающие тело лезвия замерли. Шрайк застыл, словно обтекающая их река темпоральной энергии превратилась в янтарную смолу и затвердела.
Тогда Ламия изо всех сил толкнула чудовище.
В какие-то доли секунды Шрайк преобразился: металлический блеск исчез, сменившись сверканием хрусталя. Стальная глыба сделалась хрупкой и прозрачной.
Парившую в воздухе Ламию теперь обнимала трехметровая стеклянная статуя. В груди четырехрукого чудовища, там, где положено быть сердцу, билась огромная бабочка, колотя о стекло угольно-черными крыльями.
Поднатужившись, Ламия снова толкнула Шрайка. Он заскользил назад, закачался — и упал, потянув Ламию за собой. Вывернувшись из смертельных объятий, она услышала, как с треском рвется ее куртка, и, взмахнув здоровой рукой, сохранила равновесие. А стеклянный Шрайк, сделав в воздухе сальто, ударился о каменный пол и разлетелся фонтаном осколков.
По невидимому мостику Ламия поползла на четвереньках к Силену, но когда до него оставалось всего каких-то полметра, она вдруг перепугалась досмерти, и невидимая опора тут же испарилась. Ламия рухнула как сноп на каменную полку.
Отчаянно матерясь от боли в плече, сломанном запястье, вывихнутой лодыжке, ободранных в кровь коленях, она отползла подальше от края.
— За время моего отсутствия здесь многое изменилось. Мистический бардак какой-то, — прохрипел поэт. — Мы пойдем, или ты хочешь «на бис» прогуляться по воде?
— Заткнись! — В голосе Ламии слышалась дрожь.
Немного передохнув, она решила, что потащит поэта на себе. Они были уже у выхода, когда Силен бесцеремонно заколотил ее по спине:
— Эй! А как же Король Билли и остальные?
— После, — выдохнула Ламия.
Она уже преодолела со взваленным на спину, точно тюк с бельем, Силеном, две трети пути, когда поэт спросил:
— Ты все еще беременна?
— Да, — ответила Ламия, моля Бога, чтобы это было так после всего того, что сегодня случилось.
— Хочешь, я тебя понесу?
— Заткнись. — Позади осталась Нефритовая Гробница.
— Смотри! — Силен изогнулся всем телом, указывая на что-то.
В свете разгорающегося утра Ламия увидела корабль Консула, стоявший на холме у ворот долины. Однако поэт указывал совсем в другую сторону.
На фоне ослепительно сиявшего входа в Сфинкс выделялся темный силуэт Сола Вайнтрауба. Ученый застыл, воздев руки к небу.
А из гробницы кто-то выходил.
Сол первым увидел фигуру, идущую сквозь поток света и жидкого времени, не то вытекающего из Сфинкса, не то втекающего в него. Когда фигура обрела четкие очертания, он понял, что это женщина. Женщина, несущая…
Женщина, несущая младенца.
Это была его Рахиль — та Рахиль, которую он провожал в путешествие на неведомый Гиперион, где ей предстояло собирать материалы для диссертации. Двадцатишестилетняя Рахиль — может быть, чуть-чуть старше. Вне всякого сомнения, это была она — с ее медно-каштановыми, стрижеными волосами и спадающей на лоб челкой. Раскрасневшаяся, как бывало обычно, когда в голову ей приходила новая замечательная идея. Ясная, но почему-то робкая улыбка озаряла ее лицо. Глаза, огромные, зеленые, с едва заметными золотистыми крапинками, были устремлены на Сола.
Рахиль несла Рахиль. Малышка уткнулась в ее плечо и сжимала крохотные кулачки, словно решая, закричать ей или нет.
Сол попытался что-то сказать, но язык его не слушался. Наконец он выдавил:
— Рахиль.
— Отец, — произнесла молодая женщина и, шагнув вперед, обняла ученого свободной рукой, стараясь не потревожить ребенка.
Сол целовал свою взрослую дочь, обнимал, вдыхал аромат ее волос… Затем он взял на руки новорожденную и почувствовал, как по ее телу пробежала дрожь, предвещая уже привычный ему громкий плач. Рахиль, которую он привез на Гиперион в нагрудной люльке, была цела и невредима. Сол жадно рассматривал крохотное красное личико, сморщившееся от усилий сосредоточить еще непослушный взгляд на лице отца. Потом спросил, повернувшись к молодой женщине:
— Это она?..
— Да. С ней все в порядке, — ответила дочь. Она была одета в нечто среднее между халатом и платьем из мягкой коричневой ткани. Сол покачал головой, любуясь ее улыбкой, снова перевел взгляд на младенца и заметил на подбородке под левым уголком рта знакомую ямочку.
Он снова покачал головой.
— Как… как это возможно?
— Я не надолго, — не ответив на вопрос, сказала Рахиль.
Сол снова поцеловал взрослую дочь. Слезы текли по его щекам, но он не мог смахнуть их, продолжая обеими руками держать малышку. За него это сделала взрослая Рахиль, нежно проведя ладонью по лицу отца.
Внизу, на ступенях, послышался шум. Оглянувшись, Сол увидел, как Ламия Брон помогает Силену усесться на белую плиту каменной ограды, а возле них стоят трое запыхавшихся мужчин.
Консул и Тео Лейн глазам своим не верили.
— Рахиль… — прошептал Мелио Арундес.
— Рахиль? — Мартин Силен, морща лоб, уставился на Ламию Брон.
Та смотрела на девушку с раскрытым ртом.
— Монета, — произнесла наконец она. — Ты Монета. Монета… Кассада.
Рахиль кивнула. Улыбка сбежала с ее лица.
— У меня всего несколько минут, — сказала она. — А рассказать вам нужно очень много.
— Нет. — Сол взял свою взрослую дочь за руку. — Ты ведь не уйдешь от меня больше? Правда?
Рахиль снова улыбнулась.
— Конечно, нет, отец, — ответила она с нежностью, прикоснувшись к щечке ребенка. — Но только одна из нас может остаться… Ей ты нужнее. — Она повернулась к стоявшим внизу. — Выслушайте меня, пожалуйста.
Когда поднявшееся над городом солнце озарило руины Града Поэтов, корабль Консула, западные скалы и верхушки Гробниц Времени, Рахиль закончила свой короткий рассказ о том, как она удостоилась чести перенестись в грядущее, где бушевала последняя война между созданием Техно-Центра — Высшим Разумом — и человеческим духом. В будущее ужасных и чудесных таинств, где человечество расселилось по нашей галактике и вышло за ее рубежи.
— В другие галактики? — переспросил Тео Лейн.
— В другие вселенные, — улыбнулась Рахиль.
— Полковник Кассад знал тебя под именем Монеты, — пробормотал Силен.
— Будет знать под именем Монеты. — Глаза Рахили затуманились. — Я видела, как он погиб, и сопровождала его могилу в прошлое. Я знаю, часть моей миссии — встретиться с легендарным воином и повести его вперед, к последней битве. В сущности, мы с ним еще не знакомы. — Она покосилась на Хрустальный Монолит в глубине долины. — Монета, — задумчиво повторила она. — По-латыни это означает «Напоминающая». Пусть так. Еще он может звать меня Мнемозиной — «памятью».
Сол не выпускал руки дочери:
— Ты отправляешься в прошлое вместе с Гробницами? Почему? Как?
Рахиль подняла голову, и отразившиеся от скал солнечные лучи осветили ее лицо.
— Это мой долг, отец. Моя обязанность. Они наделили меня средствами, позволяющими контролировать Шрайка. И только я была… подготовлена.
Сол поднял дочурку еще выше. Она выпустила пузырь слюны и в поисках тепла уткнулась лицом в отцовскую шею.
— Подготовлена? Ты имеешь в виду болезнь Мерлина?
— Да, — ответила Рахиль.
— Но ведь ты выросла не в каком-то таинственном будущем, а в университетском городе Кроуфорде, на улице Фертиг-стрит, на Мире Барнарда… — Он замолчал.
Рахиль кивнула.
— Это она вырастет там. Прости, отец, мне пора. — Она высвободила руку, сбежала по лестнице и коснулась щеки Мелио Арундеса.
— И ты меня прости, — негромко сказала она потрясенному человеку, не отрывавшему от нее глаз. — Это было словно в другой жизни.
Арундес удержал ее руку у своей щеки.
— Ты женат? — негромко спросила Рахиль. — Дети?
Арундес кивнул, потянулся к карману, но быстро отдернул руку.
Рахиль, улыбнувшись, поцеловала археолога и двинулась вверх по лестнице. Разгоралась заря, но вход в Сфинкс затмевал ее своим блеском.
— Отец, — громко сказала Рахиль. — Я люблю тебя.
Сол хотел ответить, но у него перехватило горло.
— Как… как мне воссоединиться с тобой… там, в будущем?
Рахиль указала на распахнутый вход в Сфинкс.
— Для некоторых он будет межвременным порталом, о котором я говорила. Но тебе, отец… — Она помолчала. — Тебе придется снова растить меня. То есть в третий раз промучиться со мной. Разве можно просить о такой жертве?
Сол через силу улыбнулся.
— Ни одни родители на свете не отказались бы от этого, Рахиль. — Он переложил младенца на другую руку и снова покачал головой. — Наступит ли время, когда… вы обе…
— Будем вместе? — договорила Рахиль. — Нет. Я ухожу другой дорогой. Ты и представить себе не можешь, сколько я уламывала Комиссию Парадоксов, пока мне разрешили эту встречу.
— Комиссию Парадоксов? — не понял Сол.
Рахиль вздохнула. Теперь они с отцом соприкасались лишь кончиками пальцев.
— Мне пора.
— Я буду… — Он посмотрел на ребенка. — Мы будем одни… там? Рахиль засмеялась, и при звуке этого смеха сердце Сола болезненно сжалось.
— О нет! Что ты! Там чудесно. Чудесные люди. Можно научиться чудесным вещам, увидеть изумительные места… — Она огляделась вокруг. — Нет, отец, ты будешь там не один. Я буду с тобою всей своей детской неуклюжестью и подростковым нахальством. — Она отступила назад, и ее пальцы оторвались от пальцев Сола. — Не переходи туда сразу, подожди немного, — посоветовала она, погружаясь в сияние. — Это не больно, но вернуться назад ты уже не сможешь.
— Рахиль, погоди! — воскликнул Сол.
Длинное платье струилось по камню, пока свет не объял Рахиль всю целиком. Голос ее зазвенел из сияния:
— Счастливо, аллигатор!
Сол помахал в ответ:
— Пока, крокодил!
Малышка проснулась и заплакала.
Через час с лишним Сол вместе со всеми вернулся к Сфинксу. Они побывали на корабле Консула, наскоро перевязали раны Ламии и Силена, перекусили, а потом снарядили Сола с малышкой в далекое путешествие.
— Глупо, пожалуй, укладывать вещи. Все наше путешествие может свестись к одному шагу сквозь портал, — рассудил Сол. — Правда, если в этом расчудесном будущем не окажется детского питания и пеленок, нам придется несладко.
Консул похлопал битком набитый рюкзак, лежавший на ступенях.
— На первые две недели, думаю, хватит. Если за это время не найдете бюро обеспечения пеленками, отправляйтесь в одну из тех вселенных, о которых говорила Рахиль.
Сол покачал головой.
— Неужели все это правда? А может, я сплю?
— Подождите несколько дней, — пробовал уговорить его Мелио Арундес. — Побудьте с нами, пока все не уладится. Будущее не убежит.
Сол почесал бороду. Он кормил ребенка молоком, синтезированным всемогущим кораблем.
— Где гарантия, что портал будет открыт хотя бы еще неделю, — сказал он. — Кроме того, у меня могут сдать нервы. Я слишком стар, чтобы вновь растить ребенка… тем более в этой сказочной стране, где окажусь чужаком.
Арундес положил свою сильную руку на плечо Сола.
— Позвольте мне отправиться с вами! До смерти хочется увидеть это райское местечко.
Сол улыбнулся и крепко пожал руку Арундеса.
— Спасибо, мой друг. Но ваша жена и дети ждут вас… на Возрождении-Вектор… У вас тоже есть обязанности.
Арундес кивнул и посмотрел на небо.
— Если нам удастся вернуться.
— Мы вернемся, — сказал Консул. — Даже если Сеть исчезла навсегда, со старомодными спин-звездолетами ничего произойти не могло. Это будет стоить вам нескольких лет, Мелио, но вы вернетесь.
Сол закончил кормить ребенка, повесил чистую пеленку себе на плечо и окинул взглядом кучку людей вокруг.
— У всех свои заботы. — Он обменялся рукопожатием с Силеном, который категорически отказался залезть в реаниматор и даже слышать не хотел об удалении гнезда нейрошунта.
— Со мной такое и раньше бывало, — беспечно заявил он.
— Собираетесь дописывать поэму? — спросил Сол.
Силен покачал головой.
— Я закончил ее на дереве. И еще сделал там потрясающее открытие, Сол.
Ученый поднял бровь.
— Я узнал, что поэты не боги, но если Бог… или что-то вроде Бога… существует, то он поэт. И к тому же хреновый.
Ребенок агукнул.
Мартин Силен в последний раз пожал руку Сола.
— Устройте им там веселую жизнь, Вайнтрауб. Скажите им, что вы их прапрапрапрапрадедушка, а если станут безобразничать, надерите им задницы.
Сол кивнул и подошел к Ламии Брон.
— Я видел, вы говорили с медицинским терминалом корабля. Все ли в порядке с вами и вашим будущим ребенком?
Ламия улыбнулась.
— Все отлично.
— Мальчик или девочка?
— Девочка.
Сол поцеловал ее в щеку. Ламия коснулась его бороды и отвернулась. Частному детективу, даже бывшему, плакать не пристало.
— С девочками столько хлопот. — Сол старался вытащить пальчики Рахили из своей бороды. — Обменяйте вашу на мальчика при первой же возможности.
— Хорошо, — пообещала Ламия сквозь слезы.
Он пожал руки Консулу, Тео и Мелио, надел рюкзак, пока Ламия держала девочку, затем взял Рахиль на руки.
— Вот будет номер, если эта машина не сработает. Мне что, тогда, вечно скитаться внутри Сфинкса? — пробормотал он.
Консул, прищурившись, смотрел на светящийся вход.
— Там все в порядке. Хотя как эта штуковина работает, ума не приложу. Вряд ли там портал…
— Передал, — предложил свой вариант Силен и закрылся рукой от разъяренной Ламии. — Если он сразу же не вырубится, народ туда так и попрет. Так что, Сол, одиночество вам не грозит.
— Если разрешит Комиссия Парадоксов, — вздохнул Сол, теребя бороду, как делал всегда, думая о чем-то своем. Он поправил рюкзак, крепче прижал ребенка и сделал первый шаг. На этот раз силовые поля пропустили его.
— Не поминайте лихом! — крикнул он. — Клянусь Богом, игра стоила свеч!
И они исчезли в сиянии.
От воцарившейся тишины звенело в ушах. Первым ее нарушил Консул:
— Пойдем на корабль?
— Надеюсь, вы спустите лифт, — заметил Силен. — Мы не умеем ходить по воздуху, как госпожа Ламия Брон.
Ламия смерила поэта гневным взглядом.
— Думаете, все это устроила Монета? — спросил Арундес, имея в виду поединок со Шрайком.
— Скорее всего, — откликнулась Ламия. — Достижения науки будущего, что-то в этом роде.
— О да, — вздохнул Мартин Силен, — «наука будущего»… Сколько раз я слышал эти слова от тех, кому нравится быть суеверным. Альтернатива, моя дорогая, заключается в том, что ты обладаешь некой доселе неизвестной энергией, которая позволяет левитировать и превращать чудовищ в стеклянных чертиков.
— Заткнись, — бросила Ламия, на этот раз с плохо скрываемой неприязнью, и оглянулась. — Где гарантия, что с минуты на минуту не явится другой Шрайк?
— В самом деле, где? — согласился Консул. — Наверняка найдется новое пугало.
Тео Лейн, который всегда терялся, когда возникали разногласия, откашлялся:
— Взгляните, что я нашел возле Сфинкса, среди багажа. — И он поднял над головой какой-то инструмент с тремя струнами, длинным грифом и ярко разрисованным треугольным корпусом. — Это гитара?
— Балалайка, — ответила Ламия. — Она принадлежала отцу Хойту.
Тео Лейн отдал инструмент Консулу. Тот пощипал струны.
— Знаете эту песню? — Он взял несколько аккордов.
— «Ноктюрн для четырех ног под одеялом»? — предположил Мартин Силен.
Консул покачал головой и взял еще несколько аккордов.
— Что-то старинное! — предположила Ламия.
— «Выше радуги», — сказал Мелио Арундес.
— Должно быть, это пели еще до меня. — Тео Лейн кивал в такт бренчанию Консула.
— До всех нас, — сказал Консул. — Пошли, по дороге разучим слова.
Фальшивя и перевирая текст, паломники двинулись под палящим солнцем вверх по склону к ожидающему их кораблю.
Эпилог
Через пять с половиной месяцев, на седьмом месяце беременности, Ламия Брон вылетела утренним рейсом дирижабля в Град Поэтов на проводы Консула.
Озаренная первыми солнечными лучами столица, которую все — и местные жители, и офицеры ВКС, и Бродяги — называли теперь Джектауном, нарядная и чистая, осталась внизу. Дирижабль отчалил от причальной башни в центре города и взял курс на северо-запад, вверх по реке Хулай.
Искалеченный войной крупнейший город Гипериона за короткое время был почти полностью восстановлен. Многие из трех миллионов беженцев с фибропластовых плантаций и маленьких городов южного континента не хотели возвращаться, несмотря на спрос Бродяг на фибропласт. Так что дома росли как грибы, а электричество, канализация и кабельное головидение уже дотянулись до холмов между городом и космопортом.
Вскоре после распада Сети боевые действия в системе Гипериона прекратились. Столица и космопорт, практически оккупированные Бродягами, получили статус особого района, управляемого Бродягами и вновь избранным Комитетом местного самоуправления на основе договора, который разработали и отстояли Консул и бывший генерал-губернатор Тео Лейн. Но пока на поле космопорта садились лишь катера с уцелевших кораблей ВКС да экскурсионные челноки Роя. Никого больше не изумляло, что мохнатые, крылатые и прочие Бродяги разгуливают по базару на Джектаун-Сквер или заходят пропустить рюмочку в «Цицерон».
Последние несколько месяцев Ламия жила как раз в «Цицероне», в одном из люксов на четвертом этаже уцелевшего крыла гостиницы. Все это время Стен Левицкий в поте лица отстраивал разрушенное здание.
— Клянусь Богом, я не нуждаюсь в помощи беременной женщины! — кричал он всякий раз, когда Ламия вызывалась подсобить ему.
Этим утром Стен отвез ее к причальной башне, внес в гондолу багаж и сверток, который она везла для Консула, после чего вручил ей небольшой пакет от себя лично.
— Раз уж вас понесло в это занудное путешествие в забытую богом и чертом страну, — проворчал он, — пусть хоть будет что почитать.
В пакете оказалось репринтное издание «Стихотворений» Джона Китса 1817 года, переплетенное в кожу самим Левицким.
Ламия повергла гиганта в смущение, а пассажиров немало позабавила, когда обняла владельца гостиницы так, что у того ребра затрещали.
— Хватит, черт возьми, — бормотал он, потирая бока. — Скажите Консулу, что я хочу вновь увидеть здесь его ободранную рожу, прежде чем передам эти развалины своему сыну. Не забудете?
Ламия кивнула и помахала ему рукой. Остальные пассажиры тоже махали друзьям и близким на башне. Наконец корабль отдал швартовы, сбросил балласт и величественно воспарил над крышами Джектауна.
Теперь, когда дирижабль миновал предместья и повернул на запад, она впервые увидела вершину горы, по-прежнему созерцавшую город глазами Печального Короля Билли. На щеке Билли виднелся десятиметровый шрам, чуть сглаженный дождями, — военный сувенир, след от лазерного копья.
Но гораздо больше Ламию интересовало скульптурное изображение на северо-западном склоне. Несмотря на современные лазерные резаки, позаимствованные у саперов ВКС, работа продвигалась медленно: большой орлиный нос, широкий рот и печальные умные глаза были пока едва заметны. Застрявшие на Гиперионе граждане Гегемонии возражали против памятника Гладстон, но Рифмер Корбе-III (которому гора теперь принадлежала), праправнук скульптора, изваявшего в этой же горе портрет Печального Короля Билли, сказал, не мудрствуя лукаво: «А пошли вы все…» — и продолжил работу. Еще год, может быть, два — и портрет будет готов.
Ламия вздохнула, погладила живот — жест, который она ненавидела в беременных женщинах, — и двинулась к своему креслу на смотровой палубе. Если на седьмом месяце она уже превратилась в воздушный шар, что будет в конце срока? Ламия взглянула на выпуклую оболочку дирижабля над головой и поморщилась.
Благодаря попутному ветру перелет отнял всего двадцать часов. Ламия немного подремала, но большую часть путешествия следила за проплывавшей внизу знакомой местностью.
Часов в десять утра они миновали шлюзы Карлы, и Ламия, улыбнувшись, погладила сверток, который везла Консулу. К вечеру впереди замаячил речной порт Наяда, и с высоты трех тысяч футов она разглядела старую баржу, которую тянули против течения манты. Уж не «Бенарес» ли это?
Когда в верхней гостиной подали обед, они пролетали над Эджем. Травяное море возникло как раз в тот миг, когда его малахитовую безбрежность озарили лучи заходящего солнца. Миллионы травинок затрепетали, потревоженные тем же ветром, который подгонял дирижабль. Ламия с чашкой кофе уселась в свое любимое кресло, распахнула окно и любовалась открывшимся ей видом, пока не стемнело. Как раз перед тем, как в рубку внесли лампы, ее терпение было вознаграждено: внизу показался ветровоз, который шел с севера на юг. На носу и на корме раскачивались фонари. Высунувшись из окна, она ясно услышала рокот большого колеса и хлопанье парусов при смене галса.
Когда Ламия поднялась в свою каюту, постель была уже постлана. Переодевшись в халат и прочитав несколько стихотворений, она вернулась на палубу и просидела там до рассвета: вдыхала доносящийся снизу запах молодой травы, грезила и время от времени дремала.
У Приюта Паломника они сделали остановку, чтобы пополнить запас продуктов, взять балласт и сменить команду, но Ламия сходить на землю не стала. Наконец освещенная прожекторами станция осталась позади, и внизу замелькали огоньки опор подвесной дороги.
Горный хребет дирижабль пересек в полной темноте. Чтобы загерметизировать гондолу, окна закрыли, но в разрывах облаков Ламия успела разглядеть вагончики, плывущие от вершины к вершине, и сиявшие в звездном свете ледники.
На рассвете они прошли над Башней Хроноса. Даже в розовом свете зари каменные стены казались холодными, как лед. Вскоре по левому борту замаячил белый Град Поэтов, и дирижабль опустился к башне, установленной на восточном краю нового космо-порта.
Ламия рассчитывала, что встречающих не будет. Все ее знакомые думали, что она прилетит позже, на скиммере Тео Лейна. Но ей хотелось побыть наедине со своим мыслями, и она предпочла медленный дирижабль обществу бывшего генерал-губернатора.
И вдруг, еще до того, как спустили трап, она заметила в небольшой толпе знакомое лицо. Консул! Рядом с ним, щурясь от утреннего солнца, стоял Мартин Силен.
— Черт бы побрал этого Стена, — пробормотала Ламия, вспомнив, что радиосвязь восстановлена и на орбиту выведены новые УКВ-ретрансляторы.
Вместо приветствия Консул молча обнял ее. Силен зевнул и рассеянно пожал ей руку:
— Более неудобного времени не могла выбрать, а?
В тот же день состоялась прощальная вечеринка. Утром улетал не только Консул — систему Гипериона покидала большая часть кораблей ВКС, а с ними и добрая половина Роя. С десяток разномастных катеров заняли всю полоску дюн возле корабля Консула. Бродяги осматривали Гробницы Времени, а офицеры ВКС в последний раз замерли у могилы Кассада.
В Граде Поэтов уже насчитывалось не меньше тысячи постоянных обитателей, в их числе художники и поэты. Впрочем, Силен иначе как «позерами» их не называл. Они дважды пытались избрать его мэром, и он дважды отказывался, потешаясь над незадачливыми избирателями. Но при этом старик влезал во все дела города, руководил реставрационными работами, разрешал споры, распределял жилье, организовывал подвоз по воздуху припасов из Джектауна и южных районов. Град Поэтов больше не был Мертвым Городом.
Правда, Силен утверждал, что от этого его коллективный коэффициент интеллекта значительно снизился.
Банкет состоялся в восстановленном обеденном зале, и высокий свод вибрировал от громкого смеха, когда Мартин Силен читал непристойные стихи, а группа актеров разыгрывала пародийные сценки. Помимо Консула и Силена, за столик Ламии уселись шестеро Бродяг, в том числе Свободная Дженга и Центральный Минмун, а также Рифмер Корбе-III, вырядившийся в хламиду из лоскутков меха и высокий колпак. Запоздавший Тео Лейн рассыпался в извинениях. Он поделился с гостями свежайшими анекдотами из Джектауна и присел отведать десерт. Лейна прочили на пост мэра Джектауна — приближался Четвертый Месяц, а вместе с ним выборы. Тео симпатизировали и местные, и Бродяги, да и сам он не давал повода думать, что откажется от такой чести.
Когда запасы вина истощились, Консул пригласил гостей на корабль — продолжить возлияния и послушать музыку. Ламия, Мартин и Тео расположились на балконе, а Консул играл им Гершвина и Студери, Брамса и Люзера, «Битлз» и снова Гершвина. Закончил он поразительным Вторым концертом для фортепиано с оркестром до-минор Рахманинова.
Потом они сидели в сумерках, смотрели на город и долину, пили вино и беседовали.
— Интересно, что вас ждет в Сети? — спросил Тео Консула. — Анархия? Власть толпы? Новый каменный век?
— Все это и, возможно, кое-что еще, — улыбнулся Консул, согревая в ладонях бокал с бренди. — А если серьезно, я ни секунды не сомневаюсь в том, что мы выкарабкаемся!
Лейн отставил стакан с вином, к которому так и не прикоснулся:
— Как вы думаете, почему отключилась мультилиния?
Мартин Силен фыркнул:
— Неужели не ясно? Богу надоела чушь, которую мы царапаем на стенках его сортира.
Они вспомнили старых друзей, поговорили об отце Дюре. В одной из последних мультиграмм сообщалось о его избрании. Кто-то произнес имя Ленара Хойта.
— Как вы думаете, после смерти Дюре он автоматически сделается папой? — спросил Консул.
— Сомневаюсь, — покачал головой Тео Лейн. — Но если крестоформ, который Дюре все еще носит на груди, сохранил свою силу, шансы у него есть.
— Интересно, вернется ли он за своей балалайкой, — протянул Силен, пощипывая струны инструмента. В сумерках его все еще можно было принять за сатира.
Они поговорили о Соле и Рахили. За последние шесть месяцев в Сфинкс пытались проникнуть сотни людей, но удалось это только одному — неприметному Бродяге по имени Специальный Аммениет.
Все эти месяцы специалисты Бродяг не сидели сложа руки — они исследовали Гробницы и следы темпоральных полей. Когда Гробницы распахнулись, на некоторых проступили иероглифы и странно знакомая клинопись, позволившие выдвинуть обоснованные гипотезы о назначении сооружений.
Сфинкс был односторонним порталом в будущее — об этом говорила Рахиль/Монета. Никто не знал, по какому признаку он отбирает кандидатов, но очереди выстраивались громадные. Дальнейшая судьба Сола и его дочери пока оставалась неизвестной. Ламия часто ловила себя на мыслях о старом ученом.
Ламия, Консул и Мартин Силен выпили за здоровье Сола и Рахили.
По-видимому, Нефритовая Гробница была каким-то образом связана с газовыми гигантами. Ее портал никого не впускал, но Бродяги, выращенные и подготовленные к жизни в юпитерианских условиях, не оставляли попыток проникнуть туда. Специалисты — и Бродяги, и эксперты ВКС — неоднократно указывали, что Гробницы не привычная нуль-Т, а совершенно иная форма космической связи. Туристы в подобные тонкости не вникали.
Обелиск оставался загадкой. Гробница все еще светилась, но входа в нее не было. Бродяги считали, что внутри прячутся армии Шрайков. Мартин Силен видел в ней фаллический символ, служащий исключительно украшением долины. Остальным казалось, что она имеет какое-то отношение к Тамплиерам.
Ламия, Консул и Мартин Силен выпили за Хета Мастина, Истинного Гласа Древа.
Хрустальный Монолит стал мавзолеем полковника Кассада. Надписи на камне расшифровали. В них говорилось о вселенской битве и великом воине, который явился из прошлого, чтобы помочь разбить Повелителя Боли. Юные матросы с факельщиков и авианосцев зачарованно созерцали Гробницу. Этим кораблям, возвращавшимся на планеты бывшей Сети, предстояло разнести легенду о Кассаде во все уголки галактики.
Ламия, Консул и Мартин Силен выпили за Федмана Кассада.
Первая и вторая из Пещерных Гробниц, судя по всему, никуда не вели, но из третьей, похоже, можно было попасть в лабиринты многих миров. После исчезновения нескольких исследователей, администрация Бродяг, ссылаясь на то, что лабиринты расположены в иных эпохах прошлого и будущего — отстоящих на сотни тысяч лет от настоящего — и в иных пространствах, запретила вход в пещеры всем, кроме специалистов.
Ламия, Консул и Мартин Силен выпили за Поля Дюре и Ленара Хойта.
Дворец Шрайка оставался загадкой. Когда Ламия и другие вернулись туда через несколько часов, ярусов уже не было, зал уменьшился до привычных размеров, а в середине его сиял светящийся квадрат. Входившие в него исчезали. Никто не вернулся назад.
Ученые закрыли Дворец Шрайка для посетителей и взялись за расшифровку высеченных на камне и сильно поврежденных временем надписей. До настоящего времени им удалось разобрать всего три слова — на земной латыни: «Колизей», «Рим» и «Вновь населите». Пошли слухи, что светящийся квадрат позволяет попасть на исчезнувшую Старую Землю и что жертвы тернового дерева перенесены именно туда. Сотни желающих ожидали своей очереди.
— Вот видишь, — поддел Ламию Мартин Силен, — не помчись ты спасать меня, я был бы уже дома.
Тео Лейн вышел из задумчивости:
— Неужели вам действительно хочется на Старую Землю?
Силен ухмыльнулся:
— Да ни хрена подобного! Я там чуть не умер со скуки, и скука смертная там будет всегда. Вот здесь — настоящая жизнь. — И Силен провозгласил тост за себя.
«В каком-то смысле, — подумала Ламия, — он прав». Именно на Гиперионе пересеклись пути Бродяг и граждан бывшей Гегемонии. Гробницы Времени были мощным катализатором для развития торговли, туризма и транспорта в галактике, которая приспосабливалась к жизни без нуль-Т. Она попыталась представить себе будущее таким, каким видели его Бродяги: огромные флоты расширяли горизонты человечества, генетически перестроенные люди обживали газовые гиганты, астероиды и миры, еще более суровые, чем Марс и Хеврон до терраформирования. Возможно, эту вселенную увидит ее дочь… или ее внуки.
— О чем вы задумались? — нарушил Консул затянувшееся молчание.
Ламия улыбнулась.
— О будущем. И о Джонни.
— О да! — подхватил Силен. — О поэте, который так и не стал Богом.
— Как по-вашему, что случилось с его второй личностью? — негромко спросила Ламия.
Консул развел руками.
— Вряд ли она пережила гибель Техно-Центра. А вы что об этом думаете?
Ламия покачала головой.
— Мне остается лишь завидовать. Сколько людей его видело! Даже Мелио Арундес столкнулся с ним в Джектауне.
Они выпили за Мелио, который пять месяцев назад улетел с первым же спин-звездолетом ВКС, возвращавшимся в Сеть.
— А я его так и не встретила. — Ламия хмуро уставилась в свой бокал с бренди. Она чувствовала, что слегка пьяна. Надо будет обязательно принять антиалкогольные таблетки, чтобы не причинить вред ребенку. — Я возвращаюсь, — объявила она, поднимаясь. — Завтра мне нужно встать затемно, чтобы полюбоваться вашим взлетом на фоне рассвета.
— Может, переночуете на корабле? — предложил Консул. — Из гостевой каюты открывается чудесный вид на долину.
Ламия отрицательно покачала головой.
— Мой багаж в старом дворце.
— Мы еще увидимся, — сказал Консул. Они снова обнялись, быстро, чтобы скрыть блеснувшие в глазах слезы.
Мартин Силен проводил ее до Града Поэтов. Они прошли освещенную галерею и остановились у дверей ее комнаты.
— Ты действительно висел на дереве, или это было что-то вроде фантопликации, а сам ты спал во Дворце Шрайка? — спросила Ламия.
Поэт ткнул пальцем в то место на груди, откуда торчал стальной шип.
— Был я китайским мудрецом, воображавшим себя бабочкой, или бабочкой, воображавшей себя китайским мудрецом? Ты об этом, детка?
— Об этом.
— Да, — ответил Силен негромко. — Я был и тем, и другим. И оба были настоящие. И обоим было больно. И я буду вечно любить и лелеять тебя за то, что спасла мне жизнь. За то, что ходила по воздуху. Такой ты и останешься в моей памяти. — Он взял ее руку и нежно, почтительно, почти благоговейно, поцеловал. — Пойдешь к себе?
— Нет, хочу немного прогуляться по саду.
Поэт нахмурился:
— У нас здесь есть патрули — роботы и люди — и Грендель-Шрайк еще не выходил на «бис»… Но будь осторожна, ладно?
— Не забывай, — поддразнила его Ламия, — я гроза Гренделей. Хожу по воздуху и превращаю их в хрупких стеклянных чертиков.
— Угу, только из сада не выходи. Ладно, детка?
— Ладно, — сказала Ламия и коснулась своего живота. — Мы будем начеку.
Он ждал в саду, в уголке, куда не проникал свет.
— Джонни! — вырвалось у Ламии, и она бросилась вперед по дорожке.
— Нет. — Он покачал головой и поспешно сдернул шапку.
Те же рыжевато-каштановые волосы и светло-карие глаза, та же улыбка. Только одет как-то странно: куртка из толстой кожи, подпоясанная широким ремнем, тяжелые башмаки, в руке трость.
Ламия застыла в нерешительности.
— Конечно, — прошептала она и хотела дотронуться до него, но под рукой оказался воздух, хотя характерного для голограмм мерцания не было.
— Тут сохранились довольно плотные поля метасферы, — пояснил он.
— Угу, — согласилась она, совершенно не понимая, о чем он. — Вы другой Китс. Близнец Джонни.
Юноша улыбнулся и протянул руку к ее выпуклому животу.
— То есть что-то вроде дяди?
Ламия молча кивнула.
— Это ведь вы спасли ребенка… Рахиль?
— Вы видели меня?
— Нет. — У Ламии вдруг перехватило дыхание. — Но я чувствовала ваше присутствие. — Она помолчала. — Уммон говорил о Сопереживании, ипостаси людского Высшего Разума. Это ведь не вы?
Он покачал головой, и его кудри сверкнули в тусклом свете фонарей.
— Нет, я всего лишь Тот, Кто Приходит Раньше. Предтеча. И чудес особых не совершал — разве что ребенка подержал, пока его у меня не забрали.
— Так вы не помогали мне… драться со Шрайком? Ходить по воздуху?
Джон Китс засмеялся.
— Нет. Так же, как и Монета. Все это, Ламия, сделали вы сами.
Она замотала головой.
— Быть не может.
— Почему же? — Он опять улыбнулся и снова протянул руку, словно хотел коснуться ее живота, и Ламии показалось, что она ощущает давление его ладони.
— О строгая невеста тишины, дитя в безвестье канувших времен… — прошептал он. — Матери Той, Кто Учит, несомненно, положены кое-какие поблажки![61]
— Матери Той… — Ламию внезапно замутило. Слава Богу, рядом оказалась скамейка. Никогда в жизни она не чувствовала себя такой неуклюжей, но седьмой месяц — есть седьмой месяц, и сесть ей удалось с немалым трудом. Аналогия с дирижаблем, причаливающим к башне, напрашивалась сама собой.
— Той, Кто Учит, — повторил Китс. — Даже предположить не могу, чему Она будет учить, но это изменит всю вселенную и положит начало тому, что не утратит важности и через десять тысячелетий после нас.
— Мой ребенок? — вымолвила она, чувствуя, что ей не хватает воздуха. — Наш с Джонни ребенок?
Двойник Китса потер щеку.
— Слияние человеческого духа и логики ИскИнов, которое безуспешно искали Уммон с Техно-Центром, — сказал он и отступил на шаг. — Хорошо бы оказаться здесь, когда Она будет учить тому, чему должна научить. Увидеть все собственными глазами.
Голова Ламии шла кругом, но что-то в его тоне насторожило ее:
— В чем дело? Ты разве уйдешь? Куда?
Китс вздохнул:
— Техно-Центр исчез. Здешние инфосферы слишком малы, чтобы вместить меня… даже частично. Остаются ИскИны кораблей ВКС, но, боюсь, это не для меня. Не терплю приказов.
— А больше негде?
— Метасфера, — с таинственным видом ответил он и оглянулся. — Но там львы, и тигры, и медведи. А я еще не готов.
Ламия пропустила эту тираду мимо ушей.
— Есть идея, — заявила она. И тут же изложила ее.
Двойник ее возлюбленного обнял ее своими бесплотными руками и сказал:
— Вы чудо, мадам. — И вновь отступил в сумрак.
Ламия покачала головой.
— Всего лишь беременная женщина. — Она положила руку на живот и пробормотала: — Та, Кто Учит, надо же. — Затем обратилась к Китсу: — Раз уж ты у нас архангел, посоветуй, как ее назвать?
Ответа не последовало, и Ламия огляделась по сторонам.
В саду никого не было.
Ламия пришла в космопорт на рассвете. Проводы получились не слишком веселые. Мартин, Консул и Тео страдали от головной боли, поскольку пилюли от похмелья исчезли вместе с Сетью. Одна Ламия была в чудесном расположении духа.
— Чертов бортовой компьютер все утро чудит, — проворчал Консул.
— Это как? — улыбнулась Ламия.
Прищурившись, Консул посмотрел на нее.
— Прошу провести стандартную проверку перед взлетом, а этот кретин выдает мне стихи.
— Стихи? — Мартин театрально выгнул бровь.
— Да… послушайте… — Консул нажал кнопку комлога, и Ламия вновь услышала знакомый голос:
Прощайте, Призраки! Мне недосуг С подушкой трав затылок разлучить; Я не желаю есть из ваших рук, Ягненком в балаганном действе быть! Сокройтесь с глаз моих, чтобы опять Вернуться масками на вазу снов; Прощайте! — для ночей моих и дней Видений бледных мне не занимать; Прочь, Духи, прочь из памяти моей — В край миражей, в обитель облаков![62]— Может, какой-то дефект? — предположил Тео Лейн. — Ведь ИскИн вашего корабля сравним по мощности с разумами бывшего Техно-Центра.
— Так и есть, — сказал Консул. — Я проверил. Все в порядке. Но он раз за разом подсовывает мне… это! — Он взмахнул распечаткой.
Мартин Силен посмотрел на Ламию и, заметив, что она улыбается, повернулся к Консулу.
— Ну что ж, похоже, ваш корабль решил научиться грамоте. Пусть это вас не беспокоит. Он будет хорошим спутником в вашем долгом странствии.
Возникла пауза. И тут Ламия извлекла из сумки объемистый сверток.
— Прощальный подарок, — сказала она.
Консул принялся его разворачивать, сначала медленно, затем все быстрее, разрывая и комкая обертку. Глазам присутствующих открылся свернутый в трубку выцветший и потертый маленький коврик. Консул провел по нему ладонью, поднял глаза и проговорил дрожащим голосом:
— Где… как вы…
Ламия улыбнулась.
— Местная беженка нашла его ниже шлюзов Карлы. Она пыталась продать его на базаре в Джектауне, когда я шла мимо. Кроме меня никто на него не позарился.
Консул сделал глубокий вдох и провел пальцем по узору ковра-самолета, который доставил его деда на роковое свидание.
— Боюсь, он больше не летает, — сказала Ламия.
— Надо перезарядить левитационные нити, — пробормотал Консул. — Не знаю, как вас благодарить…
— Не благодарите. — Ламия улыбнулась. — Это вам талисман в дорогу.
Консул покачал головой, обнял Ламию, пожал всем руки и поднялся на лифте в рубку. Ламия и остальные двинулись к зданию космопорта.
В лазурном небе Гипериона не было ни облачка. Солнце окрасило далекие вершины Уздечки в бледно-розовые тона. Все предвещало чудесный теплый день.
Ламия оглянулась на Град Поэтов и долину за ним. Из-за скал виднелись верхушки Гробниц Времени. Одно крыло Сфинкса озарило солнце.
В ту же секунду эбеново-черный корабль Консула беззвучно поднялся на струе голубого пламени и устремился в небо.
Ламия пыталась вспомнить стихи, которые только что прочла, и последние строки неоконченного шедевра своего возлюбленного:
Гиперион вошел. Он весь пылал Негодованьем; огненные ризы За ним струились с ревом и гуденьем, Как при лесном пожаре, — устрашая Крылатых Ор. Пылая, он прошел…[63]Теплый ветер играл ее волосами. Задрав голову, Ламия отчаянно махала рукой, не пытаясь скрыть или смахнуть слезы, а красавец-корабль поднимался все выше и выше, оставляя за собой ослепительный голубой след, и наконец преодолел звуковой барьер. Громовой удар разнесся по пустыне и эхом отозвался в далеких горах.
Ламия плакала в голос и все махала улетевшему Консулу, небу, друзьям, которых больше никогда не увидит, кусочку своего прошлого и кораблю, уносившемуся в небо, словно гигантская черная стрела, выпущенная из лука каким-то божеством.
«Пылая, он прошел…»
ПЕСНИ ЭНДИМИОНА (дилогия)
Мы не должны забывать, что человеческий дух, сколь независимым ни представляла бы его философия, неотделим, в силу своего рождения и развития, от универсума, в котором возник.
П. Тейяр де Шарден Дайте, дайте, Дайте же нам богов! Мы так устали от людей И от машин. Дэвид Г. Лоуренс[64]После Падения Великой Сети прошло почти три века, нуль-порталы больше не действуют, от некогда великой Гегемонии не осталось и следа. Но свято место пусто не бывает, а посему место Гегемонии заняла возрожденная католическая церковь, чьё власть и влияние приобрели по-настоящему вселенские масштабы.
Триллионы её последователей на множестве обитаемых планет приняли крестоформ, как символ новой веры и воскрешения. И лишь немногие местные общины на окраинных захолустных планетах отвергают её власть. Одному из таких людей — Раулю Эндимиону, жителю Гипериона, поэт Мартин Силен, автор легендарных «Песен», поручает спасти дочь Ламии Брон — Энею, девочку, что в будущем станет мессией и вестницей новой эры — Той-Кто-Учит.
Книга I ЭНДИМИОН
Глава 1
Право слово, зря вы это читаете.
Если вы читаете, потому что вам любопытно, каково любить мессию — нашего мессию, — прошу вас, отложите книгу, ибо в таком случае вы лишь немногим лучше любителя подсматривать.
Если потому, что без ума от «Песней» древнего поэта и вам не терпится узнать, что было дальше с теми, кто совершил знаменитое паломничество на Гиперион, моя книга вас разочарует. Я не знаю, что сталось с большинством из них. В конце концов они жили за три столетия до моего появления на свет.
Если потому, что хотите постичь всю глубину посланий Той-Кто-Учит, вам снова не избежать разочарования. Дело в том, что она гораздо сильнее интересовала меня как женщина, а не как наставница или мессия.
И наконец, если вы читаете потому, что стремитесь узнать ее или даже мою судьбу, вы взяли в руки не тот документ. Разумеется, чему быть, того, как известно, не миновать; но у нее своя судьба, которая свершилась, когда меня рядом не было, а что касается моей собственной, сейчас, когда я пишу эти строки, близится последний миг…
Признаться, я несказанно удивлюсь, если вообще кто-либо прочтет мою писанину. Впрочем, жизнь удивляла меня и раньше. За несколько лет произошло столько невероятных событий, причем каждое мнилось невероятнее и неотвратимее предыдущего! Я пишу для того, чтобы поделиться воспоминаниями. Может быть, не то чтобы поделиться (эту рукопись почти наверняка никогда не найдут), но чтобы изложить ход событий и тем самым упорядочить его в памяти.
«Откуда мне знать, о чем я думаю, до тех пор, пока я не увижу написанного своей рукой?» — заметил как-то некий древний автор. Вот именно. Я должен видеть то, что написано о минувших годах, чтобы составить о них представление. Должен видеть, как события складываются в строчки, чувства выстраиваются в предложения и абзацы, а иначе не поверю, что все это было на самом деле и не с кем-нибудь, а со мной.
Если вы читаете по той же причине, по какой я пишу — чтобы вычленить из хаоса последних лет какой-никакой порядок, чтобы попытаться структурировать череду более или менее случайных событий, оказывавших такое влияние на наши жизни, — тогда, быть может, вы читаете и не зря.
С чего начать? Со смертного приговора? Но с чьего — моего или ее? А если с моего, то с какого именно? Их ведь было несколько, выбирай любой. Наверно, с окончательного — так сказать, начнем с конца.
Я пишу эти строки в «кошачьем ящике» Шредингера, который вывели на орбиту вокруг Армагаста, где объявлен карантин. Ящик представляет собой гладкостенный эллипсоид, шесть на три метра в поперечнике, который я при всем желании не покину до самой смерти. Обстановка моего крохотного спартанского мирка такова: система рециркуляции воздуха и воды, койка, синтезатор пищи, узкая стойка, которая служит одновременно обеденным и письменным столом, а также туалет, раковина и душ, почему-то отделенные от всего остального пластиковой перегородкой. Учитывая, что меня никто не навещает, подобная забота о соблюдении приличий кажется насмешкой.
Я располагаю палетой и пером; дописав очередную страницу, переношу текст на микровелен, который производит система рециркуляции. Единственное, что меняется с течением времени в моем мирке, — толщина стопки веленевых листов.
В корпусе «ящика» спрятана капсула с отравляющим газом. Она вмонтирована в воздушный фильтр, и всякая попытка добраться до нее или проделать дыру в корпусе приведет к тому, что внутрь начнет поступать цианид. Кроме того, в статико-динамическом поле «ящика» находятся счетчик радиации, изотопный элемент и таймер. Мне не суждено узнать, когда именно таймер включит счетчик, когда крохотный изотоп лишится свинцовой оболочки, когда в камеру устремится поток частиц…
Но в ту секунду, когда это случится, я пойму, что счетчик заработал, и успею еще ощутить перед смертью запах горького миндаля.
Надеюсь, все произойдет быстро.
С технической точки зрения, если вспомнить древние загадки квантовой механики, я сейчас не жив и не мертв. Пребываю в подвешенном состоянии, плещусь в волнах вероятности, которые предназначались когда-то для кошки в мысленном эксперименте Шредингера. Поскольку корпус моей тюрьмы — не более чем сгусток «сжиженной» энергии, готовой вырваться на свободу при первой возможности, ни один человек не заглянет сюда, чтобы проверить, жив я или нет. Теоретически никто из людей ответственности за мою смерть не несет, ибо всем управляют непогрешимые законы квантовой механики, которые каждую микросекунду сначала осуждают меня, а затем — пока — милуют. Людей поблизости не найти.
Если не считать меня самого. Я внимательно наблюдаю за происходящим, ожидая, когда же наконец волны возможного наложатся друг на друга. Это не просто любопытство. В тот миг, когда послышится шипение газа, за мгновение до того, как цианид проникнет мне в легкие, поразит сердце и мозг, я узнаю, как устроена вселенная.
По крайней мере для меня. Если вдуматься, это главное во вселенной едва ли не для каждого человека.
А пока я ем и сплю, дышу и наведываюсь за перегородку — в общем, занимаюсь повседневными делами, которые моментально вылетают из памяти. Какая ирония — ведь сейчас я живу (если «жить» — подходящее слово) лишь для того, чтобы вспоминать и записывать то, что вспоминается.
Нет, не обессудьте, но зря вы читаете мою рукопись. Правда, так уж получается, что причина, по которой человек что-то делает, — вовсе не самое важное. Гораздо важнее сам факт, в данном случае — то, что я пишу, а вы читаете написанное мной.
С чего же начать? С нее? Вам, без сомнения, хочется узнать о ней поподробнее; кроме того, она — единственная, о ком я стремлюсь помнить. Однако начать, пожалуй, стоит с тех событий, которые свели нас вместе, а затем увлекли в странствие по вселенной.
Полагаю, начинать лучше с начала — то бишь с моего первого смертного приговора.
Глава 2
Меня зовут Рауль Эндимион. Я родился на Гиперионе в 693 году по местному календарю, или в 3099 году от Р.Х. по старому календарю «до Хиджры» — или, если, как то делает большинство в эпоху Мира, считать по-новому, 247 лет спустя после Падения.
Когда я странствовал с Той-Кто-Учит, обо мне говорили, будто я был пастухом. В том была доля истины. Мои родичи издавна пасли скот на пустошах и лугах в захолустье Аквилы, среди которого я вырос, и в детстве мне частенько приходилось им помогать. Какими славными кажутся теперь ночи под звездным небом Гипериона! В шестнадцать лет (по гиперионскому календарю) я сбежал из дома и завербовался в подчинявшиеся Ордену силы самообороны. За все три года скуки и маеты выпало одно-единственное, весьма сомнительное развлечение — на протяжении четырех месяцев мы сражались с урсианскими повстанцами на Ледяном Когте. После демобилизации я работал вышибалой-крупье в едва ли не самом занюханном казино на Девяти Хвостах, в течение двух сезонов водил баржи в верховьях Кэнса, а потом разбивал сады в поместьях Клюва под руководством мастера-планировщика Эврола Юма. Впрочем, все эти профессии не очень-то красили человека, сопровождавшего Ту-Кто-Учит, в глазах поздних хронистов. Другое дело пастух, верно? Пастух, пастырь — чем не библейский сюжет?
Я не против, чтобы меня называли пастырем. Но на страницах этой рукописи я предстану перед вами пастырем, чья паства состояла всего лишь из одной, хоть и необычайно ценной овечки. Я ее не столько нашел, сколько потерял.
К тому времени, когда моя жизнь круто переменилась и когда начали происходить события, о которых пойдет речь ниже, мне исполнилось двадцать семь лет. По гиперионским меркам я был высок ростом, выделялся среди сверстников мозолями на руках да любовью ко всякого рода завиральным идеям, а на жизнь зарабатывал тем, что водил охотничьи экспедиции по болотам вблизи залива Тоскахай, в сотне километров к северу от Порт-Романтика. Я успел узнать кое-что о сексе и гораздо больше об оружии, усвоил на собственной шкуре, что поступками мужчин и женщин руководит жадность, научился пользоваться кулаками и скромными умственными способностями, изнывал от неутоленного любопытства и был уверен только в том, что судьба почти наверняка не сулит великих потрясений.
Каким же я был глупцом!
Пожалуй, чтобы описать, что я собой в ту пору представлял, проще всего перечислить, чего я не делал. Я никогда не покидал Гиперион и даже не мечтал о том, чтобы оказаться в космосе. Разумеется, меня водили в соборы — ведь влияние Ордена распространялось и на захолустье вроде того, в которое переселилась моя семья после разорения города Эндимион, — однако я так и не стал верующим и не принял крещение. Обзаведясь кое-каким опытом общения с женщинами, я еще ни разу не влюблялся. Что касается образования, то, если не считать наставлений бабушки, свои знания я почерпнул самостоятельно из книг, которые я буквально глотал, а потому полагал, что знаю все на свете.
На деле же я ничего не знал.
И вот, в свое двадцатисемилетие, гордый собственным невежеством, непоколебимо уверенный в том, что существенных перемен в жизни не предвидится, я совершил поступок, за который меня приговорили к смерти и с которого началась моя настоящая жизнь.
Болота близ залива Тоскахай — грозившие гибелью неосторожному, насыщавшие воздух миазмами — существовали с незапамятных времен. Сотни богатых охотников, многие из которых прилетали с других миров, стремились туда, чтобы пострелять уток. Большинство протоуток вымерло вскоре после того, как их воскресили и выпустили с борта «ковчега» семь столетий тому назад, однако некоторые выжили и приспособились к климату на севере Аквилы. Вот за этими-то утками и охотились денежные мешки, у которых я работал проводником.
Мы четверо — я и три моих товарища-проводника — обосновались на заброшенной фибропластовой плантации, которая находилась на узком перешейке между болотами и притоком Кэнса. Другие проводники в отличие от меня еще ловили рыбу и загоняли крупную дичь, но я предпочитал уток. Болота представляли собой заросли полутропических челмы и плотинника, над выступавшими из воды нагромождениями камней возвышались гигантские стволы прометея; ранней осенью слегка подсыхавшие топи изобиловали утками, которые отдыхали здесь на пути с южных островов к озерам, расположенным на северной оконечности плато Пиньон.
Я разбудил охотников за полтора часа до рассвета, приготовил завтрак из тостов с джемом и кофе, но четыре толстяка-бизнесмена не оценили моей любезности — уплетая за обе щеки, они наперебой бранились и ворчали. Пришлось им напомнить, чтобы проверили оружие: у троих были дробовики, а четвертый оказался глуп настолько, что прихватил с собой древнюю лазерную винтовку. Пока они ели, я успокаивал Иззи — самку лабрадора, которая была у меня со щенков. Собака догадывалась, что мы идем на охоту, а потому едва сдерживала нетерпение.
Мы забрались в плоскодонку и покинули плантацию при первых проблесках света. В темных туннелях под переплетением ветвей серебрились легкие паутинки. Я отталкивался шестом, а охотники — Ролмен, Херриг, Рушомин и Поняску — сидели на носу и горячо что-то обсуждали. Нас разделяли сложенные горкой «плавучие островки» — вогнутые пластиковые диски. На Ролмене и Херриге были дорогие пончо «хамелеон», менявшие расцветку по желанию хозяина; правда, ни тот, ни другой не торопились хвастаться своей экипировкой — видимо, им хотелось забраться в болота поглубже. Когда мы приблизились к заводи, где гнездились утки, я попросил охотников разговаривать потише. Все четверо испепелили меня взглядами, однако сначала понизили голоса, а потом и вовсе замолчали.
К тому моменту посветлело настолько, что при желании можно было читать. Я спустил на воду островки, надел латаный-перелатанный комбинезон и соскользнул в болотную жижу. Иззи сунулась было следом, но я жестом велел ей оставаться в лодке. Собака неохотно подчинилась.
— Пожалуйста, дайте мне ваш дробовик, — попросил я у Поняску. Все эти охотнички, как правило, с трудом сохраняли равновесие, перебираясь из лодки на островок; потому я и забирал у них оружие, чтобы, неровен час, чего не вышло. Вот стервец! Ясно ведь было сказано — ружей не заряжать и держать на предохранителе, а у него и патрон в стволе, и предохранитель спущен… Я вытащил патрон, поставил винтовку на предохранитель, сунул ее в водонепроницаемый мешок у себя за спиной и подождал, пока Поняску переползет на островок. Затем велел остальным ждать и, волоча островок за собой, стал продираться сквозь заросли челмы. Разумеется, охотники могли бы подыскать себе укрытия и сами, однако тут хватало мест, где трясина могла проглотить плот вместе с охотником и даже не поморщиться; вдобавок на болотах обитали кроваво-красные клещи-дракулы, которые так и норовили упасть с ветки дерева на любой движущийся объект. Кроме того, здесь водились ленточные змеи, которых неопытный человек запросто мог перепутать по окраске с побегами челмы, и хищные рыбы, способные с ходу откусить вам палец. В общем, сюрпризов имелось в достатке. И потом, я знал по опыту, что горе-охотнички, позволь я им расположиться где вздумается, встанут так, что вместо уток примутся палить друг в друга. А этого допускать никак не следовало.
Я укрыл Поняску в зарослях на южном краю заводи, показал ему, где встанут другие охотники, предупредил, чтобы он не начинал стрелять, пока я не разберусь с остальными, и вернулся обратно. Рушомин занял позицию метрах в двадцати справа от Поняску, Ролмен удобно расположился чуть поодаль. Оставался только тип с лазерной винтовкой, месье Херриг.
Солнце должно было взойти минут через десять.
— Наконец-то, соизволил! — буркнул толстяк, завидев меня. Он уже успел самостоятельно перебраться на плот, замочив свои хамелеоновые штаны. Неподалеку от лодки на поверхности воды лопались пузырьки метана, что указывало на трясину, поэтому мне всякий раз, когда я уходил и возвращался, приходилось делать крюк. — Тебе платят не за то, чтобы ты гноил порядочных людей в этом дерьме! Я кивнул, протянул руку, вытащил у него изо рта зажженную сигару и швырнул ее в воду — подальше от пузырьков метана.
— Утки чуют запах дыма, — объяснил я, делая вид, что не замечаю разинутого рта и багровеющих щек, после чего поволок плот к намеченному месту, раздвигая грудью оранжево-красные водоросли.
Херриг стиснул в руках свою бесполезную винтовку и свирепо уставился на меня.
— Парень, следи за своим паршивым языком, не то я тебе его выдеру.
Из-под пончо и расстегнутой рубашки виднелось висевшее у него на шее золотое распятие, а чуть пониже — красная складка крестоформа. Месье Херриг принадлежал к воскрешенным христианам.
Я хранил молчание до тех пор, пока плотик не оказался слева от зарослей, в которых сидел Поняску. Теперь охотнички могли палить сколько угодно без опаски подстрелить друг друга.
— Поднимите защитный тент, — сказал я, привязывая веревку, за которую тащил плот, к корню челмы.
Херриг фыркнул, однако развернул камуфляжный тент.
— Подождите немного, — прибавил я. — И не стреляйте вон в ту сторону, иначе попадете в меня.
Ответа не последовало.
Я пожал плечами и вернулся к лодке. Иззи сидела на месте, но по тому, насколько она была напряжена, я понимал, что мыслями лабрадор носится по болоту как щенок. Я потрепал собаку по загривку.
— Потерпи, осталось совсем чуть-чуть.
Она восприняла мои слова как разрешение встать и перебежала на нос.
Серебристые паутинки куда-то исчезли, на небе гасли следы метеоритов. На востоке возникла молочно-белая полоса. Симфония, которую исполняли насекомые и амфибии, стихла, ее сменили утренние песни птиц да вздохи трясины. Небеса постепенно приобретали лазурный оттенок.
Я завел лодку под стебли челмы, жестом велел Иззи не высовываться и достал из-под скамьи приманку. У берега заводи виднелась ледяная корка, но в середине вода была чистой и повсюду доходила мне только до груди. Я разместил муляжи, включил поочередно каждый из них и едва успел возвратиться к плоскодонке до того, как появились утки. Первой их учуяла Иззи — насторожилась, повела носом, словно ветер принес запах. Секундой позже донесся шелест крыльев. Я подался вперед, слегка раздвинув стебли.
Посреди заводи плавали мои муляжи. Один из них выгнул шею и закрякал в тот самый миг, когда над деревьями с юга показались настоящие утки. Три птицы оторвались от стаи, распростерли крылья, замедляя полет, и, будто по невидимым рельсам, соскользнули к воде.
Как то со мной бывало всегда, я ощутил невольный трепет; к горлу подкатил комок, сердце пропустило удар, потом забилось вдвое чаще и вдруг заболело. Я провел большую часть жизни в глухих местах, как говорится, наедине с природой, и, казалось бы, должен был привыкнуть ко всему, но это невыразимо прекрасное зрелище всякий раз лишало меня дара речи. Иззи будто превратилась в статую из слоновой кости.
Раздался выстрел. Заговорили три дробовика, владельцы которых будто состязались, кто выстрелит быстрее. Затем над болотом сверкнул лиловый разряд лазера.
В первую утку угодили, должно быть, сразу две или три пули: птицу буквально разорвало на части. Второй попали в крыло, и она, мгновенно утратив всю красоту и грациозность, плюхнулась в воду. Третья метнулась вправо, пролетела по-над заводью и начала набирать высоту. По зарослям челмы хлестнул луч лазера, этакий бесшумный серп, потом вновь загрохотали ружья, однако птица, похоже, все рассчитала — она камнем упала вниз, выровняла полет у самой поверхности заводи и полетела в нашу с Иззи сторону.
Расстояние от нее до воды составляло не больше двух метров. Она мерно взмахивала крыльями, каждое движение, казалось, было подчинено единственному желанию — спастись. Я сообразил, что утка собирается пролететь под деревьями — там, где начиналась уводящая к плантации протока. Несмотря на то что птица находилась точно между моими охотничками, они продолжали стрелять.
Я вытолкнул лодку из зарослей и командирским голосом, который приобрел в бытность сержантом сил самообороны, рявкнул: «Прекратить огонь!» Двое подчинились, однако третий дробовик и лазерная винтовка по-прежнему палили вовсю. Утка пролетела в метре слева от плоскодонки.
Иззи вздрогнула, разинула пасть, словно удивляясь такому нахальству. Наконец замолчал и третий дробовик, но лиловый луч лазера неумолимо надвигался на нас сквозь облако тумана. Я крикнул снова и потянул Иззи вниз, на дно лодки.
Утка резко свернула в сторону и устремилась вверх. Внезапно запахло озоном, нос лодки рассекла безупречно прямая лиловая линия. Я схватил Иззи за ошейник и подтянул собаку поближе к себе.
Лиловый луч прошел в каком-то миллиметре от моих пальцев. Во взгляде Иззи промелькнуло недоумение, на оскаленной морде появилось озадаченное выражение; она наклонила голову, чтобы, как в ту пору, когда была щенком и чувствовала, что в чем-то провинилась, прижаться к моей груди. Голова собаки отделилась от туловища и с тихим плеском упала за борт. Я все еще держал Иззи за ошейник, ее передние лапы упирались мне в грудь… Затем из шеи лабрадора фонтаном забила кровь, и я откатился в сторону, отпихнув обезглавленное тело. Кровь была теплой и горьковатой на вкус.
Лазерный луч срезал ветку челмы в метре от лодки, а потом пропал, как будто его и не было.
Я сел и взглянул на месье Херрига, находившегося на противоположном конце заводи. Толстяк раскуривал сигару, винтовка лежала у него на коленях. Сигарный дым смешивался с клубами поднимавшегося над заводью тумана.
Я соскользнул в воду и направился к Херригу.
Когда я приблизился, он взял винтовку в руки и проворчал, не вынимая изо рта сигары:
— Ну что, ты подберешь моих уток или допустишь, чтобы они…
Я схватил его левой рукой за пончо и дернул на себя. Он попытался перехватить винтовку, но я опередил — вырвал у него оружие и швырнул в воду. Он закричал, сигара упала на плот. Я стащил его в болото. Херриг вынырнул, выплюнул изо рта водоросль, и тут я врезал ему в челюсть, выбив сразу несколько зубов (и разодрав себе кожу на костяшках пальцев). Херриг ударился головой о край плотика и вновь скрылся под водой.
Я подождал, пока его физиономия не возникнет на поверхности подобно перевернувшейся вверх брюхом рыбине, а затем принялся топить, наблюдая за пузырьками. Остальные три охотника завопили со своих плотов, но я не обращал на них ни малейшего внимания.
Когда Херриг кончил дергаться, а пузырьки почти перестали появляться на поверхности, я отпустил ублюдка и сделал шаг назад. На какой-то миг мне показалось, что он уже не всплывет, но в следующую секунду толстяк вынырнул и вцепился в край плотика. Его начало рвать. Я отвернулся и жестом подозвал прочих.
— На сегодня хватит. Давайте мне ваши ружья. Мы возвращаемся.
Каждый из них раскрывал рот, чтобы возразить, но, перехватив мой взгляд и посмотрев на залитое кровью лицо, покорно протягивал дробовик.
— Прихватите своего приятеля, — сказал я Поняску и вернулся к лодке, где разрядил дробовики и засунул их в водонепроницаемый отсек на носу, а патроны сложил на корме. Потом спустил за борт начавший уже коченеть труп Иззи, бросил взгляд на лужу крови на дне лодки и встал, опираясь на шест.
Охотники подтащили свои плотики и тот, на котором распростерся Херриг. Толстяк был по-прежнему бледен. Перебравшись в плоскодонку, они принялись втягивать на борт плотики, но я их остановил.
— Не надо. Привяжите к корням. Я вернусь за ними завтра.
Троица подчинилась, затем втащила в лодку Херрига, походившего на жирную рыбину. Царившую на болотах тишину нарушали только пение птиц, трескотня насекомых и звук, с каким Херриг то и дело перегибался через борт. Охотники сразу же начали перешептываться между собой. На плантацию мы возвратились в то мгновение, когда лучи солнца разогнали последние облачка тумана над темной водой.
На том я, собственно, и закончил бы, если бы то был конец.
Я обедал в помещении, которое служило кухней, когда месье Херриг выскочил из своей палатки, размахивая армейским иглометом. На Гиперионе такое оружие было вне закона, Орден разрешал им пользоваться только силам самообороны. Остальные три охотника провожали Херрига изумленными взглядами.
Херриг ввалился на кухню. От него за метр разило виски. Он не устоял перед соблазном и перед тем, как прикончить меня, решил произнести короткую, но пламенную речь:
— Ах ты, язычник, сукин сын…
Я не стал дожидаться продолжения и в тот самый миг, когда он выстрелил с бедра, кинулся на пол.
Шесть тысяч стальных игл разнесли в клочья печку, кастрюлю с жарким, раковину, окно над раковиной, полки и стоявшую на них посуду. Меня всего обсыпало кусочками пищи, осколками пластика, фарфора и стекла. Когда Херриг нагнулся, чтобы выстрелить в упор, я схватил его за ноги.
Он повалился навзничь, выбив из половых досок пыль, накопившуюся в них за добрый десяток лет. Я ударил его в пах и стиснул ему запястье, намереваясь выхватить пистолет. Однако он намертво вцепился в рукоять, а палец по-прежнему держал на спусковом крючке. Я услышал, как с тихим гудением встала на место новая обойма. От Херрига пахло виски и табаком; он победно ухмыльнулся и с трудом, но нацелил ствол на меня. Я перехватил руку толстяка, и мало-помалу ствол пистолета уткнулся в складки жира у него под подбородком. Наши взгляды скрестились за мгновение до того, как он сам, пытаясь высвободиться, нажал на спуск…
Я объяснил одному из охотников, как работает рация, и вскоре на лужайку перед кухней опустился скиммер службы безопасности. На Аквиле имелась от силы дюжина таких скиммеров, поэтому вид черного летательного аппарата подействовал отрезвляюще, если не сказать больше.
Мне надели наручники, присобачили к виску нейроконтроллер и затолкали в камеру в задней части скиммера. Я сидел там, обливаясь потом, а агенты службы безопасности, все как один прошедшие специальную подготовку, собирали по кусочку, соскребали со стен и пола то, что осталось от черепа Херрига. Потом, собрав все, что удалось найти, и допросив трех охотников, они погрузили тело на борт скиммера. Загудел двигатель, начали вращаться лопасти винтов, вентиляторы швырнули мне в лицо струю прохладного воздуха — очень вовремя, я чуть было не задохнулся от жары и духоты. Скиммер взмыл в воздух, сделал круг над плантацией и полетел на юг, в направлении Порт-Романтика.
Суд состоялся шесть дней спустя. Ролмен, Рушомин и Поняску показали, что я оскорбил Херрига на пути к заводи, а по прибытии на место напал на него. Собака, по их версии, погибла в суматохе, которая началась из-за моего безобразного поведения. Далее они заявили, что, когда все вернулись на плантацию, я стал размахивать иглометом (а это оружие, как известно, не может принадлежать частному лицу) и грозился убить всех четверых. Херриг попытался отнять у меня оружие, и тогда я застрелил его в упор, в буквальном смысле слова сорвав ему голову с плеч.
Последним давал показания сам Херриг. Бледный, еще не успевший как следует прийти в себя после воскрешения, которое состоялось три дня тому назад, облаченный в строгий деловой костюм, он дрожащим голосом подтвердил слова прочих свидетелей и красочно описал, как все было. Адвокат, предоставленный мне судом, даже не стал ни о чем его спрашивать. А о таких вещах, как «правдосказ» и все остальные химические и электронные средства дознания, не могло быть и речи: ведь свидетели принадлежали к воскрешенным христианам и были на хорошем счету у Ордена. Я вызвался пройти сканирование, однако прокурор заявил, что не видит в том необходимости, и судья с ним согласился, а мой адвокат снова промолчал.
Присяжных не было и в помине. Приговор выносил судья, который потратил на размышления от силы минут двадцать. Меня признали виновным и приговорили к смертной казни.
Я попросил отложить казнь до того дня, когда в Порт-Романтик смогут прибыть, чтобы попрощаться со мной, мои родичи с северной оконечности Аквилы. Мне было отказано. Казнь назначили на утро следующего дня.
Глава 3
Вечером ко мне пришел священник из местного монастыря, назвавшийся отцом Цзе, — невысокого роста, с редеющими светлыми волосами. Он слегка заикался и, похоже, почему-то нервничал, но, войдя в камеру для допросов, взмахом руки отослал охранников.
— Сын мой, — произнес он, и я с трудом удержался от улыбки: священник был вряд ли многим старше меня. — Сын мой, готов ли ты предстать перед Господом?
Я передернул плечами.
— Ты отринул Господа, так? — дрожащим от волнения голосом справился отец Цзе, пожевав нижнюю губу.
Мне вновь захотелось пожать плечами, но я подавил это желание и ответил:
— Я всего лишь отказался от крестоформа.
— Сын мой, это одно и то же. — В голосе священника прозвучали умоляющие нотки. — О том поведал сам Господь.
Я промолчал.
— Ведомо ли тебе, что если ты раскаешься и примешь веру Господа нашего, Иисуса Христа, то через три дня воскреснешь по неизреченной милости Вседержителя? — Отец Цзе опустил требник и прикоснулся к моей руке. — Ведомо ли тебе о том, сын мой?
Я поглядел на него в упор и почувствовал вдруг, что смертельно устал — три ночи подряд в соседней камере кто-то заходился в крике, поэтому заснуть не было ни малейшей возможности.
— Ведомо, святой отец. Я знаю, как действует крестоформ.
Священник сокрушенно покачал головой:
— Сын мой, мы говорим не о крестоформе, а о милости Господней.
— Понятно. Скажите, святой отец, а вы сами проходили через воскрешение?
Священник потупился:
— Пока еще нет, сын мой. Но я не страшусь этого дня. — Он снова посмотрел на меня. — И тебе тоже не следует его бояться.
Я на мгновение прикрыл глаза. Откровенно говоря, последнюю неделю я думал как раз о том, о чем он сейчас вещал.
— Послушайте, святой отец, я не хочу оскорбить ваши чувства, но мне думается, что время отказываться от решения, которое я принял несколько лет назад, пока не настало. Крестоформ не для меня.
Отец Цзе подался вперед, глаза его засверкали.
— Сын мой, обратиться в истинную веру никогда не поздно, вот только завтра утром у тебя уже не останется такой возможности. Твое тело бросят в море, где оно станет пищей для мерзких тварей…
— Знаю, — отозвался я. — Мне известно, какая участь ожидает осужденного на казнь, который отказывается от воскрешения. Однако с меня достаточно этого. — Я постучал по нейроконтроллеру у себя на виске. — Или вам нужно, чтобы человек стал бессловесным рабом?
Отец Цзе отшатнулся, будто я его ударил.
— Разве посвятить жизнь Господу означает сделаться рабом? — Я настолько рассердил священника, что он даже перестал заикаться. — Миллионы людей приняли крещение задолго до того, как Господь в своей милости даровал нам возможность воскрешения еще при этой жизни. Миллиарды принимают крещение каждый Божий день. — Он встал. — Выбирай, сын мой. Либо вечный свет и долгая-долгая жизнь во благе, либо вечный мрак преисподней.
Я пожал плечами и отвернулся.
Отец Цзе благословил грешника, печально и в то же время снисходительно попрощался, позвал охранников и вышел. Минуту спустя мой висок пронзила боль, и меня повели обратно в камеру.
* * *
Не стану докучать изложением мыслей, которые терзали меня в ту бесконечную осеннюю ночь. Мне было всего двадцать семь, я радовался жизни как мог, что порой оборачивалось неприятностями — правда, не настолько серьезными, как те, в какие я угодил ныне. Поначалу я прикидывал, можно ли бежать; так животное, которое посадили в клетку, скребет когтями стальные прутья. Тюрьма возвышалась на рифе под названием Жвало, посреди залива Тоскахай. Меня окружали стеклопластик, который невозможно разбить, и сталь, которую невозможно согнуть; гладкие стены, голые полы и потолки… Охранники были вооружены «жезлами смерти», и чувствовалось, что при необходимости они воспользуются ими не задумываясь. Даже если мне удастся выбраться наружу, нажатие кнопки на пульте дистанционного управления нейроконтроллером приведет к тому, что я рухну навзничь с приступом жесточайшей мигрени и не встану, пока за мной не явятся надзиратели.
С мыслей о бегстве я перешел к размышлениям о своей короткой, бесцельно прожитой жизни. Не то чтобы я о чем-то жалел, но и похвастаться мне было нечем. Чего добился Рауль Эндимион за двадцать семь лет прозябания на Гиперионе? Разве что, упрямый осел, недоумок, отказался от воскрешения…
«Ты должен использовать шанс, который предоставляет Орден, — шептал мне внутренний голос. — Новая жизнь, причем не одна! Как можно отвергать такую возможность? Все лучше, нежели настоящая смерть… чем разлагающийся труп, пища для целакантов и кольчатых червей. Подумай, подумай как следует». Я закрыл глаза и попытался заснуть, чтобы избавиться от этого надоедливого советчика.
Ночь длилась целую вечность, однако рассвет все равно наступил раньше, чем следовало… Четыре охранника отвели меня в камеру, где приводились в исполнение приговоры, усадили в деревянное кресло, пристегнули ремнями и ушли, заперев за собой стальную дверь. Оглянувшись через плечо, я различил за стеклопластиковой перегородкой человеческие лица. Почему-то мне казалось, что священник — вовсе не обязательно отец Цзе, любой представитель Церкви — должен снова завести разговор о крещении. Однако ничего подобного не произошло, и я в глубине души даже обрадовался. Не могу ручаться, что не передумал бы в последний момент.
Способ казни отличался простотой и безупречностью; не настолько эффектный, как «ящик Шредингера», он тем не менее позволял добиваться отличных результатов. На стене висел нейродеструктор ближнего боя, нацеленный на то самое кресло, к которому пристегнули меня. Я видел алый индикатор подсоединенного к оружию комлога. Еще в зале суда товарищи по несчастью охотно и во всех подробностях описали мне методику казни. В процессоре комлога имелся генератор случайных чисел. Стоило ему выдать простое число меньше семнадцати, включался «жезл смерти». Отсюда следовало, что комок серого вещества, заключавший в себе личность и воспоминания Рауля Эндимиона, просто-напросто расплавится, превратится в нечто вроде кучки радиоактивного шлака. Миллисекунды спустя откажут и автономные функции. Сердце остановится и дыхание пресечется едва ли не в тот самый миг, когда будет уничтожен мой мозг. Специалисты утверждали, что погибнуть от нейродеструктора — наименее мучительный вариант смерти. Те, кто пережил после этого воскрешение, не распространялись о своих ощущениях, однако по тюрьме гулял слух, что голова буквально раскалывается — как будто лопаются одновременно все сосуды.
Я не сводил взгляда с комлога и «жезла смерти», рядом с которым стоял цифровой дисплей, где то и дело возникали новые комбинации чисел. Этакий указатель этажей на лифте в преисподнюю. 26–74—109—19–37. Похоже, процессор запрограммирован не выдавать чисел больше 150. 77–42—12—60–84—129–108—14…
Я отвернулся, стиснул кулаки, задергался на кресле, пытаясь хоть немного ослабить пластиковые ремни, и принялся выкрикивать ругательства, проклиная на чем свет стоит тюремные стены и физиономии за перегородкой, поганую Церковь с ее вшивым миропорядком, гнусного выродка, который убил мою собаку, и тех треклятых трусов…
Не знаю, какое число появилось на дисплее. Я не заметил и не услышал, как загудел нейродеструктор. Однако я кое-что почувствовал: в затылке возникло онемение, которое быстро распространилось по всему телу. Признаться, я поразился, что ощутил хотя бы это. «Специалисты ошибались, — подумалось мне, — человек в состоянии почувствовать свой конец». Если бы не онемение, накатившее волной, я бы, наверно, засмеялся.
В следующий миг черные воды забытья увлекли меня за собой.
Глава 4
Очнувшись и поняв, что жив, я поначалу ничуть не удивился. Если вдуматься, чему тут удивляться — вот если бы я очнулся и обнаружил, что мертв… Короче говоря, я не ощущал ни малейшего неудобства, за исключением легкого покалывания в конечностях, и лежал себе, наблюдая, как солнечный свет крадется по грубо оштукатуренному потолку, — до тех пор, пока неожиданная мысль не заставила меня сесть.
Минуточку! Разве я не?.. Разве меня…
Я огляделся по сторонам. Если мне и казалось, что казнь произошла во сне, аскетическая обстановка комнаты начисто рассеяла подобные заблуждения. Комната имела форму эллипса, стены были выбелены известкой, потолок покрывал толстый слой штукатурки. Единственным предметом мебели была кровать, а сероватое постельное белье фактурой напоминало штукатурку. В стене виднелась массивная деревянная дверь — естественно, закрытая; напротив располагалось распахнутое настежь сводчатое окно. Бросив взгляд на лазурное небо, я удостоверился, что по-прежнему нахожусь на Гиперионе. Вот только это вовсе не тюрьма Порт-Романтика: слишком уж древние тут стены, слишком затейлива резьба на двери, да и постельное белье заведомо лучше тюремного.
Я встал и, не обращая внимания на то, что на мне нет ровным счетом никакой одежды, подошел к окну. Задувал прохладный ветерок, однако солнце еще пригревало. Выглянув из окна, я увидел, что нахожусь в каменной башне. К горизонту уходила гряда холмов, верхушки которых венчали густые заросли челмы и плотинника, а на скалистых участках рос вечноголубой кустарник. Вдалеке, на гребне, на котором возвышалась башня, можно было различить стены, бастионы и очертания другой башни. Судя по внешнему виду, эти сооружения возвели задолго до Падения; в них ощущались те вкус и умение, какие отличали древних.
Я сразу сообразил, куда меня занесло: челма и плотинник подтверждали, что я не покидал Аквилы, а пленительные в своей древности руины свидетельствовали, что я очутился в покинутом городе Эндимион.
Признаться, я ни разу не бывал в городе, название которого стало моей фамилией, однако многажды слышал о нем от бабушки, знавшей множество самых разных историй. Эндимион возник вскоре после крушения «ковчега», случившегося без малого семьсот лет тому назад. До Падения он славился своим университетом — огромным, похожим на замок сооружением, что возвышалось на холме над городом. Дед бабушкиного прадеда преподавал в университете еще до того, как войска Ордена захватили центральную часть Аквилы, был отдан приказ об эвакуации и тысячам людей пришлось покинуть родные места.
И вот я здесь.
Дверь открылась, и вошел мужчина — лысый, с голубой кожей и небесно-голубыми глазами. Он принес нательное белье и костюм из той же ткани, что и простыни.
— Будьте добры одеться, — произнес он.
Я таращился на него, пока он не вышел в коридор. Голубая кожа, ярко-голубые глаза, полное отсутствие волос… Первый андроид, которого я увидел воочию! А ведь спроси меня кто-нибудь пять минут назад, я бы поклялся чем угодно, что на Гиперионе нет ни единого андроида. Изготавливать андроидов запретили законом еще до Падения, и хотя Печальный Король Билли именно с их помощью выстроил большинство городов на севере, мне не доводилось слышать о том, что они остались на нашей планете. Я тряхнул головой и принялся одеваться. Несмотря на то что фигура у меня была нетипичная — чересчур широкие плечи, длинные ноги, — костюм сидел как влитой.
Одевшись, я вновь подошел к окну, и тут в дверном проеме снова возник андроид, который сделал приглашающий жест:
— Сюда, месье Эндимион.
Я подавил желание пристать к нему с расспросами, поднялся следом за ним по лестнице и очутился в помещении, которое занимало целый этаж. Солнечные лучи проникали внутрь сквозь желто-красные витражные стекла. Одно из окон было распахнуто, снаружи доносился шелест листвы.
Обстановка была не менее скудной, чем у меня в комнате, если не считать разнообразного медицинского и прочего оборудования. Андроид ушел, а мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, что все это оборудование предназначается для человека.
По крайней мере он показался мне человеком.
Мужчина лежал на пенолитовой «летающей кровати», положение которой отрегулировали таким образом, чтобы изголовье находилось значительно выше изножья. От оборудования к нему тянулись многочисленные трубки (некоторые выглядели точь-в-точь как пиявки); чуть поодаль мерцали экраны мониторов. Тело высохшее, едва ли не мумифицированное, морщинистая кожа пошла складками, на почти лысой голове виднелись пятна, руки и ноги производили впечатление рудиментарных отростков. Мне почему-то подумалось, что он похож на еще не оперившегося птенца, выпавшего из гнезда. Кожа мужчины отливала голубым, и я было решил, что передо мной второй андроид, но потом заметил, что оттенки голубого сильно различаются. А когда обратил внимание на то, что от ладоней, грудной клетки и лба исходит слабое свечение, догадался, что вижу человека, познавшего, и не раз, все прелести — или муки — поульсенизации.
Но ведь сейчас ее не делают! Технологию утратили во время Падения заодно с сырьем, что поступало к нам из других, затерянных в пространстве миров. Во всяком случае, так я думал. Однако вот человек, которому несколько сотен лет и который, судя по его виду, прошел поульсенизацию всего лишь лет тридцать — сорок назад.
Мужчина открыл глаза.
Впоследствии мне доводилось встречать не менее властные взгляды, но тогда он застал меня врасплох. Кажется, я попятился.
— Подойди поближе, Рауль Эндимион, — произнес мужчина. Голос был такой, словно кто-то тупым пером царапал пергамент, а губы человека, когда он говорил, складывались в некое подобие черепашьего клюва.
Я приблизился почти вплотную, теперь нас разделяла только консоль передатчика. Старик моргнул, поднял костлявую ладонь, слишком массивную на вид для тонкого, будто ветка, запястья.
— Знаешь, кто я такой? — прошептал он.
Я покачал головой.
— А где находишься, знаешь?
— В Эндимионе, — ответил я, сделав глубокий вдох. — По-моему, на территории университета.
Старик усмехнулся беззубым ртом:
— Молодец. Узнал, значит, город, от которого получил фамилию. Но кто такой я, ты даже предположить не можешь?
— Нет.
— И не хочешь спросить, каким образом выжил после казни?
Я слегка расслабился, ожидая продолжения.
— И впрямь молодец. — Мужчина снова усмехнулся. — Кто умеет ждать, тот добьется своего… К тому же это не слишком интересно — взятки высоким чинам, станнер вместо нейродеструктора, взятки тем, кто подтверждает летальный исход и избавляется от тела. Насколько я понимаю, Рауль Эндимион, вопрос «как?» нас не заботит, верно?
— Верно, — согласился я. — Важно не как, а зачем.
Старик кивнул. Мне бросилось в глаза, что, несмотря на возраст, его лицо не разгладилось, сохранило присущие более молодым резкие, угловатые черты. Кстати, лицом старик смахивал на сатира.
— Вот именно. В самом деле, зачем? Какого хрена разыгрывать казнь и тащить твою долбаную тушу на другой конец долбаного континента? — Ругательства, которыми он вдруг начал сыпать, не казались особенно грубыми. Как будто старик уснащал ими свою речь так долго, что они превратились в естественное дополнение к остальным словам. — Я хочу, чтобы ты выполнил мое поручение. Согласен?
Дышал старик тяжело, со свистом. По трубкам внутривенного питания текла прозрачная жидкость.
— А разве у меня есть выбор?
Старческие губы растянулись в улыбке, однако глаза оставались холодными, как камень стен.
— Мальчик, выбор есть всегда. Ты вполне можешь наплевать на то, что обязан мне жизнью, повернуться и уйти. Никто тебя не остановит. Если повезет, ты рано или поздно доберешься до цивилизованных земель и сумеешь избежать встречи с патрулями Ордена — иначе я не позавидую твой участи, ведь официально ты мертв.
Я кивнул. Моя одежда вместе с хронометром, документами и удостоверением личности покоилась скорее всего на дне залива Тоскахай. Вот что значит практически не бывать в городах: я совсем забыл, сколь часто власти устраивают облавы. Ничего, стоит мне очутиться в любом из городов побережья, я тут же вспомню… Дурацкое положение; без удостоверения меня не возьмут даже пастухом, поскольку в нем ставятся отметки о взимании налога и десятины. Иными словами, придется до конца своих дней прятаться в глуши, перейти на подножный корм и избегать людей.
— А если выполнишь мое поручение, — продолжал старик, — то разбогатеешь. — Он сделал паузу и оглядел меня с головы до ног. Так профессиональные охотники изучают щенков, прикидывая, вырастут ли те в хороших охотничьих собак.
— Что я должен делать?
Старик опустил веки, хрипло вздохнул и, не открывая глаз, спросил:
— Ты умеешь читать, Рауль?
— Да.
— А читал ли ты поэму под названием «Песни»?
— Нет.
— Но слышал о ней, верно? Ведь ты из клана северных бродячих пастухов, значит, у вас должен быть свой рассказчик, который наверняка цитировал «Песни». — В его голосе прозвучали странные нотки: он словно о чем-то умолял.
Я пожал плечами:
— Я слышал отрывки. Мои родичи предпочитали «Роман о Саде» и «Сагу о Гленнон-Хайте».
Старик одарил меня козлиной ухмылкой.
— Говоришь, «Роман о Саде»? Помнится, героя-кентавра звали Раулем.
Я промолчал. Бабушке и впрямь нравились истории про этого кентавра. Она рассказывала их еще моей матери, когда та была маленькой.
— Ты веришь тому, что слышал? Я имею в виду, веришь «Песням»?
— Верю ли? — переспросил я. — В смысле, верю ли, что все происходило на самом деле? Что были паломники, был Шрайк и все остальные? — Я призадумался. Многие люди, насколько мне было известно, верили каждому слову «Песней». Многие же считали поэму нагромождением мифов и откровенной лжи, состряпанным, чтобы придать некую загадочность гнусной войне и всеобщему смятению, которые ныне известны как Падение. — Честно говоря, никогда об этом не думал. А что, есть какая-то разница?
Старик будто поперхнулся. В следующий миг я сообразил, что он всего-навсего рассмеялся.
— Вообще-то нет. Слушай внимательно, я изложу тебе суть поручения. Когда я говорю, мои силы тают быстрее, поэтому не перебивай меня вопросами. — Он моргнул, указал на кресло, покрытое белой простыней. — Садись.
Я покачал головой и остался стоять, где стоял.
— Как хочешь. История начинается двести семьдесят с лишним лет назад, во время Падения. В «Песнях» говорится о паломниках. Среди них была женщина, Ламия Брон, моя хорошая знакомая. После Падения, после того как погибла Гегемония и открылись Гробницы Времени, Ламия Брон родила дочь, которую назвали Дианой. Однако малышке это имя не понравилось, и она сменила его, едва научившись говорить. Сначала стала Синтией, потом Кейт — уменьшительное от Гекаты, а затем, когда ей исполнилось двенадцать, заявила, что отныне все вокруг должны называть ее Темис. Когда мы виделись в последний раз, она величала себя Энеей. — Старик, прищурясь, поглядел на меня. — Имена чрезвычайно важны, постарайся это понять. Если бы Рауль Эндимион не получил фамилию по городу, который, в свою очередь, позаимствовал имя из древней поэмы, вполне возможно, он не привлек бы моего внимания и сейчас был бы мертв. Твоей плотью кормились бы кольчатые черви Великого Южного моря. Усвоил?
— Нет.
Старик покачал головой:
— Ничего страшного. На чем я остановился?
— Когда вы в последний раз виделись с девочкой, ее звали Энея.
— Правильно. — Старик снова прикрыл глаза. — Она была не то чтобы привлекательной, однако в ней чувствовалось нечто особенное. Это ощущал всякий, кого сводила с Энеей жизнь. Не испорченная, не избалованная, несмотря на чехарду с именами, а просто другая. — Он улыбнулся, обнажив розовые десны. — Скажи, Рауль Эндимион, ты встречал не таких, как все?
— Нет, — ответил я, лишь слегка погрешив против истины. Не таким, как все, был этот старик, но я знал, что он спрашивает о другом.
— Мать Кейт, то бишь Энеи, знала, что она особенная. По правде сказать, Ламия Брон знала о том еще до рождения ребенка… — Старик неожиданно замолчал, открыл глаза и уставился на меня. — Тебе знакома эта часть «Песней»?
— Да. Кибрид предсказал, что женщина по имени Ламия родит ребенка, а ребенок впоследствии станет Той-Кто-Учит.
— Дурацкое прозвище! — На мгновение мне показалось, что старик готов сплюнуть от отвращения. — Когда мы с Энеей общались, никто ее так не называл. Она была ребенком необычайно талантливым и своевольным, но не более того. Всякие «особенности» присутствовали только в потенциале. Но потом… — Его глаза будто подернулись поволокой. Похоже, он потерял нить разговора. Я терпеливо ждал. — Но потом умерла Ламия Брон, — произнес старик несколько минут спустя неожиданно окрепшим голосом. — А Энея исчезла. Я официально считался ее опекуном, поскольку ей было всего двенадцать, однако она исчезла без моего разрешения. Исчезла без следа, и больше я о ней не слышал.
В рассказе вновь возникла пауза, словно старик был не человеком, а машиной, которую время от времени требовалось заводить заново.
— На чем я остановился? — спросил он.
— На том, что Энея исчезла без следа.
— Точно. Весточек от нее я не получал, однако мне известно, куда она отправилась и где появится снова. К Гробницам Времени нынче не подобраться, их стерегут войска Ордена, но помнишь ли ты названия и предназначение Гробниц?
Я фыркнул, вспомнив, как натаскивала меня бабушка. Помнится, она казалась мне древней старухой. Но по сравнению с этой уродливой карикатурой на человеческое существо она выглядела сущим младенцем.
— Кажется, помню. Там был Сфинкс, Нефритовая Гробница, Обелиск, Хрустальный Монолит, где погребен солдат…
— Полковник Федман Кассад, — пробормотал старик. — Продолжай.
— Три Пещерных Гробницы…
— Из которых только третья ведет в лабиринты на других мирах, — снова перебил старик. — Орден перекрыл туда всякий доступ. Продолжай.
— Больше я ничего не помню… А, еще Дворец Шрайка!
— Верно, — усмехнулся старик. — Мы не должны забывать ни про Дворец, ни про нашего доброго приятеля Шрайка. Все?
— По-моему, да.
— Дочь Ламии Брон исчезла, войдя в одну из Гробниц. Догадаешься, в какую именно?
— Нет. — Вообще-то я догадывался, но решил не хвастаться сообразительностью.
— Спустя семь дней после смерти Ламии Брон девочка написала записку, глубокой ночью пробралась в Сфинкса и исчезла. Помнишь, куда ведет Сфинкс?
— В «Песнях» говорится, что с помощью Сфинкса Сол Вайнтрауб и его дочь перенеслись в далекое будущее.
— Правильно, — прошептал реликт на «летающей кровати». — До того как Орден захапал Долину Гробниц Времени и закрыл Сфинкса, им воспользовались Сол, Рахиль и некоторые другие. В былые дни многие пытались найти дорожку в будущее, однако Сфинкс словно выбирал, кому разрешить, а кому нет…
— Девочку он пропустил, — заметил я.
Старик фыркнул: очевидно, это разумелось само собой и не требовало иных комментариев.
— Рауль Эндимион, — прохрипел он, — догадываешься ли ты, что я собираюсь тебе поручить?
— Нет, — ответил я. Впрочем, у меня уже возникли определенные подозрения.
— Я хочу, чтобы ты нашел Энею. Нашел, защитил от Ордена, сопровождал до тех пор, пока она не повзрослеет и не станет той, кем должна стать, а затем передал ей послание. Я хочу, чтобы ты сказал ей: «Дядюшка Мартин умирает, и если хочешь застать его в живых, возвращайся домой».
Я постарался скрыть свое изумление. Честно говоря, я и сам сообразил, что передо мной поэт Мартин Силен, знаменитый автор знаменитых «Песней». Но как ему удалось пережить чистки, которые проводил на Гиперионе Орден, как он поселился в этих развалинах? Хотя существуют вещи, которых лучше не знать.
— То есть я должен отправиться на север, на Экву, пробиться в Долину Гробниц Времени, которую охраняют несколько тысяч солдат Ордена, пробраться в Сфинкса, надеясь, что он меня примет… Затем махнуть следом за девчонкой в будущее, поболтаться там десяток-другой лет, после чего сообщить, что вы ждете ее в гости?
Установилась тишина, которую нарушало только гудение, исходившее от многочисленных приборов. Машины, так сказать, дышали.
— Верно, да не совсем, — изрек поэт. Я ждал. — Она не то чтобы отправилась в далекое будущее… По крайней мере сейчас оно уже не далекое. Войдя в Сфинкса двести семьдесят четыре стандартных года назад, Энея совершила короткий прыжок протяженностью ровно в двести шестьдесят два гиперионских года.
— Откуда вы это знаете? — справился я. Из книг, которые я прочел, следовало, что никто — даже ученые Ордена, которые изучали Гробницы на протяжении двух столетий, — не в состоянии предсказать, насколько далеко в будущее способен отправить человека Сфинкс.
— Знаю, — отозвался Силен. — Ты сомневаешься в моих словах?
— Значит, Энея выйдет из Сфинкса в этом году?
— Она выйдет оттуда через сорок два часа шестнадцать минут, — сообщил старый сатир.
Признаюсь, я моргнул.
— Ее будет ждать Орден, которому время выхода Энеи известно с точностью до минуты. — Я не стал уточнять откуда. — Им необходимо захватить Энею. Они знают, что от этой девочки зависит будущее вселенной.
Я понял, что у поэта старческий маразм. Будущее вселенной зависит от такой ерунды!.. Потом меня как осенило, и я промолчал.
— В настоящий момент поблизости от Долины Гробниц Времени и в самой Долине находятся около тридцати тысяч солдат Ордена. Приблизительно пять тысяч из них — швейцарские гвардейцы Ватикана.
Я присвистнул. Швейцарские гвардейцы представляли собой элиту армейской элиты — отборнейшие профессионалы, вооруженные по последнему слову техники. Дюжина гвардейцев в полной экипировке запросто справилась бы со всеми силами самообороны Гипериона численностью в десять тысяч человек.
— Итак, у меня сорок два часа, чтобы перебраться на Экву, пересечь Травяное море, перевалить через горы, расправиться с вояками Ордена и спасти девчонку?
— Совершенно верно, — откликнулся поэт.
Мне захотелось закатить глаза, но я сдержался.
— А что потом? Спрятаться нам негде. Орден контролирует не только Гиперион, но и все космические линии и все планеты, входившие ранее в состав Гегемонии. Если Энея настолько для них важна, они перевернут Гиперион вверх дном, но найдут ее. Даже если нам удастся улететь, что просто невозможно, куда прикажете податься?
— Улететь вполне возможно, — устало произнес Силен. — У меня есть корабль.
Я судорожно сглотнул. Корабль! При одной только мысли о том, что я буду путешествовать в космосе, что проведу в нем месяцы, а на Гиперионе пройдут годы, если не десятилетия, у меня захватило дух. Я вступил в силы самообороны отчасти из-за детского желания стать однажды солдатом Ордена и летать от планеты к планете. Для юнца, который уже успел отказаться от крестоформа, желание было глупее не придумаешь.
— Тем не менее… — Я не слишком-то поверил Силену. Ни один из капитанов грузового флота не примет на борт тех, кто бежит от Ордена. — Они найдут нас где угодно, на любой планете. Или вы хотите, чтобы мы болтались в космосе?
— Нет. Ничего подобного. Корабль доставит вас на одну из соседних планет, входивших когда-то в Гегемонию. Дальше вы отправитесь другой дорогой, увидите множество древних миров. Поплывете по реке Тетис.
Я понял, что старик окончательно спятил. Великая Сеть и Гегемония погибли в тот самый день, когда перестали действовать нуль-порталы и отвернулись от человечества ИскИны. Тогда вновь установилась тирания межзвездных расстояний. Ныне лишь корабли Ордена, транспорты грузового флота да ненавистные Бродяги бороздили мрак пространства.
— Иди сюда, — прохрипел старик и поманил рукой. Я заметил, что согнутые пальцы не желают распрямляться. От него пахло так, как пахнет ото всех стариков; сюда же примешивались запахи лекарств и чего-то вроде кожи.
Чтобы объяснить, что такое река Тетис и почему я решил, что Силен впал в старческий маразм, не требовалось вспоминать, о чем рассказывала вечерами у костра бабушка. Всем известно, что река Тетис и Гранд-Конкурс являлись чем-то вроде осей, на которые были нанизаны миры Гегемонии. Конкурс представлял собой улицу, соединявшую сотню с лишним миров; эта улица была доступна для всех, на ней располагались никогда не закрывавшиеся нуль-порталы. По реке Тетис путешествовали меньше, однако именно по ней ходили баржи и сновали бесчисленные прогулочные катера, перемещавшиеся по течению с планеты на планету.
Когда рухнула Великая Сеть, Конкурс распался на тысячи частей, а река Тетис просто прекратила свое существование: поскольку порталы не действовали, вместо нее возникли десятки речушек, которые уже никогда не объединить в прежний могучий поток. Древний поэт, которого я сейчас видел перед собой, описал гибель реки в своей поэме. Мне припомнились строки, которые цитировала бабушка:
И река, что текла Два с лишним века Сквозь пространство и время — Штучки Техно-Центра, — Уже не течет Ни на Фудзи с Актеоном, Ни на Мире Барнарда, Ни на Эсперансе, ни на Неверморе. Там, где бежала Тетис, Вилась сверкающей лентой, Ныне стоят часовыми Мертвые порталы. И вода не бурлит, как бывало, В пересохшем русле. Все мертво давным-давно, Все в пыли погребено, И связать нас воедино Тетису не суждено.— Ближе, — прошептал старик, подзывая меня движением скрюченного пальца. Я наклонился над кроватью. Дыхание Силена напоминало воздух внутри гробницы, дверь в которую оставили открытой, — лишенный запаха, но застоявшийся, словно насыщенный ароматом минувших столетий.
Поэт шепнул:
Прекрасное пленяет навсегда. К нему не остываешь. Никогда Не впасть ему в ничтожество…[65]Я выпрямился и кивнул, будто старик произнес что-то вразумительное. Было ясно, что он сошел с ума.
Словно угадав мои мысли, Силен хихикнул:
— Те, кто недооценивает могущество поэзии, частенько называли меня сумасшедшим. Не торопись, Рауль Эндимион. Мы встретимся с тобой за обедом, я расскажу все до конца, и тогда ты примешь решение. А пока отдыхай. Умирать тяжело, да и воскресать не легче.
Он наклонил голову, послышалось нечто вроде сухого кашля — поэт смеялся.
Андроид проводил меня обратно. По дороге, поглядывая в окна, я заметил много интересного — дворы, какие-то сооружения, еще одного андроида, тоже мужского пола.
Отворив дверь, мой провожатый сделал шаг в сторону. Я понял, что запирать меня не собираются; значит, я не пленник.
— Вам приготовили вечерний костюм, — сообщил андроид. — Вы можете сколько угодно гулять по территории университета, но должен предупредить вас, месье Эндимион, тут неподалеку лес и горы, в которых водятся хищные животные.
Я усмехнулся. Ничего, если решу сбежать, хищные животные меня не остановят. Впрочем, пока я удирать не собирался.
Андроид повернулся, чтобы уйти. И в этот миг я совершил поступок, который, как выяснилось впоследствии, перевернул мою жизнь.
— Подожди. — Я протянул руку. — Нас, кажется, не представили друг другу. Рауль Эндимион.
Какое-то время андроид молча глядел на мою руку — наверно, я нарушил здешние правила. В конце концов столетия тому назад, когда люди только начинали осваивать космос, андроидов считали существами второго сорта. Однако мой новый знакомый быстро стряхнул с себя оцепенение и ответил на рукопожатие.
— Меня зовут А.Беттик. Очень рад познакомиться.
А.Беттик… Имя наводило на воспоминания, но вот на какие именно?
— Я бы хотел поговорить с тобой. Узнать поподробнее о тебе, об этом месте и о поэте.
Мне почудилось, что в голубых глазах андроида промелькнуло веселое удивление.
— С удовольствием. Буду счастлив ответить на ваши вопросы, но, боюсь, не сейчас, поскольку в настоящий момент у меня много дел.
— Хорошо. Буду ждать.
А.Беттик кивнул и двинулся вниз по лестнице.
Я переступил порог комнаты. Если не считать того, что постель убрали, а на покрывало положили элегантный вечерний костюм, в комнате ничего не изменилось. Я подошел к окну, из которого открывался вид на руины университета. Высокие вечноголубые кусты качали на ветру ветвями, с плотинника, что рос неподалеку от башни, облетали лиловые листья, падавшие с высоты двадцати метров на каменные плиты двора. Воздух был напоен ароматом корицы, который испускала желтая челма. Я вырос в нескольких сотнях километров к северо-востоку отсюда, на болотах Аквилы, между горами и местностью под названием Клюв, однако прохлада и свежесть горного воздуха были для меня внове. Даже небо здесь было голубее, чем над болотами и пустошами. Я вдохнул полной грудью и усмехнулся — что бы ни ждало впереди, все-таки чертовски хорошо быть живым!
Чтобы скоротать время, я решил осмотреть университет и город, от которого получил свою фамилию. Мартин Силен, конечно, выжил из ума, но разговор за обедом предстоял любопытный.
Лишь когда я поставил ногу на последнюю ступеньку лестницы, до меня наконец дошло.
А.Беттик! Это же имя из «Песней»! Так звали андроида, который вел баржу «Бенарес» с паломниками из города Китс на Экве вверх по реке Хулай, мимо шлюзов Карлы, Духоборских Вырубок, речного порта Наяда — вплоть до самого Эджа. Дальше паломники отправились самостоятельно, им надо было пересечь Травяное море. Мне вспомнилось, как в детстве я гадал, почему изо всех андроидов только А.Беттика называют по имени и что с ним стало после того, как паломники оставили его в Эдже. Да, за два десятилетия многое подзабылось…
Качая головой, пытаясь на ходу сообразить, кто из нас с поэтом действительно безумен, я вышел наружу и отправился обозревать окрестности.
Глава 5
В тот самый миг, когда я прощался с А.Беттиком, в шести тысячах световых лет от Гипериона, в звездной системе, у которой имелись номер по каталогу и галактические координаты, но отсутствовало название, три боевых факельщика флотилии «Волхвы» под командой капитана отца Федерико де Сойи уничтожали орбитальный лес. Корабли-деревья Бродяг не могли противостоять боевым звездолетам Ордена, поэтому для описания схватки точнее всего подошло бы слово «бойня».
Пожалуй, стоит кое-что объяснить. Я вовсе не предполагаю, я твердо знаю, что все события происходили именно так, а не иначе. И даже когда речь заходит о том, чего я не мог видеть собственными глазами — скажем, что делали капитан отец де Сойя и прочие вражеские «шишки», о чем они думали, что чувствовали, — в моем рассказе нет ни капли вымысла. Чуть позже я расскажу, каким образом обо всем этом узнал, а пока поверьте мне на слово.
Три факельщика вышли из состояния С-плюс и резко сбросили скорость; они тормозили с ускорением более чем в шестьсот «g». На протяжении столетий про тех, кому доводилось испытывать подобные перегрузки, говорили «угодил в малиновый джем»: в самом деле, если при такой перегрузке силовые поля откажут хотя бы на секунду, тела членов экипажа просто-напросто размажет по переборкам и корабль словно превратится в тарелку с малиновым джемом.
Силовые поля выдержали. На расстоянии одной астрономической единицы капитан де Сойя приказал компьютеру выдать изображение орбитального леса. Все, кто находился в боевой рубке, на мгновение забыв о своих делах, прильнули к мониторам. Несколько тысяч кораблей-деревьев, каждый в полкилометра длиной, будто исполняли затейливый танец в плоскости эклиптики — танцоры, удерживаемые вместе силами притяжения, постепенно менялись местами, листья были постоянно обращены к солнцу, звезде класса G, ветви беспрерывно перемещались, выбирая наилучшее положение для листвы, а корни жадно поглощали влагу и питательные вещества, которыми их снабжали фермы-кометы, сновавшие среди деревьев подобно гигантским грязно-серым снежным комкам. На ветвях и в пространстве между деревьями виднелись Бродяги-мутанты — гуманоиды с серебристой кожей и стрекозиными крыльями толщиной в микрон и размахом в сотни метров. Крылья отражали солнечный свет, мерцая на фоне зеленого орбитального леса веселыми рождественскими огоньками.
— Залп! — скомандовал капитан отец де Сойя.
С расстояния в две трети астрономической единицы факельщики открыли огонь из дальнобойных орудий. Все три звездолета, сравнительно небольшие корабли с двигателями Хоукинга, несли гиперкинетическое вооружение: плазменные торпеды, способные перемещаться в гиперпространстве, ракеты, проникавшие сквозь вражеские щиты, как пушечное ядро — сквозь картон, и тому подобное. А несколько минут спустя корабли смогли пустить в дело лазерные пушки: во все стороны устремились тысячи лучей, отчетливо видимых на экранах, благо пространство вокруг леса заполняли коллоидные частицы (так виден солнечный луч на пыльном чердаке).
Лес загорелся. Кора, стволы и кроны вспыхивали из-за мгновенной декомпрессии, их рассекали лазерные копья, поражали плазменные торпеды, кислород вырывался в космос, распространяя пожар. С ветвей осыпались горящие листья, пламя слепило глаза на фоне космической тьмы. Фермы-кометы, попадая в огонь, тут же испарялись, ударные волны взрывов и бесчисленные осколки раздирали лес на части. Бродяги-мутанты — «ангелы Люцифера», как именовал их Орден на протяжении столетий, — напоминали мотыльков, слишком близко подлетевших к огню. Некоторых разносило буквально в клочья, другие, попав под луч, мгновенно развивали гиперкинетическую скорость, ломавшую крылья и разрушавшую тела. Третьи, отчаянно размахивая крыльями, пытались спастись.
Но все попытки оказались тщетными.
Схватка длилась менее пяти минут. Покончив с Бродягами, факельщики двинулись сквозь обломки, которые еще недавно были орбитальным лесом. Уцелевшие в стычке корабли-деревья вспыхивали, угодив под выхлопы дюз. В плоскости эклиптики, где пять минут назад находился лес — зеленые листья ловили солнечный свет, корни впитывали влагу, ангелы-Бродяги парили среди ветвей подобно гигантским стрекозам, — дымились искореженные, изуродованные конструкции.
— Кто-нибудь выжил? — справился невысокий, круглолицый и смуглокожий, тридцати с небольшим лет от роду капитан де Сойя. Он стоял у центрального монитора боевой рубки, заложив руки за спину и касаясь магнитов на полу только мысками башмаков. Несмотря на то что факельщики по-прежнему тормозили при тридцати «g», в рубке поддерживалась постоянная сила тяжести в одну пятнадцатую стандартной. Во взгляде капитана читалось беспокойство (кстати, друзья не раз замечали, что взгляд де Сойи выражает сострадание гораздо чаще, нежели жестокость, которой все вправе ожидать от бравого воина).
— Нет, — отозвалась командор мать Стоун, старший помощник капитана. Она отключила тактический режим и повернулась к своему монитору.
Де Сойя знал, что никто из десятка присутствовавших в рубке офицеров не испытывает радости от победы. Да, им было поручено уничтожить орбитальный лес Бродяг — эти безобидные на вид корабли-деревья служили для заправки и ремонта боевых Роев, — однако лишь немногие слуги Ордена находили удовольствие в разрушении ради разрушения. В конце концов офицеры считали себя рыцарями Церкви, защитниками существующего миропорядка, а не карателями, которые уничтожают повсюду красоту, пускай даже это красота, созданная руками вероотступников.
— Задайте компьютеру стандартный режим поиска, — произнес де Сойя. — Остальным отбой.
Под остальными он имел в виду как тех членов экипажа, которые присутствовали на мостике, так и тех, кто по боевому расписанию находился в других отсеках. Всего команда факельщика, как и на большинстве современных звездолетов, насчитывала около двадцати человек.
— Сэр, — неожиданно проговорила командор Стоун, — мы засекли возмущения поля Хоукинга. Координаты двадвадцать девять, сорок три, один-ноль-пять. Расстояние до расчетной точки выхода из состояния С-плюс 700,5 тысячи километров. Вероятность того, что это один корабль, — девяносто шесть процентов. Скорость определению не поддается.
— Боевая тревога! — воскликнул де Сойя и, сам того не заметив, криво усмехнулся. Должно быть, Бродяги спешат на подмогу своим сородичам. Или же тут был сторожевой корабль, который отступил при появлении факельщиков, а теперь выпустил свои торпеды откуда-нибудь из-за облака Оорта. Или это авангард Роя. Тогда звездолеты Ордена обречены. Ну и ладно, даже заведомо проигранный бой лучше таких вот актов вандализма.
— Неизвестный звездолет передает позывные, — сообщил офицер-связист, сидевший в закутке над головой де Сойи.
— Очень хорошо, — откликнулся капитан. Он окинул взглядом мониторы, проверил контакты и переключился на тактический режим, задействовав несколько виртуальных оптических каналов. Стены рубки растаяли, и де Сойя очутился в космосе, словно превратившись в великана ростом в пять тысяч километров. Звездолеты казались ему крохотными пятнышками света, дым, поднимавшийся над орбитальным лесом, доходил едва до пояса; и вот над плоскостью эклиптики, на расстоянии вытянутой руки — семисот тысяч километров — возник неизвестный корабль. Вокруг звездолетов Ордена появились алые сферы наружных защитных полей. Мерцали разноцветные каналы прямой связи, переливчато сверкали выводившиеся на тактический дисплей параметры. В этом режиме де Сойя мог, щелкнув пальцами, запустить плазменную торпеду или открыть огонь из лазерной пушки.
— Позывные идентифицированы, — произнес связист. — Это звездолет-авизо класса «архангел».
Де Сойя нахмурился. Что произошло, если командование решило воспользоваться самым быстрым из кораблей Ордена, главным тайным оружием Церкви? В тактическом режиме был виден опознавательный код звездолета и выхлоп, растянувшийся на десятки километров. На силовые экраны энергия практически не расходовалась, хотя ускорение значительно превышало уровень «малинового джема».
— На автопилоте? — спросил капитан. Ему отчаянно хотелось, чтобы оказалось именно так. Звездолеты класса «архангел» способны пересечь галактику за несколько дней — в реальном времени! — на что у обычных кораблей уходят недели бортового и годы реального времени, однако никто из людей не в состоянии выдержать такой скорости.
В тактическом пространстве появилась командор Стоун. Ее черный мундир сливался с космическим мраком, и казалось, что лицо командора парит над плоскостью эклиптики.
— Никак нет, сэр, — ответила она. В тактическом режиме ее слышал только де Сойя. — Два члена экипажа находятся в фуге.
— Господи Боже! — прошептал де Сойя. Это восклицание выражало изумление и мольбу. Даже рассчитанные на высокое ускорение саркофаги не могут защитить людей, погибших во время перехода в состояние С-плюс: оба курьера наверняка превратились не в малиновый джем, а в тонкую протеиновую пленку на дне саркофагов. — Подготовить аппаратуру для воскрешения.
Командор Стоун прикоснулась к контакту у себя за ухом и нахмурилась.
— Сэр, в опознавательном коде звездолета содержится сообщение. Относительно воскрешения курьеров. Срочность «альфа», уровень подтверждения — «омега».
Де Сойя молча уставился на своего старшего помощника, чьи ноги, как и его собственные, тонули в дыму от горящего орбитального леса. Срочное воскрешение противоречило доктринам Церкви и уставу Ордена, кроме того, оно подвергало опасности жизнь воскрешаемого — при стандартной трехдневной процедуре шансы неполного восстановления были нулевыми, а при трехчасовой возрастали до пятидесяти процентов. Что касается уровня подтверждения «омега», это означало, что распоряжение отдано Его Святейшеством Папой Римским.
Судя по выражению лица командора Стоун, она догадывалась, что звездолет прибыл из Ватикана. Кто-то либо там, либо в генеральном штабе решил, что обстоятельства требуют отправки единственного на сегодняшний день звездолета класса «архангел» с двумя старшими офицерами на борту (младших на такой корабль ни за что бы не пустили).
В ответ на вопросительный взгляд командора де Сойя лишь приподнял бровь, а затем произнес на тактической частоте:
— Что ж, командор… Прикажите кораблям уравнять скорости и подготовьте десантную группу. Я хочу, чтобы переправку саркофагов и воскрешение закончили к шести тридцати. Передайте мои поздравления капитану Хирну с «Мельхиора» и капитану Буле с «Гаспара». К семи ноль-ноль я жду их на «Бальтазаре».[66]
Капитан выключил тактический режим и вновь оказался на мостике. Командор Стоун и прочие офицеры не сводили с него взглядов.
— Поторопитесь, — бросил он, оттолкнулся от пола, подлетел к люку своей каюты и протиснулся внутрь. — Разбудите меня, когда все будет в порядке.
Прежде чем кто-либо успел ответить, люк захлопнулся.
Глава 6
Я бродил по улицам Эндимиона и пытался собраться с мыслями по поводу своей жизни и смерти.
Должен признаться, что воспринимал все это — суд, казнь, невероятную встречу с легендарным поэтом былого — далеко не так спокойно, как может показаться. Откровенно говоря, я был потрясен до глубины души. Меня собирались убить! Мне хотелось обвинить в случившемся Орден, однако он если и управлял судьями, то исподтишка, из-за кулис. На Гиперионе имелся Совет самоуправления, которому официально подчинялись все суды планеты, в том числе и Порт-Романтика. Наказание, подобное тому, какое определили Раулю Эндимиону, было не в обычае Ордена, тем более на мирах, где Церковь правила через местную теократию; нет, оно представляло собой остаток прошлого, пережиток эпохи колонизации. Процесс с заведомо известным исходом и неизбежная казнь свидетельствовали прежде всего о страхе гиперионских государственных мужей: они боялись отпугнуть богатых туристов с иных миров, а потому воспользовались случаем и превратили меня в козла отпущения. На моем месте вполне мог оказаться кто-то другой, поэтому близко к сердцу случившееся принимать не стоило.
Однако иначе не получалось. Я остановился у подножия башни, ощущая кожей тепло, исходящее от нагретых солнцем плит, и медленно вытянул перед собой руки. Они дрожали. Сколько всего произошло за последнее время, и как быстро! Напускное спокойствие на суде и перед казнью далось мне чудовищным напряжением сил…
Я покачал головой и неторопливо двинулся дальше. Город Эндимион построили на холме, а университет располагался на самой вершине, откуда открывался чудесный вид. Внизу, в долине, золотился челмовый лес. На лазурном небе не было и намека на инверсионные следы. Я знал, что Ордену наплевать на Эндимион, что церковников интересует только плато Пиньон, к северо-востоку отсюда: плато охраняют войска, а роботы отлавливают уникальных симбиотов-крестоформов. А здесь не осталось ни малейших признаков цивилизации и потому дышалось на удивление легко.
Побродив минут десять по развалинам, я пришел к выводу, что жить можно только в той самой башне, где я очнулся, и в прилегающих к ней постройках. Все прочее было разрушено — в стенах аудиторий зияли громадные дыры, оборудование растащили сотни лет назад, игровые площадки заросли травой, купол обсерватории рухнул. Что касается самого города, он выглядел еще хуже. Целые кварталы уступили натиску плотинника и кудзу.
Наверно, в былые дни университет славился своей красотой: неоготические корпуса были сложены из песчаника, который добывали неподалеку отсюда, у подножия плато Пиньон. Три года назад, когда я трудился под началом знаменитого планировщика Эврола Юма и выполнял всю тяжелую работу по переделке поместий первопоселенцев на фешенебельном побережье Клюва, в моде были «причуды» — искусственные руины у водоема или на вершине холма. Посему какое-то время спустя я стал крупным специалистом по нагромождению друг на друга каменных глыб (в большинстве своем превосходивших древностью гиперионскую колонию), однако ни одна из фантазий Юма не годилась и в подметки руинам университета. Я бродил по развалинам, восхищаясь архитектурой, и размышлял о своей семье.
Подобно многим другим местным семействам — а наш род вел начало от поселенцев с первого «ковчега», прибывшего на Гиперион без малого семьсот лет назад (на родной планете мои предки считались гражданами третьего сорта, таковыми они остались и здесь — после членов Ордена и колонистов эпохи Хиджры), — мы взяли в качестве фамилии название города. На протяжении веков предки Рауля Эндимиона жили среди этих гор и долин. В основном, я был уверен, они выполняли грязную работу — как отец, который умер, когда мне было восемь лет, как мать, скончавшаяся пять лет спустя, как до недавнего времени я сам. Бабушка родилась вскоре после того, как Орден выселил всех из этих мест, но помнила дни, когда семейства нашего клана доходили до плато Пиньон и трудились на плантациях к югу от города.
Признаться, у меня не возникало ощущения, будто я вернулся домой. Моим домом были пустоши к северо-востоку отсюда, а жил и работал я к северу от Порт-Романтика. Университет и город Эндимион вошли в мою жизнь только сейчас, а до сих пор казались не более реальными, нежели все то, о чем рассказывалось в «Песнях» Мартина Силена.
У подножия следующей башни я остановился перевести дыхание и обдумать последнюю мысль. Если поэт не спятил, тогда «Песни» следует воспринимать всерьез. Мне вспомнилось, как читала поэму бабушка — овцы пасутся на склоне холма, электрофургоны окружают стоянку, горят костры, в небе сверкают звезды и проносятся метеориты; бабушка говорит медленно, размеренно, в конце каждой строфы делает паузу, чтобы я мог повторить услышанное. Я вспомнил, как изнывал от нетерпения, ибо предпочел бы сидеть с фонариком над книгой, и усмехнулся: сегодня вечером я буду сидеть за столом с автором этой поэмы, пуще того — с одним из участников легендарного паломничества.
Я покачал головой. Слишком неожиданно. Слишком много впечатлений.
Башня, у которой я остановился, отличалась от той, в которой меня ожидал Силен. Она была выше и массивнее, а окно в ней имелось всего одно, метрах в тридцати от земли. Дверь же, как ни странно, заложили кирпичами. Опытным глазом — сказались годы работы под началом Эврола Юма — я определил, что это было проделано лет сто с лишним назад, очевидно, незадолго до того, как жители покинули город.
До сих пор не понимаю, что привлекло мое внимание в этой башне, — ведь кругом было столько интересного. Помнится, я поглядел на холм за сооружением, отметил про себя, что побеги челмы, точно плющ, карабкаются по стенам, и подумал: «Если взобраться на холм и пролезть вон туда, можно проползти по ветке до подоконника…»
Ерунда, конечно. Я вновь покачал головой. В конце концов я уже не ребенок. Ради чего рвать одежду и сдирать с рук кожу, ради чего рисковать падением с высоты в тридцать метров на каменные плиты? Что можно найти в старой башне, кроме паутины по углам?
Десять минут спустя я уже полз на четвереньках по длинной ветке вдоль стены, продвигаясь с величайшей осторожностью и то и дело хватаясь за камни. Мне казалось, что я вот-вот сорвусь… Жуткое ощущение. Стоило ветру качнуть ветку, как я вцеплялся в нее обеими руками и замирал в неподвижности.
Наконец я подобрался к окну — и вполголоса выругался. Расчеты, проделанные внизу, оказались неверными. Ветка проходила метрах в трех ниже подоконника, а стена была на удивление гладкой, не ухватишься. Оставалось только раскачаться и подпрыгнуть — и надеяться, что сумею ухватиться за подоконник. Спасибо; я, может, и сумасшедший, но не настолько.
Выждав, пока утихнет ветер, я раскачался и прыгнул. На мгновение мне почудилось, что все кончено, из-под пальцев посыпалась каменная крошка, однако в следующий миг они нащупали подоконник и впились в прогнившее дерево. Я подтянулся, отчаянно болтая ногами. Раздался треск — это порвалась на локтях рубашка.
Кое-как вскарабкавшись на подоконник, я вдруг сообразил, что понятия не имею, как буду спускаться. А когда заглянул в темное нутро башни, мне сделалось совсем худо.
— Черт! — пробормотал я себе под нос. Под окном имелась деревянная площадка, солнечные лучи падали на полусгнившую лестницу, что вилась внутри башни, словно подражая побегам челмы снаружи. А за лестницей царил непроглядный мрак. Я вскинул голову, различил крохотные отверстия в деревянной крыше и понял, что это обыкновенная силосная башня, гигантский каменный цилиндр высотой около шестидесяти метров. Неудивительно, что в ней всего одно окно и что дверь заложили кирпичами.
Я вновь покачал головой, не решаясь спуститься на деревянную площадку. Рано или поздно любопытство меня погубит.
Внезапно я сообразил, что внутри чересчур темно. Не было видно ни дальней стены, ни лестницы, которая проходила вдоль нее и очертания которой различались выше. На уровне же моих глаз как будто возвышалась некая преграда.
— Елки-палки! — прошептал я и медленно, по-прежнему держась руками за подоконник, опустил ноги на площадку. Доски заскрипели, но выдержали. Я обернулся.
Прошло, по всей видимости, не меньше минуты, прежде чем я догадался, на что смотрю. Внутри башни, подобно патрону в барабане старинного револьвера, находился космический корабль!
Позабыв все свои страхи, я отпустил подоконник и сделал шаг вперед.
По нынешним меркам корабль был не слишком большим — метров пятьдесят в длину. Матово-черный металлический корпус — если то, конечно, был металл — поглощал свет. В нем ничего не отражалось. Очертания корабля можно было различить только на фоне стены благодаря резкой границе между светом и тенью.
Я ни секунды не сомневался, что вижу настоящий звездолет, поскольку он в точности отвечал моим представлениям о том, как должен выглядеть космический корабль. Где-то я читал, что и сегодня дети на сотнях миров изображают дом в виде квадрата с пирамидкой наверху и прямоугольником, из которого идет дым, даже если сами живут в орбитальных «деревьях». То же самое с горами — они продолжают рисовать Маттерхорны, несмотря на то, что у них перед глазами холмы вроде тех, которые расположены у плато Пиньон. Не помню, какое объяснение выдвигал автор статьи — то ли коллективные воспоминания, то ли наведенные символы…
Пожалуй, этот звездолет слишком уж точно соответствовал моим представлениям.
Я видел изображения старых ракет, летавших еще до Ордена, до Падения, до Гегемонии, до Хиджры… Черт побери, до всего. Этот корабль сильно на них смахивал. Узкий корпус, заостренный наверху, со стабилизаторами внизу — короче, я смотрел на позаимствованный из наведенных символов и коллективных воспоминаний космический корабль.
На Гиперионе не было ни частных, ни бесхозных звездолетов. Даже обыкновенные «челноки» обходились слишком дорого, чтобы ими разбрасываться и прятать в древних башнях. Столетия тому назад, еще до Падения, когда возможности Великой Сети казались неограниченными, кораблей имелось в избытке — они принадлежали ВКС, Гегемонии, дипломатам, планетарным правительствам, корпорациям, фондам, исследовательским группам и мультимиллиардерам. Но и в те дни требовались ресурсы целой планеты, чтобы построить звездолет. На моей памяти, а также на памяти моей матери, бабушки и прабабушки корабли строил только Орден, нечто среднее между Вселенской Церковью и галактическим правительством. А частный звездолет был не по карману и Его Святейшеству на Пасеме.
И нате вам, пожалуйста, — космический корабль в старинной башне.
Не обращая внимания на скрип досок, я подошел еще ближе. От лестницы до корпуса было метра четыре. Глянув вниз, в бездонный черный провал, я почувствовал, что у меня кружится голова, а потом вдруг заметил, что где-то в пятнадцати метрах подо мной лестница подходит к корпусу едва ли не вплотную.
Я бросился вниз. Одна из ступеней провалилась у меня под ногой, но я сумел сохранить равновесие и побежал дальше.
На площадке не было перил, она уходила в темноту, точно доска для прыжков в воду. Если я упаду, то наверняка сверну себе шею. Отогнав эту мысль, я приблизился к кораблю и прижал к корпусу ладонь.
Корпус оказался теплым. Он напоминал на ощупь шкуру некоего гигантского зверя. Впечатление усиливалось тем, что по корпусу время от времени пробегала дрожь — словно корабль дышал, словно у меня под ладонью билось его сердце.
Неожиданно моя ладонь провалилась в пустоту. Часть корпуса исчезла — не то чтобы в нем открылся люк или повернулась на шарнирах дверца, нет, просто-напросто образовалось широкое отверстие.
Зажглись огни. Я увидел коридор. Почему-то мне на ум пришло сравнение с кишкой. Потолок и стены коридора тускло светились.
Я помедлил. На протяжении многих лет моя жизнь, подобно жизням большинства людей, была спокойной и предсказуемой. На этой неделе я случайно убил человека, был приговорен к смертной казни и казнен, а когда воскрес, очутился в легенде. Так стоит ли останавливаться на достигнутом?
Я вошел в корабль, и отверстие за моей спиной мгновенно затянулось. Разверстая пасть проглотила добычу и захлопнулась.
Коридор начисто опроверг мои ожидания. Когда речь заходила о звездолетах, мне всегда вспоминался трюм транспорта, на котором нас переправляли на Урсу: серый металл, повсюду заклепки, защелки, которых не откроешь, трубы, из которых тоненькими струйками сочится пар. А тут все было иначе. Стены гладкие, можно сказать, безликие, переборки отделаны деревом, теплым, почти живым на ощупь. Если на корабле имелся воздушный шлюз, я его не заметил. Лампы в стенах вспыхивали при моем приближении и гасли у меня за спиной. Я догадывался, что ширина корабля в поперечнике не больше десяти метров, однако из-за того, что коридор слегка изгибался, казалось, что на самом деле звездолет куда просторнее.
Наконец коридор вывел меня к колодцу, в котором обнаружилась металлическая лесенка. Я поставил ногу на ступеньку, и наверху вспыхнули огни. Предположив, что там интереснее, чем внизу, я стал подниматься.
На следующей палубе я наткнулся на проекционную нишу вроде тех, изображения которых видел в старинных книгах; еще там имелись столы и стулья, расставленные весьма причудливым образом, а также рояль. Наверно, ни один из десяти тысяч жителей Гипериона не догадался бы, что это за инструмент. Мне было проще: бабушка и мать любили музыку, а потому в нашем фургоне пианино занимало почетное место. Много раз дядья и дед жаловались, что из-за него не повернуться, что приходится расходовать кучу электричества, таская его повсюду за собой, что здравомыслящие люди давно купили бы себе карманный синтезатор или что-нибудь в том же роде. Однако женщины стояли на своем — никакой другой инструмент не сравнится по звуку с настоящим пианино (и не важно, что после каждого переезда его нужно настраивать заново). А когда бабушка вечерами играла Рахманинова, Баха или Моцарта, всякие жалобы прекращались. Именно от бабушки я узнал о великих инструментах прошлого — и вот теперь вижу перед собой один из них, явно изготовленный до Хиджры.
Не обращая внимания ни на проекционную нишу, ни на прозрачную стену, за которой виднелась каменная кладка башни, я приблизился к роялю. Над клавиатурой отливала позолотой надпись «Стейнвей». Я тихонько присвистнул и коснулся пальцами клавиш, не осмеливаясь, правда, нажать. Бабушка утверждала, что эта фирма перестала производить рояли еще до Большой Ошибки и что после Хиджры не появилось ни единого нового инструмента. Значит, передо мной рояль, которому как минимум тысяча лет. Среди тех, кто любил музыку, «Стейнвеи» и скрипки Страдивари были чем-то вроде мифа. Неужели такое возможно? Клавиши, наверное, изготовлены из слоновой кости — из бивней вымершего животного, которое называли слоном. Человек может жить очень и очень долго благодаря поульсенизации и криогенной фуге, и Мартин Силен — лучшее тому подтверждение; а вот как сохранился этот артефакт, как уцелели в столь длительном путешествии сквозь пространство и время дерево, металл и слоновая кость?
Я сыграл до-ми-соль си-бемоль, затем взял аккорд домажор. Звук был безупречным, как и акустика корабля. Несмотря на свой почтенный возраст и все световые годы, которые ему довелось преодолеть, инструмент оказался прекрасно настроенным.
Я выдвинул табурет, сел и принялся играть «Fur Elise».[67] Простая, незатейливая мелодия гармонировала с тишиной, что царила на корабле. Лампы в стенах слегка потускнели, аккорды заполнили каюту, отдавались эхом в колодце с лестницей. Играя, я думал о матери и бабушке, о том, что они и не догадывались, где мне придется вспоминать полученные в детстве уроки музыки. На душе стало грустно, и эта печаль словно передалась мелодии.
Закончив, я быстро, почти виновато отдернул пальцы, мне стало стыдно, что я играл столь простую мелодию на таком замечательном инструменте, настоящем подарке прошлого. Вставать не хотелось, и я погрузился в размышления о корабле, старом поэте и о том, каким образом оказался во все это замешан Рауль Эндимион.
— Очень мило, — произнес голос у меня за спиной.
Признаюсь, я подскочил от неожиданности. Я не слышал ничьих шагов, не ощущал присутствия постороннего…
Я резко обернулся. В каюте никого не было.
— В последний раз эту мелодию играли давным-давно. — Голос, казалось, исходил из центра каюты. — Мой прежний пассажир предпочитал Рахманинова.
Я постарался взять себя в руки и не задавать глупых вопросов, которые вертелись на языке.
— Ты — корабль? — спросил я, не зная, глупый ли это вопрос, но рассчитывая получить ответ.
— Разумеется. — Голос был мужским. Естественно, мне и раньше доводилось слышать механические голоса; правда, ни одну из машин, с которыми я общался, нельзя было назвать действительно разумной. Церковь с Орденом запретили производство ИскИнов более двух столетий назад, а после того как Техно-Центр помог Бродягам уничтожить Гегемонию, большинство населения тысячи обезображенных войной миров целиком и полностью поддержало церковников. Что там говорить — едва я осознал, что беседую с по-настоящему разумной машиной, у меня взмокли ладони, а к горлу подкатил комок.
— А кто был твоим… э-э… прежним пассажиром?
— Человек, которого называли Консулом, — ответил корабль после секундной заминки. — Большую часть жизни он провел на дипломатической службе.
Настала моя очередь помедлить, прежде чем раскрыть рот. Я вдруг подумал, что казнь, быть может, все-таки состоялась и «жезл смерти» искорежил мой мозг настолько, что я вообразил, будто попал в эпическую поэму.
— Что случилось с Консулом?
— Он умер, — ответил корабль. В голосе машины промелькнул, как мне показалось, намек на сожаление.
— Как? — уточнил я. В «Песнях» говорилось, что после Падения Консул ушел на космическом корабле в Сеть. На каком корабле, на этом? — И где? — Из «Песней» следовало, что в компьютере звездолета, на котором Консул покинул Гиперион, находился второй кибрид Джона Китса.
— Я не помню, где умер Консул, — сообщил корабль. — Помню только, что он умер, а я возвратился. Очевидно, меня в свое время запрограммировали на возвращение.
— У тебя есть имя? — справился я. Интересно, с кем я разговариваю — с бортовым компьютером или с Джоном Китсом?
— Нет. Просто Корабль. — Машина вновь выдержала паузу. — Хотя я как будто припоминаю, что когда-то у меня было имя.
— Джон? Или Джонни?
— Может быть. Не помню.
— Почему? Неполадки с памятью?
— Память функционирует нормально. Около двухсот стандартных лет назад я получил травму, которая уничтожила ряд воспоминаний, а в остальном с моей памятью все в порядке.
— Но что это была за травма, ты не помнишь?
— Нет, — бодро отозвался корабль. — Полагаю, я получил ее тогда же, когда умер Консул и мне пришлось вернуться на Гиперион, но полной уверенности у меня нет.
— А что было потом? Ты вернулся и с тех пор все время оставался в башне?
— Да. Некоторое время я пробыл в Граде Поэтов, но в основном находился здесь.
— А кто переправил тебя сюда?
— Мартин Силен. Поэт, с которым вы уже встречались.
— Ты знаешь об этом? — удивился я.
— Конечно. Именно я представил месье Силену данные о вашем процессе и казни. Я помог передать взятки и раздобыл транспорт, чтобы переправить вас в башню.
— Каким образом? — Мне почему-то представилось, как звездолет садится за телефон и начинает обзванивать всех подряд.
— На Гиперионе нет инфосферы как таковой, однако я отслеживаю все свободные частоты, а также перехватываю микроволновые, волоконно-оптические и мазерные сообщения.
— Иными словами, шпионишь для Силена.
— Совершенно верно.
— А что тебе известно о его планах в отношении меня? — Я снова повернулся к роялю и начал наигрывать Баха.
— Месье Эндимион, — окликнул меня другой голос.
Я обернулся и увидел А.Беттика, который стоял на металлической лестнице.
— Хозяин решил, что вы заблудились. Я пришел проводить вас обратно в башню. Вы как раз успеете переодеться к обеду.
Я пожал плечами, встал и направился к лестнице, а перед тем, как последовать за андроидом, произнес, обращаясь к полутемной каюте:
— Приятно было поговорить, Корабль.
— Рад был познакомиться, месье Эндимион. До скорой встречи.
Глава 7
Факельные звездолеты «Бальтазар», «Гаспар» и «Мельхиор» вышли из пылающих орбитальных дебрей и на целую астрономическую единицу приблизились к безымянному солнцу, когда командор Стоун сообщила капитану де Сойе, что воскрешение состоялось.
— Честно говоря, мы воскресили только одного, — призналась она.
Капитан де Сойя моргнул.
— А того, кому… ну, не повезло… вернули в саркофаг?
— Пока нет, — отозвалась командор. — С ним отец Сапиега.
— Их прислал Орден? — с надеждой в голосе поинтересовался де Сойя. С курьерами Ватикана проблем всегда больше, чем с посланцами Ордена.
— Нет. — Командор Стоун покачала головой. — Оба из Ватикана, легионеры Христа. Отец Гавронски и отец Вандрисс.
Капитан с трудом скрыл досаду. Легионеры Христа, пришедшие на смену куда более либеральным иезуитам, начали обретать влияние где-то лет за сто до Большой Ошибки; ни для кого не являлось секретом, что Его Святейшество дает им самые ответственные поручения и наделяет весьма широкими полномочиями.
— Кто выжил?
— Отец Вандрисс. — Стоун бросила взгляд на свой комлог. — Он уже должен был прийти в себя.
— Отлично. В шесть сорок пять поднимите силу тяжести до одного «g», примите на борт капитанов Хирна и Буле и проводите их в носовую кают-компанию. А я навещу отца Вандрисса.
— Слушаюсь, сэр. — Командор Стоун отдала честь и исчезла.
Помещение по соседству с тем, где находился реаниматор, больше напоминало часовню, нежели медицинский отсек. Капитан де Сойя преклонил колена пред алтарем, а затем присоединился к отцу Сапиеге, который стоял рядом с каталкой. Сапиега был старше большинства членов экипажа — ему было по меньшей мере семьдесят стандартных, его лысина сверкала в свете галогенных ламп. Де Сойе всегда казалось, что капеллан — человек раздражительный и не слишком далекий, как те приходские священники, с которыми он сталкивался в детстве.
Сапиега отступил в сторону. Капитан кивнул и посмотрел на тело на каталке. На вид отцу Вандриссу было около тридцати, длинные темные волосы завиты по ватиканской моде — точнее, завивка начинала входить в моду, когда де Сойя последний раз был на Пасеме, три года назад по объективному времени (а по субъективному всего два месяца).
— Отец Вандрисс, вы слышите меня?
Молодой священник молча кивнул. Насколько было известно де Сойе, сразу после воскрешения язык какое-то время не слушается.
— Что ж, — проговорил капеллан, — я, пожалуй, займусь вторым. — Он нахмурил брови и поглядел на де Сойю так, словно капитан был виноват в неудачном исходе процедуры. — Непорядок, святой отец. Пройдет несколько недель, если не месяцев, прежде чем отец Гавронски станет самим собой. Ему предстоят тяжкие муки. — Де Сойя промолчал. — Не хотите на него взглянуть? Тело… гм… лишь отдаленно напоминает человеческое. Внутренние органы видны отчетливо и…
— Займитесь делом, отец, — перебил де Сойя. — Вы свободны.
Сапиега как будто хотел что-то сказать, но тут прозвучал звуковой сигнал, извещавший об изменении силы тяжести. Отец Вандрисс, который как раз пытался сесть, рухнул обратно на каталку. Сапиега медленно двинулся к выходу. После нулевой гравитации даже сила тяжести в один «g» казалась непереносимой.
— Отец Вандрисс, — тихо повторил де Сойя, — вы меня слышите?
Молодой священник снова кивнул. Судя по выражению глаз, его терзала адская боль. Кожа Вандрисса поблескивала, словно ее минуту назад пересадили — или он только что родился. Неестественно розовая, будто обожженная, а крестоформ — лиловый, в два раза крупнее обычного…
— Вы знаете, где находитесь? — прошептал капитан. «И кто вы такой?» — мысленно добавил он. Человек, которого воскресили, мог пребывать в полуобморочном состоянии от нескольких часов до нескольких дней. Де Сойя знал, что курьеры проходят спецподготовку, однако не представлял, как можно подготовить к смерти и воскрешению. Помнится, инструктор в семинарии выразил эту мысль без обиняков: «Даже если мозг забывает, клетки помнят, как умирали и как были мертвыми».
— Я помню. — Голос отца Вандрисса напоминал зубовный скрежет. — Вы капитан де Сойя?
— Совершенно верно. Капитан отец де Сойя.
Вандрисс попробовал приподняться на локте, но у него не вышло.
— Ближе, — прошептал он, не в силах оторвать голову от подушки.
Де Сойя наклонился над каталкой. От Вандрисса пахло формальдегидом. Лишь немногие среди служителей Церкви были посвящены в таинства воскрешения; де Сойя к таковым не относился. Он мог совершить крещение, причастить, соборовать (должность капитана космического корабля последнюю возможность предоставляла гораздо чаще, нежели две первые), однако ни разу не присутствовал при воскрешении, а потому не имел ни малейшего понятия, каким образом из расплющенных чудовищной гравитацией костей, бесформенной груды плоти и мозговой жидкости вновь возникло человеческое тело. Наверно, все дело в крестоформе, этом божественном чуде…
Вандрисс зашептал ему на ухо:
— Должны… поговорить… — Слова давались курьеру с громадным трудом.
— Через пятнадцать минут начнется совещание, на которое прибудут капитаны двух других кораблей. Вас перенесут на кресло и…
— Не надо. — Вандрисс покачал головой. — Послание… только для вас.
— Хорошо. — Выражение лица де Сойи осталось прежним. — Вы не хотите подождать, пока…
Вандрисс снова качнул головой. Кожа у него на лице топорщилась, словно из-под нее выпирали мускулы.
— Сейчас… — Де Сойя молча ждал продолжения. — Вы должны… взять звездолет-«архангел»… Компьютер знает, куда лететь…
Значит, и мне придется умереть, подумал де Сойя. Господи, ну почему меня не миновала чаша сия?[68]
— Что мне сказать остальным? — спросил он.
— Ничего. Передайте командование кораблем… старшему офицеру… а «Волхвами» будет командовать капитан Буле… У нее другие задачи…
— Могу я узнать, какие именно? — Де Сойя с громадным трудом сохранял спокойствие. Всего лишь тридцать секунд назад весь смысл его жизни заключался в том, чтобы одержать победу и сохранить в целости «Бальтазар» и весь отряд, а теперь…
— Нет, — прошептал Вандрисс. — Эти приказы… вас не касаются. — Священник был бледен и явно изнемогал от напряжения. Де Сойя вдруг осознал, что находит удовольствие в мучениях ближнего, и вознес про себя молитву о прощении.
— Итак, — произнес он, — я должен покинуть свой корабль. Могу я взять личные вещи? — Он имел в виду фарфоровую статуэтку, которую незадолго до своей смерти на Возрождении-Вектор ему подарила сестра. Хрупкая вещица, которую при ускорениях помещали в стазис, сопровождала капитана на протяжении всех лет, какие он провел в космосе.
— Нет. Отправляйтесь немедленно.
— От чьего лица вы мне приказываете? — справился де Сойя.
— От лица Его Святейшества Папы Римского Юлия Четырнадцатого. — Лицо курьера исказила гримаса боли. — Приказ имеет приоритет «омега», который перекрывает все распоряжения Ордена и Генерального Штаба. Понимаете, капитан де Сойя?..
— Понимаю. — Де Сойя почтительно наклонил голову.
Названия у звездолета класса «архангел» не было. Факельщики никогда не казались де Сойе прекрасными — похожи на бутылочные тыквы, мостик и боевая палуба кажутся крохотными рядом с огромным двигателем Хоукинга и сферой ускорителя, однако по сравнению с авизо они выглядели верхом совершенства. Тот представлял собой нагромождение асимметричных сфер и додекаэдров, между которыми вились бесчисленные кабели, тянувшиеся от двигателя Хоукинга; подо всем этим была погребена крохотная пассажирская каюта.
Капитан вкратце объяснил Хирну, Буле и Стоун, что его срочно вызывают по делам, и передал командование над «Бальтазаром» и отрядом бывшим подчиненным, которые никак не могли прийти в себя от изумления, а затем переправился на одноместном боте на авизо. Он запрещал себе оглядываться, но перед тем как бот пришвартовался к «архангелу», все же не выдержал и бросил прощальный взгляд на «Бальтазар», из-за корпуса которого, будто из-за горизонта некоей чудесной планеты, вставало солнце.
На мостике авизо обнаружились панель управления и тактический процессор. Размерами мостик напоминал каюту де Сойи на «Бальтазаре», разве что на факельщике отсутствовали все эти кабели, приборы и два амортизационных кресла. По соседству с мостиком располагалась каютка, служившая одновременно штурманской и платяным шкафом.
Де Сойе сразу бросилось в глаза, что амортизационные кресла резко отличаются от обычных. Стальные, начисто лишенные обивки конструкции в форме человеческого тела больше напоминали столы в прозекторской, нежели кресла. По ребру кресел бежала кромка — для того чтобы жидкость не сливалась на пол; во время ускорения силовое поле наверняка поддерживается только у кресел, дабы то, что в начале полета составляло тело человека, не разлетелось по каюте в краткий период невесомости. Де Сойя заметил раструбы, по которым, очевидно, подавалась вода или специальный раствор — чем там моют стальные кресла?
— Ускорение через две минуты, — произнес металлический голос. — Пристегнитесь.
Ни тебе «здравствуйте», подумалось де Сойе, ни даже «пожалуйста».
— Корабль? — позвал он. Разумеется, на корабле Ордена не могло быть настоящего ИскИна — как не могло их быть на всей подвластной Ордену территории, — однако де Сойе вдруг показалось, что Ватикан сделал исключение для авизо.
— До начального ускорения одна минута тридцать секунд, — сообщил металлический голос. Де Сойя понял, что расспрашивать бортовой компьютер бесполезно, и поторопился занять одно из кресел и пристегнуться ремнями — широкими, толстыми. Интересно, зачем они здесь? Для красоты? Неужели мало силового поля?
— Тридцать секунд. Примите к сведению, что переход в состояние С-плюс смертелен для человека.
— Спасибо, — поблагодарил Федерико де Сойя. Сердце бешено колотилось, этот стук громом отдавался в ушах. На панели управления замигали огоньки. Поскольку возможности пилотировать корабль у него не было, де Сойя не обратил на них внимания.
— Пятнадцать секунд. Предлагаю помолиться.
— Пошел в задницу! — Де Сойя молился с той самой секунды, когда покинул отца Вандрисса. Сейчас он добавил к своим мольбам еще одну — попросил простить за сквернословие.
— Пять секунд. Конец связи. Благослови вас Бог, воскресните во имя Христово.
— Аминь, — произнес де Сойя и закрыл глаза. В тот же миг заработал двигатель.
Глава 8
Вечер в Эндимионе наступил рано. Я наблюдал за тем, как сгущаются над городом осенние сумерки, из окна той комнаты, где пришел в себя днем. В комнате, в которую меня привел А.Беттик, поджидал элегантный, но без вычурности вечерний наряд — хлопчатобумажные коричневые брюки, зауженные к икрам, льняная белая рубашка с чем-то вроде кружевных манжет, черный кожаный жилет, черные носки, черные ботинки из мягкой кожи и золотой браслет. Андроид также показал мне ванную, которая располагалась этажом ниже, и сообщил, что я могу надеть висевший на двери купальный халат. Я поблагодарил А.Беттика, принял ванну, высушил волосы, надел все, что лежало на кровати, за исключением браслета, и стал ждать. Солнечный свет постепенно приобрел золотистый оттенок, с холмов к университету поползли тени. Когда же свет поблек и над горами на востоке показалось созвездие Лебедя, А.Беттик вернулся за мной.
— Пора? — спросил я.
— Не совсем. Вы упомянули, что хотели бы со мной поговорить.
— Ах да! — Я указал на кровать, единственный предмет мебели в комнате. — Присаживайся.
Голубокожий андроид не сдвинулся с места.
— Если не возражаете, сэр, я предпочитаю стоять.
Сложив на груди руки, я оперся спиной о подоконник. Прохладный вечерний воздух был напоен запахом челмы.
— Обойдемся без «сэров». Вполне сойдет просто Рауль. — Я помедлил. — Если, конечно, тебя не запрограммировали обращаться к… э-э… — я чуть было не сказал «людям», однако мне не хотелось, чтобы А.Беттик подумал, будто он в моих глазах — не человек, — …к окружающим таким образом.
А.Беттик усмехнулся:
— Нет, сэр. Если честно, меня вообще не программировали — по крайней мере в том смысле, в каком программируют машины. За исключением синтетических мышц и верхнего слоя кожи, которые увеличивают, к примеру, мою силу и сопротивляемость радиации, во мне нет искусственных частей. Однако андроид должен быть вежливым. Посему, если вам так угодно, я буду вас называть «месье Эндимион».
Я пожал плечами:
— Как хочешь. Извини, но в андроидах я не разбираюсь, поэтому и попадаю впросак.
— Не стоит извиняться, месье Эндимион, — с улыбкой отозвался А.Беттик. — Лишь немногие из живущих ныне людей видели воочию представителей моей расы.
Вот как? «Моей расы». Интересно.
— Расскажи мне поподробнее про свою расу. Кажется, законы Гегемонии запрещали изготавливать андроидов?
— Да. — Я заметил, что А.Беттик стоит в позе «вольно». Может, он когда-то служил в армии? — Подобный запрет существовал на Старой Земле и на многих мирах Гегемонии еще до Хиджры, однако Альтинг принял решение, по которому разрешалось изготавливать андроидов для использования на Окраине. А Гиперион в те дни относился как раз к планетам Окраины.
— И относится к ним по сей день, — буркнул я.
— Так точно, сэр.
— Когда тебя изготовили? На каких мирах ты побывал? Чем занимался? — Спохватившись, я прибавил: — Надеюсь, ты понимаешь мое любопытство?
— Конечно, месье Эндимион, — ответил андроид с акцентом, который я не смог определить. То был инопланетный, неизмеримо древний акцент. — По гиперионскому календарю меня изготовили в 26-м году новой эры.
— То бишь в двадцать шестом веке. Шестьсот девяносто четыре года назад. — А.Беттик молча кивнул. — Выходит, ты родился… появился на свет уже после гибели Старой Земли, — проговорил я, обращаясь скорее к себе, чем к нему.
— Да, сэр.
— И Гиперион был твоим первым… местом работы?
— Нет, сэр. Первые пятьдесят лет своей жизни я провел на Асквите, при дворе его королевского величества Артура Восьмого, сюзерена Виндзорского двора в изгнании, а также при дворе его кузена Руперта, князя Монако в изгнании. Когда король Артур скончался, я по завещанию перешел к сыну монарха, королю Уильяму Двадцать Третьему.
— А, Печальный Король Билли.
— Да, сэр.
— Ты попал на Гиперион вместе с королем Билли, когда тот бежал от Горация Гленнон-Хайта?
— Да. Вообще-то нас, андроидов, отправили на Гиперион за тридцать с лишним лет до прибытия короля Билли и прочих колонистов. Сразу после того, как генерал Гленнон-Хайт одержал победу в битве при Фомальгауте. Его королевское величество решил тогда на всякий случай подыскать новую планету для своих подданных.
— И в те дни ты повстречался с месье Силеном, правильно? — Я указал на потолок и представил себе старого поэта в паутине трубок системы жизнеобеспечения.
— Нет, — возразил андроид. — В ту пору, когда в Граде Поэтов кипела жизнь, мы не были знакомы. Я имел удовольствие познакомиться с месье Силеном позже, во время паломничества в Долину Гробниц Времени, которое состоялось через два с половиной столетия после смерти его королевского величества.
— И больше не покидал Гиперион, так? Получается, ты провел здесь пятьсот лет, даже больше.
— Да, месье Эндимион.
— Ты бессмертен? — Я знал, что задаю нескромный вопрос, однако мне очень хотелось услышать ответ.
А.Беттик вновь усмехнулся:
— Вовсе нет, сэр. Если со мной произойдет несчастный случай, я могу умереть, как всякий человек. Однако при изготовлении в мои клетки заложили возможность непрерывной поульсенизации, поэтому я практически не старею и не болею.
— Это из-за поульсенизации у всех андроидов голубая кожа?
— Нет, сэр. Голубая кожа у нас потому, что такой кожи нет ни у кого из людей, а разработчики считали своим долгом подчеркнуть разницу между андроидами и людьми.
— Значит, человеком ты себя не считаешь?
— Нет, сэр. Я считаю себя андроидом.
Я улыбнулся, подивившись собственной наивности.
— Ты по-прежнему служишь людям. Но ведь законы Гегемонии запрещали использовать андроидов в качестве рабов. — А.Беттик молча ждал продолжения. — Ты не хочешь обрести свободу? Не хочешь стать самостоятельной личностью?
А.Беттик подошел к кровати. Я решил, что андроид собирается сесть, однако он всего-навсего аккуратно сложил рубашку и брюки, в которых я днем гулял по городу.
— Месье Эндимион, позвольте заметить, что я вот уже несколько столетий ощущаю себя самостоятельной личностью. И потом, законы Гегемонии погибли вместе с Гегемонией.
— Однако ты продолжаешь служить месье Силену. И остальные тоже.
— Совершенно верно. Но я делаю это потому, что считаю нужным. Меня сконструировали в помощь человеку. Я выполняю свои обязанности и делаю это с удовольствием.
— То есть ты остался здесь по своей воле, — подытожил я.
А.Беттик утвердительно кивнул и улыбнулся.
— Да, сэр. Другое дело, что свобода воли применительно ко всем нам, андроидам и людям, — понятие растяжимое.
Вздохнув, я оттолкнулся от подоконника. За окном было темно. Очевидно, вскоре поэт пригласит меня за стол.
— И будешь служить месье Силену, пока он не умрет, так?
— Нет, сэр, — ответил А.Беттик. — Если, конечно, мое мнение кого-то заинтересует.
— Неужели? — Я вопросительно приподнял бровь. — А что бы ты предпочел, если бы тебе предложили выбирать?
— Если вы согласитесь выполнить поручение месье Силена, — проговорил андроид, — я бы предпочел отправиться с вами.
Очутившись наверху, я обнаружил, что больничная палата превратилась в столовую. Пенолитовая «летающая кровать» исчезла вместе с медицинскими приборами и прочим оборудованием, потолок сделался прозрачным. Как и пристало бывшему пастуху, я легко отыскал на небе созвездия Лебедя и Сестер-Близнецов. У каждого из витражных окон стояли высокие треноги со светильниками, пламя которых одновременно освещало и обогревало комнату. Посреди помещения располагался длинный обеденный стол с двумя затейливыми канделябрами; свечи отражались в хрустале, фарфоре и столовом серебре. На противоположных концах стола размещались два кресла, в одном из них сидел Мартин Силен.
Старого поэта было не узнать. Казалось, за то время, что мы не виделись, он сбросил несколько столетий. Вместо мумии с восковой кожей и запавшими глазами я увидел обычного старика — разве что, судя по выражению глаз, страшно голодного. Подойдя поближе, я заметил под столом переплетение трубок, но в остальном иллюзия того, что передо мной оживший мертвец, была полной.
Заметив мое изумление, Силен хмыкнул.
— Днем ты застал меня в самый неподходящий момент, Рауль Эндимион, — прохрипел он. Изменился даже голос: чтобы расслышать поэта, уже не требовалось напрягать слух. — Я никак не приду в себя после заморозки.
Он указал на кресло напротив.
— После криогенной фуги? — уточнил я, расстилая на коленях салфетку. Последний раз я сидел за столь роскошным столом в тот день, когда демобилизовался и отправился прямиком в лучший ресторан портового города Гран-Чако на полуострове Южный Коготь, где заказал самые дорогие кушанья и просадил все свои деньги (но оно того стоило).
— Естественно. — Я смутился, поняв, что свалял дурака. — Иначе прожил бы я, по-твоему, столько лет? — Силен снова хмыкнул. — Да, возраст уже не тот. Пока очухаешься…
Я набрал полную грудь воздуха и произнес:
— Пожалуйста, сэр, не обижайтесь, но сколько вам лет?
Пропустив мой вопрос мимо ушей, Силен сделал знак андроиду — не А.Беттику, — который стоял у двери. В следующий миг другие андроиды начали вносить кушанья. Мне налили воды. А.Беттик приблизился к Мартину Силену с бутылкой вина в руках, дождался утвердительного кивка, проделал освященный веками ритуал — подал старику пробку и малую толику вина на дне бокала. Силен посмаковал вино, проглотил и фыркнул. Приняв это за одобрение, А.Беттик наполнил наши бокалы. Подали закуску — запеченный в углях шашлычок из цыплят и нежные ломтики сырой говядины под соусом. Силен, кроме того, пододвинул к себе стоявший на его конце стола паштет из печени с листьями мандрагоры. Я поднял с тарелки украшенную резьбой крышку, попробовал цыплячье крылышко и нашел его восхитительным.
Несмотря на весьма почтенный возраст, лет восемьсот, а может, и все девятьсот, Мартин Силен, едва ли не самый старый на свете человек, отличался завидным аппетитом. Когда он набросился на говядину, я заметил, как сверкнули ослепительно белые зубы; интересно, они искусственные или палеореконструированы? Вероятно, второе.
Внезапно я осознал, что жутко голоден. Аппетит разыгрался то ли после несостоявшейся казни, то ли после прогулки по городу и проникновения в башню с кораблем. Несколько минут в комнате царила тишина, которую нарушали только шаги андроидов, потрескивание свечей да звон ножей и вилок; время от времени тихонько завывал ветер.
Андроиды убрали закуску и подали дымящийся суп из мидий.
— Я так понял, ты уже успел познакомиться с кораблем? — справился Силен.
— Да. Это и вправду корабль Консула?
— А чей же еще? — Силен махнул рукой андроиду, и нам принесли горячий, прямо из печи, хлеб. От него исходил чудесный аромат, который смешивался с ароматом мидий и запахом осенней листвы с улицы.
— И с его помощью, значит, я должен спасти девочку?
Честно говоря, я ждал, что поэт спросит, какое решение я принял. Вместо этого он поинтересовался:
— Что ты думаешь об Ордене?
— Об Ордене? — недоуменно переспросил я. Моя рука с ложкой замерла на полпути ко рту. Силен молча ждал. Я опустил ложку и пожал плечами. — По правде сказать, я о нем почти не думаю.
— Даже после того, как тебя приговорили к смерти?
Я не стал делиться своими соображениями насчет того, что приговором обязан не столько Ордену, сколько гиперионскому правосудию.
— Моя жизнь никак не зависела от Ордена.
Поэт кивнул и пригубил вино.
— А от Церкви?
— Не понял, сэр.
— От Церкви твоя жизнь тоже не зависела?
— Пожалуй, да. — Я догадывался, что отвечаю, будто скованный от смущения подросток, однако эти вопросы казались куда менее важными, чем тот, который поэт задал мне при первой встрече и ответа на который, очевидно, ждал.
— Я помню тот день, когда мы впервые услышали об Ордене. Через несколько месяцев после исчезновения Энеи. На орбите Гипериона появились звездолеты Церкви, десантники захватили Китс, Порт-Романтик, Эндимион вместе с университетом и все прочие крупные города и космопорты. Однако они не задержались, улетели куда-то на боевых скиммерах; далеко не сразу мы сообразили, что им нужны крестоформы.
Я кивнул. Пока ничего нового. Захват плато Пиньон, где водились крестоформы, был последней крупной операцией, которую осуществила дряхлеющая Церковь. Войска Ордена появились на Гиперионе почти полтора столетия спустя — оккупировали всю планету, очистили от жителей Эндимион и другие города вблизи плато…
— Корабли, залетавшие в те годы на Гиперион, доставляли новости, от которых шла кругом голова, — продолжал Силен. — Церковь распространяла свое влияние на миры Великой Сети, потом на планеты Окраины…
Андроиды убрали тарелки из-под супа и подали птицу под горчичным соусом и печеную рыбу с икрой.
— Утка? — на всякий случай уточнил я.
Поэт оскалил свои реконструированные зубы.
— По-моему, в самый раз после твоих недавних… э-э… испытаний.
Я вздохнул и тронул вилкой мясо. На глаза неожиданно навернулись слезы. Я вспомнил, как изнывала от нетерпения Иззи… Неужели это было неделю назад? Кажется, прошла целая вечность. Я поглядел на Мартина Силена, попытался представить, как он справляется со своими воспоминаниями. Когда ты помнишь о том, что было столетия назад, разве можно сохранить разум? Поэт перехватил мой взгляд и усмехнулся. В который уже раз я спросил себя, не безумен ли мой сотрапезник.
— Итак, мы узнали про Орден и стали задумываться, каково нам придется под его властью. — Поэт жевал и говорил одновременно. — Теократия! В эпоху Гегемонии никто не мог вообразить чего-либо подобного. В ту пору религия была личным делом каждого — я, к примеру, принадлежал к дюжине конфессий и сам основал пару-тройку новых вероисповеданий. — Он пристально поглядел на меня. — Ну да тебе все это известно. Ты же слышал «Песни».
Я промолчал.
— Большинство моих знакомых составляли дзен-гностики. От дзена в той вере было больше, чем от христианства; впрочем, и то и другое на деле являлось профанацией. Паломничества предпринимались для развлечения. Путешествие по святым местам с путеводителем в руках. Дерьмо собачье! — Силен хмыкнул. — Гегемония никогда по-настоящему не связывалась с религией. От идеи объединить гражданские общественные установления с религиозными принципами попахивало варварством; такое годилось разве что для Кум-Рияда или какого-нибудь другого захудалого мирка на Окраине. А затем явился Орден — метод кнута и пряника, крестоформ надежды…
— Орден не правит, — заметил я. — Он советует.
— Вот именно, — согласился старик, тыкая в мою сторону вилкой. Между тем А.Беттик подлил ему вина. — Орден советует, а не правит. На сотнях миров Церковь наставляет своих прихожан, а Орден помогает советами. Но христианин, который хочет воскреснуть, ни за что не пропустит мимо ушей советы Ордена и обязательно прислушается к наставлениям Церкви, верно?
Я передернул плечами. К тому, что за всем на свете стоит Церковь, люди ныне привыкают сызмальства.
— Но ты не христианин, Рауль Эндимион, и не желаешь воскресать. Правильно?
Я посмотрел на поэта. Внезапно у меня возникло ужасное подозрение: «Он сам признался, что давно следит за мной. Если ему удалось похитить человека из тюрьмы, значит, он в сговоре с властями. Может, это он организовал приговор и казнь, а сейчас устроил мне какую-то хитрую проверку?»
— Весь вопрос в том, — продолжал Силен, игнорируя мой испепеляющий взор, — почему ты не христианин? Почему не желаешь воскресать? Разве жизнь не доставляет тебе удовольствия?
— Доставляет, — процедил я сквозь зубы.
— Однако ты не принял крест. Отказался от дара вечной жизни.
Я положил вилку на стол. Андроид истолковал это движение как признак того, что я закончил есть, и убрал нетронутую утку.
— Я отказался от крестоформа! — Какими словами поведаешь о чувствах, передававшихся из поколения в поколение среди кочевников, которых когда-то изгнали с родных земель? О яростном стремлении к независимости? О скептицизме и привычке проверять теорию практикой, обо всем том, что дало мне образование? Лучше и не пытаться.
Мартин Силен кивнул, словно удовлетворился моим объяснением.
— По-твоему, крестоформ и благодать, которая нисходит на истинного христианина при заступничестве католической церкви, — не одно и то же?
— Для меня крестоформ — обыкновенный паразит! — воскликнул я и подивился ненависти, прозвучавшей в моем голосе.
— А может, ты просто испугался, что потеряешь… гм… свои мужские достоинства?
Андроиды принесли двух шоколадных лебедей, наполненных трюфелями. Я к своему даже не прикоснулся. В «Песнях» рассказывалось о священнике Поле Дюре, который обнаружил на плато Пиньон племя дикарей-бикура и выяснил, что они дожили до наших дней благодаря симбиоту-крестоформу, подаренному якобы легендарным Шрайком. Крестоформ действовал на бикура приблизительно так же, как и на тех, кто пользуется им сегодня, однако Поль Дюре отметил побочные эффекты — необратимое разрушение мозга и отмирание половых органов. Бикура, все до единого, были придурковатыми евнухами.
— Нет, — ответил я. — Мне известно, что Церковь решила эту проблему.
— Ты прав. — Силен усмехнулся и стал похож на мумифицированного сатира. — Однако необходимо причаститься и пройти воскрешение под надзором Церкви. Иначе тебя ожидает участь бикура.
Я кивнул. На протяжении столетий множество людей пыталось украсть секрет бессмертия. До того как войска Ордена оцепили Пиньон, в окрестностях плато процветала контрабанда. Кое-кто выкрадывал крестоформы из монастырей. Результат, впрочем, оставался одним и тем же — человек лишался разума и пола. Тайной крестоформа владела только Церковь.
— Ну так что?
— Почему же ты отказался, мой мальчик? Неужели тебе показалось, что исповеди и десятина — слишком высокая цена за бессмертие? Миллиарды людей решили иначе.
— Другие могут делать что угодно, — проговорил я после продолжительной паузы. — У них своя жизнь, а у меня — своя.
Признаться, я и сам не понял, что хотел сказать, однако поэт вновь кивнул. Когда он расправился с лебедем, андроиды убрали тарелки и принесли кофе.
— Ладно. Ты думал над моим предложением?
Вопрос показался мне настолько абсурдным, что я с трудом удержался от смеха.
— Да.
— И что?
— Хочу кое-что выяснить. — Силен молча ждал продолжения. — Чего ради я должен соглашаться? Вы упоминали о том, что без документов я никто. Между прочим, в города я соваться и не собираюсь. Отсидеться на болотах куда проще, чем бежать с Гипериона с вашей малолетней подружкой. И потом, власти считают, что я мертв, поэтому никому и в голову не придет искать Рауля Эндимиона, и он совершенно спокойно может вернуться к своим родичам. Правильно? Так с какой стати мне браться за это дело?
— А с такой, — ухмыльнулся поэт. — Ты ведь хочешь быть героем, верно?
Я презрительно фыркнул и положил руки на скатерть, на фоне которой мои пальцы выглядели мясистыми обрубками.
— Ты хочешь быть героем, — повторил Силен. — Одним из тех, кто творит историю, а не просто наблюдает за событиями, которые обтекают его, словно вода — лежащий на ее пути камень.
— Не понимаю, о чем вы толкуете. — Естественно, я все прекрасно понимал, за исключением одного — откуда он так хорошо меня знает?
— Я тебя знаю, — произнес Мартин Силен, словно угадав, о чем я думаю.
Пожалуй, стоит сказать, что мысль о телепатии мне в голову не приходила. Во-первых, я не верю в телепатию — точнее, не верил тогда; а во-вторых, я догадывался, что дело тут скорее в бесценном опыте. Человек, проживший без малого тысячу стандартных лет, даже если он выжил из ума, наверняка способен практически безошибочно читать выражения лиц и «язык тела».
Или же это было простым совпадением, удачной догадкой.
— Я не хочу быть героем. Когда моя бригада сражалась с повстанцами на южном континенте, я видел, чем кончали герои.
— А, на Урсе, — пробормотал Силен. — Южный полярный медведь, самая бесполезная на всем Гиперионе куча грязи и льда. Помнится, я что-то слышал о тамошних беспорядках.
Война на Урсе длилась восемь гиперионских лет, в ней погибли тысячи юнцов, записавшихся по глупости в Силы Самообороны. Похоже, старик не представляет, о чем говорит.
— Герои не те, кто подставляет грудь под плазменные гранаты. — Силен облизнулся, будто ящерица. — Я разумею настоящего героя, доблестного и благородного настолько, что ему воздают почести как божеству. Героя в буквальном смысле слова, центральное действующее лицо динамичного сюжета, того, чьи ошибки неминуемо оборачиваются гибелью. — Он выжидательно поглядел на меня, а когда понял, что я буду молчать и дальше, спросил: — Или ты не совершаешь трагических ошибок и не любишь динамичные сюжеты?
— Я не хочу быть героем.
Силен склонился над чашкой кофе. Когда он поднял голову, в его глазах мелькнул озорной огонек.
— Где ты стрижешься, паренек?
— Простите?
— Волосы у тебя длинные, но не растрепанные. — Он снова облизнулся. — Где ты их стрижешь?
— Если застреваю на болотах, — ответил я со вздохом, — то стригу сам, а когда попадаю в Порт-Романтик, захожу в парикмахерскую на Дату-стрит.
— Ага! — Силен откинулся на спинку кресла. — Знаю, знаю. Это в Ночном квартале, верно? Скорее переулок, чем настоящая улица. Там был рынок, на котором продавали живых хорьков в золоченых клетках. Стригли прямо на улице, а лучшая парикмахерская принадлежала человеку по имени Палани Ву. У него было шесть сыновей, и когда очередной из них становился взрослым, Палани добавлял новое кресло. — Поэт посмотрел на меня, и я вновь поразился выражению его глаз. — Это было сто лет назад.
— Я стригусь в парикмахерской Палани. Ею владеет его правнук Калакауа. А кресел там по-прежнему шесть.
— Так-так, — пробормотал поэт. — Немногое изменилось на нашем милом Гиперионе, а, Рауль?
— Что вы хотите сказать?
— Сказать? — переспросил старик, показывая мне свои ладони, словно стремился убедить, что не замышляет ничего дурного. — Я просто поддерживаю беседу. Знаешь, забавно представлять, как исторические фигуры, тем паче герои будущих мифов платят парикмахеру за стрижку… Странное переплетение жизни с мифологией. Я размышлял об этом много лет назад… Тебе известно, что такое «дату»?
— Нет. — Признаться, я не ожидал, что он так резко сменит тему.
— Ветер, который дует с Гибралтара. Он приносит чудесные ароматы. Должно быть, кому-то из поэтов и художников, которые основали Порт-Романтик, показалось, что от зарослей челмы и плотинника на холмах исходит приятный запах… Знаешь, что такое Гибралтар?
— Нет.
— Огромная скала на Земле. — Силен оскалил зубы. — Заметь, не на Старой Земле, а просто на Земле. — Я заметил. — Земля остается Землей, мой мальчик. Уж кому знать об этом, как не человеку, который на ней жил.
Неужели такое возможно?
— Я хочу, чтобы ты ее нашел, — заявил поэт, глаза которого вдруг засверкали.
— Нашел? — повторил я. — Старую Землю? А как же ваша девочка, Энея?
— Ты спасешь Энею и найдешь Землю, — отозвался Силен, взмахом костлявой руки отметая мое недоумение.
Я кивнул. Может, растолковать ему, что Старая Земля канула в черную дыру после Большой Ошибки? Впрочем, Силен, наверно, и покинул Землю в ту самую пору. Нет, не стоит разбивать иллюзии несчастного старика. В «Песнях» говорилось, что Техно-Центр замышлял похитить Старую Землю, переместить ее то ли в созвездие Геркулеса, то ли к Магеллановым Облакам. Но это, несомненно, чистейшей воды фантазия. Магеллановы Облака — другая галактика, находящаяся, если я правильно помню, более чем в ста шестидесяти тысячах световых лет от Млечного Пути. Между тем до сего дня еще ни один звездолет не выходил за пределы крохотной сферы в спиральном рукаве нашей галактики. Даже с двигателем Хоукинга путешествие к Большому Магелланову Облаку займет несколько столетий корабельного времени и десятки тысяч лет объективного. Такую дорогу не осилить и Бродягам, которые обитают в межзвездном пространстве.
Кроме того, планеты не похищают.
— Я хочу, чтобы ты нашел и вернул Землю, — продолжал Силен. — Я хочу увидеть перед смертью родную планету. Верни ее мне, Рауль Эндимион.
— Разумеется, — откликнулся я, глядя на старика в упор. — Подумаешь, эка невидаль: спасти девчонку от швейцарской гвардии и войск Ордена, оберегать ее до тех пор, пока она не превратится в Ту-Кто-Учит, найти Старую Землю и показать вам. Что-нибудь еще?
— Да, — торжественно произнес Мартин Силен. Все признаки старческого слабоумия были налицо. — Я хочу, чтобы ты выяснил, какого хрена надо Техно-Центру, и остановил этих подонков ИскИнов.
— Ладно. А чем мне заняться после того, как я разыщу пропавший Техно-Центр и справлюсь с объединенной волей тысяч богоподобных ИскИнов? — Сарказм капал с моего языка точно яд.
— Ты должен встретиться с Бродягами и узнать, могут ли они предложить мне бессмертие… Настоящее бессмертие, а не это христианское дерьмо.
Я сделал вид, будто записываю в блокнот.
— Бродяги. Бессмертие. Никакого христианского дерьма. Заметано. Что еще?
— Я хочу, чтобы ты уничтожил Орден и подорвал могущество Церкви.
Так-так. Двести или триста миров, которые добровольно подчинились Ордену. Триллионы принявших крещение. Армия, справиться с которой не смогли бы все войска Гегемонии.
— Хорошо, позабочусь. Это все?
— Нет. Проследи, чтобы Шрайк не сделал больно Энее и перестал мучить людей.
Я призадумался. Из «Песней», принадлежащих перу этого самого Мартина Силена, следовало, что Шрайк погибнет в будущем от руки полковника Федмана Кассада. Сознавая, что взывать к логике в разговоре с умалишенным бесполезно, я все-таки упомянул об этом событии.
— Правильно! — воскликнул старик. — Но пока он еще жив! И погибнет только через тысячи лет. А я хочу, чтобы ты остановил его сейчас.
— Хорошо, хорошо. — Я решил не спорить понапрасну.
Мартин Силен неожиданно обмяк, словно окончательно растерял силы. Я вновь увидел перед собой мумию с восковой кожей, запавшими глазами и костлявыми пальцами. Однако взгляд поэта по-прежнему пронизывал насквозь. Я попытался представить, каким влиянием на людей обладал Силен в молодости, но мне не хватило воображения.
Старик кивнул, и А.Беттик налил нам шампанского.
— Ты согласен, Рауль Эндимион? — строго спросил поэт. — Согласен спасти Энею, отправиться с нею в дальний путь и совершить все остальное?
— С одним условием. — Силен нахмурился, но промолчал. — Я хочу взять с собою А.Беттика.
Андроид стоял у стола с бутылкой шампанского в руке, глядя прямо перед собой. Его лицо ровным счетом ничего не выражало.
— Моего андроида? — удивился поэт. — Ты серьезно?
— Вполне.
— А.Беттик служит мне с тех пор, как у твоей прапрабабки появились титьки, — прохрипел старик и с такой силой стукнул кулаком по столу, что я испугался, выдержат ли кости. — А.Беттик! Ты хочешь уйти с ним?
Голубокожий андроид кивнул.
— Дерьмо! — бросил Силен. — Забирай его, Рауль. Больше тебе ничего не нужно? Как насчет моего кресла? Может, возьмешь респиратор или зубы?
— Спасибо, не надо.
— Итак, Рауль Эндимион, — поэт вновь заговорил суровым тоном, — ты согласен выполнить мое поручение? Согласен спасти и оберегать Энею до тех пор, пока не исполнится ее предназначение… и умереть, если понадобится?
— Согласен, — ответил я.
Мартин Силен приподнял бокал. Я тоже. Поэт начал произносить тост, и только тут мне пришло в голову, что следовало бы предложить шампанского и андроиду.
— За безрассудство! — провозгласил старик. — За божественное безумие! За бесцельные скитания и проповеди пророков! За смерть тиранов и гибель врагов! — Я было поднес бокал к губам, но оказалось, что Силен еще не кончил. — За героев! За героев, которые стригут волосы! — И поэт одним глотком осушил бокал.
Я последовал его примеру.
Глава 9
Взирая на мир глазами новорожденного — в буквальном смысле слова, — воскрешенный капитан отец Федерико де Сойя пересек площадь Пьяцца-Сан-Пьетро, миновал изящные арки колоннады Бернини и приблизился к базилике Святого Петра. На бледно-голубом небе ослепительно сверкало солнце, было прохладно — единственный обитаемый континент Пасема находился на высоте полторы тысячи метров над уровнем моря; как ни странно, разреженный воздух был насыщен кислородом. Величавые колонны купались в солнечном свете, который создавал некое подобие ауры над головами людей, серебрил мраморные статуи, воспламенял пурпурные мантии кардиналов. В глазах рябило от сине-красно-оранжевых полос на костюмах швейцарских гвардейцев, которые замерли на посту у ворот. Посреди площади возвышался обелиск, соперничающий в красоте с пилястрами на фасаде базилики, а в сотне метров над площадью золотился огромный купол. Голуби, кружившие над мостовой, то и дело меняли цвет, становились то белыми на фоне небосвода, то черными — на фоне купола. Площадь кишела людьми: тут были простые священники в черных сутанах с розовыми пуговицами, епископы в белых мантиях с алым подбоем, кардиналы в багрянце и пурпуре; граждане Нового Ватикана в иссиня-черных костюмах и рубашках с кружевными манжетами, монахини в накрахмаленных платьях, напоминавшие чаек с распростертыми крыльями; офицеры в красно-черной форме Ордена, какую надел сегодня и де Сойя; туристы и гости, которым повезло оказаться на понтификальной мессе, напялившие свои лучшие наряды, в основном черного цвета, зато из самого дорогого материала, — эти наряды искрились и переливались на солнце. Толпа продвигалась к базилике, разговоры потихоньку смолкали, лица светились ожиданием, но улыбок не было — присутствие на таком событии требовало сосредоточенности.
Воскрешенного лишь накануне капитана де Сойю — а с того момента, как он покинул «Бальтазар», прошло четыре дня — сопровождали отец Баджо, капитан Марджет Ву и монсеньор Лукас Одди. Пухленький, приятный в общении Баджо руководил воскрешением де Сойи; худощавая, молчаливая Ву была адъютантом командующего космическим флотом Ордена адмирала Марусина; что касается Одди, несмотря на свои восемьдесят семь стандартных лет, по-юношески резвого и отличавшегося завидным здоровьем, тот являлся доверенным лицом и помощником Симона Августино, кардинала Лурдзамийского, первого министра Ватикана. Молва утверждала, что могущественнее кардинала Лурдзамийского только сам Папа, что лишь Симон Августино имеет прямой доступ к Его Святейшеству и что первый министр — человек необычайной проницательности. О могуществе кардинала говорило и то, что именно он был префектом Sacra Congregatio pro Gentium Evangelizatione se de Propaganda Fide,[69] легендарного Евангелического Братства.
Капитана де Сойю присутствие Марджет Ву и монсеньора Одди удивляло не больше, чем солнечные зайчики на фасаде базилики. Толпа притихла. Капитан и его спутники поднялись по широкой лестнице, миновали швейцарских гвардейцев и очутились в нефе собора. Под высокими сводами гуляло эхо; де Сойя почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы — столь прекрасны были украшавшие собор произведения искусства: в первом приделе справа — «Pieta»[70] Микеланджело, дальше — древняя бронзовая статуя святого Петра (правая ступня отполирована до блеска губами верующих) работы Арнольфо ди Камбрио и, наконец, подсвеченная сзади, исполненная непередаваемого очарования скульптура Джулианы Фальконьери Санта Вержине, изваянная Пьетро Кампи в шестнадцатом веке, свыше полутора тысяч лет назад.
Глотая слезы, капитан де Сойя окропил голову святою водой и встал на колени рядом с отцом Баджо. Мало-помалу в базилике установилась тишина: не стало слышно ни шарканья, ни кашля. Базилика погрузилась во мрак, лишь золотились в свете галогенных ламп бесценные шедевры прошлого. Де Сойя устремил взгляд на бронзовые византийские колонны балдахина работы Бернини над алтарем — золоченого, украшенного затейливой резьбой; оттуда может служить мессу только Папа — и вновь подивился тому, сколько чудес успело произойти за последние двадцать четыре часа. Было больно, мысли путались, словно он приходил в себя после сильного удара по голове; обычная головная боль не шла с этим ни в какое сравнение, каждая клеточка тела, казалось, помнила о смерти и даже после воскрешения восставала против гибели. А другие чудеса — вкус мясного бульона, которым его накормил отец Баджо, бледно-голубое пасемское небо за окнами лаборатории, сострадание на лицах тех, с кем ему довелось встретиться, мягкие, умиротворяющие голоса… Капитан де Сойя, человек по натуре сентиментальный, не плакал с детства, с тех пор как ему минуло пять или шесть лет; но сегодня он не стыдился слез. Иисус Христос даровал капитану вторую жизнь, разделил с ним — простым офицером из бедной семьи, родом с захудалой планеты — таинство воскрешения; клетки в теле де Сойи помнили не только боль смерти, но и восторг пробуждения. Капитана переполняла радость, которую невозможно выразить словами.
Месса началась с фанфар, которые пронзили тишину точно сверкающие лезвия. К ликующей музыке присоединился хор, торжественно зазвучал орган, ослепительно яркие огни выхватили из мрака Папу и его свиту.
«Как молодо он выглядит!» — подумалось капитану де Сойе. Папе Юлию Четырнадцатому было слегка за шестьдесят, однако на святейшем престоле он восседал свыше двухсот пятидесяти лет, за исключением того времени, которое было потрачено на восемь воскрешений. Он стал первосвященником под именем Юлия Шестого, после восьмидесятичетырехлетнего правления антипапы Тейяра Первого, и всякий раз, воскресая, брал себе то же имя. Наблюдая за Папой, де Сойя вспоминал историю Юлия, обе ее версии — официальную и ту, что изложена в запрещенных «Песнях» (которые, кстати сказать, прочитывает всякий обученный грамоте подросток).
Согласно обеим версиям, когда-то Папу Юлия звали Ленар Хойт и в истинную веру он обратился под влиянием Поля Дюре, археолога-иезуита и наделенного харизмой теолога. Дюре являлся поборником учения Святого Тейяра, по которому человечество в состоянии эволюционировать к божественности; допущенный к престолу святого Петра после Падения, Дюре утверждал даже, что люди могут стать богами. Приняв сан и имя Юлия Шестого, Ленар Хойт беспощадно искоренил эту гнусную ересь.
Обе версии сходились также и в том, что именно отец Дюре, находясь в ссылке на Гиперионе, обнаружил симбиота, получившего название крестоформа. А вот дальше начинались разночтения. Если верить поэме, Дюре получил крестоформ от диковинного существа по имени Шрайк. Церковь же учила, что Шрайк, который если и существовал, то являлся, безусловно, очередным воплощением сатаны, не имеет с крестоформом ничего общего; он только искушал впоследствии и Дюре, и Хойта. По церковной версии, дьяволу поддался лишь Дюре. В «Песнях», которые представляли собой чудовищное смешение искаженной истории и мифологии, рассказывалось, как отец Дюре распял сам себя в огненном лесу на плато Пиньон, не желая возвращать крестоформ Церкви. Поэт-язычник Мартин Силен, автор кощунственных «Песней», полагал, что таким образом Дюре стремился уберечь Церковь от греха, от роковой ошибки принять гнусного паразита за дар свыше. Официальная история, которой, разумеется, верил де Сойя, заявляла, что Дюре просто не выдержал мучений, причиняемых симбиотом, и, подстрекаемый демоном Шрайком, какового мнил своим врагом, преданный анафеме за фальсификацию археологических данных, решил скрыть от Церкви ниспосланное через него Господом таинство воскрешения.
Молодой священник Ленар Хойт отправился на Гиперион в поисках друга и бывшего наставника. В поэме утверждалось, что он принял оба крестоформа — свой собственный и Дюре, а незадолго до Падения вернулся на Гиперион, чтобы умолить Шрайка избавить его от этого бремени. Церковь оспаривала подобный ход событий: отец Хойт проявил незаурядное мужество, возвратившись на планету, чтобы покончить с демоном. Так или иначе, во время второго паломничества на Гиперион Хойт скончался. Дюре воскрес с крестоформом Хойта; он вынырнул из хаоса, воцарившегося после Падения, с тем чтобы стать первым антипапой в современной истории. При нем Церковь пришла в упадок, но произошел несчастный случай, после которого из общего крестоформа, который Дюре именовал паразитом, а Хойт — откровением свыше, воскрес не Дюре, а Ленар Хойт, будущий Папа Юлий Шестой. Как это случилось, до сих пор оставалось одной из главных тайн Церкви; со временем христианство превратилось из презираемого культа в единственную религию человечества.
На глазах де Сойи Папа Юлий — худощавый мужчина с бледным лицом — поднял над алтарем святые дары, и капитана внезапно бросило в дрожь.
Отец Баджо объяснил, что всепоглощающее ощущение новизны и непреходящее изумление, последствия воскрешения, исчезнут в ближайшие недели, а вот чувство благодарности будет укрепляться с каждым возрождением. Теперь де Сойя понимал, почему Церковь считала самоубийство одним из наиболее тяжких грехов — совершивший такой грех подлежал немедленному отлучению: ведь после того как погрузился в пепел смерти, Благодать сияет гораздо ярче. Не будь наказание за самоубийство столь суровым, процедура воскрешения вполне могла бы стать популярным развлечением.
Тем временем месса приближалась к завершению. Вновь зазвучали фанфары, вступил хор. Осознав, что вскоре вкусит тело Господне и причастится Его крови, пресуществленных самим первосвященником, капитан Федерико де Сойя, на которого обрушился очередной приступ головокружения, зарыдал как ребенок.
После мессы капитан де Сойя вместе со спутниками отправился в сад. Небо над куполом собора приобрело золотистый оттенок.
— Федерико, — проговорил отец Баджо, — вам предстоит очень важная встреча. Достаточно ли прояснилось ваше сознание?
— Вполне, — ответил де Сойя.
Монсеньор Лукас Одди, за спиной которого маячила капитан Ву, положил руку на плечо офицеру.
— Федерико, сын мой, вы уверены? Мы можем подождать до завтра.
Де Сойя покачал головой. У него в голове роились воспоминания о прослушанной мессе, во рту еще ощущался привкус святых даров, он слышал голос Христа, однако все это не мешало ему думать.
— Я готов, — произнес он.
— Отлично. — Монсеньор Одди кивнул Баджо. — Можете идти, святой отец. Вы нам больше не нужны.
Баджо поклонился и двинулся прочь. Де Сойя, на которого словно снизошло озарение, понял, что никогда больше не увидит священника; сердце затопила волна любви, на глаза вновь навернулись слезы. Хорошо, что темно и никто этого не видит. Интересно, с кем он встретится и где? В легендарных апартаментах Борджа? Или в Сикстинской капелле? А может, в комнате для гостей, в башне, которая называлась когда-то башней Борджа?
Монсеньор Лукас Одди остановился и указал на каменную скамью, на которой сидел какой-то человек; присмотревшись, де Сойя узнал кардинала Лурдзамийского и понял, что встреча, к которой его готовили, состоялась. Офицер опустился на колени перед кардиналом и прильнул губами к перстню на протянутой руке.
— Встаньте, — произнес кардинал, дородный мужчина с резкими чертами лица; его низкий голос показался де Сойе гласом Господним. — Присаживайтесь.
Капитан уселся на скамью, остальные продолжали стоять. По левую руку от кардинала, спрятавшись в тень, сидел еще один человек в офицерской форме, на которой не было видно знаков различия. Чуть поодаль находились и другие люди.
— Отец де Сойя, — начал Симон Августино, кардинал Лурдзамийский, — позвольте представить вам адмирала Уильяма Ли Марусина. — Он кивнул на человека слева от себя.
Капитан мгновенно вскочил, встал по стойке «смирно» и отдал честь.
— Виноват, сэр, — выдавил он. — Я должен был вас узнать.
— Вольно, — разрешил Марусин. — Садитесь, капитан.
Де Сойя подчинился; теперь он вел себя осторожнее, смутно начиная сознавать, в чьей компании оказался.
— Мы довольны вами, капитан, — сказал Марусин.
— Благодарю вас, сэр, — пробормотал де Сойя, украдкой оглядываясь по сторонам.
— И мы тоже, — пророкотал кардинал Лурдзамийский. — Вот почему мы выбрали именно вас.
— Выбрали для чего, ваше преосвященство? — У де Сойи от напряжения и сумятицы в мыслях вновь закружилась голова.
— Для осуществления миссии, которую поручают вам Орден и Церковь, — проговорил адмирал, наклоняясь вперед. В свете звезд — луны у Пасема не было — де Сойя отчетливо видел черты его лица.
Где-то зазвонил колокол, созывая монахов к вечерне. На близлежащих зданиях вспыхнули прожектора, направленные на купол собора.
— Как обычно, — продолжил кардинал, — докладывать будете своему командованию и представителю Церкви. — Он бросил взгляд на адмирала.
— А что за миссия, ваше преосвященство? Или мне следует спросить у господина адмирала? — Марусин являлся прямым начальником де Сойи, однако высшие офицеры Ордена все же уступали рангом прелатам Церкви.
Марусин кивнул Марджет Ву, которая приблизилась к скамье и протянула де Сойе голокуб.
— Включите, — велел адмирал.
Де Сойя надавил пальцем на выступ на днище керамического куба. В воздухе сформировалось изображение девочки. Капитан стал вращать изображение, отметив про себя темные волосы и пристальный взгляд широко распахнутых глаз. Картинка разогнала тьму вокруг скамьи; подняв голову, де Сойя увидел, что изображение отражается в зрачках кардинала и Марусина.
— Ее зовут… — Кардинал помолчал. — Вообще-то мы точно не знаем. Как по-вашему, святой отец, сколько ей лет?
Де Сойя прикинул, перевел гиперионские годы в стандартные и ответил:
— Наверно, двенадцать. — Честно говоря, он не слишком хорошо умел определять возраст детей. — Быть может, одиннадцать. Разумеется, стандартных.
— Ей было одиннадцать лет по гиперионскому календарю, когда она исчезла двести шестьдесят с лишним стандартных лет тому назад.
Де Сойя вновь повернулся к изображению. Вероятнее всего, девочка давным-давно мертва или же успела несколько раз воскреснуть, если, конечно, ее крестили. Интересно, зачем ему показывают этот портрет?
— Эта девочка — дочь женщины по имени Ламия Брон, — заметил адмирал Марусин. — Ничего не вспоминаете?
Имя казалось смутно знакомым. Де Сойя напряг память. Неожиданно на ум пришли строки из «Песней».
— Вспоминаю. Она вместе с Его Святейшеством участвовала в последнем паломничестве на Гиперион.
Кардинал сложил на коленях пухлые руки и слегка подался вперед. В свете, исходящем от голокуба, его сутана казалась ярко-красной.
— Ламия Брон имела половую близость с исчадием ада. С кибридом, клонированным подобием человека, мозг которого представлял собой один из искусственных интеллектов Техно-Центра. Вы помните историю, святой отец? Помните гнусные вирши Силена?
Де Сойя моргнул. Неужели его вызвали в Ватикан только для того, чтобы покарать за детские грехи? Ведь он еще двадцать лет назад признался на исповеди, что читал «Песни», получил отпущение и с тех пор не прикасался к проклятой книге. Капитан покраснел.
— Все в порядке, сын мой, — утешил кардинал, заметив смущение де Сойи. — Каждый из нас читал «Песни»… Слишком сильно любопытство, слишком велико искушение. Никто из нас не избежал этого греха… Вы помните, что Ламия Брон сошлась с кибридом Джона Китса?
— Смутно, — отозвался де Сойя и, спохватившись, прибавил: — Ваше преосвященство.
— А вам известно, кто такой Джон Китс?
— Нет, ваше преосвященство.
— Поэт, живший до Хиджры, — пророкотал кардинал. Звездное небо над Пасемом прочертили три голубых инверсионных следа. Де Сойя без труда определил, какого класса корабли и чем они вооружены, и вновь погрузился в размышления. Его не удивило, что он не помнит подробностей относительно Джона Китса; уже в детстве техника и великие космические сражения интересовали капитана гораздо больше, чем что-либо из эпохи до-Хиджры, в особенности поэзия.
— Женщина, о которой рассказывается в «Песнях», — продолжал кардинал, — не только спала с кибридом, но и понесла от него.
Де Сойя вопросительно изогнул бровь.
— Я не знал, что кибриды… Ну… Мне всегда казалось, они… гм…
— Стерильны? — со смешком уточнил кардинал. — Как андроиды? Увы, сын мой, закосневшие в грехе ИскИны создали точную копию человека. Мужчину, который совратил дщерь Евы.
Де Сойя понимающе кивнул. Честно говоря, ему было все равно, кибриды с андроидами или грифоны с единорогами. Если его не подводит память, этих существ давным-давно нет на свете. И Бог с ними, главное сейчас — выяснить, какое отношение к капитану де Сойе имеют рассуждения насчет мертвых поэтов и беременных баб.
Словно отвечая на не заданный вслух вопрос, адмирал Марусин сказал:
— Ребенок Ламии Брон — та девочка, чье изображение, капитан, вы видите перед собой. Она родилась на Гиперионе после гибели кибрида.
— Она не совсем человек, — прошептал кардинал. — Ведь несмотря на то, что тело ее… отца, кибрида Китса, было уничтожено, искусственный интеллект сохранился в петле Шрюна.
Адмирал Марусин тоже наклонился поближе к де Сойе, словно собирался поделиться конфиденциальной информацией.
— Мы полагаем, что ребенок еще до своего рождения общался с кибридом Китса, заключенным в петле. И мы почти уверены, что через кибрида этот… зародыш поддерживал связь с Техно-Центром.
Де Сойе захотелось перекреститься, но он совладал со своими чувствами. Из книг и всего того, чему его учили, у капитана сформировалось представление о Техно-Центре как об очередном воплощении дьявола, наиболее могущественном исчадии ада в современной истории. Уничтожение Техно-Центра, как подсказывала де Сойе вера, спасло не только хиревшую Церковь, но и человечество в целом.
Интересно, что мог узнать ребенок от бестелесных, лишенных даже подобия души существ?
— Девочка представляет опасность, — заявил кардинал. — Техно-Центр уничтожен, к нуль-порталам доступа нет, Церковь запретила наделять машины интеллектом, который можно сопоставить с человеческим разумом, однако этот ребенок — агент ИскИнов, слуга дьявола.
Де Сойя потер подбородок, внезапно осознал, что смертельно устал.
— Вы говорите о ней так, будто она до сих пор жива. И до сих пор остается маленькой девочкой.
Зашуршала ткань — кардинал переменил положение, после чего произнес зловещим тоном:
— Она жива, святой отец. И ничуть не повзрослела.
Де Сойя устремил взгляд на голографическое изображение, потом прикоснулся к кубу. Изображение померкло.
— Криогенная фуга?
— На Гиперионе находятся Гробницы Времени, — принялся объяснять кардинал. — Одна из них, которую называют Сфинксом (помните, наверно, из истории или из «Песней»), представляет собой временной портал. Никто не знает, как он действует; кстати говоря, пропускает этот портал только избранных. — Кардинал искоса поглядел на Марусина и вновь повернулся к де Сойе. — Девочка вошла в Сфинкса двести шестьдесят четыре стандартных года назад. Вошла и не вышла. Уже тогда нам было известно, что она представляет опасность для Ордена, но мы немного опоздали… Согласно сведениям из надежного источника, она снова появится в Сфинксе меньше чем через месяц. По-прежнему ребенок и по-прежнему смертельно опасна.
— Смертельно опасна, — повторил де Сойя. Он отказывался что-либо понимать.
— Его Святейшество предвидел такой поворот событий. Без малого три столетия тому назад Господь в своей милости поведал Его Святейшеству, какую угрозу таит в себе дитя. Теперь Папа намерен устранить опасность.
— Ничего не понимаю, — признался капитан. Изображение погасло, однако лицо девочки стояло перед его мысленным взором. — Какая угроза может исходить от маленького ребенка?
Кардинал стиснул локоть де Сойи с такой силой, что капитану стало больно.
— Она — агент Техно-Центра, вирус в Теле Христовом. Его Святейшеству открылось, что девочка обладает способностями, которых не может быть у людей. В частности, дьявольским даром убеждать: любой, кто ее услышит, отринет Слово Господне и перейдет на сторону сатаны.
Де Сойя мало что понял, однако на всякий случай кивнул.
— Что же я должен делать, ваше преосвященство?
— Капитан де Сойя, — произнес адмирал Марусин командным голосом, который после всех перешептываний показался неестественно громким, — вы освобождаетесь ото всех предыдущих заданий. Вам поручается найти девочку и вернуть ее Ватикану.
— Сын мой, — добавил кардинал, заметив, должно быть, выражение лица де Сойи, — вы опасаетесь за судьбу девочки?
— Да, ваше преосвященство.
Интересно, подумалось капитану, не роет ли он этим признанием себе могилу?
— Успокойтесь, сын мой. — Кардинал, отпустив локоть де Сойи, перешел на дружеский тон. — Никто — слышите, никто — не причинит девочке ни малейшего вреда. Его Святейшество особо подчеркнул, что ваша вторая по важности задача — доставить ее сюда целой и невредимой.
— А первоочередная задача, — подхватил адмирал Марусин, — вернуть девочку на Ватикан и передать Верховному Командованию Ордена.
Де Сойя судорожно сглотнул. «Почему я?» — эти слова рвались у него с языка, но вслух он произнес только:
— Все понятно, сэр.
— Вы получите папский диск, который позволит вам пользоваться всеми ресурсами, какими располагает Орден. С этим вопросов нет?
— Никак нет, сэр. — Несмотря на твердый голос, де Сойя не находил себе места от удивления. Выходит, он теперь может командовать губернаторами планет?
— Сегодня же вас переправят в систему Гипериона, — продолжал адмирал тем же суровым, не терпящим возражений тоном. — Капитан Ву?
Адъютант выступила из тени и вручила де Сойе красную папку с диском. Капитан кивнул, стараясь совладать с сумятицей в мыслях. «В систему Гипериона… На «архангеле»… Снова умирать, снова испытать чудовищную боль… Господи Боже, я не хочу, не хочу! Да минует меня чаша сия…»
— В вашем распоряжении наш лучший на сегодняшний день звездолет. Он того же класса, что и корабль, на котором вы прибыли на Пасем, однако рассчитан на шесть человек, огневой мощью не уступит факельщику и оборудован автоматической системой воскрешения.
— Ясно, сэр. — Ну и дела, подумалось де Сойе. Автоматическая система воскрешения. Неужели машину допустили к святым таинствам?
— Сын мой, конечно, жаль, что приходится полагаться на роботов. — Кардинал вновь похлопал де Сойю по руке. — Однако этот звездолет доставит вас в те уголки пространства, которые пока недоступны Церкви. Грешно отказывать вам в воскрешении только из-за того, что поблизости нет ни одного священника. Его Святейшество лично благословил корабль и автоматическую систему, а потому здесь нет ни малейшего кощунства.
— Спасибо, ваше преосвященство, — пробормотал де Сойя. — Но я не совсем понимаю, о каких уголках пространства идет речь. Вы же сказали, что мне предстоит отправиться на Гиперион… Я там никогда не был, однако полагал, что этот мир…
— Гиперион подчиняется Ордену, — перебил адмирал. — Но если вы не сумеете захватить… освободить девочку и вам придется следовать за ней на другие планеты, на корабле должна быть автоматическая система воскрешения.
Де Сойя наклонил голову.
— Мы надеемся, что вы найдете девочку на Гиперионе, — продолжал адмирал. — Прибыв на планету, свяжитесь с генералом Барнс-Эйвне, командиром бригады швейцарских гвардейцев. С того момента, как вы предъявите генералу свой диск, гвардейцы переходят под ваше командование.
«Господи! — мысленно воскликнул де Сойя. — Я же всего-навсего капитан космического корабля! С какой стати мне командовать гвардейцами? Для меня все одно — что пехота, что кавалерия…»
— Мы отдаем себе отчет в том, что вам не доводилось командовать наземными подразделениями, однако, — адмирал хмыкнул, — подобное повышение по службе необходимо. Повседневные проблемы по-прежнему будет решать генерал Барнс-Эйвне, но вы, если понадобится для спасения ребенка, можете отменить любой приказ генерала.
— А что… — Де Сойя прокашлялся. — Что будет с ребенком? Вы, кажется, упомянули, что не знаете, как зовут эту девочку…
— Перед тем как исчезнуть, — ответил кардинал, — она называла себя Энеей. Что касается вашего вопроса, сын мой… Повторяю, мы намерены помешать ей осквернить Тело Христово, но вреда причинять не собираемся. Наоборот, мы стремимся спасти ее бессмертную душу. Таковы распоряжения Его Святейшества.
Прозвучавшие в голосе кардинала нотки подсказали де Сойе, что разговор окончен. Капитан поднялся, и в ту же секунду на него накатила дурнота — последствие воскрешения. «А скоро мне опять умирать». На глаза вновь навернулись слезы.
— Капитан де Сойя, — произнес, поднявшись со скамьи, адмирал Марусин, — ваше задание будет считаться выполненным, когда вы доставите девочку на Пасем и передадите лично мне.
— Мы рассчитываем, что это произойдет в течение ближайших недель, — пророкотал кардинал.
— На вас лежит огромная ответственность, — заявил адмирал. — Вы должны приложить все силы, чтобы выполнить поручение Его Святейшества и доставить девочку на Пасем целой и невредимой — пока заложенный в нее губительный вирус не распространился среди наших братьев и сестер во Христе. Мы знаем, что вы не подведете, капитан де Сойя.
— Так точно, сэр, — отозвался капитан. «Ну почему я?» Он опустился на колени, прильнул губами к перстню на руке кардинала, а когда снова встал, адмирал Марусин уже скрылся во мраке.
Сопровождаемый монсеньором Лукасом Одди и капитаном Марджет Ву, де Сойя направился к выходу из сада. Мысли по-прежнему путались, сердце бешено колотилось, душу терзали нетерпение и страх. Капитан оглянулся в тот самый миг, когда в небо над Ватиканом взмыл очередной катер. Голубое пламя выхватило из мрака купол собора, крыши близлежащих домов и садовые деревья. На несколько секунд стала отчетливо видна группа людей у стены башни. Там находился адмирал Марусин, который стоял спиной к де Сойе, как и два швейцарских гвардейца в доспехах, с иглометами на изготовку. Лицо четвертого члена группы мгновенно врезалось отцу Федерико в память, чтобы возникать перед мысленным взором в грядущие годы.
На каменной скамье, залитой голубым светом, устремив печальный взгляд на де Сойю, сидел Его Святейшество Папа Юлий Четырнадцатый, первосвященник католической церкви, которая насчитывала ныне свыше шестисот миллиардов прихожан; пастырь еще четырехсот миллиардов душ, раскиданных по территории, подвластной Ордену; человек, только что отправивший Федерико де Сойю навстречу судьбе.
Глава 10
На следующее утро мы вновь очутились в башне с кораблем. А.Беттик провел меня туда по туннелю, соединявшему между собой две башни. Мартин Силен присутствовал в виде голограммы. Выглядел он необычно, поскольку предпочел, чтобы компьютер смоделировал его несколько моложе: поэт по-прежнему смахивал на дряхлеющего сатира, зато стоял на собственных ногах, а на голове еще сохранились волосы, выбивавшиеся из-под берета. Рубашка с длинными рукавами, брюки-«бананы», темно-бордовый плащ — должно быть, когда такой наряд был в моде, Силен считался записным щеголем. Вероятно, таким он и прибыл на Гиперион три столетия назад.
— Чего уставился? Тоже мне, деревенщина неотесанная! Давай заканчивай, мать твою, и займемся делом. — Старик то ли перебрал накануне, то ли проснулся и почувствовал себя лучше обычного; так или иначе, настроение у него было еще то.
— Ладно, — ответил я.
Мы поднялись на лифте к нижнему люку. А.Беттик и голографическое изображение Силена повели меня по кораблю: машинное отделение с загадочными приборами и паутиной кабелей и труб; гибернационный уровень — четыре криогенных саркофага (вообще-то изначально их было пять, но один позаимствовал для своих целей Силен); центральный колодец, в котором я уже побывал, — за отделанными под дерево стенами скрывались отсеки, где хранилась всякая всячина: скафандры, вездеходы, мини-катеры, имелся даже небольшой арсенал древнего оружия; жилой уровень с роялем «Стейнвей» и проекционной нишей. Поднявшись по винтовой лестнице, мы очутились в помещении, которое А.Беттик назвал «штурманской рубкой»: там и впрямь стояли навигационные приборы, но основное место занимали полки с настоящими книгами, а под иллюминаторами располагались кресла и кушетки. Наконец лестница привела нас в самую верхнюю каюту — спальню с кроватью посредине.
— Консул частенько поднимался сюда, чтобы послушать музыку и поглядеть в иллюминатор, — заметил Силен. — Корабль!
Переборки вдруг сделались прозрачными. Я увидел каменную кладку, а сверху, из отверстия в дырявой крыше башни, в каюту проник солнечный луч. Зазвучала музыка — кто-то играл на рояле древнюю, берущую за живое мелодию.
— Черчивик? — рискнул угадать я.
— Рахманинов. — Старый поэт презрительно фыркнул. Мне показалось, что в полумраке козлиные черты внезапно смягчились. — Догадываешься, кто играет?
Я прислушался. Чувствовалось, что профессионал. Но кто именно…
— Консул, — тихо проговорил А.Беттик.
— Корабль! — окликнул поэт. — Хватит. — Стены каюты мгновенно утратили прозрачность. Изображение Силена на какой-то миг исчезло, а затем появилось у трапа. Честно говоря, меня эта манера изрядно раздражала. — Ну что, нагляделся? Айда вниз, подумаем, как нам наколоть Орден.
На сверкающей крышке рояля расстелили старинные бумажные карты. Чернильная Аквила распростерла крылья над клавиатурой, над ней нависла голова Эквы. Мартин Силен подошел к роялю и ткнул пальцем в лошадиную морду в том месте, где у настоящей лошади находится глаз.
— Тут, — сказал он. — И вот тут. — Палец беззвучно переместился по бумаге. — Вшивые папские вояки занимают позиции от Башни Хроноса, — палец уперся в Уздечку за лошадиным «глазом», — до самого моря. В проклятом городе Печального Короля Билли, — палец указал на точку в нескольких километрах к северу от Долины Гробниц Времени, — у них авиация, а в Долине полным-полно швейцарских гвардейцев.
Я поглядел на карту. Не считая покинутого Града Поэтов и Долины, восточная часть Эквы представляла собой пустыню; там находились только казармы подразделений Ордена.
— Откуда вам известно про гвардейцев?
— Из надежного источника, — отозвался поэт, заломив бровь.
— А чем они вооружены, ваш источник не сообщает?
Раздался такой звук, словно изображение собиралось сплюнуть на ковер.
— Тебе-то какая разница? Подумай лучше о другом. Вас с Энеей разделяют тридцать тысяч солдат, три тысячи из которых — швейцарские гвардейцы. Как ты намерен с ними справиться?
По правде сказать, мне захотелось расхохотаться. Сомневаюсь, чтобы силы самообороны Гипериона в полном составе, при поддержке авиации и космических кораблей, сумели бы «справиться» с дюжиной швейцарских гвардейцев. Но я удержался от смеха и вновь уставился на карту.
— Вы сказали, в Граде Поэтов расположен аэродром. А какие там самолеты?
— Истребители. — Поэт передернул плечами. — ТМП на Гиперионе годятся только на гробы, так что эти умники пригнали реактивные корыта.
— А кого типа? Импульсные или какие-нибудь еще? — Я старался говорить с видом знатока, хотя учили меня в армии другому — разбирать оружие, смазывать, стрелять, совершать марш-броски под проливным дождем, заботясь о том, чтобы оружие не промокло, спать в промежутки между бросками, одновременно стараясь не превратиться в ледышку, и не высовываться, дабы не попасть на мушку урсианским снайперам.
— Какая, ядри твою мать, разница? — прорычал Мартин Силен. Да, изображение помолодело, а характер нисколько не улучшился. — Истребители, и все. Скорость… Эй, Корабль, какая у них скорость?
— Три звуковых, — отозвался звездолет.
— Три звуковых, — повторил Силен. — Вполне достаточно, чтобы прилететь сюда, разбомбить все к чертовой матери и вернуться на аэродром, пока не нагрелось пиво.
Я оторвался от карты.
— Почему же они до сих пор не…
— Что «не»? — перебил поэт.
— Не прилетели, не разбомбили все к чертовой матери и не отправились восвояси. Вы представляете для них угрозу, почему же они вас терпят?
— Они думают, что я мертв. — Мартин Силен фыркнул. — А какую угрозу может представлять мертвец?
— Очевидно, на орбите находится десантный корабль. — Я вздохнул. — Скорее всего вы не знаете, какие звездолеты его сопровождают.
Ответил мне компьютер:
— На орбите находится спин-звездолет класса «Акира» водоизмещением триста тысяч тонн. Его сопровождают два факельщика, «Святой Антоний» и «Святой Бонавентура». Кроме того, по высокой орбите движется корабль класса «три К».
— Это еще что за лабуда? — проворчал поэт.
Я искоса поглядел на Силена. Надо же, прожил без малого тысячу лет, а не знает простых вещей. Впрочем, поэты — люди странные.
— Коммуникации, Командование, Контроль, — объяснил я.
— Значит, главная задница там, наверху?
— Не обязательно. — Я потер щеку. — На звездолетах, возможно, находятся капитаны, а что касается главнокомандующего, он, по всей видимости, на планете. Судите сами, при таком количестве швейцарских гвардейцев…
— Ладно, ладно, — прервал Силен. — Растолкуй лучше, что ты намерен предпринять, чтобы спасти мою маленькую подружку.
— Прошу прощения, — вмешался компьютер, — но около трех стандартонедель назад к флотилии присоединился еще один звездолет, челнок с которого совершил посадку в Долине Гробниц Времени.
— Что за корабль? — уточнил я.
— Не знаю, — признался компьютер после секундной заминки. — Небольшой, размерами с авизо, тип двигателя не поддается определению…
— Наверно, авизо и есть, — сказал я, обращаясь к Силену. — Беднягу запихнули на несколько месяцев в криогенную фугу, чтобы он напомнил командующему флотилией о какой-нибудь ерунде.
Поэт вновь ткнул пальцем в карту.
— Не отвлекайся, Рауль. Что ты собираешься предпринять, чтобы одурачить этих ублюдков?
— Откуда, черт побери, мне знать! — раздраженно воскликнул я, отходя от рояля. — У вас было два с половиной столетия, чтобы все продумать, вы и предлагайте план. — Я обвел рукой помещение. — Полагаю, эта штука сможет удрать от факельщиков? Корабль! Ты способен оторваться от погони, если нас будут преследовать факельные звездолеты?
Когда скорость превышала световую, уже не имело значения, какого типа на твоем корабле двигатель Хоукинга: поэтому выживем мы или нет, зависело от того, насколько быстро наш корабль сможет перейти в состояние С-плюс.
— Разумеется, — отозвался компьютер. — Несмотря на провалы в памяти, я помню, что Консул во время пребывания у Бродяг модифицировал некоторые узлы на борту.
— У Бродяг? — глупо переспросил я. По спине побежали мурашки. Неудивительно: ведь меня приучили опасаться нового нашествия Бродяг, этих омерзительных чудовищ из детских фантазий.
— Совершенно верно, — чуть ли не с гордостью отозвался компьютер. — Мы перейдем в состояние С-плюс на двадцать три процента быстрее, чем любой факельный звездолет.
— Да, но если ты подпустишь их ближе астрономической единицы, нам каюк, — пробормотал я.
— Правильно, — согласился компьютер. — Но если у нас будет фора в пятнадцать минут, беспокоиться не о чем.
Я повернулся к своим спутникам — хмурому Силену и молчаливому андроиду.
— Замечательно. По крайней мере на словах. Но я до сих пор не представляю, как доставить девочку на звездолет и как получить эти самые пятнадцать минут форы. Факельщики наверняка торчат на орбите не просто так. Они патрулируют пространство, и один из них практически постоянно висит над Эквой, а его радары отслеживают все перемещения от верхних слоев атмосферы до расстояния в сотню световых минут включительно. На высоте в тридцать километров располагается воздушный патруль — предположительно, импульсные истребители «скорпион», способные, если нужно, спуститься ниже. Отсюда следует, что у нас не будет и пятнадцати секунд, не говоря уж о четверти часа. — Я посмотрел на поэта. — Или вы что-то от меня скрываете? Корабль! Неужели Бродяги сделали тебя установкой-«призраком»? Или снабдили невидимым силовым щитом?
— Мне об этом неизвестно, — откликнулся компьютер и добавил после паузы: — Насколько я понимаю, такое вряд ли возможно.
— Послушайте, — продолжал я, обращаясь к Силену, — я готов помочь, попытаться спасти девочку…
— Энею, — вставил старик.
— Спасти Энею из рук Ордена, но если она для них и впрямь настолько важна… Понимаете, три тысячи гвардейцев… Господи Боже, да нам ни за что не подобраться к Гробницам Времени ближе, чем на пятьсот километров, даже на этой модерновой лоханке!
Силен заломил бровь. Это могло означать и удивление, и сомнение.
— Корабль, — окликнул я.
— Да, месье Эндимион?
— У тебя есть защитные экраны?
— Нет, месье Эндимион. Только модифицированные Бродягами внутренние силовые поля.
Я не имел ни малейшего понятия о том, что значит «модифицированные Бродягами», но уточнять не стал.
— Они выдержат залп из лучевого орудия?
— Нет.
— Ты можешь перехватить гиперпространственную торпеду? Или хотя бы обычную?
— Нет.
— А уйти от нее?
— Нет.
— А не пустить на борт группу захвата?
— Нет.
— Имеется ли на борту какое-либо устройство, которое можно было бы использовать в боевых действиях?
— Нет, месье Эндимион. Правда, я способен удирать во все лопатки.
— Приехали. — Я поглядел на Мартина Силена. — Вот вам и ответ. Спасу я девочку или не спасу — не имеет никакой разницы.
— Как сказать. — Силен усмехнулся и кивнул А.Беттику. Андроид поднялся по трапу в каюту наверху и вернулся, держа в руках нечто скатанное в рулон.
— Если это секретное оружие, — заметил я, — хорошо бы оно оказалось помощнее.
— Угу. — Поэт ухмыльнулся и снова кивнул. А.Беттик раскатал свою ношу — ковер меньше двух метров в длину и чуть больше метра в ширину. Ворс местами вылез, местами выцвел, но, присмотревшись, можно было различить загадочные узоры. Мне бросилось в глаза ярко сверкавшее переплетение золотых нитей.
— Господи! — прошептал я. Ощущение было такое, словно мне двинули кулаком под дых. — Ковер-самолет.
Мартин Силен звучно прокашлялся.
— Он самый. Один-единственный на свете.
Я попятился, сообразив, что чуть было не наступил на, если можно так выразиться, живую легенду.
Ковров-самолетов и в лучшие времена насчитывалось от силы несколько сотен, а передо мной лежал их прародитель — первый ковер-самолет, изготовленный вручную знатоком чешуекрылых, конструктором электромобилей со Старой Земли Владимиром Шолоховым. Несмотря на почтенный возраст (ему перевалило за семьдесят стандартных), Шолохов отчаянно влюбился в свою юную племянницу Алотилу и подарил ей летающий ковер, надеясь таким образом добиться взаимности. Однако девица жестоко посмеялась над пожилым ухажером, и Шолохов покончил с собой на Новой Земле, через несколько недель после того, как закончил доводить спин-генератор Хоукинга (Хоукинг, кстати, был ученым, который жил до Хиджры и труды которого позволили осуществить на практике переход в состояние С-плюс), а ковер бесследно исчез. Столетия спустя Майк Ошо купил его на Карвнельской Ярмарке и привез на Мауи-Обетованную, а приятель Майка Мерри Аспик благодаря ковру вошел в историю — всем известна легенда о любви Мерри и Сири. Эту легенду включил в свои «Песни» Мартин Силен, если верить которому, Сири была бабушкой Консула. В «Песнях» рассказывалось, как использовал ковер-самолет Консул Гегемонии, как он летел из Долины Гробниц Времени в Китс, чтобы освободить корабль из-под ареста и вернуться на нем в Долину.
Я опустился на колено и осторожно притронулся к древнему ковру.
— Господи ты Боже мой! — воскликнул Силен. — Это обыкновенный ковер, парень! Не слишком, между прочим, привлекательный на вид. У себя дома я бы его держать не стал.
Я поднял голову.
— Это тот самый ковер-самолет, — подтвердил А.Беттик.
— Он летает? — справился я.
А.Беттик встал на одно колено рядом со мной и прикоснулся голубым пальцем к затейливому узору золотых нитей. Ковер внезапно сделался жестким как доска и приподнялся сантиметров на десять над полом.
Я покачал головой:
— Чудеса… Насколько я помню, ЭМ-двигатели на Гиперионе не работают…
— Большие — да, — подтвердил Силен. — ТМП, левитационные баржи и тому подобное. А ковер маленький. К тому же его слегка переделали.
— Переделали?
— Бродяги, — объяснил компьютер. — Когда мы у них были, они, насколько я помню, изменили очень многое.
— Ясно. — Я встал и дал легендарному ковру пинка. Он закачался, словно на невидимых пружинах, но остался на месте. — Ладно, допустим, что это ковер Мерри и Сири. Если мне не изменяет память, он летает со скоростью… гм… двадцать километров в час.
— Максимальная скорость двадцать шесть километров в час, — сообщил А.Беттик.
Я кивнул и снова пнул ковер.
— Пускай двадцать шесть. А сколько отсюда до Гробниц Времени?
— Тысяча шестьсот восемьдесят девять километров, — ответил компьютер.
— Понятно. А через сколько Энея выйдет из Сфинкса?
— Через двадцать часов, — отозвался Мартин Силен. Должно быть, прежнее изображение ему надоело: теперь я видел перед собой старика в «летающей кровати».
— Тогда мы опоздали, — подытожил я, бросив взгляд на свои часы. — Мне следовало вылететь пару дней назад. — Я подошел к роялю. — И потом, вы всерьез считаете, что эта рухлядь на что-то годится? У него что, имеется силовой экран, который защитит нас от лазеров и пуль?
— Нет, — сказал А.Беттик. — У ковра имеется только экран, который не дает пассажирам упасть во время полета.
Я пожал плечами:
— Итак? Что прикажете делать? Заявиться в Долину с ковром на плече и предложить махнуться: дескать, я вам, ребята, ковер, а вы мне девчонку?
А.Беттик продолжал любовно поглаживать выцветший ворс.
— Благодаря Бродягам аккумулятора теперь хватает на тысячу часов.
Я кивнул. Это, конечно, чудо сверхпроводниковой технологии, но мне оно не поможет.
— А скорость ковра после переделки составляет триста километров в час, — прибавил андроид.
Я принялся жевать губу. Что ж, к завтрашнему утру можно успеть. Правда, перспектива просидеть на ковре пять-шесть часов не из приятных, да и что потом?..
— Мне казалось, девочка должна улететь с планеты. Вы же хотели, чтобы она покинула Гиперион, верно?
— Верно. — Судя по голосу, силы Мартина Силена были на исходе. — Но сперва ее надо доставить на корабль.
Я подошел к лестнице и повернулся лицом к поэту, андроиду и парящему над полом ковру-самолету.
— Похоже, вы не понимаете! — Сам того не желая, я сорвался на крик. — В Долине находятся швейцарские гвардейцы, у которых радары, детекторы движения и прочие технические штучки. Вы, должно быть, спятили, если думаете, что я полечу туда на этом вшивом коврике. Подумаешь, триста километров в час! Да любой гвардеец, не говоря уж об импульсных истребителях и факельных звездолетах, прихлопнет меня в долю секунды! — Я помолчал. — Или вы опять что-то скрываете?
— Ну разумеется! — Мартин Силен вымученно усмехнулся. — Разумеется.
— Пойдемте наружу, — сказал А.Беттик. — Я покажу вам, как управлять ковром.
— Прямо сейчас? — Мой голос неожиданно сел. Сердце забилось вдвое быстрее обычного.
— Прямо сейчас, — откликнулся Мартин Силен. — Ты вылетаешь завтра в три утра. К тому времени тебе надо освоиться с управлением.
— Я вылетаю? — Глядя на легендарный ковер-самолет, я подумал: «Это все всерьез. Завтра меня могут убить».
— Вылетаешь, вылетаешь, — подтвердил поэт.
А.Беттик заставил ковер опуститься на пол и вновь скатал в рулон. Следом за андроидом я спустился по металлическому трапу и выбрался из люка. В окно башни проникал сноп солнечных лучей. «Господи, — подумалось мне, когда А.Беттик разложил ковер на каменном выступе и прикоснулся к золотой нити. — Господи Боже». Кровь пульсировала в висках. Изображение Силена куда-то запропастилось.
Андроид жестом пригласил меня сесть.
— В первый раз я полечу с вами, — сказал он.
Неподалеку шелестело листвой челмовое дерево. Господи, сколько же метров до земли?!
Я взобрался на подоконник и осторожно переполз на ковер-самолет.
Глава 11
Сигнал тревоги в боевом скиммере капитана де Сойи раздался ровно за два часа до появления девочки.
— Обнаружена воздушная цель, курс один-семь-два, движется в северном направлении, скорость двести семьдесят четыре километра в час, высота четыре метра, — перечислял оператор, находившийся на корабле класса «три К», в шестистах километрах от поверхности планеты. — Расстояние до цели пятьсот семьдесят километров.
— Четыре метра? — переспросил де Сойя у генерала Барнс-Эйвне, которая сидела напротив за панелью управления в центре боевой рубки.
— Пытается подобраться незамеченным, — отозвалась генерал, женщина невысокого роста, с бледной кожей и рыжими волосами. Ни кожи, ни волос из-под боевого скафандра не было видно. За три недели знакомства де Сойя не заметил, чтобы Барнс-Эйвне хоть раз улыбнулась. — Тактический визор, — прибавила генерал.
Капитан опустил визор. Цель находилась у южной оконечности Эквы и двигалась на север.
— Почему мы не засекли ее раньше?
— Возможно, аппарат только что взлетел. — Барнс-Эйвне проверяла показания своего тактического комлога. Поначалу между генералом и капитаном возникло напряжение, длившееся около часа, в течение которого де Сойя втолковывал генералу что к чему. После этого разговора Барнс-Эйвне ни в чем не перечила капитану, которого большинство офицеров бригады считали ватиканским шпионом. Последнее де Сойю ничуть не заботило. Главное — доставить на Пасем девочку, а кем тебя считают окружающие, дело третье.
— Визуальный контакт отсутствует. Песчаная буря. Кстати, она движется в нашем направлении и будет здесь до часа «С».
Так обозначался момент, в который откроется Сфинкс. Лишь горстка офицеров знала истинную причину, по которой в долину перебросили столь многочисленный контингент. Швейцарские гвардейцы не ворчали, но вряд ли кому-либо доставляло удовольствие пребывание на захудалой планетке с ее частыми песчаными бурями.
— Направление прежнее, курс один-семь-два, скорость двести пятьдесят девять, высота три метра, — сообщил оператор. — Расстояние пятьсот семьдесят километров.
— Пора сбивать. — Барнс-Эйвне переключилась на канал прямой связи. — Ваши предложения?
Де Сойя поднял голову. Скиммер повернул к югу. Снаружи, за похожими на глаза манты блистерами, промелькнули загадочные Гробницы Времени. На горизонте виднелась коричнево-желтая полоса.
— Может, сбить с орбиты?
— Это просто. Хотите, продемонстрирую, как действует пехота? — Генерал нажала на красную кнопку, которая на тактическом дисплее располагалась у южной оконечности защитного периметра, и перешла на боевую частоту. — Сержант Грегориус!
— Слушаюсь, госпожа генерал. — Голос у сержанта был низкий и хриплый.
— Вы следите за целью?
— Так точно.
— Перехватить, опознать и уничтожить, сержант.
— Есть, госпожа генерал.
На тактический комлог поступила картинка с орбиты: над дюнами неожиданно взмыли человеческие фигурки. Пять гвардейцев поднялись над облаком пыли, их полимерные экраны потускнели. На любой другой планете солдаты летели бы на электромагнитных отражателях, а на Гиперионе им приходилось пользоваться объемными реактивными ранцами. В воздухе пятерка рассыпалась и устремилась на юг, навстречу буре. Расстояние между членами группы составляло несколько сотен метров.
— Инфракрасное изображение, — приказала Барнс-Эйвне, когда штурмовая группа скрылась в клубах песка. — Высветить цель. — На тактическом дисплее вспыхнуло размытое пятно. — Маленький, — заметила генерал.
— Самолет? — Наземный тактический дисплей был де Сойе в новинку.
— Слишком маленький. Может, параплан с мотором. — В голосе генерала не было и тени беспокойства.
На глазах у де Сойи скиммер пересек южную часть Долины Гробниц Времени и увеличил скорость. Песчаная буря неумолимо приближалась.
— Расстояние до точки перехвата сто восемьдесят километров, — лаконично сообщил сержант Грегориус. Де Сойя переключился на прием изображения с генеральского визора, и теперь они оба наблюдали то, что видел сержант, — стену песка, сквозь которую гвардейцы летели, как сквозь ночь, по приборам.
— Ранцы нагреваются. — Де Сойя сверился с комлогом. Голос принадлежал капралу Ки. — Песок набивается в воздухозаборники.
Де Сойя посмотрел на Барнс-Эйвне. Той предстояло принять нелегкое решение — еще немного, и гвардейцы начнут падать; но если они упустят неопознанный аппарат, генералу не избежать неприятностей.
— Сержант Грегориус, — ровным голосом произнесла генерал, — приказываю уничтожить цель.
— Госпожа генерал, — отозвался сержант после секундной заминки, — мы можем продержаться… — К голосу сержанта примешивался вой ветра.
— Уничтожить цель, сержант! — перебила Барнс-Эйвне.
— Слушаюсь!
Де Сойя увеличил радиус обзора и вдруг заметил, что генерал наблюдает за его манипуляциями.
— Полагаете, это отвлекающий маневр? Нас водят за нос?
— Может быть.
Нажатием пальца Барнс-Эйвне объявила готовность номер пять. Готовность номер шесть означала боевую тревогу.
— Посмотрим, — сказала она.
Между тем отделение сержанта Грегориуса открыло огонь. На расстоянии в сто семьдесят пять километров, тем более в условиях песчаной бури, когда воздух насыщен электричеством, лучевое оружие не годится. Грегориус выпустил стальной дротик, способный перемещаться со скоростью шесть звуковых. Цель продолжала двигаться прежним курсом.
— По-видимому, у него нет датчиков. Летит вслепую, — заметила генерал. — На автопилоте.
Дротик пролетел мимо и взорвался на расстоянии в тридцать метров от цели, выбросив навстречу летательному аппарату двадцать тысяч стальных игл.
— Цель уничтожена, — сообщил оператор с орбиты в тут же самую секунду, когда Грегориус доложил: — Попал.
— Найти и опознать, — приказала генерал. Скиммер развернулся и полетел обратно к Долине.
Де Сойя посмотрел на генерала. Стреляем издалека, но бросаем людей на съедение буре?
— Слушаюсь, — отозвался сержант. Его голос заглушил треск статических разрядов.
Скиммер опустился ниже, и де Сойя в тысячный раз за минувшие недели увидел Гробницы Времени. Сейчас он смотрел на них со стороны, противоположной той, откуда когда-то приближались паломники (последнее паломничество состоялось триста лет назад): Дворец Шрайка, напоминающий своими бесчисленными зубцами о существе, которое не появлялось тут много лет; далее Пещерные Гробницы, три подряд, разинутые пасти в розовом мраморе стены ущелья; огромный Хрустальный Монолит, Обелиск, Нефритовая Гробница; и, наконец, украшенный затейливой резьбой Сфинкс — крылья распростерты, дверь запечатана.
Капитан взглянул на хронометр.
— Час пятьдесят шесть, — сказала Барнс-Эйвне.
Де Сойя пожевал губу. Все подходы к Сфинксу вот уже несколько месяцев охраняли швейцарские гвардейцы. За их спинами располагались прочие подразделения. У каждой Гробницы — на случай, если пророчество окажется не совсем верным — стоял патруль. За пределами долины занимали позиции подкрепления. Из космоса вели постоянное наблюдение факельщики и командный звездолет. На краю долины находился готовый к немедленному старту личный катер де Сойи, который должен был доставить капитана вместе с девочкой на авизо «Рафаил» (на борту корабля установили соответствующих размеров реаниматор).
Но сперва эту девочку по имени Энея следует окрестить. Таинство совершится в часовне на борту «Святого Бонавентуры», сразу после того как они окажутся в космосе. А три дня спустя она воскреснет на Пасеме, и капитан передаст ее с рук на руки адмиралу Марусину.
Де Сойе не давали покоя две мысли: что, если девочка пострадает, несмотря на все заверения кардинала Лурдзамийского? Что, если им не удастся захватить ее? Честно говоря, непонятно, какую угрозу для Ордена и Церкви может представлять ребенок — пускай даже ребенок из прошлого, ребенок, общавшийся с Техно-Центром.
Капитан отогнал надоедливые мысли. От него требуют не понимания, а послушания; он должен выполнять приказы начальства, служа в лице командиров Святой Церкви и Иисусу Христу.
— Нашли, — донесся сквозь треск голос сержанта Грегориуса. Де Сойя отрегулировал резкость визора, различил в клубах песка пять фигурок, увидел деревянные обломки, разодранный картон и покореженную металлическую конструкцию, нечто вроде планера с простенькой солнечной батареей.
— Управляемый летательный аппарат, — доложил капрал Ки.
Де Сойя отключил визор и улыбнулся генералу Барнс-Эйвне.
— Очередная учебная тревога? Если мне не изменяет память, пятая за день.
— В следующий раз тревога может оказаться боевой, — ответила генерал без тени улыбки. — Готовность номер пять подтверждаю, — проговорила она в микрофон. — В час «С» минус шестьдесят готовность номер шесть.
Командиры подразделений принялись рапортовать о выполнении приказа.
— Признаться, я не понимаю, кого мы опасаемся, — заметил капитан.
Барнс-Эйвне пожала плечами:
— Пока мы с вами беседуем, к Гипериону вполне могут подлетать Бродяги.
— Если так, им лучше нападать целым Роем, — отозвался де Сойя. — Иначе у них ничего не выйдет. Мы легко с ними справимся.
— На словах все просто, а вот на деле… — протянула генерал.
Скиммер совершил посадку. Открылся люк, на землю спустился трап. Пилот повернулся к генералу с де Сойей, снял визор и доложил:
— Мне было приказано сесть у Сфинкса за 110 минут до часа «С». Мы сели на минуту раньше.
Де Сойя поднялся:
— Хочу размяться, пока есть возможность. Не желаете присоединиться, генерал?
— Нет. — Барнс-Эйвне вновь поднесла к губам микрофон.
Разреженный воздух снаружи буквально искрился. Небо над головой было, как везде на Гиперионе, лазурным, однако над южной стеной каньона уже мерцало марево.
Де Сойя посмотрел на хронометр. Час пятьдесят. Капитан набрал полную грудь воздуха, пообещал себе не смотреть на часы по крайней мере минут десять и направился к возвышавшемуся неподалеку Сфинксу.
Глава 12
Когда многочасовая беседа наконец завершилась, меня отослали в постель с наказом спать до трех утра. Естественно, я не сомкнул глаз. Во-первых, мне обычно не спится в ночь перед дальней дорогой, а во-вторых, разве заснешь, когда вокруг творится такое?!
За окнами царила тишина, ярко сверкали звезды. Некоторое время я лежал на кровати, но около часа ночи встал, оделся и в пятый или шестой раз проверил содержимое своего вещмешка.
Экипировали меня, скажем прямо, не слишком шикарно: смена одежды и белья, носки, лазерный фонарь, две фляги с водой, подобранный по заказу нож в чехле, плотная куртка с термоподогревом, одеяло, которое можно было использовать как спальный мешок, инерционный компас, старый свитер, прибор ночного видения и пара кожаных перчаток. Что еще нужно искателю приключений?
Одежду я тоже подобрал соответствующую: удобная полотняная рубашка, жилет с множеством карманов, плотные габардиновые штаны вроде тех, в каких я, бывало, ходил на охоту, высокие сапоги — наслушавшись в детстве бабушкиных историй, я называл такие не иначе как «разбойничьими» — они слегка мне жали; и треуголка, без труда влезавшая в карман жилета.
Я пристегнул нож к поясу, положил в карман компас и наблюдал за звездами до тех пор, пока без пятнадцати три не появился А.Беттик.
Старый поэт не спал, поджидая меня в комнате на верху башни. В небе холодно мерцали звезды, в светильниках у стен потрескивало пламя; кроме того, комнату освещали висевшие на стенах факелы. Мне предложили завтрак — жареное мясо, фрукты, пирожки с повидлом и свежий хлеб, но я взял только чашечку кофе.
— Закуси, — пробурчал старик. — Кто знает, когда тебе доведется поесть в следующий раз?
Я пристально поглядел на него. От чашки в моей руке поднимался пар.
— Если все пойдет по плану, через пять с небольшим часов я окажусь на звездолете. Там и поем.
Силен фыркнул:
— Юноша, когда и где все шло по плану?
— Кстати, — я пригубил кофе, — вы, кажется, собирались поведать мне о чуде, которое отвлечет швейцарских гвардейцев.
— Доверься мне, сынок, — произнес, помолчав, Силен.
Я вздохнул. Подтвердились мои худшие опасения.
— Значит, довериться и все? — Он молча кивнул. — Ладно, посмотрим. — Я повернулся к А.Беттику. — Не забудь, где ты должен быть вместе с кораблем.
— Не забуду, месье Эндимион, — отозвался андроид.
Я подошел к ковру-самолету, на котором уже лежал мой вещмешок.
— Как насчет последних указаний? — спросил я, обращаясь ко всем сразу.
«Летающая кровать» Мартина Силена приблизилась на пару метров. В свете факелов старик сильнее прежнего смахивал на мумию. Его пальцы казались пожелтевшими от времени костями.
— Слушай, — прохрипел он.
В безбрежном море тварь живет. Она Столетьями дряхлеть обречена, Чтобы однажды подвести итог — Наедине с собой в урочный срок. Вообразить дано кому из нас Такую муку? Сотни тысяч раз В часы отлива обнажалось дно. А тварь все ждет. Но ей не суждено, Дождавшись срока, обрести покой: Пусть мир она изучит колдовской Каков он есть, пускай познает ход Светил небесных и движенье вод, Познает смысл вещей и хоть чуть-чуть Субстанций, звуков, форм постигнет суть — Но не умрет. Должна и дальше жить, Страданье с редкой радостью делить Благочестиво… И опять — одна, К существованью приговорена. Когда же час назначенный пробьет, Когда нальется соком зрелый плод, Предстанет некий юноша пред ней, Небес благих посланец. Вестник сей Научит умереть — иначе он На вечность вместе с нею обречен.[71]— Я не понимаю, что…
— Ну и хрен с тобой. Спаси Энею, переправь ее к Бродягам, а когда вырастет, привези ко мне. Проще простого, Рауль Эндимион, даже пастух с этим справится.
— Я еще был помощником планировщика, барменом и охотником. — Я поставил чашку на стол.
— Почти три, — проговорил Силен. — Пора.
— Сей момент. Меня учили перед дальней дорогой заглядывать в одно хорошее местечко. — Я сбегал в уборную, облегчился, на секунду прислонился к холодной стене, услышал голос бабушки: «Рауль Эндимион, ты что, спятил?», ответил: «Да» и вернулся к Силену. Ноги подгибались, сердце бешено колотилось. — Порядок.
Мартин Силен фыркнул. «Летающая кровать» зависла рядом с ковром. Я уселся на ковер, прикоснулся к левитационным нитям и взмыл на полтора метра в воздух.
— Не забудь включить автопилот, когда окажешься в Разломе.
— Да помню я, помню…
— Заткнись и слушай. — Костлявые пальцы коснулись нитей. — Нажмешь сюда, сюда и сюда. Можешь, конечно, управлять вручную, если ткнешь вот сюда… Но я тебе не советую. Сам ты никогда оттуда не выберешься. Положись на программу.
Я кивнул и облизал пересохшие губы.
— А кто программировал автопилот? Кто летал на ковре?
— Твой покорный слуга. — Силен оскалил в ухмылке зубы. — Без малого двести лет назад. На программирование у меня ушло несколько месяцев.
— Двести лет! — Я чуть было не спрыгнул на пол. — Да за это время все двадцать раз могло измениться! Обвалы, землетрясения, оползни…
Мартин Силен пожал плечами:
— Ты полетишь со скоростью свыше двухсот километров в час. Следовательно, если во что-то и врежешься, то наверняка разобьешься. — Он похлопал меня по спине. — Давай отправляйся. Энее сердечный привет. Скажи ей, что дядюшка Мартин хочет побывать перед смертью на Старой Земле. И что старому пердуну не терпится услышать, как она «субстанций, форм и звуков явит суть».
Я поднял ковер повыше. А.Беттик протянул мне руку, которую я крепко пожал.
— Удачи, месье Эндимион.
Я кивнул, внезапно сообразив, что сказать мне нечего, вылетел из башни и направил ковер к небосводу.
Чтобы добраться из города Эндимион на континенте Аквила до Долины Гробниц Времени на Экве, следовало лететь на север. А я полетел на восток.
Вчерашний испытательный полет — утомленному сознанию мнилось, будто это произошло не вчера, а сегодня, — убедил меня, что управлять ковром очень просто; правда, скорость тогда не превышала нескольких километров в час. Поднявшись на сотню метров над башней, я задал курс — освещая зажатым в зубах фонариком инерционный компас, выровнял ковер и сверился со старой картой, которую вручил мне поэт, после чего прижал ладонь к узору из золотых нитей. Ковер начал разгоняться, вскоре включился силовой экран, защищающий пассажиров от ветра. Я обернулся, чтобы бросить последний взгляд на башню и помахать Силену, если тот вдруг высунется в окно, однако развалины города уже затерялись в ночной темноте.
Спидометра на ковре не было, поэтому скорость приходилось определять на глазок. Впереди маячили горы, снежные шапки которых были отчетливо видны в свете звезд; на всякий случай я надел ночной визор и вновь сверился с картой. Начались предгорья, и я взмыл выше; в сотне метров подо мной мелькали призрачно-зеленые в окулярах визора валуны, водопады, следы лавин и ледяные поля. Ковер летел бесшумно, силовой экран не пропускал ни единого звука; несколько раз я замечал испуганных животных, которые убегали от диковинной бескрылой птицы. Через полчаса я пересек континентальную границу, удерживая ковер точно посередине ущелья глубиной в пять тысяч метров. Было чертовски холодно; несмотря на то что силовой экран удерживал тепло, я уже давно натянул перчатки и куртку с подогревом.
Преодолев горы, я снизился. Тундра сменилась пустошами, затем стали появляться заросли вечноголубого кустарника и карликовые триаспении. Впрочем, они быстро исчезли, а на востоке, подобно рассвету, возникло зарево — там светился огненный лес.
Я снял визор и положил его обратно в мешок. В воздухе потрескивали статические разряды, с ветвей высоченных деревьев тесла срывались шаровые молнии, огненные зигзаги вспарывали воздух, кругом полыхали костры из прометеев и фениксов. Зрелище впечатляло и наводило страх. Вспомнив предостережения Силена и А.Беттика, я поднял ковер повыше: уж лучше быть обнаруженным, чем угодить в этот электрический мальстрем.
Миновал час, и небо на востоке сначала посерело, а потом сделалось бледно-голубым. Огненный лес остался позади, и я увидел Разлом.
Я чувствовал, что последние сорок минут, летя над плато Пиньон, забираюсь все выше, но только теперь, различив впереди Разлом, осознал, на какую поднялся высоту. Признаться, меня бросило в дрожь: Разлом представлял собой узкое ущелье глубиной в три тысячи метров. Я развернулся над южной оконечностью Разлома и направил ковер к реке на дне ущелья, понемногу сбрасывая скорость. Река оглушительно ревела, на потемневшем небе вновь высыпали звезды — я словно упал в глубокий колодец. Течение реки загромождали ледяные глыбы и валуны размерами с космический корабль Консула. Я старался держаться метрах в пяти над пенными брызгами.
Поглядев на часы, я снова сверился с картой. До входа не больше двух километров… Ага!
Меня не предупреждали, что оно настолько большое, это безупречно правильное квадратное отверстие — по меньшей мере тридцать на тридцать метров. Очертаниями вход в планетарный лабиринт напоминал гигантскую дверь или храмовый портал. Я затормозил. Если верить хронометру, на дорогу до Разлома ушло без малого полтора часа. Долина Гробниц Времени лежит в тысяче километров к северу. Четыре часа полета на крейсерской скорости. А до того момента, когда из Сфинкса выйдет Энея, четыре часа двадцать минут.
Ковер скользнул к пещере. Я попытался вспомнить «Историю Священника» из «Песней» Мартина Силена: кажется, именно здесь, у входа в лабиринт, отец Дюре и бикура встретились со Шрайком и крестоформами.
Никакого Шрайка не было и в помине. Я ничуть не удивился — Шрайк не показывался с того дня, как двести семьдесят четыре года назад погибла Великая Сеть. Крестоформов тоже не было. Естественно, их давным-давно соскребли со стен по распоряжению Ордена.
О лабиринте я знал только по слухам. Молва утверждала, что в составе Гегемонии было девять планет с лабиринтами. Все эти планеты были похожи на Землю — коэффициент 7.9 по древней шкале Сольмева, — однако тектонически больше походили на Марс. Назначение лабиринтов оставалось непонятным. Их проложили за десятки тысяч лет до того, как человечество покинуло Старую Землю; ни единого следа строителей обнаружить не удалось. Лабиринты породили множество мифов (некоторые вошли в «Песни»), но тайны своей так и не раскрыли. Карты гиперионского лабиринта не существовало в природе — если не считать участка, который мне предстояло пролететь со скоростью двести семьдесят километров в час. Его, как я надеялся, заснял на карту Мартин Силен.
Я вновь надел ночной визор. По спине побежали мурашки. Я достал фонарь и закрепил его на ковре таким образом, чтобы он освещал дорогу, а заодно установил луч на максимальное рассеивание. Свет, конечно, будет слабенький, но для визора вполне достаточный. Огромная пещера, этакая исполинская призма, разветвлялась впереди на несколько туннелей.
Переведя дыхание, я нажал на левитационные нити. Ковер прыгнул вперед, резко набирая скорость; несмотря на силовой экран, меня отбросило назад.
Да, если я сверну не туда и вмажусь на такой скорости в стену, силовой экран меня не спасет. Ковер притормозил, вильнул вправо, выровнялся и устремился дальше по туннелю, уводившему куда-то вниз.
Я стянул визор, сунул его в карман жилета, ухватился за кромку ковра, который, похоже, так и норовил встать на дыбы, и крепко зажмурился. Правда, это было лишним — меня и так окружал непроглядный мрак.
Глава 13
До момента, когда должен был открыться Сфинкс, оставалось пятнадцать минут. Капитан де Сойя расхаживал у входа в Гробницу. В Долине бушевала песчаная буря, из-за которой капитану не было видно ни швейцарских гвардейцев, ни бронетранспортеров с ракетными установками и постами наблюдения. Впрочем, он их все равно не увидел бы — гвардейцы использовали камуфляжные поля и полимерную маскировку. Чтобы различить хоть что-нибудь поблизости от себя, капитану пришлось включить инфракрасный визор. Несмотря на то что боевой скафандр был полностью герметичен, песок каким-то невероятным образом проникал за шиворот и скрипел на зубах. Мокрое от пота лицо де Сойи украшали красноватые разводы, наводившие на мысль о священных стигматах.
— Внимание, — произнес капитан, переключившись на боевую частоту. — Говорит капитан де Сойя, посланник Его Святейшества Папы Римского. Перед тем как генерал Барнс-Эйвне отдаст последние распоряжения, хочу подчеркнуть — никаких выстрелов и действий, могущих поставить под угрозу жизнь девочки, которая выйдет из Гробницы через… тринадцать с половиной минут. Это касается каждого солдата и офицера, каждого матроса и капитанов космических кораблей, каждого летчика и пехотинца — на девочке не должно быть ни единой царапины. Всякого, кто ослушается приказа, ждет военный трибунал и смертная казнь. Мы все должны послужить сегодня Господу Богу и Святой Церкви. Иисус, Мария, Иосиф, к вам взываю — да исполнятся наши надежды. Капитан де Сойя, командир экспедиционного корпуса на планете Гиперион. Конец связи. — В наушниках послышалось многоголосое «аминь». Выждав несколько секунд, де Сойя произнес: — Генерал?
— Да, капитан, — отозвалась ровным голосом Барнс-Эйвне.
— Я серьезно расстрою ваши планы, если попрошу прислать ко мне отделение сержанта Грегориуса?
На мгновение установилась тишина — генерал обдумывала просьбу де Сойи. Капитан оглядел «комитет по встрече» — отряд швейцарских гвардейцев, врача со шприцем снотворного наготове, санитара с контейнером, внутри которого, в стазисном поле, находился живой крестоформ.
— Грегориус будет у вас через три минуты, — сообщила Барнс-Эйвне. Тактический комлог донес до капитана команду и «приказ понял, выполняю» Грегориуса. Этой пятерке по милости де Сойи снова придется рисковать жизнью…
Отделение прибыло через две минуты сорок пять секунд. Де Сойя увидел на инфракрасном визоре ослепительно белое сияние, исходящее от реактивных ранцев.
— Снимите ранцы, — приказал он. — Что бы ни случилось, оставайтесь со мной.
— Слушаюсь, сэр, — отрапортовал сержант Грегориус, приближаясь к де Сойе. Очевидно, он хотел удостовериться, с кем именно должен оставаться рядом.
— Десять минут, — проговорила генерал. — Датчики указывают на возрастание активности антиэнтропийных полей вокруг Гробниц.
— Я чувствую, — откликнулся де Сойя. Он ничуть не преувеличивал: темпоральный прилив вызвал у него головокружение, к горлу комом подкатила тошнота. Капитану казалось, он едва сохраняет равновесие, словно после обильных возлияний. Осторожно переставляя ноги, де Сойя начал подниматься по ступеням. Отделение Грегориуса двинулось следом.
Приблизившись к «членам комитета», капитан послал опознавательный радиосигнал, продублировал его в инфракрасном диапазоне, переговорил с врачом, напомнив, что ребенка следует только усыпить, и принялся ждать. Вместе с ним в «группе встречающих» насчитывалось тринадцать человек. Внезапно де Сойя сообразил, что гвардейцы с оружием на изготовку выглядят не слишком приветливо.
— Отведите людей чуть назад, — приказал он сержантам, — чтобы вас не было видно.
— Есть, сэр. — Сделав пять-шесть шагов, солдаты скрылись из глаз. Ничего, пускай их не видно, за собственную безопасность с такой охраной можно не опасаться.
— Надо подойти поближе, — сказал де Сойя медикам. Они поднялись выше. Возмущение антиэнтропийных полей ощущалось все отчетливее. Капитану вспомнилось, как в детстве он сражался на родной планете с норовившим сбить с ног прибоем. Нечто похожее происходило и сейчас.
— Семь минут, — сообщила Барнс-Эйвне. Переключившись на тактический канал, она спросила у де Сойи: — Может, прислать за вами скиммер? Сверху лучше видно.
— Благодарю, не стоит. Я останусь с группой. — На тактическом дисплее было видно, как скиммер набирает высоту. Поднявшись до десяти тысяч метров, машина зависла в воздухе. Ничего не скажешь, Барнс-Эйвне хороший командир: хочет влиять на ход событий, не принимая в них участия. Де Сойя связался с пилотом своего катера: — Хироши!
— Да, сэр.
— Старт в течение десяти минут.
— Слушаюсь, сэр.
— Буря нам не помешает? — Подобно всем капитанам космических кораблей, де Сойя сильнее всего на свете опасался штучек, которые может выкинуть атмосфера.
— Никак нет, сэр.
— Отлично.
— Пять минут. По сообщениям с орбиты, в радиусе тридцати астроединиц никакой активности не отмечено. Воздушный патруль в северном полушарии докладывает, что у них все спокойно. Служба наземного слежения утверждает, что неопознанных объектов в зоне наблюдения не обнаружено.
— На радарах все чисто, — доложил оператор с орбиты.
— У нас тоже, — отозвался командир звена «скорпионов». — Кстати говоря, денек чудесный.
— Полное радиомолчание до отмены боевой тревоги, — приказала Барнс-Эйвне. — Четыре минуты. Датчики показывают максимальное возмущение антиэнтропийных полей. Штурмовая группа, прием.
— Я у двери, — сообщила доктор Чаткра.
— Все в порядке, — дрожащий голос принадлежал молодому санитару по имени Каф. Де Сойя вдруг понял, что не знает, кто это — мужчина или женщина.
— Штурмовая группа на месте. — Оглянувшись через плечо, капитан не увидел подножия лестницы. В воздухе клубились мириады песчинок, трещали статические разряды. Де Сойя переключился на инфракрасное изображение: оружие в руках швейцарских гвардейцев казалось раскалившимся добела.
Неожиданно обрушилась тишина, и де Сойя услышал собственное дыхание. В наушниках потрескивало, разряды искажали изображение на тактическом дисплее. Капитан раздраженно поднял визор. Вход в Гробницу находился не далее чем в трех метрах — то возникал из песчаной завесы, то вновь прятался за нее. Де Сойя шагнул к двери.
— Две минуты. Оружие к бою. Включить автоматические записывающие устройства. Медицинским бригадам приготовиться.
Де Сойя зажмурился, стараясь справиться с головокружением. Вселенная воистину полна чудес, подумалось ему. Жаль, что девочку сразу придется усыпить. Таков приказ — пока она будет спать, ее окрестят и переправят на Пасем, и де Сойя, по всей вероятности, никогда больше не увидит Энею. Жаль. Хочется с ней поговорить, расспросить о прошлом…
— Одна минута. Полная боеготовность.
— Генерал! — Чтобы определить, чей это голос, де Сойе пришлось вновь опустить визор. Голос принадлежал лейтенанту службы наземного слежения. — Возмущение во всех полях! Открывается не только Сфинкс, но и Монолит, Дворец Шрайка, Нефритовая Гробница…
— Молчать! — рявкнула Барнс-Эйвне. — Тридцать секунд. Мы все видим.
Де Сойя спохватился: девочка выйдет из Сфинкса — и ей предстанут три фигуры в боевых скафандрах, с опущенными визорами. Что ж, поговорить им скорее всего не удастся, но человеческое лицо перед тем, как заснуть, она увидит.
— Пятнадцать секунд. — В голосе генерала наконец-то прозвучало волнение.
Де Сойя поднял руку в перчатке, защищая глаза от когтей песка, моргнул, прогоняя слезы. Двери Сфинкса начали открываться вовнутрь, в темноту. Капитан с доктором Чаткрой шагнули вперед. Сейчас было бы кстати инфракрасное изображение… Но нет, он не опустит визор.
В темноте что-то шевельнулось. Де Сойя удержал врача:
— Подождите.
Тень обрела очертания, превратилась в ребенка. Девочка. Ниже ростом, чем ожидал де Сойя; ветер треплет волосы…
— Энея, — позвал капитан, удивляясь самому себе: ведь он не собирался ни окликать ее, ни тем более заговаривать. Девочка подняла голову и посмотрела на де Сойю. Во взгляде не было страха — только тревога и печаль… — Энея, не пугайся…
Из-за спины капитана выскользнула доктор Чаткра со шприцем в руке. Девочка попятилась.
Капитан де Сойя различил во мраке Гробницы еще одну фигуру, и тут раздался первый крик.
Глава 14
До тех пор, пока я не очутился в лабиринте, мне и в голову не приходило, что я подвержен клаустрофобии. Но этот безумный полет сквозь непроглядную тьму, это погружение в катакомбы под ненадежной защитой силового экрана, это чувство, что кругом только камень и мрак… Двадцать минут спустя я отключил автопилот, посадил ковер-самолет, снял экран, встал, сделал шаг в сторону и заорал во все горло.
Потом схватил фонарь и начал водить лучом по стенам. В каменном коридоре было чертовски жарко. Наверно, я глубоко под землей… Ни сталактитов со сталагмитами, ни летучих мышей; голые стены уводящего в бесконечность туннеля. Ковер-самолет в свете фонаря казался половой тряпкой. Неужели я ненароком стер программу автопилота? Если так, мне крышка. По дороге сюда было столько поворотов, что я не запомнил бы их, даже если бы очень постарался.
Я закричал снова, именно закричал, а не завопил, чтобы хоть немного успокоить расшалившееся воображение. Мне чудилось, что стены сдвигаются, однако я усилием воли отогнал наваждение и справился с тошнотой.
Оставалось три с половиной часа. Три с половиной часа подземных кошмаров, чудовищной свистопляски в мыслях, не поддающегося описанию полета с бешеной скоростью… А что потом?
Надо было прихватить с собой оружие. Естественно, с оружием или без, у меня не было ни малейшего шанса победить в схватке с гвардейцем — даже с рядовым необученным сил самообороны; однако для самоуспокоения… Я выхватил из чехла охотничий нож. Стальное лезвие сверкнуло в свете фонаря. Я расхохотался.
Чистой воды безумие.
Убрав нож в чехол, я забрался на ковер и коснулся нитей. Ковер вздрогнул, поднялся над полом пещеры и устремился во мрак, унося меня в неизведанное.
Капитан де Сойя заметил огромную фигуру за мгновение до того, как она исчезла и как раздался вопль. Доктор Чаткра заслонила девочку от де Сойи. Пронесся порыв ветра, и голова врача, подпрыгивая на ступеньках, прокатилась мимо капитана.
— Матерь Божья, — прошептал де Сойя. Тело Чаткры продолжало стоять. Энея закричала; ее крик потерялся в завывании бури, однако тело врача в ту же секунду рухнуло на каменный пол. Санитар Каф, выкрикнув что-то неразборчивое, кинулся к девочке. Ему преградило путь темное пятно. Каф отпрянул; рука санитара осталась лежать на полу. Энея бросилась к лестнице. Де Сойя ринулся вдогонку, но столкнулся с металлической, усеянной шипами статуей. Эти шипы — немыслимо! — проткнули боевой скафандр и вонзились в кожу; хлынула кровь.
— Нет! — закричала девочка. — Перестань! Слышишь, я приказываю!
Трехметровая металлическая статуя медленно повернулась. Де Сойе показалось, он различает пылающие адским огнем глаза. В следующий миг статуя исчезла. Капитан шагнул к девочке, желая одновременно успокоить ее и схватить. Неожиданно левая нога подломилась, и он упал на колено.
Энея приблизилась к нему, прикоснулась к плечу и прошептала — как ни странно, ее шепот перекрыл вой ветра и какофонию в наушниках:
— Все будет хорошо.
Капитан испытал несказанную радость, его сердце исполнилось надежды, и он заплакал.
Девочка куда-то пропала. Над капитаном склонилась огромная фигура. Де Сойя стиснул кулаки и попытался встать, понимая, что зря старается, что демон вернулся убить его…
— Не дергайтесь, сэр! — Это был голос сержанта Грегориуса. Сержант помог де Сойе подняться, подхватил капитана под локоть и повел лазерным лучом вдоль стены.
— Не стреляйте! — воскликнул де Сойя. — Девочка…
— Она исчезла. — Сержант выстрелил наугад. Лазерный луч рассек песчаную завесу, которая тут же сомкнулась. — Проклятие! — Грегориус взвалил капитана на плечо и двинулся к выходу из Гробницы. Вопли в наушниках становились все безумнее.
Хронометр и компас подсказывали, что я почти на месте. Уточнить было не у кого. Я по-прежнему летел вслепую, цепляясь за край ковра-самолета, который сам выбирал, куда сворачивать. Кстати говоря, это было просто замечательно, мне и без того хватало забот: я изо всех сил сражался с головокружением и приступами клаустрофобии.
На протяжении двух последних часов я не снимал ночного визора и не выключал фонарь. При скорости в триста километров в час скалистые стены проносились мимо с ужасающей быстротой. Но уж лучше так, чем лететь в полной темноте.
Внезапно в глаза брызнул свет. Чуть не ослепнув, я сорвал визор, сунул его в карман и принялся моргать, чтобы восстановить зрение.
Ковер несся к прямоугольнику ослепительно белого света. Помнится, старый поэт говорил, что Третья Пещерная Гробница была закрыта два с половиной столетия. Все прочие Гробницы Времени запечатали вручную после Падения, однако в Третьей Пещерной имелась каменная стена, отделявшая ее от лабиринта. Признаться, я все ждал, что вот-вот врежусь в эту самую стену.
Прямоугольник стремительно увеличивался в размерах. Я вдруг сообразил, что туннель понемногу поднимается к поверхности. Ковер начал сбрасывать скорость — видимо, автопилот заканчивал выполнение программы. «Отлично сработано, старина», — пробормотал я, впервые услышав свой голос после проверки голосовых связок три с половиной часа назад.
Однако если ковер притормозит еще, меня наверняка подстрелят. Кажется, Мартин Силен обещал, что мне поможет некое чудо. Пора бы этому чуду произойти.
Мне навстречу водопадом летит песок. Это и есть чудо? Будем надеяться, что нет. Солдатам ничего не стоит разглядеть меня в песчаной буре. Я остановил ковер у проема, достал из мешка платок и очки, закрыл платком нос и рот, лег на живот и прикоснулся к золотым нитям.
Ковер вылетел наружу.
Я заложил крутой вираж, бросил ковер вправо, отдавая себе отчет, что систему автонаведения такими штучками не собьешь. Ну и ладно, когда речь заходит о спасении собственной шкуры, о логике можно на время забыть.
Буря разбушевалась не на шутку. Уже в двух метрах от ковра ничего не было видно. Дела-делишки… Мы с поэтом как-то не рассчитывали на песчаную бурю. Черт возьми, невозможно даже определить высоту.
Внезапно под ковром промелькнула утыканная шипами летающая крепость, затем я пролетел над второй шипастой махиной и только тут сообразил, что чуть было не врезался в Дворец Шрайка. Выходит, я лечу в обратную сторону, на юг, а мне надо на север. Я посмотрел на компас, убедился, что так оно и есть, и развернул ковер. Если судить по Дворцу, до земли метров двадцать.
Я остановил ковер, на который тут же обрушился ветер, опустился, как на лифте, на камни, снова поднялся — до трех метров и медленно полетел на север.
Где же гвардейцы?
Словно в ответ на мой незаданный вопрос, мимо промелькнули фигуры в боевых скафандрах. Они палили из винтовок и иглометов — но не по мне, а куда-то себе за спину. Швейцарские гвардейцы бегут?! Не может быть!
Внезапно я осознал, что воздух дрожит от истошных, перекрывающих вой ветра воплей. Невероятно… В такую бурю солдаты должны быть в шлемах с опущенными визорами… Вопли раздавались со всех сторон.
Метрах в десяти у меня над головой взревел реактивный двигатель. Пушки скиммера палили во все стороны. Я уцелел только потому, что находился непосредственно под скиммером. Стоило мне резко затормозить, как в глаза ударила ослепительная вспышка: скиммер врезался то ли в Нефритовую Гробницу, то ли в Хрустальный Монолит.
Слева вспыхнула перестрелка. Я взял вправо, затем вновь повернул на северо-запад, предполагая обогнуть гробницы. На сей раз крики послышались справа и впереди. Кто-то выстрелил. Выстрелил и промахнулся. Немыслимо!
Я не стал выяснять причину подобной снисходительности и спикировал вниз. Ковер плюхнулся наземь, я откатился в сторону в тот самый миг, когда над моей головой сверкнул лазерный луч. Инерционный компас, болтавшийся на шее, чувствительно стукнул меня по носу. Укрыться было негде — ни единого валуна. Я попытался зарыться в песок. В воздухе с характерным звуком просвистели дротики. Да, если бы я решил лететь дальше, мое бренное тело изрешетили бы за милую душу заодно с ковром.
Метрах в трех от меня стояло, широко расставив ноги, некое громадное существо. Оно напоминало великана в боевом скафандре — и с избытком рук. В него, высветив на мгновение усеянный шипами торс, угодил плазменный заряд. Как ни странно, существо не расплавилось и не разлетелось вдребезги.
Невозможно! Ядри твою мать, невозможно, и все! Краешком сознания я отметил, что начал сыпать ругательствами (то была моя обычная реакция на опасность).
Громадное существо исчезло. Слева вновь раздались вопли, впереди громыхнул взрыв. Черт побери, как мне теперь добраться до девчонки? А если доберусь — как отыскать Третью Пещерную Гробницу? Наш план состоял в том, что я благодаря чуду, которое обещал устроить поэт, хватаю Энею, мчусь к Третьей Пещерной, запускаю автопилот, и мы на всех парах несемся к Башне Хроноса, где нас поджидает А.Беттик — который будет там через… три минуты.
Но даже если на поверхности планеты все пошло кувырком, причем непонятно из-за чего, это не помешает факельщикам сбить звездолет Консула. А стоит кораблю задержаться на одном месте дольше чем на тридцать секунд, по нему не промахнутся и наземные ракетные установки. Похоже, все планы пошли насмарку.
Земля под ногами вздрогнула, по долине прокатился гул: то ли взорвался какой-нибудь склад боеприпасов, то ли рухнул летательный аппарат раза в три больше скиммера. Над северной оконечностью долины поднялось алое зарево, настолько яркое, что его не могла скрыть даже песчаная завеса. На фоне пламени я различил десятки фигур в скафандрах: они летели, бежали, стреляли и падали. Одна фигурка, гораздо ниже остальных, была без скафандра. Рядом с ней возвышался шипастый великан. Маленькая фигурка колотила кулачками по утыканной шипами груди.
— Твою мать! — Я пополз к ковру-самолету, но с ужасом понял, что не могу его найти. Протер глаза, зашарил руками вокруг, наконец наткнулся на торчащий из-под песка уголок. Принялся рыть — должно быть, со стороны я смахивал на бешеного пса. Мои пальцы коснулись золотых нитей, я взлетел и направил ковер в сторону зарева. Крохотная фигура и шипастый великан исчезли, но у меня хватило ума засечь по компасу направление. Воздух пронизали два энергетических залпа: один прошел в сантиметрах надо мной, другой — в миллиметрах под ковром. — Ублюдки! Гниды поганые! — Честно говоря, я и сам не знал, кому предназначались эти слова.
Сержант Грегориус продвигался сквозь песчаную бурю с капитаном де Соей на плече. Де Сойя смутно осознавал, что поблизости от них какие-то люди стреляют наугад по невидимым целям. Может, это отделение Грегориуса? Господи Боже, только бы увидеть девочку, только бы поговорить с ней…
Грегориус чуть было не врезался во что-то темное. Остановившись, сержант окликнул по рации своих товарищей, затем осмотрел машину. Бронетранспортер-«скарабей» лишился полимерного силового экрана, левая гусеница отсутствовала, стволы пушек на корме расплавились точно восковые свечи. В правом блистере зияла дыра.
Грегориус осторожно пропихнул капитана внутрь, забрался следом сам и включил фонарь, чтобы осмотреться. Кресло водителя выглядело так, словно кто-то облил его красной краской. Задняя переборка напоминала о нелепом старинном стиле под названием «абстракционизм» (де Сойя видел в музее одну картину кисти художника-абстракциониста): правда, этот металлический холст был размалеван кровью и к нему прилипли ошметки человеческих тел.
Сержант подтащил капитана к передней переборке. В блистер «скарабея» тем временем протиснулись две фигуры в скафандрах.
Де Сойя протер глаза.
— Со мной все в порядке. — Голос капитана был слабым, почти детским.
— Конечно, сэр. — Грегориус достал из ранца медпакет.
— Не нужно, — запротестовал капитан. — Скафандр… — Он имел в виду, что все боевые скафандры самостоятельно герметизируют разрывы и залечивают не слишком серьезные раны. Де Сойя окинул взглядом свое тело и… Левая нога держалась непонятно на чем. Ниже бедер от взрывоустойчивого, энергозащитного полимерного скафандра остались одни обрывки. На левом бедре эти обрывки сформировались в некое подобие турникета. В нагруднике зияли бесчисленные отверстия, лампочки медицинского анализатора тревожно мигали красным. — Иисусе! — выдохнул капитан. Это была молитва.
— Не беспокойтесь, сэр. — Сержант Грегориус перетянул капитанское бедро жгутом. — Мы вас быстренько доставим на корабль, оглянуться не успеете. — Он повернулся к солдатам, в изнеможении привалившимся к переборке. — Ки? Реттиг?
— Так точно, сержант, — отозвался один.
— Где Меллик и Отт?
— Погибли. Их прикончила эта тварь.
— Ясно. Не отключайтесь. — Сержант снял перчатку и притронулся пальцем к ране на груди капитана. — Больно, сэр?
Де Сойя покачал головой. Он ничего не чувствовал.
— Ясно, — мрачно повторил Грегориус и принялся вызывать кого-то по тактическому каналу.
— Девочка… — проговорил де Сойя. — Надо найти девочку…
— Есть, сэр, — произнес Грегориус, не трогаясь с места. Он переходил с частоты на частоту, и де Сойя слышал обрывки передач:
— Осторожно! Господи! Он возвращается!..
— «Бонавентура»! «Бонавентура»! Вас уносит в космос. Повторяю, вас уносит…
— «Скорпион» один-девять вызывает командный пункт… Боже мой, левый двигатель накрылся! «Скорпион» один-девять вызывает… Откликнитесь хоть кто-нибудь! Ничего не вижу…
— Джеми! Джеми! Господи!
— Хватит визжать! Солдаты вы или кто, мать вашу? Освободите канал!
— Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое…[72]
— Этот долбаный… ах, черт! Я попал в этого долбаного выродка, а он…
— Множество целей… Повторяю, множество целей по периметру обороны… — И пронзительный вопль.
— Командный пункт, прием. Командный пункт, прием.
Чувствуя, что сознание вытекает из него, как кровь — из чудовищной раны на ноге, де Сойя опустил визор. На тактическом дисплее царила полная неразбериха. Он переключился на канал прямой связи с Барнс-Эйвне.
— Генерал, это капитан де Сойя. Как слышите?
Барнс-Эйвне не отзывалась.
— Она погибла, сэр, — проговорил сержант Грегориус, втыкая в руку де Сойе иглу шприца. Капитан и не заметил, когда с него сняли скафандр. — Я видел, как ее скиммер врезался в какую-то Гробницу. — Сержант ловко, как заправский портной, притянул ногу де Сойи к бедру и закрепил проволокой. — Полковник Брайдсон не отвечает. И капитан Ранье с факельщика. «Три К» тоже молчит.
— Что происходит, сержант? — Де Сойе лишь неимоверным усилием воли удалось сохранить сознание.
Грегориус наклонился к капитану. Только теперь, когда он поднял визор, де Сойя увидел, что у сержанта черная кожа.
— Знаете, сэр, у нас в морской пехоте была хорошая фраза.
— А, ПП, — силясь улыбнуться, отозвался де Сойя. — Плакали подарки, так, что ли?
— Офицеры — люди вежливые, — пробурчал Грегориус. Он жестом указал Ки и Реттигу на блистер. Те послушно выбрались наружу. Сержант взял капитана на руки, как ребенка. — А солдаты народ простой. Мы говорили: «Полный пи…»
Де Сойя на мгновение потерял сознание.
— Капитан, слышите меня? Капитан?! Черт подери, вы меня слышите?
— Выбирайте выражения, сержант, — проговорил де Сойя, чувствуя, как погружается во мрак. Ничего не поделаешь, да и не хочется ничего делать. — Не забывайте, я священник… Браниться грешно, тем более в присутствии духовного лица…
Он так и не понял, произнес ли последние слова вслух.
Глава 15
Еще в детстве, глядя, как поднимается дым над кострами в кругу фургонов, как появляются на темнеющем лазурном небе холодные, равнодушные звезды, размышляя о том, что меня ждет в будущем, я остро ощутил иронию судьбы. Сколько происходило событий, на первый взгляд незначительных, а то и нелепых, важности которых я попросту не сознавал! Постигнув это в детстве, я в дальнейшем сталкивался с иронией судьбы практически беспрестанно.
На Энею я наткнулся по чистой случайности. Поначалу фигур было две, та, что пониже, молотила кулаками по груди высокой; но когда я подлетел поближе, девочка оказалась в полном одиночестве.
Мы молча уставились друг на друга. Лицо девочки выражало потрясение и ярость, глаза красные, прищуренные — то ли чтобы в них не лез песок, то ли по какой другой причине; кулачки сжаты, свитер так и норовит улететь вместе с рубашкой; темно-русые волосы (позже я разглядел, что у Энеи несколько светлых прядей) растрепались, на щеках разводы слез; тапочки на резиновой подошве — ну и обувь для путешественницы во времени! — на плече висит рюкзачок… Я, должно быть, производил впечатление безумца: коренастый, мускулистый, не слишком толковый на вид детина двадцати семи лет, лежащий плашмя на ковре-самолете; лицо скрыто очками и платком, грязные волосы стоят дыбом, одежда вся в песке…
Глаза Энеи изумленно расширились. Я не сразу понял, что ее взгляд устремлен не на меня, а на ковер.
— Залезай! — крикнул я. Мимо, стреляя на бегу, проскочили фигуры в боевых скафандрах.
Энея не обратила на меня ни малейшего внимания. Она резко обернулась, будто разыскивая существо, на которое недавно нападала. Я заметил, что руки девочки покрыты кровоточащими порезами.
— Будь ты проклят! — воскликнула она со слезами в голосе. — Будь ты проклят!
Таковы были первые слова, услышанные мною от мессии.
— Залезай! — повторил я и сделал движение, словно собираясь спрыгнуть и схватить ее.
Девочка повернулась, пристально поглядела на меня и произнесла (как ни странно, вой ветра не заглушил ее слов):
— Снимите платок.
Я подчинился. В рот тут же набился песок.
Похоже, моя физиономия показалась Энее заслуживающей доверия. Девочка забралась на дрожащий, словно от возбуждения, ковер, уселась у меня за спиной; нас разделяли только рюкзаки. Я снова повязал платок и крикнул:
— Держись!
Она ухватилась за край ковра.
Я отдернул рукав и бросил взгляд на хронометр. До появления звездолета над Башней Хроноса оставалось меньше двух минут. За это время, тем паче в таких условиях, мне даже не найти входа в Третью Пещерную Гробницу. Внезапно из-за дюны вывалился бронированный «скарабей», чуть не раздавивший нас всмятку; хорошо, что он круто свернул влево и принялся палить по невидимой цели.
Я прикоснулся к золотым нитям. Ковер устремился ввысь, набирая скорость. Я то и дело сверялся с компасом. Пока не выберемся из долины, будем лететь строго на север — не хватало еще в довершение всего врезаться в стену ущелья!
Под нами промелькнуло громадное каменное крыло. «Сфинкс!» — крикнул я и тут же устыдился собственной глупости. Кому я объясняю — человеку, который только что появился из этой самой гробницы!
Прикинув, что мы должны были подняться на несколько сотен метров, я вновь прикоснулся к нитям, задавая автопилоту направление. Нас обняло силовое поле, сквозь которое все же проникали песчинки. «На такой высоте мы ни во что не вре…» Я не договорил. Из клубов пыли неожиданно вынырнул огромный скиммер. Не знаю, как мне удалось среагировать, но я успел. Ковер спикировал вниз, мы удержались на нем только благодаря силовому экрану. Скиммер пронесся мимо на расстоянии не больше метра. Попав в воздушный поток из турбины скиммера, ковер под нами заходил ходуном.
— Елки-палки, — проговорила Энея. — Вот это да!
Неужели все мессии изъясняются подобным образом?
Я выровнял ковер и поглядел вниз, пытаясь различить хоть какой-нибудь ориентир. Зря мы забрались так высоко — ковер наверняка засекли все окрестные тактические датчики, детекторы, радары и системы наведения. Интересно, почему в нас не стреляют? Может, никак не разберутся в суматохе? Я посмотрел на Энею, которая старалась спрятать лицо от ветра за моим вещмешком.
— С тобой все в порядке?
Она кивнула. Мне показалось, что девочка плачет. Впрочем, я мог и ошибиться.
— Меня зовут Рауль Эндимион.
— Эндимион, — повторила девочка. Нет, она не плакала, глаза у нее были красные, но сухие.
— А ты — Энея… — Внезапно я понял, что не знаю, что сказать. Сверился с компасом, подкорректировал курс. Оставалось надеяться, что мы и впрямь ни во что не врежемся. А вдруг сейчас над головой возникнет плазменный выхлоп? Увы, мои ожидания не оправдались.
— Вас прислал дядя Мартин, — сказала девочка. То был не вопрос, а констатация факта.
— Совершенно верно. Мы летим… э-э… У Башни Хроноса нас должен ждать звездолет, но мы слегка опаздываем…
Метрах в тридцати справа вспыхнула молния. Мы оба инстинктивно моргнули и прижались к ковру. Я до сих пор не знаю, что это было — то ли действительно полыхнула молния, то ли по нам кто-то выстрелил. В сотый раз за бесконечный день я проклял того, кто не позаботился оборудовать ковер навигационными приборами: ни тебе альтиметра, ни спидометра… Судя по тому, как ревел снаружи силового экрана ветер, мы летели с весьма приличной скоростью, но точнее определить было нельзя. Этот полет напоминал мои приключения в подземном лабиринте, но там я мог хотя бы положиться на автопилот. Что ж, даже если у нас на хвосте вся Швейцарская Гвардия, скоро придется притормозить: впереди Уздечка с ее высоченными скалами. На скорости около трехсот километров в час мы достигнем гор и Башни Хроноса за шесть минут. Я вновь поглядел на хронометр. С момента взлета прошло четыре с половиной минуты. Если верить карте, пустыня резко обрывалась у гор. Ладно, еще минута, и…
Все произошло одновременно.
Мы вырвались из когтей песчаной бури. Она не то чтобы сошла на нет, мы просто вылетели из нее, словно выбрались из-под одеяла. Я увидел, что ковер движется вниз — или земля поднимается ему навстречу — и мы вот-вот врежемся в валун.
Энея вскрикнула. Я вцепился обеими руками в золотые нити. Сила тяжести придавила нас к ковру, но мы все-таки перелетели через валун. И тут же метрах в двадцати прямо перед нами возникла скальная стена. Тормозить было некогда.
Мне было известно, что устройство Шолохова позволяет ковру подниматься и опускаться строго вертикально и что силовой экран не дает пассажирам упасть (какая забота! Ну да, он ведь сконструировал ковер для своей ненаглядной племянницы).
Настало время проверить это на практике.
Энея обхватила меня руками за талию. Ковер пошел вверх под углом девяносто градусов. Для маневра у нас было всего-навсего двадцать метров; когда ковер наконец выровнялся, от стены его отделяло несколько сантиметров. Я подался вперед всем телом и задрал край ковра, постаравшись не задеть левитационные нити. Энея крепче прижалась ко мне. Пока мы не перевалили через гребень, я не оглядывался — не хватало еще обнаружить, что я страдаю не только клаустро-, но и агорафобией.
Мы взмыли над гребнем — как ни странно, там виднелись каменные лестницы и террасы с горгульями, — и я выровнял ковер.
На балконах и террасах на восточном фасаде Башни Хроноса размещались посты наблюдения, детекторы и зенитные установки швейцарских гвардейцев. Вершина Башни маячила в сотне метров над нами, над нашими головами нависали каменные балконы, заполненные солдатами в боевых скафандрах.
Все до единого были мертвы. Живые в таких позах не лежат. Казалось, Башню забросали плазменными гранатами. Но боевые скафандры выдерживают и не такое, почему же их разнесло буквально вдребезги?
— Не смотри, — проговорил я, замедляя движение ковра. Мое предупреждение запоздало: Энея не сводила глаз с Башни.
— Будь ты проклят! — вырвалось у нее.
— Кто? — спросил я. Ответа не последовало. В следующий миг нам открылся сад у южного фасада Башни. Догорающие «скарабеи», рухнувший скиммер, бесчисленные мертвые тела, словно игрушки, разбросанные капризным ребенком… У затейливой изгороди догорала лучевая установка, способная уничтожить звездолет на орбите.
В шестидесяти метрах над центральным фонтаном завис в воздухе корабль Консула. Его окутывали клубы пара. Я увидел А.Беттика, который махал нам из открытого люка.
Андроиду пришлось отпрыгнуть в сторону, иначе мы бы точно врезались в него. Ковер запрыгал по коридору.
— Сматываемся! — рявкнул я. Как выяснилось, команды не требовалось — то ли обо всем позаботился А.Беттик, то ли корабль и не нуждался в приказах. Ускорение прижало нас к полу; сработали компенсаторы, окутав наши тела силовыми коконами. Взревел реактивный двигатель; со свистом рассекая атмосферу, звездолет Консула устремился прочь от Гипериона и впервые за два столетия снова вышел в космос.
Глава 16
— Долго я был без сознания? — Капитан де Сойя схватил молодого врача за лацкан кителя.
— Э-э… Минут тридцать — сорок, сэр, — пролепетал врач, тщетно пытаясь высвободиться.
— Где я? — Теперь де Сойя чувствовал боль — вполне терпимую, но пронизывающую все тело.
— На «Святом Фоме», сэр.
— А, транспортник… — У капитана кружилась голова. Он поглядел на свою ногу. Турникет сняли. Нога держалась непонятно на чем — кость раздроблена, мышцы порваны… Должно быть, Грегориус сделал ему инъекцию обезболивающего — не настолько сильного, чтобы полностью снять боль, но обладающего наркотическим действием. — Черт!
— Боюсь, хирурги настроены ампутировать. Правда, придется немножко подождать, сэр. Сейчас мы оказываем помощь тем, кому она нужнее всего…
— Не пойдет. — Де Сойя наконец заметил, что держит врача за китель, и разжал пальцы.
— Простите, сэр?
— Никаких ампутаций, пока я не переговорю с капитаном этого корабля.
— Сэр… Святой отец… Если вы умрете…
— Сынок, мне умирать не впервой. — Де Сойя справился с приступом головокружения. — Меня сюда доставил мой сержант?
— Так точно, сэр.
— Он еще здесь?
— Да, сэр. Ему накладывают повязки…
— Пускай немедленно явится ко мне.
— Святой отец, ваши раны…
— Лейтенант? — уточнил де Сойя, поглядев на нашивки медика.
— Так точно, сэр.
— Ты видел папский диск? — Очнувшись, капитан перво-наперво не преминул убедиться, что платиновый диск по-прежнему висит у него на шее.
— Так точно, сэр. Вот почему мы хотели…
— Если не хочешь, чтобы тебя казнили… раз и навсегда… заткнись и пришли сюда моего сержанта.
Даже без боевого скафандра Грегориус казался великаном. Де Сойя окинул взглядом многочисленные повязки и понял, что сержант, вынося его с поля боя, рисковал своей жизнью. Учтем, но сейчас главное не это.
— Сержант!
Грегориус вытянулся по стойке «смирно».
— Приведи ко мне капитана корабля. Поторопись, иначе я снова потеряю сознание.
Капитан «Святого Фомы», средних лет лузианин, был невысок ростом, но крепко сбит, как все уроженцы Лузуса. Сверкающую лысину дополняла аккуратно подстриженная борода с проседью.
— Отец де Сойя, капитан Лемприер. Честно говоря, сэр, у меня очень много дел. Хирурги уверяют, что не спускают с вас глаз. Чем я могу помочь?
— Расскажите, что произошло. — С капитаном Лемприером де Сойя был знаком заочно: они несколько раз выходили на связь друг с другом. Говорил Лемприер уважительным тоном. — Сержант! — окликнул де Сойя, заметив, что Грегориус собирается выйти из каюты. — Останьтесь. Итак, я слушаю, капитан.
Лемприер откашлялся.
— Генерал Барнс-Эйвне погибла. Насколько можно судить, приблизительно половина швейцарских гвардейцев, находившихся в Долине Гробниц Времени, мертва. На поверхности планеты разворачиваются передвижные операционные, где оказывают помощь раненым. Мертвецов же помещают в реаниматоры, воскрешения им придется подождать, пока мы не прибудем на Возрождение-Вектор.
— Возрождение-Вектор? — переспросил де Сойя. Ему чудилось, будто он не лежит на кровати, а плавает в воздухе. Он и впрямь плавал — насколько позволяли ремни, придерживавшие его тело в лежачем положении. — Что у вас творится, капитан? Где гравитация?
— Силовой экран поврежден в сражении, сэр. — Лемприер криво усмехнулся. — А на Возрождение-Вектор мы направляемся потому, что там находится наша база. У нас приказ — по завершении операции вернуться туда.
Де Сойя засмеялся, но, услышав собственный полубезумный смех, умолк.
— Кто сказал, что операция завершена, капитан? И о каком сражении речь?
Лемприер бросил взгляд на сержанта Грегориуса. Тот смотрел прямо перед собой.
— Сэр, пострадала также десятая часть кораблей поддержки и прикрытия.
— Десятая часть? — Боль накатила волной, вызвав у де Сойи прилив раздражения. — То есть один из каждых десяти? Иными словами, потери составляют десять процентов?
— Если бы так, сэр, — вздохнул Лемприер. — Свыше шестидесяти. Погиб капитан «Бонавентуры» Рамирес и все его офицеры. Мой первый помощник тоже мертв. А на «Святом Антонии» недосчитались половины экипажа.
— Что с кораблями? — Де Сойя понимал, что через минуту-другую вновь потеряет сознание — а может, и жизнь.
— На «Бонавентуре» произошел взрыв. Уничтожена по крайней мере половина помещений на корме. Двигатель уцелел…
Де Сойя прикрыл глаза. Он прекрасно представлял себе, что такое взрыв на космическом корабле — хуже может быть, только если взорвется двигатель Хоукинга. Впрочем, это означает быструю и безболезненную смерть; а когда в корпусе зияют дыры — как в его собственной ноге, — смерть оказывается медленной и мучительной.
— А «Святой Антоний»?
— Поврежден, но может передвигаться самостоятельно. Капитан Сати жив…
— Где девчонка? — перебил де Сойя, перед глазами которого поплыли черные пятна.
— Девчонка? — переспросил Лемприер. Сержант Грегориус сказал ему что-то, чего де Сойя не разобрал. В ушах звенело все сильнее. — Ах да. Объект номер один. Судя по всему, она находится на борту звездолета, который взлетел с планеты и готовится сейчас к переходу…
— Звездолет! — Усилием воли де Сойя сумел сохранить сознание. — Откуда, черт побери, он взялся?
— С Гипериона, сэр, — произнес Грегориус, не сводя взгляда с переборки. — Когда начался… гм… ПП, этот корабль занял позицию у Башни Хроноса, забрал девочку и того, с кем она прилетела…
— На чем? — перебил де Сойя.
— На чем-то вроде одноместного ТМП. Наши умники никак не могут разобраться, почему эта штука летает, если электромагнитные двигатели на Гиперионе не действуют. В общем, пока шла бойня, корабль забрал девчонку и теперь разгоняется до спин-скорости.
— Бойня. — Де Сойя заметил, что у него течет слюна, вытер подбородок тыльной стороной ладони, стараясь не смотреть на искалеченную ногу. — Кто устроил эту бойню, сержант? С кем мы сражались?
— Трудно сказать, сэр, — ответил вместо Грегориуса Лемприер. — Как в прежние времена… во времена Гегемонии… когда из нуль-порталов вываливались морские пехотинцы в полном вооружении… В мгновение ока появились тысячи закованных в броню существ. Сражение продолжалось не дольше пяти минут. А потом эти твари исчезли.
Де Сойя покачал головой, чтобы отогнать подступающую тьму и расслышать хоть что-нибудь сквозь звон в ушах. Слова Лемприера казались лишенными какого бы то ни было смысла.
— Тысячи? Куда они могли исчезнуть?
Грегориус шагнул вперед:
— Не тысячи, сэр. Всего один. Это был Шрайк.
— Невозможно… — начал Лемприер.
— Это был Шрайк, — повторил чернокожий гигант, не обратив внимания на Лемприера. — Он уничтожил большинство швейцарских гвардейцев и половину экспедиционного корпуса Ордена на Экве, сбил все истребители, вывел из строя оба факельщика, прикончил экипаж звездолета «три К», оставил свою визитную карточку и благополучно смылся. И все за полминуты. Остальное доделали мы сами.
— Ерунда! — воскликнул Лемприер. Он разволновался настолько, что его лысина побагровела. — Бред сивой кобылы! Ересь! Тот, кто сегодня…
— Заткнитесь. — Де Сойе чудилось, будто перед ним открывается длинный, уводящий в неведомые глубины туннель. Следует торопиться, скоро он не сможет произнести ни слова. — Капитан Лемприер, именем Папы Римского, которого я представляю, приказываю вам связаться с капитаном Сати и передать ему следующее: пускай он примет на борт уцелевших членов экипажа «Бонавентуры» и отправляется в погоню за вражеским звездолетом… Ему надлежит засечь координаты перехода и последовать за…
— Святой отец, — не выдержал Лемприер.
— Я еще не кончил! — В ушах де Сойи грохотал водопад, он уже не видел ничего, кроме темных пятен. — Сати должен преследовать звездолет. Это приказ Его Святейшества. Он должен захватить девчонку и доставить ее на Пасем. Грегориус?
— Здесь, сэр.
— Не позволяйте хирургам прикасаться ко мне. Мой авизо цел?
— «Рафаил»? Так точно, сэр. Во время боя на нем никого не было, поэтому Шрайк его не тронул.
— А где мой пилот?.. Хироши?
— Погиб, сэр.
— Вот что, сержант… — Де Сойя с трудом различал голос Грегориуса. — Разыщите катер с пилотом и доставьте меня и своих людей…
— Их осталось только двое, сэр.
— Не перебивайте. Доставьте всех на борт «Рафаила». Корабль знает, что делать. Скажите компьютеру, что мы отправляемся в погоню за девочкой… что надо следовать за «Святым Антонием». И еще, сержант… Вы крещеные, все трое?
— Так точно, сэр.
— Тогда готовьтесь умереть и воскреснуть…
— А как же ваша нога, сэр? — Голос капитана Лемприера доносился издалека. Чудилось, будто его искажает допплеровский эффект.
— Когда воскресну, с ней все будет в порядке, — пробормотал де Сойя. Ему хотелось закрыть глаза и помолиться. Впрочем, он и так ничего не видел — вокруг царил непроглядный мрак. Собрав последние силы, не понимая, говорит ли вслух или про себя, де Сойя произнес:
— Живо, сержант! Бегом!
Глава 17
Признаться, я думал, что столько лет спустя мне будет сложно представить Энею ребенком. Боялся, что в памяти, переполненной воспоминаниями о более поздних событиях — блики света на женском теле среди ветвей орбитального леса, наша первая близость в невесомости, прогулки по висячим дорожкам Цыань-кун Су, под розовыми утесами Хуа Шань, — что в памяти не найдется места для того, что было раньше. Однако мои опасения оказались напрасными. И хотя я страшусь, что не успею рассказать обо всем по порядку, что в любую секунду послышится шипение ядовитого газа, но пропускать ничего не собираюсь. Пускай все идет как идет. Точку в моей истории поставит судьба.
Следом за А.Беттиком мы поднялись в каюту с роялем. Несмотря на громадное ускорение, силовой экран поддерживал постоянную силу тяжести. Я был вне себя от восторга — должно быть, в кровь попало слишком много адреналина. Девочка, похоже, все еще нервничала.
— Я хочу видеть, где мы находимся, — сказала она. — Ну пожалуйста.
Корабль подчинился. Стена за проекционной нишей стала прозрачной и превратилась в окно. Очертания Эквы уменьшались на глазах, лошадиную голову уже закрывали красные пылевые облака. На севере дугой выгибался горизонт. Минуту спустя Гиперион стал шаром: в разрывах облаков виднелись два из трех континентов, ослепительно сверкало Великое Море, архипелаг Девяти Хвостов окружали зеленые отмели. И вот сине-красно-белая сфера осталась позади. Да, мы удирали во все лопатки.
— Где факельщики? — справился я у андроида. — Почему нас не преследуют и до сих пор не уничтожили?
— Мы перехватываем их переговоры, — ответил А.Беттик. — У них хватает забот и без нас.
— Не понимаю. — Я принялся расхаживать по каюте, не находя себе места от возбуждения. — Эта стычка… Кто ее…
— Шрайк, — произнесла Энея, в первый раз посмотрев мне в глаза. — Мы с мамой надеялись, что этого не случится, но… Мне очень жаль. Очень-очень.
Сообразив, что девочка, наверно, не расслышала за воем ветра, как я представлялся, я уселся на подлокотник кушетки и сказал:
— По-моему, мы толком не успели познакомиться. Рауль Эндимион.
Глаза девочки заблестели. Мордашка у нее была симпатичная, несмотря на грязь на щеках и на носу.
— Я помню. Эндимион… Как в поэме.
— В какой поэме? Моя фамилия происходит от названия древнего города.
— Мой отец написал поэму под названием «Эндимион». — Энея улыбнулась. — Какой молодец дядя Мартин. Найти героя с такой фамилией!
Услышав слово «герой», я поморщился. Откровенно говоря, меня отнюдь не прельщала роль героя этой аферы.
— Энея, — проговорила девочка, протягивая руку. — Ну да, вы же знаете. — Какая холодная у нее ладошка.
— Старый поэт говорил, что ты несколько раз меняла имя.
— И снова поменяю, честное слово. — Она протянула руку андроиду. — Энея. Заплутавшая во времени.
А.Беттик низко поклонился, пожал руку девочки и представился.
— К вашим услугам, мадемуазель Брон.
— Просто Энея, — поправила девочка, покачав головой. — Мадемуазель Брон звали мою маму. — И прибавила, заметив выражение моего лица: — Вы о ней слышали?
— Кто же не слышал о Ламии Брон? — пробормотал я, почему-то покраснев. — Она вошла в легенду вместе с остальными паломниками. Существует эпическая поэма, точнее, грандиозное устное предание…
— О Боже! — Энея расхохоталась. — Так дядюшка Мартин закончил свои ублюдочные «Песни»?
Эти слова меня просто шокировали. Наверно, возмущение отразилось на моем лице. Да, в покер мне ни за что не выиграть…
— Простите, пожалуйста. Кажется, вирши старого сатира стали чем-то вроде бесценного достояния Гипериона. Он еще жив, мой дядя Мартин?
— Да, мадемуазель… Энея, — отозвался А.Беттик. — Я имел честь ухаживать за ним на протяжении ста с лишним лет.
— Вы, наверное, святой, месье Беттик. — Девочка состроила гримаску.
— А.Беттик, — поправил андроид. — Нет, я не святой. Просто мы с вашим дядей давно знакомы; к тому же я большой поклонник его таланта.
— Когда мы летали из Джектауна в Град Поэтов на встречу с дядей Мартином, мне попадались андроиды, но вас среди них не было. Говорите, больше ста лет? А какой сейчас год? — Я ответил. — Понятно. — Энея погрузилась в молчание, глядя на искорку, в которую успел превратиться Гиперион.
— Так ты действительно из прошлого? — Вопрос был, конечно, глупее не придумаешь, но в тот день с моими умственными способностями явно что-то случилось.
— Разве дядя Мартин вам не объяснил?
— Объяснил. Ты бежишь от Ордена, верно?
— От Ордена? — переспросила девочка. Она подняла голову, и я увидел у нее на глазах слезы. — А что это такое? — Я моргнул. Мне и в голову не приходило, что кто-то может не знать, что такое Орден. — Выходит, всем заправляет Церковь?
— Можно сказать и так. — Не вдаваясь в подробности, я растолковал, какое место в нашей жизни занимает Церковь.
— Ясно. Мы предполагали, что нечто подобное может произойти. Значит, сны начинают сбываться…
— Какие сны?
— Не обращайте внимания. — Девочка встала, огляделась по сторонам, подошла к роялю и взяла несколько аккордов. — Мы на звездолете Консула.
— Совершенно верно, — откликнулся компьютер. — Я не очень хорошо помню своего прежнего пассажира, но его звали Консулом. А вы были с ним знакомы?
— Нет. — Энея улыбнулась. — С ним была знакома моя мама. Она подарила ему вот это. — Девочка показала на лежавший у трапа присыпанный песком ковер-самолет. — Консул тогда покинул Гиперион, ушел в Сеть и при мне не возвращался.
— Он не вернулся до сих пор, — сообщил корабль. — Моя память повреждена, однако я почему-то уверен, что Консул погиб. — Механический голос сделался деловым. — При выходе из атмосферы у нас запросили позывные, но больше не вызывали. Погони не обнаружено. В течение десяти минут мы выйдем из гравитационного колодца Гипериона. Жду указаний по переходу в спин-режим.
Я посмотрел на девочку:
— Летим к Бродягам? Старый поэт сказал, что ты хочешь отправиться к ним.
— Я передумала. Корабль, назови ближайшую населенную планету.
— Парвати. Расстояние одна целая двадцать восемь сотых парсека. Шесть с половиной дней по корабельному времени, три месяца объективного.
— Кажется, Парвати входила в Сеть? — поинтересовался я.
— Вряд ли, — ответил А.Беттик. — По крайней мере в последние годы перед Падением — точно нет.
— А какая из ближайших к Парвати планет раньше входила в Сеть? — продолжала расспрашивать Энея.
— Возрождение-Вектор, — сообщил компьютер. — Еще десять дней полета по корабельному времени и пять месяцев объективного.
Я нахмурился:
— Не знаю, не знаю… Охотники, которых я сопровождал, обычно прилетали как раз оттуда. Там хозяйничает Орден. Наверняка полным-полно кораблей и солдат.
— Зато это ближайшая планета Сети, — возразила Энея. — Нуль-порталы на ней были?
— Были, — подтвердили в унисон компьютер и А.Беттик.
— Проложи курс к Возрождению-Вектор через систему Парвати, — велела Энея.
— Будет на день корабельного и на две недели объективного времени быстрее, если мы прыгнем сразу к Возрождению-Вектор, — заметил корабль.
— Знаю, — отозвалась Энея. — Но я хочу побывать в системе Парвати. — Должно быть, она прочла в моих глазах вопрос, а потому пояснила: — За нами наверняка вышлют погоню. С какой стати выдавать нашу настоящую цель?
— Пока за нами никто не гонится, — сказал А.Беттик.
— Вот именно, пока. Через несколько часов все изменится, и они не отстанут от меня до конца моих дней. — Энея повернулась к проекционной нише, словно рассчитывая увидеть там «лицо» корабля. — Пожалуйста, выполняй.
На голоэкране поплыли звезды.
— Двадцать семь минут до точки перехода в систему Парвати, — доложил компьютер. — Погони не обнаружено. Факельный звездолет «Святой Антоний» и транспортный корабль начинают движение.
— А что со вторым факельщиком? Как его… — Я напряг память. — Да, с «Бонавентурой»?
— Радиосигналы и данные детекторов свидетельствуют, что корпус звездолета «Святой Бонавентура» утратил герметичность. Корабль посылает аварийный вызов.
— Господи Боже, — прошептал я. — Что стряслось? Неужели напали Бродяги?
Девочка покачала головой и отошла от «Стейнвея».
— Это был Шрайк. Отец предупреждал… — Она не докончила фразы.
— Шрайк? — переспросил андроид. — Насколько мне известно из легенд и старинных записей, существо по имени Шрайк никогда не покидало Гиперион. Его встречали только в радиусе нескольких сотен километров от Гробниц Времени.
Энея уселась на подушки. Чувствовалось, что она смертельно устала.
— Ну да. Боюсь, сегодня он забрался гораздо дальше. Если отец прав, это только цветочки.
— Шрайк не появлялся без малого триста лет, — проговорил я.
Девочка отрешенно кивнула.
— Знаю. С тех самых пор, как Гробницы открылись перед Падением. — Она взглянула на андроида. — До чего же я голодная! И грязная.
— Я помогу кораблю приготовить обед, — сказал А.Беттик. — Душевые расположены наверху и внизу, на гибернационном уровне. Наверху, кроме того, имеется ванна.
— Тогда я пошла наверх. Думаю, до прыжка как раз успею. Увидимся минут через двадцать. — Поравнявшись со мной, Энея остановилась и взяла меня за руку. — Наверно, я кажусь вам неблагодарной. Большое спасибо, что спасли меня и что позволили втянуть себя в события, которые закончатся неизвестно чем и когда.
— Не стоит благодарности, — пробормотал я.
Девочка усмехнулась:
— Вам тоже не мешает принять душ. Однажды мы сделаем это вместе, а пока вам лучше спуститься вниз.
Я разинул рот, а она вприпрыжку побежала к трапу.
Глава 18
Капитан де Сойя пришел в себя на борту авизо «Рафаил» — ему позволили дать кораблю название. Это имя капитан выбрал не случайно: архангел Рафаил соединял разлучившихся влюбленных.
До этого воскресать де Сойе доводилось дважды, но оба раза при воскрешении присутствовал священник, который давал пригубить кагора, а затем подносил апельсиновый сок. Потом за дело брались техники, которые беседовали с ним, объясняли что к чему и не уходили до тех пор, пока он не начинал мыслить здраво.
На сей раз не было ни священника, ни техников — только выпуклые, вызывающие клаустрофобию стенки реаниматора. Мигали индикаторы, на мониторах возникали ряды символов, в которых де Сойя пока не мог разобраться. Ему повезло, что он вообще в состоянии думать. Капитан сел, осторожно свесил ноги.
«Ноги. У меня их снова две».
Никакой одежды на капитане, естественно, не было. Розовая кожа, мокрая от загадочного раствора, что плескался в реаниматоре, поблескивала в свете ламп. Де Сойя ощупал ногу, грудь, живот. Ни намека на оставленные демоном раны! А на ноге не сохранилось даже царапины.
— Рафаил!
— Слушаю, святой отец, — ответил ангельский, то бишь начисто лишенный половых признаков голос, который благотворно действовал на де Сойю, успокаивая нервы.
— Где мы находимся?
— В системе Парвати.
— Что с остальными? — Де Сойе смутно припомнился сержант Грегориус и два других члена экипажа. Однако капитан совершенно не помнил, как они попали на борт.
— Пробуждаются, святой отец.
— Сколько прошло времени?
— Немногим меньше четырех дней с того момента, как вы прибыли на корабль, святой отец. Прыжок состоялся через час после того, как вас поместили в реаниматор. Согласно вашим распоряжениям, переданным через сержанта Грегориуса, мы подошли к Парвати на расстояние в десять астроединиц.
Де Сойя кивнул. Даже это движение причинило адскую боль, которая пронзила каждую клеточку тела. Но то была приятная боль, совсем не похожая на боль от ран.
— Ты связывался с губернатором Парвати?
— Нет, святой отец.
— Хорошо. — В свое время Парвати являлась планетой на задворках Гегемонии; таковой она оставалась и по сей день, теперь уже на задворках территории, подвластной Ордену. Межпланетных кораблей, грузовых или военных, в этой системе не было. На Парвати стоял немногочисленный гарнизон, располагавший несколькими катерами.
Если девчонка и впрямь направляется сюда, кроме «Рафаила», ловить ее будет некому. — Есть какие-нибудь сведения о противнике?
— Неопознанный корабль перешел в гиперпространство на два часа восемнадцать минут раньше нас. Координаты точки перехода подтверждают, что место назначения корабля — система Парвати. Расчетное время в пути — приблизительно два месяца три недели два дня семнадцать часов.
— Благодарю, — сказал де Сойя. — Когда остальные очнутся, передай, что я жду их в кают-компании.
— Слушаюсь, святой отец.
«Матерь Божья, что я буду делать без малого три месяца на этой вшивой планетенке?»
Наверно, у него случилось помутнение рассудка. Ну конечно — ранения, мучительная боль, лекарства… Ближайшая система, подконтрольная Ордену, — Возрождение-Вектор, десять дней полета от Парвати (то есть пять месяцев объективного времени); получается, туда он попадет через два с половиной месяца после того, как корабль с девчонкой на борту окажется в системе Парвати. Нет, рассудок у него, может, и помутился — да и сейчас не совсем в порядке, — но решение он принял верное.
«Можно прыгнуть на Пасем. Обратиться за советом к Генеральному Штабу, даже к самому Папе. В конце концов, просто отдохнуть два с лишним месяца, а потом прыгнуть обратно».
Де Сойя покачал головой и вновь поморщился от боли. У него приказ — захватить девочку и доставить на Пасем. Если он вернется без нее, то как бы распишется в неудаче. Наверно, за Энеей пошлют кого-то другого. Хотя… Капитан Марджет Ву ясно дала понять, что «Рафаил» уникален — единственный на сегодняшний день шестиместный авизо класса «архангел»; вполне возможно, что за минувшие месяцы был построен второй такой корабль, но возвращаться все равно нет смысла. А если «Рафаил» по-прежнему остается единственным «архангелом», рассчитывать можно разве что на пополнение экипажа.
«Смерть и воскрешение не являются развлечением». Это правило внушали де Сойе с детских лет. Из того, что существует таинство воскрешения, которое доступно всем истинно верующим, вовсе не следует, что к нему можно прибегать, подчиняясь прихоти.
«Поговорю с Грегориусом и остальными, тогда и решу, как быть. Составим план, потом воспользуемся криогенной фугой. Подумаешь, пара месяцев. За кораблем с девчонкой гонится «Святой Антоний». Здесь она окажется меж двух огней, и мы без труда захватим звездолет».
Что ж, на первый взгляд вполне логично. Однако на ум де Сойе неожиданно пришла шальная мысль: «Без труда… То же самое ты думал перед отлетом на Гиперион».
Капитан со стоном выбрался из реаниматора и отправился на поиски душа, горячего кофе и какой-нибудь одежды.
Глава 19
Впервые столкнувшись с двигателем Хоукинга несколько лет назад, я до сих пор слабо представлял, как он устроен. Тот факт, что принцип действия этого двигателя возник по чистой случайности в больном мозгу человека, жившего в двадцатом веке христианской эры, внушал мне известные опасения, которые, впрочем, не шли ни в какое сравнение со страхом, почерпнутым из опыта.
Мы встретились в библиотеке, то бишь в штурманской, как уточнил компьютер, за несколько минут до перехода в состояние С-плюс. Я переоделся в костюм, извлеченный из вещмешка. Мои волосы, как и волосы Энеи, были влажными после душа. Девочка разыскала в гардеробе Консула купальный халат, который, как, вероятно, и все прочие вещи, был ей изрядно велик. В этом халате она выглядела даже моложе своих двенадцати лет.
— Наверно, пора ложиться в фугу, — сказал я.
— Зачем? — удивилась Энея. — Разве вам не любопытно?
Я нахмурился. Все охотники и военные инструкторы, с которыми я разговаривал, утверждали, что состояние С-плюс следует пережидать в криогенной фуге. Именно таким образом люди испокон веку путешествовали в космосе. Двигатель Хоукинга оказывал какое-то воздействие на тело и душу. Лично я опасался галлюцинаций, кошмаров наяву и непереносимой боли, о чем и поведал своим спутникам.
— Мама и дядя Мартин говорили, что в состоянии С-плюс нет ничего страшного, — заметила девочка. — Просто к нему нужно привыкнуть, а потом начинаешь получать удовольствие.
— Кроме того, наш корабль был модифицирован Бродягами, — прибавил А.Беттик. Мы с Энеей сидели за низеньким стеклянным столиком посреди библиотеки, андроид же стоял чуть в стороне. Я обращался с ним как с равным, а он упорно игнорировал мои попытки и продолжал корчить из себя слугу. Ну и шиш с ним, в конце концов пускай валяет дурака, если ему так хочется.
— В самом деле, — подтвердил компьютер. — Бродяги, в частности, перенастроили внутреннее силовое поле, благодаря чему воздействие состояния С-плюс на человека значительно уменьшилось.
— Каковы же все-таки побочные эффекты? — осведомился я, не желая, с одной стороны, демонстрировать всю глубину своего невежества, а с другой — страдать без необходимости.
Андроид переглянулся с девочкой, затем повернулся ко мне:
— Признаться, я всегда проводил полет в фуге. Вернее, в трюме, куда андроидов запихивали, как мороженые туши.
Мы с Энеей посмотрели друг на друга, избегая встречаться взглядом с А.Беттиком.
Корабль издал звук, удивительно похожий на человеческий кашель.
— Основываясь на своих наблюдениях за людьми — разумеется, на них нельзя полагаться, поскольку…
— Поскольку у тебя нелады с памятью, — в унисон проговорили мы с девочкой, снова переглянулись и засмеялись.
— Извини, Корабль, — сказала Энея. — Продолжай.
— Я собирался сказать, что, по моим наблюдениям, при переходе в состояние С-плюс у людей отмечается расстройство зрения, они становятся мрачными и погружаются в скуку. Полагаю, криогенную фугу изобрели с целью скоротать время в долгих перелетах, а затем, обнаружив, насколько это удобно, стали использовать повсеместно.
— Скажи прямо, Бродяги… гм… устранили побочные эффекты?
— Почти все, — ответил компьютер, — за исключением скуки. Последняя является чисто человеческим феноменом, лекарства от которого, по-моему, не существует. — Наступила тишина, затем компьютер объявил: — До перехода две минуты десять секунд. Все системы работают нормально. Погони не обнаружено, хотя «Святой Антоний» следит за нами при помощи детекторов дальнего действия.
Энея встала:
— Пошли посмотрим, как произойдет переход.
— Откуда? Из проекционной ниши?
— Нет, — откликнулась девочка. — Снаружи.
На корабле, о чем я и не подозревал, имелся балкон. На него можно было выйти в любой момент — даже когда звездолет разгонялся до спин-скорости, готовясь к переходу в состояние С-плюс. Я ни о чем подобном не догадывался, а если бы мне сказали, ни за что бы не поверил, что такое возможно.
— Выдвини, пожалуйста, балкон, — попросила Энея. Корабль подчинился, и мы через сводчатый проход вышли в космос. Конечно, это был не открытый космос; даже мне, пастуху, провинциалу, было известно, что в открытом космосе у нас лопнули бы барабанные перепонки и глаза и мгновенно выкипела бы кровь. Но впечатление было полным — если не считать того, что в открытом космосе не бывает роялей.
— Это не опасно? — спросил я, прислоняясь к поручню. Гиперион превратился в крохотную искорку, его солнце сверкало по правому борту, а за кораблем тянулся плазменный хвост километров десяти длиной. Казалось, мы балансируем на высокой колонне голубого камня. Зрелище было не для тех, кто страдает боязнью высоты или агорафобией. Кстати, до того момента я и не предполагал, что подвержен обоим заболеваниям.
— Если откажет силовое поле, мы погибнем в долю секунды, — сказал А.Беттик. — А какая разница, где погибать, внутри или снаружи?
— А радиация? — не сдавался я.
— Экран отражает вредные космические лучи и затемняет свет ближайших звезд, чтобы пассажиры не ослепли. В остальном он проницаем для любого излучения.
— Понятно. — Я инстинктивно попятился.
— Тридцать секунд до перехода, — сообщил компьютер. Даже с балкона казалось, что он вещает откуда-то из центра каюты.
Энея уселась за рояль и начала играть. Мелодия была незнакомой, но явно классической… Пожалуй, века из двадцать шестого.
Я ожидал, что корабль предупредит нас о переходе — ну, станет отсчитывать последние секунды или предпримет что-нибудь еще в том же духе, — однако мои ожидания не оправдались. Внезапно включился двигатель Хоукинга, послышался гул, палуба под ногами задрожала, голова пошла кругом — мне почудилось, будто меня вывернули наизнанку, безболезненно и безжалостно; а затем ощущение исчезло столь же неожиданно, как и возникло.
Космос тоже исчез. Я имею в виду картину, которую лицезрел секундой ранее — яркое солнце Гипериона, крошечная планета, окруженный светящимся ореолом корпус корабля, редкие звезды, которые можно было разглядеть сквозь ореол, колонна голубого пламени. Все пропало, а появилось… Трудно подобрать слова.
Звездолет никуда не делся, он по-прежнему находился «над» и «под» нами. Балкон, на котором мы стояли, сохранил свою материальность. А вот свет куда-то подевался. Понимаю, что говорю глупости, ведь отраженный свет должен был присутствовать, но мне тогда показалось, что я отчасти утратил зрение, что мои глаза улавливают только форму и объем, но никак не свет.
Вселенная съежилась до небольшой голубой сферы перед носом корабля и красной сферы за кормой. Я достаточно разбирался в физике, чтобы предположить наличие допплеровского эффекта; но это был обман зрения, поскольку до перехода в состояние С-плюс мы даже не приблизились к скорости света, а очутившись в пространстве Хоукинга, намного ее превзошли. Тем не менее голубая и красная сферы, в которых, если присмотреться, можно было различить звезды, у меня на глазах как бы отодвинулись, уменьшились в размерах. Между ними простерлось… ничто. Я разумею вовсе не сколь угодно непроглядную темноту. Вообразите бездонную пучину, пустоту, в которой попросту нечего видеть. Головокружение миновало, зато подкатила тошнота, скрутившая мое тело не менее жестоко, чем сам переход несколько секунд назад.
— Боже мой, — выдавил я, цепляясь за поручень, и крепко зажмурился. Не помогло. Пучина отказывалась пропадать. В тот миг я понял, почему люди предпочитают путешествовать в криогенной фуге.
Невероятно! Немыслимо! Энея продолжала играть. Чистые, прозрачные аккорды возникали словно сами по себе.
А.Беттик, я чувствовал, стоял у арки, обратив голубое лицо к пучине. Нет, не голубое… Цвета отсутствовали, больше не было ни голубого, ни серого, ни белого с черным. Быть может, так видят мир слепые от рождения? Если да, я им не завидую.
— Компенсирую, — произнес компьютер. Его голос был таким же прозрачным, как аккорды, которые брала Энея.
Внезапно пучина поглотила сама себя, зрение возвратилось, голубая и красная сферы заняли свои места на носу и на корме. Несколько секунд спустя голубая переместилась вдоль корпуса, словно пончик вдоль ручки, и вдруг ослепительно вспыхнула. Из нее буквально брызнули разноцветные геометрические фигуры. Впрочем, это словосочетание не передает всей изысканности сформировавшегося узора. Там, где была пустота, пульсировали, извивались, разрастались наипричудливейшие объекты. Витки закручивались самым невероятным образом, порождая диковинные формы кроваво-красного и кобальтового оттенков. Желтые эллипсы превращались в пульсирующие цветки. Мимо проносились лиловые и фиолетовые спирали, нечто вроде ДНК вселенной. Я слышал голоса этих цветов и фигур, напоминавшие далекий гром или рокот прибоя.
Сообразив, что стою разинув рот, я повернулся к Энее с андроидом. Они словно купались в море красок. Девочка по-прежнему что-то наигрывала; она смотрела на меня, а ее пальцы скользили по клавиатуре.
— Может, пойдем внутрь? — предложил я. Моя фраза словно разделилась на отдельные слова, которые повисли в воздухе, будто сосульки на ветке.
— Великолепное зрелище, — проговорил А.Беттик. Скрестив на груди руки, андроид разглядывал буйство форм и красок вокруг корабля. Его кожа вновь поголубела.
Энея перестала играть. Почувствовав, быть может, что мне действительно плохо, она встала, взяла меня за руку и отвела в каюту. Балкон втянулся внутрь, каюта приобрела нормальный вид. Только теперь я смог вздохнуть.
— У нас в запасе шесть дней, — сказала девочка. Мы сидели в проекционной нише, где подушки были мягче всего. Обед, после которого А.Беттик подал холодный фруктовый сок, остался позади. Мои руки слегка дрожали.
— Шесть дней девять часов двадцать семь минут, — уточнил компьютер.
— Корабль, — заметила Энея, — будь добр, помолчи. Тебя, кажется, никто не спрашивал.
— Хорошо, мадемуазель Энея.
— Шесть дней, — повторила девочка. — Нужно приготовиться.
— К чему? — Я пригубил сок.
— Думаю, нас будут ждать. Поэтому надо прикинуть, как нам пройти через систему Парвати и без помех добраться до Возрождения-Вектор.
Я окинул девочку взглядом. Усталое лицо, растрепанные, мокрые после душа волосы… Наслушавшись «Песней», в которых столько говорилось о Той-Кто-Учит, я ожидал увидеть нечто иное — юную мессию в тоге, вундеркинда, изрекающего исполненные глубочайшего смысла фразы. Энея же была обычной девочкой — если не считать выражения глаз: она словно позаимствовала свой взор у Мартина Силена.
— Как нас могут опередить? Мультилинии давным-давно не работают. Поэтому факельщик, который идет за нами, не может послать предупреждение. Не то что в твое время…
Энея покачала головой.
— Мультилинии уничтожили еще до моего рождения. Ведь мама забеременела до Падения. — Девочка повернулась к А.Беттику. Андроид стоял у стены и потягивал сок. — Извини, что я тебя не помню. Мне казалось, я познакомилась со всеми андроидами в Граде Поэтов.
— Неудивительно, что вы меня не помните, мадемуазель Энея. — А.Беттик наклонил голову. — Я покинул Град Поэтов задолго до того, как ваша мать отправилась в паломничество. Мы с моими… родичами работали на реке Хулай и в Травяном море. После Падения мы… ушли с работы и… потеряли друг друга из виду.
— Понятно. После Падения началось сущее безумие. К западу от Уздечки андроидам лучше было не появляться.
— Нет, серьезно, — сказал я, — почему кто-то должен нас поджидать? Мы раньше ушли в гиперпространство, значит, они появятся у Парвати через пару часов после нашего прибытия, верно?
— Верно, — согласилась Энея, — но мне почему-то кажется, что нас будут ждать. Поэтому надо составить план действий. Нашему кораблику придется играть в догонялки с боевым звездолетом.
Мы принялись выдвигать идеи, но в голову не приходило ничего путного; даже компьютер, когда его спросили, не сумел что-либо предложить. Во время беседы я наблюдал за девочкой, отмечая про себя, как загибаются кверху уголки ее губ, когда она думает, как перерезает лоб морщинка, когда она говорит о чем-то важном, какой нежный у нее голос… Пожалуй, я начал понимать, почему Мартин Силен требовал уберечь Энею от неприятностей.
— Странно, что поэт не попрощался с нами, — заметил я. — Неужели ему не хотелось поговорить с тобой?
— Дядюшка Мартин никогда не общался со мной по радио или по тривидению. — Энея пригладила пятерней волосы. — Мы договорились встретиться, когда я вернусь.
— Договорились? — повторил я. — Выходит, вы двое все предусмотрели, все спланировали заранее? И бегство, и ковер-самолет…
— Наметки плана набросали мы с мамой. — Энея улыбнулась. — А когда мама умерла, я обратилась за советом к дяде Мартину. Он проводил меня этим утром до дверей Сфинкса…
— Этим утром? — ошарашенно переспросил я. В тот же миг до меня дошло.
— День выдался долгий, — грустно сказала девочка. — Утром я сделала несколько шагов и переместилась во времени на половину того срока, какой люди провели на Гиперионе. Все мои знакомые, кроме дяди Мартина, наверняка мертвы.
— Не обязательно, — возразил я. — Власть Ордена установилась вскоре после того, как ты исчезла, поэтому многие из твоих знакомых могли принять крест. Если так, они живы до сих пор.
— Принять крест. — Девочка вздрогнула. — Родственников у меня нет, была только мама… А что касается знакомых, моих и маминых, сомневаюсь, чтобы они… приняли крест.
Мы молча смотрели друг на друга. Я вдруг осознал, насколько экзотическое передо мной создание: большинство событий, которые составляли для меня историю Гипериона, в то мгновение, когда девочка переступила порог Сфинкса, еще не произошло.
— Как я уже сказала, — продолжала Энея, — мы с мамой всего-навсего прикинули что и как. Ковер-самолет, к примеру, в наши расчеты не входил — мы не знали, вернется ли вовремя корабль Консула. Правда, мы предполагали воспользоваться лабиринтом, если Долина Гробниц Времени окажется недоступной. И надеялись, что я улечу с Гипериона на корабле Консула.
— Расскажи мне о своем времени, — попросил я.
Энея вновь покачала головой:
— Не сейчас. Мое время для тебя — история и легенды, но ты хоть что-то о нем знаешь. А вот я ничего не знаю о настоящем. Поэтому рассказывать тебе. Какое оно, настоящее? Из чего сделано? И что в нем принадлежит мне?
Это явно была какая-то цитата из неизвестного мне произведения. Я начал рассказывать об Ордене — о грандиозном соборе в Сент-Джозефе и…
— Сент-Джозеф? — перебила девочка. — Это где?
— Столица Гипериона. В твое время ее называли Китсом. А также Джектауном.
— А-а… — протянула Энея, откидываясь на подушки со стаканом сока в руке. — Значит, сменили языческое название. Думаю, отец бы не возражал.
Она уже во второй раз упомянула своего отца — должно быть, речь шла о кибриде Джона Китса. Но я решил повременить с вопросами личного свойства.
— Да, когда двести лет назад Гиперион перешел под власть Ордена, многие города и местности получили новые названия. Хотели даже переименовать планету, но почему-то не вышло. На самом деле Гиперионом управляет генерал-губернатор, которого, естественно, назначает Орден… — Я достаточно подробно описал нынешнее политическое устройство, достижения в области технологии и культуры, поведал об изменениях в языке, перечислил все то, что слышал, видел и читал о наиболее развитых мирах Ордена, в том числе и о чудесах Пасема.
— Похоже, многое осталось прежним, — заметила девочка, когда я остановился перевести дух. — Наука застряла, да? Никак не поднимется до того уровня, какой был при Гегемонии.
— Ты права, — согласился я. — Вина за это отчасти лежит на Ордене. Церковь запретила создание и применение разумных машин — ИскИнов, как их называли в твое время; основной упор делается не на развитие науки, а на человека как такового, на его воспитание.
Энея кивнула:
— Все равно, уж за два с половиной столетия можно было придумать что-нибудь этакое… Мне кажется, я попала в Темные Века…
Я усмехнулся, поняв, что обиделся за Орден, за общество, членом которого не стал по своей воле.
— Все не так страшно. Вспомни, Орден победил смерть. Благодаря этому открытию стало возможным регулировать численность населения. Большинство «воскрешенцев» полагают, что пришли в мир надолго — по крайней мере на несколько сотен лет, а если повезет, то и на тысячу. Они не торопятся что-либо менять, поскольку спешить им некуда.
— Значит, крестоформ пользуется популярностью? — Энея пристально поглядела на меня.
— Да.
— А почему ты не… принял крест?
В очередной раз за последние дни я растерялся настолько, что не смог поначалу найти слов, и пожал плечами.
— Наверно, из упрямства, — наконец проговорил я. — К тому же большинство людей обращаются в христианство уже в зрелом возрасте. Молодые не торопятся, ведь они собираются жить вечно.
— Ты тоже? — Взгляд девочки буквально пронизывал насквозь.
Мне захотелось вновь пожать плечами, но я удержался и только махнул рукой.
— Не знаю. — Рассказать, что ли, о своей казни и о встрече с Мартином Силеном? Нет, погожу. — Не знаю.
А.Беттик шагнул на середину ниши:
— Вы не откажетесь от мороженого на десерт? В холодильниках корабля хранится несколько сортов. Какой вы предпочитаете?
Я решил объяснить ему раз и навсегда, что он не слуга, и принялся подбирать формулировку, но едва раскрыл рот, как Энея воскликнула:
— Шоколадное!
А.Беттик с улыбкой кивнул и повернулся ко мне:
— Месье Эндимион?
День и вправду выдался долгим: путешествие на ковре-самолете по лабиринту, песчаная буря, бойня — устроенная, по словам Энеи, Шрайком, — первое в жизни расставание с планетой…
— Шоколадное, — заявил я. — Только шоколадное.
Глава 20
Из четырех человек, которые составляли отделение сержанта Грегориуса, уцелели двое — капрал Бассин Ки и стрелок Аранвал Гаспа К.Т.Реттиг. Первый был невысок ростом и отличался ловкостью и сообразительностью; второй был чуть ниже Грегориуса, однако рядом с сержантом по причине крайней худобы казался просто карликом. Он родился в Кольце Ламберта, и в нем с первого взгляда можно было узнать обитателя астероида — хилый костяк, радиационные ожоги от космических лучей, независимая манера держаться. Как стало известно де Сойе, впервые на настоящую планету с нормальной силой тяжести Реттиг ступил в возрасте двадцати трех лет. РНК-терапия и армейская муштра закалили стрелка, и теперь он мог сражаться где угодно. Как правило, А.Г.К.Т.Реттиг хранил молчание, внимательно слушал, беспрекословно подчинялся и — как показало сражение на Гиперионе — умел выживать.
Если Реттиг большую часть времени помалкивал, то Ки болтал не переставая. Несмотря на то что после воскрешения мысли обычно путаются, он сразу начал задавать капитану вопросы и отпускать замечания, свидетельствовавшие об остром уме.
Воскрешение потрясло всех четверых. Де Сойя постарался объяснить, что постепенно к этому привыкаешь, однако его предало собственное тело, которое отказывалось подчиняться. В отсутствие доброжелательных техников и священников, готовых помочь советом и лекарствами, каждый справлялся с ощущениями как мог. Разговор, который состоялся в первый же день после воскрешения, частенько прерывался, когда на кого-либо накатывала дурнота. Надо отдать должное Грегориусу — сержант держался лучше всех.
На третий день пребывания в системе Парвати все собрались в крохотной каютке «Рафаила», чтобы обсудить план действий.
— Корабль, которого мы ожидаем, появится в системе через два месяца и три недели, — сообщил капитан. — До расчетной точки выхода меньше тысячи километров. Мы должны перехватить его и забрать девочку.
Никто из гвардейцев не стал уточнять зачем. Они просто приняли слова де Сойи к сведению. Если капитан разрешит, можно будет спросить; а нет — они, если понадобится, умрут, выполняя загадочный приказ.
— Мы не знаем, кто еще на борту, кроме девчонки, верно? — уже в который раз уточнил капрал Ки (в первые дни после воскрешения память подводила каждого заново родившегося).
— Верно, — ответил де Сойя.
— Какое вооружение несет корабль, нам тоже неизвестно, — продолжал Ки, словно сверяясь со списком.
— Верно.
— Мы не можем сказать наверняка, куда он направляется.
— Верно.
— Вполне может быть, — заключил капрал, — что в системе Парвати находится другой корабль, которому назначено рандеву… Или девчонка собирается встретиться с кем-то на планете.
Де Сойя утвердительно кивнул:
— На «Рафаиле» нет радаров, какие имелись на том факельщике, которым я раньше командовал. Тем не менее мы прочесываем пространство между Парвати и облаком Оорта. Если в системе появится второй корабль, мы его сразу заметим.
— Чей он может быть? — спросил Грегориус. — Бродяг?
Де Сойя развел руками:
— Что толку в пустых домыслах? Девочка представляет собой угрозу самому существованию Ордена, так что, если Бродягам стало о ней известно, они и впрямь могут попытаться захватить ее. Но в таком случае им придется сначала одолеть нас.
Ки провел ладонью по лицу.
— До сих пор не верится, что мы можем, если захотим, через день оказаться дома. — «Домом» капрала Ки была республика Джамну на Денебе III. — Или отправиться за помощью. — Ки снова запамятовал: ближайшим к «Рафаилу» кораблем Ордена был «Святой Антоний», который, если его капитан подчинился приказу де Сойи, преследовал по пятам звездолет девчонки.
— Я связался с начальником гарнизона на Парвати, — сообщил де Сойя. — Компьютер не ошибся, у них в наличии только орбитальный челнок и пара катеров. Я приказал ему вывести все корабли на орбиту, объявить на планете боевую тревогу и ожидать дальнейших распоряжений. Если девочка проскользнет у нас под носом и высадится на Парвати, ее тут же схватят.
— А что собой представляет эта Парвати? — Раскатистый бас Грегориуса, как всегда, заставил де Сойю обернуться к сержанту.
— Вскоре после Хиджры ее заселили индусы-реформисты, — принялся рассказывать капитан, почерпнувший все сведения из бортового компьютера. — Сплошная пустыня, в атмосфере избыток углекислого газа, все попытки терраформирования завершились неудачей. Поэтому людям пришлось подстраиваться под местные условия. Население никогда не было особенно многочисленным, перед Падением на Парвати было несколько десятков миллионов, а сейчас — около пятисот тысяч. Большинство проживает в мегаполисе Ганди.
— Христиане? — спросил Ки. Это было не праздное любопытство: де Сойя уже успел убедиться, что капрал не задает пустых вопросов.
— Христианство приняли несколько тысяч человек, в основном преуспевающие бизнесмены, которые прекрасно понимают, сколь выгодно для них сотрудничество с Орденом. Лет пятьдесят назад они сумели убедить правительство — нечто вроде переизбираемой олигархии — в необходимости иметь на планете воинский гарнизон. Парвати расположена поблизости от Окраины, поэтому у ее обитателей есть все основания опасаться Бродяг.
— А что, если девочку обнаружат местные жители?
— Такое вряд ли возможно, — отозвался де Сойя. — Девяносто девять процентов поверхности планеты — пустыня, заселена только территория вокруг Ганди, в окрестностях которого, кстати, находятся бокситовые копи. Но орбитальный патруль непременно засечет девчонку.
— Если мы не перехватим ее раньше, — произнес Грегориус.
— Обязательно перехватим. — Капитан вывел на монитор составленную им карту. — План таков. Мы спим до часа «Т» минус три дня. Не беспокойтесь, фуга не вызывает таких последствий, как воскрешение. Итак, в час «Т» минус три дня раздастся сигнал тревоги, мы просыпаемся и полчаса приводим себя в порядок. «Рафаил» перемещается вот сюда. — Де Сойя указал на точку, расстояние до которой по карте равнялось приблизительно двум третям окружности орбиты. — Нам известна скорость, с какой вражеский звездолет ушел в гиперпространство, следовательно, мы можем рассчитать и скорость выхода. Допустим, ускорение не изменится… Значит, ноль-ноль-три… — На мониторе появились расчеты и координаты. — Предположительно, они выйдут из гиперпространства здесь. — Де Сойя ткнул в красную точку в десяти астроединицах от Парвати. В тот же миг к точке протянулась пунктирная линия — траектория движения «Рафаила». — А здесь мы их перехватим, едва они окажутся в системе.
— Выходит, будем жать на всю катушку… — проговорил сержант Грегориус. — Ни хрена себе! Прошу прощения, святой отец.
— Ничего, сын мой, — улыбнулся де Сойя. — Да, нам придется нелегко, особенно если они начнут тормозить… Зато относительные скорости обоих кораблей будут практически нулевыми.
— Как близко мы окажемся? — спросил Ки. Его черные волосы поблескивали в свете ламп.
— Когда они выйдут из гиперпространства, до вражеского звездолета будет километров шестьсот. Через три минуты мы приблизимся настолько, что вы, капрал, сможете кинуть в них чем-нибудь увесистым.
Капрал Ки нахмурился:
— А если они в нас чем-нибудь кинут?
— Все может быть, — откликнулся де Сойя. — Однако я уверен, что силовые поля защитят «Рафаил» от любого их оружия.
— А если нет? — пробормотал стрелок Реттиг.
Капитан, почти забывший о присутствии Реттига, повернулся к нему.
— Случиться может всякое. Однако у нас есть одно преимущество — скорость. У них будет очень мало времени, чтобы выстрелить.
— Чем мы можем ответить? — поинтересовался Грегориус.
— Мы же вместе проверяли вооружение «Рафаила»! — Помолчав, де Сойя продолжил: — Если нам попадется звездолет Бродяг, мы можем его поджарить, запечь или испепелить. Или просто уничтожить экипаж, сохранив сам корабль в неприкосновенности. — На «Рафаиле» имелись нейродеструкторы, дальность действия которых составляла свыше пятисот километров. — Но воспользуемся всем этим только в крайнем случае.
— А что, если пострадает девочка? — справился Ки.
— Этого не должно произойти ни при каких обстоятельствах. — Де Сойя вздохнул и прибавил: — Вам придется взять звездолет штурмом.
Грегориус оскалил в усмешке крупные ослепительно белые зубы.
— Значит, мы недаром захватили со «Святого Фомы» боевые скафандры. Но нам не мешает потренироваться.
— Трех дней хватит?
— Я бы предпочел неделю, сэр. — С лица Грегориуса не сходила усмешка.
— Хорошо. Мы проснемся за неделю до времени «Т». Вот схематическое изображение вражеского корабля.
— Я думал, это… неопознанный корабль, — пробормотал Ки.
Появившийся на мониторе звездолет — тонкий, как игла, со стабилизаторами на корме — напоминал детский рисунок или карикатуру.
— Мы не знаем ни класса, ни пункта приписки, — объяснил де Сойя. — Однако со «Святого Антония» нам успели передать картинку. Это явно не Бродяги.
— Не Бродяги, не Орден. На грузовик не похож, на спин-звездолет и на факельщик тоже… — проговорил Ки. — Что это за корыто?
Теперь монитор показывал корабль в разрезе.
— Частный звездолет времен Гегемонии, — сказал де Сойя. — Их существовало всего-навсего штук тридцать. Этому лет четыреста, если не больше.
Капрал Ки тихонько присвистнул. Сержант Грегориус потер подбородок. Судя по всему, возраст корабля произвел впечатление даже на внешне невозмутимого Реттига.
— Я и не знал, что существовали частные спин-звездолеты, — произнес капрал.
— Гегемония награждала таким образом важных шишек, — отозвался де Сойя. — Свой звездолет был у премьер-министра Гладстон, у генерала Горация Гленнон-Хайта…
— Генерала никто не награждал, — со смешком заметил Ки. Печально известный Гленнон-Хайт был в свое время самым грозным противником Гегемонии — этакий Ганнибал с Окраины, сражавшийся с Римом Великой Сети.
— Верно, — согласился де Сойя. — Генерал украл звездолет у губернатора Седьмой Дракона. Как бы то ни было, компьютер утверждает, что все частные корабли были еще до Падения переоборудованы под боевые либо уничтожены. Похоже, он ошибается.
— И не в первый раз, — пробурчал Грегориус. — На картинке не заметно орудий?
— Нет. Частные звездолеты не несли вооружения. Техники «Святого Бонавентуры» — перед тем как их прикончил Шрайк — не засекли ничего подозрительного. Правда, за столько лет этот корабль многажды могли модифицировать. Но даже если на нем установлено новейшее оружие Бродяг, «Рафаил» все равно сможет приблизиться почти вплотную, и они уже не сумеют выстрелить. Просто не успеют.
— Рукопашная, — пробормотал сержант, не сводя глаз со схемы. — Нас будут ждать у шлюза, а мы пробьем пару дырок… тут и вот тут…
— Нельзя! — испуганно воскликнул де Сойя. — Девочка…
Грегориус оскалил зубы.
— Не беспокойтесь, сэр. Я прихватил с «Фомы» несколько ловушек. Чтобы установить их на корпус, потребуется меньше минуты. — Сержант увеличил изображение. — Если воспользоваться фантопликатором, чтобы все это смоделировать… Нужна еще неделя. — Чернокожий гигант повернулся к де Сойе. — Сэр, у меня такое ощущение, что фуга нам не светит.
Капрал Ки постучал пальцем по губе.
— У меня вопрос, сэр. — Де Сойя молча ждал продолжения. — Девочка не должна пострадать ни в коем случае. Как насчет остальных?
Де Сойя вздохнул. Он знал, что рано или поздно услышит этот вопрос.
— Лично я предпочел бы, чтобы жертв не было вообще.
— Ясно, сэр. — Глаза Ки блеснули. — А если нам попытаются помешать?
Капитан выключил монитор. В каютке пахло маслом, потом и озоном.
— Мне приказано обеспечить безопасность девочки, — медленно произнес он. — О других не было сказано ни слова. Если кто-то… или что-то на борту звездолета попытается вам воспрепятствовать, разрешаю применить оружие. Спасая свою жизнь, вы можете стрелять первыми.
— Короче, прикончить всех, кроме девчонки, — подытожил Грегориус, — а уж Бог пускай разбирается.
Де Сойя терпеть не мог эту присказку, бытовавшую в армии с незапамятных времен.
— С головы девочки не должно упасть ни единого волоска. Остальное меня не касается.
— А если у нее окажется всего один спутник? — проговорил Реттиг. Трое мужчин повернулись к стрелку. — Шрайк, — закончил он.
В каютке установилась тишина, которую нарушали только шепот вентиляторов да гудение приборов и двигателей малой тяги.
— Если там Шрайк… — Капитан де Сойя сделал паузу.
— Если там наш приятель Шрайк, — вставил сержант Грегориус, — мы его приятно удивим. Этот шипастый сукин сын у нас попляшет! Прошу прощения, святой отец.
— Сын мой, как духовное лицо, — откликнулся де Сойя, — я вновь должен предупредить, что браниться значит грешить. А как ваш командир, сержант, приказываю приготовить побольше сюрпризов для шипастого сукина сына.
Обсуждение продолжалось до самого ужина.
Глава 21
Вы не замечали, что чаще всего в памяти остается именно первая неделя путешествия, каким бы продолжительным оно ни было? Быть может, потом притупляется восприятие, утрачивается очарование новизны, происходит привыкание… Во всяком случае, для меня ощущения первого дня или впечатления от первого знакомства с попутчиками всегда определяли атмосферу, в которой проходило путешествие. А в этом конкретном случае они определили всю мою жизнь.
Первый день нашего замечательного путешествия мы отсыпались. Энея устала до полусмерти и я тоже — иначе не проспал бы шестнадцать часов подряд. Не могу поручиться за А.Беттика — понятия не имею, чем тот занимался (я только теперь узнал, что андроиды спят, но времени на коматозное состояние, называемое сном, им требуется гораздо меньше, нежели людям); знаю лишь, что он спустился в машинное отделение и повесил там гамак. Я собирался уступить девочке «спальню хозяина», по соседству с которой она принимала душ, но Энея рассудила иначе — забралась в саркофаг на гибернационном уровне. Что ж… Я нежился на широкой кровати посреди просторной каюты и даже какое-то время спустя преодолел агорафобию: по моему желанию переборка сделалась прозрачной и сквозь нее вновь стали видны разноцветные геометрические фигуры. Правда, их пульсация почему-то действовала мне на нервы, так что вскоре я велел компьютеру затемнить переборку.
Местом встречи у нас были библиотека и палуба, на которой находилась проекционная ниша. Кухня — А.Беттик называл ее камбузом — располагалась как раз на этой палубе; ели мы обычно за столиком в нише или за круглым столом в «штурманской». Не стану скрывать: едва проснувшись и наскоро позавтракав (компьютер сообщил, что на Гиперионе полдень, но с какой стати нам теперь ориентироваться на гиперионское время?), я направился в библиотеку. На полу лежал ковер, полированные стены из древесины тикового и вишневого дерева поблескивали в свете ламп. Книги были весьма почтенного возраста, отпечатанные во времена Гегемонии и даже раньше. Я с удивлением обнаружил экземпляр эпической поэмы «Умирающая Земля», принадлежащей перу Мартина Силена; кроме того, в библиотеке нашлись тома классиков, которых я читал в детстве и частенько перечитывал на болотах и на реке.
А.Беттик, который присоединился к моим разысканиям, снял с полки книжку в зеленом переплете.
— Это может быть интересно. — Книжка называлась так: «Путеводитель по Великой Сети, с подробным описанием Гранд-Конкурса и реки Тетис».
— Здорово! — Дрожащими руками я взял у андроида книгу и открыл на первой странице. Должно быть, мои руки дрожали по той простой причине, что Великая Сеть, эта старинная сказка, внезапно стала для меня реальностью.
— Во времена, когда печатались эти книги, — проговорил андроид, — каждому человеку была доступна любая информация.
Я кивнул. В детстве, слушая бабушку, я частенько старался представить себе мир, в котором люди носили импланты и могли по желанию подключаться к базам данных. Разумеется, даже тогда на Гиперионе не было никакой инфосферы — он ведь никогда не входил в Сеть; однако жизнь большинства подданных Гегемонии походила, вероятно, на бесконечную фантопликацию. Неудивительно, что великое множество людей в ту пору не умело читать. Всеобщая грамотность стала одной из основных целей Ордена и Церкви после того, как им удалось отчасти объединить бывшие миры Гегемонии.
Я набрал пять-шесть книг и уселся за стол, чтобы проглядеть содержание. А.Беттик пошел куда-то вниз.
Энея тоже пожаловала в библиотеку, принесла мне и себе по яблоку и немедленно схватила «Умирающую Землю».
— В Джектауне не нашлось ни единого экземпляра, а дядюшка Мартин, когда я к нему приезжала, заявил, что мне сначала надо подрасти. По его собственным словам, ничего более приличного он не сочинил — если не считать «Песней».
— О чем эта книга? — спросил я, не отрываясь от романа Делмора Деланда.
— О последних днях Старой Земли. О счастливом детстве Мартина Силена, о том, как ему было хорошо в родовой усадьбе в Североамериканском Заповеднике.
Я отложил роман.
— Как по-твоему, что случилось со Старой Землей?
— Кажется, все считали, что после Большой Ошибки восьмого года ее поглотила черная дыра. — Девочка перестала жевать.
Я кивнул:
— Большинство по-прежнему в это верит, хотя в «Песнях» сказано, что Старую Землю похитил Техно-Центр.
— Ну да, ее переправили то ли в скопление Геркулеса, то ли к Магеллановым Облакам. Мама узнала об этом, когда вместе с отцом расследовала его убийство.
Я подался вперед:
— Ты не против, если мы поговорим о твоем отце?
— Ничуть. — Энея усмехнулась. — Честно говоря, меня никогда не тревожило, что я полукровка, дочь лузианки и клонированного кибрида… Хотя, наверно, должно было бы тревожить.
— На лузианку ты не тянешь. — Обитатели Лузуса, планеты с большой силой тяжести, отличались невысоким ростом и огромной силой; вдобавок у большинства были бледные лица и темные волосы. Что касается Энеи, с ростом у нее все было в порядке, темно-русые волосы перемежались светлыми прядями, а точеной фигурке позавидовали бы многие сверстницы девочки. Только блестящие карие глаза напоминали Ламию Брон, какой она предстала мне со страниц поэмы Мартина Силена.
Энея звонко рассмеялась:
— Я пошла в отца. Джон Китс был невысоким, худым и светловолосым.
Помолчав, я произнес:
— Ты сказала, что разговаривала с отцом…
— Да. — Энея искоса поглядела на меня. — Тебе известно, что Техно-Центр еще до моего рождения уничтожил его тело. А ты знаешь, что мама несколько месяцев носила личность отца в петле Шрюна у себя за ухом?
Я кивнул. Об этом упоминалось в «Песнях».
— Я помню, как мы разговаривали. — Девочка передернула плечами.
— Но ведь ты тогда…
— Не родилась, — докончила Энея. — Правильно. О чем бестелесная личность поэта могла разговаривать с зародышем? Тем не менее мы часто общались. Он поддерживал связь с Техно-Центром и показал мне… Это сложно объяснить, Рауль.
— Понятно. — Я оглядел библиотеку. — Между прочим, в «Песнях» говорится, что после того, как личность твоего отца покинула петлю Шрюна, она некоторое время находилась в компьютере этого корабля.
— Я знаю. — Энея вновь усмехнулась. — Вчера, перед тем как заснуть, я потолковала с кораблем. Мой отец вправду был здесь, когда Консул отправился узнавать, что стряслось с Сетью. Но теперь его тут нет. Корабль не помнит, что с ним случилось — он то ли исчез после смерти Консула, то ли что еще…
— Честно говоря, — я замялся, выбирая выражения помягче, — если Техно-Центра больше нет, то кибридов, наверно, не существует и подавно.
— А кто сказал, что Техно-Центра больше нет?
Я разинул от изумления рот:
— Мейна Гладстон уничтожила перед гибелью нуль-порталы, инфосферы, мультилинии — то бишь пространство, в котором обретался Техно-Центр! Даже «Песни» этого не отрицают!
— Ну да, — с улыбкой согласилась девочка. — Они взорвали космические порталы, а все прочие просто перестали действовать. Инфосферы исчезли. Но с чего вы взяли, что Техно-Центр погиб? Если смахнуть две-три паутинки, разве паук погибнет?
Я невольно оглянулся:
— По-твоему, Техно-Центр существует до сих пор? И его обитатели по-прежнему злоумышляют против нас?
— Насчет второго не знаю, а Техно-Центр существует точно.
— Откуда тебе известно?
— Во-первых, — Энея загнула палец, — личность моего отца продолжала существовать после Падения. А ведь она возникла на основе созданного Центром ИскИна. Следовательно, с Центром ничего не случилось, он всего лишь куда-то переместился.
Я призадумался. Кибриды, как и андроиды, были для меня существами мифическими. С тем же успехом мы могли бы сейчас обсуждать особенности телосложения лепреконов.[73]
— Во-вторых, — девочка загнула следующий палец, — я сама разговаривала с Центром.
— До того как родилась? — пробормотал я.
— Ага. А еще — когда жила с мамой в Джектауне. И когда мама умерла. — Энея встала. — И сегодня утром. — Я уставился на нее широко раскрытыми глазами. — Я проголодалась, Рауль. Не хотите узнать, что нам приготовили на обед?
Вскоре мы установили распорядок дня, приняв светлое время суток на Гиперионе за период бодрствования, а темное — за ночь, когда следует спать. Я начал понимать, почему Гегемония сохранила в качестве стандарта земные сутки протяженностью в двадцать четыре часа (помнится, где-то я вычитал, что на девяноста процентах миров Сети — похожих на Землю или терраформированных — продолжительность дня отличалась от земной не более чем на три часа).
Энея продолжала выдвигать балкон и играть на рояле под «открытым небом»; порой я присоединялся к ней и проводил на балконе несколько минут, но все же предпочитал закрытые помещения. Никто из нас не жаловался на побочные эффекты состояния С-плюс, хотя все их ощущали — внезапные смены настроения, чувство, что за тобой кто-то наблюдает, и весьма странные сны. Мне, к примеру, не раз доводилось просыпаться с бешено колотящимся сердцем и пересохшим горлом на влажных от пота простынях. Но даже если меня во сне посещали жуткие кошмары, проснувшись, я ничего не мог вспомнить. А спутников спрашивать не решался. А.Беттик никогда не упоминал о своих снах (понятия не имею, видят ли андроиды сны); Энея же, хоть и помнила сновидения, явно не желала их обсуждать.
На второй день, когда мы собрались в библиотеке, девочка предложила «испробовать» космический полет. Я не понял, что она разумела, — ведь мы и так летели (вдобавок перед моим мысленным взором возникли геометрические фигуры из пространства Хоукинга). Услышав мои доводы, Энея засмеялась и попросила корабль убрать внутреннее силовое поле. Мгновенно наступила невесомость.
Мальчишкой я мечтал когда-нибудь оказаться в условиях нулевой гравитации. В армии, плескаясь в соленом Южном Море, я закрывал глаза и представлял, будто нахожусь в космосе.
Мои фантазии не имели ничего общего с действительностью.
Невесомость, особенно если она появляется внезапно, приводит в ужас. Если в двух словах, кажется, что стремительно куда-то падаешь.
Я ухватился за стул, однако он падал вместе со мной. Впечатление было такое, словно мы провели два дня в вагоне канатной дороги через Уздечку и вдруг канат оборвался. Мой вестибулярный аппарат тщетно пытался сохранить равновесие и установить, где верх, а где низ.
А.Беттик оттолкнулся то ли от пола, то ли от потолка и спокойно поинтересовался:
— Что-нибудь случилось?
— Нет, — со смехом ответила Энея. — Мы просто решили испробовать космос.
А.Беттик кивнул и нырнул головой вперед в колодец, по которому шел трап. Девочка тоже подплыла к трапу.
— Видите? — проговорила она. — В невесомости этот коридор превращается в вертикальную шахту. Как на старых спин-звездолетах.
— Это не опасно? — выдавил я, отпуская спинку стула и хватаясь за книжную полку. Тут мне бросилось в глаза, что вдоль полки тянется эластичный шнур, который удерживает на месте книги. Все незакрепленные предметы — книга, которую я оставил на столе, стулья, свитер, дольки недоеденного апельсина — плавали в воздухе.
— Ничуть, — отозвалась Энея. — Правда, в следующий раз надо будет все сначала закрепить.
— А разве поле… не…
С моей точки зрения, Энея плавала вниз головой, что изрядно меня раздражало вдобавок ко всем прочим неприятностям.
— Поле защищает пассажиров звездолета во время ускорения в реальном пространстве, — объяснила девочка, зависнув над колодцем. — Но в гиперпространстве ускорений не бывает, поэтому… Эй! — Она оттолкнулась от металлического стержня, который проходил через весь колодец, и бесстрашно устремилась вниз.
— Господи Боже, — прошептал я. Стоило мне отпустить полку, как я тут же отлетел к противоположной переборке, однако с грехом пополам сумел добраться до колодца и последовал за Энеей.
Мы забавлялись целый час: играли в невесомости в салки и прятки (между прочим, когда гравитация отсутствует, спрятаться можно буквально где угодно), гоняли, как футбольный мяч, пластиковый шлем из корабельного запаса, даже боролись (что оказалось гораздо труднее, чем можно было предположить). Когда я попытался схватить девочку, мы оба закувыркались в воздухе и врезались в конечном итоге в стену — а может, пол или потолок — одного из саркофагов на гибернационном уровне.
Под конец, когда мы уже подустали и вспотели (я обнаружил, что пот скапливается и образует нечто вроде завесы, которая висит у тебя перед носом, пока ты не передвинешься или она не попадет в струю воздуха из вентиляционного отверстия), Энея велела кораблю выдвинуть балкон. Я было вскрикнул от страха, но компьютер напомнил мне, что наружное силовое поле никуда не делось. Мы проплыли над прикрученным к полу «Стейнвеем», миновали поручни и очутились «на ничейной полосе», в пространстве между корпусом корабля и наружным полем. Звездолет предстал перед нами во всей своей красе, окруженный диковинными геометрическими фигурами, охваченный холодным сиянием пространства Хоукинга, которое складывалось и сжималось вокруг нас с частотой несколько миллиардов раз в секунду.
Потом мы возвратились (нам пришлось нелегко, поскольку отталкиваться было не от чего), предупредили по интеркому А.Беттика, чтобы он приготовился, и приказали кораблю восстановить внутреннее силовое поле. Признаться, я, подобно Энее, не смог удержаться от смеха, когда наши свитера, сандвичи, стулья и книги рухнули на ковер, залитый водой, что выплеснулась из стакана.
В тот же день, вернее, уже вечером (корабль притушил лампы, чтобы создать иллюзию темноты), я в одних носках, без ботинок, спустился в кают-компанию — перекусить перед сном — и услышал странные звуки.
— Энея! — тихонько окликнул я. Тишина. Я подошел к трапу, посмотрел вниз и улыбнулся, припомнив наши кульбиты. — Энея! — Ответа по-прежнему не было. Пожалев, что у меня нет фонаря, я начал спускаться.
Помещение освещали мониторы над саркофагами. Странные звуки доносились из того саркофага, который выбрала себе Энея. Девочка сидела ко мне спиной, завернувшись в одеяло, из-под которого торчал воротник рубашки Консула, приспособленной под ночнушку. Я опустился на колени рядом с саркофагом.
— Энея?
Девочка плакала, безуспешно стараясь справиться со слезами.
Я прикоснулся к ее плечу. Она повернулась. Глаза покраснели, припухли, щеки мокрые…
— Что стряслось, малышка? — прошептал я. Машинное отделение, где спал в своем гамаке А.Беттик, находилось на две палубы ниже, но благодаря колодцу с трапом слышимость на корабле была превосходной.
Понемногу девочка успокоилась.
— Извините, — выдавила она.
— Ничего. Что стряслось?
— Расскажу, если вы дадите мне платок.
Я пошарил в карманах халата, который когда-то принадлежал Консулу, но ничего не обнаружил. Полез в свой — и наткнулся на салфетку, в которую был завернут недоеденный сандвич. Я протянул салфетку Энее.
— Спасибо. — Девочка высморкалась. — Хорошо, что мы не в невесомости. А то повсюду бы плавали мои сопли.
Я усмехнулся:
— Что не так?
— Все. — Она сдавленно хихикнула. Я не сразу сообразил, что это за звук. — Мне страшно. Будущее, которое я знаю, пугает меня до смерти. Не имею ни малейшего представления, как мы проскочим мимо тех, кто будет нас ждать у Парвати… Я хочу домой, но никогда туда не вернусь. Все, кого я знала, кроме дяди Мартина, давным-давно умерли. А сильнее всего я скучаю по маме.
Я погладил девочку по голове. Ее мать, Ламия Брон, умерла за двести с лишним лет до сегодняшнего дня. Кости этой женщины уже успели обратиться в прах. А для Энеи Ламия Брон скончалась две недели назад.
— Все будет в порядке, — прошептал я, стискивая плечо Энеи.
Девочка кивнула и взяла меня за руку. Ее крохотная, мокрая от слез ладошка целиком уместилась в моей.
— Не хочешь заморить червячка? Как насчет пирожков из челмы с молоком?
— Спасибо, Рауль. Но я лучше лягу. — Энея пожала мою руку, перед тем как отпустить, и я внезапно осознал: Та-Кто-Учит, мессия или кем там суждено стать дочери Ламии Брон — обыкновенный ребенок, который играет днем и плачет по ночам.
Поднявшись по трапу, я оглянулся. Энея отвернулась к стенке, выбившаяся из-под одеяла прядь волос посверкивала в тусклом свете ламп.
— Спокойной ночи, милая, — прошептал я, зная, что она меня не слышит. — Все будет в порядке.
Глава 22
«Рафаил» стремительно приближался к вражескому звездолету, который только что вышел из гиперпространства. Сержант Грегориус и его гвардейцы стояли в открытом люке авизо. Облаченные в боевые скафандры, увешанные оружием — лучевыми пистолетами и винтовками, они занимали все свободное пространство. Солнце Парвати золотило визоры шлемов.
— Он у меня на прицеле, — раздался в наушниках голос капитана де Сойи. — Расстояние сто метров. Продолжаю сближение.
Теперь и гвардейцы увидели похожий на иглу корабль. Оба звездолета, надежно защищенные силовыми полями, обменивались залпами лучевых орудий. Визор Грегориуса сделался матовым, посветлел и вновь потемнел, оберегая глаза сержанта от ярких вспышек.
— Подходим к «мертвой зоне». Вперед!
Грегориус махнул рукой, и все трое одновременно сорвались с места. Из ранцевых двигателей вырвалось голубое пламя.
— Уничтожаю поле! — воскликнул де Сойя.
Соприкосновение защитных полей привело к их кратковременной аннигиляции, и этих секунд Грегориусу, Ки и Реттигу вполне хватило, чтобы преодолеть оставшееся расстояние.
— Ки, — произнес сержант. Капрал включил ранцевый двигатель и направился к носу вражеского звездолета. — Реттиг. — Стрелок двинулся на корму. Грегориус не стал гасить скорость, в последнее мгновение перекувырнулся, врубил двигатель — и уперся подошвами башмаков в корпус корабля. Сработали магниты. Сержант расставил ноги пошире, потом опустился на одно колено.
— На месте, — доложил Ки.
— На месте, — повторил секунду спустя Реттиг.
Грегориус снял обернутый вокруг пояса шнур и уложил его на корпусе звездолета. Теперь сержант находился внутри кольца диаметром чуть больше полутора метров.
— Начинаю отсчет, — сказал он в микрофон. — Три… два… один… Время!
Сержант прикоснулся к контроллеру у себя на запястье и невольно моргнул, когда над ним вдруг возник полог из полимерной ткани толщиной в считанные микроны. Десять секунд спустя он оказался в прозрачном мешке — этакий бронированный сперматозоид внутри громадного презерватива.
— Готово, — доложили Ки и Реттиг.
— Заряды. — Сержант прилепил к корпусу мину и вновь приложил палец к контроллеру. — Отсчет. — Корабль медленно вращался, включая то главный, то вспомогательные двигатели, однако силовое поле «Рафаила» вцепилось в него мертвой хваткой. — Пять… четыре… три… два… один… Взрыв!
Грохота, разумеется, не было, зато вспышка получилась на славу. В корпусе возникла дыра около метра в диаметре. Прозрачный мешок начал раздуваться, когда в него хлынул воздух вперемешку с пылью. То же самое происходило и у Ки, мешок которого был виден сержанту с того места, где он стоял. В наушниках засвистел ветер, потом все стихло. Датчики скафандра показывали, что в мешке теперь не вакуум, а кислород с водородом.
— Внутрь! — рявкнул Грегориус, срывая с плеча плазменную винтовку.
Невесомость застала сержанта врасплох — он весь подобрался, приготовившись упасть на палубу. Впрочем, ему потребовалось от силы пять секунд, чтобы приноровиться к обстановке.
Похоже на кают-компанию. Подушки, древний видеоэкран, книжные полки с настоящими книгами…
Из центрального колодца показалась человеческая фигура.
— Стоять! — крикнул сержант в микрофон. Его голос, усиленный коммом скафандра, раскатился по каюте. Фигура, сжимавшая что-то в руке, и не подумала подчиниться.
Грегориус выстрелил с бедра. Плазменный заряд проделал в теле человека дыру диаметром в добрый десяток сантиметров. Во все стороны брызнули кровь и потроха. Часть попала на скафандр сержанта, запачкала визор. Человек выронил предмет, который сжимал в руке, и Грегориус увидел, что это книга. Черт! Он убил безоружного. Теперь с него снимут очки.
— Наверху никого, — доложил Ки. — Спускаюсь.
— В машинном отделении девочки нет. Какой-то тип попытался удрать, пришлось его пристрелить. Иду выше.
— Скорее всего она у воздушного шлюза, — проговорил сержант. — Осторожнее, ребята. — Свет погас. Автоматически включились два фонаря — на шлеме скафандра и на прицеле плазменной винтовки. В лучах фонарей клубилась пыль, проплывали шарики крови и незакрепленные предметы.
Грегориус остановился у трапа. Снизу кто-то поднимался. Сержант наклонил голову, чтобы лучше видеть.
Это была не девочка. Луч фонаря высветил гигантскую фигуру с множеством рук и шипов и с горящими глазами. Решение следовало принимать немедленно: если он выпустит плазменный заряд, то, промахнувшись по фигуре, может попасть в девочку, а если промедлит… К сержанту протянулись когтистые лапы.
Перед тем как перебраться с корабля на корабль, Грегориус прикрепил к винтовке нейродеструктор. Сержант оттолкнулся от палубы, прицелился и нажал на курок.
Утыканная шипами фигура проплыла мимо: четыре руки безвольно повисли вдоль тела, алые глаза медленно тускнеют. «Надо же! — подумал Грегориус. — Сработало. Выходит, у этой штуки есть синапсы». Заметив краем глаза какое-то движение, сержант вскинул винтовку. Это оказался капрал Ки. Вдвоем они нырнули в колодец.
«Если кто-нибудь сейчас включит поле, — подумалось сержанту, — нам крышка. Надо учесть».
— Поймал, — сообщил Реттиг. — Она пряталась в одном из саркофагов.
Грегориус и Ки миновали главную палубу и очутились на гибернационном уровне. Фигура в боевом скафандре прижимала к себе ребенка. Темно-русые волосы со светлыми прядями, темные глаза; маленькие кулачки колотят по броне Реттига…
— Она, — сказал сержант и включил передатчик. — Сэр, задание выполнено. Девочка у нас. На этот раз двое людей и Шрайк.
— Принято, — откликнулся де Сойя. — Две минуты пятнадцать секунд. Впечатляет, сержант. Возвращайтесь.
Грегориус кивнул, бросил последний взгляд на девочку, которая уже перестала вырываться, и нажал на кнопку на передней панели скафандра.
* * *
Моргнув, сержант приподнялся и увидел своих товарищей: те лежали рядом, их скафандры были подключены к фантопликатору. Грегориус понял, что де Сойя для полноты ощущений и впрямь отключил внутреннее силовое поле «Рафаила». Сержант снял шлем, вытер мокрое от пота лицо и принялся помогать Ки, который стягивал скафандр.
С де Сойей они встретились в каютке. Разумеется, эта встреча могла состояться и в виртуальной реальности тактического тренажера, однако все предпочитали обсуждать тренировки вживую.
— Все прошло гладко, — заметил де Сойя, когда они уселись за стол.
— Чересчур гладко, — пробурчал сержант. — Не думаю, что Шрайка можно завалить «жезлом смерти». И с тем парнем на палубе я облажался… У него в руке была книжка.
— Вы поступили правильно, сержант. В таких случаях лучше не рисковать.
— Значит, двое безоружных? — подал голос Ки. — Честно говоря, сомнительно. Все равно что та дюжина головорезов с пушками на третьей тренировке. По-моему, нам нужно отрабатывать сценарий с Бродягами, причем на максимальном уровне сложности.
— Не знаю, не знаю, — протянул Реттиг. — Все повернулись к нему. — Девчонка до сих пор не получила ни царапины…
— Разве? — удивился Ки. — А пятая тренировка?
— Ну да, мы ее случайно взорвали вместе с кораблем. Но вряд ли такое произойдет на самом деле… Я лично не слышал, чтобы на кораблях стоимостью в сотни миллионов марок устанавливали механизмы самоуничтожения. Чушь собачья.
Ки, Грегориус и де Сойя переглянулись между собой и пожали плечами.
— Идея действительно не блестящая, — сказал капитан, — но я запрограммировал фантопликатор на перебор всех возможных…
— Ясно, сэр, — перебил Реттиг. Его голос таил в себе угрозу, как нож в руках бандита. — Но если дело дойдет до перестрелки, у девчонки гораздо больше шансов угодить под пулю, чем выходит по программе, вот и все.
Это была самая длинная тирада за все время пребывания Реттига на борту «Рафаила».
— Правильно, — проговорил де Сойя. — На следующей тренировке я это исправлю.
Грегориус покачал головой:
— Сэр, я бы советовал забыть про фантопликатор и заняться физическими упражнениями. — Он поднял руку с хронометром (мышцы еще не отошли от скафандра, поэтому все движения были несколько замедленными). — У нас осталось всего восемь часов.
— Согласен, — поддержал Ки. — Я предпочитаю тренироваться снаружи.
— Угу, — буркнул Реттиг.
— Хорошо, — сказал де Сойя. — Но сперва поедим. Двойные рационы. Между прочим, за последнюю неделю каждый из вас потерял по двадцать фунтов.
Грегориус подался вперед:
— Сэр, можно взглянуть на карту?
Пальцы де Сойи пробежали по клавиатуре. На мониторе высветилась эллиптическая траектория, выводящая «Рафаил» к точке выхода вражеского звездолета из гиперпространства. Эта точка мерцала красным.
— Проведем еще одну тренировку, уже без фантопликатора, потом пару часов поспим, проверим оборудование и будем ждать. — Капитан взглянул на свой хронометр, хотя монитор показывал и корабельное время, и расчетное время перехвата. — Если не случится ничего непредвиденного, девочка окажется у нас через семь часов сорок минут. И мы сразу отправимся на Пасем.
— Сэр, — проговорил Грегориус.
— Да, сержант?
— Прошу прощения, сэр, но в этой долбаной вселенной, которую состряпал Господь Бог, обязательно случается что-нибудь непредвиденное.
Глава 23
— Итак, — произнес я, — какой у тебя план?
Энея оторвалась от книги:
— Разве я говорила, что у меня есть план?
— До Парвати осталось меньше часа. — Я оседлал стул. — А ты еще неделю назад утверждала, что надо составить план — на случай, если нас ждут. Так что кончай темнить.
Энея со вздохом закрыла книгу. К нам присоединился и А.Беттик, поднявшийся из машинного отделения. На сей раз андроид сел вопреки своей привычке.
— Честно говоря, я так ничего и не придумала.
Этого-то я и опасался. Мы приятно проводили время на борту звездолета: много читали, много беседовали, развлекались — Энея разбиралась в го, отлично играла в шахматы, а в покер с ней лучше было не садиться; но, сколько я ни пытался, мне так и не удалось выяснить наших планов на будущее. Куда Энея намерена отправиться? Почему выбрала Возрождение-Вектор? С какой стати разыскивать Бродяг? Девочка упорно отказывалась отвечать на эти и другие вопросы. Зато ей не составило труда разговорить меня. Признаться, я мало общался с детьми, даже когда сам был ребенком (во-первых, в нашем караване детей вообще насчитывалось всего ничего, а во-вторых, юного Рауля куда больше занимала бабушка с ее историями), однако те, которых я встречал, не обладали ни любознательностью Энеи, ни умением слушать. По просьбе Энеи я рассказал, как был пастухом и помощником планировщика — тут она вся превратилась в слух, — как ходил на барже и сопровождал охотников… Девочку интересовало буквально все — за исключением разве что службы в армии. Пришлось пересилить себя и рассказать про Иззи — про то, как я воспитывал и натаскивал щенка, и про смерть собаки.
Время от времени Энея давала мне передохнуть и начинала тормошить А.Беттика. В таких случаях я подсаживался поближе. Побывавший на множестве миров андроид был свидетелем многих исторических событий: помнил, как возникла колония на Гиперионе во времена Печального Короля Билли, как бесчинствовал на Экве Шрайк, как отправились в путь участники последнего паломничества. Даже годы, проведенные рядом с престарелым Мартином Силеном, были, по его словам, далеко не скучными.
Насчет себя девочка предпочитала помалкивать. Лишь на четвертый день пути выяснилось, что она вошла в Сфинкс не только для того, чтобы спастись от преследования, но и чтобы отыскать в грядущем свое предназначение.
— То есть чтобы стать мессией? — уточнил я.
— Нет, — со смехом отозвалась Энея, — архитектором.
Я удивился. В «Песнях» ничего не говорилось о том, что мессия будет зарабатывать себе на жизнь, проектируя дома, да и старый поэт ни о чем таком не упоминал.
— Я всегда хотела стать архитектором. — Девочка пожала плечами. — Мне приснилось, что человек, который может меня научить, живет в этом времени. Я решила, что должна его найти.
— Научить тебя? — переспросил я. — А разве не ты Та-Кто-Учит?
Энея откинулась на подушки и вытянула ноги.
— Рауль, ну чему я могу научить? Мне всего двенадцать стандартных лет, я никогда раньше не покидала Гиперион… Больше того, я всю свою жизнь провела на Экве. Чему я могу научить? — Я промолчал. — Архитектор живет где-то там… — Девочка повела рукой, очевидно, разумея миры, входившие когда-то в Сеть.
— Кто он такой? — полюбопытствовал я. — Или это она?
— Он. Я не знаю, как его зовут.
— А где живет?
— Не знаю.
— Но время ты не перепутала? — Я постарался справиться с раздражением.
— Кажется, нет. — За ту неделю, что мы были знакомы, Энея крайне редко позволяла себе покапризничать, но сейчас, похоже, наступил как раз такой момент.
— Значит, тебе просто приснился сон…
— Не «просто сон», — проговорила девочка, садясь прямо. — Мои сны… Это больше, чем сны… Вы скоро поймете.
Я подавил тяжелый вздох:
— Допустим, ты стала архитектором. Что потом?
Энея принялась грызть ноготь — дурная привычка, от которой девочку следовало отучить.
— В каком смысле?
— Ну, старый поэт ожидает от тебя грандиозных свершений… К примеру, когда ты превратишься в мессию?
Энея встала:
— Не обижайтесь, пожалуйста, но почему бы вам не пойти в задницу и не оставить меня в покое?
Она извинилась за грубость, но, когда мы уселись за стеклянный столик в кают-компании (до выхода из гиперпространства оставалось около часа), мне вдруг вспомнился этот случай. Может, меня пошлют снова?
Ничего подобного не произошло. Энея начала грызть ноготь, спохватилась и вынула палец изо рта.
— Вы правы, нам нужен план. — Она повернулась к А.Беттику. — Есть идеи?
Андроид покачал головой:
— Мы с месье Силеном обсудили множество вариантов, но в конце концов пришли к выводу, что, если Орден нас опередит, все пропало. Впрочем, это маловероятно, поскольку скорость факельщиков меньше нашей.
— Не знаю, не знаю, — проговорил я. — Со слов охотников, которые прилетали на Гиперион, я понял, что у Ордена — или у Церкви — появились новые скоростные корабли…
— До нас доходили эти слухи, месье Эндимион, — откликнулся А.Беттик. — Но где же логика? Если Орден сумел создать такой двигатель — чего, между прочим, не удалось сделать Гегемонии, — его бы установили на все боевые и грузовые звездолеты…
Энея забарабанила пальцами по столу.
— Понятия не имею, как нас опередят, но они там будут. Я видела их во сне.
— Как насчет Шрайка? — поинтересовался я.
— То есть? — Девочка искоса поглядела на меня.
— Ну, на Гиперионе он объявился весьма кстати. Было бы неплохо, если бы он…
— Рауль! — воскликнула Энея. — Я вовсе не звала его на помощь! Господи, мне так жалко тех, кого он убил!
— Я знаю. — Желая успокоить девочку, я погладил ее по руке. Воспоминания о бойне, учиненной Шрайком в Долине Гробниц Времени, преследовали Энею до сих пор. — Извини. Дело в том, что, если нас и впрямь попытаются захватить, он…
— Нет, — перебила Энея. — Мне снилось, что кто-то препятствует нам попасть на Возрождение-Вектор, но Шрайк в моих снах не появлялся. Он не поможет. Придется выкручиваться самим.
— А Техно-Центр? — рискнул осведомиться я.
Энея напряженно размышляла — во всяком случае, она пропустила мой вопрос мимо ушей.
— Рассчитывать надо только на собственные силы. Или… Корабль!
— Да, мадемуазель Энея?
— Ты слушаешь?
— Разумеется.
— Можешь что-нибудь предложить?
— Способ, каким вы могли бы избежать встречи со звездолетами Ордена, ожидающими в системе Парвати?
— Да. — В голосе Энеи сквозило раздражение. Она частенько теряла терпение в разговоре с компьютером.
— К сожалению, нет. Я пытался вспомнить, каким образом уклонялся от встречи с местными властями Консул…
— И? — поторопила Энея.
— Как я уже говорил, моя память повреждена…
— Это мы знаем. Но ты помнишь, как вы дурачили местные власти?
— По-моему, мы просто отрывались от погони. Как вам известно, Бродяги модифицировали мое силовое поле и переделали двигатель, благодаря чему я достигаю скорости, необходимой для перехода в состояние С-плюс, гораздо быстрее, чем любой спин-звездолет… По крайней мере так было перед тем, как меня запрятали в башню.
А.Беттик сложил руки на груди и произнес, глядя на ту же переборку, на какую смотрела Энея:
— Иными словами, если корабли Ордена стартуют с Парвати или с низкой орбиты, ты прыгнешь на Возрождение-Вектор до того, как они успеют нас перехватить?
— Совершенно верно, — отозвался компьютер.
— Сколько времени займет оборот?
— Оборот?
— Ну да. Сколько времени потребуется на то, чтобы подготовиться к прыжку?
— Тридцать семь минут. Нужно проложить новый курс, рассчитать точку перехода и проверить все системы.
— А если корабль Ордена будет ждать в той самой точке, в которой мы выйдем из гиперпространства? — спросила Энея. — Больше Бродяги ничего на тебе не поменяли?
— Кажется, нет, — ответил компьютер. — Про силовые экраны вы знаете, но залпа лучевых орудий они не выдержат.
Вздохнув, девочка облокотилась на стол.
— Я ничего не могу придумать.
А.Беттик сидел с задумчивым видом; впрочем, вид у него всегда был задумчивый.
— Пока звездолет находился в башне, нам удалось обнаружить еще одну особенность…
— Какую же? — полюбопытствовал я.
— Благодаря Бродягам корабль приобрел свойства протея. — Андроид ткнул пальцем вниз. — К примеру, он может выдвигать балкон, выпускать крылья в атмосфере, обеспечивать свободный доступ воздуха снаружи на любой из уровней, причем минуя воздушный шлюз…
— Забавно, — проговорила Энея. — Но нам это вряд ли поможет, если только корабль не притворится факельщиком Ордена. Эй, корабль, ты на такое способен?
— Нет, мадемуазель Энея. Несмотря на все манипуляции Бродяг с пьезодинамикой, им не удалось обойти закон сохранения массы. — Компьютер сделал паузу, потом прибавил: — Мне очень жаль, мадемуазель Энея.
— Ерунда, — отмахнулась девочка. Внезапно она села прямо. Было настолько ясно, что ее осенила какая-то идея, что мы с А.Беттиком не стали ни о чем спрашивать.
— Корабль! — позвала Энея.
— Слушаю, мадемуазель.
— Ты можешь открыть корпус в любом месте?
— Да, мадемуазель Энея, практически в любом. Если не считать некоторых отсеков в машинном отделении…
— Меня интересуют жилые палубы. Ты можешь открыть их?
— Да.
— Если ты это сделаешь, воздух вырвется наружу?
— Мадемуазель Энея, — обиженно заявил компьютер, — такого я не допущу ни в коем случае. Внешнее силовое поле…
— Но палубы ты открыть сможешь? — допытывалась Энея. В ту пору я и не подозревал, какой она бывает настойчивой.
— Могу, мадемуазель Энея.
Мы с А.Беттиком молча слушали. Не могу говорить за андроида, но лично я не имел ни малейшего представления о том, к чему клонит девочка.
— Что, у нас появился план?
Энея криво усмехнулась. Впоследствии я окрестил про себя эту усмешку «гнусненькой».
— Скорее наметки. К тому же, если я ошибаюсь в своих предположениях, он все равно не сработает… — Уголки губ девочки опустились. — Боюсь, нам ничего не светит.
Я взглянул на хронометр.
— Скоро мы все узнаем. До выхода осталось сорок пять минут. Ты не хочешь поделиться своим планом?
Девочка принялась рассказывать. Ей потребовалось совсем немного времени. Когда она закончила, мы с андроидом переглянулись.
— Ты права. Во-первых, это не план, а во-вторых, он не сработает.
Энея с улыбкой взяла меня за руку и посмотрела на мой хронометр.
— У тебя сорок одна минута, чтобы придумать что-нибудь получше.
Глава 24
Двигаясь по эллиптической траектории, «Рафаил» мчался к солнцу Парвати на скорости в 0,3 световой. Авизо класса «архангел» производил странное впечатление — этакая мешанина геометрических фигур, из которой торчали в разные стороны антенны и стволы орудий и в глубине которой виднелись, словно попавшие туда по недоразумению, сферический жилой отсек и планетарный катер. Однако тому, кто осмелился бы на него напасть, не поздоровилось бы. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, звездолет приближался кормой вперед к расчетной точке выхода вражеского корабля из гиперпространства.
— До контакта одна минута, — произнес капитан де Сойя. Гвардейцы, занявшие позицию в люке, хранили молчание.
Де Сойя лежал, пристегнувшись ремнями, — рука в перчатке касается общего контроллера, нейрошунт связывает капитана с компьютером, вокруг мерцают индикаторы приборов… В наушниках слышалось дыхание гвардейцев. Он заметит вражеский корабль первым; солдаты, даже включив максимальное увеличение визоров, увидят его минуты через две после того, как звездолет выйдет из гиперпространства.
— Отмечено возмущение поля Хоукинга, угол тридцать девять градусов, координаты ноль-ноль-ноль, тридцать девять, ноль-девять-девять. Расстояние до точки выхода девятьсот километров. Относительная скорость девятнадцать километров в секунду. С вероятностью девяносто пять процентов можно утверждать, что других кораблей поблизости нет.
Внезапно вражеский звездолет возник на экране радара; его появление зафиксировали и все без исключения датчики.
— Есть! — воскликнул де Сойя. — Все идет по плану… Черт!
— Что случилось, сэр? — спросил сержант Грегориус. Гвардейцы проверяли скафандры и экипировку. До начала операции оставалось меньше трех минут.
— Они ускоряются вместо того, чтобы тормозить. — Капитан задал компьютеру новую программу и предупредил: — Держитесь. — Заработали вспомогательные двигатели, затем включился главный, и сила тяжести мгновенно возросла до ста сорока семи «g». — Скорости сравняются приблизительно через минуту. Постарайтесь оставаться внутри поля.
Сержант Грегориус промолчал.
Прошло около двух минут.
— Установлен визуальный контакт, — проговорил де Сойя.
Гвардейцы высунулись из люка. Грегориус заметил огненный шар, настроил поляризатор и отрегулировал резкость.
— Почти как на тренажере, — произнес Ки.
— Забудь об этом, — бросил сержант. — На тренажере все иначе. — Он знал, что его подчиненные не нуждаются в такого рода наставлениях, поскольку оба уже успели повоевать. Но сказывались три года, проведенные в военном лагере на Армагасте (от подобной привычки избавиться очень трудно).
— Ну и шустрый же! — воскликнул де Сойя. — Если бы мы были чуть дальше, наверняка не сумели бы его догнать. А так… Скорости сравняются через пять-шесть минут.
— Нам хватит и трех, сэр, — откликнулся Грегориус. — Только подведите поближе.
— Нас засекли. — «Рафаил» не имел экранов, которые делали бы корабль «невидимым» для вражеских радаров. Компьютер доложил, что на авизо нацелились всевозможные датчики. — Расстояние один километр. Скорость уменьшается. Силовые поля на максимуме. Огня пока не открывают. Восемьсот метров…
Грегориус, Ки и Реттиг взяли на изготовку оружие.
— Триста… Двести… — Вражеский корабль, который двигался с постоянным ускорением, не подавал признаков жизни. Что-то уж подозрительно легко… В ходе большинства тренировок де Сойя моделировал отчаянную погоню. Да, весьма подозрительно. — Мы на дистанции поражения. Пошли!
Швейцарские гвардейцы выскользнули из люка, ранцевые двигатели у них за спинами полыхнули пламенем.
— Контакт! — Силовой экран вражеского корабля сопротивлялся целую вечность — почти три секунды (на тренажере все происходило гораздо быстрее), — но наконец не выдержал. — Вперед! — крикнул капитан, но гвардейцы не нуждались в приказах. Они уже разделились, направляясь каждый к своему месту: Ки досталась позиция на носу, Грегориусу — на уровне, который на старинных схемах обозначался как «навигационный», а Реттигу — на корме, над машинным отделением.
— Готов, — доложил Грегориус. Секунду спустя ту же фразу повторили два других голоса. — Установить ловушки.
— Есть, — отозвался Ки.
— Есть, — отрапортовал Реттиг.
— На счет «один», — произнес сержант. — Три… два… один…
Полимерный «мешок» замерцал в солнечном свете.
Де Сойя поглядел на приборы. Ускорение возросло до двухсот тридцати «g». Если экраны откажут… Капитан отогнал шальную мысль. Чувствовалось, что «Рафаил» идет на пределе. Еще четыре-пять минут, и придется тормозить, иначе двигатели полетят ко всем чертям. «Быстрее», — мысленно приказал капитан гвардейцам, которых видел на тактическом дисплее и на видеоэкранах.
— Готов, — подал голос Ки.
— Готов, — сообщил Реттиг.
— Установить заряды, — распорядился Грегориус. — Начинаю отсчет. Пять… четыре… три…
— Капитан отец де Сойя! — произнес детский голосок.
— Стоп! — воскликнул капитан. На мониторах появилась картинка: та самая девочка, которую де Сойя видел три месяца назад в Сфинксе, сидела за роялем в кают-компании звездолета.
— Стоп! — эхом отозвался Грегориус. Пальцы сержанта замерли над контроллером на запястье. Солдаты наблюдали за происходящим через визоры, на которые передавалось изображение с корабля.
— Откуда ты знаешь, как меня зовут? — спросил де Сойя и тут же понял, что это не имеет никакого значения. Гвардейцам нужно проникнуть внутрь в течение трех минут, иначе «Рафаил» отстанет. Естественно, они отрабатывали на тренировках такой сценарий — когда солдаты действуют самостоятельно, захватывают корабль и немедленно начинают торможение, — но де Сойя оставлял этот вариант на крайний случай. Он нажал на кнопку, и на мониторе перед девочкой возникло его лицо.
— Добрый день, капитан. — Девочка казалась совершенно спокойной, что, учитывая обстоятельства, было весьма странно. — Если ваши люди попытаются проникнуть на корабль, я открою воздушный шлюз.
— Самоубийство — смертный грех, — проговорил де Сойя.
— Конечно, — согласилась девочка. — Но я не христианка. Вдобавок я скорее отправлюсь в ад, чем попаду к вам в лапы.
Де Сойя пригляделся повнимательнее. Похоже, она блефует. Рядом с ней нет никаких устройств…
— Капитан, — произнес Грегориус на тактической частоте, — если она откроет шлюз, я в два счета подведу «мешок». Корабль не успеет разгерметизироваться до конца.
Девочка не сводила с де Сойи глаз.
— Она не христианка, — объяснил капитан. — Неизвестно, сумеем ли мы ее оживить, если она погибнет.
— Сумеем, сэр, не сомневайтесь. Чтобы оттуда вышел весь воздух, нужно секунд тридцать, а то и больше. Я вполне успею до нее добраться. Давайте, сэр, не тяните.
— Я не шучу, — сказала девочка. В тут же секунду в том месте, где стоял капрал Ки, образовалось отверстие. Полимерный «мешок» капрала раздулся под напором воздуха точно шар. Ки швырнуло внутрь, затем поволокло к корме. Заработал ранцевый двигатель; с немалым трудом капралу удалось не попасть под плазменный выхлоп и выбраться из мешка.
— Капитан! — воскликнул Грегориус.
— Подождите, сержант. — Де Сойя почему-то беспокоился все сильнее. Пространство между звездолетами заполняли льдинки и коллоидные частицы.
— Если вы не отзовете своих людей, — продолжала девочка, — я полностью разгерметизирую корабль.
Воздушный шлюз распахнулся, под ногами Грегориуса возникла дыра на меньше двух метров в диаметре. Сержант, который, едва девочка произнесла последнюю фразу, прожег выстрелом из плазменной винтовки полимерный «мешок», увернулся от воздушной струи, включил ранцевый двигатель и перелетел на пять метров дальше. Если старинный чертеж, который они рассматривали на тренировках, соответствует действительности, значит, девчонка прямо под ним. Пускай взрывает этот отсек — он как раз успеет схватить ее и доставить на «Рафаил». На все уйдет от силы минуты две. Грегориус сверился с картинкой на тактическом дисплее: Реттиг, который также своевременно среагировал на очередной выкрутас девчонки, занял позицию в трех метрах от корпуса.
— Капитан! — позвал сержант.
— Подождите, — повторил де Сойя. Девочке он сказал: — Не бойся, мы не причиним тебе зла…
— Тогда отзовите своих людей. Немедленно! Или я исполню свою угрозу.
Время словно замедлило бег, пока Федерико де Сойя прикидывал, как поступить. До того момента, когда придется начать торможение, оставалось меньше минуты — об этом свидетельствовали мерцавшие красным индикаторы и звуковые сигналы тревоги. Корабль не справлялся с перегрузками. Не хочется бросать своих людей на произвол судьбы, но девочка гораздо важнее. У него четкий, недвусмысленный приказ: доставить ребенка живым…
Тактический дисплей отливал алым — верный признак того, что пора тормозить, иначе сработает блокировка. Капитан де Сойя настроил передатчик так, чтобы его голос был слышен на всех частотах.
— Грегориус, Ки, Реттиг! Возвращайтесь на «Рафаил»! Это приказ.
Грегориуса захлестнула слепая ярость, накатившая, точно волна космического излучения, однако сержант справился с эмоциями. В конце концов он был швейцарским гвардейцем, а это ко многому обязывало.
— Слушаюсь, сэр. — Грегориус снял с корпуса мину, оттолкнулся и полетел в направлении «архангела». За ним устремились две фигуры в боевых скафандрах. Силовой экран отключился ровно на столько, сколько потребовалось гвардейцам, чтобы миновать границу между полями. Добравшись до «Рафаила», Грегориус ухватился за скобу и буквально запихнул в открытый люк подоспевших Ки и Реттига. Затем забрался следом, убедился, что все в порядке, и произнес: — Мы на месте, сэр.
— Расходимся, — проговорил де Сойя на общей частоте, чтобы слышала девочка, и отключил тактический канал, а потом нажал несколько кнопок.
«Рафаил» резко сбросил скорость и начал отставать. Де Сойя маневрировал, стараясь не угодить под струю плазменного выхлопа: показания датчиков свидетельствовали, что вражеский звездолет безоружен, однако плазменный «хвост», растянувшийся на сотню километров, — оружие пострашнее «жезла смерти». Капитан установил силовые экраны на максимальную мощность и передал управление ими компьютеру, готовому среагировать на опасность в миллионную долю секунды.
Судя по тому, что звездолет, на котором находилась девочка, продолжал набирать скорость, Парвати Энею нисколько не интересовала.
Может, у нее назначено рандеву с Бродягами? На орбите только патрульные катера, но над плоскостью эклиптики может находиться целый боевой Рой…
Ответ на свои вопросы капитан получил спустя двадцать минут, когда «Рафаил» отставал от вражеского звездолета на сотни тысяч километров.
— Отмечено возмущение поля Хоукинга, — сообщил де Сойя гвардейцам, по-прежнему не покидавшим шлюза. — Корабль готовится к прыжку.
— Куда? — спросил Грегориус, в голосе которого не было и намека на недавний прилив ярости.
Прежде чем ответить, капитан сверился с датчиками.
— К Возрождению-Вектор.
Гвардейцы промолчали, однако де Сойя догадывался, что всех троих одолевает любопытство. Почему именно Возрождение-Вектор? Это цитадель Ордена… Два миллиарда христиан, десятки тысяч солдат, сотни кораблей… Почему?
— Быть может, она не знает, куда летит, — проговорил капитан. Он включил тактический дисплей и воспарил над плоскостью эклиптики. У него на глазах крошечная алая искорка мигнула и исчезла из системы Парвати. «Рафаил» по-прежнему двигался кормой вперед, до точки перехода было около пятидесяти световых минут. Де Сойя отключил дисплей, проверил все системы и сказал: — Поднимайтесь и не забудьте прихватить экипировку.
Капитан не поинтересовался мнением подчиненных. Не стал обсуждать, прыгать ли в пространство Возрождения-Вектор, — компьютер уже проложил курс, и «архангел» разгонялся для прыжка; не спросил, согласны ли они снова умереть. Прыжок будет не менее фатальным, чем предыдущий, зато авизо на пять месяцев опередит звездолет Энеи. Единственное, чего никак не мог решить де Сойя, — ждать или нет появления в системе Парвати «Святого Антония».
Пожалуй, не стоит. И не из-за того, что некогда, — подумаешь, лишние несколько часов при форе в пять месяцев! — а просто потому, что невтерпеж. Де Сойя приказал компьютеру приготовить буй-транспондер с распоряжениями для капитана Сати: немедленно прыгнуть к Возрождению-Вектор — на прыжок у факельщика уйдет десять дней корабельного времени и те же пять месяцев объективного — и приготовиться вступить в бой по выходе из гиперпространства.
Запустив буй и отменив боевую тревогу на Парвати, де Сойя повернулся к своим спутникам:
— Я знаю, вы разочарованы.
Лицо Грегориуса напоминало маску, однако капитан догадывался, о чем думает сержант: «Тридцать секунд — и я бы ее схватил».
Переживет. Де Сойя командовал людьми свыше десяти лет и не испытывал ни малейших угрызений совести, отправляя на верную смерть куда более храбрых и преданных солдат. Поэтому чувства чернокожего гиганта его нисколько не интересовали.
— Мне показалось, девочка была готова выполнить свою угрозу. — Тон, каким были сказаны эти слова, давал понять: доводы в пользу противного и споры тут неуместны и о них лучше забыть раз и навсегда. — Впрочем, теперь уже все равно. Нам известно, куда она направляется. Возрождение-Вектор — единственная, пожалуй, в этом секторе планета, мимо которой не может проскользнуть незамеченным ни один корабль и огневой мощи которой хватит, чтобы справиться с целым Роем. У нас в запасе пять месяцев, чтобы приготовить девочке теплый прием. — Де Сойя перевел дыхание. — Вы хорошо потрудились, и не ваша вина, что все закончилось неудачей. Я прослежу, чтобы сразу после прибытия на Возрождение-Вектор вас направили в вашу прежнюю часть.
— Прошу прощения, святой отец, — произнес Грегориус, даже не посмотрев на своих товарищей (очевидно, сержант не сомневался, что те разделяют его чувства), — но если бы решение зависело от нас, мы бы остались на «Рафаиле». Честно говоря, сэр, нам всем хочется поймать эту девицу и доставить ее на Пасем.
Де Сойя постарался скрыть удивление:
— Гм… Посмотрим, что можно сделать. Возрождение-Вектор — главная база космического флота, там наверняка много высших чинов… Посмотрим, сержант. А пока давайте займемся делом. Прыжок через двадцать пять минут.
— Сэр!
— Да, капрал Ки?
— Сэр, вы не могли бы исповедать нас перед смертью?
Справиться с изумлением стоило немалого труда.
— Хорошо, капрал. Через десять минут приходите в каюту.
— Спасибо, сэр, — улыбнулся Ки.
— Спасибо, — повторил Реттиг.
— Спасибо, святой отец, — произнес Грегориус.
Гвардейцы стянули с себя громоздкие боевые скафандры. Де Сойе, который наблюдал за ними, вдруг показалось, что он видит будущее; в следующую секунду капитан ощутил на своих плечах тяжкое бремя ответственности.
Господи, дай мне сил исполнить волю Твою… во славу Иисуса Христа… аминь.
Капитан Федерико де Сойя повернулся к приборам и в последний раз перед смертью стал проверять, как функционируют бортовые системы.
Глава 25
Однажды я спросил у очередного охотника, которого сопровождал в походе по болотам (это был пилот дирижабля, летавшего раз в неделю с Эквы на Аквилу через Девять Хвостов), что собой представляет его работа. «Хочешь знать, как пилотировать дирижабль? — усмехнулся он. — Помнишь старую поговорку: «Долгие часы скуки заканчиваются минутами паники»? Это про нас».
Путешествие в космосе во многом соответствовало старой поговорке. Не то чтобы мне было скучно — сам корабль с его библиотекой, древней проекционной нишей и замечательным роялем вызывал у меня живейшее любопытство, не говоря уж про моих спутников, — однако периоды приятного ничегонеделания перемежались интерлюдиями, во время которых в кровь выбрасывалось изрядное количество адреналина.
Сидеть так, чтобы тебя не было видно на экране, и слушать, как девочка обещает покончить с собой — и с нами, — если нас не оставят в покое, было жутковато. За те десять месяцев, в течение которых подвизался в качестве крупье на Девяти Хвостах, в Феликсе, я повидал множество игроков, а потому глаз у меня наметанный; так вот, этой девице только в покер играть! Когда все кончилось, я поинтересовался, выполнила бы она свою угрозу; Энея гнусненько усмехнулась и неопределенно повела рукой, словно отгоняя мой вопрос. За последующие месяцы и годы я привык к этому жесту.
— А откуда ты узнала, как зовут капитана?
Я ожидал услышать что-нибудь насчет откровения, доступного лишь тем, кому суждено стать мессиями, однако Энея не оправдала моих ожиданий.
— Неделю назад он встречал меня у Сфинкса. Кто-то окликнул его тогда по имени.
Что-то не верится. Если капитан действительно встречал Энею у Сфинкса, он наверняка был в боевом скафандре, то бишь окликать его могли только по рации. Но зачем девочке обманывать меня? И вообще, с какой стати я стал искать логику и здравый смысл? Ведь за то время, что мы знакомы с Энеей, мне уже доводилось убеждаться: во всем, что с ней связано, нет ни того, ни другого.
Девочка отправилась вниз принять душ, а корабль попытался успокоить нас с А.Беттиком:
— Не волнуйтесь, господа. Я бы все равно не позволил вам погибнуть.
Мы с андроидом переглянулись. Нам обоим пришла одна и та же мысль: действует ли компьютер самостоятельно или Энея вертит им как хочет?
День за днем я размышлял о сложившихся обстоятельствах и о том, как я к ним приспосабливаюсь. Я осознал, что труднее всего мне свыкнуться со своей пассивностью, даже безразличием. Двадцатисемилетний мужчина, бывший солдат, успевший повидать мир — хотя бы отсталый Гиперион, — допустил, чтобы его шкуру спасала маленькая девочка! С А.Беттиком все понятно: андроид в конце концов запрограммирован подчиняться людям и не предпринимать каких-либо действий по собственной воле. Но вот со мной… Мартин Силен просил меня защищать девочку, сопровождать ее повсюду и беречь от всевозможных неприятностей. До сих пор я только полетал на ковре-самолете да спрятался за роялем, предоставив Энее разбираться с капитаном боевого звездолета…
Этот корабль, кстати сказать, весьма заинтересовал всех нас, включая и компьютер. Если Энея не ошиблась, если капитан де Сойя и впрямь присутствовал при открытии Сфинкса, значит, Орден нашел «короткую дорожку» сквозь пространство Хоукинга. Признаться, я не просто забеспокоился, а перепугался до полусмерти.
Однако Энея, похоже, не слишком тревожилась. Время шло, мы вернулись к привычному, хоть и вызывавшему иногда легкие приступы клаустрофобии распорядку дня: после еды Энея играла на рояле, потом мы собирались в библиотеке, просматривали голофильмы и бортовые журналы, пытаясь понять, куда же летал Консул (догадок было великое множество, но ни одна не подтверждалась фактами), или играли в карты (девочка оказалась на деле весьма достойной соперницей), а порой занимались физическими упражнениями — по моей просьбе компьютер устанавливал в колодце с трапом силу тяжести в одну целую три десятых «g», и мы минут сорок пять бегали вверх-вниз. Не знаю, как повлияли эти упражнения на мой организм в целом, но ноги у меня вскоре стали как у какого-нибудь слонопотама с планеты наподобие Юпитера.
Сообразив, что может по желанию менять гравитацию в отдельно взятом отсеке, Энея разошлась. Спала она в невесомости, а столик в библиотеке дважды в день превращали в бильярдный, причем сила тяжести каждый раз менялась. Как-то ночью я услышал странные звуки, отложил книгу, спустился в кают-компанию и обнаружил, что переборки сделались прозрачными, рояль стоит на выдвинутом балконе, а между балконом и внешним силовым экраном плавает водяная сфера восьми, а то и десяти метров в диаметре.
— Что за черт? — воскликнул я.
— Здорово, правда? — Над поверхностью воды показалась голова Энеи. Девочка висела в воздухе метрах в двух над балконом. — Идите сюда! Вода теплая.
Я попятился, словно увидел привидение, схватился за поручень и попытался представить, что будет, если силовое поле исчезнет хотя бы на секунду.
— А.Беттик знает?
Девочка пожала плечами. За прозрачными переборками беспрерывно меняли очертания пульсировавшие, отражавшиеся в воде геометрические фигуры самой причудливой расцветки. На поверхности голубой сферы, которая напомнила мне голографические изображения Старой Земли, лопались пузырьки воздуха.
Энея нырнула — я различил сквозь рябь очертания стройной фигурки — и вынырнула метрах в пяти от того места, где скрылась под водой. Взметнулись и опали брызги (сказалась, должно быть, разность полей), и по поверхности сферы побежали концентрические окружности.
— Идите сюда, — повторила девочка. — Не пожалеете.
— У меня нет плавок.
Энея перевернулась на живот и вновь нырнула, потом высунула голову из воды — на мой взгляд, девочка висела вверх тормашками — и заявила:
— Кому нужны какие-то плавки?!
Что ж, она плавала голышом — когда девочка ныряла, я успел это заметить. Гладкая спинка, совсем еще детские ягодицы, от которых, словно от белых грибов, торчащих из воды, отражался пульсирующий свет… В общем и целом двенадцатилетняя Энея, наш грядущий мессия, возбуждала приблизительно так же, как голослайд с плещущимися в ванне внучатами тетушки Мерт.
— Идите сюда, Рауль. — Энея в очередной раз скрылась под водой.
Помедлив, я скинул верхнюю одежду и остался в белье, в котором обычно спал. На мгновение замер, пытаясь сообразить, как добраться до сферы, что плавала в нескольких метрах у меня над головой; потом услышал откуда-то сверху: «Прыгай, глупенький» — и прыгнул.
Подскочив метра на полтора, я очутился в невесомости. А вода оказалась чертовски холодной.
Я даже вскрикнул, чувствуя, как у меня сжимается все, что способно сжиматься, и задрыгал ногами, стараясь не уйти под воду с головой (что было не так-то просто, ведь самодельный бассейн по форме представлял собой сферу). Шум стоял такой, что вскоре в кают-компании появился А.Беттик. Сложив на груди руки, андроид уселся на поручень.
— Вода теплая, — выговорил я, весь дрожа от холода. — Иди сюда!
Андроид улыбнулся, как отец, снисходительно наблюдающий за проказами детей, и покачал головой. Я пожал плечами и нырнул.
Понадобилась всего пара секунд, чтобы вспомнить, что плавание похоже на передвижение в невесомости и что передвижение в невесомости сильно смахивает на плавание. Сопротивление воды напоминало о том, что я все-таки плаваю, зато невесомость добавляла остроты ощущений: плывешь под водой и вдруг натыкаешься на пузырек воздуха; вдохнул не выныривая и поплыл дальше.
На какой-то миг я потерял ориентацию, потом врезался в пузырь диаметром около метра, с трудом удержался в пределах сферы и увидел прямо над собой голову и плечи Энеи. Девочка помахала мне рукой. Кожа у нее была синяя от холода.
— Здорово, да? — проговорила Энея, просунув голову в пузырь, и обеими руками откинула со лба мокрые волосы, которые сейчас выглядели почти черными. Глядя на девочку, я попытался представить себе ее мать, темноволосую лузианку, но не сумел, что было вполне естественно — мне ведь не доводилось видеть Ламию Брон воочию, я только помнил, как о ней говорилось в «Песнях». — Труднее всего не выскочить наружу. Давай кто быстрее доплывет до края! Спорим, я первая?
Энея устремилась вперед. Я поплыл следом, но совершил ошибку, решив проскочить сквозь пузырь. Господи! Надеюсь, ни девочка, ни А.Беттик не видели, как я молотил руками и дрыгал ногами! Короче, я отстал на полминуты. Край сферы плавно загибался в обе стороны этаким водопадом; балкона и корпуса корабля видно не было, зато над нами сверкали, съеживались и вновь увеличивались в размерах геометрические конструкции пространства Хоукинга.
— Жаль, что не видно звезд. — Я с удивлением понял, что сказал это вслух.
— Мне тоже, — отозвалась Энея. По-моему, на запрокинутом к свету лице девочки промелькнула грусть. — Я замерзла, — пожаловалась она. Чувствовалось, еще немного — и у нее застучат зубы. — В следующий раз надо будет сказать кораблю, чтобы сделал воду потеплее.
— Вылезай, — посоветовал я. Мы поплыли вдоль края сферы. Нам навстречу поднялся балкон — высокая стена, на которой с полотенцем в руках стоял А.Беттик.
— Закрой глаза, — сказала девочка.
Я послушался. Когда Энея выскользнула из воды, мне в лицо ударили брызги. Мгновение спустя босые ноги зашлепали по балкону. Я выждал несколько секунд и открыл глаза. А.Беттик закутал девочку в огромное полотенце. Зубы у Энеи стучали вовсю.
— Осторожнее, — проговорила она. — Когда вылезаешь, надо сразу развернуться, иначе можно сломать шею.
— Спасибо. — У меня не было ни малейшего желания выбираться на балкон при людях. Когда А.Беттик увел Энею, я выпрыгнул из сферы, замахал руками и ногами, чтобы развернуться на сто восемьдесят градусов, перестарался и с размаха плюхнулся на задницу.
На поручне висело второе полотенце, которое оставил предусмотрительный А.Беттик. Я вытер лицо и произнес:
— Корабль, можешь убрать микрополе.
В ту же секунду я понял свою ошибку, но прежде чем успел отменить распоряжение, на балкон обрушились сотни галлонов воды. Вообразите себе водопад на полноводной реке, причем вода должна падать с приличной высоты… Если бы я стоял прямо под ним, меня, вероятно, расплющило бы в лепешку (бесславный конец великого предприятия!). Но поскольку до того места, где я сидел, было около двух метров, вода просто подхватила Рауля Эндимиона, прижала к поручню, угрожая увлечь за собой на корму и утопить, как мошку, на дне «кувшина», образованного силовым экраном.
Я изо всех сил вцепился в поручень.
— Прошу прощения. — Компьютер отрегулировал силу тяжести. Стремительный поток мгновенно утихомирился (что удивительно, несмотря на силу течения, в проекционную нишу не попало ни капли).
Я подобрал промокшее полотенце и вернулся в кают-компанию. Переборки утратили прозрачность, вода, должно быть, очутилась на прежнем месте, в резервуарах. Потом компьютер ее очистит и сделает питьевой, либо использует для создания реактивной массы… Шальная мысль заставила меня замереть.
— Корабль?
— Слушаю, месье Эндимион.
— Это твои штучки? Шутник нашелся!
— Вы имеете в виду тот факт, что я подчинился, когда вы приказали убрать микрополе?
— Ну да.
— Месье Эндимион, это был всего лишь маленький недочет. Я не умею шутить и не страдаю от наличия чувства юмора.
— Гм… — Не могу сказать, что ответ компьютера меня убедил. Я взял мокрую одежду и обувь и направился к себе в каюту, чтобы обсушиться и переодеться.
На следующий день я навестил А.Беттика в так называемом машинном отделении. Это помещение и впрямь слегка напоминало машинное отделение океанского лайнера — кругом трубы, какие-то агрегаты непонятного назначения, узкие мостики, металлические платформы. Впрочем, андроид продемонстрировал, что помещение служит в первую очередь чем-то вроде интерфейса между двигателями и генераторами силовых полей. Он показал мне устройства, сильно смахивавшие на фантопликаторы; признаться, смоделированная компьютером реальность меня никогда особенно не привлекала, поэтому, осмотрев наш звездолет в виртуальном пространстве, я отключился и присел рядом с гамаком А.Беттика. Андроид рассказал, что корабль готовили к полету на протяжении десятилетий: ему даже начало казаться, будто полет не состоится. Я уловил в его голосе облегчение: А.Беттик явно радовался тому, что оказался в космосе.
— Ты изначально планировал полететь с человеком, которого Мартин Силен выберет на роль спасителя девочки?
Андроид не отвел глаз:
— Последние сто лет, месье Эндимион, я лелеял эту мысль, но не рассчитывал, что моя мечта осуществится. Она стала явью благодаря вам. Большое спасибо.
Его благодарность была настолько чистосердечной, что я даже смутился.
— Не за что. — Я решил сменить тему. — Полагаю, на Возрождении-Вектор нам готовят теплую встречу.
— Скорее всего. — Подобная перспектива, похоже, ничуть не пугала андроида.
— Как по-твоему, они и во второй раз попадутся на уловку Энеи?
— Вряд ли. — А.Беттик покачал головой. — Им приказано захватить девочку живой, но теперь они будут действовать решительнее.
— А ты уверен, что она блефовала? Мне показалось, она на деле собиралась выпустить воздух из нашего отсека.
— Сомневаюсь. — А.Беттик заметил мою вопросительно приподнятую бровь. — Конечно, я не слишком близко знаком с девочкой, но ее мать, как и всех остальных паломников, успел достаточно хорошо узнать. Ламия Брон любила жизнь и уважала желания других. Полагаю, будь мадемуазель Энея одна, она бы выполнила свою угрозу, но наши с вами жизни ни за что не подвергла бы опасности.
Ответить мне было нечего. Мы заговорили о другом — о цели нашего путешествия и о том, насколько изменились бывшие миры Сети после Падения.
— Если мы совершим посадку на Возрождении-Вектор, ты нас оставишь?
— Оставлю? — А.Беттик откровенно изумился. — Почему я должен вас оставить?
Я повел рукой.
— Ну… Мне подумалось… Я всегда считал, что ты хочешь обрести свободу, а потому расстанешься с нами на первой же более или менее цивилизованной планете… — Чувствуя себя полным идиотом, я замолчал.
— Я обрел свободу, когда вы взяли меня с собой, — проговорил андроид и улыбнулся. — Кроме того, месье Эндимион, на Возрождении-Вектор я никак не сойду за местного жителя.
Он сам затронул тему, к которой я подбирался уже давно.
— Ты можешь поменять цвет кожи. Прямо здесь, в автоматической операционной корабля… — Меня остановило выражение лица А.Беттика.
— Месье Эндимион, — произнес он, — вам известно, что андроидов не программировали. У них не было даже первичных параметров и азимотиваторов, как у ранних моделей ИскИнов, которые затем эволюционировали в Техно-Центр. Тем не менее в нас заложили определенные… э-э… инстинкты, главный из которых, естественно, — подчиняться человеку, если тот отдает разумный приказ, и не допускать, чтобы ему причинили вред. Мне говорили, что этот азимотиватор гораздо древнее биоинженерии и роботехники. Один из инстинктов касается цвета кожи.
— Но ведь ты можешь его изменить, верно? Если бы от цвета твоей кожи зависело, выживем мы или нет, неужели бы ты его не поменял?
— Конечно, поменял бы. Я существо, наделенное свободой воли. Тем более если бы у меня была столь сильная азимотивация, как стремление не допустить, чтобы вам с мадемуазель Энеей причинили вред… Но перемена цвета доставила бы мне много неприятных ощущений.
Так толком ничего и не поняв, я все же утвердительно кивнул, и мы сменили тему.
В тот же день я решил снова проверить, чем мы располагаем и на что можем рассчитывать. Находки отчасти превзошли мои ожидания, причем некоторые были настолько древними, что пришлось уточнять у компьютера, для чего они предназначались. Впрочем, назначение большинства предметов не вызывало сомнений — скафандры, обыкновенные и для работы в экстремальных условиях, четыре разборных мини-катера в специальных нишах, мощные фонари, все необходимое, чтобы разбить лагерь, осмотические маски, акваланги в комплекте с ластами и гарпунами, один электромагнитный пояс, три набора инструментов, два медпакета, содержимое которых отвечало самым высоким требованиям, шесть приборов ночного видения и инфракрасных визоров, то же количество шлемов с микрофонами и видеокамерами, а также комлоги. Я вырос на планете, где не существовало инфосферы, поэтому с комлогами дела не имел, и мне пришлось обращаться за сведениями к компьютеру. Среди комлогов были как старинные — тонкий серебряный браслет из тех, что были в моде десятки лет назад, — так и неизмеримо более древние, весьма увесистые и размерами с книгу. Все можно было использовать в качестве коммуникаторов и хранилищ информации, через каждый не составляло труда подключиться к местной инфосфере и — в особенности через ранние модели — к планетарным мультилиниям и мегасфере.
Я подержал один из браслетов на ладони. Он почти ничего не весил. Бесполезная штучка. Со слов охотников мне было известно, что на некоторых планетах возникли примитивные инфосферы — к числу таких планет относилась и Возрождение-Вектор, — однако мультилинии, столь оживленные в былые времена, по-прежнему бездействовали… Я хотел было положить комлог обратно в обитую изнутри бархатом коробку.
— Рекомендую держать при себе, — сказал корабль, — особенно если вы собираетесь время от времени покидать борт.
— Почему? — спросил я, оглянувшись.
— Я бы мог загрузить в него всю информацию, которой располагаю. Она может вам пригодиться.
Я пожевал губу, прикидывая, стоит ли связываться с компьютером, у которого не все в порядке с памятью. И вдруг мне отчетливо послышался голос бабушки: «Никогда не пренебрегай знаниями, Рауль. В жизни человека, который стремится постичь, как устроена вселенная, важнее знаний только любовь и честность».
— Хорошая мысль. — Я защелкнул браслет на запястье. — Когда начнешь загрузку?
— Уже закончил.
Перед тем как мы прыгнули к Парвати, я уже проверил оружие и окончательно удостоверился, что с таким арсеналом нам не справиться даже с одним швейцарским гвардейцем. Но теперь меня интересовало другое.
Вы замечали, насколько старомодными выглядят бывшие в употреблении вещи? Скафандры, мини-катеры, фонари — да практически все на борту звездолета казалось древним, чуть ли не ветхим. К примеру, на корабле не было ни единого силового скафандра; все без исключения предметы своими очертаниями и цветом походили на исторические голограммы. Но вот что касается оружия… Не менее старинное, чем все остальное, оно было мне хорошо знакомо.
Консул, по всей видимости, был заядлым охотником. Я обнаружил пять или шесть дробовиков, которые хранились в рундуке в полном соответствии с правилами. С любым из них можно было хоть сию минуту отправляться на болота стрелять уток. Среди них нашлась и маленькая двустволка калибра ноль триста десять, и винтовка двадцать восьмого калибра. Я выставил в коридор помповое ружье шестнадцатого калибра и положил рядом коробку с патронами.
Лучевое оружие заставило меня восхищенно присвистнуть. Консул явно принадлежал к числу коллекционеров, ибо эти винтовки помимо своего прямого назначения являлись также настоящими шедеврами — затейливая резьба на прикладах, вороненая сталь, ручная работа… За тысячелетие с лишним, которое отделяло нас от двадцатого века, когда производство смертоносного, дешевого и уродливого, как металлические дверные запоры, оружия было поставлено на поток, некоторые люди, включая и нас с Консулом, научились ценить красоту предметов, изготовленных вручную и в ограниченном количестве. Моему взгляду предстали охотничьи карабины, плазменные винтовки (в армии мне растолковали, что плазменные заряды, естественно, представляют собой сгустки энергии, а выстрел всего-навсего придает им ускорение); два обильно украшенных резьбой лазерных ружья (ну и сочетаньице, не поймешь, что древнее — оружие или название), похожих на то, из которого месье Херриг не так давно (Господи!) застрелил Иззи, иссиня-черная универсальная десантная винтовка ВКС — очевидно, наподобие той, какую привез триста лет назад на Гиперион полковник Федман Кассад; громадный винчестер, из которого Консул, должно быть, стрелял на какой-нибудь планете динозавров, и три пистолета. «Жезлов смерти» в коллекции не было, что меня сильно обрадовало: терпеть не могу эту гадость.
Я прихватил плазменную и десантную винтовки, а также один пистолет.
Винтовка ВКС выглядела по сравнению с остальными просто уродиной, но я быстро понял, почему многие считали это оружие незаменимым. Она объединяла в себе плазменную винтовку калибром восемнадцать миллиметров, лучемет с регулировкой мощности и гранатомет, позволяла стрелять пучками электронов, самонаводящимися дротиками и осветительными зарядами — в общем, с ее помощью нельзя было разве что приготовить обед. (Впрочем, в полевых условиях не составляло труда устранить этот недостаток — следовало только установить луч на малую мощность.)
Перед прыжком к Парвати я прикидывал, не встретить ли гвардейцев с десантной винтовкой наперевес — но сообразил, что современные боевые скафандры выдержат ее огонь, и, честно говоря, испугался, что моя попытка только разозлит солдат Ордена.
Теперь я пригляделся к винтовке повнимательнее: если нам придется покинуть корабль и если мы столкнемся с каким-нибудь дикарем или олухом вроде тех, что служили в гиперионских силах самообороны, нечто подобное вполне может пригодиться. В конце концов, правда, я решил ее не брать: во-первых, она была страшно тяжелой — чтобы постоянно ходить с таким оружием, требовался старинный скафандр ВКС с экзоскелетом и автономным питанием; во-вторых, под рукой не имелось ни дротиков, ни гранат, ни плазменных обойм, а лучемет следовало время от времени заряжать. Я положил винтовку обратно. А может, она действительно принадлежала легендарному полковнику Кассаду? С одной стороны, винтовка, что называется, не вписывалась в коллекцию Консула, с другой — Консул знал Кассада и мог сохранить оружие в память о товарище.
Я спросил у компьютера, но тот, естественно, не помнил.
— Надо же, — пробормотал я. — Как странно!
Пистолеты выглядели даже древнее, чем десантная винтовка, однако внушали оптимизм. Каждый из них являлся произведением искусства, но заряжался такими обоймами, которые можно было приобрести по сей день — по крайней мере на Гиперионе (за миры, на которых нам предстояло побывать, я, разумеется, поручиться не мог). Самым крупным был пистолет-пулемет Штайнера-Джинна калибра ноль шестьдесят. Оружие серьезное, но слишком увесистое: обоймы весили почти столько же, сколько пистолет, да и патронов к нему требовалось громадное количество, ибо он стрелял очередями. Я положил «Штайнер» на место и взял второй пистолет. Маленький и легкий, тот заряжался дротиками и вполне мог оказаться прадедушкой игломета, из которого меня пытался прикончить месье Херриг. К пистолету прилагалось несколько сотен патронов — в обойму входило пять; каждый патрон содержал в себе несколько тысяч крошечных дротиков. Ничего не скажешь, наиболее подходящее оружие для того, кто стреляет не слишком метко.
Когда я взял в руки последний пистолет, мои брови поползли вверх от изумления, а пальцы вдруг задрожали. Это был знакомый мне только по книгам полуавтоматический револьвер сорок пятого калибра с патронами в латунных гильзах. Потертая рукоять, металлическая мушка, вороненая сталь… Я повертел оружие в руках. Судя по всему, его изготовили свыше тысячи лет назад.
Рядом с револьвером лежали пять коробок с патронами. Я поискал маркировку фирмы-изготовителя, а когда нашел, не поверил своим глазам. Патроны в отличие от револьвера произвели на Лузусе без малого триста лет назад.
Кажется, в «Песнях» говорилось, что у Ламии Брон был револьвер сорок пятого калибра? (Позже Энея рассказала мне, что никогда не видела у своей матери револьвера.)
Для наших целей, по моему разумению, лучше всего подходили этот револьвер и пистолет, который заряжался дротиками. Я решил проверить и «сорок пятый» — вышел на балкон, предупредил компьютер, чтобы не было рикошета от наружного силового экрана, и нажал на спусковой крючок. Тут мне вспомнилось, что где-то должен быть предохранитель. Я отыскал его и попробовал снова. Господи Боже, какой получился грохот! Зато сработало. Я убрал револьвер в кобуру, которую прицепил к своему ремню. Когда кончатся патроны, придется его выкинуть — если, конечно, я не найду до тех пор какого-нибудь коллекционера, который изготавливает эти патроны вручную.
«Ты же не собираешься израсходовать разом несколько сотен патронов, верно?» Я криво усмехнулся. Если бы знать!..
Встретившись с Энеей и А.Беттиком, я показал им то, что отобрал, — дробовик, плазменную винтовку, игломет и «сорок пятый».
— Если нас занесет в необжитые, неизведанные края, оружие нам наверняка пригодится. — Я предложил им игломет, но они отказались. Энея заявила, что не желает даже прикасаться к оружию, андроид же объяснил, что в человека выстрелить все равно не сможет, а от хищного животного, как он надеется, его сумею защитить я.
Я отложил в сторону дробовик и плазменную винтовку с иглометом, оставив при себе только «сорок пятый».
— Это мой.
— Ты хорошо с ним смотришься, — заметила с улыбкой Энея.
На сей раз никаких лихорадочных обсуждений в последнюю минуту не было и в помине. Никто из нас не верил в то, что угроза Энеи, вынудившая отступиться капитана де Сойю, сработает снова. Серьезный разговор состоялся за два дня до выхода из гиперпространства у Возрождения-Вектор. Мы плотно и вкусно поели — А.Беттик подал филе речной манты под соусом, а я откупорил бутылку вина (виноградного, из того сорта, какой выращивают на Клюве), затем помузицировали — андроид играл на флейте, а девочка аккомпанировала на рояле. А потом заговорили о том, что нас ожидает в недалеком будущем.
— Корабль, расскажи нам о Возрождении-Вектор, — попросила девочка.
После секундной паузы, которая, как я понял, служила у него признаком замешательства, компьютер ответил:
— Прошу прощения, мадемуазель Энея, но я не располагаю информацией об этой планете, если не считать координат и физических характеристик.
— Я там бывал, — сказал А.Беттик. — Правда, давным-давно, но, насколько я понимаю, мы принимаем теле— и радиосигналы с планеты, так что можно сверить мои воспоминания с действительностью.
— А я слышал рассказы охотников, самые богатые из которых были как раз с Возрождения-Вектор. — Я махнул рукой. — Начинай.
А.Беттик кивнул:
— Планета Возрождение-Вектор являлась одним из основных связующих звеньев Великой Сети. По шкале Сольмева она почти точная копия Старой Земли, ее заселили одной из первых; к Падению Возрождение-Вектор превратилась в полностью урбанизированный мир. Она славилась своими университетами и медицинскими центрами (там, в частности, проводилось большинство операций по поульсенизации), своей барочной архитектурой, наиболее прекрасный образчик которой — горная крепость Надежда-и-Опора, и своей промышленностью. На Возрождении-Вектор были построены многие корабли ВКС, в том числе и тот, на котором мы летим, — его изготовили на верфи «Мицубиси-Гавчек».
— Неужели? — подал голос компьютер. — Как интересно! Если я об этом и знал, то забыл в результате того несчастного случая…
Мы с Энеей в очередной раз встревоженно переглянулись. Компьютер, который не помнит своего прошлого — даже верфи, где его изготовили, — не внушает особого доверия. Ну да ладно; в конце концов, он ведь доставил нас к Парвати…
— Столица Возрождения-Вектор, — продолжал А.Беттик, сложив на груди руки, — город Да-Винчи. Впрочем, на поверхности планеты множество городов, они занимают всю сушу и часть океана, поэтому трудно определить, где заканчивается один город и начинается другой.
— Эта планета одной из первых вошла после Падения в состав Ордена, — добавил я. — Военные на ней кишмя кишат… На Возрождении-Вектор и на Возрождении-М, кроме баз, на поверхности стоят орбитальные и лунные гарнизоны.
— Что такое Возрождение-М? — спросила Энея.
— Малое Возрождение, — отозвался А.Беттик. — Планета, вторая по удаленности от тамошнего солнца, а Возрождение-Вектор — третья. На Малом гораздо меньше жителей, которые в основном занимаются сельским хозяйством на огромных автоматизированных фермах и кормят Возрождение-Вектор. Оба мира ничуть не проиграли от Падения: система Возрождения вполне в состоянии обеспечивать себя всем необходимым. Так оно и продолжалось, пока Орден не возродил межпланетную торговлю: на Возрождении-Вектор изготавливались различные товары, а Малое Возрождение кормило пять миллиардов человек на Векторе.
— Сколько сейчас жителей на Возрождении-Вектор? — поинтересовался я.
— Полагаю, столько же — пять миллиардов человек плюс-минус несколько сотен миллионов. Как уже было сказано, Орден обосновался на планете достаточно давно, чтобы внедрить крестоформы и контроль за рождаемостью.
— Если ты бывал на Векторе, опиши, как выглядит планета.
— О! — Андроид грустно усмехнулся. — Мое пребывание на Возрождении-Вектор ограничивается тридцатью шестью часами в порту. Нас тогда переправляли с Асквита на Гиперион по приказу короля Уильяма. Разбудить разбудили, но наружу так и не выпустили, поэтому я помню только то, что видел в иллюминатор.
— Значит, местные в большинстве своем христиане? — задумчиво спросила Энея. Девочка казалась чем-то озабоченной. Я заметил, что она снова начала грызть ногти.
— Да, — ответил А.Беттик. — Боюсь, чуть ли не все пять миллиардов.
— И не будем забывать про армию, — вставил я. — Инструкторы, которые обучали новобранцев из гиперионских сил самообороны, были с Возрождения-Вектор. Во время войны с Бродягами эта планета была перевалочным пунктом, базой для флота, и с тех самых пор на ней стоит многочисленный гарнизон.
Энея отрешенно кивнула.
— Почему мы летим туда? — Мне надоело ходить вокруг да около.
Энея подняла голову и посмотрела на меня. В ее прекрасных темных глазах промелькнуло странное выражение.
— Я хочу увидеть реку Тетис.
— Река Тетис исчезла после того, как закрылись нуль-порталы. — Я покачал головой. — Она не может существовать вне Сети. Вернее, не может существовать как река, как нечто цельное. Насколько мне известно, она разделилась на тысячи малых рек.
— Знаю, — откликнулась девочка. — Но мне хочется увидеть реку, которая была когда-то частью Тетис. Мне о ней рассказывала моя мама. Она говорила, что Тетис похожа на Гранд-Конкурс, только гораздо меньше толчеи, что можно нанять лодку и неделями, а то и месяцами плавать из мира в мир…
Я справился с раздражением.
— Мы вряд ли сумеем прорваться сквозь систему обороны Вектора. А если и прорвемся, прежней реки Тетис все равно не найдем. Зачем она тебе понадобилась?
Девочка передернула плечиками.
— Помнишь, я рассказывала про архитектора… Ну, у которого хотела учиться?
— Помню. Но ты не знаешь ни как его зовут, ни где он живет. Почему обязательно начинать поиски с Возрождения-Вектор? Почему бы не прыгнуть хотя бы к Малому Возрождению? Или куда-нибудь к Армагасту?
Энея помотала головой. Мне бросилось в глаза, что она причесалась по-новому, с таким расчетом, чтобы подчеркнуть светлые пряди.
— Во сне я видела, что одно из зданий того архитектора стоит на берегу Тетис.
— Река текла через сотни миров. — Я подался вперед, как бы давая понять, что к моим возражениям стоит прислушаться. — Орден оккупировал далеко не все. Неужели начинать надо именно с Возрождения-Вектор?
— Думаю, да, — тихо ответила девочка.
Я обессиленно уронил руки на колени. Что ж, Мартин Силен не обещал, что путешествие будет легким и приятным; он всего лишь заявил, что я стану героем.
— Ладно, — произнес я с усталым вздохом, — какой у нас план?
— Никакого, — отозвалась Энея. — Если нас ждут, я просто скажу им правду — что мы хотим совершить посадку на Возрождении-Вектор. Вряд ли нам станут препятствовать.
— А что потом? — Я живо представил себе звездолет Консула, окруженный тысячами солдат в боевых скафандрах.
— Потом будет потом. — Энея усмехнулась. — Хотите сыграть в бильярд в невесомости? На деньги.
Я хотел было осадить ее, но передумал.
— У тебя же нет денег.
— Значит, я не могу проиграть. — Губы девочки растянулись в улыбке. — Правильно?
Глава 26
Энея снилась капитану де Сойе на протяжении всех ста сорока двух суток, которые он провел на орбите Возрождения-Вектор, ожидая девочку. Де Сойя отчетливо видел ее такой, какой запомнил с первой встречи на Гиперионе, — стройная, как тростинка, взгляд настороженный, но не испуганный, несмотря на завывания бури и на внезапное появление фигур в боевых скафандрах, руки замерли на уровне груди — она хочет то ли закрыть лицо, то ли обнять капитана… Во сне Энея часто становилась дочерью де Сойи, и капитан возил девочку по каналам, заменявшим на Возрождении-Вектор улицы; они разговаривали о старшей сестре отца Федерико, Марии, которую отправили в Да-Винчи, в медицинский центр святого апостола Иуды[74]. Капитан видел, как они с девочкой идут рука об руку к огромному медицинскому комплексу; по дороге он объяснял, каким образом намерен спасти сестру, и твердил, что на сей раз не позволит ей умереть.
Когда его семья переселилась на Возрождение-Вектор с провинциальной планетки Мадре-де-Диос,[75] где проживала раньше в местности под названием Льяно-Эстакадо,[76] Федерико де Сойе было шесть лет. Поверхность Мадре-де-Диос представляла собой каменистую пустыню, большинство населения составляли католики, порвавшие с Орденом и отказавшиеся от таинства воскрешения. Семья де Сойи принадлежала к секте Приверженцев Марии, а потому, когда планета перешла под власть Ордена и местная церковь подчинилась Ватикану, покинула Нуэво-Мадрид. Приверженцы Марии поклонялись Богоматери с рвением, которого не одобряли ватиканские ортодоксы; часть детства Федерико прошла среди шестидесяти тысяч еретиков-католиков, отринувших крест, чтобы подчеркнуть свое несогласие с Орденом.
Двенадцатилетняя Мария неожиданно заразилась инопланетным ретровирусом, который буквально растерзал колонию. Большинство отмеченных Красной Смертью либо переболели, либо умерли в первые тридцать два часа, а Мария не умерла и не исцелилась. На ее прекрасном лице высыпали ужасные алые пятна, чудовищные, дьявольские стигматы. Девочку отвезли в больницу городка Куидаддель-Мадре,[77] расположенного в южной, доступной всем ветрам части Льяно-Эстакадо, но тамошние медики могли противопоставить болезни только молитву. В Куидаддель-Мадре имелась миссия Ордена, к которой местные относились в общем-то вполне терпимо; священник миссии, доброжелательный отец Магер, буквально умолял отца Федерико подарить Марии жизнь через принятие креста. Федерико был слишком мал, чтобы запомнить, о чем говорили между собой измученные напастями родители; однако в памяти отложилось, как все семейство де Сойя — отец с матерью, две сестры, младший брат и он сам — стояло на коленях в церкви Божьей Матери, моля Пресвятую Деву о заступничестве.
Члены кооператива Льяно-Эстакадо собрали деньги, чтобы отправить семейство де Сойя в один из знаменитых медицинских центров на Возрождении-Вектор. Младшего брата Федерико и двух сестер родители оставили на попечение соседей, а будущего капитана почему-то взяли с собой. Всем троим впервые в жизни довелось испытать, что такое «холодный сон» — эта процедура была опаснее, зато дешевле криогенной фуги; юный Федерико потом долго не мог отделаться от ощущения, что превратился изнутри в ледышку.
Поначалу медики Ордена вроде бы сумели совладать с вирусом и даже вывели часть стигматов, но три местные недели спустя стало ясно, что вирус одержал победу. Состоявшие в штате центра священники умоляли родителей Федерико поступиться принципами, пока не стало слишком поздно. Уже в зрелом возрасте Федерико де Сойя понял, через какие муки пришлось пройти его родителям, перед которыми встал ужасный выбор — либо отказаться от веры, либо потерять дочь.
Во сне, гуляя с Энеей поблизости от медицинского центра, де Сойя рассказывал, как Мария за несколько часов до того, как впала в кому, подарила ему свое главное сокровище — крошечную фарфоровую статуэтку единорога. Держа за руку двенадцатилетнюю девочку с Гипериона, капитан рассказывал, как его отец, человек крепкий телом и духом, наконец поддался на уговоры и сам попросил, чтобы дочь крестили. Священники, естественно, согласились, однако поставили условие: перед тем как Мария получит крестоформ, родители Федерико вместе с сыном должны обратиться в истинную веру.
Де Сойя описывал своей дочери Энее церемонии повторного крещения в соборе Святого Иоанна: вслед за родителями он отказался от заблуждений и признал единоначалие Иисуса Христа — а также власть Ватикана. Тем же вечером мальчик приобщился святых тайн и получил крестоформ.
Крещение Марии было назначено на десять вечера. В восемь сорок пять девочка неожиданно умерла. Устав Ордена гласил: человек, который умер до принятия креста, не может быть воскрешен искусственно.
Казалось, отец Федерико должен был впасть в ярость, почувствовать себя обманутым… Однако он воспринял смерть дочери как Божью кару: Господь — не тот, которому он молился с детства, не Сын, неразрывно связанный с Матерью, а суровый Бог вселенской Церкви, Бог Ветхого и Нового Завета — наказывает не только семейство де Сойя, но и всех отступников из Льяно-Эстакадо. После возвращения домой с телом дочери, укутанным в белый саван, старший де Сойя стал проповедовать на Мадре-де-Диос истинный католицизм. Зерна упали на плодородную почву, ибо Красная Смерть подорвала веру Приверженцев Марии во всемогущество Богоматери. В семь лет Федерико отдали в школу Ордена в Куидад-дель-Мадре, а сестер мальчика отослали в монастырь на севере. Еще при жизни старшего де Сойя, до того как Федерико в сопровождении отца Магера отправился в Нуэво-Мадрид, чтобы поступить в семинарию святого Фомы, Приверженцы Марии, все до единого, обратились в истинный католицизм. Смерть маленькой девочки привела к возрождению целого мира.
Во сне капитан де Сойя объяснял все это не слишком подробно, ибо Энея, как выяснилось, знала почти все.
Ночь за ночью, на протяжении ста сорока двух суток, капитан рассказывал Энее о своем открытии, о том, что узнал, как победить Красную Смерть и спасти сестру. Де Сойе приснилось, что спасти Марию может крестоформ. Он проснулся весь в поту, а следующей же ночью понял, что ошибался.
Чтобы Мария выжила, ей следовало возвратить статуэтку единорога. Де Сойя объяснял Энее, что должен отыскать в лабиринте улиц клинику и вернуть статуэтку. Тогда его сестра останется жить. Однако ему, как он ни старался, так и не удалось выбраться из лабиринта.
Незадолго до появления девочки в системе Возрождения де Сойе приснился сон, в котором он отыскал-таки медицинский центр святого апостола Иуды. Отыскал — и с ужасом понял, что потерял статуэтку.
Тогда Энея впервые заговорила с ним во сне. Девочка вынула статуэтку из кармана курточки и сказала:
— Видишь, она все время была с нами.
В действительности пятимесячное ожидание в системе Возрождения разительно отличалось от того, что довелось испытать де Сойе у Парвати. Эти системы, как в буквальном, так и в переносном смысле, разделяли световые годы.
Через час после прыжка к Возрождению у «Рафаила» затребовали позывные. Компьютер выдал код, после чего к авизо подошли два разведчика и факельщик. Власти решили переправить четыре безжизненных тела на поверхность планеты, в центр воскрешений.
В отличие от того, что было у Парвати, воскрешение на Векторе провели как полагается. Капитана де Сойю и капрала Ки, у которых не все прошло гладко, продержали в реаниматорах целых три дня сверх обычного срока. Оставалось только гадать, способна ли на нечто подобное автоматическая система воскрешения на борту «Рафаила».
С Грегориусом и Реттигом они встретились неделю спустя. Каждого сопровождал личный капеллан. Сержант явно тяготился опекой, ему не терпелось заняться делом; что касается остальных, и де Сойя, и Ки с Реттигом наслаждались покоем.
«Святой Антоний» появился в системе Возрождения на несколько часов позже «Рафаила». Некоторое время спустя де Сойя связался с капитаном Сати и капитаном Лемприером со «Святого Фомы», который прибыл на Вектор, имея на борту свыше тысячи восьмисот мертвецов и две тысячи триста раненых. Всех пострадавших в битве на Гиперионе немедленно распределили по клиникам, соборам и орбитальным базам.
Де Сойя присутствовал при воскрешении генерала Барнс-Эйвне. Когда капитан увидел маленькую рыжеволосую женщину в больничной пижаме, его сердце наполнилось жалостью. Впрочем, генерал нисколько не утратила агрессивности.
— Какого черта? — воскликнула она, едва придя в себя. — Что стряслось?
Де Сойя рассказал о бойне, которую учинил в Долине Гробниц Времени Шрайк, и обо всем, что успело произойти за то время, пока он преследовал девочку (семь месяцев для него и всего четыре — для генерала).
— Выходит, собаку съели да хвостом подавились?
Капитан усмехнулся. Барнс-Эйвне единственная не собиралась щадить его чувств. Сам-то он прекрасно сознавал, что и впрямь смахивает на человека, «подавившегося хвостом»: дважды руководил операцией по захвату девочки, и дважды операция закончилась неудачей. Признаться, он ожидал по меньшей мере отставки; впрочем, более справедливым исходом был бы трибунал. За два месяца до прибытия девочки в системе Возрождения появился второй «архангел» с курьерами на борту. Де Сойя приказал курьерам немедленно возвращаться на Пасем, доложить обо всем командованию и получить от Генерального Штаба соответствующие распоряжения. Дожидаясь решения, он продолжал готовиться к встрече Энеи.
На сей раз в распоряжении де Сойи, волей Папы Римского наделенного всей полнотой власти на Векторе, находились весьма внушительные силы. Двести тысяч солдат, в том числе элитные подразделения морской пехоты и бригада швейцарских гвардейцев с Гипериона, а также морские и космические корабли. Что касается космического флота, он состоял из двадцати семи факельщиков — восемь из них относились к классу «омега», ста восьми разведчиков, шести звездолетов класса «три К» с тридцатью шестью эсминцами сопровождения, ударного авианосца «Святая Мало», который нес свыше двухсот истребителей «скорпион» и команда которого насчитывала семь тысяч человек; древнего тяжелого крейсера «Гордость Брешии», переименованного в «Иакова», двух десантных кораблей в дополнение к «Святому Фоме», сорока эсминцев класса «Благословение», пятидесяти восьми легких крейсеров (трех таких кораблей вполне хватило бы, чтобы защитить от нападения из космоса любую планету), а также ста с лишним фрегатов, смертельно опасных в ближнем бою, тральщиков, авизо, катеров — и «Рафаила».
Через три дня после того, как второй «архангел» отправился на Пасем, за семь недель до прибытия девочки, в пространстве Возрождения-Вектор появились «волхвы» — «Мельхиор», «Гаспар» и бывший звездолет де Сойи «Бальтазар». Сперва де Сойя искренне обрадовался, но потом сообразил, что ему предстоит опозориться на глазах старых товарищей. Тем не менее он поспешил навстречу «Волхвам». Едва де Сойя ступил на борт «Бальтазара», капитан Стоун протянула ему сумку с личными вещами, которые он вынужден был оставить на факельщике. Сверху лежал аккуратно упакованный в пенолит подарок сестры — крохотная фигурка единорога.
В разговоре с Хирном, Буле и Стоун де Сойя не стал ничего скрывать — обрисовал ситуацию и подчеркнул, что ожидает смены руководства. Два дня спустя возвратился «архангел», на борту которого были два пассажира: капитан Марджет Ву, адъютант адмирала Марусина, и отец Браун, помощник монсеньора Лукаса Одди, секретаря и доверенного лица Симона Августино, кардинала Лурдзамийского, премьер-министра Нового Ватикана.
Де Сойя получил пакет с предписанием вскрыть, не дожидаясь воскрешения капитана Ву. Он не стал медлить. Распоряжения были недвусмысленными: продолжать погоню, приложить все силы для поимки девочки и даже не заикаться об отставке. В послании говорилось, что капитан Ву, отец Браун и все прочие должны подчиняться капитану де Сойе и оказывать ему всяческое содействие.
Содействия, кстати сказать, де Сойя добился собственными силами. Хотя поначалу пришлось нелегко — в системе Возрождения находились три адмирала и одиннадцать генералов, не привыкших, чтобы ими командовал какой-то капитанишка. Тем не менее им пришлось проглотить пилюлю — никому не хотелось ссориться с человеком, у которого папский диск. Получив пакет с инструкциями, де Сойя заручился поддержкой не только военных, но и штатских, вплоть до мэров Да-Винчи и Бенедетто, Тосканелли и Фиораванте, Боттичелли и Мазаччо.
Незадолго до прибытия Энеи, составив и утвердив план действий, капитан де Сойя выкроил время на личные дела. Он избавился от бесчисленных помощников и даже от личных телохранителей, каковыми назначил Грегориуса, Ки и Реттига, и в гордом одиночестве отправился на поиски медицинского центра святого апостола Иуды. А когда нашел, неожиданно для себя убедился, что наяву здание центра начисто утратило то символическое значение, которым обладало во сне.
В центре де Сойе сообщили, что его бывший наставник, отец Магер, уже многие годы является настоятелем бенедиктинского монастыря Вознесения в приходе Флоренция в другом полушарии планеты. Капитан отправился туда и провел со стариком целый день. Отец Магер, которому было под девяносто и который «с радостью ожидал первого воскрешения во Христе», ничуть не изменился, остался таким же доброжелательным и терпеливым, каким его запомнил де Сойя. Выяснилось, что священник не так давно побывал на Мадре-де-Диос.
— Ранчо Льяно-Эстакадо опустели. В Куидад-дель-Мадре живут несколько десятков человек — ученые, которых прислали узнать, заслуживает ли планета терраформирования.
— Моя семья вернулась в Нуэво-Мадрид больше двадцати лет тому назад, — сказал де Сойя. — Мои сестры служат Христу — Лоретта приняла постриг на Неверморе, а Мелинда — в Нуэво-Мадриде.
— А где твой брат Эстебан? — спросил отец Магер.
— Погиб в прошлом году во время стычки с Бродягами. — Де Сойя вздохнул. — Его корабль попросту испарился.
Отец Магер отшатнулся, словно его ударили по щеке.
— Я не знал.
— Естественно, — горько усмехнулся де Сойя. — Это случилось далеко за пределами Окраины. Официальных сообщений еще не поступало. Я узнал только благодаря тому, что по долгу службы оказался в тех краях и случайно встретил знакомого офицера, который мне и рассказал…
Отец Магер покачал головой.
— Эстебан обрел единственное бессмертие, которое даровал людям Господь Бог, — проговорил он со слезами на глазах. — Бессмертие во Спасителе нашем Иисусе Христе.
— Аминь. — Помолчав, де Сойя спросил: — Отец, вы по-прежнему пьете виски?
— Да, — отозвался Магер, пристально поглядев на де Сойю, — но только для поправки здоровья, капитан.
— Мне как раз не мешало бы его поправить, святой отец. — Де Сойя приподнял бровь. — Я не совсем хорошо себя чувствую после воскрешения.
— А я готовлюсь к первому в своей жизни. — Отец Магер торжественно кивнул. — Где-то у меня была бутылка…
В воскресенье де Сойя отслужил мессу в соборе Святого Иоанна, где без малого тридцать лет назад принял крещение. На мессе присутствовали более восьмисот человек, в том числе отец Магер и отец Браун, широко образованный и проницательный помощник монсеньора Одди. Сержант Грегориус, капрал Ки и стрелок Реттиг приобщились святых тайн из рук капитана де Сойи.
Той ночью де Сойе вновь приснилась Энея.
— Как получилось, что ты стала моей дочерью? — спросил капитан. — Я никогда не нарушал обет безбрачия.
Девочка улыбнулась и взяла его за руку.
Ровно за сто часов до прибытия Энеи де Сойя приказал кораблям занимать отведенные позиции. Точка выхода располагалась в непосредственной близости от гравитационного колодца Возрождения-Вектор, что вызывало у многих специалистов опасения: они считали, что древний звездолет не выдержит перегрузок при торможении. Впрочем, почти никто не высказывал вслух ни подобные опасения, ни медленно, но верно копившееся раздражение (большинство офицеров отозвали с выполнения боевых заданий в далеком космосе, и они откровенно маялись от безделья).
За десять часов до времени «Икс» де Сойя созвал совещание капитанов кораблей и прочих высших чинов. Обычно такие совещания проводились по каналам оперативной связи, однако де Сойя, желая хоть немного разрядить ситуацию, потребовал личного присутствия. Офицеры один за другим прибывали на авианосец «Святая Мало», в кают-компании которого могли разместиться около сотни человек.
Совещание началось с того, что де Сойя вкратце изложил план действий. Если девочка вновь пригрозит самоубийством, три факельщика-«волхва» подойдут вплотную, блокируют вражеский силовой экран, дадут залп из нейропарализаторов и будут удерживать звездолет в стазисе, пока «Иаков» не возьмет его на буксир.
Если же корабль попытается вновь разогнаться для прыжка, факельщики перекроют ему пространство для маневра, а разведчики и истребители постараются сбить с курса.
— Вопросы? — спросил де Сойя. Он оглядел собравшихся, среди которых были капитаны Лемприер, Сати, Ву и Хирн, отец Браун, Буле, Стоун и генерал Барнс-Эйвне. У дальней стены кают-компании стояли в позе «вольно»
Грегориус, Ки и Реттиг, допущенные на совещание благодаря своему статусу телохранителей.
— А если девочка попробует совершить посадку на Векторе, Малом Возрождении или на какой-нибудь из лун? — поинтересовалась капитан Марджет Ву.
— По-моему, мы договорились на прошлой встрече: если корабль пойдет на посадку, действовать по обстоятельствам, — отозвался де Сойя, сходя с возвышения, на котором до сих пор стоял.
— Что вы имеете в виду под обстоятельствами, капитан? — осведомился адмирал Серра со «Святого Фомы Аквинского».
На раздумья у де Сойи ушло всего лишь несколько секунд.
— Куда направится корабль, господин адмирал. Что будет безопаснее для девочки — дать ему приземлиться или атаковать в атмосфере. Не представится ли им возможности… э-э… скрыться.
— А такая возможность существует? — спросила генерал Барнс-Эйвне, облаченная в черный мундир космолетчика.
— После того, что случилось на Гиперионе, я просто не рискну ответить «нет». Но мы постараемся свести вероятность к минимуму.
— А если появится Шрайк… — начал капитан Лемприер.
— Мы это уже обсуждали, — прервал де Сойя, — и я не вижу оснований корректировать планы. На сей раз многое будет зависеть от компьютерного центра управления огнем. В Долине Гробниц Времени Шрайк оставался на одном месте меньше двух секунд. Люди не успевали реагировать, а автоматические системы не были запрограммированы на такую скорострельность. Мы их все перепрограммировали, вплоть до соответствующих цепей в боевых скафандрах.
— Значит, морская пехота будет штурмовать звездолет? — спросил некий офицер из последнего ряда.
— Только в крайнем случае, — откликнулся де Сойя. — Или если девочку и ее спутников погрузят с помощью нейропарализаторов в бессознательное состояние.
— А против Шрайка вы хотите использовать «жезлы смерти»? — полюбопытствовал командир одного из эсминцев.
— Да. Если при этом, конечно, не окажется в опасности жизнь девочки. Еще вопросы есть? — Никто не пошевелился. — Отец Магер из монастыря Вознесения даст вам свое благословение. Да поможет нам Господь!
Глава 27
Не знаю, что заставило нас подняться в спальню Консула на носу корабля. Я сложил широкую кровать, на которой спал последние две недели. За кроватью располагались два отсека — гардероб и ванная; когда переборки становились прозрачными, эти отсеки казались темными пятнами на фоне звездного неба. Мы хотели наблюдать за переходом из пространства Хоукинга в обычное, а потому попросили компьютер сделать переборки прозрачными.
Первым, что мы увидели — корабль еще не начал торможение, — была планета Возрождение-Вектор, бело-голубой диск, поблизости от которого виднелись два или три спутника. Слева от планеты ослепительно сверкало местное солнце. Как ни странно, несмотря на яркий солнечный свет, можно было различить десятки звезд. Энея спросила, как такое может быть, не обращаясь ни к кому в отдельности.
— Это не звезды, — ответил компьютер. Вращение корабля замедлилось, включился главный двигатель, и мы устремились к планете. Вообще-то в такой близости от планет из гиперпространства не выходят — с притяжением шутки плохи, — но компьютер заверил нас, что ему после модификации подобные перегрузки не страшны. — В радиусе ста тысяч километров обнаружено свыше пятидесяти космических кораблей, которые полным ходом направляются к нам. Отмечено также скопление звездолетов на орбите Возрождения-Вектор. Три корабля — судя по спектральному анализу выхлопа, факельщики — находятся на расстоянии двухсот километров и приближаются.
Никто из нас не проронил ни слова. Насчет факельщиков можно было и не предупреждать — мы видели их собственными глазами у себя над головами. Три плазменных выхлопа смахивали на струи пламени из паяльной лампы.
— Нас вызывают, — сообщил компьютер.
— Визуальный контакт? — спросила Энея.
— Нет, только звуковой. — Казалось, голос компьютера дрожит от напряжения. Неужели ИскИну доступны человеческие эмоции?
— Послушаем, — проговорила Энея.
— …корабль, вошедший в пространство Возрождения-Вектор, — произнес знакомый голос. Мы его уже слышали в системе Парвати. Капитан де Сойя. — Вызываю корабль, вошедший в пространство Возрождения-Вектор.
— С какого корабля идет сигнал? — осведомился А.Беттик, глядя на факельщики. На голубую кожу андроида падал голубой свет плазменных струй.
— Не могу определить. Сообщение передается по каналам оперативной связи. Оно может поступать с любого из семидесяти девяти обнаруженных на данный момент кораблей.
Мне показалось, я должен сказать что-нибудь умное.
— Елки-моталки!
Энея искоса поглядела на меня и вновь повернулась к звездам.
— Сколько осталось до посадки?
— Четырнадцать минут, — ответил компьютер. — Но лоция категорически запрещает приближаться к любой планете со скоростью, с которой мы сейчас движемся.
— Не вздумай снижать, — предупредила Энея.
— Корабль, вошедший в пространство Возрождения-Вектор, — снова произнес де Сойя. — Приготовьтесь принять на борт штурмовую группу. Не пытайтесь сопротивляться, иначе будете парализованы. Повторяю…
Энея усмехнулась:
— Пожалуй, моя старая уловка нас не спасет. Верно, Рауль?
Ничего умнее «елки-моталки» мне на ум не приходило, поэтому я молча развел руками.
— Корабль, вошедший в пространство Возрождения-Вектор. Мы собираемся состыковать наружные силовые поля.
В тот самый миг, когда Энея и А.Беттик одновременно вскинули головы, стали видны факельщики. До них было меньше километра, выстроились они так, что образовывали равносторонний треугольник. Я поглядел на лицо девочки. Губы плотно сжаты, а в остальном ни намека на беспокойство, только любопытство во взгляде огромных, словно светящихся глаз.
— Внимание, неопознанный корабль. Стыковка полей через тридцать секунд.
Энея подошла к невидимой переборке. С того места, где находился я, чудилось, что мы стоим на плоской круглой вершине чудовищно высокой горы, вокруг сверкают звезды и шныряют кометы, оставляя за собой голубые хвосты, а Энея замерла на краю пропасти.
— Корабль, — позвала девочка, — сделай так, чтобы меня слышали на всех звездолетах.
Капитан де Сойя следил за ходом событий как воочию, так и через тактический дисплей. Стоя над плоскостью эклиптики, он наблюдал, как его корабли группируются вокруг вражеского звездолета — этакие искорки света на спицах и втулке огромного колеса. У самой втулки, почти вплотную к кораблю Энеи, расположились «Мельхиор», «Гаспар» и «Бальтазар». Чуть в стороне двигались с точно таким же ускорением пять или шесть факельщиков под командой капитана Сати со «Святого Антония». В десяти тысячах километров за ними перемещались в пространстве Возрождения-Вектор эсминцы класса «Благословение», три корабля класса «три К» и ударный авианосец «Святая Мало», на мостике которого и находился де Сойя. Ему отчаянно хотелось быть на одном из факельщиков и самому захватить девочку, однако он сознавал всю неразумность подобных действий. В конце концов «волхвами» командует Стоун, которую произвели в капитаны всего неделю назад; негоже из-за сиюминутной прихоти лишать командования заслуженного боевого офицера.
«Рафаил» остался на орбите Вектора вместе с легкими крейсерами и эсминцами сопровождения. Де Сойя вновь переключился на тактический режим и вновь увидел свои корабли, окружившие звездолет Энеи со всех сторон. Бежать девчонке некуда. Де Сойя вернулся на мостик авианосца. Ему в глаза бросились багровые от напряжения лица Ву и Брауна. Генерал Барнс-Эйвне поддерживала контакт с пятьюдесятью морскими пехотинцами на борту одного из факельщиков. В углу рубки, за спинами офицеров, де Сойя разглядел сержанта Грегориуса, рядом с которым маячили Ки и Реттиг. Все трое рвались в штурмовую группу, однако де Сойя оставил их при себе.
— Внимание, неопознанный корабль, — произнес капитан, с трудом сдерживая волнение. — Стыковка полей через тридцать секунд. — Де Сойя вдруг понял, что его беспокоит безопасность девочки. Если что-нибудь пойдет не так, это должно случиться в ближайшие минуты. Компьютерный анализ показал, что вероятность ранения или гибели девочки составляет всего-навсего шесть процентов. Но для де Сойи шесть процентов было очень много. Ведь Энея снилась ему каждую ночь на протяжении ста сорока двух суток…
Внезапно из динамиков послышался детский голос. Сообщение передавалось на общей частоте.
— Капитан де Сойя, — проговорила девочка (изображения на мониторах не было и в помине). — Пожалуйста, не штурмуйте наш корабль и не стыкуйте поля. Любые ваши действия приведут к трагедии.
Де Сойя бросил взгляд на хронометр. Пятнадцать секунд до стыковки… Что ж, на сей раз Энее не помогут никакие угрозы. Стоит полям состыковаться, как все три факельщика дадут залп. Не пройдет и сотой доли секунды…
— Подумайте, господин капитан, — продолжала девочка. — Нашим кораблем управляет ИскИн, изготовленный во времена Гегемонии. Если его парализовать…
— Отменить стыковку! — рявкнул де Сойя за две секунды до того, как должна была сработать автоматика. С «Мельхиора», «Гаспара» и «Бальтазара» поступило подтверждение.
— Дело в том, что у нашего компьютера цепи не кремниевые, а органические. Это старинный тип ДНК-процессора. Вы парализуете его вместе с нами.
— Черт! — Сперва де Сойе показалось, что проклятие вырвалось у него, но потом он сообразил, что ругается капитан Ву.
— Мы тормозим при восьмидесяти семи «g». Если наш компьютер отключится… Понимаете, он управляет силовыми полями и двигателями…
Де Сойя обратился к техникам на борту авианосца и факельщиков:
— Это правда? Их компьютер действительно вырубится?
Секунд десять царило молчание. Наконец послышался голос капитана Хирна, который заканчивал инженерный факультет военной академии.
— Мы не знаем, Федерико. Сведения об ИскИнах в большинстве своем либо утеряны, либо держатся в строжайшем секрете. Церковь считает смертным грехом…
— Меня интересует, врет она или говорит правду! — перебил де Сойя. — Неужели никто не знает, повредят ли лучи парализаторов органический компьютер?
— Сэр, — вмешался в разговор старший инженер авианосца Брамли, — мне кажется, конструкторы должны были предусмотреть такую возможность и найти способ защитить ИскИн…
— Вам кажется или вы знаете? — процедил де Сойя.
— Кажется, сэр, — помолчав, ответил Брамли.
— А компьютер у них действительно органический?
— К сожалению, да, Федерико, — отозвался Хирн. — Если не считать электронной начинки и памяти на цилиндрических магнитных доменах, бортовой компьютер той эпохи представляет собой двойную спираль ДНК, которую удерживает…
— Ладно, я понял, — прервал де Сойя. — Всем кораблям. Оставаться на месте. Если вражеский звездолет попытается изменить курс или совершить квантовый прыжок, немедленно атакуйте.
С кораблей начали поступать подтверждения.
— …пожалуйста, не причиняйте нам вреда, — закончила Энея. — Мы просто хотим совершить посадку на Возрождении-Вектор.
— Энея, — позвал капитан де Сойя, послав на звездолет девочки направленный луч, — пусти на борт моих солдат, и они доставят тебя на планету.
— Я предпочитаю сделать это сама. — В голосе девочки, как показалось капитану, прозвучала насмешка.
— Возрождение-Вектор — большая планета, — увещевал де Сойя, поглядывая на тактический дисплей. До входа в атмосферу оставалось десять минут. — Где ты хочешь сесть?
После паузы Энея ответила:
— Мне нравится космопорт Леонардо в Да-Винчи.
— Его закрыли двести с лишним лет назад. Неужели твой компьютер не мог обновить свои базы данных? — Девочка промолчала. — В западной части Да-Винчи находится грузовой космопорт. Он тебе подойдет?
— Вполне, — сказала Энея.
— Тебе придется изменить курс, выйти на орбиту и подождать, пока диспетчер не возьмет управление на себя. Я передаю на планету ваши координаты.
— Не надо! — воскликнула девочка. — Мой звездолет сядет сам.
Де Сойя вздохнул и повернулся к отцу Брауну, рядом с которым сидела капитан Ву.
— Мои пехотинцы окажутся на борту через две минуты, — заметила генерал Барнс-Эйвне.
— А в атмосферу корабль войдет через семь минут. На такой скорости фатальной может оказаться даже ничтожная ошибка в расчетах. — Де Сойя вновь заговорил в микрофон: — Энея, над Да-Винчи оживленное воздушное движение. Вы не можете садиться просто так. Пожалуйста, введи в компьютер параметры, которые я только что передал…
— Извините, господин капитан, но мы идем на посадку. Если диспетчер сообщит необходимые данные, я буду ему весьма признательна. До встречи на поверхности, господин капитан. Лично я связь закончила.
— Черт! — Де Сойя связался со службой наведения грузового космопорта. — Вы слышали?
— Так точно, сэр.
— Выполняйте. Хирн, Стоун, Буле! Вы слышали?
— Да, сэр, — откликнулась капитан Стоун. — Расхождение через три минуты десять секунд.
Де Сойя переключился в тактический режим. Сверкающее колесо распалось, факельщики, корпуса которых не были рассчитаны на контакт с атмосферой, начали торможение. Звездолет Энеи стремительно приближался к планете, его курс пролегал совсем рядом с громадой ударного авианосца.
— Приготовьте мой катер, — приказал де Сойя. — Патруль?
— На связи, сэр, — отозвалась полковник Клаус, командир воздушного патруля, состоявшего из сорока семи «скорпионов», что кружили над Да-Винчи.
— Вы следили за разговором?
— Разумеется, сэр.
— Напоминаю еще раз, стрелять только по моему приказу.
— Понятно, сэр.
— Со «Святой Мало» стартуют семнадцать истребителей, которые будут сопровождать цель до поверхности. Я полечу на восемнадцатом. Позывные «ноль-пять-девять».
— Ясно, сэр. Ноль-пять-девять. Восемнадцать своих и один чужой.
— Де Сойя связь закончил. — Капитан выдернул штекеры из разъемов на панели управления. Тактический дисплей выключился. Марджет Ву, отец Браун, генерал Барнс-Эйвне, Грегориус, Ки и Реттиг вместе с де Сойей прошли в шлюз, в котором дожидался катер. Пилот лейтенант Карин Норрис Кук запустила двигатель. Процедура была отработана, поэтому все прошло гладко.
Когда катер вошел в атмосферу, де Сойя вновь включил тактический дисплей.
— Кораблик-то с крылышками. — Лейтенант Кук употребила старинное жаргонное выражение. На протяжении тысячелетий про аппарат, садившийся только над сушей, говорили «сухие лапы», про тот, который мог садиться на воду — «мокрые лапы», а про корабль, способный перемещаться как в атмосфере, так и в открытом космосе, — «с крылышками».
Впрочем, на мониторе было видно, что крыльев у корабля Энеи нет. Датчики утверждали, что у звездолета корпус-протей, однако крылья на нем, по-видимому, отсутствовали. Двигаясь кормой вперед, корабль вошел в атмосферу, словно балансируя на плазменной струе.
— Кардинал Лурдзамийский говорил, что девочка представляет опасность для Церкви, — прошептала Марджет Ву на ухо де Сойе. Капитан молча кивнул. — Может, он подразумевал, что из-за нее могут погибнуть миллионы жителей Вектора? Вам известно, что плазменный выхлоп — ужасное оружие, если воспользоваться им с умом. Термоядерный взрыв над городом…
Волной накатил страх, но де Сойя не поддался панике.
— Не волнуйтесь, — прошептал он в ответ. — Если она попробует предпринять что-либо в этом роде, мы собьем звездолет.
— Но девочка… — начала капитан Ву.
— В таком случае нам останется только уповать на то, что она выживет, — перебил де Сойя. — Нельзя допустить, чтобы ради одного ребенка погибли тысячи… миллионы мирных жителей. — Он откинулся на спинку кресла и вызвал космопорт. Ответ пришел не сразу: сигналу предстояло пробиться сквозь ионный слой вокруг катера. Де Сойя посмотрел на монитор: катер пересек линию терминатора. Похоже, садиться придется в темноте.
— Служба управления полетами, — откликнулся наконец старший диспетчер. — Цель легла на заданный курс. Скорость выше допустимой, но ненамного. В радиусе тысячи километров нет ни одного летательного аппарата. Касание через четыре минуты тридцать пять секунд.
— Космопорт блокирован, — доложила генерал Барнс-Эйвне.
Де Сойя знал, что в порту и поблизости от него находятся несколько тысяч солдат. Как только корабль Энеи совершит посадку, все будет кончено: взлететь ему уже не дадут. Капитан взглянул на монитор, на котором виднелся залитый светом Да-Винчи. На звездолете Энеи мерцали ходовые огни, красный и зеленый; включились мощные прожектора, лучи которых пронзили облачный покров.
— Курс прежний, — сообщил диспетчер. — Скорость в норме.
— Мы его видим! — воскликнула полковник Клаус.
— Держите дистанцию, — приказал де Сойя. «Скорпионы» могли ужалить с расстояния в несколько сотен километров, поэтому не было смысла подводить их ближе к цели.
— Слушаюсь.
— Курс прежний, три минуты до касания, — произнес диспетчер. — Неопознанный звездолет, разрешаю посадку.
Энея не ответила.
Де Сойя озадаченно моргнул. Корабль Энеи, похожий на раскаленный уголек, находился в десяти тысячах метров над космопортом. В километре над ним кружили разъяренными пчелами катер де Сойи и истребители прикрытия. Да, пчелы… или стервятники. В Льяно-Эстакадо хватало стервятников, которых зачем-то привезли с собой первые колонисты. На голых, продуваемых ветрами равнинах, утыканных атмосферными генераторами, которые стояли на расстоянии тридцати километров друг от друга, всякий труп за несколько часов превращался в мумию, так что стервятникам ничего не доставалось…
Капитан потряс головой, отгоняя воспоминания.
— Касание через минуту, — сообщил диспетчер. — Неопознанный корабль, вы приближаетесь к нулевой отметке. Вам следует снизить скорость. Неопознанный корабль, прием…
— Черт! — прошептала Марджет Ву.
— Сэр, — проговорила лейтенант Кук, — корабль перестал снижаться. Завис в паре километров над полем.
— Вижу, лейтенант, — отозвался де Сойя. Ходовые огни звездолета продолжали мигать, прожектора освещали опустевшее поле космодрома — большинство кораблей отогнали на боковые рулежные дорожки и в ангары. Истребители же огней не включали. — Всем кораблям. Сохранять дистанцию. Не стрелять.
— Неопознанный звездолет, — проговорил диспетчер, — вы уклоняетесь в сторону. Немедленно вернитесь на прежний курс и продолжайте снижение. Повторяю, немедленно вернитесь…
— Дерьмо! — пробормотала Барнс-Эйвне. Ее солдаты окружили космопорт, однако корабль Энеи находился сейчас над центром Да-Винчи. Внезапно ходовые огни звездолета погасли.
— Двигатель они не включают, — заметил де Сойя. — Летят на электромагнитной подушке.
Марджет Ву кивнула, но чувствовалось, что слова де Сойи ничуть ее не успокоили. Корабль с ядерным двигателем над мегаполисом — все равно что гильотина над подставленной шеей.
— Патруль, — окликнул де Сойя. — Иду на сближение. Следуйте за мной. — Капитан кивнул пилоту. Лейтенант Кук направила катер по дуге вниз.
— Что она затеяла? — прошептала Барнс-Эйвне.
На тактическом дисплее было видно, как по приказу генерала около сотни солдат — как и отделение Грегориуса, в боевых скафандрах — поднялись в воздух и полетели следом за кораблем Энеи. Камеры на корпусе катера пока не показывали ничего похожего. Капитану вдруг вспомнился летательный аппарат, на котором девочка покинула Долину Гробниц Времени. Он связался с орбитальным патрулем.
— Вы следите за кораблем? Докладывайте, как только заметите хоть что-нибудь!
— Слушаюсь, сэр, — отозвался командир эскадры. — Не беспокойтесь, сэр, с нашими приборами мы засечем даже микроба.
— Отлично.
«Что же я упустил?» — спросил себя де Сойя. Звездолет Энеи двигался на север-северо-запад со скоростью около двадцати пяти километров в час, похожий на подгоняемый ветром дирижабль. Над звездолетом кружили истребители прикрытия с ударного авианосца. «Скорпионы» полковника Клаус сновали вокруг, словно играя в догонялки. По-над крышами городских зданий беззвучно скользили морские пехотинцы, следившие за кораблем сквозь инфракрасные визоры.
Звездолет плыл над небоскребами и промышленными предприятиями Да-Винчи, столицы Возрождения-Вектор. Город сверкал огнями, виднелись залитые светом зеленые игровые площадки и прямоугольники стоянок. По многоярусным улицам двигались с включенными фарами десятки тысяч машин.
— Корабль разворачивается, сэр, — доложила лейтенант Кук. — Но двигатель по-прежнему не включает.
На мониторе и на тактическом дисплее было видно, как звездолет Энеи медленно переменил положение с вертикального на горизонтальное. Можно было ожидать, что появятся крылья, но ничего подобного не произошло. Должно быть, пассажиры чувствуют себя неуютно — хотя нет, ведь ощущения верха и низа все равно создаются внутренним силовым полем. Серебристый дирижабль пересек реку и полетел дальше над верфями Да-Винчи. Вызов службы управления полетами остался без ответа.
«Что же я упустил?» — гадал капитан де Сойя.
Когда корабль по просьбе Энеи принял горизонтальное положение, я на какой-то миг утратил самообладание.
Мы трое стояли у прозрачной переборки и глядели на городские огни, будто с вершины горы. Внезапно эти огни устремились нам навстречу. Мы с А.Беттиком невольно попятились, я даже замахал руками, чтобы сохранить равновесие (казалось, еще немного — и мы рухнем наземь), а девочка осталась стоять где стояла.
Я чуть было не плюхнулся на кушетку, но справился с головокружением, убедив себя, что мы летим вдоль гигантской стены, в которую вдруг превратилась поверхность планеты. Внизу виднелась сетка улиц Да-Винчи; обернувшись, я различил за кормой, сквозь разрывы в облаках, оранжевых от зарева над городом, несколько ярких звезд.
— Что мы ищем? — спросил я. Компьютер то и дело докладывал о круживших поблизости летательных аппаратах и нацеленных на нас сенсорах. Кроме того, «неопознанный звездолет» продолжала вызывать служба управления полетами, но мы велели кораблю не обращать внимания на вызовы.
Энея говорила, что хочет увидеть реку. Что ж, вон она — темная полоса, вьющаяся серпантином на фоне городских огней. Мы двигались на северо-запад. Под нами проплывали баржи и прогулочные катера — точнее, казалось, что они ползут «вверх» или «вниз» по гигантской стене, словно некие насекомые.
Вместо ответа Энея спросила у компьютера:
— Ты уверен, что это часть реки Тетис?
— Разумеется, на мою память нельзя полагаться, но карты…
— Там! — воскликнул А.Беттик, тыкая пальцем куда-то вниз.
Я ничего не видел, однако зрение Энеи было, похоже, острее моего.
— Опускаемся, — сказала девочка. — И побыстрее.
— Мы уже нарушили правила полетов, — предупредил компьютер. — Если мы опустимся ниже того уровня, на котором…
— Выполняй! — крикнула девочка. — Можешь забыть обо всех правилах. Код «С-единица». Выполняй!
Корабль дернулся и ринулся вниз.
— Летим к арке, — уточнила Энея, указывая куда-то за реку.
— К арке? — недоуменно переспросил я и в следующий миг разглядел вдали странного вида сооружение.
— Честно говоря, — заметил А.Беттик, глядя на девочку, — я не ожидал, что он сохранился.
— Его не уничтожить даже атомным взрывом. — Энея усмехнулась. — Эти штуки строились под руководством Техно-Центра, а потому способны выдержать многое…
Арка нуль-портала вздымалась над рекой подобием исполинского обруча. Вокруг виднелись верфи и склады — бетон, сквозь трещины в котором пробивались сорняки, ржавая проволока, гниющая под открытым небом техника… До портала было около километра. На его поверхности отражались городские огни — нет, это мерцал сам портал, из него словно вырывался водопад.
— Должны успеть, — проговорил я. В ту же секунду раздался грохот, корабль тряхнуло, и мы начали падать.
— Старинный нуль-портал! — воскликнул де Сойя. Он заметил арку минуту назад, но решил поначалу, что это очередной мост. Все сразу стало понятно. — Они летят к порталу! Здесь же протекала река Тетис! — Капитан включил тактический дисплей. Все верно.
— Не волнуйтесь, — сказала Барнс-Эйвне. — Порталы перестали работать сразу после Падения. Ей не…
— Ближе! — приказал де Сойя пилоту. Ускорение вжало пассажиров в кресла — у катера не было внутреннего силового поля. — Еще ближе! Внимание! Всем кораблям! Цель уходит. Повторяю, цель уходит.
— Не успеем, — пробормотала лейтенант Кук.
— Патруль! — Голос де Сойи дрожал от напряжения: ускорение составляло целых три «g». — Открывайте огонь! Это приказ.
Мрак ночи вспороли лазерные лучи. Корабль Энеи на мгновение замер в воздухе, точно подстреленная утка, а затем рухнул в реку в нескольких сотнях метров от портала. К небу поднялось грибовидное облако пара.
Катер принялся кружить над рекой на высоте тысячи метров. Ниже сновали истребители и морские пехотинцы в боевых скафандрах. Эфир буквально разрывался от возбужденных возгласов.
— Молчать! — рявкнул де Сойя на общей частоте. — Полковник Клаус, вы видите цель?
— Нет, сэр. Кругом один пар. После такого взрыва…
— Разве был взрыв? — Де Сойя связался с орбитальным патрулем. — Что показывают радары?
— Цель поражена.
— Знаю, идиот! Вы можете обнаружить ее под водой?
— Нет, сэр. Сильные помехи. У вас там слишком много кораблей.
— Проклятие! Капитан Стоун!
— Слушаю, сэр.
— Уничтожьте портал. Расплавьте его вместе с речным дном. Через тридцать секунд. — Де Сойя переключился на тактическую частоту. — Всем кораблям и морским пехотинцам! У вас есть тридцать секунд, чтобы укрыться от залпа лучевых орудий. Рассыпаться!
Лейтенант Кук, выполняя приказ, резко развернула катер и направила его в сторону космопорта.
— Эй! — воскликнул де Сойя. — Куда?! Я должен увидеть своими глазами.
На мониторе и на тактическом дисплее было видно, как спешат прочь от портала, словно подхваченные взрывной волной, истребители и солдаты в боевых скафандрах. Едва последний солдат отодвинулся на безопасное расстояние, из космоса к поверхности планеты протянулся лиловый луч шириной десять метров, чересчур яркий, чтобы на него можно было смотреть, не затемняя визоры. Он угодил точно в цель. Цемент, сталь, ферропластик на берегах реки превратились в озера кипящей лавы, вода в реке мгновенно испарилась на протяжении нескольких километров. На сей раз грибовидное облако пара достигло стратосферы.
Капитан Ву, отец Браун и все прочие молча смотрели на де Сойю. Тот догадывался, о чем они думают: «Девочку следовало захватить живой».
— Лейтенант, — произнес де Сойя, решив не обращать внимания на пристальные взгляды, — ваш катер может зависнуть в воздухе?
— На несколько минут, сэр. — Лицо Карин Кук блестело от пота.
— Спускайтесь до высоты в пятьдесят метров, — приказал де Сойя.
— Сэр, тепловые и ударные волны…
— Выполняйте приказ, лейтенант, — оборвал де Сойя не терпящим возражений тоном.
Катер завис над порталом. Поисковые лучи пронизали завесу пара. На радаре было видно, что портал раскалился добела, но устоял.
— Невероятно! — прошептала генерал Барнс-Эйвне.
— Сэр, цель поражена, но не уничтожена, — сообщила капитан Стоун. — Повторить залп?
— Не надо.
Русло реки поблизости от портала начало заполняться водой, которая, впрочем, тут же с шипением испарялась, ибо в нее вливались потоки расплавленного металла и цемента. Повсюду виднелись бурлящие водовороты.
Де Сойя вновь почувствовал, что на него обращены все взгляды. «Вам было приказано захватить девочку и доставить ее на Пасем — живой».
— Генерал, прикажите своим солдатам обыскать дно реки и прилегающую к порталу территорию.
Не сводя глаз с де Сойи, Барнс-Эйвне принялась отдавать соответствующие распоряжения.
Глава 28
В последующие дни не нашли ни звездолета, ни тел, ни даже обломков, и капитан де Сойя мысленно приготовился к трибуналу и отлучению от церкви. На Пасем отправили курьера с донесением; двадцать часов спустя «архангел» возвратился. Ответ гласил: капитану де Сойе следует предстать перед офицерским судом чести. Услышав об этом, де Сойя кивнул — понятно, сначала офицерский суд, а там трибунал и все остальное.
Как ни странно, председателем офицерского суда назначили отца Брауна — как личного представителя премьер-министра Нового Ватикана Симона Августино, кардинала Лурдзамийского. Капитан Марджет Ву представляла на суде адмирала Марусина. В числе судей были также два адмирала, присутствовавшие при неудачной попытке перехвата, и генерал Барнс-Эйвне. От защитника де Сойя отказался.
Суд продолжался пять дней. Арестовывать капитана никто не собирался, не заходило речи даже о домашнем аресте, однако ему дали понять, что до окончания слушаний возбраняется покидать территорию военной базы. Де Сойя гулял вдоль реки, на берегу которой стояла база, смотрел по местной сети и каналам прямого доступа новости, время от времени поглядывал на небо, прикидывая, где может быть «Рафаил». Капитану хотелось верить, что следующий пассажир авизо покроет славой как свое имя, так и название корабля.
Де Сойя не мог пожаловаться на отсутствие внимания. При нем практически неотлучно находились Грегориус, Ки и Реттиг, которые номинально оставались его телохранителями, хотя у них отобрали оружие. В один из вечеров капитана навестили Буле, Хирн и Стоун, которые дали показания в суде и теперь отправлялись в космос. Де Сойя с завистью наблюдал тем вечером за прочертившими небосвод плазменными струями. Перед возвращением на «Святой Антоний» заглянул Сати. Забежал даже Лемприер, чрезмерное сочувствие которого в конце концов вывело де Сойю из себя.
На пятый день капитан предстал перед судом. Вообще ситуация сложилась достаточно странная — папский диск наделял де Сойю особыми полномочиями, в силу чего его попросту не могли судить; однако все понимали, что Папа Юлий через кардинала Лурдзамийского одобрил проведение суда, поэтому де Сойя, которого приучили к повиновению в иезуитской семинарии, а потом в армии, не стал настаивать на своих правах. Тем более что он сознавал вину и не ждал оправдания. Как повелось еще со средних веков на Старой Земле, должность капитана представляла собой палку о двух концах: с одной стороны — почти неограниченная власть над кораблем и экипажем, с другой — ответственность за все, что происходит на борту.
Корабли, вверенные попечению де Сойи, не пострадали, однако операция закончилась неудачей. Дважды, на Гиперионе и на Возрождении-Вектор, ему предоставлялась возможность оправдать высокое доверие, и дважды он не сумел захватить двенадцатилетнюю девочку. Он допустил ряд непростительных ошибок, в чем и признался перед судьями.
— Почему вы приказали уничтожить нуль-портал на Возрождении-Вектор? — спросил адмирал Кумс.
— Я понял, что девочка хочет добраться до портала. — Де Сойя сделал неопределенный жест. — При тех обстоятельствах остановить ее можно было, только взорвав портал.
— Но он не взорвался? — уточнил отец Браун.
— Нет.
— Скажите, капитан де Сойя, — проговорила Марджет Ву, — до сих пор вам было известно о целях, которые способны выдержать залп из лучевого орудия?
— Орбитальный лес, как правило, с первого залпа не уничтожить, — ответил де Сойя после некоторого раздумья. — То же касается Роя. Но они получают серьезные повреждения.
— А портал остался цел? — осведомился отец Браун.
— По моим сведениям, да.
— Главный инженер базы Возрождение-Вектор Рекстон Хамн сообщил суду, что сплав, из которого изготовлен нуль-портал, несмотря на то что остывал в течение сорока восьми часов, выдержал прямое попадание, — произнесла Марджет Ву.
Члены суда посовещались.
— Капитан де Сойя, вы сознавали, что своими действиями ставите под угрозу безопасность корабля, на котором находилась девочка? — поинтересовался адмирал Серра.
— Да, господин адмирал.
— И что тем самым подвергаете опасности жизнь девочки?
— Да, господин адмирал, — повторил де Сойя.
— Между тем вам было приказано доставить девочку на Пасем, не причинив ей ни малейшего вреда. Правильно?
— Да, господин адмирал.
— Значит, вы сознательно нарушили приказ?
Де Сойя тяжело вздохнул:
— Господин адмирал, я сознательно пошел на риск. Мне было приказано как можно скорее захватить девочку и доставить ее на Пасем. Поняв, что она может воспользоваться порталом и ускользнуть от нас, я решил, что нам не остается ничего иного, как уничтожить портал — именно портал, а не звездолет. Признаться, я был уверен, что в момент залпа корабль либо уже прошел через портал, либо еще его не достиг. Приборы показывали, что поврежденный звездолет упал в реку. Я не знал, может ли он передвигаться под водой и, если уж на то пошло, действует ли под водой портал…
— Капитан, — проговорила Марджет Ву, — с той ночи портал подавал какие-либо признаки жизни?
— Мне об этом неизвестно.
— А вам известен хотя бы один портал, на любом из миров, входивших когда-то в Сеть, — хотя бы один портал, который продолжал бы действовать после Падения, случившегося двести семьдесят с лишним стандартных лет назад?
— Нет, — ответил де Сойя.
— Быть может, вы объясните суду, почему решили, что девочка может воспользоваться порталом и оторваться таким образом от погони? — Отец Браун, задавая свой вопрос, подался вперед.
— Святой отец, я… — Де Сойя развел руками. — Я не знаю. Я был уверен, что она что-то замышляет. Когда корабль свернул к реке… Не знаю, святой отец. Мне просто показалось, что, кроме портала, ей надеяться не на что.
— У кого еще есть вопросы? — спросила Марджет Ву. Все промолчали. — Хорошо, капитан де Сойя. Можете идти. Суд известит вас о своем решении завтра утром.
Де Сойя повернулся и вышел.
Ночью, расхаживая по берегу реки, капитан пытался представить, что будет делать, если его отдадут под трибунал и лишат сана, но в тюрьму не посадят. Такая свобода пугала сильнее мысли о тюремном заключении. Члены суда не упоминали об отлучении (точнее, они вообще не заговаривали о наказании), однако де Сойя видел словно воочию, как возвращается на Пасем и выслушивает приговор, навсегда разлучающий его с Иисусом. Подобной кары заслуживают только еретики и полные неудачники, к которым капитан не колеблясь причислил себя.
Утром его пригласили в невысокое здание, где всю ночь заседал суд. Он вытянулся по стойке «смирно» перед длинным столом.
— Капитан де Сойя, — начала Марджет Ву, — офицерский суд чести собрался по приказу Верховного командования и по личной просьбе Его Святейшества, чтобы обсудить недавние события — в частности, провал операции по захвату девочки Энеи. На протяжении пяти дней члены суда заслушали множество показаний, изучили многочисленные доказательства и пришли к выводу, что вы как командующий операцией приложили все усилия для ее успешного осуществления. Тот факт, что девочка, известная под именем Энея, а также те, кто сопровождает эту девочку, сумели ускользнуть через нуль-портал, который бездействовал почти триста стандартных лет, не может быть поставлен в вину ни вам, ни любому из ваших подчиненных. Генеральный Штаб и Ватикан весьма озабочены тем, что порталы, как выяснилось, продолжают работать. Это открытие встревожило как Верховное командование, так и высших представителей церковной иерархии. Капитан де Сойя, вы рисковали жизнью ребенка, которого вам было поручено всячески оберегать. Тем не менее мы считаем, что ваши действия были вполне оправданными и не заслуживают ни малейшего порицания. Суд, обладающий соответствующими полномочиями, постановляет: авизо «Рафаил» остается в вашем распоряжении, вы по-прежнему можете пользоваться папским диском и располагать всеми ресурсами, какие могут вам понадобиться.
Де Сойя несколько раз моргнул.
— Капитан Ву!
— Да, капитан де Сойя?
— Могу ли я оставить при себе отделение сержанта Грегориуса?
Капитан Ву, которой, как ни странно, подчинялись находившиеся в помещении генералы и адмиралы, улыбнулась:
— Капитан, если вы захотите, вашими телохранителями станут те, кто сидит сейчас за этим столом. Никто не вправе лишить вас полномочий, которые вам дает папский диск.
— Спасибо, господа, — сдержанно поблагодарил де Сойя. — Мне вполне достаточно сержанта Грегориуса и его людей. Я улетаю сегодня же.
— Куда, Федерико? — поинтересовался отец Браун. — Тебе известно, что, несмотря на все усилия, мы так и не выяснили, куда портал отправил звездолет. У реки Тетис много притоков, а данные относительно миров, куда ведет этот портал, по всей видимости, не сохранились.
— Верно, святой отец, — отозвался де Сойя, — но, если мне не изменяет память, река Тетис соединяла между собой всего двести с чем-то миров. Так или иначе, корабль Энеи на одном из них. Мой авизо способен облететь все миры — с учетом времени, которое уйдет на воскрешения после прыжков, — менее чем за два года. Я отправляюсь в путь.
Сидевшие за столом, казалось, потеряли дар речи. Человека, который стоял перед ними, ожидали сотни смертей и воскрешений. Насколько было известно членам суда, еще никто с тех пор, как Церковь открыла таинство воскрешения, не подвергал себя таким мучениям.
— In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti,[78] — проговорил отец Браун, благословляя де Сойю. — С Богом, капитан отец де Сойя. Да хранит вас Господь.
Глава 29
Когда нас подстрелили за несколько сотен метров от портала, я решил, что теперь нам точно крышка. Внутреннее силовое поле исчезло в ту же секунду, как отключились генераторы; гигантская стена, то бишь поверхность планеты, что недавно была вверху, вдруг оказалась внизу, и звездолет рухнул, точно лифт, у которого оборвался трос.
Я с трудом подбираю слова, чтобы описать свои ощущения в те минуты. Теперь мне известно, что силовое поле никуда не исчезло, а просто переключилось на «режим катастрофы» (шикарное названьице, верно?). Чудилось, будто мы угодили в чан с желатином. «Катастрофическое поле» в долю секунды заполонило весь корабль, окутало нас и начисто лишило подвижности. Звездолет плюхнулся в реку, подняв со дна клубы ила, включил главный двигатель (из-за чего над рекой вырос столб пара) и устремился вперед; компьютер выполнял последнюю из полученных перед аварией команду — провести корабль через нуль-портал. Глубина составляла, должно быть, метра три, вода на поверхности реки кипела и испарялась, но портал, судя по всему, работал в любых условиях. Позднее компьютер рассказал, что, когда через портал проходила корма звездолета, вся вода в реке внезапно испарилась, будто по арке дали залп из лучевого орудия. По иронии судьбы, именно пар задержал луч на те миллисекунды, какие требовались кораблю, чтобы завершить переход.
Я замер, широко раскрыв глаза. Мой взгляд перебегал с мониторов наружного обзора на по-прежнему прозрачную переборку. Нуль-портал ожил, сквозь воду и пар пробился солнечный свет. Под «брюхом» звездолета заскрежетали камни, а в следующий миг мы увидели голубое небо и яркое солнце.
Неожиданно мониторы потухли, корпус утратил прозрачность, и на несколько минут мы очутились в непроглядном мраке. Я висел над полом, раскинув в стороны руки — правая нога подогнута, словно на бегу, рот раскрыт в беззвучном вопле, веки никак не могут сомкнуться. Поначалу мне показалось, что я задыхаюсь («желатиновое поле» буквально лезло в рот), но вскоре мои легкие ощутили приток кислорода. Аварийное поле действовало в том числе и как осмотическая маска наподобие тех, которые в эпоху Гегемонии использовались для глубоководных погружений: сквозь плотный кокон, каким оно охватывало тело, свободно проникал воздух. Сказать по правде, чувство было не слишком приятное — дело в том, что меня с детства преследовала боязнь задохнуться, — но все же не шло ни в какое сравнение с темнотой, из-за которой накатил приступ клаустрофобии. Корабль будто застрял в гигантской паутине. Неужели навсегда? Неужели аварийное поле так и не выключится и мы трое умрем от голода в этих непристойных позах? Рано или поздно энергия истощится, силовой экран исчезнет и наши кости рухнут на пол, брошенные рукой неведомой гадалки…
Аварийное поле отключилось минут через пять. Лампы вспыхнули, мигнули и снова погасли, после чего сработала система аварийного освещения. Мы медленно опустились на пол, который совсем недавно был стеной. Корпус снова сделался прозрачным, но разглядеть что-либо сквозь взабаламученный ил не представлялось возможным.
Только теперь, вырвавшись из желатиновых тисков, я смог повернуть голову и увидел Энею и А.Беттика. Из моей глотки наконец вырвался вопль, который я начал издавать в тот момент, когда нас подстрелили.
Какое-то время мы молча ощупывали руки, ноги и головы, проверяя, все ли в порядке.
— Мамочки! — выдавила Энея и попыталась встать.
— Корабль! — позвал андроид. В его голосе не было и тени волнения.
— Слушаю, А.Беттик.
— Ты цел?
— Я только что закончил проверку всех систем. Обнаружены внешние повреждения генераторов, двигателей, а также кормовой секции корпуса и двух стабилизаторов.
— Корабль… — Я встал и огляделся по сторонам. Сквозь залепленный грязью корпус пробивался солнечный свет. Вода плескалась у бортов корабля, который сидел в реке на два-три диаметра корпуса. Судя по всему, мы долго скользили по дну, а затем врезались в песчаный берег. — Корабль, твои датчики работают?
— Только радар и система визуального контроля.
— Как насчет погони? Никто не проник через портал следом за нами?
— Нет, — ответил компьютер. — В пределах действия радара не обнаружено ни наземных, ни воздушных неорганических целей.
— А солдаты? — поинтересовалась Энея, подойдя к стене, которая недавно была полом и которую по-прежнему устилал ковер.
— Органических целей также не обнаружено.
— Портал продолжает действовать?
— Нет. Он прекратил работать через восемнадцать наносекунд после того, как мы им воспользовались.
Напряжение слегка отпустило. Я посмотрел на девочку. Если не считать растрепанных волос и полубезумного блеска в глазах, с ней вроде бы все было в порядке. Перехватив мой взгляд, Энея усмехнулась:
— Есть идеи, Рауль?
Чтобы сообразить, что она имеет в виду, мне пришлось поднять голову. Трап находился метрах в трех над нашими головами.
— Корабль! — позвал я. — Ты можешь включить внутренний силовой экран? Ровно на столько, чтобы мы могли выбраться наружу?
— К сожалению, нет, — отозвался компьютер. — Генераторы силовых полей требуют ремонта.
— А открыть над нами люк? — Я вновь ощутил приближение приступа клаустрофобии.
— Боюсь, тоже нет. В данный момент я получаю питание от аккумуляторной батареи, а перестройка корпуса требует значительных затрат энергии. Попробуйте выйти через шлюз. Я его открою.
Мы переглянулись.
— Замечательно! — Я криво усмехнулся. — Тридцать метров ползком через завалы! Кто первый?
— Сила тяжести, — проговорила Энея. — Чувствуешь?
Она не ошиблась. Сила тяжести явно уменьшилась. Я впопыхах не придал этому значения — решил, что причиной всему колебания внутреннего силового поля. Ну разумеется — другой мир, другие физические условия…
— Полетели? — спросил я наконец, указывая на трап.
— Не смешно. Кажется, сила тяжести здесь меньше, чем на Гиперионе. Если вы двое меня подбросите, я заберусь на трап и скину вам какую-нибудь веревку.
Так мы и поступили. С нашей помощью Энея достала до нижней ступеньки трапа, подтянулась, стащила с постели одеяло, обвязала один конец вокруг поручня, а второй сбросила вниз. Мы с А.Беттиком забрались по этому «канату», после чего следом за девочкой двинулись по центральному колодцу, то и дело хватаясь за стены и ступеньки, чтобы сохранить равновесие. Миновали залитую красным светом библиотеку, где валялись на полу книги — страховочные шнуры не выдержали удара, прошли через проекционную нишу с висевшим на стене «Стейнвеем» (ножки рояля были прикручены к полу) и в конечном итоге добрались до шлюза. Я отыскал свой вещмешок и оружие, которое отобрал на всякий случай. Пристегнув к поясу кобуру с пистолетом и повесив на плечо веревку, я почувствовал себя увереннее.
В коридоре царил настоящий бардак, все валялось вперемешку; мало того, в почерневших, прогнувшихся внутрь переборках зияли дыры. Шлюз был открыт, но находился на высоте нескольких метров. Мне пришлось забраться по стене и сбросить своим спутникам веревку. Пока они поднимались, я выбрался наружу. Протянул руку, вытащил наверх Энею и помог завершить восхождение А.Беттику.
О дивный новый мир! Наверно, нельзя передать словами чувства, какие я испытывал в тот миг — несмотря на крушение, на положение, в котором мы оказались, несмотря на все. Новый мир! Я и не подозревал, что могу испытывать что-либо подобное. Планета во многом напоминала Гиперион: пригодный для дыхания воздух, голубое небо — впрочем, на Гиперионе оно было лазурным, а здесь действительно голубым; кудрявые облака над головой, река, более широкая, чем та, в которую мы плюхнулись на Возрождении-Вектор, и поросшие джунглями берега. Справа джунгли уходили к самому горизонту, слева их загораживал нуль-портал. Нос корабля лежал на песчаной косе, сразу за которой тоже начинались джунгли, этакий зеленый занавес над узкой сценой.
Все было вроде бы знакомо и в то же время носило отпечаток чужеродности: странный привкус воздуха, другая сила тяжести, слишком голубое небо, диковинные «деревья» — точнее всего было бы назвать их пушистыми зелеными папоротниками. В небе кружили неведомые белые птицы, напуганные грохотом, сопровождавшим наше прибытие.
Мы прошли по корпусу на нос. Легкий ветерок шевелил волосы Энеи, норовил забраться ко мне под рубашку. Пахло чем-то вроде корицы и тимьяна… Нет, аромат был, пожалуй, богаче. Снаружи корпус на носу не был прозрачным: то ли компьютер затемнил его намеренно, то ли так и было задумано. Если бы звездолет не пропахал в песке глубокую борозду, мы бы вряд ли сумели слезть. Я спустил на веревке сначала А.Беттика, затем Энею, затем свой вещмешок, к которому сверху привязал плазменную винтовку, после чего съехал сам — и ткнулся носом в песок.
Ничего себе первый шаг по поверхности неизведанного мира!
Девочка и андроид помогли мне подняться. Энея прищурясь поглядела на корабль.
— Как же мы заберемся обратно?
— Сколотим лестницу, подтащим упавшее дерево… И потом, — я ткнул пальцем в вещмешок, — у меня с собой ковер-самолет.
Коса представляла собой узкую песчаную полосу, отливавшую красным в свете солнца. За ней начинались густые заросли, под сенью которых царил полумрак. Дул прохладный ветерок; правда, в джунглях он вряд ли чувствуется. В двадцати метрах над нами раскачивались, точно усики гигантских насекомых, стебли папоротников.
— Погодите. — Я направился в джунгли. Подлесок оказался густым, а почва — настолько влажной, что больше напоминала губку. Пахло сыростью, но запах отличался от того, какой исходит от гиперионских болот. Мне сразу вспомнились клещи-«дракулы» и прочие прелести жизни на болотах, поэтому я стал смотреть, куда ставлю ногу. Со стеблей папоротников свешивались лианы, которые образовывали в полумраке некое подобие кружев. Я пожалел, что не прихватил с собой мачете.
Не прошел я и десяти метров, как высокий куст с мясистыми красными листьями неожиданно словно взорвался. «Листья» замахали крыльями и скрылись в джунглях. Эти существа смахивали на крыланов, которых привезли на Гиперион первопоселенцы.
— Черт! — прошептал я и спиной вперед двинулся обратно. Когда я наконец выбрался на косу, выяснилось, что моя рубашка порвалась сразу в нескольких местах. Энея с А.Беттиком выжидательно смотрели на меня.
— Джунгли, — сообщил я.
Мы подошли к воде, уселись на торчавший из реки ствол дерева и уставились на корабль. Честно говоря, наш звездолет напоминал выброшенного на берег кита (я видел китов на голограммах из истории Старой Земли).
— Взлетит ли он снова? — пробормотал я, разламывая на три части плитку шоколада.
— Естественно, — отозвался голос из браслета у меня на запястье.
Признаюсь, я даже подскочил от неожиданности, поскольку совсем забыл про комлог.
Я поднес браслет к лицу, как будто говорил в микрофон, и спросил: «Корабль?»
— Это вовсе не обязательно, — сообщил компьютер. — Я и так хорошо слышу. Вы спрашивали, смогу ли я летать. Почти наверняка. После того как я вернулся в город Эндимион, мне пришлось проделать куда более сложный ремонт.
— Отлично. Я рад, что ты можешь… э-э… починить себя. Тебе что-нибудь нужно? Запчасти, например?
— Нет, месье Эндимион. Ремонт заключается в перепланировке поврежденных отсеков и не займет много времени.
— Сколько именно? — уточнила Энея, облизав испачканные шоколадом пальцы.
— Шесть стандартных месяцев, — ответил компьютер. — Если, конечно, не возникнет непредвиденных осложнений.
Мы переглянулись. Я повернулся к джунглям. Солнце потихоньку клонилось к закату, его лучи освещали теперь только макушки папоротников.
— Шесть месяцев?
— Если не возникнет непредвиденных осложнений, — подтвердил компьютер.
— Какие будут предложения? — справился я у своих товарищей.
Энея брызнула водой себе в лицо, провела мокрой пятерней по волосам и откинула их со лба.
— Это река Тетис. Мы можем отправиться вниз по течению до следующего портала.
— Думаешь, у тебя снова получится?
— Что именно?
— Ну… — Я помахал рукой. — Заставить работать устройство, которое бездействовало триста лет.
— Не думаю, Рауль. — Девочка пристально поглядела на меня, потом перевела взгляд на бесстрастно наблюдавшего за нами А.Беттика. — Честное слово.
— А что произошло бы, если бы портал не сработал?
— Нас бы поймали, — отозвалась Энея. — Вас двоих скорее всего отпустили бы, а меня отвезли на Пасем. И больше про Энею никто никогда бы не услышал.
Девочка произнесла последнюю фразу таким тоном, что у меня по спине поползли мурашки.
— Значит, хорошо, что все получилось именно так. Но как ты его включила?
Девочка сделала неопределенный жест, к которому я уже начал привыкать.
— Не знаю… Мне приснилось, что портал должен меня пропустить…
— Пропустить?
— Ну да. Он меня узнал… и пропустил.
Я вытянул ноги, уперся каблуками в песок и положил руки на колени.
— Послушать тебя, так портал не машина, а живое, разумное существо.
Энея посмотрела на возвышавшуюся в отдалении арку.
— В каком-то смысле так и есть. К сожалению, я не могу объяснить.
— Но ты уверена, что он не пропустит солдат?
— Уверена. Он может открыться только передо мной.
— Тогда почему он пропустил нас с А.Беттиком? — поинтересовался я, вопросительно приподняв бровь. — И наш корабль?
— Вы были со мной, — улыбнулась Энея.
— Ладно, разберемся. — Я встал. — Перво-наперво надо составить план действий. Отправимся на разведку или сначала вытащим из корабля все необходимое?
Энея посмотрела на реку.
— «…я отправился в кладовую, набил карманы сухарями и ел их на ходу, чтобы не терять времени. В кают-компании я нашел бутылку рому и отхлебнул из нее несколько хороших глотков…»[79]
— Что? — переспросил я, закидывая за спину вещмешок.
— Ничего, — ответила Энея. — Это из старинной книжки, которую читал мне дядя Мартин. Он говорил, что редакторы всегда были бестолковыми, даже полторы тысячи лет назад.
Я обернулся к андроиду:
— А.Беттик, ты что-нибудь понимаешь?
— Месье Эндимион, — откликнулся он с выражением лица, которое я определил про себя как улыбку, — от меня не требуется понимать мадемуазель Энею.
— Подумаешь! — Я вздохнул. — Бог с вами… Итак, с чего начнем?
— Я за то, чтобы осмотреться, — сказала Энея. — Только в джунгли я не пойду.
— Понятно. — Я вытащил из вещмешка ковер-самолет и расстелил его на песке. — Проверим, действует ли он на этой планете. Кстати. — Я посмотрел на комлог. — Где мы, корабль?
Компьютер ответил после паузы, словно его оторвали от какого-то важного дела.
— К сожалению, из-за проблем с памятью я не могу ответить на ваш вопрос. Могла бы помочь навигационная система, но звезды еще не появились. На данный момент не обнаружено никаких электромагнитных и микроволновых излучений искусственного происхождения, а также ни единого спутника связи или космического корабля на стационарной орбите.
— Спасибо за информацию, — сказал я, — но мне бы хотелось узнать, где мы находимся.
Энея, перехватив мой взгляд, пожала плечами:
— Откуда мне знать?
— Ты привела нас сюда. — Я понял, что еще чуть-чуть — и сорвусь на крик, такое у меня было состояние.
Девочка покачала головой:
— Я всего лишь включила портал. И думала только об одном — как бы удрать от капитана Как-Бишь-Его и кораблей Ордена. И все.
— Удрать от капитана, чтобы найти архитектора, — пробормотал я.
— Совершенно верно.
— Между прочим, что-то непохоже, чтобы здесь, — я показал на зеленую стену джунглей, — водились архитекторы. Пожалуй, ты права. Надо искать следующий портал.
Только теперь мне стало ясно, почему мы врезались в берег. Метрах в пятистах от портала река делала поворот, в который звездолет, двигаясь по прямой, естественно, не вписался.
— Слушайте, зачем искать другой портал? Разве нельзя перепрограммировать этот?
А.Беттик сделал шаг в сторону, чтобы лучше видеть арку.
— Порталы реки Тетис были устроены иначе, чем персональные нуль-Т, — проговорил он. — Иначе, нежели порталы Гранд-Конкурса и космические «врата». — Сунув руку в карман, андроид достал книжицу. Я увидел название: «Путеводитель по мирам Сети». — По реке путешествовали ради отдыха и развлечений. Расстояние между порталами составляет от пяти — десяти до нескольких сотен километров…
— Нескольких сотен?! — воскликнул я. Признаться, я надеялся, что следующий портал находится за очередным изгибом русла.
— Да, месье Эндимион. Насколько я понял, назначение реки Тетис заключалось в том, чтобы познакомить путешественника с возможно большим количеством миров, чтобы впечатления остались у него на всю жизнь. Поэтому порталы действуют только в одну сторону, причем по принципу случайной выборки. То есть они тасуют миры как карты в колоде.
Я покачал головой:
— В «Песнях» говорится, что после Падения река Тетис разделилась на множество частей… Пересохла, как ручеек в пустыне…
— Дядюшка Мартин врет и не краснеет, — фыркнула Энея. — Он же не видел Тетис после Падения. Сидел сиднем на своем Гиперионе и даже не пытался сунуться в Сеть.
Вряд ли ей следовало отзываться в таких выражениях о величайшем литературном произведении последних столетий, равно как и о его творце. Впрочем, меня слова девочки рассмешили настолько, что я расхохотался — и понял, что не могу остановиться.
— Рауль, с тобой все в порядке?
— Ага. Просто рехнулся от счастья. — Я повел рукой, как бы охватывая джунгли, реку, нуль-портал и звездолет. — Что еще нужно человеку, чтобы стать счастливым?
Энея кивнула.
— В книжке про этот мир ничего не говорится? — спросил я у андроида. — Джунгли, голубое небо… Наверно, девять с половиной по шкале Сольмева. Таких миров всего ничего.
А.Беттик принялся перелистывать страницы.
— В том куске, который я прочел, о джунглях не упоминалось. Возможно, этот мир описан дальше.
— Между прочим, не мешало бы осмотреться. — Энее явно не терпелось отправиться на разведку.
— Но сначала надо вынести из корабля то, что может нам пригодиться. Я составил список…
— Когда мы закончим, солнце уже сядет.
— Ну и что? В конце концов, дисциплина…
— Прошу прощения, месье Эндимион, — вмешался А.Беттик. — Быть может, вы с мадемуазель Энеей отправитесь на разведку, а я тем временем вынесу вещи, указанные в вашем списке. Или вы предпочитаете переночевать в корабле?
Мы не сговариваясь повернулись к звездолету, вокруг которого бурлила река. Над водой торчали почерневшие культи искореженных стабилизаторов. Я представил себе, как мы укладываемся спать посреди царящего на борту бардака, при красном аварийном освещении или в непроглядном мраке на главных уровнях, и сказал:
— Там, конечно, безопаснее, но я за то, чтобы вытащить все необходимое.
Мы с андроидом обсудили, что именно ему следует вынести. При мне была плазменная винтовка и пистолет сорок пятого калибра в кобуре на поясе, однако я прикинул, что стоит, пожалуй, прихватить и дробовик, а также походное снаряжение. Поскольку ковер-самолет вряд ли выдержал бы нас троих вместе с экипировкой, я посоветовал А.Беттику собрать три из четырех мини-катеров и не забыть нагреватель, спальные мешки, пенолитовые подстилки, фонари и коммуникатор.
— Да, если увидишь мачете… Помнится, я наткнулся на несколько ящиков с ножами. Кажется, мачете там не было, но если оно тебе все же подвернется, обязательно возьми.
Мы нашли на берегу реки поваленное ветром дерево и подтащили его к кораблю (я весь вспотел и ругался не переставая). Получились своего рода сходни.
— Еще постарайся найти веревочную лестницу. И плот из негорючего материала.
— Все? — сухо поинтересовался А.Беттик.
— Наверно. Если не считать портативной сауны, хорошего бара и оркестра, который развлекал бы нас музыкой.
— Приложу все усилия, месье. — Андроид полез вверх по стволу.
Признаться, я чувствовал себя виноватым из-за того, что переложил всю тяжелую работу на А.Беттика. С другой стороны, следовало выяснить, далеко ли до следующего портала, а отпускать девочку одну у меня не было ни малейшего желания. Мы с Энеей уселись на ковер, я прикоснулся к золотым нитям, и наш чудо-аппарат приподнялся на несколько сантиметров над песком.
— Блин, — проговорила девочка.
— Что?
— Дядя Мартин рассказывал, что это слово выражает удивление, разочарование, восторг — что угодно. Детский сленг Старой Земли.
Я вздохнул. Ковер-самолет поднимался по спирали. Вскоре мы очутились над макушками деревьев, и я увидел, что солнце и впрямь медленно, но верно клонится к закату.
— Корабль?
— Слушаю, месье Эндимион. — Не знаю, как остальным, а мне по тону компьютера всегда казалось, что я отвлекаю машину от какого-то важного дела.
— Я разговариваю с тобой или с базой данных, которую ты загрузил в комлог?
— До тех пор, пока не выйдете за радиус действия комлога, вы будете разговаривать со мной.
— А каков радиус действия? — В тридцати метрах над рекой я выровнял ковер-самолет. А.Беттик, стоявший у открытого шлюза, помахал нам рукой.
— Двадцать тысяч километров, — отозвался компьютер. — Впрочем, радиус зависит от кривизны поверхности планеты. Как я уже упоминал, спутников связи на орбите не обнаружено.
Мы двинулись вверх по течению реки, к арке портала.
— А связаться со мной через портал ты сможешь?
— Через нуль-портал? Каким образом, месье Эндимион? Вы же удалитесь на световые годы.
Ответы корабля нередко выставляли меня в собственных глазах недалеким провинциалом. Поэтому я был рад отвязаться от него хотя бы на время.
Энея подалась вперед, чтобы я расслышал, и крикнула мне в ухо:
— Через порталы раньше протягивали волоконно-оптические кабели. Это, конечно, не так надежно, как мультилиния, но все же…
— Значит, — бросил я не оборачиваясь, — если мы захотим связаться с кораблем из-за портала, нам придется протянуть телефонную линию?
Краем глаза я заметил, что девочка усмехнулась. Неожиданно мне в голову пришла интересная мысль.
— Если порталы — односторонние, каким образом мы вернемся к нашему кораблю?
— Полетим дальше. — Энея положила руку мне на плечо. Портал стремительно приближался. — Река Тетис представляет собой кольцо.
— Ты серьезно? — осведомился я, повернувшись к девочке. — Сколько миров она объединяла? Около двухсот?
— По меньшей мере. Возможно, есть и другие, но мы о них не знаем.
Я не понял, что она имела в виду, а потому снова вздохнул:
— Если каждый отрезок реки тянется на сотню километров… Сколько нужно времени, чтобы преодолеть расстояние в двадцать тысяч километров?
Энея промолчала.
Мы подлетели к порталу. Только теперь я осознал, насколько он велик. Металлическую арку украшали затейливые узоры и даже нечто вроде загадочной вязи, вся она поросла мхом, поверх которого извивались лианы. То, что я сначала принял за ржавчину, оказалось на деле стайками растений-крыланов. На всякий случай я отвел ковер подальше.
— А вдруг он работает? — сказал я, когда мы зависли в паре метров над поверхностью воды.
— Попробуй, — предложила Энея.
Я осторожно направил ковер вперед. Он медленно пересек невидимую границу… Ничего не случилось. Мы всего-навсего оказались на другой стороне. Я развернул ковер. Старинный нуль-портал казался не более чем причудливой формы металлическим мостом через реку.
— Дохлый номер. Все равно что соблазнять импотента. — То было одно из любимых присловий моей бабушки, которое она вспоминала, только когда поблизости не было детей. — Ой! — Я покраснел. Наверно, провел слишком много времени в дурной компании: солдаты, речники, посетители казино…
Энея расхохоталась:
— Рауль, я же выросла в доме дядюшки Мартина!
Мы вернулись к звездолету, помахали А.Беттику, который вытаскивал на берег вещи.
— Ну что, летим искать следующий портал? — спросил я.
— Естественно, — отозвалась девочка.
Мы отправились вниз по течению. Песчаные пляжи вроде того, на котором лежал наш корабль, попадались крайне редко, джунгли подступали к самой воде. Меня беспокоило, что мы не знаем, в каком направлении летим, поэтому я достал из вещмешка свой инерционный компас. Он помогал мне на Гиперионе, чье магнитное поле — вернее, почти полное отсутствие оного — способно свести с ума кого угодно, но здесь оказался бесполезен. Чтобы компас начал действовать, следовало задать исходный ориентир, а этой роскоши мы лишились, как только звездолет нырнул в портал.
— Корабль, — позвал я в комлог, — ты можешь дать направление по магнитному компасу?
— Могу, месье Эндимион, — откликнулся компьютер, — но лишь приблизительно, поскольку в данный момент не в состоянии определить местонахождение магнитного полюса.
— Сойдет и приблизительно. — Мы повернули следом за рекой, которая стала гораздо шире: от берега до берега было около километра. За то время, пока я ходил по Кэнсу, у меня вошло в привычку высматривать пороги, топляк, песчаные отмели и так далее в том же духе. Здесь, похоже, подобных неприятностей можно было не опасаться.
— Вы направляетесь на восток-юго-восток, — сообщил компьютер. — Со скоростью шестьдесят восемь километров в час. Датчики показывают, что силовой экран задействован на восемь процентов. Высота…
— Ладно, ладно, — перебил я. — Значит, восток-юго-восток… — Судя по тому, что солнце опускалось за нашими спинами, этот мир мало чем отличался от Гипериона — или Старой Земли.
Река текла по прямой, и я увеличил скорость. В лабиринте Гипериона ковер мчался со скоростью почти триста километров в час, но там я торопился, а тут пока спешить было некуда. В конце концов, чего ради сажать аккумулятор? Надо не забыть зарядить его перед тем, как мы покинем корабль. Катера катерами, а ковер наверняка пригодится еще не раз.
— Смотри. — Энея показала влево. На севере над зеленым покровом джунглей возвышалась то ли столовая гора, то ли творение человеческих рук. — Полетели?
Я покачал головой. Во-первых, мы искали портал, во-вторых, поджимало время, поскольку солнце опускалось все ниже, а в-третьих, с какой стати было рисковать? Скорее всего эта штуковина — здешняя штаб-квартира Ордена.
— Полетели. — Я мысленно обозвал себя идиотом и направил ковер на север.
Несмотря на то что я увеличил скорость до двухсот километров в час, дорога заняла у нас не меньше десяти минут.
— Прошу прощения, месье Эндимион, — подал голос компьютер, — но вы уклонились с прежнего курса и движетесь сейчас на север-северо-восток. Отклонение составляет примерно сто три градуса.
— К северу от нас находится то ли башня, то ли высокий холм, — сказал я. — Ты видишь его на радаре?
— Нет. — И вновь мне почудилось, что компьютер разговаривает со мной, как учитель с учеником. — С того места, где я застрял, любая цель ниже двадцати восьми градусов от горизонта не поддается обнаружению. Кстати, если вы полетите дальше в том же направлении, я потеряю вас из виду.
— Мы просто посмотрим, что это такое, и сразу вернемся.
— Насколько я понимаю, башня не имеет ни малейшего отношения к нашим дальнейшим планам, — заметил компьютер. — Поэтому ваше решение представляется мне неразумным.
— Мы же люди, — проговорила в комлог Энея.
Корабль промолчал.
Приблизившись к башне, мы увидели, что она возвышается над джунглями на несколько сотен метров. Фундамент башни закрывала густая поросль папоротников; казалось, перед нами встающий из зеленого моря скалистый утес.
Судя по всему, башня была естественного происхождения, однако кто-то, несомненно, приложил к ней руку. Около семидесяти метров в поперечнике, она была сложена из красного камня — по-видимому, какой-то разновидности песчаника — и купалась в лучах заходящего солнца, которое уже опустилось к самому горизонту. На восточном и западном фасадах виднелись отверстия, которые сперва показались нам естественными, пробитыми водой или ветром; но мы быстро поняли, что их прорубили люди. Кроме того, на восточном фасаде имелись углубления, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Наверно, то были зацепки для рук и ног. Впрочем, какой человек, если только он в своем уме, полезет на стену высотой в сотни метров?
— А ближе нельзя? — спросила Энея.
— Думаю, не стоит. — Мы кружили метрах в пятидесяти от башни. — Честно говоря, мы и так слишком близко. Подходящая дистанция для огнестрельного оружия… Или ты полагаешь, что там сидят дикари, вооруженные копьями и луками?
— Если у них луки, нас все равно подстрелят, — произнесла Энея, однако настаивать не стала.
Мне вдруг почудилось, что в одном из овальных отверстий что-то блеснуло. Да нет, ничего. Обман зрения.
— Насмотрелась?
— Еще нет. — Энея крепко держала меня за плечи. Волосы девочки развевались на ветру.
— Нам пора двигаться. — Я направил ковер на юг. Метрах в сорока под нами расстилалось зеленое море, обманчиво неподвижное, словно приглашавшее сесть. Вообразив себе посадку на макушки папоротников, я слегка встревожился. Ну да ладно, у А.Беттика три мини-катера. Он в случае чего вызволит нас из плена джунглей.
Мы отыскали реку примерно в километре к юго-востоку от того места, где свернули в джунгли. Куда ни посмотри, всюду джунгли. И никакого портала.
— Куда теперь?
— Давай пролетим еще немного вперед.
Я кивнул и направил ковер вдоль реки. До сих пор мы не видели ни единого животного, если не считать белых птиц и тех диковинных, похожих на крыланов растений. Я размышлял об углублениях на фасаде грандиозного монолита, когда Энея дернула меня за рукав и показала вниз.
Под водой двигалось нечто огромное. Блики солнечного света слепили глаза, но я все же различил усеянный шипами хвост и нечто вроде плавников. Длина существа составляла метров восемь — десять. В следующий миг оно нырнуло и скрылось из виду.
— Похоже на речную манту, — проговорила девочка. Ковер вновь набрал скорость, включилось силовое поле, вокруг которого посвистывал ветер.
— Ну да, только больше. — Мне доводилось запрягать речных мант и управлять ими. Насколько я помнил, даже самая крупная из них значительно уступала размерами этой твари. Ковер-самолет показался вдруг маленьким и хрупким. На всякий случай я опустился к макушкам папоротников — если старинный летательный аппарат откажет, теперь мы по крайней мере не разобьемся.
Следом за рекой мы свернули налево, заметили, что русло сужается, а вскоре услышали грохот и увидели впереди стену брызг.
Водопад производил не слишком внушительное впечатление — вода срывалась с высоты десяти — пятнадцати метров, — однако из-за того, что реку стискивали скалы, течение было поистине чудовищным. За водопадом виднелись белопенные пороги, дальше река вновь разливалась и успокаивалась. Интересно, подумалось мне, а что, если здесь окажется та рыбина? Выживет ли она после такого прыжка?
— Мне кажется, до темноты мы второго портала не найдем, — сказал я. — Неизвестно, есть ли он тут вообще…
— Есть, — откликнулась Энея.
— К твоему сведению, мы пролетели не меньше сотни километров.
— А.Беттик говорил, что сто километров — это среднее расстояние. Раз так, значит, может быть и двести, и триста… И потом, на разных реках разное количество порталов. И расстояние между ними вовсе не обязательно должно быть одинаковым.
— Откуда ты знаешь? — спросил я, обернувшись к девочке.
— От мамы. Она была детективом и как-то раз три недели подряд плавала по Тетису, преследуя мужчину, который сбежал с подружкой от жены. В итоге эти люди развелись.
— Что значит «развелись»?
— Объясню потом. — Энея оглянулась. — Ты прав, пора возвращаться. А.Беттик с кораблем наверняка уже заждались. Продолжим завтра.
Я развернул ковер и направил его на запад. Мы вновь пролетели над водопадом и рассмеялись, угодив в пелену брызг.
— Месье Эндимион? — окликнул меня по комлогу А.Беттик.
— Мы возвращаемся. Будем самое позднее минут через тридцать.
— Я следил за вами, — спокойно сообщил андроид. — Видел и башню, и водопад.
Мы с Энеей переглянулись. Полагаю, стороннего наблюдателя наши озадаченные физиономии заставили бы усмехнуться.
— То есть комлог передает не только звук, но и изображение?
— Разумеется, — отозвался компьютер. — Причем как видео, так и голографическое. Мы следили за вами через проектор в нише.
— Честно говоря, наблюдать было немного странно, поскольку ниша теперь расположена на стене, — прибавил А.Беттик. — Но я связался с вами по другой причине.
— А именно?
— Судя по всему, у нас гости.
— Такая здоровая рыбина, да? — воскликнула Энея. — Похожая на манту?
— Не совсем, — ответил А.Беттик. — Это Шрайк.
Глава 30
Мы мчались с такой скоростью, что со стороны ковер-самолет наверняка казался размытым пятном. Я попросил корабль дать нам изображение Шрайка, но компьютер заявил, что большинство датчиков заляпано грязью, поэтому вид на песчаную косу дать невозможно.
— А Шрайк на косе? — уточнил я.
— Был секунду назад, когда я выбрался наружу, — ответил А.Беттик.
— А потом перескочил в машинное отделение, — прибавил корабль. — В отсек с аккумуляторами.
— Что? — изумился я. — Как он туда… — Я замолчал, сообразив, что выставляю себя на посмешище. — А где он теперь?
— Трудно сказать, — отозвался андроид. — Я собираюсь проверить все помещения. Связь будем держать через передатчик: компьютер усилит сигнал, чтобы вы слышали мой голос.
— Подожди! — воскликнул я.
— Месье Эндимион, — проговорил А.Беттик. — На вашем с мадемуазель Энеей месте я бы не слишком торопился. Предоставил бы нам с кораблем возможность… гм… узнать намерения нашего гостя.
Вполне разумное предложение. В конце концов мне поручили оберегать девочку, а я несусь сломя голову навстречу едва ли не самому жестокому на свете убийце… Похоже, Рауль Эндимион слегка спятил. Я протянул руку к золотому узору, чтобы сбросить скорость и развернуть ковер на восток.
— Не надо, — сказала Энея, притрагиваясь к моей руке. — Мы возвращаемся.
Я покачал головой:
— Эта тварь…
— Для этой, как ты выразился, твари не существует расстояний. — Судя по тону и выражению глаз, девочка говорила совершенно серьезно. — Если бы Шрайку и впрямь понадобился кто-нибудь из нас, он бы появился прямо на ковре.
Признаться, я невольно оглянулся.
— Поворачивай, — закончила Энея.
Я со вздохом развернул ковер и направил его вверх по течению реки, потом достал из вещмешка плазменную винтовку и откинул приклад.
— Честно говоря, не понимаю… Существуют какие-нибудь свидетельства того, что Шрайк когда-либо покидал Гиперион?
— По-моему, нет. — Девочка уткнулась мне в плечо, чтобы спрятаться от ветра, который заметно усилился, когда скорость упала, а силовой экран стал менее плотным.
— Тогда что происходит? Он следует за тобой?
— Вполне возможно.
— Но с какой стати?
Энея отодвинулась столь резко, что я инстинктивно вытянул руку, чтобы удержать девочку и не дать ей упасть. Заметив мое движение, она передернула плечами.
— Рауль, ну откуда мне знать? Я понятия не имею, может он покидать Гиперион или нет. Поверь, меня гораздо больше устроил бы второй вариант.
— Верю, верю. — Я опустил руку на ковер и внезапно заметил, какой огромной выглядит моя ладонь по сравнению с крохотной ладошкой и миниатюрными ступнями девочки.
— Значит, возвращаемся? — Энея накрыла мою ладонь своей.
— Возвращаемся. — Я вставил в магазин обойму. Пятьдесят патронов, пятьдесят плазменных зарядов. Как учили в армии, я защелкнул магазин, установил переводчик на стрельбу одиночными, проверил предохранитель и положил винтовку на колени.
— Думаешь, это поможет тебе справиться со Шрайком? — крикнула мне в ухо Энея, обхватив меня руками за плечи.
— Нет, — признался я, повернувшись к девочке.
Мы летели на запад, туда, где садилось солнце.
А.Беттик в гордом одиночестве поджидал нас на песчаной косе. Андроид помахал рукой, давая знать, что все в порядке, но я на всякий случай, перед тем как сесть, сделал круг над джунглями. На горизонте виднелся ослепительно алый шар солнца.
Едва ковер коснулся песка рядом с грудой ящиков и оборудования, я вскочил, сжимая в руках снятую с предохранителя винтовку.
— Его по-прежнему не видно, — сказал А.Беттик, который после того, как облазил корабль вдоль и поперек, сообщил нам по рации, что Шрайка нигде нет. Не то чтобы я ему не поверил, но напряжение не отпускало. Следом за андроидом мы подошли к тому месту, где на песке отпечатались следы. Что это были за следы! Невольно возникало впечатление, что здесь зачем-то воткнули в песок две бороны.
Я присел на корточки, чтобы получше разглядеть отпечатки, — ни дать ни взять этакий опытный следопыт. Уже в следующую секунду мне стало ясно, что я вновь пытаюсь свалять дурака.
— Он появился сначала тут, потом в корабле и исчез?
— Совершенно верно, — отозвался А.Беттик.
— Корабль, твои радары его не засекли?
— Нет, месье Эндимион, — откликнулся голос из браслета у меня на запястье. — В машинном отделении нет ни радаров, ни видео…
— А как ты узнал, что он там был? — перебил я.
— В каждом отсеке находятся датчики массы. Мне необходимо знать общий вес, чтобы рассчитать полетную нагрузку.
— Понятно. И сколько весит наш приятель?
— Одну целую шестьдесят три тысячных тонны в метрических единицах, — сообщил компьютер.
Я замер, не успев выпрямиться.
— Что? Больше тысячи килограммов? Ерунда какая-то. — Я вновь уставился на отпечатки на песке. — Не может быть.
— Извините, месье Эндимион, — возразил корабль, — но пока это существо находилось в машинном отделении, я произвел замеры и определил наличие избыточной массы в одну целую шестьдесят три…
— Господи Боже! — Я повернулся к А.Беттику. — Интересно, а раньше его пытались взвешивать?
— Рост Шрайка около трех метров, — проговорил андроид. — Его тело обладает высокой плотностью и способно произвольно менять вес.
— Что значит «произвольно»? — пробормотал я. Вокруг темнело прямо на глазах. Стебли папоротника, ловившие прощальные лучи светила, понемногу погружались во мрак. Небо затянули облака, розовая кромка которых мало-помалу тускнела. — Ты готов определить координаты по звездам?
— Да, месье Эндимион, — откликнулся компьютер. — Но придется подождать, пока разойдутся облака. Я уже проделал некоторые вычисления…
— Какие именно? — уточнила Энея.
— Определив среднюю скорость движения солнца за последние несколько часов, установил, что сутки на этой планете равны восемнадцати часам шести минутам и пятидесяти одной секунде. Разумеется, в измерительных единицах Гегемонии.
— Естественно. — Я снова повернулся к А.Беттику. — В путеводителе упоминаются миры с протяженностью суток восемнадцать часов?
— Пока мне таких не попадалось, месье Эндимион.
— Ладно. Давайте решим, где будем ночевать. Можно вернуться на корабль, а можно погрузить все добро на катера и махнуть к следующему порталу, прихватив с собой плот. Я голосую за второе. По правде сказать, не очень-то хочется оставаться на планете, по которой разгуливает Шрайк.
А.Беттик, словно школьник, поднял руку.
— Мне следовало предупредить вас заранее… — Похоже, андроид был слегка смущен. — Дело в том, что транспортный модуль пострадал от взрыва. Плота обнаружить не удалось, хотя компьютер утверждает, что он имелся на борту, а из четырех катеров три никуда не годятся.
— Совсем? — хмуро поинтересовался я.
— К сожалению, да, — ответил андроид. — Четвертому необходим ремонт. Корабль считает, что это займет несколько дней.
— Черт, — буркнул я себе под нос.
— А на сколько хватает батарей в катерах? — спросила Энея.
— Приблизительно на сто часов, — отозвался мой комлог.
Девочка махнула рукой.
— Значит, невелика потеря. В конце концов вряд ли мы сможем перезарядить батареи.
Я потер рукой подбородок и обнаружил, что в суматохе забыл побриться.
— Я думал об этом. Но если мы хотим взять с собой хоть что-нибудь, от ковра толку мало. Он не выдержит нас троих вместе с оружием и всем необходимым.
Мне показалось, девочка сейчас скажет, что с собой вообще ничего не нужно брать, однако она заявила:
— Обойдемся без ковра.
— То есть? — Стоило мне представить, как я прорубаю дорогу через джунгли, и к горлу подкатила тошнота. — Вещей много, плота нет… Предлагаешь топать пешком?
— Мы можем построить деревянный плот и отправиться на нем вниз по течению, — проговорила Энея. — До следующего портала и дальше по Тетису.
— А водопад? — справился я, вновь потерев подбородок.
— Мы построим плот за водопадом. А вещи перевезем туда утром на ковре. Или ты считаешь, что у нас ничего не выйдет?
Я окинул взглядом стебли папоротников — высокие, стройные, почти идеального размера в обхвате.
— Ну почему же? Помнится, мне уже доводилось строить плоты на Кэнсе. Мы гнали их вместе с баржами, чтобы зашибить побольше деньжат.
— Вот и хорошо. Заночуем здесь. Если в сутках всего восемнадцать стандартных часов, ночь будет короткой. А с рассветом займемся делом.
Я поморщился. Предложение казалось разумным, но мне не хотелось, чтобы у двенадцатилетней девочки вошло в привычку командовать взрослым мужчиной.
— Жаль, что корабль поврежден настолько серьезно. Мы могли бы двигаться дальше на электромагнитной подушке…
Энея засмеялась.
— Рауль, я вовсе не собиралась путешествовать по Тетису на звездолете. — Девочка почесала нос. — Мы же хотим остаться незамеченными, а лететь на нем — все равно что загонять таксу в крокетные ворота: шума много, а толку чуть.
— Что такое такса? — спросил я.
— Что такое крокетные ворота? — осведомился А.Беттик.
— Не важно, — ответила Энея. — Вы согласны переночевать тут, а утром заняться постройкой плота?
Я посмотрел на андроида.
— Разумное предложение, правда, несколько необычное даже для нашего безумного путешествия, — заметил А.Беттик.
— Короче говоря, ты «за», — сказала девочка. — Рауль?
— Я тоже «за». Но где мы будем спать? На берегу или в корабле? Второе безопаснее.
— Несмотря на привходящие обстоятельства, — подал голос корабль, — я с удовольствием предоставлю вам все необходимое для полноценного ночного отдыха. В качестве кроватей можно использовать два саркофага на гибернационном уровне. Кроме того, есть гамаки, которые…
— Предлагаю переночевать на берегу, — сказала Энея. — От Шрайка на корабле все равно не спрячешься.
Я поглядел на темный лес.
— А как насчет других незваных гостей? Нет, внутри все же безопаснее.
— Я обнаружил несколько сигнальных устройств, — сообщил А.Беттик, указывая на небольшой ящик. — Мы можем расставить их по периметру лагеря. И потом, я охотно покараулю хоть до утра. Признаться, хочется побыть на свежем воздухе. Ведь мы столько дней провели взаперти!
Я вздохнул, признавая свое поражение:
— Караулить будем по очереди. Пока не совсем стемнело, давайте разберем этот хлам.
Под хламом я разумел снаряжение, которое вытащил на берег андроид: полимерную палатку толщиной в микрон, похожую на призрачную паутину, но прочную, способную защитить от дождя, и достаточно легкую, чтобы носить ее в кармане; анизотропный куб-нагреватель, холодный с пяти сторон и нагревающийся с шестой; сигнальные устройства, о которых упомянул А.Беттик, диски диаметром три сантиметра, — на самом деле то был охотничий вариант древнего детектора движения, который закапывали в землю и который действовал на расстояние до двух километров; а также спальные мешки, складные пенолитовые подстилки, рации и кухонные принадлежности.
Сперва мы установили сигнальные устройства, расположив их полукругом от края леса до кромки воды.
— А если кто-нибудь вылезет среди ночи из реки? — спросила Энея. Стемнело уже окончательно, но звезды по-прежнему прятались за облаками. Шелест листвы в темноте словно таил в себе некую угрозу.
— В таком случае ты пожалеешь, что отказалась ночевать в корабле, — отозвался я, устанавливая последний детектор на берегу реки.
Затем мы поставили поблизости от зарывшегося в песок носа корабля палатку. Тут не требовалось ни подпорок, ни колышков: следовало всего-навсего дважды сложить материал в нужном месте — и пускай налетает ураган; однако нужна определенная сноровка, поэтому Энея с А.Беттиком стояли в сторонке и наблюдали, как я раскладываю материал на песке, придаю необходимую форму и ставлю возникшую будто из ниоткуда палатку вертикально. Напоследок я сложил часть пола таким образом, что получилось входное отверстие. Андроид одобрительно кивнул, а девочка принялась размещать спальные мешки. Я тем временем поставил на куб сковородку и открыл банку с рагу, потом вспомнил, что Энея — вегетарианка: за те две недели, что мы провели на борту звездолета, она питалась в основном салатами.
— Все в порядке, — успокоила девочка, высунувшись из палатки. — Я поем хлеба с сыром.
А.Беттик принес хвороста и стал разводить костер.
— Зачем? Разве этого мало? — Я ткнул пальцем в сторону куба, на котором шипела сковородка с рагу.
— Ни в коем случае. Просто я подумал, что будет приятно посидеть у костра. К тому же так светлее.
Андроид оказался прав. Сидя под импровизированным пологом палатки, мы наблюдали за искрами, что взлетали ввысь, навстречу надвигающейся буре. То была странная буря, с лучами зыбкого света вместо молний. Эти лучи вырывались из облачного покрова и тянулись к стеблям папоротника, которые судорожно раскачивались на ветру. Грома не было и в помине, но, если прислушаться, можно было различить некий диковинный гул, от которого вставали дыбом волосы. В джунглях мерцали ало-желтые огоньки; сразу вспомнились гиперионские лучистые паутинки — впрочем, здешние огоньки мерцали как-то тревожно, почти зловеще… Позади нас с плеском накатывались на берег волны. Должно быть, я выглядел весьма комично — на голове наушники, настроенные на частоту сигнальных устройств, в руках плазменная винтовка, на лбу прибор ночного видения, который так и норовит сползти на глаза. Но мне было не до смеха: перед мысленным взором то и дело возникали следы Шрайка.
— Как он держался? — спросил я у андроида. — Угрожающе? — Я попытался всучить А.Беттику шестнадцатимиллиметровый дробовик (самое удобное оружие для того, кто впервые берет его в руки). Андроид не стал отказываться — просто положил дробовик на землю.
— Вообще никак. Просто появился на берегу — высокий, весь в шипах, глаза красные… Постоял и исчез.
— Он видел тебя?
— Нет. Он смотрел на восток.
«Словно ожидая нашего с Энеей возвращения», — подумалось мне.
Я сидел у костра, наблюдая за сполохами в небе и мерцанием огоньков среди листвы, следил за искрами, что порхали над костром, подгоняемые ветром, прислушивался к далекому гулу, напоминавшему рычание голодного зверя, и размышлял о том, каким образом во все это вляпался. Вот мы тут пялимся на огонь, а к нам наверняка подбираются стаи злобных, коварных, кровожадных хищников. Или река того и гляди выйдет из берегов, и напор воды сметет палатку в мгновение ока. Да, разбивать лагерь на песчаной косе было явной глупостью. Надо было спать в корабле, предварительно задраив шлюз.
Энея, которая лежала на животе и глядела на огонь, попросила:
— Расскажите мне какую-нибудь историю.
— Историю?! — воскликнул я. А.Беттик, который сидел, обняв руками колени, поднял голову.
— Ну да. Про привидения. — Я фыркнул. Девочка подперла ладонью подбородок. На ее лице играли огненные блики. — Мне нравятся истории про привидений.
Я прикинул, чем можно ответить, и решил было промолчать, но все же не выдержал:
— Спи лучше. Если корабль ничего не напутал с протяженностью суток, ночь скоро кончится… — Дай-то Бог, подумалось мне. — Отдыхай, пока есть возможность.
— Ладно. — Бросив прощальный взгляд на сполохи в небе, огни святого Эльма в лесу и искры над костром, девочка залезла в спальный мешок и закрыла глаза.
У нас с А.Беттиком разговор не клеился. Время от времени я подносил к губам комлог, связывался с компьютером и требовал, чтобы он предупредил меня, если река начнет подниматься, или если обнаружится посторонняя масса, или…
— Месье Эндимион, я с радостью подежурю первым, — вызвался андроид.
— Иди спать, — пробормотал я, забыв, что андроид почти не спит.
— Значит, будем караулить вдвоем. Но если вас начнет клонить в сон, спите спокойно.
Вполне возможно, за те шесть часов, которые продолжалась ночь, я и впрямь несколько раз погружался в дремоту. Кораблю так и не удалось сориентироваться по звездам, поскольку облака не разошлись до самого утра. Хищники на нас не напали, река не затопила лагерь; ни сполохи, ни болотные огни не причинили нам ни малейшего вреда.
Вспоминая ту ночь, я вновь ощущаю острый приступ паранойи и смертельную усталость и вижу словно воочию спящую Энею — волосы рассыпались по поверхности спального мешка, одна рука лежит у самого лица, будто девочка собирается сосать палец. Той ночью я отчетливо осознал, сколь сложная передо мной задача — уберечь Энею от всего, чем грозит ей безучастная к людским заботам вселенная.
Может быть, именно в ту пронизанную ветром ночь я впервые испытал родительские чувства.
Мы принялись за работу, едва рассвело. Утро запомнилось усталостью, резью в глазах, щетиной на щеках, болью в натруженной спине и той радостью, которую я обычно ощущал, ночуя на свежем воздухе. Энея сходила к реке умыться, и я вынужден был признать, что девочка вопреки сложившимся обстоятельствам выглядит на удивление отдохнувшей.
А.Беттик сварил кофе, который мы с ним разделили по-братски, наблюдая за клубящимся над рекой туманом. Энея пригубила воды из прихваченной с корабля бутылки, а позавтракали мы сухими овсяными хлопьями.
К тому времени, когда над зеленым пологом джунглей поднялось солнце, лучи которого моментально разогнали туман, мы уже успели перевезти часть груза. Поскольку накануне ковер-самолет пилотировали мы с Энеей, теперь им управлял А.Беттик, а я проверял, все ли имеется в наличии, и вытаскивал из корабля на берег недостающее.
Меня беспокоила одежда. Я упаковал все, что счел необходимым, однако у девочки был только тот костюм, который она носила на Гиперионе, плюс несколько рубашек Консула. Вообще-то за те двести пятьдесят лет, в течение которых он замышлял спасти Энею, старик Силен мог бы позаботиться об одежде для девочки. Энею, правда, отсутствие нарядов нисколько не тревожило, но если наступят холода или зарядят дожди…
Проблема разрешилась довольно легко. В транспортном отсеке нашлись комбинезоны, которые надеваются под скафандры; самый маленький из них пришелся Энее почти впору. В таком комбинезоне она не замерзнет, даже если ударят морозы. Я прихватил по комбинезону и для нас с андроидом: снаружи царила тропическая жара, подбирать зимнюю одежду казалось, мягко выражаясь, чудачеством, но береженого, как известно, и Бог бережет. Кроме того, я обнаружил принадлежавший Консулу жилет — длинный, со множеством обыкновенных и потайных карманов, «молний» и застежек. Увидев жилет, Энея взвизгнула от восторга, тут же напялила его на себя и с тех пор практически не снимала.
Мы отыскали вдобавок два заплечных мешка для образцов, в один из которых Энея запихала все то, чем мы пополнили список А.Беттика.
Я был уверен, что рано или поздно найду плот, но сколько ни шарил в отсеке, так ничего и не обнаружил.
— Месье Эндимион, — заметил компьютер, когда я объяснил девочке, что, собственно, разыскиваю, — я смутно припоминаю…
Мы с Энеей замерли. В голосе компьютера словно прозвучала боль.
— Я смутно припоминаю, как Консул забрал плот… и махал мне с него рукой…
— Где это было? — спросил я. — На какой планете?
— Не знаю, — тем же тоном отозвался корабль. — Может быть, вовсе не на планете. Я вспоминаю звезды, сиявшие под рекой…
— Под рекой? — Внезапно меня обуяла тревога: может, после катастрофы корабль, если можно так выразиться, повредился в уме?
— Воспоминания сохранились только в обрывках. — Тон компьютера стал более деловым. — Но я точно помню, что Консул уплыл на плоту. Плот был большой, на нем свободно могли разместиться человек восемь — десять.
— Замечательно. — Я захлопнул дверцу, и мы с Энеей вытащили наружу последнюю порцию снаряжения (мы поставили складную металлическую лесенку, поэтому подниматься на борт и спускаться было гораздо проще, чем накануне).
А.Беттик отвез к водопаду запас продуктов и благополучно возвратился. Что осталось? Мой рюкзак с личными вещами, два мешка Энеи, рации, приборы ночного видения, остаток продуктов, а также плазменная винтовка и мачете, которое я вчера днем вручил андроиду. Сейчас от мачете не было никакого толку, но, если мы снова попадем в джунгли, без него не обойтись. С той же целью я присовокупил к грузу топор и складную саперную лопатку (такие лопатки все, кто имел когда-либо глупость служить в пехоте, на протяжении столетий именовали «шанцевым инструментом»). А места на ковре было в обрез…
Я бы с радостью избавился от топора и прихватил с собой лазер, чтобы нарезать деревьев для плота (честно говоря, меня устроила бы даже древняя циркулярная пила), но лазер на фонарике предназначался для других целей, а в корабельном арсенале, как ни странно, ничего подходящего не нашлось. На какой-то миг преисполнившись сочувствия к самому себе, я прикинул, не взять ли старинную десантную винтовку ВКС: с таким оружием можно в два счета свалить наземь тысячи деревьев — особенно импульсными зарядами. Но передумал — слишком шумно, да и не хочется крушить все подряд. Ладно, придется попотеть и помахать топором. Что касается остального… В моем рюкзаке лежит набор инструментов — молоток, отвертки, клещи, гвозди, болты — все, что нужно, чтобы построить плот. Кроме того, у нас есть несколько роликов алюмопласта, который как нельзя лучше сгодится на половое покрытие, и сотни метров нейлонового шнура в трех мотках, а в непромокаемой сумке у меня на поясе хранятся осветительные патроны, пластиковая взрывчатка (такой столетия подряд выкорчевывали на полях пни и камни) и десяток детонаторов. Вроде бы они понадобится не должны, но кто знает? В довершение всего я взял два медпакета и водяной фильтр размером с обыкновенную бутылку.
Рядом с вещами лежал левитатор. Несмотря на то что выглядела эта штука весьма громоздкой, я рассчитывал, что она может нам пригодиться. Как и дробовик, который андроид даже не потрудился поднять с песка. Рядом с дробовиком валялись три коробки с патронами. Еще я настоял на том, чтобы взять игломет (впрочем, ни Энея, ни А.Беттик не соглашались взять оружие в руки).
У меня на поясе висел в кобуре заряженный револьвер сорок пятого калибра, компанию которому составляли старомодный магнитный компас, прибор ночного видения, бинокль, бутылка с водой и две обоймы плазменных зарядов.
— Ну, кто самый смелый? — пробормотал я, в последний раз проверяя, все ли на месте.
— Что? — переспросила Энея, подняв голову.
— Ничего, ничего.
К тому времени, когда вернулся А.Беттик, Энея успела упаковать не только свои вещи, но и вещи андроида.
Признаться, лично мне упаковываться всегда доставляло больше удовольствия, чем разбивать лагерь. Должно быть, я наслаждался тем, как аккуратно укладываются мешки и рюкзаки.
— Ничего не забыли? — поинтересовался я у спутников, которые глядели на нашу экипировку.
— Меня, — пожаловался корабль, голос которого исходил из моего комлога.
Девочка подошла к звездолету, положила руку на корпус и спросила:
— Ты как?
— Начал ремонт, мадемуазель Энея. Спасибо, что спросили.
— Ты по-прежнему уверен, что ремонт затянется на полгода? — осведомился я.
С небосвода исчезли последние облачка, он приобрел тот же бледно-голубой оттенок, что и накануне. На его фоне раскачивались зеленые стебли папоротников.
— Срок приблизительный. Более точно сказать не могу. К тому же я могу починить только себя, у меня нет макроманипуляторов, чтобы исправить катера и прочее оборудование.
— Не переживай, — утешила Энея. — Нам они все равно не нужны. Вот встретимся снова, тогда и починим.
— А когда это случится? — То ли мне показалось, то ли голос компьютера и впрямь сделался тоньше.
Мы переглянулись. Некоторое время все молчали, наконец Энея сказала:
— Через несколько месяцев… Или лет… Корабль, мы тебя ни за что не бросим. После того как починишься, ты сможешь спрятаться так, чтобы тебя не нашли?
— Смогу. Речное дно подойдет?
Я окинул взглядом возвышавшийся над водой серый корпус. Река здесь разливалась довольно широко, глубина, возможно, была вполне приличной, но сама мысль о том, что подбитый корабль укроется на дне, казалась, мягко говоря, странной.
— А ты… э-э… не протечешь?
— Месье Эндимион, — если бы я разговаривал с человеком, то сказал бы, что мой собеседник обращается ко мне снисходительным тоном, — перед вами звездолет, способный перемещаться в туманностях и приближаться вплотную к красным гигантам. Едва ли такой корабль, как вы изволили выразиться, протечет, погрузившись на несколько лет в аш два о.
— Прошу прощения. — Несмотря на отповедь, я не удержался, чтобы не прибавить: — Не забудь задраить все люки.
Корабль промолчал.
— Когда мы вернемся, как нам тебя найти? — спросила Энея.
— Вызывайте меня по комлогу или на частоте девяносто и один. Я выставлю над водой антенну-«елочку», чтобы уловить ваш сигнал.
— «Елочка», — пробормотал А.Беттик. — Какое красивое название!
— К сожалению, я не помню, откуда оно взялось. Моя память не та, что раньше.
— Все в порядке. — Энея похлопала по корпусу звездолета. — Ты хорошо нам послужил, теперь отдохни. Когда вернемся, ты нам понадобишься целым и невредимым.
— Слушаюсь, мадемуазель Энея. Я буду следить за вами до самого портала.
А.Беттик с Энеей уселись на ковер и пристроили на нем оставшиеся пожитки. Я влез в ремни левитатора, повесил на грудь вещмешок и сжал в свободной руке винтовку. Ничего, не привыкать. Как управлять левитатором, мне было известно только по книгам (ведь на Гиперионе электромагнитные двигатели не действуют), но я быстро разобрался с простенькой панелью. Индикатор показывал, что батареи заряжены полностью; будем надеяться, что так и есть и я не плюхнусь по дороге в реку.
Ковер уже парил в десятке метров от земли. Я стиснул рукоятку управления, взмыл в воздух, чуть было не врезался в папоротник, кое-как восстановил равновесие и подлетел к ковру. Да, летать на ковре было значительно удобнее, но дух захватывало меньше. Я ткнул пальцем в ту сторону, где находился портал, и мы тронулись в путь — на восток, навстречу солнцу.
Сразу за водопадом А.Беттик отыскал на дальнем берегу уютный пляж: река образовывала излучину, течение становилось менее стремительным; именно там андроид выгрузил первую партию нашего снаряжения. Мы приземлились и под грохот водопада разгрузили ковер, после чего я взял топор и окинул взглядом ближайшие папоротники.
— Я вот о чем подумал, — произнес А.Беттик так тихо, что я едва его расслышал.
Солнце припекало, моя рубашка уже пропиталась потом и липла к телу. Я молча ждал продолжения.
— По реке Тетис раньше плавали прогулочные катера. Интересно, как они проходили через это? — Андроид мотнул головой в сторону порогов.
— Я тоже об этом думала, — подала голос Энея. — Может, здесь ходили левитационные баржи? Но все равно… Представляешь, Рауль, — отправляешься ты в романтическое путешествие, и у тебя на глазах твоя возлюбленная падает за борт!
Глядя на радугу, что мерцала над порогами, я спросил себя, куда же подевались мои хваленые умственные способности. Ничего подобного мне до сих пор в голову не приходило.
— Мало ли что могло случиться за без малого триста лет. Может, пороги образовались совсем недавно.
— Может быть, — согласился А.Беттик. — Но лично я сомневаюсь. Судя по всему, пороги возникли в результате тектонического сдвига, который тянется на много миль сквозь джунгли… Вы, кстати, обратили внимание на разницу высот? Вдобавок на скалах заметны следы эрозии. По-моему, пороги существуют ровно столько же, сколько течет по нынешнему руслу эта река.
— И в твоем путеводителе о них нет ни слова? — уточнил я.
— Нет. — Андроид покачал головой и протянул книжку Энее.
— Может, это вовсе не Тетис? — Мои спутники молча уставились на меня. — Корабль так и не сумел сориентироваться по звездам, верно… Но если предположить, что мы на планете, которая не входила в число «экскурсионных миров»…
— Мне тоже приходила такая мысль, — проговорила Энея. — Порталы похожи на те, которые стояли на Тетисе, но почему бы Техно-Центру не поставить порталы и на других реках?..
Я опустил топор и оперся на рукоятку.
— В таком случае у нас серьезные неприятности. Ты никогда не найдешь своего архитектора, а мы не сумеем отыскать корабль и вернуться домой.
— Ты рано начал беспокоиться, Рауль, — улыбнулась девочка. — Прошло три столетия. Быть может, река попросту проложила себе новое русло. Или тут есть каналы и шлюзы, которых мы не заметили, потому что их скрывают джунгли. Чем гадать, лучше отправиться на поиски следующего портала.
— Минуточку! — воскликнул я, чувствуя, что меня буквально осаждают умные мысли. — А если мы построим плот, спустим его на воду и обнаружим за поворотом новый водопад? И даже не один? Вспомни, вчера вечером мы так и не нашли портала, и сколько до него плыть, никто не знает.
— Правильно. Я думала об этом.
Я стиснул рукоять топора. Если она еще раз повторит эту фразу, я ее зарублю на месте.
— Мадемуазель Энея попросила меня разведать окрестности, — сообщил андроид. — Я так и поступил.
— Значит, разведать? — Я нахмурился. — Но у тебя не было времени на разведку?
— Совершенно верно, — согласился А.Беттик. — Поэтому я постарался подняться как можно выше и воспользовался биноклем. По-моему, река движется по прямой на протяжении двухсот километров или около того. Конечно, я могу ошибаться, но мне показалось, что я разглядел арку портала на расстоянии приблизительно ста тридцати километров отсюда. Никаких водопадов или других серьезных препятствий я не заметил.
— Не заметил, говоришь? — Я нахмурился сильнее прежнего. — А как высоко ты забрался?
— На ковре, к сожалению, нет альтиметра. Но судя по кривизне горизонта и цвету неба, высота составила около ста километров.
— Ты был в скафандре? — На такой высоте у человека закипает в жилах кровь, а легкие попросту лопаются от декомпрессии. — Или в респираторе? — Как ни странно, в груде вещей мой взгляд ничего подобного не обнаружил.
— Нет, — ответил андроид, поднимая с земли ящик, — я просто задержал дыхание.
Качая головой, я направился к лесу, чтобы срубить несколько деревьев для плота. Хотелось верить, что физическая нагрузка и временное одиночество позволят мне успокоиться.
Плот мы закончили только к вечеру (а если бы не А.Беттик, который время от времени меня сменял, я бы валил деревья до самого утра). Выглядел он, прямо скажем, неказисто, но на плаву держался. Шесть метров в длину, четыре в ширину, на корме грубая распорка, в которую вставлено весло, чуть впереди возвышение для палатки, вдоль бортов отверстия для весел (те понадобятся, если мы попадем в стоячую воду или если начнутся пороги). Я боялся, что папоротниковая древесина быстро намокнет и пойдет ко дну, но мои опасения оказались напрасными: уложенные в два слоя, скрепленные нейлоновым шнуром и сбитые там, где одного шнура было мало, бревна не думали тонуть. Верхний край плота сантиметров на пятнадцать поднимался над водой.
Энея выказывала чудеса ловкости, я даже был вынужден признать, что с материалом палатки она научилась обращаться в совершенстве (чего мне так и не удалось достичь за все минувшие годы). Девочка установила палатку таким образом, что в нее можно было забраться со стороны рулевого весла; спереди нависал козырек, защищавший от солнца и дождя, а с боков находились просторные отделения для одежды и снаряжения. Энея разложила подстилки, расстелила спальные мешки, а посреди палатки поместила извлеченный из реки плоский камень, на который установила куб-нагреватель; с потолка свисал фонарь — в общем, было удобно и уютно.
Впрочем, Энея занималась не только благоустройством нашего жилища. Признаюсь, я ожидал, что она будет стоять и смотреть, как мы с А.Беттиком трудимся в поте лица; однако девочка присоединилась к нам и принялась подтаскивать бревна к берегу, связывать их между собой, забивать гвозди — словом, помогала как могла. К примеру, она объяснила, почему не годится конструкция плота, к которой я привык с той поры, как ходил по Кэнсу: немного опустив подпорку и сделав ее шире, я добился того, что рулевое весло стало двигаться легче. Дважды Энея показывала мне, как следует связывать нижний слой бревен, чтобы они крепче держались. Когда понадобилось придать одному из бревен определенную форму, за мачете взялась опять-таки Энея, а мы с А.Беттиком (я к тому времени успел разоблачиться до пояса и был весь мокрый от пота) отошли подальше, чтобы в нас не попадали щепки.
Тем не менее, даже работая втроем, мы закончили плот и погрузили на него наши пожитки уже на закате.
— Может, переночуем здесь, а утром двинемся дальше? — предложил я и в ту же секунду понял, что сам этого не хочу. Мои спутники придерживались того же мнения, поэтому мы перебрались на плот, и я оттолкнулся от берега длинным шестом. А.Беттик правил, Энея стояла на носу, высматривая мели и подводные камни.
Поначалу мы словно перенеслись в волшебную страну или попали в рай. Жара, непролазные джунгли и тяжелая работа остались позади. Как было здорово ощущать под ногами слегка покачивающуюся палубу, отталкиваться шестом ото дна и смотреть по сторонам, на поросшие деревьями берега. Солнце садилось почти точно за нами, на несколько минут вода в реке как бы превратилась в расплавленную лаву, а на берегах будто полыхал пожар. Потом упали сумерки, и, прежде чем мы успели разглядеть ночное небо, с востока набежали облака.
— Интересно, сориентировался корабль или нет, — проговорила Энея.
— Можно спросить, — отозвался я.
Выяснилось, что нет.
— Могу с уверенностью сказать, что мы не на Гиперионе и не на Возрождении-Вектор, — сообщил тоненьким голоском мой комлог.
— Какое счастье! — пробурчал я. — Чем еще порадуешь?
— Я нахожусь на дне реки. Здесь неплохо, я готовлюсь к…
Внезапно небосвод рассекла разноцветная молния, задул ветер, первый порыв которого был настолько сильным, что нам пришлось вцепиться в вещи на палубе, иначе бы их унесло; по реке побежали пенные барашки, подгоняемый ветром и течением плот двинулся к дальнему берегу, в комлоге раздался треск статических разрядов. Я выключил комлог и сосредоточился на управлении плотом; андроид налег на рулевое весло. Волны захлестывали плот, мне начало казаться, что крепления не выдержат; нос то и дело зарывался в воду, в небе непрерывно вспыхивали алые и пурпурные молнии. Этой ночью молнии не танцевали, а скорее вспарывали небо. Грохотал гром, который надвигался волнами, словно кто-то катал по каменным лестницам гигантские стальные барабаны. Когда одна из молний угодила в ствол папоротника на ближнем берегу и дерево моментально загорелось, разбрасывая вокруг искры, мы на мгновение замерли как вкопанные. Я бранил себя за очередную глупость: ну кто же отправляется в путь по широкой реке (расстояние между берегами составляло около километра), не позаботившись о громоотводе или хотя бы резиновых подстилках? Ну да ладно, жалеть уже поздно. Мы съежились на палубе, невольно морщась всякий раз, когда молнии били в берега.
Неожиданно вспышки молний прекратились, зато хлынул дождь. Мы кинулись к палатке. Энея с А.Беттиком расположились у переднего входа, по-прежнему высматривая мели и камни, а я, сжимая в руках шест, пробрался на корму.
В бытность речником мне случалось попадать на Кэнсе под дождь — помню, как прятался на дырявом полубаке старой баржи и гадал, не пойдет ли эта развалюха ко дну под тяжестью воды, — но таких дождей на Гиперионе не случалось.
Мне почудилось даже, что мы угодили в водопад, куда более крупный, чем тот, что остался позади, но вскоре я убедился, что никакого водопада нет и в помине — просто хлещет сумасшедшей силы ливень.
Разумнее всего было бы, наверно, пристать к берегу и подождать, пока дождь не перестанет. Но мы не могли ничего разглядеть за пеленой воды, что рушилась на нас с небес; я не представлял, насколько далеко от нас берег, не говоря уж о том, сумеем ли мы к нему пристать. Оставалось только одно: я закрепил рулевое весло таким образом, чтобы оно не позволяло плоту вращаться, бросил шест и присоединился к девочке и андроиду. Между тем из разверзшихся небесных хлябей потоками — реками, озерами, океанами — лилась и лилась вода.
Я снова подивился мастерству, с каким Энея сложила полимерный материал: она сделала это столь удачно, что палатка оставалась на месте, несмотря на порывы ветра и безумные курбеты, которые выделывал плот. Нам беспрерывно приходилось ловить ящики, которые швыряло то к одному борту, то к другому. Никто из нас не имел ни малейшего понятия, в какую сторону движется плот и где он находится — в безопасности посреди реки или же вот-вот налетит на пороги, а то и врежется в камни у берега. Впрочем, в ту минуту нам было все равно: каждого заботило только, как поймать снаряжение, не свалившись при этом за борт, и не потерять из виду спутников.
В какой-то момент (обнимая одной рукой вещмешки, а другой держа Энею, которая высунулась из палатки, чтобы перехватить кухонную утварь, вознамерившуюся от нас сбежать) я бросил взгляд на нос и вдруг сообразил, что плот почти целиком ушел под воду, за исключением того возвышения, на котором стояла палатка. По реке бежали пенные барашки, то красные, то желтые, в зависимости от цвета молнии. И тут я понял, что в суматохе сборов совсем забыл поискать на борту звездолета спасательные жилеты. Затащив Энею обратно в палатку, я крикнул:
— Ты умеешь плавать?
— Что? — Грохот стоял такой, что мне пришлось читать по губам — слышно ничего не было.
— Плавать умеешь?
А.Беттик, расположившийся чуть поодаль, повернулся к нам. Его голубые глаза благодаря очередной вспышке молнии приобрели фиолетовый оттенок.
Энея покачала головой, то ли отвечая на мой вопрос, то ли давая понять, что не расслышала. Я придвинулся вплотную к девочке, жилет которой благополучно промок насквозь и хлопал на ветру будто мокрая простыня.
— Плавать умеешь? — гаркнул я изо всей мочи. В горле запершило, голос неожиданно сел. Я принялся размахивать руками, делая вид, будто гребу. Плот налетел на волну, нас швырнуло в разные стороны, потом вновь кинуло друг к другу.
Во взгляде девочки отразилось понимание. Она откинула со лба намокшую прядь, улыбнулась и крикнула мне в ухо:
— Спасибо! Я люблю плавать. Но в другой раз, ладно?
Внезапно плот закружился на одном месте — то ли мы угодили в водоворот, то ли нас развернуло порывом ветра; так или иначе, плот закружился, затем на мгновение замер — и продолжил вращение. Оставалось только одно — позаботиться о собственной шкуре; мы сгрудились в центре плота. Я вдруг понял, что Энея кричит — судя по всему, от восторга. Глупая девчонка! Она что, ничего не соображает? И тут до меня дошло, что я воплю как безумный вместе с Энеей. Признаться, было просто здорово вопить во всю глотку в разгар бури! Непередаваемое ощущение; тело словно пронизывала некая энергия. Плот по-прежнему вращался, снаружи грохотал гром и сверкали молнии. Алый луч озарил реку в тот самый миг, когда мы пролетели мимо валуна, макушка которого находилась по крайней мере метрах в пяти над поверхностью воды; к своему величайшему удивлению, я заметил, что заодно с нами вопит и А.Беттик (андроид стоял на коленях, запрокинув голову).
Буря бушевала всю ночь напролет. Ближе к рассвету ливень стих и постепенно превратился в морось. Приблизительно тогда же перестали сверкать молнии и смолк гром; впрочем, я могу и ошибаться — к тому времени мы все крепко спали.
Мы проснулись, когда ярко светило солнце. На бледно-голубом небе не было ни облачка, плот медленно плыл по широкой, неторопливо струящейся реке, джунгли на берегу напоминали бесконечный зеленый гобелен.
Какое-то время мы просто нежились на солнышке и сушили одежду. Все хранили молчание. Не знаю, как у других, а у меня перед глазами по-прежнему стояли разноцветные молнии.
Наконец Энея кое-как поднялась и огляделась по сторонам. Плот производил не слишком радостное впечатление — с правого борта отвалилось бревно, веревка во многих местах перетерлась; тем не менее он доказал свою жизнеспособность. Мы проверили крепления, выяснили, что буря лишила нас одного фонаря и одной коробки с продуктами, но в остальном все в порядке.
— Ладно, займитесь чем-нибудь, — сказала Энея, — а я приготовлю завтрак.
Она включила куб-нагреватель и поставила на него котелок с водой. Когда вода закипела, девочка заварила кофе, а затем принялась жарить на сковородке ветчину с ломтиками картофеля.
— Я думал, ты вегетарианка.
— Это для вас. Надо же вам хоть раз поесть как следует, — объяснила Энея. — А я обойдусь пшеничными хлопьями и тем ужасным эрзац-молоком с корабля.
Мы позавтракали, сидя на солнце у входа в палатку. Я достал из кармана расплющенную треуголку, выжал ее и напялил на голову, чтобы не так припекало. Энею мой вид почему-то сильно рассмешил. Я посмотрел на А.Беттика: андроид держался как обычно — слегка отчужденно, словно и не было того «концерта» в разгар бури…
Некоторое время спустя А.Беттик установил на носу плота шест (я предполагал, что мы ночами будем вешать на него фонарь), на который повесил сушиться свою белую рубашку. Голубая кожа андроида поблескивала на солнце.
— Флаг! — воскликнула Энея. — То, что нужно!
— Только не белый, — усмехнулся я. — Белый флаг означает… — Я не докончил фразу.
Плот миновал излучину реки, и мы увидели древнюю громаду нуль-портала. Арка вздымалась над водой на сотни метров. На ней росли деревья, по барельефам и каменным надписям вились лианы.
Мы заняли свои места: я встал у руля, А.Беттик приготовил шест, чтобы отталкивать плот от подводных камней, а Энея пристроилась на носу.
Мне вдруг показалось, что портал не действует. Сквозь арку виднелось бледно-голубое небо над зелеными джунглями и тянувшейся к горизонту рекой. Метрах в десяти от нас, в тот самый миг, когда мы очутились в тени арки, из воды выпрыгнула рыба. Снова задул ветер — растрепал волосы Энеи, погнал по воде рябь… Арка нависла над нами. Больше всего она напоминала детский рисунок: словно некий юный художник попытался изобразить мост…
— Ну и что? — проговорил я.
Вдруг затрещали статические разряды. Это произошло совершенно неожиданно, даже вчерашняя буря разразилась не столь внезапно. Казалось, на плот рухнул гигантский занавес. Я не устоял на ногах, упал на одно колено. На какое-то неуловимое мгновение я почувствовал приблизительно то же, что и на звездолете, когда исчезло силовое поле, — почувствовал себя зародышем, который барахтается в околоплодных водах.
Плот миновал арку. Солнце исчезло — вместе с джунглями и речными берегами. Повсюду, куда ни посмотри, плескалась вода. На бескрайнем небе сверкали бесчисленные звезды; подобного великолепия я не мог даже вообразить.
А впереди, прямо над Энеей, отбрасывая на лицо девочки оранжевые блики, вставали три луны, каждая величиной с приличных размеров планету.
Глава 31
— Впечатляет, — проговорил А.Беттик.
Я бы, наверно, выразился иначе, но в тот момент у меня просто не нашлось слов. Я крутил головой, пытаясь собраться с мыслями. Итак, мы уже не среди джунглей и не на реке и тонуть уже не тонем. (Сколько «не»!)
Плот ловко перепрыгивал с волны на волну; несмотря на то что вода захлестывала палубу, наше средство передвижения уверенно держалось на плаву. Я встал на колени, зачерпнул в пригоршню воды и осторожно попробовал на вкус, после чего надолго приник губами к фляжке. Здешняя вода была солонее даже той, которой полны моря Гипериона.
— Ух ты, — пробормотала Энея. Должно быть, она разумела луны. Три громадных оранжевых диска и впрямь производили внушительное впечатление, причем центральный был настолько огромен, что, поднявшись над водой ровно наполовину, заслонил собою горизонт. На фоне этой громадины Энея выглядела совсем крохотной. Я закрепил руль и присоединился к своим спутникам. Плот покачивало, и, чтобы не упасть, мы все трое держались за шест, на котором по-прежнему болталась рубашка А.Беттика, отливавшая белым в свете звезд.
Я перестал разыгрывать из себя бывалого мореплавателя и окинул небеса взглядом пастуха. Созвездий, к которым я привык с детства — Лебедя, Близняшек, «Ковчегов» и Главной Базы, — видно не было (или, может, я не узнал их исказившиеся очертания). Однако Млечный Путь никуда не делся: извилистое галактическое шоссе протянулось от горизонта к горизонту, уходя в неведомые дали. Звезды в нем сверкали неожиданно ярко, хотя должны были бы потускнеть в свете лун (ведь тускнели же звезды в сиянии не слишком крупной луны, что вращалась вокруг Старой Земли). Очевидно, атмосфера на планете была довольно разреженной; к тому же искусственного освещения не было и в помине. Этим и объяснялось великолепие небес. Жутко представить, что творится на здешнем небе в безлунные ночи.
Интересно, куда нас занесло?
— Корабль, — проговорил я в комлог, — ты меня слышишь?
— С вами говорит дистанционный модуль. — Признаться, я не ожидал, что корабль откликнется. — Чем могу помочь, месье Эндимион?
Мои спутники уставились на комлог.
— Значит, я говорю не с кораблем?
— Прямая связь с бортовым компьютером невозможна, — объявил механический голос. — Контакт прервался в тот момент, когда вы прошли через нуль-портал. Однако дистанционный модуль имеет аудио— и видеодатчики.
— Ты можешь сказать, где мы находимся?
— Минуточку. Приподнимите, пожалуйста, комлог. Благодарю. Мне нужно сделать снимок неба и сопоставить его со звездной картой и исходными координатами.
Модуль углубился в подсчеты.
— Мне кажется, я знаю, куда мы попали, — произнес А.Беттик.
У меня тоже были на сей счет кое-какие соображения, но я не стал торопиться.
— Очень похоже на планету под названием Безбрежное Море, — продолжал андроид. — Когда-то она входила в Сеть, а ныне подчиняется Ордену.
Энея, молча наблюдавшая за восходом лун, не проронила ни слова. Лицо девочки выражало восторг. Я понял вдруг, что различаю рыжевато-коричневые облака, бегущие над темной поверхностью самой большой луны, а присмотревшись, разглядел долину с многочисленными ответвлениями, следы лавовых потоков и нечто вроде громадного ледника, уловил намек на горный кряж. Мне вспомнились голографические изображения Марса, каким тот был до терраформирования.
— У Безбрежного Моря как раз три луны. Впрочем, планета сама является спутником гиганта размерами с Юпитер.
— А луны вон такие? — Я ткнул пальцем в сторону оранжевых дисков.
— Именно такие, — отозвался андроид. — Я видел снимки… В эпоху Гегемонии на Безбрежном Море трудились роботы, добывавшие полезные ископаемые.
— Я с тобой согласен, это очень похоже на Безбрежное Море. Мне доводилось слышать рассказы охотников, которые расхваливали здешнюю рыбалку. Они утверждали, что тут водится некая разновидность головоногих, достигающая в длину сотни метров. Эта тварь питает слабость к рыбацким судам…
Я замолчал. Мы все трое уставились на темную воду. Тишину нарушил голос комлога:
— Готово! Результат моих вычислений в точности совпадает с координатами! Вы находитесь на спутнике планеты в системе Семидесятой Змееносца альфа, в двадцати семи целых девяти десятых световых лет от Гипериона, в шестнадцати целых восьмидесяти двух сотых световых лет от Старой Земли. Это двойная система, расстояние до альфы Змееносца составляет ноль целых шестьдесят четыре сотых астрономической единицы, а до беты восемь целых девять десятых. Поскольку здесь имеется атмосфера и обнаружена вода, логично предположить, что вы находитесь на втором по счету спутнике планеты, известном во времена Гегемонии под названием Безбрежное Море.
— Спасибо, — поблагодарил я.
— Что касается координат…
— Потом, — перебил я, выключая комлог.
А.Беттик снял с шеста рубашку и надел ее на себя. Дул сильный ветер, было совсем не жарко. Я достал из вещмешка свой терможилет, спутники последовали моему примеру. А невероятных размеров оранжевая луна продолжала подниматься в усыпанное звездами небо.
«Путешествие по Безбрежному Морю, — говорилось в «Путеводителе по мирам Великой Сети», — представляет собой непродолжительную, но приятную интерлюдию между другими, более приспособленными для отдыха и развлечений мирами. — Мы сгрудились у очага и читали при свете единственного уцелевшего во время бури фонаря. Впрочем, необходимости в фонаре не было, поскольку свет трех лун успешно разгонял ночную тьму. — Фиолетовый цвет воды вызван наличием в ней особой разновидности фитопланктона и никак не связан с разреженностью атмосферы, которой объясняются прекрасные закаты. Расстояние между порталами на планете составляет около пяти километров — этого вполне достаточно для большинства путешественников, — и приблизительно посредине располагается знаменитый на всю Сеть Аквариум и Гриль-Бар Гаса. Не упустите возможности попробовать жаркое из морских обитателей, суп из гектонога и замечательное вино из желтых водорослей. С одной из множества террас на Океанской Платформе Гаса вы можете понаблюдать за великолепным закатом и еще более великолепным восходом лун. Планета известна тем, что на ней нет ни клочка суши, а в океане обитают агрессивные формы жизни (к примеру, «левиафан с пламенной пастью»); тем не менее беспокоиться не стоит — экскурсионный катер пройдет по «коридору безопасности» между порталами в сопровождении боевых кораблей. У путешественника, побывавшего на Безбрежном Море и заглянувшего в Гриль-Бар Гаса, останутся только хорошие воспоминания. (Примечание: в случае плохой погоды или усиления агрессивности фауны путешествие на Безбрежное Море может не состояться. Возможно, вы посетите планету в следующий раз.)».
И все. Я вернул книгу А.Беттику, выключил фонарь, перебрался на нос и стал изучать горизонт через прибор ночного видения.
— Вранье. Видимость километров двадцать пять, а второго портала что-то не заметно.
— Быть может, его передвинули, — предположил А.Беттик.
— Или он затонул, — прибавила Энея.
— Очень смешно. — Я снял прибор и вновь подсел к нагревательному кубу.
— Вполне возможно, что здесь, как и на других мирах, существуют два отрезка реки — один короче, а другой длиннее, — сказал андроид.
— Если так, мы почему-то все время оказываемся на длинных отрезках.
Хотелось есть, поэтому мы взялись за готовку. После бури, которую мы выдержали на реке, аппетит у всех разыгрался настолько, что его не смогли утолить ни хлопья, ни тосты с кофе.
Мы скоро привыкли к размеренному покачиванию плота и заодно убедились, что морской болезни никто из нас не подвержен. После второй чашки кофе я почувствовал себя лучше. Признаться, описание планеты в «Путеводителе» возбудило мое любопытство, хотя мне не слишком понравилось упоминание о «левиафане с пламенной пастью».
— Я вижу, ты доволен? — спросила Энея, когда мы остались вдвоем — А.Беттик отправился к рулю.
— Пожалуй, да.
— Почему?
— Приключение. — Я развел руками. — Вдобавок никто не пострадал…
— Если бы не портал, мы бы наверняка утонули, — заметила девочка.
— Может быть.
— Что ты чувствуешь? — Судя по тону, Энее действительно было интересно.
— Мне всегда нравилось путешествовать. Убегать от рутины. Знаешь, природа дает ощутить… как бы поточнее выразиться… связь с чем-то более значительным… — Я умолк, сообразив, что моя последняя фраза сильно смахивает на цитату из проповеди какого-нибудь правоверного дзенгностика.
— Мой отец когда-то написал поэму. — Девочка придвинулась поближе. — Не он сам, естественно, а тот древний поэт, клоном которого был кибрид… В этой поэме он выразил свои чувства… — Прежде чем я успел задать вопрос, она продолжила: — Он был молод, моложе, чем ты, и его философия кажется довольно неглубокой, но в своей поэме он попытался описать ступени, по которым человек приближается к слиянию со вселенной. В одном письме он уподобил эти ступени «делениям на шкале наслаждения».[80]
Честно говоря, я слегка опешил. Мне еще не доводилось слышать, чтобы Энея рассуждала о столь серьезных вещах, а в словах насчет «шкалы наслаждения» чудилась некая скабрезность.
— Отец считал, что первой ступенью является «близость с естеством», — продолжала девочка. Я заметил, что А.Беттик прислушивается к нашему разговору. — Под этим он разумел творчество, отклик на чудеса природы — в общем, то, о чем говоришь ты.
Я потер щеку, густо поросшую щетиной. Если не побриться в ближайшие дни, у меня отрастет борода.
— Поэзия и музыка были для него такими откликами. Он говорил, что это ошибочный, но чисто человеческий путь к единению со вселенной, что природа порождает в нас энергию созидать. Истину и воображение он воспринимал как равноценные вещи. Помнится, в письме он выразился так: «Воображение можно уподобить сну Адама: он пробудился и увидел, что все это — правда».[81]
— Погоди, я что-то запутался. Отсюда следует, что вымысел реальнее истины?
Энея покачала головой:
— Не думаю. В той поэме, о которой я упоминала, есть гимн Пану.
Ты отворяешь двери, ужасая Безмерным знаньем неземных пучин.[82]Девочка подула на чай.
— Для отца Пан олицетворял воображение… в особенности романтическое воображение. — Она поднесла чашку к губам. — Рауль, а тебе известно, что Пан в определенном смысле является предшественником Христа?
Я моргнул. Неужели две ночи назад та же девочка просила рассказать ей историю с привидениями?
— Христа? — переспросил я, невольно поморщившись (сказывалось воспитание — в словах Энеи мне послышалось нечто кощунственное).
Девочка пригубила чай, затем вскинула голову и взглянула на небо.
— Отец считал, что люди, которые слышат природу, наделены романтическим, «паническим» воображением. — Она обняла левой рукой колени и процитировала:
Останься необорною твердыней Высоким душам, жаждущим пустыни, Что в небо рвутся, в бесконечный путь, Питая разум свой, — закваской будь, Которая тупой земли скудель Легко преобразует в колыбель, — Будь символом величия природы, Небесной твердью осенившей воды, Стихией будь, летучею, воздушной, — Не будь ничем иным![83]Некоторое время все молчали. Я, можно сказать, вырос на поэзии — на грубых пастушеских балладах, «Песнях» Мартина Силена, «Садовом эпосе», где рассказывалось о приключениях юных Тихо и Гли и кентавра Рауля — и сызмальства привык слушать стихи под звездным небом. Впрочем, большинство стихотворений, которые я знал и любил, были куда проще отрывка, прочитанного Энеей.
— Значит, вот как твой отец представлял себе счастье? — спросил я наконец, нарушив молчание.
Энея тряхнула головой.
— Вовсе нет, — ответила она. — Это всего лишь первая ступень. Чтобы достичь счастья, надо преодолеть две другие.
Девочка закрыла глаза и принялась декламировать ровным мелодичным голосом, но не нараспев, как то в обычае у людей, чья манера читать стихи губит поэзию.
Но и так Бывает, что ведут за шагом шаг К овеществленью призраков ночных Две страсти, два стремленья роковых. Любовь и дружба — вот их имена, Им власть над человечеством дана.[84]Я поглядел на громадный диск луны, исчерченный вихревыми потоками. По оранжевому диску ползли буро-желтые облака.
— Вот как? — Признаться, я был слегка разочарован. — Сначала природа, потом дружба с любовью и все?
— Не совсем. Отец считал, что настоящая дружба между людьми больше, чем умение слышать природу. Но выше всего он ставил любовь.
Я кивнул:
— Церковь учит тому же самому. Возлюби Господа и ближнего своего…
— Угу, — пробормотала Энея, допивая чай. — Отец разумел плотскую любовь. Секс. — Она снова закрыла глаза.
Познал я сладость тайников души. И страсти, что когда-то сердце жгли, Все в почву удобреньями легли, Питая корни древа, чтобы ввысь, В благоуханье неба вознеслись Мои плоды.[85]Я не сразу нашелся, что ответить. Допил кофе, прокашлялся, бросил взгляд на громадную луну и на по-прежнему видимый Млечный Путь и наконец произнес:
— Ты хочешь сказать, что он… э-э… был в курсе? — Мне тут же захотелось дать себе подзатыльник. Девочка наверняка не понимает, о чем речь: она цитирует древнюю поэзию, но с тем же успехом и столь же невинно могла бы цитировать какой-нибудь эротический трактат.
Глаза Энеи сверкали в лунном свете.
— Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось моему отцу с его философией.[86]
— Понятно. — Черт возьми, кто такой Горацио?
— Мой отец написал эти строки в молодости. Первая, неудачная поэма… Он хотел описать — точнее, хотел, чтобы узнал его герой-пастух, — сколько всего таится в поэзии, природе, мудрости, в голосах друзей, храбрых поступках, очаровании неведомого и притяжении противоположного пола. Но остановился, так и не добравшись до сути.
— До какой сути? — не понял я. Плот продолжал мерно раскачиваться на волнах.
— Познает смысл вещей и хоть чуть-чуть субстанций, звуков, форм постигнет суть… — прошептала девочка.
Почему эти слова кажутся знакомыми? Какое-то время спустя я вспомнил.
Наш плот медленно плыл сквозь ночь под аккомпанемент волн, плескавшихся об его борта.
Мы проснулись на рассвете. После завтрака я проверил оружие. Философская поэзия — замечательное развлечение при лунном свете, а исправное и заряженное оружие — суровая необходимость.
До сих пор у меня не было возможности пристрелять винтовки, поэтому я, честно говоря, слегка беспокоился. Армейская служба и работа проводником научили Рауля Эндимиона одной простой вещи: чем лучше ты умеешь обращаться со своим оружием, тем больше у тебя шансов уцелеть.
В небе по-прежнему виднелась самая крупная из трех лун, успевшая изрядно потускнеть; теперь к ней добавились два солнца — сначала ослепительная бета, затмившая собой Млечный Путь, а затем альфа, уступавшая размерами звезде Гипериона, но очень яркая. Небо приобрело оттенок ультрамарина, потом сделалось кобальтово-синим. В свете солнц лунная атмосфера превратилась в этакую дымку, скрывшую поверхность спутника. Палило нещадно, мы не знали, куда деваться от жары.
Волны стали выше, однако накатывали равномерно, поэтому мы не испытывали особых неудобств, да и плоту никакие неприятности не угрожали. Как и обещал «Путеводитель», вода сделалась фиолетовой; гребни волн были иссиня-черными, иногда среди них мелькали желтые водоросли, в воздухе летали лиловые пенные брызги. Плот двигался в ту сторону, откуда появились луны и солнца (мы считали, что на восток); оставалось лишь надеяться, что сильное течение в конце концов принесет нас к порталу. Порой начинало казаться, что мы стоим на месте. Тогда кто-нибудь из нас бросал в воду обрывок бумаги или что-либо еще, и все наблюдали, как ветер пытается отобрать добычу у течения. Волны шли с юга на север, а мы, как я уже сказал, старались придерживаться направления на восток.
Сперва я опробовал свой револьвер сорок пятого калибра, предварительно убедившись, что патроны в барабане (не забыть бы перезарядить эту древнюю штуковину, а то в самый неподходящий момент выяснится, что магазин пуст). В качестве мишени я после непродолжительных поисков выбрал пустой пищевой контейнер, который и швырнул в воду.
Когда расстояние между плотом и контейнером составило около пятнадцати метров, я выстрелил. Над плотом словно прогремел гром. Я знал, что подобные револьверы стреляют громко (ими были вооружены многие повстанцы с Ледяного Когтя), но такого грохота никак не ожидал, а потому чуть не выронил оружие. Энея, сидевшая на носу и размышлявшая о чем-то своем, испуганно вскочила; даже всегда невозмутимый андроид и тот подпрыгнул от неожиданности.
— Прошу прощения. — Я стиснул револьвер в ладонях и выстрелил во второй раз.
Расстреляв приблизительно две драгоценные обоймы, я удостоверился, что с пятнадцати метров уж как-нибудь не промахнусь. На большем расстоянии… Будем надеяться, что тот, в кого я выстрелю, испугается грохота и поспешит ретироваться, не дожидаясь, пока я приближусь.
Опустив оружие, я вновь упомянул о том, что оно могло принадлежать Ламии Брон.
— Я уже говорила, что никогда не видела маминого пистолета, — отозвалась Энея.
— Быть может, она одолжила его Консулу, когда тот решил вернуться в Сеть, — предположил я, продувая ствол.
— Нет, — возразил А.Беттик, стоявший у руля.
— Что значит «нет»? — поинтересовался я.
— Я видел оружие мадам Брон на борту «Бенареса», — ответил андроид. — Это был древний пистолет, принадлежавший, по-моему, ее отцу — с перламутровой рукоятью и лазерным прицелом. Стрелял он иглами.
— Понятно. — Жаль, конечно, что мои предположения не оправдались, но ничего страшного. — Надо признать, эта штуковина хорошо сохранилась. — По всей видимости, револьвер хранили в стазисе, иначе он бы просто-напросто развалился от старости. А может, это не настоящий револьвер, а всего лишь точная копия, сделанная по заказу Консула. Впрочем, какая разница? Для кого как; я всегда ощущал, если можно так выразиться, запах истории, исходивший от старинного оружия.
Следом за револьвером я проверил игломет. Чтобы удостовериться, что с ним все в порядке, хватило одного-единственного выстрела. Качавшийся на волнах пищевой контейнер исчез в мгновение ока, осколки разлетелись метров на тридцать. Гребень волны словно срезало. Да, из такого оружия трудно промахнуться, вдобавок оно бьет наповал, почему я его и выбрал. Я поставил игломет на предохранитель и сунул обратно в вещмешок.
С плазменной винтовкой пришлось повозиться. Оптический прицел позволял навести винтовку на что угодно, от очередного пищевого контейнера метрах в тридцати от плота до горизонта, расстояние до которого составляло километров двадцать пять, но если в эффективности оружия в ближнем бою сомневаться не приходилось — я утопил контейнер с первого же выстрела, — то относительно поражения удаленных целей сомнения оставались, и разрешить их не представлялось возможным, поскольку стрелять было не по чему. Теоретически импульсный заряд способен поразить любую цель (не надо делать никаких поправок на ветер или падение пули); в прицел я видел, как выпущенный из винтовки заряд проделал дырку в волне на расстоянии в двадцать километров от плота. Но волны волнами, а цели целями… Я навел оружие на луну, на поверхности которой виднелась увенчанная снежной шапкой гора — скорее это не снег, а замерзший углекислый газ, — и, сам не знаю почему, нажал на спусковой крючок. По сравнению с древним пистолетом винтовка стреляла практически бесшумно: так, обычное негромкое «кхе-кхе». В прицел, естественно, было не разглядеть, попал я или нет, да и следовало принять во внимание вращение небесных тел, но меня удивило бы, если бы выяснилось, что я промахнулся. Бойцы гиперионских сил самообороны на все лады пересказывали историю, случившуюся со швейцарскими гвардейцами: по слухам, те ухитрились однажды сбить вражеских коммандос с расстояния в несколько тысяч километров. Главное, как подтверждает тысячелетний опыт, — первым заметить врага.
Ухватившись за эту мысль, я сказал, после того как проверил напоследок дробовик:
— Нам не мешало бы провести разведку.
— Боишься, что портала может не оказаться на месте? — спросила Энея.
Я пожал плечами:
— В «Путеводителе» сказано, что расстояние между порталами всего пять километров. А мы проделали уже сотню, если не больше.
— Мы полетим на ковре? — Свет местных солнц золотил кожу девочки.
— Вообще-то я собирался воспользоваться левитатором. — Ковер с большей вероятностью засекут на радаре, прибавил я мысленно, а вслух сказал: — И полечу один. Ты останешься с А.Беттиком.
Я достал левитатор, застегнул ремни, стиснул в одной руке плазменную винтовку, а другой прикоснулся к рукояти управления. Ничего не произошло. Неужели местное электромагнитное поле вытворяет такие же штучки, как и гиперионское? Тут мне бросилось в глаза, что индикатор батареи мигает красным. Аккумулятор сел. Замечательно. Очень вовремя.
— Черт! — Я расстегнул ремни и принялся проверять контакты. Спутники молча наблюдали за моими действиями. — Я ведь зарядил его, перед тем как покинуть корабль. Причем зарядил вместе с ковром.
А.Беттик попытался запустить диагностическую программу, но мощности не хватило даже на такую малость.
— Может, попробовать комлог? В него встроена похожая программа.
— Правда? — глупо спросил я.
— Разрешите. — Андроид протянул руку. Я вручил ему браслет.
А.Беттик открыл крошечное отделение, которое я только что заметил, вытащил бусинку-индикатор, за которой тянулся тонюсенький провод, и подсоединил ее к левитатору. Замигали разноцветные огоньки.
— Левитатор поврежден, — сообщил механический голос. — Аккумулятор разрядился приблизительно на двадцать семь часов раньше расчетного времени. Вероятно, повреждены накопительные элементы.
— Здорово! — с горечью проговорил я. — А можно его починить или хотя бы снова зарядить?
— Батарею починить невозможно, — отозвался комлог. — Но в трюме корабля находятся три запасных элемента.
— Какое счастье! — С этими словами я поднял левитатор и швырнул за борт. Он мгновенно исчез под водой.
— Все готово, — сказала Энея, сидевшая скрестив ноги на ковре-самолете, который парил сантиметрах в двадцати над плотом. — Не желаешь прокатиться?
Я не стал спорить — молча сел позади девочки, которая тут же прикоснулась к нитям управления.
С высоты приблизительно пять тысяч метров — мы жадно хватали воздух и цеплялись за края ковра — планета выглядела просто устрашающе. Кроме нашего плота, крохотного черного прямоугольника на лиловой поверхности воды, в бескрайнем море ничего не было. Волны, которые с палубы представлялись чуть ли не штормовыми валами, отсюда были практически не видны.
— По-моему, мы отыскали новую ступень «близости к естеству», о которой писал твой отец, — заметил я.
— Какую именно? — Энея дрожала от холода. На ней были только рубашка с жилетом, неудивительно, что она замерзла.
— Перепугаться до смерти.
Девочка засмеялась. Мне нравилось, как она смеется; даже сейчас, через столько лет, я с удовольствием вспоминаю ее смех — звонкий, мелодичный, доброжелательный… Признаться, я сильно по нему скучаю.
— Надо было остаться на плоту, а на разведку отправить А.Беттика.
— Почему?
— Судя по тому, что он рассказывал, ему вовсе не обязательно дышать, да и перепад давления на него не очень действует.
Энея прижалась ко мне.
— Ты зря так думаешь, — возразила она. — Просто у него такая кожа, которая может, если понадобится, ненадолго сойти за скафандр. А дыхание он умеет задерживать немногим дольше нашего.
— Похоже, ты разбираешься в конструкции андроидов.
— Мне стало интересно, и я спросила у него, — объяснила девочка. Она прикоснулась к нитям управления, и мы полетели на восток.
Честно говоря, мне жутко не хотелось терять из виду плот, тем паче кружить над безбрежным океаном. А вдруг сядет аккумулятор и мы рухнем в воду, где нас поджидает левиафан с пламенной пастью? Впрочем, я запрограммировал инерционный компас, взяв за исходную точку плот; если я не потеряю компас, что маловероятно, поскольку он висит у меня на шее, мы всегда сможем отыскать наше средство передвижения. Тем не менее меня снедали сомнения.
— Давай держаться поблизости от плота.
— Хорошо. — Энея снизила скорость километров до шестидесяти — семидесяти в час и направила ковер вниз. Какое-то время спустя дышать стало легче, заметно потеплело. Под нами расстилалась безбрежная фиолетовая гладь.
— Твои порталы словно играют с нами в прятки.
— Почему мои, Рауль?
— Почему? Так ведь это тебя они… узнают. — Энея промолчала. — Нет, серьезно. Как ты думаешь, есть в наших прыжках из мира в мир какая-то логика?
— Естественно, есть, — отозвалась Энея, смерив меня взглядом. Я молча ждал продолжения. Скорость была невысокой, поэтому силовое поле имело минимальную мощность и ветер так и норовил забраться под одежду и трепал волосы Энеи. — Что ты знаешь о Сети? И о порталах?
Я пожал плечами, потом заметил, что Энея не смотрит в мою сторону, и сказал:
— Порталами управляли ИскИны из Техно-Центра. Церковь и твой дядюшка Мартин, если судить по «Песням», сходятся в том, что ИскИны использовали порталы, чтобы создать нечто вроде гигантского биокомпьютера. Этот компьютер получал импульс всякий раз, когда кто-нибудь из людей входил в портал. Правильно?
— Да.
— Иными словами, когда люди путешествовали по Сети, ИскИны, где бы они ни находились, присасывались к ним точно кровожадные клещи.
— Ты ошибаешься. — Девочка вновь повернулась ко мне. — Разными порталами управляли разные сущности. В «Песнях» упоминается о гражданской войне в Техно-Центре? О войне, первым о которой узнал мой отец?
— Да. — Я закрыл глаза и попытался вспомнить нужные строчки. — В «Песнях» говорится о некоем ИскИне, с которым кибрид Китса беседовал в мегасфере киберпространства.
— А, Уммон, — проговорила девочка. — Его звали Уммон. Мама побывала однажды в мегасфере вместе с отцом… Но лоб в лоб с Уммоном столкнулся мой… э-э… дядя, второй кибрид Китса. Продолжай.
— Зачем? — удивился я. — Тебе, похоже, и так все известно.
— Нет. Когда мы встречались с дядюшкой Мартином, он говорил, что не хочет заканчивать «Песни»… Ты помнишь, какими словами Уммон описывает гражданскую войну в Техно-Центре?
Я снова закрыл глаза и напряг память.
Два века мы размышляли, затем разделились, пошли своими путями: Ортодоксы хотели сохранить симбиоз, Ренегаты грозили смертью, Богостроители призывали дождаться просветления. Начались размолвки и разразилась война.— Для тебя это случилось двести семьдесят с лишним стандартных лет назад, — проговорила Энея. — Перед самым Падением.
— Ну да, — подтвердил я, открывая глаза и тщетно пытаясь различить хоть что-нибудь на фоне фиолетового безбрежья.
— А дядюшка Мартин объясняет, что двигало Ортодоксами, Ренегатами и Богостроителями?
— Более или менее. Понять нелегко, Уммон и прочие ИскИны изъясняются у него коанами.
Энея кивнула:
— Так и было.
— Из «Песней» следует, что ИскИны, известные под именем Ортодоксов, стремились сохранить прежний порядок вещей. То есть они хотели и дальше паразитировать на людях. Ренегаты требовали уничтожить человечество. А Богостроителям, насколько я могу судить, на людей было плевать, лишь бы им не мешали создавать их бога… Как, кстати, они его называли?
— ВР. — Энея сбросила скорость. — Высший Разум.
— Точно. В общем, сплошная эзотерика. Не пойму, какое это имеет отношение к нашим прыжкам… Признаться, я не уверен, что мы найдем портал. — Я не кривил душой: сомнения терзали меня все сильнее. Океан казался поистине безбрежным; даже если течение несет плот в нужном направлении, вероятность того, что мы в конце концов отыщем арку шириной в какую-то сотню метров, представлялась почти нулевой.
— Далеко не всеми порталами управляли Ортодоксы, эти, как ты выразился, кровожадные клещи.
— Да? А кто еще?
— Порталы реки Тетис сконструировали Богостроители. Это был эксперимент, так сказать, попытка заглянуть в Связующую Пропасть. Это выражение ИскИнов. Дядюшка Мартин использовал его в «Песнях»?
— Да. — Мы опустились ниже, ковер парил приблизительно в километре над поверхностью воды, но плота нигде видно не было. — Летим обратно.
— Как скажешь. — Мы сверились с компасом, развернули ковер и направились домой — если можно назвать домом потихоньку разваливающийся плот.
— Никогда не понимал, что такое «Связующая Пропасть». Ясно, что это некое гиперпространство, в котором действовали порталы и прятался Техно-Центр. Но не более того. И потом, разве оно не было уничтожено, когда Мейна Гладстон распорядилась взорвать порталы?
— Связующую Пропасть нельзя уничтожить, — объяснила Энея. Девочка говорила отстраненно, словно размышляя о чем-то своем. — Как ее описывает дядюшка Мартин?
— Планково время и пространство… Точно не помню, но вроде бы там упоминались производные трех основополагающих физических констант — гравитационной, постоянной Планка и скорости света. Если мне не изменяет память, какие-то смехотворно малые единицы пространства и времени.
— Приблизительно десять в минус тридцать пятой степени для пространства, — сказала девочка, слегка увеличивая скорость, — и десять в минус сорок третьей степени для времени.
— Может быть. Я только знаю, что они были чертовски маленькими. Как говорится, меньше комариной задницы… О, прошу прощения.
— Ничего, я и не такое слышала. — Ковер потихоньку забирался все выше. — Важны не столько пространство и время сами по себе, сколько то, что они вплетены в Связующую Пропасть. Отец пытался мне объяснить еще до моего рождения… — Я моргнул. — Тебе известно, что такое планетарная инфосфера?
— Да. Эта хреновина, — я постучал по комлогу, — утверждает, что на Безбрежном Море инфосферы нет.
— Правильно. Однако на большинстве миров Сети они были. А все инфосферы объединялись в мегасферу.
— Пропасть связывала между собой инфосферы, так? Электронное правительство Гегемонии, электронный генштаб ВКС, Альтинг и все прочее — они использовали не только мультилинии, но и мегасферу?
— Да. Мегасфера существовала в иной плоскости мультилинии.
— Этого я не знал. — В мое время никаких мультилиний уже не было.
— Помнишь, какое сообщение пришло по мультилинии последним?
— Помню. — Я в очередной раз закрыл глаза. Но память меня подвела. Мне всегда казалось, что финал «Песней» не представляет особого интереса, поэтому, несмотря на настойчивость бабушки, я так его и не выучил. — Что-то весьма загадочное. Смысл, по-моему, сводился к тому, что хватит валять дурака и пытаться починить то, что невозможно исправить.
— Сообщение гласило: «ВПРЕДЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО КАНАЛА НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. ВЫ МЕШАЕТЕ ТЕМ, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ИМ В СЕРЬЕЗНЫХ ЦЕЛЯХ. ДОСТУП БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН, КОГДА ВЫ ПОЙМЕТЕ, ДЛЯ ЧЕГО ОН».
— Верно. А потом мультилиния взяла и перестала работать. Техно-Центр вырубил ее после того, как отправил сообщение.
— Сообщение отправил не Техно-Центр, — сказала Энея.
Несмотря на то что на небе сияли сразу два солнца, меня бросило в дрожь.
— То есть как? — тупо спросил я. — А кто?
— Хороший вопрос. Когда мой отец рассуждал о метасфере — об информационном пространстве, которое каким-то образом состыковано со Связующей Пропастью, — он обычно говорил, что там водятся львы, медведи и тигры.
— Львы, медведи и тигры, — повторил я. Животные со Старой Земли. По-моему, никому из них не удалось пережить Хиджру. Во всяком случае, ни один экземпляр, даже в виде ДНК, наверняка не покинул Старую Землю до Большой Ошибки, когда планета провалилась в черную дыру.
— Гм… — протянула Энея. — Хотелось бы повидать хотя бы одного… Между прочим, мы на месте.
Я поглядел вниз. В тысяче метров под нами виднелся наш плот, на котором стоял А.Беттик. Андроид вновь снял рубашку, и его голубая кожа блестела на солнце. Он помахал рукой. Мы замахали в ответ.
— Интересно, есть у нас что-нибудь на обед?
— Если нет, завернем в Гриль-Бар Гаса.
Девочка засмеялась и направила ковер вниз.
Вскоре после того, как стемнело, но луны еще не успели взойти, мы увидели на горизонте огни. Все тут же вооружились оптическими устройствами: Энея схватила бинокль, А.Беттик взял прибор ночного видения, а я поднес к глазам лазерный прицел.
— Это не арка, — сказала Энея. — Какая-то большая платформа на сваях.
— А я вижу арку, — сообщил андроид, который глядел чуть в сторону. Мы с девочкой дружно повернулись.
Портал черным клином врезался в Млечный Путь над самым горизонтом. Платформа, на которой мигали маяки для летательных аппаратов и сверкали окна, располагалась на пути к нему.
— Черт, — пробормотал я. — Интересно, что это такое?
— Заведение Гаса? — предположила Энея.
— Думаю, у него теперь другие хозяева. — Я вздохнул. — В последние двести лет наплыв туристов наверняка уменьшился. — Я внимательно изучил платформу в окуляр прицела. — Несколько уровней, какие-то корабли — похоже, рыбацкие суда. Площадка для скиммеров. Кажется, я различаю парочку орнитоптеров.
— Что такое орнитоптер? — спросила девочка, опуская бинокль.
— Летательный аппарат со складными крыльями, мадемуазель Энея, — объяснил А.Беттик. — Очень похожий на насекомое. Во времена Гегемонии они пользовались популярностью, хотя на Гиперионе их почти не было. Если не ошибаюсь, такие аппараты еще называли «стрекозами».
— И называют до сих пор, — прибавил я. — На Гиперионе на них летают вояки Ордена. Я своими глазами видел «стрекозу» на Урсе. — Присмотревшись, я разглядел блистеры, придававшие аппаратам сходство с пучеглазыми насекомыми. — Точно, орнитоптеры.
— Мне представляется, у нас немного шансов проскользнуть незамеченными, — сказал А.Беттик.
— Надо опустить мачту и убрать палатку. Ну-ка, живо.
Мы переделали палатку таким образом, что на правом борту появилось маленькое отделение, скажем так, гигиенического назначения. Разрушать построенное своими руками было жаль, но мы быстро скатали материал. Получился тугой шар размерами с мой кулак. А.Беттик опустил мачту.
— Как насчет руля? — спросил он.
Я посмотрел на весло:
— Пускай остается. Радар его вряд ли засечет.
Энея вновь навела бинокль на платформу.
— Пока нас скрывают волны. Но когда мы подойдем ближе…
— И когда взойдут луны… — присовокупил я.
— А если обогнуть платформу по широкой дуге? — предложил А.Беттик, усаживаясь на корточки у куба.
Я почесал подбородок:
— Я думал воспользоваться левитатором, протащить плот на буксире, но теперь…
— У нас есть ковер, — сказала девочка. Без палатки плот казался неестественно плоским.
— К ковру буксир не привяжешь, — возразил я. — Если только прожечь в нем дырку…
— Будь у нас ремни… — начал было андроид.
— У нас были замечательные ремни, — перебил я. — Теперь они в брюхе здешнего левиафана.
— Можно сделать другие, — продолжал А.Беттик. — Один конец веревки закрепить на плоту, а другой будет держать тот, кто полетит на ковре.
— Замечательно. Между прочим, ковер отлично виден на экране радара. А раз у них там скиммеры и орнитоптеры, они наверняка располагают хотя бы примитивными устройствами слежения.
— Можно вести ковер над волнами, — сказала Энея, — на высоте человеческого роста.
— Можно, конечно. Но если мы и впрямь двинемся в обход, то в темноте до арки никак не доберемся. Проклятие! Все равно что плыть, никуда не сворачивая. Кроме того, от платформы до портала не больше километра. Нас обязательно заметят.
— С чего ты взял, что они наблюдают за порталом? — поинтересовалась девочка.
Я помотал головой. Перед моим мысленным взором вновь возник образ того священника в чине капитана, который поджидал нас у Парвати, а потом у Возрождения-Вектор. Воротник с застежкой сзади поверх черной формы офицера Ордена… Честно говоря, я был наполовину уверен, что этот капитан находится на платформе.
— Какая разница? Даже если они решат, что мы потерпели крушение, и поспешат на помощь… Что ты им скажешь?
— Что мы отправились на прогулку и нас унесло в море. — Энея невесело усмехнулась. — Правильно, Рауль. Думаю, нам целый год придется объяснять, кто мы такие и откуда взялись. Ты говорил, здесь хозяйничает Орден…
— Совершенно верно, — вмешался А.Беттик. — Орден уделяет Безбрежному Морю самое пристальное внимание. Из того, что нам удалось узнать за время пребывания в разрушенном городе, явствует, что Орден пришел сюда не так, кстати, давно, чтобы управлять рыбацкими артелями и приобщить к христианству тех, кто пережил Падение. Когда-то Безбрежное Море было протекторатом Гегемонии; теперь оно полностью перешло под власть Церкви.
— Ничего не скажешь, хорошие новости. — Энея посмотрела на андроида, затем повернулась ко мне. — Есть идеи?
— Может быть. — Я встал. Несмотря на то что до платформы было как минимум полтора десятка километров, мы почему-то разговаривали шепотом. — Чем гадать что да как, я предлагаю слетать на разведку. А вдруг платформой заправляют потомки Гаса, которые привечают местных рыбаков?
Энея фыркнула:
— Знаешь, о чем я подумала, когда заметила огни?
— О чем?
— Что это может быть сортир дядюшки Мартина.
— Прошу прощения? — Андроид явно не понял девочку.
— Мама рассказывала, что, когда Мартин Силен купался в лучах славы, у него был дом с комнатами на разных планетах.
— Кажется, бабушка что-то такое говорила… — Я нахмурился. — Порталы в дверных проемах, верно?
— Угу. Если верить маме, дом дядюшки Мартина стоял сразу на дюжинах миров. На Безбрежном Море у него была ванная. Плавучий док с туалетом. Ни стен, ни потолка…
— Вот что такое единение с природой. — Я окинул взглядом океан и хлопнул себя по бедру. — Ладно, пора лететь, а то еще передумаю.
Никто со мной не спорил, не порывался занять мое место. Если честно, меня это слегка задело. Если бы они попросили, я бы, наверно, уступил.
Я напялил брюки потемнее, надел самый темный свитер, накинул сверху грязно-коричневый жилет. В моих приготовлениях присутствовал некий налет мелодраматичности. «Коммандо идет на войну» — мелькнула шальная мысль. Я отогнал непрошеную гостью, добавил к пистолету на поясе три детонатора и упаковку пластиковой взрывчатки, повесил на шею очки ночного видения, чтобы одновременно не мешались и были всегда под рукой, надел наушники и прикрепил у горла микрофон. Энея взяла вторые наушники, и мы проверили, работает ли прибор. Комлог я вручил А.Беттику.
— Во-первых, от него отражается свет. А во-вторых, с компьютера станется подать голос в самый неподходящий момент.
Андроид понимающе кивнул и положил браслет в нагрудный карман.
— У вас есть план, месье Эндимион?
— Буду действовать по обстоятельствам. — Я приподнял ковер над палубой, прикоснулся к плечу Энеи. Меня словно ударило током. Это случилось уже не в первый раз: разумеется, ни о чем таком я не думал, тем не менее… — Не высовывайся, малышка. Если понадобится помощь, я крикну.
— Не стоит, Рауль, — серьезно проговорила девочка. — Мы все равно ничего не сможем сделать.
— Знаю. Я просто пошутил.
— Глупая шутка. Запомни, — прошептала она, — если тебя не будет с нами, когда плот пройдет через портал, ты останешься здесь.
Я кивнул. Ее слова подействовали на меня гораздо сильнее, чем мысль об опасности, которая может подстерегать на платформе.
— Я вернусь. Судя по силе течение, вы окажетесь у арки через… Как по-твоему, А.Беттик?
— Примерно через час, месье Эндимион.
— Я тоже так думаю. Как раз взойдет самая большая из этих треклятых лун. Постараюсь придумать что-нибудь, чтобы отвлечь парней на платформе.
Вновь погладив Энею по плечу, я кивнул А.Беттику и пустил ковер над водой.
Преодолеть те несколько километров, что отделяли плот от платформы, оказалось не так-то просто, несмотря на яркие звезды. Чтобы меня не заметили, приходилось лететь ниже пенных гребней, а тут требовались особое умение и изрядная доля везения. Я не представлял, что случится, если ковер заденет один из гребней — может, ничего, а может, произойдет замыкание; во всяком случае, выяснять это не хотелось.
Чем ближе я подлетал к платформе, тем больше она становилась. По сравнению с плотом, на котором мы в течение двух суток болтались в здешнем океане, платформа выглядела чудовищно громадной — деревянная, на стальных подпорках, что удерживали ее метрах в пятнадцати над водой… Неужели волны в шторм достигают такой высоты? Если да, нам повезло, что мы не попали в шторм. У причалов стояло пять или шесть рыбацких катеров, на главной палубе сверкали ряды освещенных окон, над которыми возвышались две башенки (одну из них венчало маленькое «блюдце» радара); еще я разглядел три посадочные площадки — с плота мы заметили только одну. На площадках выстроилось с полдюжины орнитоптеров со сложенными крыльями, поблизости от радарной башенки виднелись силуэты двух больших скиммеров.
По дороге я составил замечательный план: устроить диверсию — зря, что ли, я прихватил с собой пластиковую взрывчатку? Она наделает переполоху, особенно если начнется пожар. А я тем временем украду один из орнитоптеров. Если за нами организуют погоню, мы пролетим на нем через портал, если нет — используем в качестве буксира.
Да, план был замечательный, однако в нем присутствовал серьезный изъян: я не имел ни малейшего понятия, как управлять орнитоптером. С героями голодрам, которые я смотрел в театрах Порт-Романтика и в комнате отдыха в казарме сил самообороны, такого никогда не случалось. Они умели управлять всем на свете — скиммерами, ТМП, орнитоптерами, вертолетами, самолетами, космическими кораблями… По всей видимости, я не прошел курс молодого героя; даже если мне удастся забраться в один из летательных аппаратов, я буду сидеть и грызть ногти, тупо уставясь на панель управления, до тех пор, пока за мной не явятся охранники. В эпоху Гегемонии стать героем было намного легче: машины в ту пору были гораздо умнее, поэтому от кандидата не требовалось ровным счетом никаких интеллектуальных усилий. А теперь… Рано или поздно придется, скрепя сердце, признаться товарищам, что я мало на что гожусь. Ну, ходил на барже. Ну, водил на службе армейский грузовик. И, честно говоря, от души порадовался, когда не обнаружил на звездолете Консула рубки со штурвалом.
Ладно, сейчас не время забивать себе голову всякой ерундой. До платформы оставалось несколько сотен метров. Повсюду сверкали огни — зеленые на причалах, красные на посадочных площадках, желтые в окнах. Ого, сколько тут окон! Я решил пролететь под радарной башенкой — с той стороны было темнее, — развернул ковер и направил к платформе по широкой дуге. Потом обернулся, рассчитывая увидеть плот, но не сумел различить его в темноте.
Надеюсь, парни на платформе его тоже не видят. Я слышал мужские голоса и громкий смех. Мне сразу вспомнились не слишком трезвые охотники, прилетавшие на Гиперион пострелять уток, и те олухи, с которыми я служил в силах самообороны.
— Почти на месте, — проговорил я в микрофон.
— Ясно, — прошептала мне в ухо Энея. Мы договорились, что она будет отвечать односложно и сама меня вызывать не станет — если на плоту ничего не случится.
Я разглядел под главной палубой паутину брусьев, балок и трапов. В отличие от залитых светом лестниц и площадок на северной и западной сторонах восточный фасад оставался темным. Должно быть, там располагались служебные уровни. Я выбрал самый темный закуток, посадил ковер, скатал его в рулон и засунул в пространство между двумя балками, а тянувшуюся от ковра веревку перерезал ножом. Внезапно у меня возникло предчувствие, что сегодня я обязательно кого-то зарежу. Бр-р! Ну и фантазия у вас, молодой человек! Если не считать инцидента с месье Херригом, я никогда никого не убивал лицом к лицу и, Бог даст, никогда не убью.
Ступеньки лестницы поскрипывали под ногами, но вряд ли этот скрип был слышен за плеском волн и доносившимся сверху хохотом. Я поднялся на два пролета, отыскал трап, взобравшись по которому, уткнулся в люк и осторожно приподнял крышку, в глубине души ожидая увидеть у себя перед носом дуло винтовки.
Люк находился на посадочной площадке, над которой возвышалась радарная башенка. В двух метрах над собой я различил антенну, черным клином рассекавшую при каждом обороте Млечный Путь.
Я выбрался из люка и направился к башне, кое-как подавив желание ступать на цыпочках. Рядом с башней стояли два скиммера, на той площадке, что располагалась уровнем ниже, размещались орнитоптеры, корпуса которых поблескивали в свете звезд. У меня по спине побежали мурашки, я никак не мог отделаться от ощущения, что за мной следят. Я пришлепнул пластиковую взрывчатку к брюху ближайшего скиммера, установил детонатор — чтобы он сработал, следовало послать радиосигнал, — затем спустился на вторую площадку и проделал там то же самое. Как ни странно, никто не окликнул юного героя Рауля Эндимиона. Я постарался принять небрежный вид, поднялся на верхнюю площадку, подкрался к башенке и рискнул выглянуть из-за угла.
Очередная лесенка. Окна ярко освещены, многие распахнуты настежь. Слышится смех и звон кружек, кто-то пытается петь.
Я сделал глубокий вдох и вышел на палубу, пригибаясь как можно ниже, чтобы меня не заметили из окон. Сердце бешено колотилось. Если кто-нибудь выйдет из двери, он отрежет мне путь к ковру-самолету. Я прикоснулся к рукояти пистолета, что висел в кобуре на поясе, и постарался приободриться. До чего же было бы здорово снова очутиться на плоту! Так, взрывчатку я установил… Что еще? Нет, это не простое любопытство: если на платформе хозяйничают вовсе не вояки Ордена, с какой стати ее взрывать, правильно? Повстанцы, с которыми я сражался на Когте, бомбили все подряд — деревни и казармы сил самообороны, не проводя различия между солдатами и мирным населением. На мой взгляд, так могли поступать только трусы и отъявленные мерзавцы. Ведь бомба убивает всех, кто оказался поблизости; она не смотрит, кто ты — военный или штатский. Разумеется, так ведут себя не герои, а последние идиоты, но я не собирался взрывать заряды, не удостоверившись в том, что это необходимо. Если на платформе рыбаки — мужчины, женщины, а может, и дети, — они нам ничего плохого не сделали.
Медленно, очень медленно, словно пародируя улитку, я выпрямился и заглянул в ближайшее окно. Звон посуды доносился из кухни — точнее, из камбуза (поскольку мы в море, терминология должна быть соответствующей). На камбузе находились с полдюжины молодых мужчин. Формы я не заметил, если, конечно, не считать фартуков и маек. Все дружно мыли посуду. По-видимому, на ужин я опоздал.
Я двинулся вдоль стены, соскользнул по лестнице и подкрался к другому, более протяженному ряду окон. Со своего места я мог видеть, что творится внутри, даже не выпрямляясь. За окнами виднелись столы. Похоже, кают-компания. За столами десятка три мужчин — одних мужчин! — попивали кофе. Некоторые курили эрзац-сигареты. Один, судя по цвету жидкости в стакане, потягивал виски. Мог бы и поделиться, стервец этакий.
На многих были костюмы цвета хаки, но определить, форма это или излюбленный наряд местных рыбаков, не представлялось возможным. Черных мундиров Ордена видно не было. Уже приятно. Быть может, платформа и впрямь служит приютом для рыбаков, отелем, где останавливаются толстосумы с других планет, швыряющие невообразимые суммы ради сомнительного удовольствия подстрелить некую экзотическую живность. Кстати говоря, расплачиваются за удовольствие скорее всего не они, а их друзья и родные (ведь речь идет о космических полетах, которые длятся годами, а тот, кто покоится в фуге, платить, естественно, не в состоянии). Вполне возможно, я кое с кем знаком: здесь они рыболовы, а на Гиперионе были охотниками. Ну да ладно, особого желания возобновить знакомство все равно нет.
Слегка успокоившись, я двинулся дальше, уже не прячась. Охранников видно не было. Может, никакая диверсия и не понадобится? Может, мы просто проплывем мимо платформы и на нас не обратят ни малейшего внимания? Пока они будут пить и смеяться, течение отнесет плот к порталу. Вон она, арка, в паре километров к северо-востоку, едва различимая на фоне звездного неба. Решено: когда мы окажемся рядом с порталом, я специальным сигналом дезактивирую детонаторы.
Свернув за угол, я буквально врезался в человека, стоявшего у стены. Чуть поодаль, у поручня, находились еще двое; один смотрел на север в бинокль ночного видения.
— Эй! — воскликнул тот, на которого я налетел.
— Извините, — пробормотал я. Уж с героями голодрам такого точно не случается.
Те двое, что стояли у поручня, держали в руках иглометы — с тем небрежно-высокомерным видом, который характерен для кадровых военных. Дуло одного игломета повернулось в мою сторону. Человек, в которого я врезался, закурил, потушил спичку, выпустил изо рта дым и смерил меня испепеляющим взглядом.
— Что ты здесь делаешь? — Он выглядел моложе меня: должно быть, двадцать с небольшим стандартных лет; на нем была форма Ордена с лейтенантскими нашивками. По старой привычке, приобретенной в силах самообороны, я чуть было не отдал честь. Говорил лейтенант с сильным акцентом, вот только я не мог определить с каким.
— Вышел освежиться, — брякнул я. Что-то подсказывало мне, что настоящий герой выхватил бы пистолет и уложил всю троицу на месте. Впрочем, голос рассудка советовал даже не думать об этом.
Второй солдат тоже навел на меня игломет и щелкнул предохранителем.
— Ты из группы Клингмана? — продолжал допытываться лейтенант. — Или из «Выдр»? — Из-за акцента последнее слово прозвучало не то как «Выдр», то ли как «дыр». Может, я зря беспокоился? Может, это морской концентрационный лагерь для тех, кто не умеет правильно и красиво изъясняться? Сердце колотилось в груди с такой силой, что я испугался: а вдруг со мной прямо сейчас случится инфаркт?
— Я с Клингманом. — Чем фраза короче, тем лучше. Такой акцент мне все равно не сымитировать, сколько ни старайся.
Лейтенант ткнул пальцем в сторону двери.
— Пьяная свинья! Забыл, что с наступлением темноты комендантский час?
Я кивнул и постарался изобразить раскаяние. Может, они не заметят кобуру под моим жилетом…
— Пошли. — Лейтенант повернулся и направился к двери. Солдаты по-прежнему держали иглометы на изготовку. Если они выстрелят, меня разнесет на столько кусочков, что потом не соберешь.
Следом за лейтенантом я прошел в дверь и очутился в помещении, залитом светом и битком набитом людьми. Столь яркого света и такого количества людей я не видел никогда в жизни.
Глава 32
Они устали умирать. Восемь звездных систем за шестьдесят три дня, восемь ужасных смертей и мучительных воскрешений для каждого. Капитан де Сойя, сержант Грегориус, капрал Ки и стрелок Реттиг устали умирать и воскресать.
Всякий раз, стоило ему прийти в себя после воскрешения, де Сойя вставал перед зеркалом и разглядывал свое обнаженное тело, которое выглядело так, словно с него только что содрали кожу. Капитан осторожно прикасался к крестоформу, который непрерывно менял цвет с красного на лиловый и обратно, смотрел на свои дрожащие руки… В течение нескольких дней он обычно не мог собраться с мыслями, голоса других доносились как бы издалека, капитан с трудом разбирал слова собеседника, будь то адмирал космофлота, губернатор какой-либо планеты или приходской священник.
Де Сойя все чаще предпочитал черной форме Ордена одежду священника — сутану с высоким воротником. На поясе у него висели четки, которых он практически не выпускал из рук: молитвы успокаивали, помогали привести в порядок мысли. Капитану давно перестали сниться сны, в которых Энея была его дочерью, в которых он бродил по Возрождению-Вектор, разыскивая свою сестру Марию. Теперь ему снился Армагеддон — пылающие орбитальные леса, охваченные пламенем миры, лучи нейродеструкторов, утюжащие плодородные долины и оставляющие горы трупов…
Уже после первого прыжка де Сойя понял, что ошибался. В беседе с адмиралом Марусиным он заявил, что за два стандартных года обследует двести планет: три дня на воскрешение, разведка — и новый прыжок. Приблизительно шестьсот стандартных суток, около двухсот добровольных смертей. Но выяснилось, что на деле все обстоит иначе.
Первый прыжок они совершили на ТК-Центр, бывшую административную столицу Великой Сети, объединявшей множество миров Гегемонии. В былые годы на ТКЦ проживали десятки миллиардов человек; планету окружало кольцо орбитальных поселений, куда ходили с поверхности космические лифты. Порталы, река Тетис, Гранд-Конкурс, мультилиния — словом, ТКЦ был центром информационной мегасферы; на нем находилось здание правительства Гегемонии, на нем приняла смерть от рук разъяренной толпы Мейна Гладстон, по приказу которой корабли ВКС уничтожили Сеть. Когда произошло Падение, прекратилась подача энергии, летающие города рухнули наземь. В стоэтажных небоскребах десятки тысяч людей умерли с голоду прежде, чем их успели вывезти на скиммерах спасательные команды, — ведь попасть туда можно было только через порталы или с помощью лифта. Поскольку собственного сельского хозяйства на ТКЦ не было (продукты питания доставлялись с других планет через наземные и космические порталы), вспыхнули голодные бунты, продолжавшиеся пятьдесят местных лет, то бишь тридцать стандартных. Когда они наконец отбушевали, статистика подсчитала, что потери ужасны — миллиарды погибли голодной смертью и пали в кровавых схватках.
В эпоху Гегемонии ТК-Центр был также столицей вольнодумства и разврата. Там приживались только наиболее сибаритские и наиболее жестокие культы — Церковь Последнего Искупления, Церковь Шрайка, которые худо-бедно пользовались популярностью у скучающих, утомленных жизнью обитателей ТКЦ. На самом же деле на протяжении столетий владычества Гегемонии предметом поклонения была для таукитян власть: они стремились к власти, безмерно ее жаждали, а добыв, всячески старались сохранить. Власть была божеством миллиардов, а когда божество кануло в небытие вместе с большинством приверженцев, уцелевшие прокляли власть. Им было не до прежних услад: они трудились на развалинах городов, в тени полуразрушенных небоскребов, распахивали плугами собственного изготовления поросшие сорняками участки земли между бесчисленными шоссе и среди опустевших магазинов Гранд-Конкурса, ловили рыбу в реке Тетис, которую еще недавно бороздили тысячи роскошных яхт и прогулочных катеров.
Иными словами, перемены буквально напрашивались, и когда через шестьдесят стандартных лет после Падения на планете появились миссионеры и солдаты Ордена, обращение нескольких миллиардов обитателей ТКЦ прошло быстро и гладко. Остовы правительственных зданий сровняли с землей, а на их месте, используя камни и сталопласт, из которых они были сложены, воздвигли величественные соборы, куда каждый день приходили возблагодарить Господа толпы новообращенных.
Архиепископ ТКЦ со временем сделался настолько влиятелен, что начало казаться, будто он бросает вызов Святейшему Престолу. Так продолжалось много лет. Наконец могущество архиепископа достигло пределов, выйти за которые означало навлечь на себя гнев Ватикана — эти пределы были установлены в 2978 году от Рождества Христова, или в 126 году после Падения, когда от Церкви отлучили его высокопреосвященство, кардинала Клауса Кроненберга; итак, могущество достигло пределов и далее распространялось уже в установленных рамках.
Все это капитан де Сойя узнал после прыжка от Возрождения-Вектор к ТК-Центру.
На ТКЦ они пробыли восемь дней. Войдя в систему, «Рафаил» отправил на планету опознавательный код; четырнадцать часов спустя состоялось рандеву с кораблями Ордена, которые несли боевое дежурство на орбите. Восемь часов ушло на торможение, еще четыре на то, чтобы доставить тела в столицу ТКЦ, город Сент-Пол. Так прошел первый день.
Лишь спустя четыре дня (техники настояли на том, что капитану и его спутникам необходим дополнительный отдых) де Сойя встретился с архиепископом ТКЦ, ее преосвященством Ахиллой Сильвацкой. Целый день ушел на всякие формальности. Поскольку де Сойя имел при себе папский диск, то бишь обладал, можно сказать, неслыханными полномочиями, местные церковники решили воспользоваться случаем. Через несколько часов капитан получил в общем-то довольно смутное, но достаточное представление о провинциальных интригах и борьбе за власть: архиепископ Сильвацкая могла только мечтать о сане кардинала, ибо после отлучения Кроненберга было установлено, что духовный лидер ТКЦ, желающий остаться на планете, не может подняться выше архиепископа; тем не менее ее влияние в этом секторе галактики превосходило влияние не только многих кардиналов, но и адмиралов космофлота. Судя по всему, Сильвацкая опасалась, что де Сойя прибыл с проверкой.
Впрочем, капитана нимало не затрагивали ни опасения Сильвацкой, ни провинциальные дрязги. Его заботили только нуль-порталы. На пятый день пребывания на планете он наконец-то одолел пятьсот метров, отделявшие собор Святого Петра и дворец архиепископа от реки — точнее, от оправленной в камень речушки, которая когда-то была частью Тетиса.
Громадные арки порталов (инженеры предупреждали, что любая попытка разобрать их может привести к ядерному взрыву) давным-давно затянули хоругвями, чтобы убрать с глаз долой эти ошметки язычества. Канал тянулся вдоль бывшего Дома Правительства и Оленьего парка; расстояние между порталами составляло около двух километров. В сопровождении своих солдат и архиепископа, за которой следовала толпа охранников, капитан приблизился к первому порталу и встал так, чтобы отчетливо видеть второй, с хоругвью, изображавшей страдания святого Петра.
Поскольку этот участок Тетиса находился ныне во владениях ее преосвященства, вдоль канала и на перекинутых через него мостах стояли часовые. Офицеры службы безопасности заверили де Сойю, что порталы бездействуют и никто из них в последние дни не появлялся.
Де Сойя потребовал организовать круглосуточную охрану порталов, установить поблизости камеры, датчики, сигналы тревоги и ловушки. Посовещавшись с архиепископом, представители службы безопасности неохотно согласились. Они явно воспринимали действия капитана как посягательство на их полномочия. Де Сойя не знал, смеяться ему или плакать.
На шестой день капрал Ки подцепил некую загадочную лихорадку и оказался в больнице. Де Сойя решил, что болезнь — побочный эффект воскрешения: ведь каждому из них пришлось пережить немало неприятных минут. День спустя выяснилось, что Ки уже в состоянии самостоятельно передвигаться; капрал умолял де Сойю забрать его из больницы на «Рафаил», и капитан было согласился, но архиепископ Сильвацкая попросила отслужить мессу за Папу Юлия. Отказаться не представлялось возможным, и де Сойя отслужил тем вечером мессу кардиналам в красных сутанах — стоя под гигантским изображением Тройного Венца и Скрещенных Ключей (то же изображение присутствовало и на папском диске), купаясь в ароматах благовоний, под звон колокольцев и пение детского хора, в котором насчитывалось шестьсот человек, простой солдат-священник с Мадре-де-Диос и утонченная Ахилла Сильвацкая совершили таинство Христова распятия и воскрешения. Сержант Грегориус, как обычно, принял причастие из рук капитана, несколько десятков избранных также получили гостию, а три тысячи прихожан молились и благоговейно взирали на происходящее.
На восьмой день «Рафаил» покинул систему ТКЦ, и капитан де Сойя впервые обрадовался неизбежной смерти.
В следующий раз они воскресли на Небесных Вратах. В эпоху Гегемонии эту планету подвергли терраформированию, после чего засадили деревьями, а ныне она почти вернулась к своему первобытному состоянию: смертоносные болота, ядовитая атмосфера, испепеляющее излучение Веги-Прим… Бортовой компьютер «Рафаила» проявил самостоятельность и вывел последовательность миров Сети, которые, по его мнению, следовало проверить (интересно, спросил себя капитан, на чем строились эти расчеты — ведь кто знает, куда ведет портал на Возрождении-Вектор?); какое-то время спустя де Сойя заметил, что они постепенно приближаются к Старой Земле — та находилась менее чем в двенадцати световых годах от ТКЦ и в восьми с хвостиком от Небесных Врат. Неожиданно для себя де Сойя понял, что хотел бы посетить систему Старой Земли, пускай даже самой Земли давно нет, пускай Марс и прочие населенные планеты, спутники и астероиды представляют собой галактические задворки, глухую провинцию, не заслуживающую, как и Мадре-де-Диос, ни малейшего внимания с точки зрения Ордена.
Но на Старой Земле порталов никогда не было; посему де Сойе пришлось обуздать свое любопытство и удовлетвориться тем соображением, что он приблизится к системе Старой Земли настолько, насколько это возможно.
Пребывание на Небесных Вратах также растянулось на восемь дней, но вовсе не из-за внутрицерковных интриг. На орбите находился небольшой воинский гарнизон, охранявший планету, но практически не ступавший на ее поверхность. В былые годы население Небесных Врат составляло четыре миллиона человек, но за двести семьдесят четыре года после Падения оно сократилось до восьмидесяти безумцев, месивших грязь на поверхности: еще до того как Мейна Гладстон приказала взорвать порталы, на Врата обрушились Бродяги, которые уничтожили планетарную сферу сингулярности, стерли с лица земли столицу с ее чудесными садами и разбомбили аэростанции, строившиеся не одно столетие. Со временем почва окислилась и на ней перестало расти что бы то ни было.
На планете вроде бы имелись полезные ископаемые, но солдатам они были не нужны, поэтому редко кто спускался на поверхность. Де Сойе пришлось долго убеждать начальника гарнизона, майора Лима, в необходимости организовать экспедицию. На пятый день пребывания в системе Веги-Прим де Сойя, Грегориус, Ки, Реттиг, лейтенант Бристоль и десяток солдат облачились в скафандры и поднялись на борт челнока, который доставил их к бывшему руслу реки. Порталов не обнаружилось.
— Я полагал, их невозможно уничтожить, — заметил де Сойя. — Техно-Центр сконструировал порталы таким образом, что они способны выдержать что угодно.
— Но ведь их нет, — отозвался лейтенант Бристоль и приказал пилоту возвращаться на орбиту.
Де Сойя отменил приказ и на основании полномочий, которые давал папский диск, потребовал просканировать русло. Вскоре выяснилось, что порталы на месте, километрах в шестнадцати друг от друга, но погребены под стометровым слоем грязи.
— Вы удовлетворены? — поинтересовался у де Сойи по рации майор Лим. — То ли Бродяги постарались, то ли арки завалило оползнями. Это ведь не планета, а сущий ад.
— Может быть. Я хочу, чтобы ваши люди откопали порталы и установили вокруг атмосферные купола. И не забудьте выставить часовых.
— Вы что, спятили? — рявкнул майор. — Прошу прощения, сэр, — добавил он чуть погодя, вспомнив, видимо, о папском диске.
— Напротив, я в здравом уме, — холодно отозвался де Сойя. — У вас семьдесят два часа. Если не уложитесь, майор, пеняйте на себя — следующие три года вам придется провести не на орбите, а на поверхности планеты.
Майор уложился в семьдесят часов. Порталы откопали, установили атмосферные купола и выставили охрану. Что ж, тех, кто путешествует по реке Тетис, ожидает радушный прием: кипящая грязь, ядовитая атмосфера, солдаты в боевых скафандрах с оружием на изготовку… В последнюю ночь на орбите, уже на борту «Рафаила», де Сойя вознес молитву Господу. Ему очень хотелось верить, что Энея не появлялась на Небесных Вратах. Когда раскапывали порталы, никаких костей не нашли, но почва здесь настолько кислая, что моментально разъедает кости…
На девятый день капитан покинул систему Веги-Прим, напоследок строго-настрого наказав майору Лиму наблюдать за порталами, куполов не убирать и быть в будущем повежливее с гостями.
В третьей по счету системе, которую посетил «Рафаил», их никто не ждал. Авизо вошел в систему NGC-26296, передавая опознавательный код, на который не получил ответа. В системе имелось восемь планет, но только одна из них, известная под прозаическим названием NGC-4BIV, была пригодна для жизни. Данные, которыми располагал бортовой компьютер, свидетельствовали, что нуль-порталы на этой планете — не более чем каприз правительства Гегемонии и Техно-Центра. Планету никогда не терраформировали и не пытались колонизировать, лишь осуществили в начале Хиджры посев РНК; Тетис провели сюда, по-видимому, лишь для того, чтобы туристы получили как можно больше впечатлений.
Тем не менее на планете жили люди, которых компьютер «Рафаила» обнаружил, дожидаясь, пока придут в себя после воскрешения члены его экипажа. Насколько мог судить ущербный — по сравнению с настоящими ИскИнами — искусственный интеллект корабля, население планеты составляли биологи, зоологи, туристы и снабженцы, застрявшие на ней во времена Падения и вернувшиеся к первобытному состоянию. Спаривались дикари часто и охотно, однако в джунглях и высокогорных районах планеты обитали от силы несколько тысяч человек. Все объяснялось очень просто: численность населения регулировали хищные животные, появившиеся на поверхности NGC-4BIV благодаря посеву РНК. Человечина считалась у зверья деликатесом.
Пытаясь разыскать порталы, бортовой компьютер едва не перегрелся от напряжения. В памяти хранились только сведения о том, что порталы расположены в северном полушарии, на реке протяженностью шесть тысяч километров. Корабль вышел на орбиту над громадным континентом в северном полушарии и стал фотографировать и сканировать русло реки. К несчастью, на континенте обнаружилось три крупные реки, две из которых текли на восток, а одна на запад; компьютер не сумел определить приоритеты и принял решение просканировать все три, а общая протяженность рек составляла более двадцати тысяч километров.
Короче, когда к исходу третьего дня начали биться сердца членов экипажа, компьютер ощутил нечто вроде электронного эквивалента облегчения.
Стоя перед зеркалом и слушая, как механический голос описывает планету, Федерико де Сойя ощутил отчаяние. Ему захотелось плакать. Он остро завидовал капитанам Стоун, Буле и Хирну, которые охраняли внешние рубежи и, быть может, в эту самую минуту сражались с Бродягами. Господи, у них там наверняка все просто и понятно!
Поговорив с Грегориусом и двумя другими подчиненными, де Сойя внимательно изучил результаты компьютерного анализа, немедленно отверг реку, которая текла на запад, вдалеке от наполненных жизнью джунглей и болот, на том основании, что для Тетиса она не слишком живописна — сплошные каньоны; вторая река не годилась из-за избытка порогов и водопадов. Оставалась третья — широкая и спокойная. В ходе предварительного сканирования обнаружились десятки, если не сотни объектов, напоминавших порталы, — нагромождения камней и тому подобное, но более тщательный осмотр всякий раз разочаровывал.
Порталы нашлись на пятый день. Их разделяло громадное расстояние, но ошибки быть не могло. На всякий случай оставив на борту «Рафаила» капрала Ки, де Сойя лично повел катер к ближайшей из арок.
События разворачивались по сценарию, которого капитан страшился сильнее всего. Как определить, побывала девочка на этой планете или нет? Расстояние между порталами составляло без малого двести километров; кружить на катере над джунглями можно было сколько угодно — выяснить что-либо не представлялось возможным, да и спросить было не у кого.
Катер приземлился на островке неподалеку от первого портала. Де Сойя обсудил положение дел с Грегориусом и Реттигом.
— Их корабль прошел через портал на Возрождении-Вектор три недели назад, — сказал сержант, не вставая с кресла.
— Если они попали в мир вроде этого, — заметил Реттиг, глядя на свой скафандр, напоминавший вторую кожу, — то запросто могли улететь. С какой стати им и дальше двигаться по реке?
— Верно, — согласился де Сойя. — Но я почти уверен, что их корабль поврежден.
— Мы не знаем, насколько сильно, — проговорил Грегориус. — Может, он заделал пробоину или отправился чиниться на базу Бродяг? В конце концов отсюда рукой подать до Окраины.
— А девчонка не могла бросить корабль? — спросил Реттиг.
— Могла. Но мы не знаем даже, вправду ли порталы работают или это какая-то хитрая уловка.
— Смешно, сэр, честное слово. — Грегориус положил руки на колени. — Уж проще найти иголку в стоге сена… Была такая поговорка.
Капитан поглядел в иллюминатор, за которым бесшумно раскачивались на ветру высокие папоротники.
— Мне почему-то кажется, что порталы действуют. И девчонка, уверен, поплывет по реке. Не знаю на чем — может, на том аппарате, на котором улетела из долины Гробниц Времени, может, на плоту или на лодке, но поплывет.
— А что мы делаем здесь? — поинтересовался Реттиг. — Либо девчонка нас опередила, либо… Ждать можно хоть до скончания века. Вот если бы у нас была сотня «архангелов», можно было бы забросить патрули на все миры…
Де Сойя кивнул. В часы молитвы его не раз посещала мысль, насколько все было бы проще, если бы «архангелы» представляли собой обыкновенные авизо с искусственным интеллектом на борту. Такой корабль по прибытии в ту или иную систему передавал бы местным властям послание Ватикана и, даже не тратя времени на торможение, снова уходил бы в гиперпространство. Однако капитан знал, что Церковь запрещает использование настоящих ИскИнов, да и полагаться на местные власти достаточно рискованно. Насколько было известно де Сойе, авизо класса «архангел» насчитывалось всего три — «Михаил», «Гавриил» (на котором к нему прибыли посланцы Святейшего Престола) и «Рафаил». Находясь на орбите Возрождения-Вектор, он думал о том, чтобы послать на поиски девочки другие авизо, но быстро выяснил, что это невозможно: у Ватикана были другие планы относительно «Михаила» и «Гавриила». Умом де Сойя понимал, почему девочку должен искать только он и никто другой. Умом, но не сердцем. Ведь что получается: они потратили без малого три недели на то, чтобы обследовать два мира. Между тем корабль-робот способен облететь двести миров и передать нужное сообщение меньше чем за десять стандартных дней… Тогда как «Рафаилу» с экипажем, при нынешних темпах, потребуется четыре-пять лет. Капитан с трудом подавил желание рассмеяться.
— Будем искать корабль, — проговорил де Сойя. — Если девочка отправилась дальше самостоятельно, их корабль либо куда-то улетел, либо находится на одном из миров Сети.
— Вы сказали «их», сэр, — произнес Грегориус. — По-вашему, девочка не одна?
— Кто-то же помог ей улететь с Гипериона, — ответил де Сойя.
— Может, ей помогали Бродяги? — предположил Реттиг. — Если так, они наверняка на полпути к своему Рою. И девчонку, кстати, могли забрать с собой.
Эту возможность они обсуждали не раз и не два. Де Сойя поднял ладонь, показывая, что разговор окончен.
— Надо искать корабль. Он может навести нас на след девочки.
— Сэр, мы осмотрели джунгли с воздуха. — Грегориус ткнул пальцем в сторону зеленой стены, проступавшей сквозь пелену дождя. — Корабля там нет. Может, вернемся на «Рафаил»? В конце концов, когда попадем в следующую систему, кто вам мешает отправить сюда военный отряд? Пускай охраняют порталы.
— А сколько этот отряд будет добираться? Восемь-девять месяцев, не меньше. — Капитан посмотрел на капли дождя на лобовом стекле катера. — Надо обыскать реку.
— Не понял, сэр, — проговорил Реттиг.
— Если обстоятельства вынуждают бросить корабль, его наверняка постараются спрятать, так?
Швейцарские гвардейцы уставились на своего командира. Де Сойя заметил, что у них дрожат руки. Видимо, еще не до конца пришли в себя после воскрешения.
— Мы просканируем русло реки и близлежащие джунгли, — подытожил капитан.
— На это уйдет целый день, — заметил Реттиг.
— Передайте капралу Ки, пускай запрограммирует радар на сканирование джунглей в пределах двухсот километров от русла в каждую сторону. А мы осмотрим реку. Наш радар слабее, зато территория меньше.
Гвардейцы молча кивнули.
Они обнаружили нечто со второго захода. Крупный металлический объект находился на дне реки, в нескольких километрах от первого портала. Катер завис над находкой, а де Сойя связался с «Рафаилом».
— Капрал, мы тут кое-что нашли. Если понадобится, будьте готовы уничтожить цель по моей команде. Понятно? Только по моей команде.
— Так точно, сэр, — отрапортовал Ки.
Грегориус и Реттиг, взяв необходимое снаряжение, подошли к открытому люку.
— С Богом, — сказал де Сойя.
Сержант прыгнул. Ранцевый двигатель скафандра сработал за мгновение до того, как ноги Грегориуса коснулись воды. В следующую секунду к сержанту присоединился Реттиг. Оба держали оружие на изготовку.
— Вижу цель на тактическом дисплее, — доложил Грегориус.
— Изображение удовлетворительное, — отозвался де Сойя. — Ныряйте.
Гвардейцы исчезли под водой. Де Сойя опустил катер к самой поверхности и включил носовые прожекторы, лучи которых легко проникли сквозь толщу темно-зеленой воды.
— Глубина около восьми метров.
— Есть контакт! — воскликнул сержант.
На видеомониторе возник металлический корпус, вокруг которого сновали рыбы и клубился ил.
— Воздушный шлюз открыт, — продолжал Грегориус. — Судя по размерам, очень может быть, что мы нашли то, что искали. Реттиг останется снаружи. Я пошел внутрь.
Де Сойе захотелось пожелать сержанту удачи, однако он промолчал. Грегориусу наверняка не требуется никаких пожеланий. Капитан положил руку на панель управления плазменной пушкой, которая составляла все вооружение катера.
Картинка на мониторе оставалась прежней, поскольку изображение на нее теперь передавала камера, установленная на скафандре Реттига. Прошла минута-другая. Потом еще столько же. Де Сойя буквально не находил себе места от беспокойства. Ему казалось, что звездолет вот-вот выпрыгнет из воды и устремится ввысь в отчаянной попытке оторваться от погони.
— Реттиг! — окликнул он.
— Здесь, сэр.
— Что у вас там происходит?
— Не могу сказать, сэр. Наверно, корпус блокирует передачу. Подожду минут пять, потом… Я что-то вижу, сэр!
Де Сойя тоже различил на мониторе шлем сержанта Грегориуса, показавшийся из открытого люка. В объектив камеры Реттига угодил луч фонаря, и монитор на мгновение сделался серым.
— Капитан, — донесся бас Грегориуса, — это не тот корабль. Похоже на прогулочную яхту, такие были в прошлом у толстосумов. Знаете небось, они могли летать и плавать.
— Что с ней стряслось? — осведомился де Сойя, переведя дыхание.
На мониторе было видно, как сержант ткнул пальцем вверх и оба гвардейца устремились к поверхности.
— По-моему, ее затопили, сэр. Внутри с десяток скелетов. Может, и побольше. Два детских. Как я уже сказал, эта штука могла летать и плавать, даже под водой; вряд ли они забыли задраить люки… — На глазах у глядевшего в иллюминатор де Сойи две фигуры в боевых скафандрах взмыли над рекой. — Наверно, застряли тут после Падения и решили не мучиться. Я, конечно, могу ошибаться, но…
— Мне кажется, вы правы, сержант, — откликнулся де Сойя. — Возвращайтесь. — Он нажал на кнопку, приводя в действие механизм люка.
В те несколько секунд, которые он еще оставался в одиночестве, капитан успел поднять руку и благословить реку, корабль на дне и тех, кто принял смерть на его борту. Вообще-то Церковь не жалует самоубийц, но Ей известно, что в жизни и в смерти нет ничего постоянного. Точнее, подумалось де Сойе, Церкви, может, и неизвестно, зато он знает наверняка.
* * *
Они установили у каждой из арок датчики движения — девочку приборы, естественно, не остановят, зато сообщат отряду, который де Сойя намеревался прислать на планету, проходил кто-либо через порталы или нет. Затем катер взмыл в небо и какое-то время спустя состыковался с «Рафаилом» над сверкающим лимбом затянутой облаками NGC-4BIV. Корабль тут же начал разгоняться, готовясь к прыжку. Следующим по списку, составленному компьютером, был Мир Барнарда.
Эта планета находилась в непосредственной близости от системы Старой Земли — каких-то шесть световых лет, а потому была колонизирована одной из первых, еще до Хиджры. Капитану подумалось, что он как бы получает возможность заглянуть в прошлое человечества. Впрочем, очнувшись на базе Ордена, в шести астрономических единицах от Мира Барнарда, де Сойя сразу же ощутил разницу. Красный карлик, звезда Мира Барнарда, имела массу приблизительно в пять раз меньше той, какой обладало солнце Старой Земли, а ее спектральная световая эффективность составляла всего 1/2500 солнечной. Мир Барнарда занимал столь высокое место по шкале Сольмева только благодаря тому, что располагался очень близко к своей звезде, в 0,126 астроединицы; к тому же на его терраформирование ушло не столетие и не два. Очутившись на поверхности планеты, де Сойя убедился воочию, что те, кто терраформировал Мир Барнарда, сотворили настоящее чудо.
Планета сильно пострадала во время предшествовавшей Падению атаки Бродяг, а вот само Падение если и сказалось на ней, то лишь в незначительной степени. Во времена Гегемонии она представляла собой разительную противоположность многим другим мирам Сети: развитое сельское хозяйство (здесь выращивали множество культур, завезенных со Старой Земли, — кукурузу, пшеницу, соевые бобы и тому подобное) причудливо сочеталось на ней с большим количеством институтов и колледжей, которыми Мир Барнарда и славился. Эта комбинация сельскохозяйственной глубинки (укладом жизни Мир Барнарда напоминал какой-нибудь крохотный североамериканский городок начала двадцатого столетия) с интеллектуальным центром дала Гегемонии немало замечательных ученых, писателей и мыслителей.
После Падения Мир Барнарда рассчитывал не столько на свой интеллектуальный потенциал, сколько на сельское хозяйство. Орден, прибывший сюда лет пятьдесят спустя, на первых порах столкнулся с ожесточенным сопротивлением. Местные жители не нуждались ни в новом христианстве, ни в Святейшем Престоле на Пасеме. Под власть Ордена планета перешла только в 3061 году от Рождества Христова, через 212 лет после Падения, когда завершилась кровопролитная война между католиками и партизанскими шайками, члены которых называли себя Истинно Верующими.
Как сообщил де Сойе архиепископ Герберт Стерн, большинство колледжей опустело, часть превратили в мужские и женские семинарии. С партизанами в общем и целом удалось покончить, хотя отдельные стычки случались и по сей день — в лесистой горной местности, известной под названием Индюшиный Край.
Река Тетис протекала именно там, и на пятый день пребывания в системе де Сойя вместе со своими спутниками отправился туда в сопровождении шестидесяти солдат и отряда личных телохранителей архиепископа.
Партизаны им не встретились. Река текла по широким долинам, потом ныряла в теснины, прорезала лиственные леса, выросшие из доставленных когда-то со Старой Земли семян, и разливалась наконец по возделанным землям. В основном то были плантации кукурузы, среди которых иногда попадались фермерские домики с хозяйственными постройками. Ничто не предвещало опасности и ничего не произошло.
Воздушные патрули облетели на скиммерах лес, но корабля Энеи не обнаружили. Река же была слишком мелкой, чтобы на ее дне мог спрятаться звездолет. Майор Энди Форд, который командовал солдатами, выразился весьма поэтично: «Самое лучшее место для прогулок на байдарках по эту сторону Шугар-Крик». Кроме того, протяженность реки составляла всего несколько километров. Поскольку на Мире Барнарда имелись современные средства слежения, предположение о том, что корабль девочки мог взлететь незамеченным, отпадало. Из разговоров с фермерами выяснилось, что никакие чужаки в Индюшином Краю в последнее время не появлялись. Начальник гарнизона, архиепископ и местные гражданские власти пообещали де Сойе не спускать глаз с порталов и заверили, что партизаны, буде те объявятся, им не помеха.
На восьмой день де Сойя попрощался со всеми новыми друзьями и покинул Мир Барнарда. «Челнок» доставил капитана на орбиту, где он пересел на факельщик и вскоре очутился на борту «Рафаила». В памяти де Сойи, бросившего прощальный взгляд на планету, запечатлелась идиллическая картина: двойной шпиль величественного собора в городе Сент-Томас, который раньше назывался Буссард-сити.
Теперь дорога вела прочь от Старой Земли. Де Сойя, Грегориус, Ки и Реттиг пришли в себя в системе Лакайль-9352; если Тау Кита лишь казалась невообразимо далекой экипажам первых «ковчегов», то Лакайль-9352 была таковой на самом деле. Очередная задержка объяснялась не бюрократическими проволочками и не теплым приемом. Проблема заключалась в природных условиях. Планета, известная в эпоху Гегемонии как Горечь Сибиату, а позднее переименованная приверженцами Новой Церкви в Неизреченную Благодать, еще в прежние времена едва ли подходила для жизни, а ныне не соответствовала никаким стандартам. Река Тетис когда-то бежала по двенадцатикилометровому пенолитовому туннелю, воздух, в котором поддерживалось приемлемое давление, был пригоден для дыхания. Двести с лишним лет назад туннель обветшал и развалился, вода выкипела при низком давлении, а воздух улетучился в разреженную метаново-аммиачную атмосферу.
Де Сойя не представлял, кому понадобилось включать этот мир в состав Сети. Гарнизона на планете не было, присутствия Церкви тоже не ощущалось, если не считать нескольких священников, которые поддерживали дух глубоко религиозных колонистов, добывавших бокситы и серу. Двое или трое колонистов вняли уговорам де Сойи и согласились отвести капитана к руслу реки.
— Если девчонка выскочила здесь, она должна была умереть на месте, — заметил Грегориус, изучая портал над пересохшим руслом и осколками пенолитовой трубы. Задувал смертоносный ветер, пыль так и норовила проникнуть под скафандры.
— Не обязательно, — возразил де Сойя. Он медленно поднял голову и поглядел на оранжево-желтое небо. Атмосферный скафандр в отличие от боевого значительно затруднял движения. — Корпусу корабля метан с аммиаком не страшен. Кстати, до колонии далеко… Взлетай сколько угодно, никто не заметит.
Седовласый и сутулый проводник в видавшем виды скафандре утвердительно кивнул:
— Верно, святой отец. Некогда нам на звезды-то таращиться, работать надо.
Судя по всему, сюда присылать военный отряд не стоило. Во всяком случае, так считали подчиненные де Сойи.
— Пожалейте парней, сэр, — проговорил Грегориус. — Препоганое местечко, того и гляди задница отвалится. Прошу прощения, святой отец.
Де Сойя отвлеченно кивнул. Они установили у порталов последние из имевшихся на борту «Рафаила» датчики движения: побывали на пяти мирах из двухсот, а запасы уже иссякли. Как ни крути, придется посылать солдат. К боли, которая терзала все тело, и сумятице в мыслях — неизбежным последствиям воскрешения — теперь примешивались сомнение в собственных силах и уныние, переходящее в отчаяние. Капитан чувствовал себя дряхлым, ослепшим от старости котом, которому велели поймать мышь, но который не в состоянии караулить сразу у двухсот норок. Далеко не в первый раз ему остро захотелось очутиться на Окраине — с теми, кто сражается с Бродягами.
Словно догадавшись, о чем думает командир, Грегориус спросил:
— Сэр, а вы заглядывали в тот список планет, который составил компьютер?
— Разумеется, сержант. А что?
— Некоторые из этих планет нам больше не принадлежат. Я имею в виду миры на Окраине. Они ближе к концу списка. На них давным-давно хозяйничают Бродяги, а компьютеру хоть бы хны…
— Знаю, сержант, — устало проговорил де Сойя. — Когда я давал задание компьютеру, то не стал уточнять, какие миры не следует включать в список.
— Восемнадцать планет, — произнес Грегориус с кривой усмешкой. — Как по-вашему, сэр, хорошо нас там встретят?
Де Сойя молча кивнул.
— Сэр, — сказал капрал Ки, — если вы решите обследовать эти планеты, мы с радостью пойдем за вами.
Де Сойя оглядел подчиненных и подумал, что, наверно, требует от них слишком многого.
— Спасибо, ребята. Если не возражаете, решение примем, когда настанет время.
— То есть лет через сто? — уточнил Реттиг.
— Может быть. Ладно, пора отсюда сматываться.
Вскоре «Рафаил» покинул систему Лакайль-9352.
* * *
Не выходя за пределы Задворок (этот сектор был обследован и получил свое название еще до Хиджры), авизо совершил два прыжка к терраформированным планетам, исполнявшим некий изысканный танец на расстоянии в половину светового года между тусклым Эпсилоном Эридана и не менее, если не более тусклым Эпсилоном Индейца.
Евразийский Эксперимент на Омикроне II и Эпсилоне III представлял собой смелую попытку осуществить наяву утопию, добиться совершенства в процессе терраформирования и политического переустройства планеты. Этот эксперимент затеяли в основном неомарксисты, которые норовили укрыться от гонений на враждебных, казалось бы, человеку мирах. Во времена Гегемонии на смену утопиям наяву пришли космические базы и автоматические заправочные станции ВКС, однако благодаря тому, что путь «ковчегов» и спин-звездолетов, направлявшихся когда-то на Окраину, пролегал через системы Эридана и Индейца, две планеты были колонизированы. Именно у них впоследствии потерпел поражение флот Гленнон-Хайта. Орден, привлеченный стратегическим местоположением планет, реконструировал заброшенные базы ВКС и восстановил мало-помалу выходившие из строя терраформационные установки.
Обследование реки Тетис на этих планетах не заняло много времени. Оба участка находились в глубине территорий, на которых размещались военные базы; кругом было столько солдат, что девочка, не говоря уж о корабле, ни за что не смогла бы ускользнуть незамеченной. Де Сойе уже доводилось бывать на Эпсилоне Эридана — по пути на Окраину, — и он знал, что мимо тамошних караулов не прошмыгнет и мышь, но все же решил взглянуть на порталы собственными глазами.
Впрочем, была и другая причина, по которой капитан задержался на Эпсилоне Эридана. Ки с Реттигом пришлось отправить в лазарет. «Рафаил» поставили в док, техники осмотрели бортовой реаниматор и обнаружили в нем серьезные неполадки. На ремонт ушло три стандартных дня.
Теперь можно было надеяться, что успевшие сделаться привычными последствия воскрешения — боль во всем теле, сумятица в мыслях и перепады настроения — если и не исчезнут совсем, то станут существенно слабее.
— Куда вы направляетесь? — спросил отец Дмитрий, священник-реаниматор, неотступно сопровождавший де Сойю на протяжении всего пребывания капитана на планете.
Де Сойя помедлил с ответом. «А почему бы и не сказать?» — подумалось ему.
— На Безбрежное Море. — Это была последняя планета на Задворках Старой Земли, далее шли миры, колонизированные уже после Хиджры. — Отсюда до нее около трех парсеков. Это водный мир, расположенный в паре световых лет от…
— Как же, помню, помню, — проговорил пожилой священник. — Мне довелось побывать на ней десятки лет назад. Я обращал рыбаков-язычников, приводя их в лоно Церкви. — Седовласый отец Дмитрий благословил собеседника. — Капитан де Сойя, молю Господа, чтобы вы нашли то, что ищете.
Едва ли не перед самым отлетом с Безбрежного Моря де Сойя по чистой случайности наткнулся на след.
То был шестьдесят третий день путешествия, второй после воскрешения на орбитальной станции и последний на планете. Роль связного с командованием гарнизона — и одновременно гида — выполнял разговорчивый молодой лейтенант по имени Бэрин Алан Спраул; подобно всем гидам, юнец говорил не умолкая и сообщил де Сойе гораздо больше того, чем капитану хотелось знать. Впрочем, лейтенант оказался неплохим пилотом, что пришлось весьма кстати: де Сойя ни разу в жизни не садился за штурвал орнитоптера.
Летательный аппарат взмыл в воздух и полетел на юг, прочь от плавучего города Сент-Терез; капитан наслаждался положением пассажира.
— Почему порталы стоят так далеко друг от друга? — спросил он.
— Ну, это целая история, — отозвался лейтенант.
Де Сойя перехватил взгляд Грегориуса. Сержант позволял себе улыбаться в открытую только перед боем, но за время, проведенное вместе, де Сойя научился различать мимику Грегориуса. Любой другой человек расхохотался бы, а сержант лишь состроил гримасу.
— Гегемонии почему-то вздумалось построить здесь порталы реки Тетис, хотя уже была и сфера сингулярности, и куча личных порталов… По-моему, бредовая идея. Где это видано, чтобы река текла в океане? Короче, порталы воткнули на пути Срединного Течения, что в общем-то имело смысл — только там и можно встретить левиафанов и прочих тварей. Сплошная экзотика… Правда, возникла одна проблема… — Де Сойя посмотрел на капрала Ки, дремавшего у иллюминатора, сквозь который в салон проникал солнечный свет. — Никто не знал, на чем строить порталы — а они настолько громадные, сэр… Скоро сами увидите. Конечно, есть коралловые рифы, но с ними лучше не связываться, того и гляди уплывут; в океане попадаются плавучие острова, но те тоже не годятся — не выдерживают даже человеческого веса, нога и та сразу проваливается. Вон, сэр, с правого борта как раз такой остров. Знаете, что в конце концов придумали инженеры? Порталы закрепили приблизительно тем же способом, каким мы фиксируем на месте наши города и платформы. Спустили на воду здоровенные площадки — «здоровенные» самое подходящее слово, сэр… Потом забросили в море тяжелые якоря, такие разлапистые, знаете, чтобы уж наверняка зацепились… Вот только до дна далековато. По меньшей мере десять тысяч фатомов.[87] Ничего себе глубинка, верно, сэр? Кстати, на дне обитают всякие странные личности, отдаленные родичи тех, что иногда появляются на поверхности. Жуткие твари, сэр, несколько километров длиной…
— Лейтенант, — перебил де Сойя, — скажите на милость, какое отношение все это имеет к моему вопросу? — Снаружи доносился свист рассекаемого крыльями машины воздуха — высокий, почти на пределе слышимости, буквально уваливавший в сон. Капитан еще держался не в пример похрапывавшему Ки и Реттигу, который сидел задрав ноги и закрыв глаза.
— Потерпите, сэр. — Спраул ухмыльнулся. — Наши платформы и города тоже держатся на якорях, поэтому их местонахождение практически не изменяется, даже во время Большого Прилива. А что касается порталов… Наши приборы отмечают на планете повышенную вулканическую деятельность. Между прочим, сэр, на дне все иначе, нежели на поверхности, уж поверьте. Местные твари порой как сцепятся — только щепки летят… В общем, инженеры придумали вот что: если датчики порталов фиксируют увеличение вулканической активности, то порталы… гм… мигрируют. Пожалуй, это наиболее точное определение, сэр.
— Вы хотите сказать, что расстояние между порталами реки Тетис зависит от вулканической деятельности на дне океана?
— Так точно, сэр. — Улыбка на лице лейтенанта Спраула выражала, по всей видимости, удовольствие и искреннее изумление по поводу того, что офицер космофлота, оказывается, разбирается в подобных вещах. — Кстати, вон один из них. — Лейтенант заложил вираж. Вскоре машина зависла в нескольких метрах над порталом, у подножия которого плескались фиолетовые волны, разбивавшиеся о ржавое металлическое основание арки.
Де Сойя потер подбородок. Он устал до изнеможения; спутники капитана, судя по их виду, чувствовали себя ничуть не лучше. Если бы можно было увеличить срок между воскрешением и смертью…
— Я бы хотел увидеть второй портал.
— Слушаюсь, сэр! — Лейтенант развернул машину и повел ее над волнами. Де Сойя незаметно для себя задремал и очнулся, лишь когда Спраул, не слишком церемонясь, потряс его за плечо. Близился вечер, на фиолетовую поверхность моря падали косые лучи солнца, а черная арка портала отчетливо вырисовывалась на фоне закатного неба.
— Отлично, — проговорил капитан. — Сканирование продолжается?
— Так точно, сэр, — отозвался пилот. — Мне сообщили, что техники увеличили радиус сканирования, но пока не обнаружили ничего, кроме нескольких левиафанов. Кстати, теперь к нам валом повалят рыбаки.
— Насколько я понимаю, сэр, — подал голос Грегориус, сидевший рядом с лейтенантом, — рыбаков тут много.
— Вы правы, сержант. — Спраул искоса поглядел на чернокожего гиганта. — Если не считать добычи водорослей, рыба — наш основной источник доходов.
Де Сойя ткнул пальцем в сторону платформы, находившейся в нескольких километрах от портала.
— Очередной приют рыбаков? — Капитану вспомнился день, который он провел вместе с начальником местного гарнизона, разбирая доклады с таких вот платформ. Ни в одном докладе не упоминалось ни о корабле, ни о девочке, хотя на Безбрежном Море подобные платформы попадались едва ли не на каждом шагу. Уж кто-то должен был заметить звездолет…
— Он самый, сэр. Подлететь поближе или не стоит?
Де Сойя окинул взглядом портал, арка которого возвышалась над орнитоптером, и сказал:
— Возвращаемся на базу, лейтенант. Нас ждет к обеду епископ Меландриано.
Брови Спраула поползли вверх, словно им захотелось добраться до линии коротко остриженных волос. Лейтенант повел машину по кругу — так сказать, давая старшему по званию возможность бросить прощальный взгляд.
— На платформе, похоже, не так давно произошла авария, — заметил де Сойя, который не отрывался от иллюминатора.
— Так точно, сэр, — откликнулся лейтенант. — Один мой приятель нес там дежурство, недавно сменился… Официальное название этой платформы — «Станция номер триста двадцать шесть в Срединном Течении». Так вот, приятель рассказывал, что какому-то браконьеру взбрело в голову взорвать станцию.
— Диверсия? — поинтересовался де Сойя.
— Скорее партизанская война, сэр. Ее ведут местные жители, потомки тех, кто поселился здесь еще до прибытия Ордена. Не случайно на каждой платформе несут дежурство воинские отряды, а море на протяжении рыбацкого сезона патрулируют катера. Если рыбаки разбредутся, сэр, на них наверняка нападут, поэтому приходится держать ухо востро. Видите лодки, сэр? Скоро они выйдут в море в сопровождении боевых катеров. Левиафаны поднимаются к поверхности, когда встают все три луны… Вон, большая уже показалась. На лодках установлены прожекторы, чтобы дурить головы левиафанам: те думают, что это луны, и сами лезут в ловушку. Браконьеры тоже применяют этот способ.
— Мне кажется, тут просто негде спрятаться, — проговорил де Сойя, поглядев на бескрайнее водное пространство.
— Так точно, сэр, — отозвался Спраул. — То есть вовсе нет. Браконьеры маскируют свои лодки под плавучие острова, у них есть субмарины и одна драга, как две капли воды похожая на левиафана, честное слово.
— Значит, какой-то браконьер попытался взорвать платформу? — Де Сойя поддерживал беседу только для того, чтобы не заснуть.
— Ну да, сэр. Это случилось восемь Больших Приливов тому назад. Одиночка, что немного странно… Как правило, они нападают толпой. Подорвал несколько скиммеров и орнитоптеров. Обычное дело; правда, больше достается лодкам и катерам…
— Прощу прощения, лейтенант, — прервал де Сойя. — Восемь Больших Приливов — сколько это суток?
— Извините, сэр. — Спраул закусил губу. — Я тут родился. Сами понимаете, привык… В месяц бывает в среднем четыре Больших Прилива, то есть диверсию устроили два месяца назад.
— Злоумышленника задержали?
— Так точно, сэр. — Лейтенант снова ухмыльнулся. — Это целая история. — Спраул поглядел на капитана, словно испрашивая разрешения продолжать. — Если в двух словах, то браконьера сначала поймали, потом он взорвал свои заряды и попытался удрать, и кто-то из часовых его застрелил.
Де Сойя кивнул и закрыл глаза. В докладах, которые он просматривал на базе, упоминалось о множестве подобных инцидентов. Похоже, на Безбрежном Море партизанская война уступала в популярности только рыбной ловле.
— Что самое забавное, — закончил свой рассказ лейтенант, — этот парень пытался улететь с платформы на ковре-самолете. Такими пользовались во времена Гегемонии…
Де Сойя резко выпрямился, посмотрел на своих людей, которые тоже мгновенно встрепенулись.
— Поворачивайте, лейтенант. Я хочу побывать на платформе.
— И что случилось потом? — в пятый раз спросил де Сойя. Вместе со швейцарскими гвардейцами он сидел в кабинете управляющего. Кабинет находился на верху радарной башенки, прямо под радаром. За окном вставали три луны.
Управляющий, капитан морского флота Ч.Доббс Поул, дородный мужчина с нездоровым румянцем на лице, уже в начале разговора вспотел от напряжения.
— Когда стало ясно, что этот человек не принадлежит ни к одной из рыбацких групп, лейтенант Белиус решил его допросить. Стандартная процедура, святой отец.
— А потом? — Де Сойя не сводил с управляющего взгляда.
— Ему каким-то образом удалось ускользнуть. — Управляющий провел языком по губам. — Мы выяснили, что он столкнул лейтенанта Белиуса за борт.
— Могу я поговорить с лейтенантом?
— Боюсь, что нет, святой отец. Он то ли утонул, то ли его сожрали акулы. Их всегда много у платформы…
— Опишите того человека, которого вы умудрились упустить. — Де Сойя подчеркнул последнее слово.
— Лет двадцать пять или около того, святой отец. Высокий, широкоплечий…
— Вы сами его видели?
— А как же, святой отец! Я находился на палубе вместе с Белиусом и стрелком Аментом в тот самый миг, когда парень начал вырываться и столкнул Белиуса за борт.
— Столкнул лейтенанта, ускользнул от вас с вашим стрелком, хотя вы оба были вооружены… Вы позаботились надеть на него наручники?
— Конечно, святой отец. — Управляющий вытер носовым платком испарину со лба.
— Заметили вы что-нибудь необычное в его поведении? Что-нибудь, о чем не сообщили в своем… изумительно кратком отчете?
Управляющий было сунул платок в карман, потом достал снова и вытер шею.
— Нет, святой отец. Ну вообще-то… Ему порвали свитер на груди. Я успел заметить, что он отличается от нас с вами… — Де Сойя вопросительно приподнял бровь. — У него не было креста. В смысле, крестоформа. Я как-то не подумал, что это может быть важно… Большинство местных браконьеров отвергают крест. И то сказать, какие они браконьеры с крестами?..
Де Сойя пропустил вопрос мимо ушей.
— Значит, этот человек спрыгнул на нижнюю палубу и исчез? — спросил он, подойдя вплотную к управляющему.
— Никуда он не исчезал, сэр. На нижней палубе был спрятан его летательный аппарат. Я, как полагается, объявил тревогу и поднял гарнизон в ружье.
— Тем не менее ему удалось взлететь и покинуть платформу?
— Да. — Судя по всему, управляющий ломал голову над своей участью. — Мы засекли его на радаре, потом разглядели в приборы ночного видения. Он летел на ковре… Стоило нам открыть огонь, как он направил ковер обратно к платформе.
— На какой высоте?
— Высоте? — Капитан Поул озадаченно нахмурился. — По-моему, метров двадцать пять или тридцать. Приблизительно вровень с нашей верхней палубой. Он летел прямо на нас, святой отец, будто собирался сбросить бомбу. Тут как раз сработали заряды, которые он установил раньше… Честно сказать, перепугал меня до полусмерти…
— Продолжайте. — Де Сойя посмотрел на Грегориуса, который стоял в позе «вольно» за спиной управляющего. На лице сержанта было написано отвращение; чувствовалось, что он готов задушить капитана Поула собственными руками.
— Ну… Раздался взрыв, потом другой, третий… Спецкоманда кинулась тушить огонь, а мы со стрелком Аментом и другими часовыми остались на месте…
— Весьма похвально, — с нескрываемой иронией заметил де Сойя. — Продолжайте.
— Это все, святой отец, — проговорил капитан Поул.
— Неужели? Вы приказали стрелять по ковру?
— Да… Приказал, сэр.
— И все часовые выстрелили одновременно?
— Да. — Глаза управляющего словно остекленели: он отчаянно пытался вспомнить, как все было. — По-моему, да. Часовых было шестеро, не считая нас с Аментом.
— Вы тоже выстрелили?
— Э-э… Понимаете, на платформу напали, летная площадка горела, а этот террорист приближался к нам… Что у него было на уме, одному Богу известно…
Де Сойя кивнул, хотя ответ капитана его не удовлетворил.
— На ковре рядом с ним никого не было?
— Кажется, нет. В темноте трудно что-либо разглядеть, сэр.
Де Сойя посмотрел в окно, за которым вставали луны. Сквозь стекло струился оранжевый свет.
— В ту ночь луны уже взошли?
Поул снова облизнулся, как бы прикидывая, соврать или не стоит. Он знал, что де Сойя уже допросил стрелка Амента и остальных часовых; а де Сойя знал, что Поул об этом знает.
— Только-только, сэр, — пробормотал управляющий.
— Как сейчас?
— Да.
— Так видели вы на ковре кого-нибудь еще или нет? Кого-нибудь или что-нибудь? Скажем, вещмешок или пресловутую бомбу?
— Нет, — раздраженно бросил Поул, на какой-то миг справившись со страхом. — Между прочим, святой отец, чтобы взорвать два скиммера и три орнитоптера, ему понадобилась всего-навсего одна упаковка пластиковой взрывчатки.
— Верно подмечено. — Де Сойя подошел к окну. — У ваших часовых, включая стрелка Амента, были иглометы?
— Так точно.
— У вас, если мне не изменяет память, тоже?
— Да.
— И все заряды попали точно в цель?
— Думаю, да, — ответил Поул после непродолжительной паузы.
— Вы это видели? — негромко поинтересовался де Сойя.
— Стервеца разнесло в клочки, сэр… Я видел… Как если бы в вентилятор сунули кусок дерьма… Потом ковер полетел обратно, словно кто-то потянул за веревочку… Пролетел пару метров и упал в море, рядом со стойкой Л-3. Тут же подскочили акулы, ну и…
— Значит, тело вы не обнаружили?
— Нет, — с вызовом ответил Поул. — Я заставил Амента и Килмера подобрать то, что осталось. Они взяли багры, «кошки» и сеть… Но это было уже после того, как мы потушили пожар и убедились, что платформа в общем и целом не пострадала. — Судя по тону, капитан постепенно обретал уверенность в себе.
Де Сойя кивнул:
— И где сейчас эти останки?
Управляющий скрестил пальцы рук, которые едва заметно дрожали.
— Мы их похоронили, сэр. В море, разумеется. Сбросили на следующее утро с южной стороны… Так сказать, устроили акулам званый завтрак.
— Но вы убедились, что это был тот самый человек?
Поул прищурился, отчего его глазки сделались совсем крошечными.
— Конечно, сэр. Тот самый браконьер. Вы меня простите, святой отец, но я не понимаю, чем он вас заинтересовал. Обыкновенный браконьер, таких на Безбрежном Море полным-полно.
— У вас что, все браконьеры летают на коврах-самолетах, то бишь на старинных ТМП, капитан?
— ТМП? — дрогнувшим голосом переспросил Поул.
— Совершенно верно. Кстати, почему вы не упомянули о ковре в своем отчете?
— Не думал, что это настолько важно. — Поул пожал плечами.
— Вы сказали, ковер некоторое время продолжал лететь? А потом упал в море и утонул?
— Да. — Поул выпрямился и расправил складки кителя.
— Стрелок Амент утверждает, что все было по-другому. — Де Сойя пристально взглянул на капитана. — По словам вашего подчиненного, ковер достали из воды, после чего вы забрали его себе. Это правда?
— Ничего подобного! — воскликнул управляющий, переводя взгляд с де Сойи на Грегориуса, затем на Спраула, на Ки с Реттигом и обратно на де Сойю. — После того как он упал в море, я его больше не видел. Амент — гнусный лжец.
Де Сойя кивнул Грегориусу и произнес, обращаясь к Поулу:
— Насколько мне известно, капитан, за старинную вещь, тем более в рабочем состоянии, даже на Безбрежном Море можно выручить кругленькую сумму. Так?
— Не знаю, — выдавил Поул, не сводивший глаз с Грегориуса. Сержант приблизился к личному шкафчику управляющего, запертому на ключ. — Я не имел ни малейшего понятия, что это за штука.
Де Сойя вновь повернулся к окну. Самая крупная из трех лун заслонила собой небо у восточного горизонта. На фоне луны отчетливо виднелась арка нуль-портала.
— Эта штука называется ковром-самолетом, — тихо проговорил он. — Мы уже имели удовольствие наблюдать ее на радаре в Долине Гробниц Времени на планете Гиперион. — Священник кивнул Грегориусу.
Сержанту хватило одного удара, чтобы сорвать дверь шкафчика с петель. Грегориус сунул руку внутрь, пошарил среди бумаг и пачек и достал аккуратно свернутый ковер, который и выложил на стол управляющего.
— Арестуйте этого человека и уберите его с глаз долой, — приказал де Сойя. Лейтенант Спраул и капрал Ки выволокли Поула из кабинета.
Де Сойя и Грегориус развернули ковер. В лунном свете засверкали золотые нити. Де Сойя прикоснулся к поверхности ковра, нащупал дырки в тех местах, где в ткань вонзились иглы. Повсюду виднелись пятна крови, скрывавшие затейливые узоры; к задней части ковра пристал кусок человеческой плоти.
— Сержант, вы читали длинную поэму под названием «Песни»? — осведомился де Сойя, поглядев на Грегориуса.
— «Песни»? Никак нет, сэр. Я вообще мало читаю… И потом, разве она не запрещена?
— Кажется, вы правы, сержант. — Де Сойя отступил на шаг от стола и в который уже раз бросил взгляд на луну за окном. «Очередная загадка, — подумалось ему. — Когда мы ее решим, девчонка окажется в моих руках». — Поэма действительно запрещена. — Де Сойя повернулся и направился к двери, жестом приказав Реттигу скатать ковер. — Пошли. — Из его голоса начисто исчезла всякая усталость. — У нас много дел.
Глава 33
Воспоминания о тех двадцати минутах, которые я провел в просторном, залитом светом кубрике, похожи на страшные сны, рано или поздно посещающие каждого из нас. Вы знаете, что я разумею: сны, в которых мы попадаем в собственное прошлое, но не можем понять, с какой стати нас туда занесло и что за люди вокруг. Когда меня втолкнули в кубрик, я вдруг испытал кошмарное ощущение — будто все это мне почему-то знакомо. Не забывайте, большую часть своей жизни я провел в казармах и кубриках, казино и камбузах. Мужские компании были привычны, даже чересчур; громкая похвальба в устах городских жителей, которые и сами не рады, что ввязались в авантюру, представлявшуюся в городе совершенно безопасной, мне давным-давно надоела. Впрочем, к ощущению привычности примешивалось нечто иное — возможно, причиной тому были своеобразный диалект рыбаков, их одежда, дым дешевых сигарет… Вдобавок я отчетливо сознавал, что стоит кому-нибудь из них заговорить со мной, как меня в два счета раскусят.
Мне попался на глаза стоявший в дальнем углу стол с высоким кофейником (этим все кубрики похожи друг на друга), и я направился к нему, постаравшись принять небрежный вид. Отыскал сравнительно чистую чашку, налил себе кофе, продолжая одновременно наблюдать за лейтенантом. Тот вроде бы удостоверился, что я здесь не чужой, повернулся и вышел, уведя за собой солдат. Я пригубил дрянной кофе, с удивлением заметил, что моя рука, несмотря на переполнявшие меня эмоции, отнюдь не дрожит, и стал прикидывать, как мне выбраться.
По невероятному стечению обстоятельств при мне осталась вся моя амуниция — нож с пистолетом и передатчик. Значит, я в любой момент могу взорвать заряды и, воспользовавшись суматохой, добежать до того места, где спрятал ковер-самолет. Просто так провести плот мимо платформы не удастся, слишком много на ней часовых. Я подошел к окну, которое, по моим прикидкам, смотрело на север: из него виднелись горизонт, озаренный светом восходящих лун, и арка портала. Окно не открывалось — рама была то ли закрыта на задвижку, которой я не заметил, то ли прибита гвоздями. Чуть пониже окна находилась гофрированная стальная крыша, но до нее, к сожалению, было не добраться.
— Ты с кем, паренек?
Я обернулся. Ко мне приблизились пятеро, говорил самый маленький и толстый из них. На нем была пятнистая фланелевая рубашка, парусиновые брюки и жилет, почти такой же, как у меня; на поясе висел рыбацкий нож. Должно быть, солдаты приняли кобуру, которая виднелась из-под моего жилета, за чехол для ножа…
Толстяк тоже говорил с акцентом, который отличался от акцента солдат. По-видимому, рыбаки прилетали сюда со множества планет, поэтому мой акцент вряд ли кого-то насторожит. И то хорошо.
— С Клингманом, — ответил я, вновь поднося к губам чашку с кофе, который по вкусу напоминал речной ил. С вояками моя уловка сработала, подействует ли она на рыбаков?
Увы! Мужчины переглянулись. Толстяк сказал:
— Паренек, мы сами из группы Клингмана. Прилетели вместе из Сент-Терез. Тебя на гидроплане не было. Давай выкладывай, откуда ты взялся.
— Не ерепенься, приятель, — усмехнулся я. — На самом деле я с «Выдрами». Отстал от них в Сент-Терез.
Снова мимо. Мужчины зашептались. Я расслышал слово «браконьер», повторенное несколько раз. Двое отделились от компании и направились к двери. Толстяк ткнул в меня пальцем.
— Я сидел за одним столиком с проводником «Выдр». Он тебя никогда не видел. Стой здесь и никуда не уходи, понял?
Естественно, этого я допустить не мог.
— Ну уж нет. — Я поставил чашку на стол. — Пожалуй, не мешает позвать лейтенанта, чтобы он во всем разобрался. Пойду схожу за ним.
Толстяк не нашелся, что ответить. Я пересек кубрик, в котором теперь царила тишина, распахнул дверь и вышел на палубу.
Мне не повезло. Справа от меня стояли двое солдат с иглометами на изготовку. Слева показался тот самый лейтенант, с которым я имел неосторожность столкнуться. Он спускался по трапу с двумя штатскими и дородным мужчиной в мундире капитана.
— Проклятие! — Я опустил голову и прошептал в микрофон: — Детка, у меня неприятности. Вполне возможно, я попался. Передатчик выключать не буду, чтобы ты могла слышать. Плывите к порталу. И не вздумай отвечать! — Для полного счастья мне не хватало только детского голоска из микрофона в разгар беседы. — Эй! — Я шагнул навстречу капитану и протянул ему руку. — Вас-то я и ищу!
— Это он! — воскликнул один из рыбаков. — Говорит, что прилетел с «Выдрами», но мы его не видели. Наверняка из тех браконьеров, про которых вы нам все уши прожужжали.
— В наручники его! — приказал капитан, и, прежде чем я опомнился и успел сказать что-нибудь умное, солдаты схватили меня за плечи, а лейтенант надел мне наручники. Старомодные, металлические, однако весьма надежные: они стиснули запястья с такой силой, что у меня чуть не отнялись руки.
В тот миг я понял, что шпион из меня никудышный, что моя затея изначально была обречена на провал. Солдаты до сих пор не додумались обыскать задержанного — и вообще, вместо того чтобы, держа под прицелом, спокойно обыскать Рауля Эндимиона, разоружить, а потом уж надеть на него наручники, они стояли вплотную ко мне, — однако через несколько секунд им наверняка придет в голову здравая мысль.
Я решил не дожидаться неизбежного. Взмахнул скованными руками, схватил капитана за рубашку и толкнул его на рыбаков. Раздались крики, началась суматоха, которой я не преминул воспользоваться: повернулся, изо всех сил ударил первого солдата ногой в пах и попытался сорвать с плеча у второго винтовку. Солдат закричал, стиснул оружие обеими руками — а когда я дернул за ремень, врезался головой в переборку и затих. Тот, что стоял на коленях, прижимая ладонь к животу, разорвал мне свитер, заодно стащив с меня очки ночного видения. Я пнул его в лицо, и он повалился ничком.
Лейтенант, тем временем выхвативший игломет, сообразил, что, выстрелив, прикончит не только диверсанта, но и своих подчиненных, а потому ударил меня рукоятью по голове.
Иглометы никогда не были особенно увесистыми. От удара у меня из глаз посыпались искры. Ощутив, как из раны потекла кровь, я окончательно разъярился. Резко развернувшись, я ударил лейтенанта кулаком в лицо. Он взмахнул руками, перевалился через поручень и рухнул в море. На мгновение все замерли, прислушиваясь к крикам, которыми он оглашал ночь на протяжении всех двадцати пяти метров, отделявших палубу от поверхности воды.
Точнее, замерли все, кроме меня. В тот миг, когда над поручнем мелькнули подошвы лейтенантских башмаков, я перепрыгнул через распростертого на палубе солдата, распахнул дверь и ворвался в кубрик. Рыбаки толпились у окон, наблюдая за тем, что происходит снаружи. Как ни странно, меня никто остановить не пытался; я проскочил сквозь толпу, словно нож сквозь масло.
Позади распахнулась дверь, и я услышал, как кто-то — то ли капитан, то ли солдат — крикнул:
— На пол! Прочь с дороги!
У меня по спине пробежал холодок, когда я представил, что сейчас за мной вдогонку бросятся сотни игл. Одним движением я вскочил на стол, закрыл лицо руками и, выставив вперед правое плечо, прыгнул в окно.
Пока я летел, мне пришло в голову, что, если в окне перспекс или что-нибудь еще в том же духе, моя песенка спета и вместо удачного побега получится грубый фарс — я отскочу от окна, точно мячик, и меня тут же подстрелят или закуют в кандалы на потеху солдатне. В принципе на платформе посреди океана окна и должны быть небьющимися. Но когда я несколько минут назад притронулся к окну, мне показалось, что в нем обыкновенное стекло.
По счастью, так оно и оказалось.
Я рухнул на гофрированную стальную крышу и покатился по ней, давя телом осколки стекла. Кажется, я вышиб стекло вместе с рамой; по крайней мере в жилете торчали щепки. Отряхиваться было некогда. На краю крыши я остановился: инстинкт побуждал меня катиться дальше, пока по мне не стреляют, в надежде на то, что внизу окажется палуба; здравый смысл советовал сначала удостовериться, а память подсказывала, что с этой стороны платформы никакой палубы нет.
В результате я пошел на компромисс: перекатился через край, ухватился пальцами за карниз и бросил взгляд под ноги. Палубы действительно не было. Метрах в двадцати подо мной плескались фиолетовые волны, сверкавшие в лунном свете.
Я осторожно подтянулся и выглянул из-за карниза. У разбитого окна толпились солдаты; стоило мне высунуть голову, как один из них тут же выстрелил. Облако игл пронеслось в двух-трех сантиметрах над моими пальцами; я невольно моргнул, прислушиваясь к звуку, с каким они пролетели надо мной. Этот звук напоминал гудение рассерженных пчел. Вдоль стены тянулась какая-то труба шириной около десяти сантиметров. Между трубой и стеной виднелось крошечное свободное пространство — быть может, хватит, чтобы ухватиться за трубу, если она, конечно, не обломится под тяжестью моего тела, если рывок не вывернет мне руки, если не подведут пальцы, если… Я не додумал до конца — я прыгнул. Наручники лязгнули по трубе, меня чуть было не развернуло спиной к стене, но пальцы уже стиснули трубу, вцепились в нее мертвой хваткой.
Второй залп разнес в клочья карниз крыши и изрешетил стену. Во все стороны полетели осколки, вновь послышались крики и проклятия.
Я услышал, как кто-то вскарабкался на крышу, а потому принялся раскачиваться, рассчитывая перепрыгнуть на палубу, угол которой виднелся слева от меня, метрах в трех внизу. Дело шло туго, плечи сводила судорога, пальцы постепенно немели. Кровь заливала глаза, кожу саднило от бесчисленных порезов. Неужели я не успею? Неужели солдаты доберутся до меня раньше, чем я сумею достаточно раскачаться?
Неожиданно раздался грохот, сопровождаемый ругательствами. Крыша просела. Должно быть, изрешеченная иглами стена не выдержала нагрузки.
Продолжая браниться, солдаты выбрались из обломков. Эта непредвиденная задержка дала мне необходимые секунды. Я перехватился поудобнее, раскачался, на третьем проходе разжал руки — и мешком свалился на палубу, ударившись о поручень с такой силой, что чуть было не потерял сознание.
На то, чтобы отдышаться и прийти в себя, времени не было. Я быстро откатился в сторону, постарался забиться в тень. Прогремели два выстрела — первый пришелся в «молоко» (я увидел, как вскипела вода метрах в пятнадцати от платформы), а второй угодил в палубу. Словно заработала разом сотня пневматических пистолетов… Я вскочил и побежал, пригибаясь, чтобы не удариться головой, и пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в нагромождении теней. Где-то надо мной затопали башмаки. У солдат было преимущество: они знали конструкцию платформы как свои пять пальцев. Однако лишь мне было ведомо, куда я направляюсь.
Я спрятал ковер на нижней палубе, с восточной стороны платформы. К сожалению, вскоре выяснилось, что с этого уровня мне туда не добраться: мостки вели исключительно на север и на юг. Прикинув, что уже, по всей вероятности, поравнялся с восточной палубой, я перебрался на опору шириной около шести сантиметров и, размахивая скованными руками, кое-как перелез на соседнюю. Затем то же самое пришлось проделать снова. Несмотря на все трудности, я упорно продвигался к цели.
На главной палубе распахивались люки, по мостикам бежали солдаты, но все же я добрался до восточной стороны первым. Спрыгнул на палубу, отыскал и раскатал ковер, прикоснулся к нитям и взмыл в воздух в тот самый миг, когда открылся люк над ведущей к палубе лесенкой. Я распластался на ковре, словно желая слиться с материалом, и вновь протянул руки к золотым нитям. Если бы не наручники, все было бы гораздо быстрее.
Инстинкт подсказывал, что нужно лететь на север, но я быстро сообразил, что так рисковать не стоит. Иглометы бьют на шестьдесят — семьдесят метров, но что если у кого-то на платформе окажется плазменная винтовка? Нет, поскольку все солдаты сейчас столпились на восточной стороне, лучше всего лететь на запад или на юг.
Я свернул налево, пролетел под балками и направил ковер над волнами. С этой стороны в море выдавалась та самая палуба, на которую я не так давно приземлился; она была пуста и вдобавок настолько изрешечена иглами, что вряд ли бы выдержала и ребенка. Пролетев под ней, я направился на запад. На верхней палубе громыхали башмаки. Но если меня кто-то и заметит, ему придется потрудиться, чтобы попасть в ковер среди переплетения балок и брусьев.
Выскочив из-под платформы, я нырнул в ее тень, по-прежнему не рискуя поднимать ковер выше нескольких сантиметров над гребнями волн, которые закрывали меня от платформы. Расстояние неуклонно увеличивалось, я уже собирался облегченно вздохнуть, когда справа донесся плеск и кашель.
Я сразу понял, кто это: лейтенант, которого я столкнул за борт. Моим первым побуждением было лететь дальше. На платформе царил настоящий бардак — крики, проклятия, выстрелы, — меня, похоже, никто не замечал. И потом, с какой стати спасать человека, от которого ты получил пистолетом по голове и который с радостью прикончит тебя при первом удобном случае? Ну да, парню не повезло: течение сильное, его отнесло далеко от платформы. И что с того? Сам виноват.
«Я могу скинуть его на палубу — или на какую-нибудь опору. В конце концов, сумел удрать один раз, выберусь и во второй. Человек выполнял свой долг, он не заслуживает такой смерти».
Скажу честно, в подобные моменты я ненавижу свою совесть. Хорошо, правда, что она нечасто дает о себе знать.
Я остановил ковер над волнами и осторожно приподнялся на локтях, пытаясь разглядеть лейтенанта.
Сначала я заметил рыб. Своими спинными плавниками они сильно напоминали акул со Старой Земли и саблеспинов из гиперионского Южного моря, однако у этих на спине был не один плавник, а два. Рыбьи тела, от плавников до брюха, переливались всеми цветами радуги. Около трех метров в длину, твари изящно скользили по волнам, время от времени демонстрируя свои ослепительно-белые зубы.
Проследив взглядом за одной из рыбин, я наконец заметил лейтенанта. Он отчаянно старался удержать голову над водой и отогнать подальше разноцветных хищников. То и дело какая-нибудь из тварей устремлялась на него, клацала зубами, игнорируя попытки лейтенанта ударить ее ногой, и отплывала в сторону, освобождая место другим. Было видно, что силы лейтенанта на исходе.
— Черт, — прошептал я. Естественно, о том, чтобы бросить его в такой ситуации, не могло быть и речи.
Перво-наперво я набрал код, снимающий силовой экран — то есть поле, которое на высокой скорости защищает пассажиров от ветра и не дает им, в особенности детям, свалиться с ковра. Пока я буду вытаскивать лейтенанта из воды, у меня и без того возникнет достаточно проблем, чтобы еще сражаться с силовым экраном.
Я направил ковер вправо и мгновение спустя завис над тем местом, где только что бултыхался лейтенант. Его там не оказалось. Он скрылся под водой. Я хотел было нырнуть, но потом различил очертания рук. Акулы почему-то не спешили нападать. Возможно, их смутила тень, которую отбрасывал ковер.
Я ухватил лейтенанта за запястье и потянул вверх, чуть было сам не потеряв при этом равновесия. Потом перехватил за штаны и втащил мокрого, отплевывающегося вояку на ковер.
Его била дрожь; тем не менее, избавившись от воды, которую успел набрать в легкие, он на удивление быстро пришел в себя и начал дышать. Это меня обрадовало: честно говоря, я не настолько человеколюбив, чтобы восстанавливать дыхание способом «рот в рот». Убедившись, что он не свалится и акулы ничего ему не отхватят, я принялся колдовать над нитями. Ковер взял курс на платформу и поднялся чуть выше. Пошарив под жилетом, я отыскал передатчик и набрал код, приводивший в действие заряды, оставленные мною на летной площадке. Мы должны были подлететь к платформе с юга; удостоверившись, что на площадках никого нет, я нажму на кнопку, а когда прогремят взрывы и начнется всеобщий переполох, разверну ковер, подлечу к платформе с запада и высажу лейтенанта на первой попавшейся балке.
Я обернулся, решив проверить, дышит он или перестал, и увидел, что лейтенант стоит на коленях, сжимая в руке что-то блестящее…
Он вонзил мне нож прямо в сердце.
Точнее, вонзил бы, не сумей я извернуться в ту долю секунды, которая потребовалась ножу, чтобы пропороть жилет, свитер и кожу. Короткое лезвие вонзилось мне в бок и уткнулось в ребро. Боли я не почувствовал — только изумление, сродни электрическому шоку. Лейтенант снова замахнулся. Я попытался перехватить его руку, но мои ладони, мокрые от воды и крови, лишь скользнули по запястью. Я повалился навзничь, прижимая цепочкой, что соединяла наручники, руку с ножом к поверхности ковра. Если бы не это движение, на сей раз он бы добился своего.
А так — лезвие попало в передатчик и отклонилось в сторону.
За спиной гремели взрывы; должно быть, нож задел кнопку. Ковер поднимался все выше, его уже отделяло от воды метров восемь — десять.
Лейтенант вскочил и принял позу завзятого уличного бойца. Откровенно говоря, я всегда терпеть не мог холодное оружие. Разумеется, мне приходилось свежевать дичь и чистить рыбу, но я никогда не понимал, как можно поступать таким образом с людьми. Поэтому, хотя у меня был свой нож, лейтенанту я и в подметки не годился. Оставалось только надеяться, что я успею выхватить из кобуры пистолет, но проделать это в наручниках было не так-то просто, даром что кобура висела на левом бедре. Вот расстегну кобуру, вытащу пистолет…
Лейтенант взмахнул рукой слева направо. Я отпрыгнул к самому краю ковра, но было уже поздно — на правой руке появился глубокий порез. Боль пронзила тело, и я невольно вскрикнул. Лейтенант ухмыльнулся, оскалив блестевшие от морской воды зубы, шагнул вперед и, зная, что отступать мне некуда, сделал выпад, направляя нож по дуге, которая заканчивалась у моего живота.
В тот момент, когда он задел меня во второй раз, я начал поворачиваться вправо, а сейчас докончил поворот, спрыгнул с набиравшего высоту ковра и ушел под воду с вытянутыми над головой руками. Воздуха в легких было мало, темнота сбивала с толку, и на долю секунды мне вдруг почудилось, что я не знаю, где верх, а где низ. Но потом я заметил блики лунного света и устремился в том направлении. Моя голова показалась над поверхностью воды как раз вовремя, чтобы я увидел лейтенанта, стоящего на ковре-самолете, который приближался к платформе, неуклонно забираясь все выше. Лейтенант глядел в мою сторону, будто ожидая, когда я вернусь.
Возвращаться я не собирался, а вот выяснить отношения мне хотелось. Пошарив под водой, я извлек пистолет и постарался лечь на спину, чтобы иметь возможность как следует прицелиться. Фигура лейтенанта отчетливо вырисовывалась на фоне громадной луны.
Лейтенант наконец перестал высматривать меня и повернулся лицом к платформе. В ту же секунду часовые выстрелили. С такого расстояния не промахнулся бы даже я, а уж они и подавно.
В него угодили по меньшей мере три заряда. Лейтенант свалился с ковра, точно корзина с бельем. Я ничуть не преувеличиваю — сквозь его продырявленное тело можно было увидеть луну. В следующее мгновение мимо проскользнула акула: она так торопилась попробовать лейтенанта на вкус, что буквально отпихнула меня в сторону.
На моих глазах кто-то из солдат схватил ковер. Пришлось оставить надежду: мне почему-то верилось, что ковер обязательно развернется, подлетит ко мне и доставит на плот, который сейчас, наверно, качается на волнах в километре или двух к северу отсюда. Признаться, я, как бы это сказать, сроднился с ковром и с мифом, который он олицетворял, поэтому расставание с ним, тем более такое, отозвалось болью в груди.
К горлу подкатила тошнота. Естественно, я наглотался воды, к тому же потерял много крови… Некоторое время я просто лежал на спине, удерживая над водой голову и сжимая в руках пистолет.
Если я собираюсь куда-то плыть, надо избавиться от наручников. Но каким образом? Цепочка была толщиной в половину моего запястья; как бы я ни старался, мне не удастся развернуть ствол пистолета так, чтобы пуля угодила в нее.
Между тем акулы расправились с тем, что осталось от лейтенанта, и стали потихоньку подбираться ко мне. Их наверняка привлекала кровь, сочившаяся из моих многочисленных ран, в первую очередь из порезов на боку и на правой руке. Соленая кровь течет в соленый океан… Если эти твари и впрямь похожи на саблеспинов и земных акул, они способны почувствовать кровь за несколько километров. Значит, необходимо добраться до платформы, пристрелив по дороге парочку наиболее бесцеремонных рыбин, и взобраться на стойку. А там начну звать на помощь. Глядишь, услышат. Выбора все равно не остается.
Я перевернулся на живот и поплыл на север, в открытый океан. С меня вполне хватило того времени, что я провел на платформе. Больше Рауля Эндимиона туда не заманишь.
Глава 34
Никогда раньше я не пытался плавать со скованными руками и искренне надеюсь, что та попытка была первой и последней. Я дрыгал ногами, размахивал руками, дергался из стороны в сторону, однако наверняка утонул бы, если бы не высокое содержание соли в океанской воде. Только соль удерживала меня на плаву; о том, чтобы добраться до плота, я, откровенно говоря, не помышлял — течение проходило по меньшей мере в километре к северу от платформы, а мы договорились держаться от нее как можно дальше.
Спустя несколько минут меня вновь окружили акулы. Я увидел среди волн радужные тела. В следующую секунду одна из рыбин пошла в атаку. Я извернулся и пнул ее тем же манером, каким действовал покойный лейтенант. Кажется, получилось. Вскоре выяснилось, что умом акулы не блещут — они нападали поодиночке, словно соблюдая некий порядок, а я исправно отбивался. Тем не менее мои силы постепенно убывали. Незадолго перед тем, как появились акулы, я подумывал о том, чтобы скинуть тяжелые, тянувшие под воду башмаки, но стоило мне представить, как я тыкаю босой ногой в оскаленную акулью пасть, как всякое желание расстаться с башмаками бесследно исчезло. Зато пистолет был вроде ни к чему. Перед тем как совершить очередной выпад, акулы ныряли и нападали уже снизу; вряд ли пуля из старинного оружия пробьет слой воды толщиной в пару метров. Поэтому я сунул пистолет в кобуру, а через какое-то время пожалел о том, что вообще оставил его при себе. Затем меня окончательно допекли башмаки: стараясь не упускать из виду акул, я избавился от обувки, мгновенно канувшей в пучину; когда я съездил ногой по рыбьей морде, мне показалось, будто по коже провели наждачной бумагой. Акула клацнула зубами, промахнулась и вильнула в сторону.
Мало-помалу я продвигался на север, отдыхая через каждые несколько метров, высматривая акул и облегчая душу ругательствами. Мне повезло, что на небе не было ни облачка: тела акул сверкали и переливались в лунном свете, иначе я бы их не заметил… Наконец мои силы иссякли: я вновь перевернулся на спину и лег на воде, жадно хватая ртом воздух и вяло отбиваясь от настырных рыбин.
Раны болели все сильнее. Казалось, у меня в боку разгорается пожар; чуть выше тело постепенно немело. Я был уверен, что истекаю кровью; когда акулы на какой-то миг оказались достаточно далеко, я на мгновение прижал к боку ладони. Красные… Гораздо краснее, чем фиолетовое море, которое приобрело в лунном свете багровый оттенок. Волной накатила слабость. Вода становилась теплее, как будто ее нагревала моя кровь; так и подмывало закрыть глаза и погрузиться в убаюкивающее тепло…
Всякий раз, когда меня поднимало на гребень волны, я оглядывался по сторонам в поисках плота, продолжая в глубине души надеяться на чудо. Но плот не показывался. Отчасти это меня радовало: вполне возможно, плот не заметили с платформы и Энея с А.Беттиком добрались до портала. Во всяком случае, я не видел в воздухе ни скиммеров, ни орнитоптеров. Пожалуй, спасти Рауля Эндимиона может только отправленный на разведку орнитоптер… Нет, не надо; я уже решил, что платформы с меня хватит.
Меня то подбрасывало на гребни, то опускало в промежутки между волнами. Казалось, фиолетовый океан глубоко и размеренно дышит. Я перевернулся на живот, выставил перед собой руки и задрыгал ногами, но, как не замедлило выясниться, в таком положении удерживать над водой голову было гораздо сложнее. Кровотечение из правой руки, похоже, усилилось, она сделалась чуть ли не втрое тяжелее левой… Наверно, нож лейтенанта задел мышцу.
В конце концов я наотрез отказался от дальнейших попыток плыть и вновь улегся на спину, сжав руки в кулаки и слегка подрабатывая ногами. Акулы, по-видимому, почувствовали, что я слабею — стали подплывать все ближе, разевая зубастые пасти. Я как мог отбивался, стараясь не остаться при этом без ног, и вскоре содрал ступни в кровь. Гнусные твари становились все настойчивее, а я вдруг понял, что слишком устал, чтобы отбиваться. Одна из рыбин распорола мне правую брючину, оставив на ноге царапину, и торжествующе взмахнула хвостом.
В уголке сознания, как ни странно, нашлось место теологическим размышлениям. Я не то чтобы молился — думал о Космическом Божестве, которое позволяет своим созданиям измываться друг над другом. Сколько людей, млекопитающих и прочих тварей провели последние минуты жизни в животном страхе — сердца бешено колотятся, в кровь выбрасывается адреналин, из-за чего силы иссякают еще быстрее, а крохотные умишки не в состоянии что-либо придумать… Как Божество может именовать себя Милосердным — и создавать таких вот зубастых гадин? Помнится, бабушка рассказывала об ученом со Старой Земли, некоем Чарлзе Дарвине, который одним из первых выдвинул теорию эволюции (а может, гравитации или чего-то еще); христианин до мозга костей — хотя в ту пору о крестоформе никто и слыхом не слыхивал, — он превратился в атеиста, наблюдая за тем, как оса парализовала паука и всадила в него свою личинку. Когда наступит срок, объяснила бабушка, личинка сама прогрызет себе дорогу на свободу…
Я потряс головой. Ко мне устремилась очередная акула. По голове я не попал, зато угодил в плавник (похоже, удар оказался весьма чувствительным), а потом пришлось резко подтянуть ноги к подбородку, чтобы не остаться без них. В результате я потерял равновесие и наглотался соленой воды, когда меня накрыло волной. Акулы подплывали все ближе. Пошарив руками под водой, я вытащил из кобуры пистолет, чуть не выронил его, но все обошлось. Дуло пистолета уткнулось мне в подбородок. Пожалуй, гораздо проще оставить его так и спустить курок, чем стрелять по морским разбойникам. Ну да ладно, пуль достаточно, хватит и на то, и на другое.
Неожиданно вспомнился рассказ, который бабушка читала мне в детстве. Классика, Стивен Крейн;[88] назывался рассказ «В лодке». Несколько человек спаслись с потерпевшего крушение парохода, провели в море много дней без пресной воды, а когда оказались рядом с сушей, выяснилось, что они не могут до нее добраться — прибой слишком сильный и лодка наверняка перевернется. Один из этих людей — забыл, как его звали, — разочаровался в религии: сперва он молился, считая, что Бог милостив и не оставит его; потом обзывал Господа нехорошими словами и, наконец, решил, что Бога нет и некому услышать людские просьбы. Я сообразил, что до сих пор не понимал, в чем смысл рассказа, несмотря на объяснения бабушки и ее наводящие вопросы. Того беднягу чуть не хватил удар, когда он понял, что до берега придется добираться вплавь и что не всем это удастся. Ему захотелось, чтобы Природа — так он стал думать о вселенной — была высоким стеклянным зданием; тогда бы он кидал в нее камни. Впрочем, что толку…
Вселенной на нас глубоко плевать. Вот с такой мыслью тот парень прыгнул в воду, чтобы достигнуть берега или утонуть. Мы вселенной, как говорится, до фонаря.
Я внезапно осознал, что одновременно смеюсь и плачу, проклинаю акул и приглашаю подплывать ближе. Изловчившись, я выстрелил в ближайшую тварь. На плоту грохот выстрела показался мне ужасающим, сейчас же он просто-напросто затерялся в морском просторе. Рыбина, в которую я стрелял, ушла вглубь, зато ко мне устремились две другие. В первую я выстрелил, вторую лягнул, и тут что-то ударило меня по затылку.
Я не настолько погрузился в теологические дебаты с самим собой, чтобы безропотно умереть. Резко обернулся, не имея ни малейшего понятия, сильно ли меня задело, но с твердым желанием прострелить башку нахальной твари. Стиснул обеими руками пистолет — и увидел в метре от себя лицо Энеи: мокрые волосы прилипли к щекам, глаза сверкают в лунном свете.
— Рауль! — Наверно, она окликала меня и раньше, но я не слышал из-за грохота выстрелов и шума в ушах.
Я моргнул. Не может быть! Господи, почему она здесь, одна и без плота?
— Рауль! Ложись на спину и отгоняй рыб. Я тебя вытащу.
Я покачал головой, ровным счетом ничего не понимая. Почему девочка оставила на плоту андроида, который гораздо сильнее? И каким образом…
Над гребнем волны показалась голова А.Беттика. Андроид плыл, сжимая в зубах мачете. Признаюсь, я не мог удержаться от смеха — андроид выглядел точь-в-точь как пират из дрянного голофильма. Впрочем, то был смех сквозь слезы.
— Ложись на спину! — крикнула девочка.
Я подчинился, выстрелил в акулу, подбиравшуюся к моим ногам, и угодил ей точно промеж пустых черных глаз. Рыба исчезла под водой.
Энея просунула руку под мою, обхватила меня за плечи и потянула за собой. А.Беттик плыл рядом; он загребал одной рукой, а в другой держал мачете. На моих глазах андроид рубанул по воде, и подкравшаяся было акула резко вильнула в сторону.
— Что вы… — Я поперхнулся и закашлялся. Мы скатились с гребня во впадину между волнами.
— Побереги дыхание, — посоветовала девочка. — Плыть еще долго.
— Пистолет, — проговорил я и попытался передать оружие Энее. Подступала темнота, я словно падал в сужающийся колодец… Нет, слишком поздно: пальцы выпустили пистолет. Тот булькнул и скрылся под водой. — Извини. — Колодец сузился до предела.
Напоследок я успел пересчитать все то, что благополучно потерял в ходе своей первой самостоятельной вылазки: бесценный ковер-самолет, очки ночного видения, старинный пистолет, возможно, передатчик, а также друзей и собственную жизнь. Накатившая тьма положила конец этим циничным рассуждениям.
Я смутно сознавал, что меня втаскивают на плот, что наручники куда-то исчезли, что Энея делает мне искусственное дыхание, а сидящий рядом андроид тянет за какую-то веревку.
Избавившись от воды в легких, я выдавил:
— Плот… Откуда? Я думал, вы уже там… Не понимаю…
Энея подсунула мне под голову мешок, стянула с меня лохмотья рубашки и отрезала разорванную штанину.
— А.Беттик сделал из палатки плавучий якорь, — объяснила девочка. — Он замедляет ход, но не дает плоту сойти с курса. Если бы не он, мы не успели бы тебя найти.
— Но как… — Я снова закашлялся.
— Тс-с, — проговорила Энея. — Я хочу посмотреть, насколько серьезны твои раны.
Я моргнул, когда ее сильные пальцы прикоснулись к отверстию у меня в боку, потом ощупали руку и пробежались по бедру, на котором оставили след акульи зубы.
— Ах, Рауль! Посмотри, что с тобой случилось, стоило мне ненадолго тебя отпустить.
Снова накатила слабость и подступила темнота. Я потерял слишком много крови, меня бил озноб.
— Мне очень жаль, — прошептал я.
— Тихо. — Девочка резким движением открыла один из медпакетов. — Лежи спокойно.
— Мне правда жаль… Я ведь должен был охранять тебя… — Энея плеснула на рану в боку антисептическим раствором, и у меня на глазах выступили слезы. Раньше мне доводилось только видеть мужчин, плачущих на поле боя, а теперь я стал одним из них.
Если бы под рукой у девочки был только мой медпакет, я бы умер через несколько минут, а то и секунд. Но, по счастью, А.Беттик погрузил на плот обнаруженный на корабле медпакет из старинного боекомплекта ВКС. Я опасался, что срок действия лекарств давно истек и пакет не поможет, но потом заметил на передней панели красные огоньки. Пакет работал. Несколько зеленых огоньков, куда больше желтых, пара-тройка красных… Насколько мне было известно, это означало не очень-то утешительный прогноз.
— Лежи спокойно, — повторила Энея. Девочка приложила к моей груди аппарат: многоножка-«штопальщица» тут же ожила и заползла в рану. Ощущение было не из приятных. Эта штуковина некоторое время ползала у меня внутри, вкалывая антибиотики, дезинфицируя стенки отверстия, а потом замерла в неподвижности, растопырив все лапы, чтобы зафиксировать свое положение. Я вскрикнул от боли. В следующую секунду Энея запустила вторую многоножку — на руку.
— Нам нужна кровь, — сказала девочка А.Беттику, выливая в систему впрыска медпакета содержимое двух ампул. Мне в ногу вонзилась игла, бедро словно обожгло огнем.
— У нас только четыре ампулы, — ответил андроид, прикладывая к моему лицу осмотическую маску. В мои исстрадавшиеся без воздуха легкие потек живительный кислород.
— Проклятие! Он потерял слишком много крови…
Я хотел возразить, объяснить, что дрожу от холода, а в остальном чувствую себя гораздо лучше, но осмотическая маска закрывала мне рот и не давала говорить. На какой-то миг почудилось, что мы вновь очутились на корабле и я вновь парю в силовом поле. Честно говоря, мое лицо было мокрым не только от брызг.
Внезапно я увидел в руках девочки шприц с ультраморфом и начал вырываться. Еще чего не хватало! Если мне суждено умереть, я желаю отойти в мир иной в полном сознании.
— Рауль, я хочу, чтобы ты отключился, — произнесла Энея, догадавшись, почему я вырываюсь. — У тебя шок. Пока ты будешь без сознания, он пройдет. — Послышалось негромкое шипение.
Я на всякий случай дернулся разок-другой и заплакал от отчаяния. После стольких усилий умереть, не приходя в сознание! Черт побери, это несправедливо… нечестно…
Я очнулся. В глаза бил яркий солнечный свет, было невыносимо жарко. На мгновение показалось, что мы по-прежнему на Безбрежном Море, но когда я собрался с силами и поднял голову, то увидел, что солнце больше и ярче, а небо гораздо бледнее. Плот двигался вдоль каменной стены; мы находились в канале, расстояние между берегами которого не превышало нескольких метров. Я видел солнце, небо и камень — больше ничего.
— Лежи смирно, — проговорила Энея, укладывая меня обратно на служивший подушкой мешок таким образом, чтобы на мое лицо падала тень от палатки. По всей видимости, они вытащили «плавучий якорь».
Я открыл было рот, но не сумел выдавить ни звука. Облизал пересохшие губы и только тогда прохрипел:
— Долго я был без сознания?
Прежде чем ответить, Энея дала мне напиться из фляжки.
— Около тридцати часов.
— Что?! — воскликнул я хриплым шепотом.
— Добро пожаловать домой, месье Эндимион, — сказал А.Беттик, присаживаясь на корточки в тени палатки.
— Где мы?
— Судя по пустыне, яркому солнцу и тем звездам, которые мы видели ночью, на Хевроне. Плывем по акведуку, проделали уже пять или шесть километров. Мы… Пожалуй, тебе стоит это увидеть. — Девочка приподняла мою голову так, чтобы я смог бросить взгляд за каменную стену. Пустота… Прозрачный воздух, холмы вдалеке… — До земли метров пятьдесят. Если акведук разрушен… — Энея криво усмехнулась. — Пока нам никто не встретился. Даже стервятников не видно. Подождем, скоро должен быть город.
Я нахмурился, слегка изменил положение, причем мое движение сразу же отозвалось тупой болью в руке и в боку.
— Говоришь, Хеврон? Я думал…
— Его захватили Бродяги, — докончил А.Беттик. — Так и есть, месье Эндимион. Но это не имеет значения. Чтобы вылечить вас, мы с радостью воспользуемся помощью Бродяг. Кстати, с ними иметь дело все же приятнее, чем с Орденом.
Я бросил взгляд на лежавший рядом медпакет. От него к моему телу тянулись какие-то трубки, на панели мигали огоньки, в большинстве своем оранжевые… Ничего хорошего.
— Твои раны в полном порядке, — сказала Энея. — Но ты потерял много крови, а запасов пакета, чтобы восполнить потерю, не хватило. Вдобавок тебя угораздило подцепить инфекцию, против которой бессильны все имеющиеся у нас антибиотики.
Теперь понятно, почему я ощущаю такое жжение во всем теле.
— Возможно, инфекцию внес какой-то океанский микроорганизм, — заметил А.Беттик. — Так или иначе, пакет не в состоянии выдать точный диагноз. Поэтому нам необходимо отыскать больницу. Мы предполагаем, что река доставит нас к единственному крупному городу на Хевроне…
— А, Новый Иерусалим, — прошептал я.
— Совершенно верно, — откликнулся андроид. — Он славился своим медицинским центром.
Я хотел было покачать головой, но у меня ничего не вышло — помешали боль и головокружение.
— А как же Бродяги?..
— Главное — вылечить тебя, — проговорила Энея, вытирая мне лоб мокрой тряпицей. — А на Бродяг плевать.
Мне в голову пришла некая мысль. Я подождал, пока она окончательно оформится.
— На Хевроне ведь… не было… по-моему…
— Вы правы, сэр, — отозвался А.Беттик и постучал по книжке, которую держал в руке. — Согласно путеводителю, даже в эпоху Гегемонии Хеврон не входил в состав Сети. На нем имелся один-единственный портал — разумеется, в Новом Иерусалиме. Гостям с других миров запрещалось покидать столицу, поскольку местные жители высоко ценили право на уединение и всячески подчеркивали свою независимость.
Я поглядел на каменные стены акведука. Внезапно они исчезли, им на смену пришли высокие песчаные дюны и обожженные солнцем валуны. Жара была поистине нестерпимой.
— Наверно, это ошибка, — промолвила Энея, снова вытирая мне лоб. — Мы же попали сюда через портал.
— Ты уверена, что мы на Хевроне? — прошептал я.
Энея утвердительно кивнула. А.Беттик показал мне комлог, о котором я совсем забыл.
— Нашему другу удалось вчера ночью сориентироваться по звездам. Мы на Хевроне, и лишь несколько часов пути отделяют нас от Нового Иерусалима.
Тело пронзила боль, которую мне скрыть не удалось, как я ни старался. Энея вынула шприц.
— Не надо, — прохрипел я.
— В последний раз, — пообещала девочка. Я услышал шипение. По телу растеклось блаженное онемение. Бог все-таки существует. Это — болеутоляющее.
Когда я очнулся, мы находились в тени приземистого здания. А.Беттик взял меня на руки и куда-то понес. Каждый его шаг отдавался болью во всем теле, но я не издал ни звука.
Энея шагала впереди. Улица была широкой и пыльной, невысокие здания — максимум в три этажа — казались сложенными из кирпича-сырца. Нигде ни души…
— Эгей! — крикнула Энея, прижав ко рту ладони. По пустынной улице пошло гулять эхо.
Признаться, я чувствовал себя полным идиотом. Тоже мне, дитятко, разлегся на руках у андроида! Впрочем, А.Беттику, похоже, было все равно; что касается меня, я бы не смог встать, даже если бы от этого зависела моя жизнь.
Энея обернулась, увидела, что я открыл глаза, и сказала:
— Мы в Новом Иерусалиме. Путеводитель утверждает, что раньше здесь жили три миллиона человек, а по словам А.Беттика, по крайней мере около миллиона обитали тут вплоть до недавнего времени. Интересно, куда они все подевались?
— Бродяги… — прохрипел я.
Девочка сурово кивнула.
Магазины и жилые дома вдоль канала выглядели так, словно их покинули от силы несколько месяцев назад.
— Если судить по передачам, которые мы принимали на Гиперионе, — заметил А.Беттик, — Бродяги захватили эту планету приблизительно три стандартных года тому назад. Однако налицо все признаки того, что люди продолжали жить в городе.
— По-прежнему подается энергия, — прибавила Энея. — В холодильниках ничего не испортилось. В некоторых домах мы видели накрытые столы, включенные проекционные ниши и тому подобное. Но людей нигде нет.
— И никаких признаков насилия, — сказал андроид, осторожно укладывая меня на заднее сиденье машины. Энея заботливо подстелила одеяло.
От боли в боку у меня перед глазами поплыли пятна. Между тем девочка зябко поежилась. Как ни странно, несмотря на жару, ее кожа покрылась пупырышками.
— Здесь произошло что-то ужасное. Я это чувствую.
Лично я не чувствовал ничего, кроме усталости и боли.
Мои мысли напоминали ртуть — растекались прежде, чем я успевал ухватиться за них и придать форму.
Энея забралась в машину и устроилась рядом со мной, А.Беттик занял место водителя. Как ни удивительно, машина завелась с первой попытки.
— Я могу управлять этой штукой, — сообщил андроид, включая передачу.
«Я тоже, — подумалось мне. — Водил на Урсе, было дело. Одна из немногих машин, с которыми я умею обращаться. И, быть может, не напортачу, если сяду за руль».
Мы выехали на главную улицу. Несмотря на крепко стиснутые зубы, я несколько раз вскрикивал от боли.
Энея взяла меня за руку. Ее ладонь была настолько холодной, что я чуть было не вздрогнул, а потом понял, что это моя рука такая горячая.
— Проклятая инфекция, — проговорила девочка. — Без нее ты бы давно поправился. Сколько всякой дряни водится в океане!
— Может, дело в ноже? — Когда я зажмурился, перед моим мысленным взором возник лейтенант, тело которого продырявили сотни игл. Я быстро открыл глаза, чтобы избавиться от наваждения. Дома стали выше, этажей десять каждый, и тени, которые они отбрасывали, соответственно удлинились. Однако жара и не думала спадать.
— Здесь жил знакомый моей мамы, ее спутник в последнем паломничестве на Гиперион, — сказала Энея. Ее голос то приближался, то отдалялся, словно исходил из плохо настроенного приемника.
— Сол Вайнтрауб, — прохрипел я. — Ученый из «Песней».
Энея погладила меня по руке.
— Все время забываю, сколько всего дядюшка Мартин ухитрился втиснуть в свою поэму.
Машина подпрыгнула на кочке. Я заскрежетал зубами, подавляя рвущийся наружу вопль.
— Знаешь, — промолвила Энея, сжимая мою руку, — мне бы хотелось познакомиться с этим человеком и его дочерью.
— Они отправились в будущее… вошли в Сфинкса… Как и ты…
— Угу. — Девочка поднесла к моим губам фляжку с водой. — Мама много рассказывала мне про Хеврон и про здешние киббуцы.
— Евреи, — прошептал я. На сем мой словесный запас иссяк: требовались все силы, чтобы сопротивляться боли.
— Они бежали от Второго Холокоста. — Энея смотрела прямо перед собой. — И основали здесь колонию.
Я закрыл глаза. Лейтенанта разнесло в клочья, оставшиеся от мундира лохмотья и куски плоти медленно падали в фиолетовое море…
Внезапно А.Беттик вновь взял меня на руки. Машина въехала внутрь просторного здания, которое выглядело достаточно зловеще — кругом сталепластик и закаленное стекло.
— Медицинский центр, — сообщил андроид. Дверь перед нами сама собой отъехала в сторону. — По крайней мере оборудование в порядке.
Должно быть, я заснул, а когда очнулся, испугавшись, что меня вот-вот проглотит разноцветная акула, то обнаружил, что лежу на каталке, которая мало-помалу исчезает в чреве автохирурга.
— До встречи, Рауль. — Энея отпустила мою руку. — Будем ждать тебя с той стороны.
Мы провели на Хевроне тринадцать местных дней, в каждом из которых насчитывалось около двадцати девяти стандартных часов. Первые трое суток меня терроризировал автохирург: я перенес не меньше восьми операций и выдержал весьма интенсивный восстановительный курс.
Как выяснилось, со мной и впрямь решил покончить некий микроорганизм с Безбрежного Моря (по правде говоря, изучив магнитограмму и результаты биосканирования, я убедился, что не такой уж он и «микро»). Эта тварь — автохирург не сумел в точности определить, что она собой представляет, — вцепилась мне в ребро и принялась подбираться к внутренним органам, разрастаясь, как грибок. Еще день, сообщил автомат, и хирургическое вмешательство уже не понадобилось бы.
После того как меня разрезали, вычистили и зашили, а потом повторили процедуру еще дважды, поскольку проклятый микроорганизм никак не желал признавать себя побежденным, автохирург занялся другими ранами. Дыра в боку оказалась достаточно большой для того, чтобы я истек кровью (удивительно, что этого не случилось, особенно если вспомнить, сколь усердно я отбивался от акул, которые навязывались мне в друзья). По всей видимости, жизнь в Рауле Эндимионе теплилась исключительно благодаря переливанию крови, которое Энея сделала мне на плоту, и нескольким дозам ультраморфа. Чтобы восстановить потерю крови, автохирургу пришлось израсходовать целых восемь ампул.
К счастью, мои опасения насчет того, что повреждены мышцы руки, не оправдались. Тем не менее автохирург уделил руке достаточно внимания в промежутке между операциями номер два и три. Он принял самостоятельное решение трансплантировать мне нервы из донорского банка больницы. На восьмой день Энея рассказала мне, что автомат регулярно испрашивал у людей разрешения, и я сумел улыбнуться, услышав, что каждая сколько-нибудь серьезная процедура предварительно получала одобрение «доктора Беттика».
Самой болезненной оказалась рана на ноге, которую попыталась откусить переливчатая акула. Расправившись с грибком, успевшим обосноваться в моем бедре, автохирург трансплантировал мне новую мышечную ткань и кожу. Сначала было чертовски больно, потом нога начала чесаться. Всю вторую неделю своего пребывания в больнице я получал ультраморф и прикидывал, не потребовать ли у девочки с андроидом под дулом пистолета еще наркотиков, чтобы избавиться от гнусной чесотки. К сожалению, пистолет пропал — утонул в фиолетовом море.
Где-то на восьмой день я впервые сумел сесть и худобедно поел — если синтетическую больничную пищу можно назвать едой. Мы с Энеей разговаривали о том о сем, и меня вдруг потянуло на откровенность.
— В последний вечер на Гиперионе мы пили с твоим дядюшкой Мартином, и я ему кое-что пообещал.
— Что именно? — поинтересовалась девочка, размешивая ложкой зеленую бурду в своей тарелке.
— Так, ничего особенного. Я обещал охранять тебя, найти Старую Землю и вернуть ее обратно, чтобы он увидел планету перед смертью…
Брови Энеи поползли вверх.
— Значит, вернуть Старую Землю? Очень любопытно.
— Это еще не все. Я должен встретиться с Бродягами, уничтожить Орден, подорвать могущество Церкви, а также, цитирую, выяснить, какого хрена нужно Техно-Центру, и остановить его.
— Все? — спросила девочка, откладывая ложку и вытирая губы салфеткой.
— Не совсем. — Я откинулся на подушки. — Еще он хотел, чтобы я уберег от Шрайка тебя в частности и человечество в целом.
— Теперь все?
Я потер мокрый от пота лоб здоровой рукой.
— Кажется, да. По крайней мере больше ничего не вспоминается. Я был пьян… Что скажешь? Получается у меня?
Энея махнула рукой: мол, подумаешь.
— По-моему, вполне. Не забывай, прошло всего-навсего несколько стандартных месяцев. Три, если быть точной, почти три.
— Ага. — Я бросил взгляд в окно, за которым возвышалось освещенное солнцем каменное здание. Вдалеке виднелись обагренные закатом скалистые утесы. — Ага. Послушать тебя, так я прямо образец для подражания. — Мой голос мне самому показался каким-то бесцветным. Я вздохнул и отодвинул поднос с пищей. — До сих пор не понимаю, как они не засекли плот на экране радара?
— А.Беттик испортил радар, — сообщил девочка, вновь принимаясь за еду.
— Что?
— А.Беттик испортил радар. Выстрелил из твоей плазменной винтовки и попал точно в «блюдце». — Энея отставила пустую тарелку в сторону.
— Ты вроде говорила, что он не может стрелять в людей.
— Правильно. — Моя медсестра, шеф-повар и посудомойка в одном лице поставила поднос с тарелками на каталку. — Я специально у него уточнила, и он сказал, что по радарам может стрелять сколько вздумается. Ну вот, сначала он вывел из строя радар, а потом мы отправились разыскивать тебя.
— Неплохо, — пробормотал я. — Попасть в радар с расстояния в три с лишним километра, да еще с плота, который постоянно раскачивается. Сколько он сделал выстрелов?
— Один. — Энея внимательно изучала монитор над моей головой.
Я присвистнул:
— Надеюсь, мы с ним никогда не поссоримся.
— Вот превратишься в радар, тогда и будешь беспокоиться. — Она поправила одеяло.
— Кстати, где он сейчас?
Энея встала, подошла к окну и указала на восток.
— Он нашел исправный ТМП и полетел узнать, что творится в киббуцах на побережье Великого Соленого Моря.
— Вы так никого и не встретили?
— Ни единого человека. И ни кошек, ни собак, ни даже ручных обезьян.
Она вовсе не шутила. Когда объявляют эвакуацию — или когда случается что-нибудь этакое, — люди частенько бросают домашних животных. Когда силы самообороны сражались с повстанцами на Южном Когте Аквилы, им приходилось отстреливать десятки бродячих собак. А тут…
— Значит, у них было время позаботиться о животных.
Энея повернулась ко мне, скрестив руки на груди.
— Ну да. О животных позаботились, а одежду бросили? И не только одежду. Компьютеры, комлоги, дневники, семейные голограммы — словом, все личные вещи.
— А в дневниках, случайно, не объясняется, что произошло? Вы не обнаружили каких-нибудь снимков или загадочных сообщений?
— Нет. Поначалу мне жутко не хотелось читать чужие дневники. Но со временем я притерпелась и уже успела прослушать десятки комлогов. Обычные сообщения о боевых действиях поблизости от планеты. Великая Стена находится меньше чем в световом годе от Хеврона, поэтому корабли Ордена были здесь частыми гостями. На планету они, как правило, не садились, но было ясно, что рано или поздно Хеврон перейдет под власть Ордена. Потом пошли сообщения о том, что Бродяги прорвали оборону… И все. Мы с А.Беттиком решили, что Орден эвакуировал население планеты, но на это нигде нет никаких указаний. — Девочка повела плечами. — Если хочешь, могу принести тебе голодиски.
— Потом. — Я вдруг почувствовал, что смертельно устал.
— А.Беттик вернется к утру. — Энея накрыла меня одеялом по самый подбородок. Солнце уже скрылось за холмами, вершины которых, впрочем, еще купались в лучах заката. Это зрелище настолько меня восхищало, что я готов был любоваться им целыми днями. Однако глаза буквально слипались.
— Он оставил тебе дробовик? — сонно пробормотал я. — Или плазменную винтовку? Мало ли что…
— Все оружие на плоту. Спи.
Наконец я почувствовал, что иду на поправку, и первым делом решил поблагодарить своих друзей за то, что они спасли мне жизнь. Энея и андроид принялись отнекиваться.
— Как вы меня нашли?
— Это было не слишком сложно, — отозвалась девочка. — Твой передатчик работал до того момента, когда офицер попал в него ножом. Мы все слышали и вдобавок видели вас в бинокль.
— Но зачем вы поплыли вдвоем? Стоило ли так рисковать?
— Риск был минимальный, месье Эндимион, — ответил А.Беттик. — Во-первых, мы соорудили плавучий якорь, который замедлил движение плота. А во-вторых, мадемуазель Энея привязала к корме веревку длиной около сотни метров. Мы были уверены, что в крайнем случае всегда успеем ухватиться за нее. Так оно и вышло.
— Все равно глупо, — проговорил я, качая головой.
— Спасибо на добром слове, — фыркнула Энея.
На десятый день я попробовал встать. Пускай незначительная, но победа. На двенадцатый день я самостоятельно дошел по коридору до туалета. Это был настоящий триумф. А на тринадцатый день в городе вырубились все приборы.
Немедленно заработали аварийные генераторы, но мы поняли, что срок нашего пребывания на Хевроне подходит к концу.
— Может, прихватим с собой автохирурга? — предложил я. Мы сидели на террасе девятого этажа, глядя на погруженный в вечерние сумерки город.
— На плоту он поместится, — откликнулась Энея. — Но как быть с проводом?
— Нет, серьезно. — Мне не хотелось, чтобы меня приняли за параноика, который после ранения боится каждого куста, однако я твердо вознамерился насколько возможно обезопасить себя и своих спутников. — Давайте возьмем хотя бы лекарства.
— Уже взяли. Три медпакета. Упаковка ампул с донорской кровью. Портативный диагностер. Ультраморф… Можешь не просить, все равно не получишь.
Я вытянул левую руку.
— Видишь? — Моя рука больше не дрожала. — Думаю, теперь он не скоро мне понадобится.
Энея кивнула. По небу плыли подсвеченные лучами заходящего солнца перистые облака.
— Как по-твоему, сколько еще протянут генераторы? — справился я у андроида. Здание больницы, одно из немногих в городе, было по-прежнему освещено.
— Быть может, несколько недель. Система жизнеобеспечения продолжает функционировать, но на планете, где каждое утро бушует песчаная буря, за ней необходимо постоянно следить, будь она хоть трижды автоматической.
— Энтропия, чтоб ей пусто было, — проворчал я.
— Эй, не стоит так говорить. — Энея перегнулась через поручень. — Энтропия может стать нашим союзником.
— Неужели? И когда?
Девочка обернулась и прислонилась спиной к поручню. Ее кожа отливала золотом на фоне черного прямоугольника соседнего здания.
— Энтропия уничтожает империи и деспотии.
— Сразу и не выговоришь. Ты, собственно, о чем?
Энея неопределенно повела рукой. Я уж решил, что девочка ничего не скажет, но она произнесла, помолчав:
— Энтропия уничтожила гуннов и скифов, вестготов и остготов, египтян, македонцев, римлян и ассирийцев…
— Понятно, однако…
— Аваров, династию Шан, мамелюков, персов, арабов, Аббасидов, сельджуков…
— Хорошо, хорошо…
— Курдов и Газневидов,[89] — с улыбкой закончила Энея. — Не говоря уж о татаро-монголах, крестоносцах, пруссаках, нацистах, Советах, японцах, яванцах, северных аммерах, Великом Китае, колумбо-перуанцах и антарктических националистах.
Я поднял руку. Девочка замолчала.
— Ты слышал про такие планеты? — спросил я у андроида.
— По-моему, месье Эндимион, это не планеты, а народы, обитавшие на Старой Земле, — ответил А.Беттик, сохраняя полнейшую невозмутимость.
— Ни хрена себе, — пробормотал я.
— Весьма, на мой взгляд, уместное выражение, — заметил андроид.
Я посмотрел на девочку:
— Значит, вот так мы расправимся с Орденом? Спрячемся в укромном уголке и будем ждать, пока он не накроется сам собой?
Энея вновь скрестила руки на груди.
— Вообще-то план хороший. Подождать несколько тысячелетий, это недолго… Все могло бы получиться, если бы не проклятые крестоформы!
— То есть? — Я постарался придать голосу серьезность.
— Даже если бы мы хотели уничтожить Орден — а мне он не мешает, это тебе поручили с ним разобраться, — так вот, даже если бы мы хотели уничтожить Орден, энтропия нам не помощница. Ведь крестоформ делает людей практически бессмертными.
— Угу. Признаться, будучи при смерти, я подумывал о том, что стоило, пожалуй, принять крещение… Было бы гораздо проще — и безболезненнее, кстати — умереть, чтобы воскреснуть целым и невредимым.
Энея пристально поглядела на меня.
— Вот почему на этой планете самое лучшее медицинское оборудование, Рауль.
— Не понял. — Честно говоря, голова у меня шла кругом.
— Здесь жили евреи, — тихо проговорила девочка. — Лишь немногие приняли крест. Они считали, что жизнь дается человеку один-единственный раз.
Воцарилась тишина, которую нарушало только гудение больничных приборов. Мы молча наблюдали за тем, как на Новый Иерусалим спускается ночь.
На следующее утро я без посторонней помощи добрался до машины, на которой меня доставили в больницу, плюхнулся на заднее сиденье, где мне постелили матрас, и велел отправляться на поиски оружейного магазина.
Час бесплодной езды по городским улицам убедил меня, что таких магазинов в Новом Иерусалиме нет.
— Ладно, — заявил я, — поехали в полицейский участок.
Уже в первом из них, в который я опять-таки проковылял самостоятельно, отвергнув помощь друзей, выяснилось, насколько неподготовленным ко всякого рода неожиданностям может быть мирное общество. Никакого оружия. Даже парализаторов, и тех не оказалось.
— Судя по всему, тут не было ни армии, ни сил самообороны?
— По-моему, нет, — ответил А.Беттик. — Хищные животные на Хевроне не водились, а враги у местных жителей появились лишь три года назад, с нападением Бродяг.
Я фыркнул и продолжил поиски. Наконец, взломав замок на нижнем ящике стола, принадлежавшего, по-видимому, какой-то важной птице, я наткнулся на то, что искал.
— «Штайнер-Джинн», — заметил андроид. — Плазменный пистолет.
— Сам знаю, — буркнул я. В ящике нашлись и две обоймы. Итого шестьдесят зарядов. Я вышел на улицу, прицелился в холм и нажал на спуск. Пистолет словно кашлянул, на склоне холма вспыхнуло пламя. — Годится. — Я сунул пистолет в пустую кобуру. Мои опасения насчет того, что это — сравнительно недавно вышедшее из моды закодированное оружие, то есть такое, из которого может стрелять только законный владелец, — не подтвердились.
— На плоту остался игломет, — сказал А.Беттик.
Я покачал головой. После того что случилось с лейтенантом, мне не хотелось даже притрагиваться к игломету.
Пока я отдыхал, А.Беттик с Энеей наполнили водой все емкости и упаковали съестные припасы. Подковыляв к плоту, я воззрился на нагромождение коробок на палубе.
— Маленький вопрос. Зачем нам эта груда бревен, когда тут полным-полно лодок? А ведь есть еще и ТМП, на котором можно путешествовать с полным комфортом.
Энея и андроид переглянулись.
— Пока ты отдыхал, мы устроили голосование, — сообщила девочка. — И решили, что с нас вполне достаточно плота.
— А у меня что, нет права голоса? — Мое раздражение вовсе не было наигранным.
— Конечно, есть. — Энея встала на плоту, расставив ноги. — Ну что, голосуем?
— Я за то, чтобы взять ТМП. — Черт побери, в моем голосе прозвучали просительные нотки! — Или хотя бы лодку. Бревна следует оставить здесь.
— Ясно. Мы с А.Беттиком голосуем за плот. Во-первых, он плавает, во-вторых, у него никогда не сломается двигатель. Между прочим, на Безбрежном Море лодку тут же засек бы радар, а ТМП способен летать далеко не на всех мирах. Двое за плот, один против. Решено.
— С каких это пор у нас демократия? — Признаюсь, мне жутко хотелось отшлепать противную девчонку.
— А разве было иначе? — невинно осведомилась Энея.
Пока мы препирались, А.Беттик, облаченный в свободную куртку и мешковатые желтые брюки, стоял на берегу, вертя в руках конец веревки. На лице андроида было написано смущение, подобное тому, которое испытывает большинство людей, когда в их присутствии ссорятся члены другой семьи.
Энея шагнула на плот и отвязала канат.
— Рауль, ты можешь путешествовать на лодке или на ТМП. Хоть в карете, если тебе заблагорассудится. А мы плывем на плоту.
Я было направился к одной из лодок, но остановился.
— Погоди. Ведь без вас портал меня не пропустит.
— Правильно. — Подождав, пока А.Беттик, напяливший на голову широкополую желтую шляпу, перейдет на плот, Энея отвязала носовой канат. Андроид встал у руля и повернулся ко мне, а девочка подобрала с палубы шест и оттолкнула плот от берега. В черте города канал был гораздо шире, должно быть, метров тридцать.
— Подождите! — воскликнул я. — Черт возьми, подождите! — Приволакивая ногу, я подбежал к кромке воды и прыгнул. Правая нога подвернулась, и если бы я не сумел сохранить равновесие, то повалился бы на палатку. Энея протянула мне руку, но я демонстративно отвернулся. — Нельзя же быть такой упрямой!
— Кто бы говорил! — Девочка уселась на носу. Андроид между тем вывел плот на середину канала.
Даже в тени зданий было невыносимо жарко, а на открытой местности солнце припекало просто нещадно. Я поспешил нахлобучить треуголку.
— Значит, ты на ее стороне, да?
— Нет, месье Эндимион, — ответил андроид. За городом канал снова сузился. — Я соблюдаю нейтралитет.
— Ну да! А кто голосовал за плот?
— До сих пор он служил нам верой и правдой. — С этими словами А.Беттик уступил мне место у руля.
Я окинул взглядом ящики с провизией в тени палатки, каменный очаг с нагревательным кубом, кастрюлями и сковородками, накрытые брезентом дробовик и плазменную винтовку, спальные мешки, медпакеты и прочую амуницию. Пока я лечился, установили даже новую мачту, на которой гордо развевалась одна из рубашек А.Беттика.
— Пропади все пропадом, — буркнул я наконец.
— Совершенно верно, сэр, — отозвался андроид.
Второй портал находился приблизительно в пяти километрах от Нового Иерусалима. Когда мы очутились в тени арки, я прищурился, глядя на ослепительное солнце Хеврона.
В других порталах воздух на мгновение словно густел, давая возможность увидеть, что ждет впереди. На сей раз нас встретила непроглядная тьма, которая и не думала рассеиваться. Температура упала градусов на семьдесят. В ту же секунду изменилась сила тяжести — мне показалось, я тащу на спине человека своего собственного веса.
— Фонари! — крикнул я. Плот подхватило неожиданно сильное течение. Гравитация пригибала к палубе, я изо всех сил старался устоять на ногах и удержать руль, который так и норовил вырваться из рук. Все вместе — пронизывающий холод, непроглядный мрак и резко возросшая гравитация — производило гнетущее впечатление.
На плоту были фонари, прихваченные из Нового Иерусалима, но Энея почему-то зажгла старый, сопровождавший нас с начала пути. Луч фонаря выхватил из мрака облако пара, черную воду — и ледяной потолок пещеры метрах в пятнадцати над нашими головами. Повсюду виднелись сталактиты, их острия едва ли не касались воды, над поверхностью которой тут и там торчали ледяные пики. Далеко впереди маячила стена, полностью преграждавшая путь. Итак, мы попали в ледяную пещеру, из которой не было выхода. Мороз обжигал руки и кожу лица, а на шее словно висело тяжеленное свинцовое грузило.
— Черт! — Я закрепил руль и направился к мешкам с одеждой. Хорошенькая нагрузка на больную ногу. Энея с андроидом, что вполне естественно, меня опередили и уже вытаскивали теплые вещи.
Внезапно раздался треск. Я вскинул голову, ожидая увидеть падающий на нас сталактит или проломившуюся ледяную крышу, но выяснилось, что это сломалась наша мачта. Она свалилась слишком быстро — как будто запустили голофильм в режиме ускоренной перемотки. Во все стороны полетели щепки. Задубевшая рубашка А.Беттика со стуком ударилась о палубу.
— Черт! — повторил я, протягивая руку за шерстяной фуфайкой. Мои зубы выбивали дробь.
Глава 35
Опираясь на полномочия, которые были ему предоставлены вместе с папским диском, капитан отец де Сойя приступил к решительным действиям.
Станцию триста двадцать шесть в Срединном Течении, на которой был обнаружен ковер-самолет, объявили запретной зоной и ввели на ней чрезвычайное положение. Из Сент-Терез прибыли войска, и де Сойя распорядился арестовать всех без исключения рыбаков и прежний гарнизон платформы. Когда же губернатор Сент-Терез, епископ Меландриано, обвинил капитана в самоуправстве и осмелился даже поставить под сомнение его полномочия, де Сойя обратился за помощью к губернатору планеты, архиепископу Джейн Келли. Меландриано пригрозили отлучением от Церкви, и он на время заткнулся.
Лейтенант Спраул стал адъютантом де Сойи. Из Сент-Терез и других плавучих городов Безбрежного Моря прибыли инквизиторы и судебные эксперты. Капитана Ч.Доббса Поула, который сидел на гауптвахте, допросили с помощью «правдосказа» и других наркотиков; та же участь постигла и всех остальных военных и рыбаков.
Несколько дней спустя можно было с уверенностью говорить о том, что капитан Поул, покойный лейтенант Белиус, равно как и многие другие офицеры и солдаты гарнизона, поддерживали отношения с браконьерами: допускали незаконный лов рыбы, участвовали в расхищении имущества — в частности, продали одну подлодку, указав в рапорте, что ее потопили партизаны, и выкачивали деньги из рыбаков. Впрочем, на все это де Сойе было плевать. Его интересовало только, что именно произошло на платформе два месяца назад.
Число свидетельских показаний неуклонно возрастало. Эксперты взяли анализ крови и мышечной ткани с поверхности ковра и отправили пробы в лаборатории Сент-Терез и орбитальной станции. Выяснилось, что кровь принадлежит двум разным людям: первым, без сомнения, был лейтенант Белиус, а второго установить не удалось — в архивах планеты сведений о нем не было, хотя там содержались данные по каждому обитателю Безбрежного Моря.
— Каким образом на ковре оказалась кровь этого Белиуса? — спросил сержант Грегориус. — Ведь все утверждают, что он свалился за борт еще до того, как задержанный попытался удрать.
Де Сойя кивнул и сцепил пальцы рук. Бывший кабинет управляющего стал чем-то вроде штаба; гарнизон платформы усилиями капитана увеличился как минимум втрое. Неподалеку бросили якорь три фрегата, причем два из них представляли собой комбинацию надводного и подводного кораблей. На площадке скиммеров разместились боевые машины Ордена, техники восстанавливали посадочную площадку орнитоптеров. Этим утром де Сойя затребовал еще три корабля. Епископ Меландриано дважды в день выражал протест по поводу неоправданных, на его взгляд, расходов, но капитан не обращал на протесты ни малейшего внимания.
— По-моему, из лужи — как вы, сержант, изволили выразиться — Белиуса вытащил наш неизвестный приятель. Началась борьба. Неизвестного ранили или убили. Белиус хотел вернуться на платформу, но часовые приняли его за врага и по ошибке подстрелили.
— Сэр, пожалуй, это наиболее вероятный вариант из всех, какие мы обсуждали, — кивнул Грегориус. А предположений было множество: и нападение браконьеров, и смерть Белиуса от руки Поула, решившего устранить соучастника в преступных делишках…
— Отсюда следует, что неизвестный сопровождает девочку, — продолжал де Сойя. — И что мы имеем дело с глупцом, подверженным угрызениям совести.
— А может, он все-таки браконьер? — проговорил сержант. — Жаль, что мы никогда не узнаем наверняка.
— Почему, сержант? — поинтересовался де Сойя, подняв голову.
— Почему не узнаем, сэр? Так ведь все доказательства вон там. — Грегориус ткнул пальцем в окно, за которым плескалось фиолетовое море. — Моряки говорят, что глубина здесь доходит чуть ли не до двадцати тысяч метров. И потом, кругом полно рыб, готовых сожрать все на свете. Даже если это был браконьер… А уж если он прилетел с какой-то другой планеты… Образцов ДНК из Центрального Управления не поступило, значит, придется просматривать архивы на нескольких сотнях миров. Нет, нам его никогда не найти.
— Сержант, подобное с вами случается крайне редко, но на сей раз вы ошиблись. — Капитан де Сойя криво усмехнулся.
В течение следующей недели были допрошены с применением «сыворотки правды» все браконьеры, которых отловили в радиусе тысячи километров от платформы. Чтобы поймать их, потребовались два десятка боевых кораблей и свыше восьми тысяч солдат; иными словами, операция обошлась в кругленькую сумму. Епископ Меландриано, которого едва не хватил удар, прилетел на станцию триста двадцать шесть, чтобы положить конец творящемуся на ней безумию. Де Сойя посадил прелата под арест, а некоторое время спустя отправил за девять тысяч километров настоятелем в захудалый монастырь, расположенный среди льдов поблизости от полюса.
Кроме того, капитан приказал обыскать океанское дно.
— Вы ничего не найдете, сэр, — заявил лейтенант Спраул. — Там внизу столько хищников, что любая органика просто-напросто не успевает достичь дна. Между прочим, промеры показали, что глубина составляет двенадцать тысяч фатомов; на Безбрежном Море лишь две подводные лодки могут опускаться на такую глубину…
— Знаю, — прервал де Сойя. — Я уже вызвал их сюда. Они прибудут завтра вместе с фрегатом «Страсти Христовы». — Спраул на мгновение утратил дар речи. Де Сойя улыбнулся. — Сынок, тебе известно, что лейтенант Белиус был христианином? И что его крестоформ так и не нашли?
— Известно, сэр… — пробормотал лейтенант, справившись с изумлением. — Так точно, сэр… Но разве для воскрешения… Ну, я хочу сказать… Я был уверен, что требуется тело…
— Вовсе нет, лейтенант. Вполне достаточно фрагмента креста, который мы все носим на груди. Многих добрых католиков удалось воскресить именно по фрагменту креста и выращенному в пробирке по образцу ДНК кусочку плоти.
— Но, сэр… — Спраул покачал головой. — Белиус погиб девять Больших Приливов тому назад. От его крестоформа, не говоря уж о теле, наверняка ничего не осталось. Там внизу столько голодных ртов…
— Может быть, лейтенант. Может быть. — Де Сойя подошел к окну. — Но Господь учит заботиться о ближних. К тому же, если лейтенанта Белиуса удастся воскресить, он предстанет перед трибуналом по обвинению в воровстве, попытке убийства и государственной измене. По-моему, игра стоит свеч.
Используя самые передовые технологии, судебные эксперты сумели снять с кофейной чашки отпечатки пальцев — несмотря на то что за минувшие два месяца эту чашку мыли несчетное количество раз. Отпечатков были тысячи — в большинстве своем они принадлежали солдатам или рыбакам, что и было установлено в ходе проверки; однако одни так и остались неустановленными. Их приплюсовали к загадочному образцу ДНК.
— Во времена Сети, — заметил главный эксперт, доктор Холмер Риам, — мы могли через мультилинию запросить мегасферу и получили бы ответ буквально через секунду.
— Был бы у нас сыр с ветчиной, мы бы приготовили чизбургер, — отозвался капитан де Сойя.
— Что? — переспросил доктор Риам.
— Да так, ничего особенного. Я ожидаю ответа через несколько дней.
— Но откуда, святой отец? — удивился эксперт. — Мы же проверили планетарный банк данных, изучили личные дела всех браконьеров, которых вам удалось поймать… Кстати, сэр, прошу прощения, но таких облав на Безбрежном Море еще не проводили. Вы нарушили хрупкое равновесие, существовавшее здесь на протяжении столетий.
— Ваше хрупкое равновесие меня не интересует. — Де Сойя потер переносицу. Глаза слипались: в последние дни капитан практически не спал.
— Понимаю. Так откуда же вы ждете ответа, сэр? Ни Церковь, ни Орден не располагают данными на всех обитателей цивилизованных миров, не говоря уж об Окраине и владениях Бродяг…
— Зато на каждой планете есть свой архив, куда заносятся сведения о крещениях, браках и кончинах, а также полицейские и армейские базы данных.
— Но с чего вы начнете? — Доктор Риам развел руками, как бы расписываясь в собственной беспомощности.
— С начала, — ответил де Сойя. — С планеты, которая, как мне кажется, не обманет наших ожиданий.
На глубине шестисот фатомов, до которой согласились погрузиться в океан капитаны подводных лодок, останков лейтенанта Белиуса не обнаружили. После этого начался отлов радужных акул: рыб парализовывали и сотнями доставляли на поверхность, где изучали содержимое их желудков. Тот же результат — ни Белиуса, ни хотя бы крестоформа. В радиусе двухсот километров от платформы выловили едва ли не всех морских хищников, извлекли куски плоти двух браконьеров, но того, что искали, не нашли. По Белиусу отслужили панихиду, капеллан объявил, что лейтенант умер истинной смертью и обрел истинное бессмертие.
Де Сойя приказал капитанам подводных лодок погрузиться глубже. Те отказались.
— Почему? — спросил де Сойя. — Вас вызвали сюда из-за того, что ваши лодки могут опуститься на самое дно. Почему же вы отказываетесь?
— Сэр, вы забыли про левиафана, — ответил один из капитанов. — Чтобы осмотреть дно, придется включить прожекторы, а свет привлекает эту тварь. На глубине шестисот фатомов сонары и радары заблаговременно предупреждают нас об опасности, а если мы опустимся глубже, то уже наверняка не успеем подняться прежде, чем он нападет на лодки. Нет, сэр, мы отказываемся.
— Это приказ! — процедил де Сойя, на груди которого поблескивал папский диск.
Старший из капитанов сделал шаг вперед:
— Сэр, вы можете меня арестовать, расстрелять, отлучить от Церкви, но я не поведу своих людей на верную смерть. Вы просто не видели левиафана, святой отец, поэтому так и рассуждаете.
Де Сойя дружески положил руку на плечо капитану.
— Я не собираюсь вас арестовывать, расстреливать или отлучать от Церкви. Что же касается левиафана, я его скоро увижу. И не одного. — Капитаны недоуменно переглянулись. — Я вызвал три боевые субмарины. Они должны найти и прикончить всех левиафанов и прочих гнусных тварей в радиусе пятисот километров. Так что вашим жизням, когда вы пойдете на погружение, ничто угрожать не будет.
Старший капитан буквально пожирал де Сойю глазами. Его товарищ, похоже, никак не мог прийти в себя от изумления.
— Святой отец, да известно ли вам, сколько стоит левиафан? Сколько за него платят рыбаки с других миров и местные дельцы?
— Около пятнадцати тысяч сейдонов за голову, — отозвался де Сойя. — То бишь почти тридцать пять тысяч флоринов или почти пятьдесят тысяч марок. — Он улыбнулся. — А поскольку тот из вас, кто поможет найти левиафанов, получит тридцать процентов от суммы, разрешите пожелать вам удачи.
Возражений не последовало. Довольные капитаны поспешно ретировались.
Впервые «Рафаил» улетал без капитана де Сойи. На борту авизо находился сержант Грегориус, которому передали образец ДНК, неустановленные отпечатки пальцев и обрывки ткани ковра.
— Сержант, — проговорил де Сойя, связавшись с кораблем по направленному лучу за несколько минут до перехода в состояние С-плюс, — на Гиперионе стоит гарнизон, а на орбите планеты постоянно находятся по крайней мере два факельщика. Поэтому ни о чем не беспокойтесь, вас воскресят в Сент-Джозефе. — Грегориус, лицо которого на мониторе, несмотря на неминуемую смерть, казалось совершенно спокойным, только фыркнул. — Там вы проведете положенные три дня, еще день уйдет на проверку архивов. Как закончите, сразу возвращайтесь.
— Слушаюсь, сэр, — откликнулся сержант. — Не волнуйтесь, я не собираюсь просиживать штаны в джектаунских барах.
— Джектаунских? — переспросил де Сойя. — Ах да… Старинное прозвище столицы. Что ж, сержант, если вам и впрямь захочется провести вечерок в баре, валяйте. Я понимаю, в последнее время развлечений было маловато…
Грегориус ухмыльнулся. До прыжка и мучительной смерти оставалось тридцать секунд.
— Я не жалуюсь, сэр.
— Отлично. Удачи, сержант. Да, вот еще что… — Десять секунд. — Спасибо. Спасибо за все.
Ответа не последовало, связь прервалась. «Рафаил» ушел в квантовый прыжок.
Боевые субмарины отследили и прикончили пять левиафанов. Всякий раз, когда ему сообщали об очередном «улове», де Сойя вылетал к месту событий на личном орнитоптере.
— Боже мой! — воскликнул он, увидев первую жертву. — Я и не представлял, что они настолько громадные!
Чудовище в три с лишним раза превосходило размерами платформу: выпученные глаза, огромные зубы, жабры величиной с орнитоптер, подрагивающие щупальца длиной в несколько сотен метров, усы, с которых свисали ослепительно яркие, даже при дневном свете, «фонари»; и бесчисленное множество ртов, в любом из которых без труда поместилась бы субмарина. На глазах у де Сойи специальная команда проникла в тело гиганта сквозь разрывы в серой коже (сказался перепад давления) и принялась нарезать мясо левиафана на куски. Солнце припекало, и следовало поторопиться, чтобы плоть чудовища не начала разлагаться.
Убедившись, что вокруг платформы не осталось ни левиафанов, ни прочих смертоносных тварей, глубоководные подлодки погрузились на двенадцать тысяч фатомов. Там, в лесу трубчатых червей, каждый из которых был размерами с секвойю со Старой Земли, они обнаружили много интересного — подлодки браконьеров, расплющенные в лепешку давлением, боевой фрегат, больше сотни лет числившийся пропавшим без вести, и десятки, если не сотни башмаков.
— Процесс дубления, — пробормотал лейтенант Спраул, глядевший вместе с де Сойей на монитор. — Кстати, на Старой Земле, как ни странно, было то же самое. Когда спасатели поднимали затонувшие суда — например, был такой «Титаник», — тел не находили, их пожирало море; зато обуви было сколько угодно. Дубленая кожа почему-то отпугивает морских хищников…
— Поднимайте, — приказал де Сойя в микрофон.
— Башмаки? — уточнил один из капитанов. — Неужели все?
— Все, — подтвердил де Сойя.
На мониторе было видно, что океанское дно загромождают кучи мусора, скопившиеся за без малого двести лет существования платформы: имущество станции, потерянное по глупости или по небрежности, личные вещи утонувших рыбаков и браконьеров, металлические банки, пластиковые пакеты… Давление и клешни обитателей дна изуродовали большинство предметов, однако попадались и сравнительно целые, поддающиеся определению.
— Захватите, — распорядился де Сойя, когда камера показала предметы, похожие на нож, на пряжку от ремня, на… — А это что такое?
— Что? — не понял капитан той подлодки, что шла над самым дном. Он следил не столько за монитором, сколько за дистанционно управлявшимися захватами.
— Вон та блестящая штуковина. Похоже на пистолет.
Подлодка развернулась, включился мощный прожектор, который осветил таинственный предмет. Изображение на мониторе увеличилось.
— Пистолет, — подтвердил капитан подлодки. — Его расплющило, но не слишком сильно. — Де Сойя различил краем уха щелчки: автомат делал покадровые снимки. — Попробую подобрать.
Де Сойе хотелось крикнуть: «Осторожнее!», однако он промолчал. Командуя факельщиком, он с годами научился доверять подчиненным. На мониторе появился металлический захват, который аккуратно поднял со дна загадочный предмет.
— Наверно, игломет Белиуса, — предположил Спраул. — Помните, сэр, мы ведь не нашли табельного оружия лейтенанта.
— Далековато, — пробормотал де Сойя, не сводя глаз с монитора.
— Здесь сильное течение, — сказал Спраул. — Правда, игломет выглядит иначе. Эта штука уж больно… квадратная, что ли.
— Верно. — Луч прожектора скользнул по корпусу субмарины, пролежавшей на дне, по всей видимости, не одно десятилетие. Насколько все-таки пуст космос по сравнению с любым океаном! Вода кишит жизнью, она словно пропитана историей. Однако Бродяги почему-то пытаются приспособиться к космосу; в этом они мало чем отличаются от здешних трубчатых червей, левиафанов и прочих тварей, приноровившихся со временем к вечному мраку и чудовищному давлению. Быть может, Бродяги видят будущее человечества, а Ордену подобных прозрений не дано? Ересь, самая настоящая ересь. Де Сойя отогнал шальную мысль и повернулся к лейтенанту Спраулу. — Скоро мы все узнаем. Они поднимутся где-то через час.
Грегориус возвратился через четыре дня. Естественно, мертвым. Компьютер «Рафаила» сообщил свои позывные, факельщик встретил авизо в двадцати световых минутах от планеты; тело сержанта доставили в Сент-Терез и поместили в реаниматор. Де Сойя не стал дожидаться, пока Грегориус воскреснет, и приказал принести курьерскую сумку.
В планетарной базе данных Гипериона обнаружился искомый образец ДНК; также удалось выяснить, кому принадлежат отпечатки пальцев. Рауль Эндимион, родился в 3099 году от Рождества Христова на Гиперионе, некрещеный, служил в силах самообороны в месяце Фомы 3115 года, во время Урсианского восстания воевал в составе 23-го полка мотопехоты; три поощрения за храбрость, в том числе одно за спасение товарища из-под вражеского огня; восемь месяцев находился в Форт-Бенджине на Южном Когте Аквилы, затем был переведен на речную станцию 9 на Кэнсе, охранял фибропластовые плантации от нападений повстанцев. Вышел в отставку в звании сержанта 15-го числа месяца Поста 3119 года, дальнейшее местонахождение и род занятий неизвестны, 23-го числа месяца Вознесения 3126 года был арестован в Порт-Романтике (континент Аквила), осужден и приговорен к смерти за убийство месье Дабила Херрига, христианина с Возрождения-Вектор. Даже накануне смерти Рауль Эндимион отказался принять крест и был казнен через неделю после ареста, 30-го числа месяца Вознесения. Пораженное лучом нейродеструктора тело бросили в море. Свидетельство о смерти и результаты вскрытия были заверены печатью главного судебного инспектора планеты Гиперион.
На следующий день стало известно, что на извлеченном с океанского дна расплющенном пистолете 45-го калибра наличествуют отпечатки пальцев лейтенанта Белиуса и Рауля Эндимиона.
Что касается ковра-самолета, автоматический поиск по образцам ткани не дал результатов. Правда, к сообщению прилагалась записка техника, проводившего анализ: в ней говорилось, что подобный ковер упоминается в легендарных «Песнях» поэта, жившего на Гиперионе около ста лет тому назад.
Когда воскресший и отдохнувший сержант Грегориус прибыл на станцию триста двадцать шесть в Срединном Течении, де Сойя ввел его в курс дела и сообщил также, что, по словам техников, на протяжении трех недель мудривших над порталом, им никто не пользовался, однако некоторые рыбаки утверждают, что заметили как-то ночью яркую вспышку в стороне арки. Кроме того, техники заявили, что проникнуть внутрь портала не представляется возможным, следовательно, нельзя определить, куда он отправил девочку — если, конечно, отправил.
— Как на Возрождении-Вектор, — проговорил Грегориус. — Ну да ладно, зато теперь мы знаем, кто помог девчонке бежать.
— Может, да, а может, нет.
— Стоило ли улетать с Гипериона, чтобы отдать концы здесь? — задумчиво произнес чернокожий гигант.
— А вы уверены, что он погиб, сержант? — Де Сойя откинулся на спинку кресла. Грегориус не ответил. — Думаю, на Безбрежном Море нам больше делать нечего. Через пару дней полетим дальше.
Сержант кивнул. За окнами бывшего кабинета управляющего сверкало в лунном свете фиолетовое море.
— Куда дальше, сэр? По старому маршруту?
Де Сойя тоже глядел в окно, ожидая, когда над океаном поднимется самая крупная из трех лун.
— Не знаю, сержант. Вот закончим здесь… Сдадим капитана Поула на гауптвахту орбитальной станции, ублажим епископа Меландриано…
— Если сможем, — вставил Грегориус.
— Да, если сможем. Нанесем прощальный визит архиепископу Келли, вернемся на «Рафаил», там и решим. Мне кажется, пора прикинуть, куда направляется девчонка. Хватит следовать выкладкам компьютера.
— Так точно, сэр. — Грегориус отдал честь, взялся за ручку двери, потом остановился. — А у вас нет никаких идей, сэр? В конце концов мы кое-что нашли, ну и…
Наконец взошла третья луна. Де Сойя, продолжая смотреть в окно, сказал:
— Может, и есть, сержант. Может, и есть.
Глава 36
Мы дружно налегли на шесты и успели в последнее мгновение остановить плот у ледяной стены. Горели все фонари, но даже их лучи были не в состоянии разогнать царивший в пещере мрак. Над черной водой клубился пар, вместе с которым к потолку пещеры словно поднимались души всех утонувших в реке. Лучи фонарей дробились в ледяных гранях, отчего темнота казалась еще более непроглядной.
— Почему река не замерзла? — спросила Энея, пряча ладони под мышки и притопывая ногами. Девочка надела на себя все, что у нее было, но этого было явно недостаточно, чтобы согреться.
Я встал на колено, зачерпнул воды и попробовал ее на вкус.
— Соль. Вода такая же соленая, как на Безбрежном Море.
А.Беттик осветил фонарем ледяную стену впереди.
— По-моему, вода уходит под лед. Видите?
— Потуши свой фонарь! — воскликнул я. Мелькнул проблеск надежды. — И все остальные тоже. — Мой голос эхом отразился от стен пещеры.
Когда все огни погасли, я вперил взгляд во мрак, рассчитывая увидеть сквозь ледяную стену хотя бы призрак света — намек на спасение, указание на то, что выход из пещеры совсем рядом.
Но тьма была непроницаемой. Я выругался себе под нос и с сожалением вспомнил об очках ночного видения, которые потерял на Безбрежном Море. Сейчас они бы пригодились: если бы откуда-то сочился свет, очки бы его уловили… Некоторое время мы ждали. Я слышал, как дрожит Энея, ощущал, как вырывается изо рта пар…
— Ладно, зажигайте. — Проблеск надежды угас, так и не успев разгореться.
Мы вновь осветили ледяные стены и потолок, под которым продолжал клубиться пар, черную воду, в которую непрерывно падали осколки льда.
— Где мы? — выдавила Энея сквозь барабанную дробь, которую выбивали ее зубы.
Я порылся в своем вещмешке, нашел термоодеяло, которое упаковал еще в башне Мартина Силена, и накинул его на плечи девочке.
— Держи, оно сохранит тепло. Нет-нет, не снимай.
— Я просто хотела поделиться…
Присев на корточки рядом с нагревательным кубом, я включил его на полную мощность.
— Пока еще рано. Что касается твоего вопроса, думаю, мы на Седьмой Дракона. Некоторые из моих клиентов — самые богатые и рисковые — охотились здесь на арктических призраков.
— Согласен, — проговорил А.Беттик, сидевший рядом со мной. При одном только взгляде на голубую кожу андроида становилось, если такое возможно, еще холоднее. Палатка промерзла настолько, что ее материал стал хрупким, как металл. — Здешняя сила тяжести составляет 1,7g. После Падения все работы по терраформированию планеты были остановлены, и большая часть поверхности вновь подверглась гипероледенению.
— Гипер… Чему? — спросила Энея, кутаясь в одеяло. Я заметил, что щеки девочки слегка порозовели. — Что это означает?
— Это означает, что атмосфера Седьмой Дракона замерзла, — объяснил андроид.
Энея огляделась по сторонам.
— Кажется, я вспоминаю, что мама рассказывала мне про это место. Она кого-то выслеживала, и след привел ее сюда. Моя мама была лузианкой, привычной к полуторной силе тяжести, но даже она почувствовала себя здесь не в своей тарелке. Удивительно, что тут течет река Тетис.
А.Беттик встал, посветил фонарем на стену, снова опустился на корточки и ссутулился, стараясь согреться хоть таким способом.
— Что сказано в путеводителе? — полюбопытствовал я.
Андроид достал маленькую книжку.
— Почти ничего, сэр. Тетис провели на Седьмую Дракона незадолго до того, как книга вышла из печати, поэтому приводятся сведения только общего характера. Река протекает в северном полушарии, рядом с границами территории, которую пыталась терраформировать Гегемония. Судя по всему, единственным, что привлекало сюда туристов, была возможность собственными глазами увидеть арктического призрака.
— Ты говорил, на них охотились твои знакомые? — спросила у меня Энея.
Я кивнул:
— Жуткие твари. Живут на поверхности. Очень быстрые и смертельно опасные. Во времена Сети их почти истребили, но после Падения, если верить охотникам, они расплодились снова. Питаются в основном людьми, обитающими на Седьмой Дракона; впрочем, людей тут всего ничего, только потомки первых колонистов. Охотники говорили, что местные — «дикари», как выразился кто-то из них, — охотятся на призраков потому, что больше им охотиться не на кого, и терпеть не могут Орден. По слухам, дикари убивают миссионеров, из жил которых делают потом тетивы для луков.
— К Гегемонии здесь тоже относились весьма прохладно, — добавил андроид. — Молва утверждает, что местные жители бурно радовались Падению. Но потом пришла чума…
— Чума? — переспросила Энея.
— Ретровирус, — пояснил я. — Благодаря ему численность населения Седьмой Дракона сократилась с нескольких сотен миллионов человек до жалкого миллиона. Большинство погибло от рук этих самых дикарей. Остальных эвакуировали, когда планетой завладел Орден. — Я посмотрел на девочку. С термоодеялом, наброшенным на плечи, она напоминала юную мадонну; ее кожа поблескивала в свете фонаря. — После Падения, как ты знаешь, никто особо не церемонился.
— Да уж, — сухо произнесла Энея. — В мое время было спокойнее. — Она окинула взглядом нависавшие над черной водой сталактиты. — Интересно, зачем понадобилось прокладывать русло реки в ледяной пещере?
— В самом деле, — согласился я и ткнул пальцем в сторону книжки в руках у андроида. — Там сказано, что туристов привлекала возможность увидеть живьем арктического призрака. Но ведь призраки, по крайней мере насколько мне известно, живут вовсе не во льду, а на поверхности.
Пытаясь осмыслить услышанное, Энея не сводила с меня пристального взгляда.
— Значит, пещеры раньше не было…
— Скорее всего нет. — А.Беттик указал на потолок. — Те, кто занимался терраформированием планеты, стремились только повысить в некоторых районах температуру, чтобы превратить атмосферу, состоящую в основном из углерода и кислорода, из твердой в газообразную.
— И как? Получилось?
— Не везде. — Андроид повел рукой. — По-моему, река текла по открытой местности. Приемлемые температура и давление поддерживались, должно быть, силовыми полями. Потом эти поля исчезли…
— Выходит, мы погребены под тем, чем дышали туристы былых времен, — подытожил я. Проверив, под рукой ли плазменная винтовка, я прибавил: — Интересно, какой толщины…
— По всей вероятности, несколько сотен метров, — не дал мне закончить А.Беттик. — А может, и целый километр. Насколько я помню, именно такой была толщина атмосферного слоя к северу от терраформированной местности.
— Похоже, ты знаешь планету как свои пять пальцев, — заметил я.
— Увы, сэр. Я исчерпал все свои познания относительно экологии, геологии и истории Седьмой Дракона.
— Можно спросить у комлога. — Я указал на вещмешок, в котором лежал браслет.
Мы переглянулись.
— Не стоит, — заявила Энея.
— Поддерживаю, — сказал А.Беттик.
— Ладно. Может, как-нибудь потом… — Сколько нужных вещей мы оставили на корабле! Атмосферные скафандры с подогревом, гидрокостюмы, даже космические скафандры защитили бы нас от холода гораздо лучше, чем так называемая теплая одежда. Я прикидывал, не выстрелить ли в потолок. Правда, скорее всего он просто обвалится. Или все же стоит попробовать?
— Месье Эндимион, у вас еще осталась взрывчатка? — спросил А.Беттик. Андроид напялил на голову диковинную шерстяную шапку с наушниками. Закутанный с ног до головы, он сейчас сильно смахивал на куклу-неваляшку.
— Осталась. Я тоже про нее думал. Зарядов у нас в запасе достаточно, но детонаторов всего четыре. Какое бы направление мы ни выбрали, рассчитывать можно лишь на четыре взрыва.
— Где ты столько всего узнал, Рауль? — Дрожащая маленькая мадонна пристально поглядела на меня. — В гиперионских силах самообороны?
— Отчасти, — сказал я. — Но с пластиковой взрывчаткой меня научил обращаться Эврол Юм, с которым мы корчевали камни и пни, планируя поместья для толстосумов. — Я встал: онемевшие пальцы рук и ног подсказали, что пора изменить позу. — Можно отправиться вверх по течению.
Глядя, как я притопываю ногами и растираю пальцы рук, Энея нахмурилась:
— Но следующий портал в другой стороне.
— Знаю. Зато вон там, — я ткнул пальцем себе за спину, — может быть выход из пещеры. Если нам повезет, мы выберемся на поверхность и отогреемся, а потом уже будем думать, как добраться до следующего портала.
— Удачная мысль, сэр, — заметил андроид, беря в руки шест.
Энея одобрительно кивнула.
Прежде чем оттолкнуть плот от стены, я поставил на место мачту, срубив ей верхушку, чтобы не задевала за сталактиты, и повесил на нее фонарь. Другие фонари мы расставили по углам плота. В клубах пара над водой казалось, что у каждого из фонарей свое собственное тускло-желтое гало.
Река была сравнительно мелкой, не глубже трех метров, однако нашему продвижению изрядно мешало сильное течение. Мы с А.Беттиком налегали на шесты всем весом; вскоре к нам присоединилась Энея, вставшая рядом со мной. Вокруг бурлила черная вода.
Мы быстро согрелись — я даже вспотел, из-за чего моя одежда тут же замерзла изнутри, — однако минут через тридцать, на протяжении которых мы работали и отдыхали, отдыхали и работали, стужа снова начала брать свое. К тому времени мы продвинулись вверх по течению едва ли на сотню метров.
— Смотрите, — проговорила девочка, поднимая с палубы самый мощный из фонарей.
Продолжая налегать на шесты, чтобы плот оставался на месте, мы с А.Беттиком повернулись в ту сторону, куда показывала Энея. Впереди виднелась стена портала, выступавшая из глыбы льда наподобие колеса какой-нибудь древней машины. Дальше туннель сужался до размеров трещины шириной около метра и исчезал под ледяным козырьком.
— Должно быть, раньше река была шире раз в пять-шесть, — заметил А.Беттик. — Ведь портал, по всей видимости, опирался на ее берега.
— Ну да, — мрачно пробормотал я. — Плывем обратно. — За две минуты мы проделали весь путь, на который чуть раньше у нас ушло полчаса. Всем троим пришлось выставить шесты, чтобы не дать плоту разбиться о ледяную стену.
— Что ж, — сказала Энея, — приехали. — Она посветила фонарем вокруг. — Можно было бы для разнообразия выбраться на берег. Вот только как это сделать?
— Может, взорвем один заряд? — предложил я. — Устроим себе уютную пещерку.
— А теплее от этого станет? — спросила девочка. Ее снова била дрожь; я вдруг заметил, какое у нее крошечное, хрупкое тельце. Ничего удивительного, что она никак не может согреться.
— Нет, — честно признался я, в двадцатый, наверно, раз подошел к палатке и принялся шарить по мешкам в поисках средства к спасению. Сигнальные ракеты. Пластиковая взрывчатка. Оружие в заиндевевших чехлах. Термоодеяло. Пища. Нагревательный куб по-прежнему работал, и девочка с андроидом снова подсели к нему. Через какие-нибудь сто часов он разрядится окончательно. Была бы у нас теплоизоляция, мы могли бы оборудовать себе ледяную пещерку со всеми удобствами — по крайней мере прожили бы втрое-вчетверо дольше…
Но изоляции не было. Материал палатки тут не годился. А при мысли о том, чтобы сидеть в пещере, ожидая, когда погаснут от холода фонари и остынет куб, у меня засосало под ложечкой.
Я подошел к ледяной стене, посветил на нее фонарем и сказал:
— Ладно, сделаем вот что. — Энея с А.Беттиком как по команде повернулись ко мне. — Я возьму пластиковую взрывчатку с детонаторами, бикфордов шнур, веревку, передатчик, свой фонарь, — я перевел дыхание, — и нырну под эту треклятую стену. Авось течение вынесет меня наружу. Если получится, я установлю заряды в подходящих местах. Быть может, мы сумеем проделать отверстие для плота. Если нет, бросим его здесь и будем выбираться вплавь…
— Ты погибнешь, — ровным голосом проговорила девочка. — Умрешь от переохлаждения. И потом, разве ты выплывешь против такого течения?
— А веревка на что? Если с той стороны будет где спрятаться от взрыва, я останусь там, а если нет, дерну за веревку, и вам придется меня тащить. Когда вернусь, разденусь и закутаюсь в одеяло. У него стопроцентная изоляция, поэтому ничего со мной не случится. Выживу.
— А если придется плыть всем? На троих одеяла не хватит?
— Мы прихватим с собой куб. А одеяло используем как палатку.
— Где? — тихо спросила Энея. — Думаешь, там найдется местечко?
Я развел руками:
— Тем более необходимо проделать отверстие для плота. В крайнем случае я взорву заряд, и мы поплывем дальше на льдине. Не переживай, до портала мы обязательно доберемся.
— Что, если мы израсходуем всю взрывчатку, а за первой стеной окажется вторая? Что, если до портала пятьдесят километров, и все подо льдом?
Во второй раз руками развести не получилось, слишком уж сильно они дрожали — мне хотелось надеяться, что от холода. Я сунул руки под мышки.
— Значит, мы умрем с той стороны. — Облачко пара, вылетевшее у меня изо рта, мгновенно превратилось в льдинки. — Все лучше, чем здесь.
— Месье Эндимион, — проговорил А.Беттик, — ваш план представляется мне единственным выходом из положения, однако плыть должен я. Вы прекрасно понимаете почему. Вас недавно ранили, и вы еще не успели поправиться. К тому же мое тело рассчитано на работу в экстремальных условиях.
— Не настолько же, — возразил я. — Ты и так весь дрожишь. К тому же ты не сумеешь установить заряды.
— Вы будете мной руководить через передатчик.
— А если он откажет или сигнал не пройдет через лед? И потом, это не так-то просто. Наверняка придется резать лед…
— Все равно, — стоял на своем андроид, — здравый смысл подсказывает…
— Здравый смысл тут ни при чем, — перебил я. — Если… у меня не получится, тогда попытаешься ты. Кстати, нужен кто-то очень сильный, чтобы вытянуть человека против течения. — Я положил руку на плечо андроиду. — Я приказываю тебе остаться как старший по званию.
— Какому еще званию? — Энея, несмотря на лютый холод, сбросила термоодеяло.
Я выпрямился во весь рост и выпятил грудь.
— Да будем вам известно, что перед вами сержант третьего класса гиперионских сил самообороны. — Впечатление от фразы несколько смазала барабанная дробь зубов.
— Значит, сержант?
— Третьего класса, — подтвердил я.
Энея обняла меня. Я несказанно удивился, потом неуклюже погладил ее по спине.
— Первого класса, — тихо сказала девочка, отступила на шаг и топнула ногой. — Ладно. Что нам делать?
— Помогите мне собраться. Найди ту веревку, на которой тащился ваш плавучий якорь. Думаю, ее вполне хватит. А.Беттик, будь добр, передвинь плот так, чтобы вода не захлестывала нос. Вон туда, к углублению в стене…
Мы взялись за дело. Когда со сборами было покончено, я спросил у Энеи, на которую падал тусклый свет висевшего на урезанной мачте фонаря:
— Ты по-прежнему уверена, что наши прыжки ведут к какой-то цели?
Девочка огляделась по сторонам. Где-то в темноте с громким плеском рухнул в воду сталактит.
— Да, — ответила она.
— Тогда почему мы оказались в тупике?
Энея пожала плечами. При иных обстоятельствах я бы рассмеялся — настолько комичным, из-за одежды, получилось это движение.
— Наверно, меня побуждают действовать…
— Не понял.
— Я ненавижу холод и тьму. С самого детства. Быть может, кто-то побуждает меня воспользоваться моими способностями, о которых я пока даже не подозреваю. О которых мне еще рано знать.
Я бросил взгляд на бурлящую черную воду, в которую мне предстояло окунуться.
— Что ж, детка, если ты обладаешь способностями, которые могут вытащить нас отсюда, воспользуйся ими, и дело с концом. Что значит «еще рано»?
Энея погладила меня по руке. Вместо второй пары варежек на ней были мои шерстяные носки.
— Я догадываюсь, что эти способности существуют. — Пар ее дыхания оседал инеем на козырьке шапки. — Но вызволить нас отсюда они не помогут. Это я знаю точно. Быть может… Не важно. Извини, Рауль, но…
Я кивнул, сделал глубокий вдох — и быстро разделся до белья. Бр-р! Меня буквально обожгло холодом. Затянув на груди узел веревки — пальцы рук быстро немели, — я взял у А.Беттика мешок с пластиковой взрывчаткой.
— Возможно, в воде у меня остановится сердце. Если я не дерну за веревку в первые тридцать секунд, вытаскивай меня обратно. — Андроид кивнул. Я принялся перечислять сигналы, потом прибавил, постаравшись сохранить деловой тон: — Если вытащишь и обнаружишь, что я в коме или умер, не забудь, что меня можно оживить. В холодной воде смерть мозга наступает не сразу.
А.Беттик снова кивнул. Он стоял в классической позе скалолаза: ноги расставлены, веревка обмотана вокруг талии, конец зажат в руке.
— Ладно. — Я сообразил, что оттягиваю неизбежное и теряю драгоценное тепло. — Увидимся, ребята. — И соскользнул в черную воду.
Наверно, мое сердце и впрямь на мгновение остановилось, но затем забилось вновь, почти через силу. Течение оказалось сильнее, чем я ожидал. Меня едва не уволокло под лед прежде, чем я приготовился нырнуть, отнесло в сторону от плота и приложило к стене. Из пореза на лбу потекла кровь, руки словно онемели от удара. Я вцепился в щербатую стену, чувствуя, как ноги неумолимо затягивает вглубь, изо всех сил стараясь удержаться на месте. Сталактит, который упал в воду за плотом, врезался в стену в метре слева. Если бы он угодил в меня, я бы потерял сознание и утонул, не успев понять, что произошло.
— Не такая уж… удачная мысль… — выдавил я. Меня оторвало от стены и увлекло вниз.
Глава 37
Капитан де Сойя предложил отказаться от маршрута, составленного бортовым компьютером «Рафаила», и прыгнуть прямиком к одной из захваченных Бродягами планет.
— А что мы выигрываем, сэр? — поинтересовался капрал Ки.
— Быть может, ничего, — ответил капитан. — Но если во всем этом замешаны Бродяги, нам, возможно, удастся выйти на след.
Сержант Грегориус потер подбородок.
— Или нас захватит Рой. Прошу прощения, сэр, но во флоте Его Святейшества есть кораблики и посерьезнее.
— Зато наш — самый быстроходный, — отозвался де Сойя. — Вряд ли Рой сумеет его догнать. К тому же Бродяги могли бросить планету, для них это в порядке вещей — напали, чуть отодвинули Великую Стену, а потом удрали, постаравшись уничтожить все что можно и оставив на всякий случай орбитальный патруль. — Капитан сделал паузу. Он видел лишь одну из разграбленных Бродягами планет, Свободу, но зрелище произвело на него такое впечатление, что он искренне надеялся не увидеть больше ничего подобного никогда в жизни. — Так или иначе, с точки зрения времени для нас изменение в планах не имеет ни малейшей разницы. Как правило, прыжок за Великую Стену длится восемь — десять месяцев корабельного времени и одиннадцать с лишним лет — объективного. С «Рафаилом» же все произойдет как обычно — мгновенный переход и трехдневное воскрешение.
Стрелок Реттиг, как делал уже не раз, поднял руку.
— Нужно кое-что учесть, сэр.
— Что именно?
— «Архангелы» Бродягам еще не попадались. Думаю, они и не подозревают о существовании таких кораблей. Да что там говорить, сэр, даже наши парни ни о чем не догадываются. — Де Сойя понял, к чему клонит стрелок, однако позволил Реттигу закончить. — Иными словами, сэр, мы здорово рискуем. Эти авизо — военная тайна Ордена.
Наступила тишина. Наконец де Сойя произнес:
— Верно подмечено, стрелок. Я и сам долго над этим размышлял. Но командование выделило нам «архангел» с автоматической системой воскрешения как раз для того, чтобы мы могли покидать пространство, которое контролирует Орден. Я полагаю, нам не возбраняется совершать прыжки на Окраину — и даже на территорию Бродяг. — Капитан перевел дыхание. — Я бывал там, ребята. Сжигал орбитальные леса, сражался с Роями… Бродяги, они очень странные. Их попытки приспособиться к космосу во многом кощунственны. Быть может, они уже не люди. Но корабли Бродяг значительно проигрывают «Рафаилу» в скорости. Если возникнет опасность, мы всегда успеем прыгнуть в гиперпространство. Вдобавок можно запрограммировать корабль на самоуничтожение в случае захвата.
Швейцарские гвардейцы молча слушали. По всей видимости, каждый из них размышлял о предстоящей промежуточной, если можно так выразиться, смерти, которая наступит как бы вполне естественно: они лягут спать в своих реаниматорах — и больше в этой жизни уже не проснутся. Да, крестоформ — поистине чудо Господне, он способен восстанавливать разорванные в клочья тела, воскрешать тех, кто был убит, сожжен заживо, умер от голода или от болезни, утонул и так далее; тем не менее крестоформ не всемогущ — если ему приходится воскрешать человека слишком часто, рано или поздно он даст сбой. Так термоядерный взрыв уничтожает планетарный двигатель звездолета…
— Мы с вами, — произнес наконец Грегориус. Сержант знал, что капитан терпеть не может приказывать, когда речь идет о смертельном риске. — Правильно, ребята?
Ки с Реттигом утвердительно кивнули.
— Отлично, — сказал де Сойя. — Я запрограммирую компьютер. Если корабль попадет в ловушку, из которой у него не будет возможности выбраться, он взорвет ядерный двигатель. Правда, надо как можно точнее определить, что значит «не будет возможности»… Впрочем, мне кажется, что опасность невелика. Мы придем в себя на… Господи, я даже не удосужился посмотреть, по каким из оккупированных Бродягами планет течет Тетис. Первая, наверно, Тай-Цзин?
— Никак нет, сэр, — отозвался Грегориус, рассматривая выданную компьютером распечатку карты звездного неба. Толстый палец сержанта уперся в точку за пределами территории Ордена. — Хеврон. Еврейская планета.
— Хеврон так Хеврон. Занимайте места. Увидимся в следующем году в Новом Иерусалиме.
— В следующем году, сэр? — переспросил стрелок Реттиг, бросив взгляд на карту перед тем, как скользнуть в реаниматор.
— Я слышал эту поговорку от своих друзей-евреев. — Де Сойя усмехнулся. — Понятия не имею, что она означает.
— Я и не знал, что на территории Ордена еще остались евреи, — проговорил капрал Ки. — Мне казалось, они все торчат на Окраине.
Де Сойя покачал головой:
— Когда-то я учился в семинарии и попутно посещал занятия в университете. Там мне приходилось сталкиваться с крещеными евреями. На Хевроне, капрал, вы увидите евреев собственными глазами. Не забудьте пристегнуть ремни.
Очнувшись, капитан мгновенно понял: что-то случилось, что-то не так. В молодые годы Федерико де Сойя не раз напивался в компании сверстников-семинаристов и однажды, после очередной гулянки, проснулся на чужой кровати — слава Богу, в одиночестве, но на чужой кровати в отдаленном квартале, не имея ни малейшего представления о том, как и с кем попал туда. Сейчас ощущения были похожими.
Де Сойя открыл глаза, ожидая увидеть реаниматоры в тесной каютке «Рафаила», потянул носом, рассчитывая уловить запахи озона и мужского пота; тело невольно напряглось, привычно приспосабливаясь к невесомости… Капитан обнаружил, что лежит на широкой кровати посреди прелестной комнатки, а сила тяжести почти не отличается от стандартной. На стенах висели иконы — Дева Мария, распятый Христос с возведенными горе очами — и картина, изображавшая муки святого Павла. Сквозь шторы в комнату сочился солнечный свет.
Обстановка, как ни странно, показалась де Сойе смутно знакомой, как и круглое лицо низенького священника, который принес ему бульон и стал кормить, одновременно рассуждая о всяких пустяках. Наконец в мозгу де Сойи словно что-то щелкнуло. Отец Баджо, священник-реаниматор, с которым капитан расстался в Ватиканских Садах и которого никак не ожидал встретить снова. Пригубив бульон, де Сойя бросил взгляд на бледно-голубое небо за окном. Пасем. Он попытался вспомнить, каким образом очутился на планете, но на память пришел только разговор с гвардейцами, долгий разгон в гравитационном колодце Безбрежного Моря и смерть в момент прыжка.
— Как?.. — выдавил де Сойя, хватая священника за рукав. — Как?.. Почему?..
— Успокойся, сын мой, — отозвался отец Баджо, — успокойся. Ты все узнаешь в свое время, а пока отдыхай.
Убаюканный приятным голосом и солнечным светом, надышавшийся кислорода, которым был насыщен воздух в комнате, де Сойя закрыл глаза и тут же заснул. Ему снились зловещие сны.
К полудню, когда отец Баджо вновь принес чашку с бульоном, де Сойе стало ясно, что добродушный священник не хочет отвечать на его вопросы. Не удалось узнать ни как он попал на Пасем, ни где Грегориус и остальные, ни почему нельзя об этом говорить. «Скоро придет отец Фаррелл», — сообщил Баджо с таким видом, словно эта фраза все объясняла. Де Сойя смирился; принял душ, оделся и стал ждать, пытаясь привести в порядок мысли.
Отец Фаррелл прибыл во второй половине дня. Высокий, худощавый, аскетичного вида прелат оказался (как не замедлило выясниться и слегка удивило де Сойю) командором Легионеров Христа. Голос у него был тихий, но суровый, а серые глаза отливали ледяным блеском.
— Ваше недоумение вполне оправданно, — сказал Фаррелл. — Вдобавок вы наверняка чувствуете себя не в своей тарелке, как то обычно бывает с воскрешенными…
— Святой отец, побочные эффекты воскрешения для меня не новость. — Де Сойя криво усмехнулся. — А вот насчет недоумения вы заметили правильно. Как я очутился на Пасеме? Что произошло на орбите Хеврона? И где мои люди?
— Начнем с последнего вопроса, капитан. — Фаррелл устремил на де Сойю немигающий взгляд. — Сержант Грегориус и капрал Ки в данный момент приходят в себя в реанимационном центре швейцарских гвардейцев.
— А стрелок Реттиг? — спросил де Сойя, силясь отогнать дурное предчувствие, распростершее над ним черные крылья.
— Мертв, — ответил Фаррелл. — Истинная смерть… Ему уже отдали последние почести, и его тело отправилось в пучину космоса.
— Как он умер?.. Я хочу сказать, обрел истинную смерть? — Де Сойе хотелось плакать, однако он удержался от слез, ибо не был уверен, чем они вызваны — печалью или слабостью организма после воскрешения.
— Подробностей я не знаю, — сказал священник. В маленькой комнатке для посетителей они с де Сойей находились вдвоем, если не считать святых, мучеников, Христа и Божьей Матери. — Судя по всему, в бортовой системе автоматического воскрешения после возвращения «Рафаила» с Хеврона возникли неполадки…
— Возвращения с Хеврона? — перебил де Сойя. — Боюсь, я не понимаю, святой отец. Я запрограммировал компьютер на бегство только в случае, если корабль столкнется с Роем. Неужели так и вышло?
— По всей видимости, да. Я уже сказал, что подробностей не знаю, да и в технических деталях не силен… Насколько мне известно, ваш корабль вошел в пространство Бродяг…
— Нам было необходимо побывать на Хевроне.
Фаррелл не стал одергивать де Сойю. Выражение лица священника ничуть не изменилось, однако капитан, взглянув в ледяные серые глаза, мысленно поклялся, что больше ни за что не будет перебивать собеседника.
— Итак, вы запрограммировали компьютер «архангела» на проникновение в пространство Бродяг и, если все пройдет гладко, на выход на орбиту планеты Хеврон. Правильно? — Де Сойя молча кивнул. Он нарочно не отводил взгляд, давая понять, что не примет никаких обвинений в свой адрес. — Если мне не изменяет память, ваш авизо носит имя «Рафаил»? — Какие изящные формулировки, какие лукавые вопросы! Сразу чувствуется адвокат. Что ж, у Церкви много юридических советников — и инквизиторов. — Как представляется, «Рафаил» в точности следовал инструкциям и, не встретив Бродяг, вышел на орбиту Хеврона.
— Тогда и отказал реаниматор Реттига?
— Насколько я понимаю, нет. — На какой-то миг Фаррелл перевел взгляд с де Сойи на стены комнаты, словно прикидывая, сколько могут стоить мебель и иконы, не нашел, судя по всему, ничего интересного и вновь повернулся к капитану. — Насколько я понимаю, все четверо были уже, образно выражаясь, на пороге воскрешения, когда корабль совершил прыжок, последствия которого оказались роковыми для стрелка Реттига. Вторичное воскрешение после незавершенного — процедура гораздо более сложная, нежели стандартное воскрешение. Думаю, вам это прекрасно известно. В подобных случаях крестоформ, бывает, не справляется с механическими неполадками.
Наступила тишина. Погруженный в размышления де Сойя краем уха слышал доносившийся с улицы гул движения. С расположенного поблизости космопорта взмыл в небо транспорт…
— Святой отец, — произнес наконец де Сойя, — пока мы находились на орбите Возрождения-Вектор, техники проверили и починили бортовые реаниматоры.
— Знаю. — Фаррелл едва заметно кивнул. — Мне представляется, что реаниматор Реттига был плохо отрегулирован, причем сознательно. Мы ведем расследование на Возрождении-Вектор, а также на Безбрежном Море, на Эпсилоне Эридана и Эпсилоне Индейца, на Неизреченной Милости в системе Лакайль-9352, на Мире Барнарда, на NGC 2629-4BIV, в системах Веги-Прим и Тау Кита.
— Похоже, вы стараетесь ничего не упускать. — Де Сойя моргнул. «Им наверняка пришлось задействовать два других «архангела», иначе подобное расследование растянулось бы на годы. Но с какой стати его затеяли?»
— Совершенно верно, — отозвался Фаррелл.
Де Сойя вздохнул и позволил себе сесть посвободнее.
— Значит, нас обнаружили в системе Свободы и выяснили, что Реттиг мертв…
— Прошу прощения, капитан. — На губах Фаррелла промелькнула едва уловимая усмешка. — Вы упомянули систему Свободы? Насколько мне известно, ваш корабль обнаружили в системе Семидесятой Змееносца. Он тормозил и двигался в направлении Безбрежного Моря.
— Что? — воскликнул де Сойя, садясь прямо. — Я же запрограммировал «Рафаил» на возвращение в случае неприятностей к ближайшему миру Ордена. А таковым является как раз Свобода.
— Возможно, компьютер счел необходимым изменить курс, чтобы оторваться от преследования, — ровным тоном заметил Фаррелл. — Возможно, он принял решение вернуться в исходную точку.
Де Сойя кивнул и пристально поглядел на собеседника, стараясь угадать, что у того на уме. Лицо Фаррелла оставалось бесстрастным.
— Вы сказали «возможно». Разве техники не проверили бортовой журнал? — Молчание Фаррелла можно было принять за что угодно. — И потом, если мы возвращались на Безбрежное Море, то каким образом очутились здесь? Что произошло у Семидесятой Змееносца?
Фаррелл улыбнулся:
— По чистой случайности, капитан, на орбите Безбрежного Моря находился авизо «Михаил». На борту «Михаила» присутствовала капитан Ву…
— Марджет Ву? — перебил де Сойя, забыв о своей мысленной клятве.
— Совершенно верно. — Фаррелл смахнул воображаемую пылинку со своих отутюженных черных брюк. — Учитывая то… гм… напряжение, которое возникло во время вашего пребывания на планете…
— А, вы про епископа Меландриано, которого я отослал в монастырь, чтобы он не путался под ногами? Понимаете, епископ заступался за изменников, которые связались с местными браконьерами и торговали имуществом Ордена…
— Эти события меня нисколько не касаются. — Фаррелл поднял руку, останавливая де Сойю. — Я просто отвечаю на ваш вопрос. Могу я продолжать? — Де Сойя подавил гнев, к которому примешивались печаль по Реттигу и обычная после воскрешения сумятица в мыслях. — Капитан Ву, которая уже успела выслушать жалобы епископа Меландриано и местных чиновников, решила, что разумнее всего будет переправить вас на Пасем.
— Значит, воскрешение прервали во второй раз? — спросил де Сойя.
— Нет. — В голосе Фаррелла не было и намека на раздражение. — Когда было принято решение переправить вас на Пасем, процесс воскрешения еще не успел начаться.
Де Сойя посмотрел на свои руки. Они дрожали. Перед мысленным взором капитана появилась каютка «Рафаила» с четырьмя трупами в реаниматорах. Прыжок к Хеврону, возвращение к Безбрежному Морю, дорога на Пасем… Де Сойя вскинул голову:
— Сколько времени мы были мертвы, святой отец?
— Тридцать два дня.
Де Сойя чуть было не вскочил, но кое-как совладал с собой и произнес, стараясь, чтобы голос звучал ровно:
— Если капитан Ву решила переправить нас на Пасем до того, как началось повторное воскрешение, и если мы так и не успели воскреснуть на орбите Хеврона, на все должно было уйти не более семидесяти двух часов. Допустим, три дня мы провели здесь… Но откуда взялись остальные двадцать шесть?
Фаррелл провел пальцами вдоль аккуратной «стрелки» на брюках.
— Задержка связана с тем, что расследование началось еще на Безбрежном Море. Кроме того, следовало разобраться с жалобами, подобающим образом похоронить стрелка Реттига… и так далее. «Рафаил» вернулся на Пасем вместе с «Михаилом». — Фаррелл неожиданно встал. Де Сойя последовал его примеру. — Капитан, кардинал Лурдзамийский просил передать вам свои поздравления и пожелать скорейшего восстановления сил, да будет на то воля Господня. Завтра утром, в семь часов, в приемной Священной Конгрегации доктрины веры состоится ваша встреча с монсеньером Лукасом Одди и другими членами Конгрегации.
Ошеломленному де Сойе не оставалось ничего другого, как щелкнуть каблуками и почтительно наклонить голову. Он был иезуитом и офицером космофлота, а потому научился не оспаривать приказы.
Отец Фаррелл попрощался и удалился.
Де Сойя несколько минут не мог прийти в себя. Естественно, простого священника, тем паче офицера космофлота, никто и никогда не посвящал в таинства ватиканской политики, но даже провинциалу была известна церковная иерархия Ватикана.
Ниже Папы в этой иерархии располагались администраторы — Римская Курия и так называемые Священные Конгрегации. Де Сойя знал, что Курия представляет собой достаточно громоздкую и весьма сложную структуру, «современную» форму которой придал еще в 1588 году от Рождества Христова Сикст Пятый. В состав Курии входил государственный секретариат, которым управлял кардинал Лурдзамийский, исполнявший обязанности премьер-министра (официальное название его должности — кардинал-секретарь — сбивало с толку непосвященных). Секретариат являлся центральным звеном образования, которое частенько именовали Старой Курией и на которое папы опирались с шестнадцатого века. Имелась также и Новая Курия, объединявшая первоначально шестнадцать подразделений и основанная Вторым Ватиканским собором — в просторечии Вторым Ватиканом, завершившимся в 1965 году нашей эры. На протяжении двухсот шестидесяти лет правления Папы Юлия количество подразделений увеличилось с шестнадцати до тридцати одного.
Однако де Сойю вызывали не в Курию, а в одно из наиболее самостоятельных и влиятельных подразделений, а именно — в Священную Конгрегацию доктрины веры. За минувшие два столетия Конгрегация приобрела — точнее, вернула — громадное влияние. Папа Юлий вновь стал префектом Конгрегации, что и привело к возрождению организации. На протяжении двадцати столетий, предшествовавших избранию Папы Юлия, Конгрегация — известная с 1908 по 1964 год как священная канцелярия — постепенно утрачивала могущество и в конце концов превратилась в едва ли не рудиментарный орган. Однако при Юлии власть священной канцелярии вновь окрепла и распространилась на территорию в пятьсот световых лет и на временной промежуток в три тысячелетия.
Де Сойя вернулся в свою комнату и оперся на кресло. Мысли путались. Он понимал, что до завтрашнего утра ему не позволят повидаться с Грегориусом и Ки. Вполне возможно, он никогда их больше не увидит. Интересно, что все это означает? Капитан попытался мысленно проследить дорожку, которая привела его к подобному исходу, но быстро запутался в хитросплетениях ватиканской политики и церковных интригах (для недавно воскрешенного сознания такая нагрузка была непосильной).
Достоверно де Сойя знал одно: Священная Конгрегация доктрины веры, ранее известная как священная канцелярия, до того на протяжении многих столетий именовалась священной вселенской инквизицией.
При Папе Юлии Четырнадцатом инквизиция стала действительно вселенской и вновь начала внушать страх. И завтра ему предстояло явиться на заседание, не имея ни представления о том, какие против него выдвинуты обвинения, ни возможности обратиться за помощью.
В комнату вошел отец Баджо, на круглом, как у херувима, лице которого играла улыбка.
— Тебе понравился отец Фаррелл, сын мой? Вы хорошо поговорили?
— Хорошо, — подтвердил де Сойя. — Просто замечательно.
— Отлично, — проговорил Баджо. — По-моему, пора выпить бульон, помолиться на сон грядущий — и спать. Что бы ни случилось завтра, мы должны отдохнуть, верно?
Глава 38
В детстве, слушая бабушку, которая могла цитировать стихи часами, я чаще всего требовал повторить одно стихотворение, начинавшееся со строк: «Кто говорит, мир в пламени исчезнет, а кто — во льду». Как звали автора, бабушка не помнила — ей казалось, это мог быть древний поэт по имени Фрост;[90] но даже в юном возрасте я сознавал, что суть стихотворения вовсе не в противоборстве огня и льда. Тем не менее картина гибели мира в огне или во льду сохранилась в моей памяти; она была такой же запоминающейся, как ритм стихотворения.
Моему миру, похоже, было суждено погибнуть во льду.
Под ледяной стеной царил мрак, а чтобы описать холод, у меня нет подходящих слов. Мне случалось гореть — однажды на барже, которая шла вверх по Кэнсу, взорвалась газовая плита, в результате чего я получил болезненные ожоги груди и рук; поэтому я знал, как опаляет пламя. Так вот, холод казался огнем, медленно, но верно выжигавшим плоть.
Течение вскоре развернуло меня головой назад и повлекло куда-то по темному ледяному колодцу. Я закрывал руками лицо, чтобы уберечься от порезов; веревка, другой конец которой удерживал оставшийся на плоту А.Беттик, в известной мере тормозила мое продвижение. Колени бились о неровный потолок пещеры… Короче, Рауля Эндимиона словно волокли по камням.
Перед тем как прыгнуть в реку, я надел носки, чтобы не порезать ступни, однако толку от них было мало; а белье ничуть не защищало от холода. На шее у меня болтался передатчик, на плече висел водонепроницаемый мешок с взрывчаткой, детонаторами, бикфордовым шнуром и двумя сигнальными ракетами, которые я положил в последний момент. На голове наушники, к запястью прикреплен фонарь с лазером… Узкий луч скользил по черной воде, отражался от ледяных стен. После полета сквозь гиперионский лабиринт этим фонарем я почти не пользовался (у других луч был шире, да и разряжались они медленнее), но теперь прихватил его по простой причине: с помощью лазера я выжгу во льду углубления, в которые помещу взрывчатку.
Если, конечно, раньше не прикажу долго жить.
Откровенно говоря, моя безумная затея имела едва ли не научное обоснование. Как-то новобранцев перебросили в учебный лагерь сил самообороны на Медвежьей Лапе Урсы. Рядом находилось Ледяное Море, лед в котором на протяжении короткого арктического лета таял и снова замерзал чуть ли не каждый день. Каждый из нас ежеминутно рисковал провалиться в воду. Поэтому нам настойчиво внушали, что даже подо льдом существует тонкая прослойка воздуха, отделяющая ледяную крышу от поверхности воды. Чтобы спастись, требовалось добраться до этой прослойки, выставить из воды хотя бы нос (если не получается высунуть голову целиком) и плыть, пока не обнаружится прорубь или подтаявший участок, который можно пробить рукой или ножом.
Такова была теория. Практика засвидетельствовала один-единственный случай применения этого способа. Спасательной партии, в состав которой включили и меня, приказали отыскать водителя, который, отойдя на пару метров от своего четырехтонного «скарабея», провалился под лед и больше не показывался. Наткнулся на него именно я. Бедняга, тело которого находилось метрах в шестистах от транспортера, пытался действовать по правилам — его нос был прижат ко льду (но разинутый рот, белое как снег лицо и остекленевшие глаза убеждали, что исполнение оказалось, мягко выражаясь, неудачным).
Я постарался отогнать малоприятные воспоминания и дернул за веревку, подавая А.Беттику условный сигнал: мол, пора остановиться, а потом рванулся вверх, надеясь отыскать воздух.
Мне повезло, толщина воздушной прослойки между потолком пещеры и водой составляла несколько сантиметров. Я некоторое время жадно хватал ртом студеный, обжигавший легкие воздух, затем осветил фонарем трещины в потолке, повел лучом вдоль туннеля.
— Со мной все в порядке, — пробормотал я в микрофон. — Просто решил передохнуть. Далеко я продвинулся?
— Метров на восемь, — ответил А.Беттик.
— Хреново. — Судя по всему, завал тянется метров на двадцать, если не больше. — Ладно, первый заряд поставлю здесь.
Как ни странно, пальцы рук еще не до конца утратили гибкость. Я включил на полную мощность лазер и выжег углубление в стенке одной из трещин. Придал пластиковой взрывчатке нужную форму, расположил ее соответствующим образом в углублении… Направление взрыва будет в точности таким, каким я пожелаю (если, разумеется, все сделать правильно). Поэтому я приготовил взрывчатку заблаговременно, прикинув, что взрыв следует направить вверх и назад, а сейчас лишь зафиксировал форму. По тому же принципу, по которому плазменный заряд прожигает стальную плиту, взрывчатка разорвет на куски ледяную стену у меня за спиной. Любопытно будет понаблюдать, как посыплются в реку осколки… Между прочим, мы шли на определенный риск: если атмосферные генераторы, которые использовали для терраформирования планеты, не успели выработать достаточно углекислоты и азота, произойдет такой взрыв… Ведь кругом чистый кислород.
Поскольку я точно знал, что мне нужно, на установку заряда ушло не более сорока пяти секунд. Не обращая внимания на бившую меня дрожь, я установил детонаторы на срабатывание по радиосигналу и только тогда пробормотал в микрофон:
— Отпускай.
Меня снова повлекло по ледяному туннелю, то затягивая все ниже, то прижимая к изрезанному трещинами потолку. В такие моменты я глотал воздух, приказывал А.Беттику натянуть веревку и принимался устанавливать заряды, теряя остатки тепла.
Протяженность завала составляла около сорока метров. Удачно — будь он толще, нам не помогла бы никакая взрывчатка. Я установил заряды в трещинах и в углублении, которое выжег в потолке пещеры. К тому времени мои пальцы окончательно онемели (словно я напялил плотные ледяные перчатки); тем не менее я установил последний заряд. А ведь мы с А.Беттиком собирались рубить лед топором. Интересно, хватило бы нас на несколько десятков метров?
Вынырнув в очередной раз, я наконец почувствовал приток свежего воздуха. Поначалу решил, что это все та же пещера, но, посветив фонарем вокруг, увидел, что здесь гораздо просторнее. Связался со своими спутниками; мы решили не взрывать заряды, если выяснится, что вторая пещера заканчивается тупиком. Я посветил на воду. Река расширялась метров до тридцати и круто сворачивала, скрываясь из виду. По крайней мере никаких преграждающих путь ледяных стен; впрочем, выходов на поверхность тоже не заметно.
Мне хотелось проверить, что там за поворотом, но не хватило бы, во-первых, веревки, а во-вторых, тепла: я попросту не сумею вернуться обратно живым.
— Вытаскивайте, — прохрипел я.
Следующие две минуты я буквально болтался на веревке, словно кукла, пока андроид тащил меня против чудовищного течения, время от времени останавливаясь и давая мне возможность глотнуть воздуха.
Если бы мы с А.Беттиком поменялись местами — или если бы мне нужно было вытянуть девочку, — у меня бы ничего не вышло. Я знал, что андроид силен, но до супермена ему далеко; однако, вытаскивая из-под ледяной стены Рауля Эндимиона, он выказал поразительную силу. Могу только догадываться, откуда он ее черпал и каким образом с такой скоростью вытащил меня обратно. Я старался помогать — отталкивался руками от стен, дрыгал ногами, будто пытаясь плыть.
Вынырнув, я увидел гало вокруг фонарей и фигуры своих спутников. Сил, чтобы взобраться на плот, не было и в помине. А.Беттик подхватил меня под мышки и втянул на палубу. Энея помогла андроиду перетащить едва живого приятеля на корму. Признаюсь, в тот миг мне почему-то вспомнилась католическая церковь в городке Латмос, на севере пустошей. Мы приходили в город за съестными припасами и снаряжением, а иногда, любопытства ради, заглядывали в церковь, на южной стене которой была такая фреска: Иисуса снимают с креста, один из апостолов поддерживает его под руки, а Дева Мария обнимает искалеченные ноги сына.
— Ты себе льстишь, — услышал я вдруг. Почему-то мысль эта была озвучена голосом Энеи.
На корме, на покрытой инеем палатке, лежало термоодеяло, под ним находились циновка и два спальника, а рядом светился нагревательный куб. А.Беттик снял с меня белье, вещмешок и фонарь с передатчиком, накинул мне на плечи одеяло, застегнул спальник и открыл медпакет. «Липучки» биомонитора присосались к моему телу на груди, на внутренней поверхности бедра, на запястье и на виске. Андроид сверился с показаниями монитора, а затем, как мы и планировали, ввел мне ампулу адренонитроталина.
«Ты наверняка устал», — хотелось мне сказать, но язык и голосовые связки пока категорически отказывались подчиняться. Я замерз настолько, что даже перестал дрожать. Сознание тускнело, оставалась лишь некая тонюсенькая ниточка, цеплявшаяся за свет фонарей; впрочем, и та грозила вот-вот порваться.
А.Беттик наклонился ко мне:
— Месье Эндимион, вы установили заряды?
Я кое-как исхитрился кивнуть. Мне почудилось, будто я управляю движениями неуклюжей марионетки.
Энея, опустившись на колени, сказала андроиду:
— Я послежу за ним. А ты займись делом.
А.Беттик оттолкнул плот от стены и, налегая на шест, повел его вверх по течению. Невероятно! Откуда у него столько сил?
Сквозь треугольное отверстие в пологе палатки я видел отблески фонарей и сверкающий ледяной потолок пещеры. Мимо медленно проплывали сталактиты и клубы пара; впечатление было такое, словно я гляжу в дырочку на девятый круг Дантова Ада[91].
Энея не сводила взгляда с монитора.
— Рауль, Рауль… — прошептала девочка.
Термоодеяло удерживало тепло, которое исходило от моего тела; правда, мне казалось, что никакого тепла нет и в помине. Тело промерзло до костей, чувства притупились настолько, что я практически ничего не ощущал. А еще — меня клонило в сон.
— Не спи, слышишь?! — воскликнула Энея, тряся меня за плечи.
«Попробую». Я знал, что лгу. Мне невыносимо хотелось спать.
— А.Беттик! — позвала девочка.
Я смутно осознавал происходящее. Кажется, андроид подошел, посмотрел на монитор и заговорил с Энеей. Их слова превратились в неразборчивое жужжание, утратили всякий смысл.
Внезапно, на миг возвратившись из своего далека, я сообразил, что рядом со мной находится чье-то теплое тело. А.Беттик вновь взялся за шест, а Энея заползла ко мне в спальник. Поначалу я не чувствовал ничего, кроме дыхания девочки на своем лице, кроме ее острых локтей и коленок.
«Нет! Не надо! — мысленно заявил я. — Ты не должна… Это мне поручили оберегать тебя…» Сонливость не позволила произнести хотя бы одно слово вслух.
Не помню, обняла ли она меня. Скорее всего я походил на обледенелое бревно или сталактит вроде тех, которые видел сквозь треугольное отверстие в стенке палатки: нижняя часть сверкает в свете фонарей, верхняя теряется во мраке и клубах пара.
Мало-помалу онемение начало проходить. На тех участках, где Энее удалось меня отогреть, тело словно кололи иголками. Я хотел было попросить, чтобы она отодвинулась и не мешала спать…
Некоторое время спустя — то ли пятнадцать минут, то ли два часа — в палатку вновь забрался А.Беттик. Я уже настолько пришел в себя, что догадался: андроид выполнил наш план — «закрепил» плот выше по течению с помощью шестов и рулевого весла в качестве распорок. Мы надеялись, что, когда взорвутся заряды, арка нуль-портала защитит нас от ледяных осколков.
«Взрывай», — мысленно проговорил я. Однако андроид поступил совершенно неожиданным образом. Разделся до белья и рубашки и забрался к нам в спальник.
Может быть, со стороны происходящее выглядело комично — и вы улыбаетесь, читая эти строки, — но никогда в жизни я не был настолько тронут. Даже рискованная «спасательная операция» на Безбрежном Море не вызвала у меня таких чувств… Мои друзья делились со мной теплом своих тел. Энея лежала слева, А.Беттик справа, съежившись от холода: ему достался лишь кусочек термоодеяла. Я сознавал, что через несколько минут заплачу от боли, которая придет, когда восстановится циркуляция крови, когда даст о себе знать обмороженная плоть, но в тот миг плакал от счастья. Девочка и андроид дарили мне живительное тепло.
Я плачу и сейчас, рассказывая об этом.
Не знаю, сколько мы так лежали. Я никогда не спрашивал, а они никогда не заговаривали сами. Наверно, не меньше часа. А мне тогда казалось, будто прошла целая вечность, наполненная теплом, болью и всепоглощающей радостью.
Постепенно я начал дрожать. Дрожь становилась все сильнее, как если бы со мной случился приступ эпилепсии. Друзья держали меня, не выпускали из теплых объятий. По-моему, Энея тоже плакала (правда, я впоследствии не стал уточнять, а она предпочитала помалкивать).
Наконец, когда боль слегка утихла, А.Беттик выбрался из-под одеяла, сверился с показаниями медпакета и заговорил с девочкой на языке, который я вновь был в состоянии понимать:
— Все огоньки зеленые. Серьезных обморожений не отмечено, внутренние органы не пострадали.
Вскоре после этого Энея выскользнула наружу и заставила меня сесть, подложив мне под спину и под голову два вещмешка. Поставила кипятиться воду, приготовила чай, поднесла к моим губам кружку с дымящейся жидкостью. (Я уже мог двигать руками и даже шевелить пальцами, однако движения еще доставляли нестерпимую боль.)
— Месье Эндимион, — сказал А.Беттик, присаживаясь на корточки рядом с палаткой, — я готов взорвать заряды. — Я кивнул. — Берегитесь осколков, сэр, — прибавил он.
Я снова кивнул. Мы уже обсуждали возможные последствия взрыва. Вибрация, возникшая вследствие взрывной волны, может обрушить в реку весь ледник. В таком случае плот окажется погребен на дне… Впрочем, как говорится, овчинка стоила выделки. Я поглядел на заиндевевший полог палатки и улыбнулся: какая надежная у нас защита! Потом кивнул в третий раз, как бы поторапливая андроида.
Раздался глухой рокот — я ожидал, что звук будет громче; его заглушил грохот, с каким начали падать в реку сталактиты и куски ледяной стены. Вода вскипела. На мгновение мне показалось, что волна подхватит нас и подбросит вверх, к самому потолку, где плот расплющит в лепешку. Мы как могли уворачивались от брызг и цеплялись за разъезжающиеся под ногами бревна словно потерпевшие крушение на спасательном плоту.
Наконец река успокоилась, рокот стих. Наши распорки не выдержали, плот вынесло из безопасной гавани и повлекло к ледяной стене.
Точнее, к тому месту, где когда-то возвышалась стена.
Заряды сработали, в точности как мы предполагали: во льду образовался узкий туннель с неровными стенами. Посветив фонарем, мы убедились, что он выводит в просторную пещеру, до которой я добрался вплавь. Энея радостно завопила. А.Беттик похлопал меня по спине. Мне стыдно в этом признаваться, но я снова заплакал.
Быстро выяснилось, что трудности еще не кончились. А.Беттику то и дело приходилось отпихивать шестом глыбы, которые несло течением, и лавировать между уцелевшими ледяными колоннами, а то и браться за топор.
Примерно через полчаса я встал, проковылял на нос и жестом показал андроиду, что теперь моя очередь размахивать топором.
— Вы уверены, месье Эндимион?
— Разу… меется… — выдавил я, усилием воли заставляя шевелиться язык.
Вскоре я согрелся настолько, что совсем перестал дрожать. В тех местах, где остались синяки и царапины, кожу изрядно саднило, но я решил потерпеть.
В конце концов мы пробились через все преграды и оказались на чистой воде. Поаплодировав друг другу, мы уселись возле нагревательного куба и принялись оглядываться по сторонам.
Пещера во многом напоминала ту, из которой мы только что выбрались: ледяные стены, сталактиты, готовые в любой момент свалиться на голову, бурлящая черная вода…
— Может, мы доберемся до портала, — мечтательно проговорила Энея. Пар изо рта девочки повис в воздухе этаким символом надежды.
Когда плот обогнул выступ, за который сворачивала река, мы встали. А.Беттик взял шест, я схватился за обломок весла, и вдвоем мы принялись отталкиваться от стены, в опасной близости от которой очутился плот. Но вот наше суденышко вернулось на середину реки и начало набирать скорость.
— Ой… — произнесла Энея, стоявшая на носу плота. Тон у девочки был такой, что мы сразу все поняли.
Метрах в шестидесяти впереди река сужалась и исчезала под ледяной стеной.
Использовать для разведки мой комлог предложила Энея.
— У него есть видеопередатчик, — сказала девочка.
— А где мы возьмем монитор? — поинтересовался я. — И потом, он же не может передавать изображение на корабль…
— Ну и что? Зато он сможет рассказать нам о том, что увидит.
— Понятно. — До меня наконец-то дошло. — А достаточно ли он умен, чтобы без помощи бортового компьютера сообразить, что именно видит?
— Может, спросим у него самого? — заметил А.Беттик, вынимая браслет из моего вещмешка.
Мы включили комлог и задали ему этот вопрос. Комлог все тем же памятным тоном, какого обычно придерживался в разговоре компьютер корабля, заверил, что способен обрабатывать визуальные данные и что его ничуть не затруднит передать нам результаты анализа. Правда, прибавил комлог, он не умеет плавать, зато полностью водонепроницаем.
Энея отсекла лазером конец одного бревна, с помощью гвоздей и шарнирных болтов закрепила на нем комлог, потом вбила крюк для веревки, которую завязала для верности двойным узлом.
— Жаль, что мы раньше про него не вспомнили, — сказал я.
Энея улыбнулась. С заиндевевшего козырька ее шапки свисали сосульки.
— Думаю, ему пришлось бы повозиться со взрывчаткой.
Я понял по ее голосу, что девочка смертельно устала.
— Удачи, — проговорил я, когда Энея опустила деревяшку на воду. Комлогу хватило такта промолчать. Почти мгновенно его затянуло под лед.
Мы перенесли нагревательный куб на нос плота и уселись вокруг. А.Беттик травил веревку. Я повернул до упора ручку громкости на приемнике. Никто из нас не проронил ни слова.
— Десять метров, — сообщил сухой, механический голос. — Трещины в потолке не шире шести сантиметров. Ледяное поле продолжается.
— Двадцать метров. Лед.
— Пятьдесят метров. Лед.
— Семьдесят пять метров. Конца не видно.
— Сто метров. Лед. — «Привязь» комлога оказалась слишком короткой. Пришлось использовать последний моток веревки.
— Сто пятьдесят метров. Лед.
— Сто восемьдесят метров. Лед.
— Двести метров. Лед.
Веревка закончилась, надежда иссякла. Я начал вытягивать комлог. Несмотря на то что мои руки отогрелись и пришли, если можно так выразиться, в рабочее состояние, я с громадным трудом тащил почти невесомый браслет — настолько сильным было течение, настолько отяжелела обледеневшая веревка. Оставалось лишь снова восхититься силой А.Беттика, сумевшего вытянуть меня из-под первой ледяной стены.
Веревка промерзла до такой степени, что не желала сворачиваться. А комлог, когда он очутился на борту, пришлось буквально вырубать изо льда.
— Хотя на холоде мои батареи разряжаются гораздо быстрее, а лед на объективе мешает обзору, — чирикнул комлог, — я готов продолжить исследования.
— Спасибо, не надо, — вежливо ответил А.Беттик. Андроид выключил прибор и протянул его мне. Металл обжигал кожу даже сквозь рукавицы. Я не столько опустил, сколько уронил браслет в мешок.
— Взрывчатки не хватит и на пятьдесят метров, — сказал я. Мой голос ничуть не дрожал. Я вдруг понял, что мое странное спокойствие объясняется очень просто: нам только что вынесли смертный приговор, исполнение которого мы не можем предотвратить.
Теперь я понимаю, что была и другая причина. Этакий оазис покоя в пустыне боли и отчаяния… Я разумею тепло. То тепло, которым поделились со мной друзья, которое я принял с благодарностью и едва ли не с благоговением.
Сакральное причащение дружескому теплу. При свете фонарей мы обсуждали самые невероятные пути к спасению — например, пробить туннель выстрелами из плазменной винтовки, — отвергали их один за другим и тут же предлагали новые. И все это время я ощущал, как от моих друзей исходит тепло, придающее уверенность в собственных силах, внушающее спокойствие, прогоняющее чувство безнадежности. Впоследствии, когда наступили тяжелые времена, память о разделенном тепле жизни помогала мне совладать со страхом и обрести надежду — помогает даже теперь, когда я пишу эти строки и вот-вот вдохну исподволь проникший в мою тюремную камеру цианид.
Мы решили отвести плот назад. Быть может, в рукотворном туннеле обнаружится какая-нибудь достаточно широкая трещина… Затея казалась нелепой и не внушала оптимизма, однако сдаваться раньше времени никому из нас не хотелось.
Трещина шириной приблизительно в метр находилась сразу за выступом, у которого река делала поворот. Мы не заметили ее потому, что были слишком заняты — отталкивались шестами от стен, стремясь как можно скорее выбраться на середину потока. Впрочем, без фонаря мы бы не нашли ее и сейчас: луч отразился от стены и упал как раз на трещину. Здравый смысл подсказывал, что рассчитывать особенно не на что — по всей вероятности, она, как и все прочие, закончится тупиком. Однако надежда на спасение оказалась сильнее логики здравого смысла.
От поверхности воды до трещины было около двух метров. Подведя плот поближе, мы убедились, что трещина то ли и впрямь заканчивается тупиком, то ли сворачивает в сторону. Снова вмешался здравый смысл, и снова мы не обратили на него ни малейшего внимания.
Энея налегла на шест, удерживая плот на месте. А.Беттик подсадил меня. Я вонзил в лед молоток и подтянулся; отчаяние придало мне сил. Встав на четвереньки в трещине, я перевел дыхание, поднялся и помахал рукой своим спутникам. Они остались ждать, а я двинулся дальше.
Туннель резко свернул вправо и пошел вверх. Я посветил фонарем. Луч отразился от преграждавшей путь стены. Выходит, все-таки тупик… Нет, погоди. Я кое-как протиснулся в узкое отверстие. Свет фонаря дробился в бесчисленных ледяных гранях. Какое-то время спустя пришлось лечь на живот и ползти. Башмаки скребли по льду. Мне вспомнился безлюдный магазин в Новом Иерусалиме, где я «приобрел» эти башмаки — оставив взамен на прилавке больничные шлепанцы и пригоршню гиперионских банкнот. Интересно, а не было ли там «кошек»? Какая разница? Не возвращаться же за ними, в самом деле…
Коридор вновь повернул, на сей раз влево. За поворотом метров двадцать он шел прямо, а затем снова забирал вверх и сворачивал. Я пополз обратно, задыхаясь от усталости и волнения. В ледяных стенах, как в зеркале, отражалась моя возбужденная физиономия.
Энея с А.Беттиком не теряли времени даром: как только я скрылся в трещине, они принялись собирать вещи. Я обнаружил, что девочка уже наверху, а андроид передает ей с плота необходимое снаряжение. Попутно продолжалось обсуждение, что стоит брать, а что — нет. Я тоже принял в нем живейшее участие. Необходимым казалось буквально все — спальники, термоодеяло, палатка, нагревательный куб, провизия, инерционный компас, оружие, фонари… К сожалению, из-за того, что все вещи покрылись толстым слоем инея, чтобы упаковать их, требовалось больше места, чем обычно.
В конце концов, вдосталь намахавшись руками, мы решили оставить большинство вещей на плоту. Поспорили еще минуту-другую, потом отобрали самое необходимое и то, что влезало в мешки. Я сунул в кобуру пистолет и запихнул в мешок сложенную пополам плазменную винтовку. А.Беттик согласился взять дробовик; запасные обоймы он упаковал в свой и так уже битком набитый мешок. По счастью, вся одежда была на нас, поэтому мы сумели взять всю провизию. Передатчик и приемник распределили между собой девочка и андроид, я нацепил на запястье обледенелый комлог. Мало ли что, вдруг мы разбредемся в разные стороны…
Меня беспокоило то, что плот может унести течением (мы уже убедились, что шесты и обломок весла — не слишком надежный крепеж). А.Беттик выжег в ледяной стене сквозное отверстие и пропустил через него веревку, концы которой закрепил на корме и на носу плота.
Прежде чем тронуться в путь, я бросил прощальный взгляд на наш верный плот. Почему-то мне казалось, что больше мы его не увидим. Окутанный клубами пара, он представлял собой жалкое зрелище: сломанное весло, обрубок мачты с фонарем, стесанные по бокам ледяными гранями бревна, нос слегка погружен в воду, повсюду иней… Я кивнул, как бы говоря плоту «до свидания», повернулся и повел своих друзей по коридору в толще льда. Мешок вскоре пришлось перевесить на грудь, чтобы не цеплялся за потолок и не затруднял движение.
Я боялся, что в нескольких метрах от того места, до которого я добрался, коридор закончится тупиком. Но прошло полчаса — мы то шли, то ползли, то скользили под уклон, — а он и не думал заканчиваться. Несмотря на то что нам было жарко, мы ни на секунду не забывали о стуже. Рано или поздно придется остановиться, расстелить циновки и спальные мешки… Если уснем, то наверняка не проснемся. Ладно, поглядим.
Я передал друзьям по плитке шоколада, очистил ото льда одну из фляжек, включив свой лазер, и сказал:
— Осталось немного.
— До чего? — спросила Энея. — До поверхности еще далеко. Или ты думаешь, что…
— Нас наверняка ожидает что-то интересное. — Пар, вырвавшийся у меня изо рта, осел ледяной коркой на воротнике и на подбородке. С бровей свисали сосульки.
— Интересное, — с сомнением в голосе повторила девочка. Я понял, что она имела в виду. До сих пор весь «интерес» заключался в том, что нас беспрерывно пытались прикончить.
Около часа спустя мы включили куб, которым надлежало пользоваться с осторожностью, чтобы он не растопил под собой лед и не провалился неизвестно куда, и подогрели еду. Я взял в руки инерционный компас, решив уточнить, как далеко мы ушли и насколько высоко забрались. Внезапно А.Беттик произнес:
— Тихо!
Мы затаили дыхание.
— Что такое? — прошептала Энея. — Я ничего не слышу.
Просто удивительно, что, несмотря на все одежды, на шарфы и шапки, мы слышали друг друга, разговаривая нормальными голосами и даже шепотом.
А.Беттик нахмурился и поднес палец к губам, призывая к тишине, а потом проговорил:
— Шаги. Они приближаются к нам.
Глава 39
Центр дознаний Священной Римской канцелярии находился не в самом Ватикане, а в массивной старинной крепости, называвшейся замок Святого Ангела. Первоначально то была гробница императора Адриана; ее воздвигли в 135 году нашей эры, а в 271 году подвели к ней Стену Аврелия. Замок стал самой грозной римской крепостью. Когда Церковь покидала Старую Землю, незадолго до того как планета провалилась в черную дыру, это здание было эвакуировано наряду с базиликой Святого Петра и некоторыми другими. Славу замок приобрел в Чумной Год, 587-й от Рождества Христова, когда Папе Григорию Великому, который возглавлял крестный ход, призванный умолить Господа покончить с чумой, явился у гробницы Адриана архангел Михаил. Впоследствии замок Святого Ангела укрывал пап от разъяренной толпы, в его подземельях и пыточных камерах томились столь известные враги Церкви, как Бенвенуто Челлини. За без малого три тысячи лет своего существования замок не смогли уничтожить ни орды варваров, ни ядерные бомбы. Он возвышался серым холмом посреди единственного свободного участка земли в окружении шоссе и различного рода сооружений, являясь как бы ступицей колеса, спицы которого составляли Ватикан, штаб-квартира Ордена и космопорт.
Капитан отец де Сойя появился в замке за двадцать минут до назначенного срока и получил пропуск, позволявший свободно передвигаться по душным, лишенным окон коридорам и помещениям. Фрески, украшавшие когда-то стены, давным-давно поблекли, на изысканную мебель и изящные балконы, возведенные в средние века, всем, похоже, было наплевать. Замок Святого Ангела вновь превратился в крепость. Де Сойя знал, что от замка к Ватикану, как было на Старой Земле, тянется подземный ход с укрепленными сводами и что за минувшие двести лет священная канцелярия постаралась наполнить арсеналы замка современным оружием и постоянно совершенствовала систему обороны, чтобы Папе было где укрыться, если на Пасем нападут враги.
Путешествие по коридорам заняло двадцать минут. Чуть ли не на каждом шагу де Сойю останавливали охранники, требовавшие предъявить документы. Охраняли замок не швейцарские гвардейцы в их ярких, праздничных нарядах, а облаченные в черные с серебром мундиры сотрудники службы безопасности священной канцелярии.
Камера для допросов производила гораздо менее угнетающее впечатление, нежели лестницы с коридорами: две из трех каменных стен скрывали светившиеся желтым панели, сверкали люм-шары, получавшие энергию от солнечной батареи на крыше замка; обстановку комнаты составляли стол и шесть стульев, отличавшихся друг от друга только тем, что один стоял перед столом, а остальные — за ним; кроме того, у стены возвышался офисный комплекс со множеством клавиатур, мониторов и нейрошунтов, а рядом примостился буфет с кофейником и посудой.
Минуту спустя появились инквизиторы. Кардиналы, один из которых был иезуитом, второй доминиканцем, а трое принадлежали к Легионерам Христа, представились и поочередно протянули руки. Офицерский мундир де Сойи с высоким воротником являл собой разительный контраст алым сутанам с черной каймой вдоль воротника. Кто-то поинтересовался, как здоровье де Сойи, как он себя чувствует после воскрешения, кто-то предложил кофе, от которого капитан не отказался. Потом все заняли свои места.
По традиции, унаследованной от инквизиции былых времен, допрос священника вели на латыни. Говорил только один из пяти инквизиторов. Вопросы были вежливыми и задавались в третьем лице. По окончании допроса подследственному вручили протоколы — на латыни и на сетевом английском.
ИНКВИЗИТОР: Может ли капитан отец де Сойя сообщить, что успешно выполнил порученное ему задание — найти и переправить на Пасем девочку по имени Энея?
ДЕ СОЙЯ: Мне удалось установить контакт с девочкой, но задержать ее я не сумел.
ИНКВИЗИТОР: Пусть капитан объяснит, что он имеет в виду под словом «контакт».
ДЕ СОЙЯ: Я дважды перехватывал корабль, на котором девочка покинула Гиперион. Первый раз это случилось в системе Парвати, второй — у Возрождения-Вектор.
ИНКВИЗИТОР: Сведения об этих неудачных попытках задержать девочку содержатся в представленных документах. Уверен ли капитан, что девочка успела бы наложить на себя руки до того, как специально обученные швейцарские гвардейцы проникли бы на корабль?
ДЕ СОЙЯ: В то время я был уверен. Мне показалось, что риск неоправданно велик.
ИНКВИЗИТОР: Хотелось бы узнать у капитана, согласился ли с его действиями старший по званию швейцарский гвардеец на борту, а именно сержант Грегориус?
ДЕ СОЙЯ: После того как попытка закончилась неудачей, я не спрашивал мнения сержанта Грегориуса. В ходе операции он выразил несогласие с моим приказом.
ИНКВИЗИТОР: Известно ли капитану мнение двух других солдат, находившихся на борту?
ДЕ СОЙЯ: Они все настаивали на продолжении операции, к которой долго готовились. Но я посчитал, что мы не можем рисковать.
ИНКВИЗИТОР: Возможно, капитан не перехватил вражеский корабль до того, как тот вошел в атмосферу планеты Возрождение-Вектор, руководствуясь схожими мотивами?
ДЕ СОЙЯ: Нет. Девочка заявила, что корабль идет на посадку. Я решил, что это ни в коей мере не может помешать осуществлению нашего плана.
ИНКВИЗИТОР: Тем не менее, когда вышеупомянутый корабль приблизился к старинному нуль-порталу, капитан приказал открыть по нему огонь. Правильно?
ДЕ СОЙЯ: Да.
ИНКВИЗИТОР: Разве подобный приказ не ставил под угрозу жизнь девочки?
ДЕ СОЙЯ: Я отдавал себе отчет в том, чем рискую. Но когда я понял, что корабль девочки направляется к порталу, мне стало ясно, что, если ничего не предпринять, мы ее упустим.
ИНКВИЗИТОР: Знал ли капитан, что нуль-портал, бездействовавший почти три столетия, неожиданно заработает?
ДЕ СОЙЯ: Нет. Это было озарение. Наитие.
ИНКВИЗИТОР: По-видимому, у капитана привычка ставить под угрозу выполнение ответственного задания, одобренного, кстати сказать, Его Святейшеством, из-за, как он выражается, наития?
ДЕ СОЙЯ: Дело в том, что мне еще не доводилось выполнять ответственные задания, одобренные Его Святейшеством. Когда я командовал отрядом боевых кораблей, мне приходилось принимать решения, которые вряд ли показались бы обоснованными постороннему человеку, не обладающему моим опытом и знаниями.
ИНКВИЗИТОР: Капитан хочет сказать, что обладает опытом и знаниями, необходимыми для того, чтобы предвидеть, что портал на Возрождении-Вектор заработает через двести семьдесят четыре года после Падения, уничтожившего Великую Сеть?
ДЕ СОЙЯ: Нет. Это было… наитие.
ИНКВИЗИТОР: Сознает ли капитан, каких расходов потребовала операция у планеты Возрождение-Вектор?
ДЕ СОЙЯ: Я знаю, что расходы были значительными.
ИНКВИЗИТОР: Сознает ли капитан, что некоторые корабли были отозваны с выполнения боевых заданий? Что они направлялись к так называемой Великой Стене, где флот Ордена отражает набеги Бродяг?
ДЕ СОЙЯ: Да, я сознаю, что эти корабли были отозваны по моему настоянию.
ИНКВИЗИТОР: На планете Безбрежное Море капитан счел необходимым арестовать нескольких офицеров Ордена.
ДЕ СОЙЯ: Да.
ИНКВИЗИТОР: А также применить «сыворотку правды» и другие запрещенные к широкому применению наркотические средства к этим офицерам, не поинтересовавшись мнением представителей Ордена и Церкви на планете Безбрежное Море.
ДЕ СОЙЯ: Да.
ИНКВИЗИТОР: Уверен ли капитан, что папский диск, наделивший его особыми полномочиями для поисков девочки, позволяет ему также арестовывать офицеров Ордена и допрашивать их без согласия местных властей и в нарушение установленной законом процедуры?
ДЕ СОЙЯ: Да. Я убежден, что папский диск дает… давал мне полномочия на принятие решений, которые я сочту необходимыми для осуществления своей миссии.
ИНКВИЗИТОР: Пусть капитан объяснит, каким образом арест офицеров Ордена мог помочь в задержании девочки по имени Энея.
ДЕ СОЙЯ: Их следовало допросить, чтобы выяснить правду о событиях, сопровождавших возможное появление девочки на планете Безбрежное Море. В ходе расследования стало ясно, что управляющий платформой, на которой разворачивались события, обманывает старшего по званию и скрывает факты, относящиеся к одному из спутников девочки, а также поддерживает преступную связь с местными браконьерами. По завершении расследования я передал виновных из числа офицеров Ордена командованию гарнизона, как предписывается уставом караульной службы.
ИНКВИЗИТОР: Считает ли капитан, что его действия в отношении епископа Меландриано оправданы с точки зрения… расследования?
ДЕ СОЙЯ: Несмотря на то что я не раз объяснял ему, насколько важно провести расследование в сжатые сроки, епископ Меландриано всячески препятствовал моим действиям на станции триста двадцать шесть в Срединном Течении. Сначала он пытался вредить на расстоянии, невзирая на прямой приказ высшего духовного лица планеты, архиепископа Джейн Келли.
ИНКВИЗИТОР: Капитан утверждает, что архиепископ Келли сама предложила свою помощь в… гм… устранении епископа Меландриано?
ДЕ СОЙЯ: Нет. Мне пришлось ее попросить.
ИНКВИЗИТОР: Возможно, капитан принудил архиепископа Келли к сотрудничеству, сославшись на полномочия, которые предоставлял ему папский диск?
ДЕ СОЙЯ: Да.
ИНКВИЗИТОР: Может ли капитан рассказать, что произошло на станции триста двадцать шесть после того, как туда прибыл епископ Меландриано?
ДЕ СОЙЯ: Он был в ярости. Приказал солдатам, которые охраняли арестованных…
ИНКВИЗИТОР: Под «арестованными» капитан имеет в виду бывшего управляющего и других офицеров?
ДЕ СОЙЯ: Да.
ИНКВИЗИТОР: Капитан может продолжать.
ДЕ СОЙЯ: Епископ Меландриано приказал освободить из-под стражи капитана Поула и всех остальных. Когда я отменил его приказ, он заявил, что папский диск не дает мне на самом деле никаких прав. Я арестовал епископа, через несколько дней, когда утих шторм, отправил в иезуитский монастырь, расположенный на платформе в шестистах километрах от южного полюса планеты. К тому времени, когда он наконец отбыл, расследование было завершено.
ИНКВИЗИТОР: И что же оно показало?
ДЕ СОЙЯ: В частности, выяснилось, что епископ Меландриано получал крупные суммы наличными от местных браконьеров. Кроме того, епископ был осведомлен о преступной деятельности управляющего платформой и даже руководил его действиями.
ИНКВИЗИТОР: Слышал ли эти обвинения в свой адрес епископ Меландриано?
ДЕ СОЙЯ: Нет.
ИНКВИЗИТОР: Сообщил ли капитан о результатах расследования архиепископу Келли?
ДЕ СОЙЯ: Нет.
ИНКВИЗИТОР: Связался ли капитан с командованием гарнизона?
ДЕ СОЙЯ: Нет.
ИНКВИЗИТОР: Может ли капитан объяснить, почему он пренебрег требованиями устава караульной службы, а также правилами Церкви и Общества Иисуса?
ДЕ СОЙЯ: Меня не интересовало, замешан епископ в преступных махинациях или его водят за нос. Капитана Поула и других офицеров я передал начальнику гарнизона, зная, что расследование в полном соответствии с уставом будет честным и надолго не затянется. А в случае с епископом… Если бы я подал жалобу в гражданский суд или в церковный, то застрял бы на Безбрежном Море на несколько недель, если не месяцев. Такой роскоши я себе позволить не мог. Перехватить девочку было гораздо важнее, чем засудить епископа Меландриано.
ИНКВИЗИТОР: Капитан отдает себе отчет в серьезности обвинений, которые выдвигает против епископа римской католической церкви?
ДЕ СОЙЯ: Отдаю.
ИНКВИЗИТОР: Что заставило капитана отказаться от намеченного плана поисков и направить авизо «Рафаил» к захваченной Бродягами планете Хеврон?
ДЕ СОЙЯ: Наитие.
ИНКВИЗИТОР: Пусть капитан объяснит подробнее.
ДЕ СОЙЯ: Я не знал, куда портал на Возрождении-Вектор отправил девочку. Логика подсказывала, что они наверняка бросят корабль и воспользуются другим транспортным средством — возможно, ковром-самолетом, а скорее всего лодкой или плотом. Сведения, полученные как до инцидента на Безбрежном Море, так и в ходе расследования, указывали на контакты девочки с Бродягами.
ИНКВИЗИТОР: Подробнее, пожалуйста.
ДЕ СОЙЯ: Во-первых, корабль. Частный космический корабль, построенный во времена Гегемонии, один из немногих частных звездолетов, когда-либо сходивших со стапелей. Между тем этот корабль очень похож на тот, которым владел перед Падением некий Консул. Впоследствии его обессмертили в эпической поэме под названием «Песни», принадлежащей перу поэта Мартина Силена, принимавшего участие в последнем паломничестве на Гиперион. В «Песнях» Консул признается в том, что предал Гегемонию и шпионил в пользу Бродяг.
ИНКВИЗИТОР: Капитан может продолжать.
ДЕ СОЙЯ: Имелись и другие доказательства. Я отправил сержанта Грегориуса на Гиперион с приказом найти личные данные человека, который сопровождает девочку. У нас были образцы крови, мышечной ткани и ДНК… Этот человек оказался Раулем Эндимионом, уроженцем планеты Гиперион, когда-то служившим в гиперионских силах самообороны. Слово «Эндимион» имеет отношение к произведениям… э-э… отца девочки — гнусного кибрида Китса. Мы снова возвращаемся к «Песням»…
ИНКВИЗИТОР: Пусть капитан продолжает.
ДЕ СОЙЯ: И еще одно. Летательный аппарат, на котором Рауль Эндимион, впоследствии, возможно, убитый, бежал с платформы…
ИНКВИЗИТОР: Капитан сказал «возможно»? Все свидетели, находившиеся в тот момент на верхней палубе платформы, утверждают, что подозреваемый был застрелен и упал в море.
ДЕ СОЙЯ: Еще раньше в море упал лейтенант Белиус, кровь которого, как ни странно, обнаружилась на ковре-самолете. Ковер буквально пропитан кровью, но лишь малая толика ее принадлежит Раулю Эндимиону. Я считаю, что либо Эндимион попытался спасти лейтенанта Белиуса, либо тот каким-то образом застал его врасплох; между ними началась борьба, Рауль Эндимион был ранен и упал в море до того, как часовые открыли огонь. Мне кажется, они убили лейтенанта Белиуса.
ИНКВИЗИТОР: Располагает ли капитан, за исключением образцов крови и мышечной ткани, какими-либо доказательствами того, что Рауль Эндимион мог убить лейтенанта Белиуса?
ДЕ СОЙЯ: Нет.
ИНКВИЗИТОР: Капитан может продолжать.
ДЕ СОЙЯ: С вашего разрешения я вернусь к ковру-самолету. Экспертиза показала, что по возрасту ковер вполне может оказаться тем самым, которым пользовались на планете Мауи-Обетованная Мерри Аспик и Сири. Тем самым вновь обнаруживается связь с последним паломничеством на Гиперион и «Песнями» Силена.
ИНКВИЗИТОР: Капитан может продолжать.
ДЕ СОЙЯ: Это все. Я предполагал, что в пространстве Хеврона нам ничто не угрожает. Бродяги нередко бросают захваченные планеты. По всей видимости, на сей раз наитие меня подвело. Мало того, оно стоило жизни стрелку Реттигу, чего мне искренне жаль.
ИНКВИЗИТОР: Итак, капитан убежден, что успешное завершение расследования, на которое затрачено столько сил и средств и которое причинило столько неудобств епископу Меландриано, связано с поэмой под названием «Песни», а через нее, вероятно, с Бродягами?
ДЕ СОЙЯ: В общем… да.
ИНКВИЗИТОР: А известно ли капитану, что поэма «Песни» более полутора столетий назад включена в индекс запрещенных книг?
ДЕ СОЙЯ: Известно.
ИНКВИЗИТОР: Капитан признает, что читал ее?
ДЕ СОЙЯ: Признаю.
ИНКВИЗИТОР: Помнит ли капитан о том, какое наказание ожидает члена Общества Иисуса, сознательно прочитавшего запрещенную книгу?
ДЕ СОЙЯ: Изгнание из Общества.
ИНКВИЗИТОР: А помнит ли капитан, какова самая суровая кара из налагаемых в соответствии с Каноном Мира и Справедливости на тех священников, которые сознательно читают запрещенные книги?
ДЕ СОЙЯ: Отлучение.
ИНКВИЗИТОР: Капитан может идти. Он должен оставаться в отведенном ему помещении до тех пор, пока его не вызовут на следующее заседание. Брат во Христе, храни верность нашей святой католической апостольской римской церкви, во славу которой все наши деяния. Будь верен Иисусу.
ДЕ СОЙЯ: Благодарю вас, достопочтенные святые отцы. Буду ожидать вашего решения.
Глава 40
В обществе чичатуков мы провели на Седьмой Дракона три недели. Отдыхали, набирались сил, бродили по ледяным туннелям, учились чужому языку, навещали отца Главка[92] в его замурованном городе, охотились на арктических призраков и уносили от них ноги, а затем отправились на поиски портала. Этот поход обернулся катастрофой…
Но я забегаю вперед. Ничуть не удивительно: ведь с каждой секундой вероятность того, что я вот-вот вдохну цианид, неуклонно возрастает. Ну и ладно, мой рассказ оборвется там, где меня настигнет смерть, но не раньше, а рассказывать я буду по порядку, последовательно и обстоятельно.
Первая встреча с чичатуками едва не закончилась трагедией. Мы притушили фонари и съежились во мраке. Я взял на изготовку плазменную винтовку. Вдалеке мелькнул огонек, потом из-за поворота показались странные фигуры. Я посветил фонарем, и моим глазам предстало ужасное зрелище: к нам приближались чудовища — тела покрыты густым белым мехом, на лапах черные когти, каждый длиной с мою руку; острые белые зубы, налитые кровью глаза… Они двигались в облаке пара. Я приложил к плечу винтовку и установил переключатель на стрельбу очередями.
— Не стреляй! — воскликнула Энея. — Это люди!
Голос девочки остановил не только меня. Чичатуки, заметив нас, извлекли из-под складок белого меха длинные копья с костяными наконечниками. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что лишь вмешательство Энеи позволило избежать кровопролития.
Я различил под меховыми капюшонами бледные лица — широкоскулые, морщинистые, но вполне человеческие — и опустил фонарь, чтобы свет не бил чичатукам в глаза.
Крепыши, привычные к силе тяжести в 1,7g, чичатуки выглядели еще более внушительно в своих одеждах из шкур арктических призраков. Мы скоро узнали, что каждый из них носит переднюю часть шкуры животного вместе с головой: черные когти призраков закрывают руки, а морда с зубами опускается на лицо подобием забрала. Нам также сообщили, что глазные хрусталики призраков — даже лишенные тех зрительных нервов, что позволяют чудовищам видеть в полной темноте, — чичатуки используют в качестве примитивных очков ночного видения. Практически все, чем располагали чичатуки, доставалось им от призраков: костяные копья, кнуты из кишок и сухожилий, бурдюки из внутренних органов, спальники, одежды, матрацы, костяная жаровня в форме митры, чаша с воронкой — в ней плавили лед… При первой встрече мы, естественно, не догадывались, что тела чичатуков выглядят столь крупными из-за спрятанных под одеждой бурдюков: таким способом они согревали жидкость, не давая той замерзнуть.
Минуты полторы мы молча таращились друг на друга, затем Энея сделала шаг вперед, а ей навстречу шагнул чичатук, которого, как выяснилось впоследствии, звали Кучиат. Он заговорил первым. Мы ничего не поняли. Его речь напоминала стук, с каким падают на твердую поверхность сосульки.
— Прошу прощения, но я ничего не понимаю, — сказала Энея.
Она повернулась к нам. Мы с А.Беттиком переглянулись.
— Узнаешь язык? — спросил я. Сетевой английский был для меня настолько привычным, что, услышав незнакомую речь, я испытал нечто вроде шока. Если верить охотникам, прилетавшим на Гиперион с других планет, даже через три столетия после Падения большинство людей говорили именно на сетевом…
— Нет, — ответил А.Беттик. — Месье Эндимион, вы не хотите использовать комлог?
Я кивнул, сунул руку в мешок и достал браслет. Чичатуки настороженно наблюдали за моими действиями, переговариваясь между собой и не выпуская из рук оружия. Впрочем, когда я поднес браслет к глазам, они слегка расслабились.
— Ожидаю ваших распоряжений, — сообщил обледенелый комлог.
— Слушай, — сказал я, когда Кучиат заговорил снова. — Можешь перевести? — Между тем чичатук произнес, судя по тону, весьма решительную тираду. — Ну?
— Этот язык или диалект мне незнаком, — отозвался комлог. — Зато я знаю несколько языков Старой Земли, включая досетевой английский, немецкий, французский, голландский, японский…
— Хватит, — перебил я. Чичатуки глазели на бормочущий браслет, однако во взглядах из-под зубастых морд не было суеверного страха — только любопытство.
— Предлагаю не выключать меня в течение нескольких недель — или месяцев, если понадобится, — продолжал комлог. — Я проанализирую данный язык и создам базу данных, на основе которой сконструирую минимальный словарь. Кроме того…
— Большое спасибо. — Я выключил прибор.
Энея сделала еще один шаг навстречу Кучиату и постаралась объяснить жестами, что мы замерзли и устали. Потом показала, что мы хотим есть, изобразила, как накрывается одеялом и засыпает.
Кучиат что-то пробурчал и принялся совещаться со своими спутниками. В ледяном туннеле чичатуков было семеро; впоследствии мы узнали, что число членов того или иного отряда обязательно должно быть простым. Переговорив с каждым из своих людей в отдельности, Кучиат бросил нам какую-то фразу, повернулся спиной и сделал знак следовать за ним.
Дрожа от холода, сгибаясь под непривычной силой тяжести, напрягая зрение, чтобы разглядеть хоть что-нибудь в тускло освещенном факелами туннеле (фонари мы выключили, чтобы не сажать батареи), мы направились за Кучиатом. По дороге я то и дело сверялся с нашим инерционным компасом.
Чичатуки оказались людьми щедрыми. Каждый из нас получил шкуру призрака в качестве одежды, а кроме этого — шкуры, чтобы укрываться во время сна, похлебку, воду и полное доверие. Мы узнали, что между собой чичатуки не враждуют. Им даже не приходило в голову, что один человек может убить другого. Они единственные из обитателей Седьмой Дракона пережили Падение, опустошительную чуму и нашествие призраков. Что касается последних, тут наблюдалась любопытная зависимость: существование чичатуков зависело от призраков, а призраки питались исключительно чичатуками. Впрочем, больше питаться все равно было нечем: иные формы жизни исчезли после Падения, а чичатуки выжили — ведь они обитали на Седьмой Дракона едва ли не тысячу лет.
Первые дни мы отсыпались, отъедались и пытались понять друг друга. У чичатуков не было постоянных поселений: они обычно разбивали лагерь, на несколько часов засыпали, потом собирали вещи и вновь отправлялись в путь по лабиринту туннелей. Растапливая лед — пищу они почему-то ели сырой, хотя огнем пользоваться умели, — чичатуки подвешивали жаровню к потолку туннеля, чтобы не оставлять промоину в полу.
В племени — клане или, если хотите, шайке — насчитывалось двадцать три человека; поначалу было трудно понять, есть ли среди них женщины. Казалось, чичатуки носят меховые одежды не снимая, лишь приподнимают, чтобы не запачкать, когда справляют естественные потребности. Но на третьей стоянке мы убедились, что женщины есть — одна из них, по имени Чатчиа, занималась любовью с Кучиатом.
Мало-помалу, следуя за чичатуками по сумрачным ледяным туннелям, мы начали различать их в лицо и запоминать имена. Кучиат, несмотря на зычный голос, был человеком добродушным; когда он улыбался, его лицо словно светилось в полумраке. Чиаку, помощник вождя, был самым высоким в отряде и носил шкуру с засохшим пятном крови (нам сказали, что это знак отличия). Недоверчивый Айчакут норовил держаться от нас подальше, но я частенько ловил на себе его взгляд. Если бы той группой, с которой мы столкнулись в туннеле, командовал он, стычки, по-моему, избежать не удалось бы при всем желании.
Кучту был кем-то вроде знахаря; когда все спали, он бродил по туннелям, бормоча заклинания и прижимая ко льду ладони. Наверно, отгонял злых духов. Энея, правда, с кривой усмешкой заметила, что он, вполне возможно, пытается сделать то, что не получилось у нас — найти выход из ледяного лабиринта.
Чичтику явно гордился тем, что ему выпала честь носить жаровню с угольями. Эти уголья представляли собой загадку: они тлели на протяжении нескольких недель. В чем тут дело, мы узнали, только когда встретились с отцом Главком.
Детей в отряде не было. Определить же возраст тех чичатуков, с которыми мы познакомились достаточно близко, представлялось затруднительным. Кучиат был явно старше большинства соплеменников — его лицо покрывала густая сетка морщин, начинавшихся от переносицы; однако, с кем бы мы ни заговаривали, никто не сумел ответить, сколько ему лет. Впрочем, в Энее с первого взгляда определили подростка и обращались с ней соответственно. Как мы заметили, женщины чичатуков ни в чем не уступали мужчинам — как и те, охотились и охраняли лагерь. Так вот, нам с А.Беттиком доверили почетную обязанность стоять на часах, а девочке не стали даже предлагать. Тем не менее чичатукам нравилось общаться с Энеей: обе стороны в разговоре употребляли самые простые слова, а в основном объяснялись жестами из разряда тех, которые помогали людям еще в эпоху палеолита.
На третий день Энея добилась определенных успехов: ей удалось объяснить чичатукам, что мы хотим вернуться туда, где оставили плот. Поначалу они никак не могли понять, однако жесты девочки и слова, которым она успела научиться, в конце концов принесли результат. Энея изобразила плывущий по реке плот, арку нуль-портала (чичатуки возбужденно залопотали), ледяную стену, показала, как мы забираемся в трещину и встречаем своих новых друзей…
Сообразив, что от них требуется, чичатуки быстро собрались, и мы тронулись в пути. Все шагали за мной, а я ориентировался по компасу, который вел меня сквозь ледяной лабиринт, то вверх, то вниз, то вправо, то влево.
Если бы не хронометры, мы бы наверняка потеряли счет времени. Этому способствовала окружающая обстановка: царящий в туннелях мрак, который едва рассеивают факелы, мерцание ледяных стен, дыхание стужи, короткие периоды сна и бесконечный путь по переплетению туннелей — и так изо дня в день. Согласно хронометрам, мы вернулись к реке на третий день после того, как покинули плот, уже ближе к вечеру.
Плот представлял собой жалкое зрелище: весь покрытый льдом, от носа до верхушки сломанной мачты, с каменным очагом посредине. Чичатуки пришли в восторг, такими возбужденными мы их не видели со времени первой встречи. По ремням, вырезанным, естественно, из шкуры призрака, Кучиат и два или три его соплеменника спустились на плот и самым тщательным образом осмотрели наше суденышко, начиная с очага и заканчивая нейлоновым шнуром на бревнах. Я вдруг понял, чем объясняется их возбуждение: для людей, которые изготавливали все предметы обихода из костей и мышц хищного животного, плот представлял собой настоящее сокровище.
Возможно, другие на их месте попытались бы прикончить нас или бросить в лабиринте туннелей, а потом вернуться за плотом. Но чичатуки были благородными людьми. Они считали друзьями всех, кроме своих заклятых врагов — арктических призраков. Кстати сказать, в ту пору живых призраков мы еще не видели, представляли себе животных только по невероятно теплым шкурам и не догадывались, что вскоре нам предстоит познакомиться с ними поближе.
Энея изобразила жестами, как мы плывем по течению, указала на ледяную стену, а затем дала понять, что нам нужно добраться до следующей арки.
Чичатуки загомонили, перебивая друг друга, словно стараясь что-то нам растолковать. Слова чужого языка лично мне буквально царапали барабанные перепонки. Убедившись, что мы их не понимаем, они принялись обсуждать нечто между собой. Наконец Кучиат сделал шаг вперед и произнес, обращаясь к нам троим, короткую фразу. Мы разобрали слово «главк», которое слышали и раньше (оно сразу показалось каким-то неестественным для чичатуков), а затем Кучиат ткнул рукой вверх. Очевидно, он звал нас на поверхность. Мы обрадованно закивали.
Следом за чичатуками, сгибаясь под тяжестью мешков и бременем гравитации, поскальзываясь на льду, мы, сами того не подозревая, двинулись к погребенному во льдах городу, где жил священник.
Глава 41
Из-под своего рода домашнего ареста капитана де Сойю освободила вовсе не священная канцелярия, как ожидал отец Федерико, а лично монсеньор Лукас Одди, помощник премьер-министра Ватикана, его преосвященства Симона Августино, кардинала Лурдзамийского.
Прогулка по городу и Ватиканским Садам настолько взволновала капитана, что он с трудом сдерживал слезы. Бледно-голубое небо Пасема, щебетание птиц, перезвон колоколов — все казалось невыразимо прекрасным. Монсеньор Одди пересказывал ватиканские сплетни и рассуждал о всяких пустяках; к тому моменту, когда они достигли той части садов, где над цветочными клумбами вились пчелы, голова де Сойи уже шла кругом, а в ушах звенело.
Де Сойя поглядел на своего высокого спутника, который продолжал идти не сбавляя шага. Чудилось, что Одди не идет, а скользит по земле — столь бесшумно он передвигался. В уголках глаз монсеньора виднелись морщинки (должно быть, Одди часто смеялся), нос как будто вынюхивал свежие сплетни и шутки, слегка вытянутое лицо напоминало лисью морду. Де Сойе доводилось слушать остроты по поводу Одди и кардинала Лурдзамийского. Один был высок и смешлив, другой — толст и хитер; если бы не власть, которой они обладали, то, стоя рядом, эти люди наверняка производили бы комичное впечатление.
К удивлению капитана, Одди провел его через сад и вошел в один из лифтов, которые доставляли пассажиров на Лоджии дворца. Швейцарские гвардейцы, облаченные в старинные мундиры в красно-сине-оранжевую полоску, встали по стойке «смирно».
— Если вы помните, Его Святейшество после первого воскрешения занял эти покои потому, что они когда-то принадлежали Папе Юлию Второму, — проговорил монсеньор Одди, плавно поводя рукой.
Де Сойя кивнул. Папа Юлий Второй, знаменитый воин, поручил Микеланджело расписать потолок Сикстинской капеллы. Нынешний Папа, во всех своих воплощениях, с Юлия Четвертого до Юлия Четырнадцатого, правил едва ли не в двадцать семь раз дольше своего предшественника, восседавшего на Святом Престоле с 1503 по 1513 год от Рождества Христова… Сердце стучало все сильнее. Неужели ему предстоит встреча с Папой? Не может быть! Де Сойя внешне оставался спокойным, однако ладони капитана взмокли от пота, а дыхание стало неровным.
— Мы направляемся в секретариат, — с улыбкой заметил Одди, — но, если хотите, можем заглянуть в папские покои. Его Святейшество председательствует на Галактическом Синоде во дворце Нервы.
Де Сойя снова кивнул. Его взгляд упал на картину Рафаэля, которая виднелась сквозь приоткрытую дверь. Капитану вспомнилось, что Папа Юлий Второй, которому надоели фрески работы таких мастеров, как Пьетро делла Франческа и Андреа дель Кастаньо, осенью 1508 года распорядился привезти из Урбино двадцатишестилетнего гения Рафаэля Санти, более известного под именем Рафаэль. В одной из комнат, мимо которых они проходили, де Сойя заметил «Афинскую школу», великолепную фреску, которая символизировала торжество религиозной истины над торжеством истины философской и научной.
— О-o… — Монсеньор Одди остановился, давая де Сойе возможность насладиться зрелищем. — Нравится? Узнаете Платона?
— Конечно, — ответил капитан.
— А вам известно, с кого писал Рафаэль?
— Нет, — признался де Сойя.
— С Леонардо да Винчи. — На губах Одди промелькнула усмешка. — А вон Гераклит. Знаете, кто это на самом деле?
Капитан покачал головой. Ему вдруг вспомнилась родная планета и крохотная часовня, в которой вечно гулял ветер, заметая песком подножие простенькой статуи Богоматери.
— Микеланджело. А Евклида — видите? Рафаэль писал с Браманте. Давайте подойдем поближе. — Де Сойя осторожно ступил на роскошный ковер. Фрески, статуи, золоченые рамы, высокие окна внезапно поплыли у него перед глазами. — На воротнике Браманте кое-что написано. Вот, взгляните. Можете прочесть?
— R-U-S-M, — прочитал по буквам де Сойя.
— То-то и оно. — Одди хихикнул. — Raphael Urbinus Sua Manu. Ну-ка, сын мой, переведи, порадуй старика. Если не ошибаюсь, у тебя на этой неделе была возможность восстановить познания в латыни.
— Рафаэль из Урбино, — пробормотал де Сойя себе под нос, — собственной рукой.
— Правильно. Что ж, пора идти. Пожалуй, воспользуемся лифтом Его Святейшества. Негоже заставлять секретариат ждать.
Апартаменты Борджа занимали почти весь нижний этаж здания. Одди провел капитана через маленькую капеллу Николая Пятого, и де Сойе подумалось, что он никогда в жизни не видел ничего прекраснее. Стены часовни украшали фрески работы фра Анджелико, выполненные в 1447–1449 годах от Рождества Христова и представлявшие собой квинтэссенцию простодушия и невинности.
Помещения за капеллой выглядели мрачными и зловещими, что невольно наводило на мысли о неблаговидных поступках пап из рода Борджа. Но в Четвертом покое, кабинете Папы Александра, отдававшего много времени науке и мирским искусствам, де Сойя не мог не восхититься многоцветьем красок, изысканными золотыми инкрустациями и пышной лепниной. Фрески и статуи Пятого покоя изображали события из жизни святых, однако в них ощущалась неестественность, некая стилизация, напомнившая де Сойе египетское искусство Старой Земли. В Шестом покое, который, по словам монсеньора Одди, служил трапезной, фрески были настолько яркими и жизненными, что у капитана перехватило дыхание.
Одди остановился у фрески, изображавшей Воскресение, и указал двумя пальцами на фигуру на заднем плане. Несмотря на века, прошедшие с тех пор, как была написана картина, и на выцветшие краски, эта фигура внушала благоговение.
— Александр Шестой. Второй Папа из рода Борджа. — Пальцы монсеньора скользнули к двум мужчинам, которые стояли в толпе, но, судя по выражению лиц и падавшему на них свету, изображали святых. — Чезаре Борджа, незаконнорожденный сын Александра. Рядом его брат, которого он убил. В Пятом покое имеется портрет Лукреции, дочери Александра. Ее написали под видом святой девственницы Екатерины Александрийской.
Де Сойя вскинул голову к потолку, который, как и в других помещениях, украшала эмблема рода Борджа — белый бык с короной над рогами.
— Это работа безумца Пинтуриккьо. Его настоящее имя — Бернардино ди Бетто. Вполне возможно, он служил силам тьмы. — Выйдя из комнаты, Одди оглянулся. — Но в гениальности ему не откажешь. Пойдем, сын мой. Нас ждут.
Кардинал Лурдзамийский восседал за длинным столом в Шестом покое — Зала-дель-Понтифичи, так называемой «Папской зале». Он и не подумал встать, когда де Сойя вошел в комнату, лишь слегка изменил позу. Капитан опустился на колени и поцеловал кольцо на пальце кардинала.
Симон Августино погладил де Сойю по голове и махнул рукой, как бы отметая формальности.
— Присаживайся, сын мой. Уверяю тебя, этот стул гораздо удобнее кресла, которое подобрали мне мои помощники.
Де Сойя почти забыл, какой звучный у кардинала голос: казалось, он исходил не столько из груди Августино, сколько из самой земли. Кардинал напоминал облаченную в шелка и атлас гору, которую венчала крупная голова с тяжелым подбородком и тонкими губами. Из-под алой скуфьи, прикрывавшей почти голый череп, пронзительно смотрели крошечные глазки.
— Федерико, — продолжал кардинал, — я очень рад, что ты выжил, пройдя через столько смертей. Вид у тебя усталый, но и только.
— Спасибо, ваше высокопреосвященство, — поблагодарил де Сойя. Монсеньор Одди уселся слева от капитана, чуть поодаль от кардинальского стола.
— Насколько мне известно, вчера тебя допрашивала священная инквизиция? — Взгляд кардинала словно проникал в самое сердце.
— Да, ваше высокопреосвященство.
— Надеюсь, до пыток не дошло? Никаких тисков, «железных дев» или «испанских сапог»? На дыбу тебя не вздергивали? — Кардинал хмыкнул. Этот звук отдался эхом у него в груди.
— Нет, ваше высокопреосвященство. — Де Сойя выдавил улыбку.
— Хорошо. — Кольцо на пальце кардинала сверкнуло в луче солнца. Августино подался вперед. — Когда Его Святейшество вернул священной канцелярии прежнее название, — он усмехнулся, — некоторые атеисты решили, что возвращаются времена террора и страха. Но Церковь знала, что делает. Священная канцелярия может только советовать, Федерико, а единственная кара, которую она вправе предложить, — отлучение.
— Это ужасная кара, ваше высокопреосвященство, — проговорил де Сойя, проведя языком по губам.
— Верно, — согласился кардинал, голос которого внезапно сделался суровым. — Но тебе она не грозит. Дознание завершилось, твоя репутация ничуть не пострадала. В протоколе, который священная канцелярия направит Его Святейшеству, с тебя снимут все обвинения — за исключением, скажем так, невнимательности к чувствам некоего епископа, имеющего покровителей среди членов Курии.
Де Сойя стиснул кулаки.
— Ваше высокопреосвященство, епископ Меландриано — вор.
Кардинал перевел взгляд на монсеньора Одди, затем вновь устремил его на капитана.
— Знаю, Федерико. Нам об этом известно достаточно давно. Не беспокойся, доброму епископу не скрыться в океане от справедливого возмездия. Могу тебя уверить, что к нему священная канцелярия снисходительной не будет. — Августино откинулся на спинку кресла. — Но к делу, сын мой. Готов ли ты вернуться выполнить до конца свое задание?
— Так точно, ваше высокопреосвященство. — Де Сойя сам изумился своим словам. Еще несколько секунд назад он радовался тому, что покончил с проваленной миссией.
Кардинал кивнул. Его взгляд сделался пронзительнее прежнего.
— Замечательно. Насколько я понимаю, один из твоих солдат погиб?
— Это был несчастный случай.
— Ужасно, — кардинал покачал головой. — Просто ужасно.
— Стрелок Реттиг, — прибавил де Сойя, которому почудилось, что следует упомянуть имя подчиненного. — Он был хорошим солдатом.
Глаза кардинала блеснули, словно на них выступили слезы.
— Мы позаботимся о его родителях и сестре. Тебе известно, сын мой, что брат стрелка, генерал Реттиг, командует гарнизоном на Брешии?
— Нет, ваше высокопреосвященство.
— Невосполнимая потеря. — Кардинал вздохнул. Пухлая рука опустилась на столешницу. Де Сойе внезапно показалось, что рука существует как бы сама по себе, отдельно от тела. Этакая бесхребетная морская тварь… — Федерико, у нас есть достойная замена стрелку Реттигу. Но сначала мы должны кое-что уточнить. Ты знаешь, почему тебе поручили найти и задержать девочку?
Де Сойя выпрямился.
— Ваше высокопреосвященство объяснили, что девочка — дочь кибрида. Что она представляет собой угрозу Церкви. Что ее, может быть, подослали ИскИны Техно-Центра.
— Верно, Федерико. Но мы не объяснили, почему она представляет угрозу. Кстати, не только Ордену и Церкви, но и всему человечеству. Сын мой, если ты берешься довести свою миссию до конца, тебе необходимо это знать.
С улицы донеслись два звука, приглушенные расстоянием и толстыми стенами. На Яникульском холме выстрелила пушка, и одновременно часы на базилике Святого Петра начали отбивать полдень.
Кардинал вынул из складок сутаны старинные часы, удовлетворенно кивнул и спрятал механизм обратно.
Де Сойя молча ждал.
Глава 42
На то, чтобы добраться до погребенного во льдах города, ушел почти целый день. Мы три раза устраивали привал. В целом дорога наверняка не отложилась бы в памяти (путь пролегал все по тем же сумрачным ледяным туннелям), если бы на отряд не напал арктический призрак, утащивший одного из чичатуков.
Как всегда бывает, все произошло буквально в одно мгновение. Мы с андроидом и Энеей замыкали цепочку людей, бредущих по туннелю. Внезапно раздался грохот, в разные стороны полетели осколки льда, промелькнуло нечто огромное — и фигура в меховых одеждах за два человека до Энеи исчезла без следа.
Я замер как вкопанный, сжимая в руках плазменную винтовку, которую забыл снять с предохранителя. Чичатуки завопили, несколько охотников ринулись в наклонный туннель, возникший в ледяной стене.
Когда я наконец опомнился и подбежал к Энее, девочка осматривала при свете фонаря туннель, уводивший вниз почти под прямым углом. По туннелю спускались два чичатука, отчаянно тормозивших ногами и ножами, которые они пытались воткнуть в стены колодца. Я хотел было прыгнуть следом, но Кучиат схватил меня за плечо и крикнул:
— Ктчей! Ку тчета чи!
Я уже приобрел кое-какой словарный запас, а потому понял, что меня не пускают. Пришлось подчиниться. Метрах в двадцати внизу колодец заканчивался — вернее, становился горизонтальным. Сперва мне показалось, что дело в красном свете фонаря, но присмотревшись, я сообразил, что стены колодца все в крови.
Чичатуки продолжали вопить, даже когда охотники, бросившиеся в погоню, вернулись ни с чем. Призрака они не видели, а от пропавшего соплеменника осталась только кровь на стенах колодца, разодранная парка да мизинец с правой руки. Кучту, которого мы считали знахарем, опустился на колени, поцеловал палец и провел костяным ножом по своей руке. На палец упало несколько капель крови. Кучту осторожно, почти благоговейно положил его в свой заплечный мешок. Вопли мгновенно прекратились. Чиаку, охотник в шкуре с кровавым пятном (теперь крови на ней стало больше, поскольку он был одним из тех, кто прыгнул в колодец), повернулся к нам и произнес длинную фразу. Остальные опустили копья, закинули за плечи мешки и двинулись дальше.
Я продолжал оглядываться до тех пор, пока проделанное призраком отверстие не скрылось в крадущемся за нами по пятам непроглядном мраке. Особого беспокойства не было: я знал, что призраки обитают на поверхности, а под лед спускаются лишь для того, чтобы поохотиться. Но мне стало ясно, что толща льда под ногами не в состоянии защитить нас от призраков. Я вдруг обнаружил, что стараюсь идти на цыпочках, словно рассчитывая таким образом заблаговременно обнаружить ловушку. А на Седьмой Дракона, доложу я вам, идти на цыпочках не так-то просто.
— Мадемуазель Энея, — произнес А.Беттик, — я не понял, о чем говорил месье Чиаку. Кажется, что-то насчет чисел?
Лица Энеи под зубами призрака было не разглядеть. Нам уже рассказали, что все шкуры, из которых делают одежду, сняты с призраков-детенышей. Мне вспомнилась промелькнувшая в туннеле лапа толщиной с мое туловище и черные когти длиной с мою руку. Насколько, должно быть, огромны взрослые особи! Я снял винтовку с предохранителя, продолжая по мере возможности шагать на цыпочках. Порой, чтобы не утратить мужества, лучше ничего не знать об опасности.
— По-моему, он говорил, что в отряде не то количество людей, — ответила Энея. — До того как все произошло, нас было двадцать шесть. Хорошее число, все в порядке… А теперь нужно что-то предпринять… иначе нам несдобровать.
Насколько я понимаю, все решилось очень просто — Чиаку то ли отправили на разведку, то ли он по собственной воле отделился от основной группы. Своего рода компромисс: в отряде осталось двадцать пять человек. С нечетным числом чичатуки еще могли на какое-то время примириться; но что они будут делать, когда мы расстанемся с ними в городе? Двадцать пять минус три равно двадцать два, а это опять-таки число нехорошее…
Впрочем, когда мы добрались до города, всякие мысли о плохих и хороших числах вылетели у меня из головы.
Сначала мы заметили свет. За те несколько дней, которые мы провели в туннелях, наши глаза настолько привыкли к красноватому мерцанию чучкитука, то бишь жаровни с углями, что даже луч фонаря казался невыносимо ярким. А свет, исходивший от погребенного во льдах города, буквально ослеплял.
Потом мы увидели здание — должно быть, из сталепласта; в нем было этажей семьдесят, окна выходили когда-то на чудесную долину, а в километре к югу текла река. Ледяной туннель вывел нас к отверстию в стене где-то на уровне пятьдесят восьмого этажа: мне бросилось в глаза, что ледник ухитрился местами проникнуть внутрь здания.
Несмотря на Падение и прочие напасти, здание устояло — возможно, его верхушка возвышалась над ледяной поверхностью — и до сих пор сверкало огнями.
Чичатуки остановились, прикрывая глаза от света, и громко завопили. Эти вопли сильно отличались от тех, какими они оглашали в знак скорби ледяной туннель. Сейчас чичатуки кого-то звали. Я огляделся по сторонам: в свете развешанных буквально повсюду ламп сквозь слой прозрачного льда проступал остов некогда прекрасного здания.
Отец Главк вышел из своего «кабинета» и направился к нам. На нем была длинная черная сутана, на груди висело распятие; мне вдруг вспомнилось, что точно так же одевались иезуиты из монастыря в окрестностях Порт-Романтика. Пожилой, с бородой, как у патриарха, священник был слеп — его мутно-белые глаза ровным счетом ничего не видели; но меня поразило другое — когда Кучиат окликнул старика, лицо Главка сделалось живым, словно он вышел из транса: белоснежные брови поползли вверх, отчего на высоком лбу пролегли морщины, а тонкие потрескавшиеся губы разошлись в улыбке. Как ни странно это звучит, но в отце Главке все было… гармонично, что ли. Ему шли и слепота, и пышная седая борода, и морщинистая старческая кожа, и потрескавшиеся губы.
Признаться, я испытывал некоторые сомнения насчет «главка», о котором упоминали чичатуки, — опасался в первую очередь, что он как-то связан с Орденом. По логике вещей, когда я увидел перед собой священника, мне следовало схватить в охапку Энею с А.Беттиком и, как говорится, сделать дяде ручкой. Но ничего подобного у меня не было даже в мыслях. Отец Главк не имел ни малейшего отношения к Ордену. Он был сам по себе, что не замедлило выясниться буквально в первые минуты нашего знакомства.
Прежде чем кто-либо из нас троих успел раскрыть рот, старик, похоже, ощутил наше присутствие. Потолковал о чем-то с Кучиатом и Чичтику, внезапно повернулся к нам и выставил перед собой ладонь, словно пытаясь уловить исходящее от наших тел тепло. Потом пересек ледяную пещеру, подошел ко мне, положил на мое плечо худую руку и громко и отчетливо произнес:
— Се человек!
Чтобы прийти к пониманию, мне потребовались годы. А в тот миг я решил, что священник не только слеп, но и безумен.
Чичатуки отправились куда-то по своим важным делам (видимо, улаживать проблему с численностью отряда), пообещав вернуться через несколько дней, которые нам предстояло провести в обществе отца Главка. Энее удалось объяснить на прощание, что мы хотим разобрать плот и оттащить его ко второму порталу. Наблюдая за пантомимой, которую разыгрывали мы с девочкой, чичатуки кивали и повторяли слово «чиа», выражавшее согласие. Если я правильно понял их ответ, до второго портала придется добираться поверху, через местность, где кишмя кишат арктические призраки, и дорога займет не один день. Чичатукам явно не терпелось уйти, поэтому мы отложили выяснение подробностей до тех пор, пока они не вернутся, восстановив «пошатнувшееся равновесие» — то бишь отыскав нового члена отряда или избавившись еще от троих. Признаться, последний вариант наводил на мрачные мысли.
Священник поболтал с охотниками, очевидно, пожелал им счастливого пути, а потом долго стоял у входа в ледяной туннель, прислушиваясь к чему-то, что слышал только он.
Он вновь провел рукой по нашим лицам. Таким способом лично мне знакомиться еще не доводилось. Прикоснувшись к лицу девочки, Главк неожиданно произнес:
— Ребенок. Вот уж не думал, что когда-нибудь снова увижу ребенка.
Я не понял, что он имел в виду.
— А разве у чичатуков нет детей? Они же люди, значит, у них должны быть дети.
До того как приступить к «процедуре знакомства», отец Главк провел нас в сравнительно теплое помещение в недрах небоскреба. Стены были увешаны лампами и жаровнями, вдоль стен стояла мебель, имелся даже старинный проигрыватель компакт-дисков, а книжные полки ломились от книг. Интересно, зачем слепцу книги?
— У чичатуков есть дети, — подтвердил священник, — но так далеко на север их не берут.
— Почему?
— Из-за призраков, которые кишмя кишат к северу от границы окультуренных земель.
— Я думал, призраки их не пугают.
Старик кивнул и погладил свою окладистую бороду, скрывавшую воротник его аккуратно заштопанной, порядком изношенной сутаны.
— Мои друзья чичатуки охотятся только на детенышей. Шкуры и кости взрослых особей не годятся, у них иной метаболизм. — Я промолчал, хотя не уловил смысла фразы. — А дети чичатуков для призраков — любимое лакомство. Вот почему всех так удивляет, что с вами ребенок.
— А где находятся дети ваших друзей? — спросила Энея.
— В сотнях километров к югу отсюда. Их охраняют и воспитывают. Толщина льда в тех краях составляет всего тридцать — сорок метров, а воздух почти пригоден для дыхания.
— И что, призраки там не появляются? — уточнил я.
— Да, для них на юге слишком тепло.
— Тогда почему бы всем чичатукам не переселиться на юг… — Я замолчал, сообразив, что от холода и высокой силы тяжести стал глупее обычного.
— Вот именно, — откликнулся отец Главк. — Существование чичатуков целиком и полностью зависит от призраков. Охотники, вроде нашего общего приятеля Кучиата, рискуют головой, чтобы добыть пропитание, шкуры и кости. Но пока они отсутствуют, дети могут умереть с голода… Детей у чичатуков немного, поэтому они всемерно заботятся о малышах. Знаете, как они говорят про детей? «Утчай тук айчит чакуткучит».
— Священнее, чем тепло, правильно? — с запинкой перевела Энея.
— Молодец, — похвалил священник. — Но я совсем заболтался. Позвольте показать вам ваши комнаты, которые постоянно подтапливаю для гостей. Впрочем, вы мои первые гости за пятьдесят лет, если не считать чичатуков. А пока вы будете располагаться, я подогрею ужин.
Глава 43
Объясняя капитану де Сойе истинный смысл его миссии, кардинал Лурдзамийский неожиданно откинулся на спинку кресла, обвел пухлой рукой помещение и спросил:
— Тебе нравится эта комната, Федерико?
Де Сойя, ожидавший услышать нечто жизненно важное, только моргнул, потом огляделся по сторонам. Залу отличало то же изысканное великолепие, какое было свойственно всем помещениям в покоях Борджа. Впрочем, по сравнению с другими комнатами краски здесь были ярче, а узоры затейливее; кроме того, фрески и гобелены изображали события современной истории: вот Папа Юлий Шестой получает крестоформ из рук ангела Господня, вот сам Господь — похожий на того, каким он изображен на потолке Сикстинской капеллы, — воскрешает Папу Юлия, вот архангел с пламенеющим мечом изгоняет гнусного антипапу Тейяра Первого. Прочие фрески прославляли деяния Церкви и Ордена в первое столетие после возрождения христианства.
— Потолок рухнул в 1500 году, — сообщил кардинал, — едва не погребя под собой Папу Александра. Тогда погибли многие произведения искусства. После смерти Юлия Второго Лев Десятый восстановил комнату, но не сумел вернуть ей прежний вид. Сто тридцать стандартных лет назад Его Святейшество распорядился отреставрировать помещение заново. Обрати внимание на центральную фреску. Это работа Халамана Гхены с Возрождения-Вектор. Гобелен с эмблемой Ордена выполнен Широку. А руководили реставрацией лучшие пасемские мастера, включая Питера Бейнса Корт-Билгрута.
Де Сойя вежливо кивнул, хотя и не понимал, какое все это имеет отношение к предмету разговора. Быть может, кардинал, как то случается со многими наделенными властью людьми, привык отвлекаться от темы, благо помощники наверняка не рискуют его поправлять?
Словно догадавшись, о чем думает капитан, Августино хмыкнул и положил руки на обтянутую кожей столешницу.
— Как по-твоему, Федерико, верно ли, что Церковь и Орден принесли человечеству мир и процветание, каких еще не было на свете?
Де Сойя призадумался. Насчет «каких еще не было» он сомневался. Что касается мира… Капитану до сих пор снились горящие орбитальные леса и обезображенные планеты.
— Я согласен, что Церковь при поддержке Ордена улучшила положение людей на большинстве бывших миров Сети, ваше высокопреосвященство. И никто не станет отрицать, что крестоформ — дар Божий.
— Святые угодники! — воскликнул кардинал. — Да ты дипломат, Федерико! — Он потер кожу над верхней губой. — Ты абсолютно прав. У каждой эпохи свои недостатки. Мы сражаемся с Бродягами, ведем борьбу с неверием и стремимся приобщить к вере в нашего Господа и Спасителя всех без исключения. Но, как ты видишь, — Августино вновь повел рукой, — нас окружает Ренессанс. Под ватиканскими сводами витает дух раннего Ренессанса, подарившего человечеству капеллу Николая Пятого и другие шедевры, которые ты видел по дороге сюда. Знай, Федерико: идет духовное возрождение. — Де Сойя молча ждал. — Но эта… тварь может все уничтожить. — Голос кардинала снова сделался суровым. — Как я уже говорил тебе год назад, мы разыскиваем не девочку, а смертоносный вирус. И теперь нам известно, откуда он взялся.
Де Сойя слушал. Августино неожиданно сбавил голос до шепота:
— Его Святейшеству было видение. Тебе известно, Федерико, что Господь часто посылает сны нашему Святому Отцу?
— До меня доходили слухи, ваше высокопреосвященство, — ответил де Сойя, которого никогда не привлекала магическая — точнее, мистическая — составляющая Церкви.
Кардинал махнул рукой, словно отметая все и всяческие слухи.
— Его Святейшество проводил в постах и молитвах долгие годы, и в награду за рвение Господь даровал ему откровение. Именно через откровение мы узнали о том, когда и как девочка появится на Гиперионе. Ведь Его Святейшество не ошибся, верно? — Де Сойя почтительно наклонил голову. — В другом откровении было явлено, что поиски девочки следует поручить тебе, Федерико. Твоя судьба неразрывно связана со спасением не только Церкви, но и всего человечества. — Капитан уставился на Августино, широко раскрыв глаза. — А ныне, — продолжал тот, — Господь открыл, какая нам угрожает опасность.
Кардинал встал, жестом усадил обратно вскочивших было де Сойю и монсеньора Одди и принялся расхаживать по комнате. Де Сойя наблюдал за переливами алого шелка в свете ламп, из-за которого щеки кардинала то и дело поблескивали, а глаза потемнели.
— ИскИны Техно-Центра предприняли попытку раз и навсегда покончить с людьми. Нам снова угрожает то механическое зло, которое уничтожило Старую Землю, долго паразитировало на сознании людей благодаря Сети и спровоцировало атаку Бродяг перед Падением. Отпрыск кибрида, эта Энея — его инструмент. Вот почему ее пропустил нуль-портал, вот почему демон Шрайк убил тысячи человек, а вскоре убьет миллионы, если не миллиарды… Если не остановить суккуба,[93] человечество вновь попадет под власть машин.
Де Сойя отметил про себя, что ничего нового пока не услышал.
— Его Святейшеству стало известно, Федерико, что эта девочка — агент не только Техно-Центра, но и Машинного Разума.
Капитан понял, что хотел сказать Августино. Во время допроса в здании священной канцелярии он на какой-то миг почти утратил самообладание, представив, какая кара ожидает человека, посмевшего признаться, что читал запрещенные «Песни». Но и в этой поэме упоминалось о том, что часть элементов Техно-Центра на протяжении столетий создавала Высший Разум — кибернетическое божество, которое должно было подчинить себе вселенную. Как в «Песнях», так и в официальной истории Церкви рассказывалось о растянувшейся на тысячелетия битве между лживым божеством и Господом Иисусом Христом. Кибрида Китса — точнее, кибридов, ведь пришлось создать копию после того, как группа ИскИнов уничтожила первую модель в мегасфере, — автор «Песней» ошибочно считал мессией «человеческого ВР» (до чего же гнусна эта тейяровская идея об эволюции человека в божество!). В поэме утверждалось, что побудительной причиной подобной эволюции является сострадание. Церковь же заявляла, что залог спасения — в исполнении Божьей воли.
— Его Святейшеству стало известно, где находятся это мерзкое отродье и те, кто ее сопровождает, — продолжал кардинал.
— Где, ваше высокопреосвященство? — Де Сойя сел прямо.
— На планете Седьмая Дракона, — пророкотал Августино. — У Его Святейшества нет на сей счет ни малейших сомнений. Кроме того, теперь он знает, что произойдет, если девочку не остановить. — Кардинал вышел из-за стола и приблизился к капитану. Де Сойя вскинул голову. — Девчонка ищет сообщников, которые помогли бы ей уничтожить Орден и попрать власть Церкви. До сих пор она была смертоносным вирусом в пустынной местности, потенциальной угрозой, которой временно можно пренебречь. Но если ее не перехватить, она обретет Силу Зла.
Кардинал стоял вполоборота, за его плечом виднелась фреска, на которой корчились человеческие тела.
— Одновременно откроются все порталы, из которых выступят миллионы Шрайков. Бродяги получат оружие Техно-Центра и передовые технологии. Они и так уже произвольно изменяют свои тела, продают души дьяволу за способность жить в космосе, питаться солнечным светом, как растения… С помощью Техно-Центра они добьются невиданного доселе могущества, мерзейшей мощи,[94] против которой будет бессильна даже Церковь. Погибнут миллиарды людей, десятки миллиардов лишатся сердец и душ. Бродяги проложат себе путь огнем и мечом, подобно вандалам и визиготам, уничтожат Пасем, Ватикан и все остальное. Человеческая жизнь и уважение к личности, которое проповедует Церковь, для них ничто. — Де Сойя молча внимал. — Но этого не должно случиться! Его Святейшество каждый день молит Господа не допустить подобной несправедливости. Федерико, грядут тяжелые времена — для Ордена, для Церкви, для всего человечества. Святой Отец провидит то, что может случиться, и требует от князей Церкви бороться со Злом во исполнение священных обетов. — Кардинал наклонился к де Сойе. — Федерико, я открою тебе тайну. Сейчас ты узнаешь то, относительно чего миллиарды верующих будут пребывать в неведении еще не один месяц. На Галактическом Синоде Его Святейшество объявил крестовый поход.
— Крестовый поход? — переспросил де Сойя. Слова кардинала подействовали даже на невозмутимого монсеньора Одди, который тихонько кашлянул.
— Крестовый поход против Бродяг, — громыхнул Августино. — На протяжении веков мы только оборонялись, возводили Великую Стену, чтобы защитить христианский мир от вражеской агрессии, но с этого самого дня, по воле Божьей, Орден и Церковь переходят в наступление.
— Что это значит? — Де Сойя знал, что битва на ничейной территории между Великой Стеной и владениями Бродяг идет достаточно давно — корабли нападают и отступают, эскадры перегруппировываются и снова бросаются в бой. Но ведь существует фактор запаздывания; по бортовому времени с Пасема до конца Великой Стены лететь около двух лет, а по объективному — свыше двадцати.
Координировать действия практически невозможно, поэтому крупных операций и не бывает…
Кардинал криво усмехнулся:
— Пока мы с тобой беседуем, каждая планета на территории Ордена и Протектората получила предписание построить звездолет. По звездолету от планеты.
— Разве у нас мало звездолетов?
— На этих кораблях установят такие же двигатели, как те, что стоят на твоем «Рафаиле». Но мы строим не авизо, а тяжелые крейсеры, самые мощные и смертоносные корабли в нашем рукаве галактики. Они смогут совершать прыжки в любую точку пространства, а времени на прыжок будут тратить меньше, чем требуется «челноку», чтобы спуститься с орбиты на поверхность. Экипаж каждого из кораблей, названного в честь планеты, на которой его построили, будет состоять из офицеров Ордена, готовых умереть и воскреснуть ради спасения веры. Один такой звездолет сможет уничтожить целый Рой.
Де Сойя кивнул:
— Значит, вот как Его Святейшество намерен справиться с угрозой, которую представляет девочка? Я правильно понял, ваше высокопреосвященство?
Кардинал уселся в кресло с таким видом, словно устал ходить.
— Не совсем, Федерико, не совсем. Новые корабли начнут строить не сегодня и не завтра. А мерзкий суккуб продолжает распространять заразу. В настоящий момент все зависит от тебя и твоей команды.
— Команды? — переспросил де Сойя. — А в нее входят сержант Грегориус и капрал Ки?
— Разумеется, — проговорил кардинал.
— Ваше высокопреосвященство упоминали о замене стрелку Реттигу… — У де Сойи мелькнула шальная мысль: а что, если к нему приставят кардинала священной инквизиции? По спине поползли мурашки.
Кардинал разжал пальцы, как бы открывая шкатулку с драгоценностями.
— У тебя будет новый член экипажа.
— Офицер Ордена? — спросил капитан. Может, у него потребуют передать новичку папский диск?
Августино покачал головой. Массивный подбородок кардинала двигался словно по собственной воле.
— Нет, Федерико. Обыкновенный солдат, правда, специально обученный. Из таких будет состоять возрожденное Христово Воинство. — Де Сойя никак не мог понять, к чему клонит собеседник. Похоже, Церкви не дают покоя эксперименты Бродяг с нанотехнологией. Но если так, это попахивает кощунством… Кардинал вновь будто угадал, о чем думает капитан. — Не беспокойся, Федерико. Это человек, христианин, просто прошедший новый специальный курс тренировок.
— Обыкновенный солдат… — повторил озадаченный де Сойя.
— Воин, — поправил кардинал. — Первый из участников объявленного сегодня Его Святейшеством крестового похода.
Де Сойя потер подбородок:
— Надеюсь, он будет подчиняться только мне, как Ки с Грегориусом?
— Конечно, конечно… — Кардинал откинулся на спинку кресла и сложил руки на выступавшем из-под сутаны животе. — Единственно что… Его Святейшество по совету священной канцелярии вручил ей диск, чтобы она могла принимать самостоятельные решения, необходимые для выполнения задания.
— Это женщина? — удивился де Сойя. Если папские диски будут у него и у загадочного «воина», точнее, воительницы, кто же из них станет главным? За все годы службы капитан ни разу не оказывался в столь нелепом положении. Уж лучше бы сразу разжаловали, подумалось ему.
Кардинал Лурдзамийский подался вперед и негромко произнес:
— Федерико, Его Святейшество по-прежнему целиком и полностью полагается на твои знания и опыт. Однако Господь открыл Святому Отцу ужасную необходимость, от которой он, зная твои убеждения, желает тебя избавить.
— Ужасная необходимость? — Де Сойе показалось, он догадывается, что скрывается за этой формулировкой.
На лице кардинала играли тени.
— Этот выродок, этот суккуб ни в коем случае не должен ускользнуть. Исцелив Тело Христово, мы сделаем первый шаг к всеобщему благополучию.
Перед тем как открыть рот, де Сойя досчитал до десяти.
— Значит, я найду девочку, а ваш… воин ее убьет?
— Да, — ответил Августино.
Никто из присутствовавших не сомневался в том, что де Сойя согласится на подобные условия. Христиане вообще и офицеры флота, а также священники-иезуиты в частности никогда не отказывались от обязанностей, которые возлагали на них Святой Отец и Матерь-Церковь.
— Когда я увижу нового члена экипажа? — справился капитан.
— «Рафаил» сегодня же отправится к Седьмой Дракона, — сообщил монсеньор Одди. — Новый член экипажа уже на борту.
— Могу я узнать, как ее зовут и какое у нее звание? — Де Сойя повернулся к монсеньору Одди, но ответил ему Августино:
— Звания у нее пока нет. Со временем она станет офицером одного из Крестовых Легионов. Пока вам следует обращаться к ней по имени. А зовут ее Немез. Радаманта Немез.[95]
Кардинал искоса поглядел на Одди. Тот поднялся, давая понять, что аудиенция подошла к концу. Де Сойя торопливо последовал примеру монсеньора.
Августино поднял руку, благословляя. Де Сойя наклонил голову.
— Да пребудет с тобою наш Господь и Спаситель, Иисус Христос, да убережет Он тебя от опасности и дарует победу. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
— Аминь, — пробормотал монсеньор Лукас Одди.
— Аминь, — произнес де Сойя.
Глава 44
Как выяснилось, вокруг находились и другие здания, вмерзшие в ледяной покров Седьмой Дракона. Этакие остатки былой роскоши, гигантские насекомые в сверкающем янтаре…
Отец Главк оказался человеком добродушным и веселым. Его сослали на Седьмую Дракона за принадлежность к одному из последних тейярдианских орденов. Когда Папа Юлий Шестой издал буллу, в которой объявил философские воззрения антипапы кощунственными, орден распустили, а его членов кого отлучили от Церкви, а кого отправили в глухие уголки с глаз долой. Впрочем, отец Главк отнюдь не считал, что провел пятьдесят семь лет в изгнании, — он полагал, что исполняет свое предназначение.
Чичатуки не выказывали особого интереса к религии, да и священник, как он сам признался, не слишком стремился обратить их в христианство. Отец Главк восторгался мужеством и благородством чичатуков и преклонялся перед их культурой, которую они сумели сохранить в столь неблагоприятных условиях. До того как ослеп — это была снежная слепота, нечто вроде одновременного воздействия холода, вакуума и радиации, — он частенько путешествовал вместе с чичатуками.
— Раньше их было больше, — сказал священник. Мы сидели в его ярко освещенном кабинете. — Что поделаешь, времена меняются… Там, где прежде обитали десятки тысяч, теперь с трудом выживают несколько сотен.
В первые дни Энея с А.Беттиком, как правило, беседовали со стариком, а я бродил по городу.
Помню свой первый выход. Я спустился во мрак туннеля, прихватив с собой плазменную винтовку и лампу. Отец Главк объяснил, что свет отпугивает арктических призраков. Этажей через двадцать я нашел ход, который вывел меня к другим зданиям. Во льду были вырезаны своеобразные вывески — «СКЛАД», «СУД», «ЦЕНТР СВЯЗИ», «КОНСУЛЬСТВО ГЕГЕМОНИИ», «ОТЕЛЬ» и так далее; эти надписи когда-то нанес световым пером отец Главк. Заглянув в несколько зданий, я убедился, что священник, несмотря на слепоту, время от времени покидает свой кабинет и наведывается в город. В третьем по счету здании я обнаружил склад, в котором хранились топливные таблетки. Отец Главк использовал их для освещения и обогрева своего жилища, а также выменивал на них продовольствие.
— Призраки обеспечивают чичатуков всем, кроме горючих материалов, — заметил он однажды. — А таблетки дают свет и немного тепла. И потом, нам нравится торговаться. Мясо и шкуры в обмен на свет, тепло и стариковскую болтовню. Пожалуй, они начали общаться из-за того, что мой отряд состоит из самого прекрасного числа — единицы! На первых порах я скрывал от них, где беру таблетки, но теперь уверен, что Кучиат и все остальные никогда меня не ограбят. Даже ради своих детей.
Откровенно говоря, смотреть в городе было толком не на что. Света, который отбрасывала лампа, на то, чтобы разогнать тьму, не хватало. Если у меня и теплилась в глубине души надежда отыскать некое подручное средство, которое облегчило бы нам дорогу ко второму порталу (быть может, самоходную горелку или что-нибудь еще в том же духе), она быстро иссякла. Не считая обиталища отца Главка, где наличествовали мебель и книги, свет и тепло, пища и разговоры, в городе было холодно и страшно, как в девятом круге Ада.
На третий или четвертый день нашего пребывания в городе я присоединился к своим друзьям, сидевшим в кабинете священника. Прислушиваясь к разговору, я разглядывал книжные полки. Каких только книг там не было — философские и теологические трактаты, астрономические и этнологические тексты, новоантропологические штудии, приключенческие романы, детективы, пособия по плотницкому ремеслу, тома по медицине и зоологии…
— Потеряв тридцать лет назад зрение, — сообщил отец Главк в тот день, когда с гордостью показал нам свою библиотеку, — я больше всего огорчился тому, что утратил возможность перечитывать свои любимые книги. Я как Просперо, только отрекшийся вынужденно.[96] Вы не представляете, скольких трудов мне стоило перетащить сюда три тысячи томов из помещения, расположенного на пятьдесят этажей ниже.
Пока я рыскал по городу, А.Беттик листал книгу за книгой, а Энея читала старику вслух. Однажды, зайдя в кабинет без стука, я увидел на глазах отца Главка слезы…
Разговор шел о религии. Отец Главк рассказывал о Тейяре — о древнем иезуите, а вовсе не об антипапе, которого сверг Юлий Шестой.
— В Первую мировую он был медбратом. Никто бы не осудил Тейяра, если бы он держался подальше от передовой, но он сам выбрал иную стезю. Его награждали за мужество орденами и медалями, в том числе орденом Почетного Легиона.
А.Беттик вежливо кашлянул.
— Прошу прощения, святой отец. Если я не ошибаюсь, Первая мировая — это конфликт, разгоревшийся на Старой Земле еще до Хиджры?
Священник улыбнулся.
— Совершенно верно, мой друг. Начало двадцатого века, страшная война. Она настолько поразила Тейяра своей жестокостью, что он до конца жизни испытывал ненависть к войне как таковой. — Отец Главк сидел в кресле-качалке; в грубом подобии очага светились топливные таблетки, освещавшие и обогревавшие помещение. Впервые за то время, что мы провели на Седьмой Дракона, было по-настоящему тепло. — По образованию Тейяр был геологом и палеонтологом. В тридцатых годах того же столетия, будучи в Китае — так называлось одно из государств Старой Земли, — он выдвинул теорию эволюции как незавершенного, но целенаправленного процесса. Тейяр рассматривал вселенную как стремление Господа объединить в некоем разумном существе Христа Эволюции, Индивидуума и Универсум. Каждая новая ступень эволюции была для Тейяра де Шардена символом надежды, он радовался даже, когда открыли расщепление ядра; космогенез (это его словечко) выдвигал человечество в центр вселенной, ноогенез представлял собой непрерывную эволюцию человеческого сознания, а гоминизация и сверхгоминизация являлись этапами на пути превращения homo sapiens в истинного человека.
— Простите, святой отец, — проговорил я. В уголке сознания промелькнула мысль: «Насколько не соответствует эта беседа об абстрактных понятиях окружающей обстановке — погребенному во льдах городу, лютой стуже и шныряющим во мраке убийцам-призракам». — Мне всегда казалось, что Тейяр был еретиком и утверждал, что человек однажды эволюционирует в Бога.
Священник покачал головой:
— Сын мой, при жизни Тейяра никто и никогда не обвинял в ереси. В 1962 году, правда, священная канцелярия — нынешняя от нее изрядно отличается, уверяю тебя, — выпустила монитум…
— Что выпустила? — переспросила Энея, сидевшая на ковре перед очагом.
— Монитум, предупреждение. Тем, кто изучает работы Тейяра, рекомендовали относиться к его идеям критически. И потом, Тейяр вовсе не говорил, что человек когда-либо станет Богом. Он считал, что разумная вселенная является составной частью процесса эволюции к так называемой «точке Омега», когда все мироздание, и люди в том числе, станут едины с Божеством.
— Как вы думаете, включил бы он в мироздание Техно-Центр? — Энея обняла руками колени.
Священник перестал раскачиваться и погладил бороду.
— Ученые последователи Тейяра бились над этим вопросом на протяжении столетий. Я не ученый, однако мне кажется, что в своем энтузиазме он вспомнил бы обо всех.
— Но ведь ИскИны произошли от машин, — сказал А.Беттик. — А их представление о Высшем Разуме, насколько я понимаю, сильно отличается от христианского. Бог Техно-Центра — холодный, равнодушный, способный учесть все варианты, но предсказуемый…
Отец Главк кивнул:
— ИскИны думают, сын мой. Их предки были сконструированы на основе ДНК…
— Чтобы вычислять, — вставил я. Бр-р! Не хватало еще, чтобы выяснилось, что у ИскИнов есть души!
— Сын мой, а чем занимались наши ДНК на протяжении первых сотен миллионов лет существования жизни? Питались? Убивали? Размножались? Или ты полагаешь, что даже столь далекие предки человека неизмеримо выше древних ИскИнов, созданных на основе кремниевых соединений и ДНК? Тейяр сказал бы, что Господь создал разум для того, чтобы вселенная осознала себя и постигла Его волю.
— Техно-Центр использовал людей как сырье для своего проекта, а потом собирался уничтожить человечество.
— Но ведь не уничтожил, правда?
— Это не его заслуга.
— Человечество развивается — а оно, безусловно, развивается, — потому, что не может не развиваться, и его заслуги в этом тоже нет. Эволюция приводит к появлению человека, а человек долго и мучительно обретает человечность…
— Сострадание, — проговорила Энея.
Отец Главк повернулся к девочке:
— Правильно, милая. Но люди ни в коей мере не являются единственным воплощением человечности. Наши вычислительные машины, как только начали осознавать себя, стали частью того же процесса. Они могут сопротивляться, могут противодействовать, преследуя собственные цели. Однако вселенная продолжает ткать узор, который объединяет всех.
— У вас выходит, что вселенная похожа на машину, — заметил я. — Запрограммированная, неотвратимая, неумолимая — раз включили, и не остановить…
Старик вновь покачал головой:
— Вовсе нет, сын мой… Вселенная далеко не машина и она вовсе не неумолима. Пришествие Христа научило нас тому, что на свете нет ничего неотвратимого. Исход всегда сомнителен. Выбрать свет или тьму, решает сам человек, точнее, разумное существо.
— Но Тейяр считал, что в конечном итоге сострадание и человечность победят? — спросила Энея.
Отец Главк указал на стеллаж за спиной девочки.
— Там должна быть книга… На третьей полке… С голубой закладкой, которую я оставил лет тридцать тому назад. Нашла?
— «Заметки, записные книжки и письма Тейяра де Шардена», — прочла Энея. — Эта?
— Она самая. Открой, пожалуйста, на закладке. Я там кое-что подчеркнул. Это едва ли не последнее, что видели мои глаза…
— Письмо, датированное декабрем 1919 года?
— Верно. Читай.
Энея поднесла книгу поближе к свету.
— «Обратите внимание: я не определяю абсолютную ценность творений человеческих рук. По моему убеждению, они исчезнут и появятся в новой форме, о которой мы пока даже не догадываемся. С другой стороны, эти предметы обладают преходящей ценностью — они суть необходимые стадии процесса, которые мы (люди в целом) должны миновать в ходе своего преображения. Я восхищаюсь не формой, а функцией, каковая заключается в том, чтобы неким таинственным образом создавать сначала богоподобное, а затем, по милости Господней, и божественное».
Наступила тишина, которую нарушало только шипение пламени да негромкое поскрипывание и постанывание льда. Наконец отец Главк произнес:
— Вот что сделало Тейяра еретиком в глазах нынешнего Папы. А мой грех состоял в том, что я поверил в идеи Тейяра. И вот кара за грехи. — Он обвел рукой помещение. Нам сказать было нечего. Неожиданно отец Главк рассмеялся и положил руки на колени. — Но моя матушка говорила, что, когда в доме есть еда и можно посидеть с друзьями, не страшна никакая кара. Месье Беттик! Я обращаюсь к вам так, потому что буква «А» в вашем имени отделяет вас от людей, а это в корне неверно. Итак, месье Беттик…
— Слушаю, сэр.
— Окажите услугу старику, сходите на кухню и поищите кофе. А я тем временем приготовлю суп и подогрею хлеб. Месье Эндимион?
— Да, святой отец?
— Вас не затруднит спуститься в винный погреб и принести лучшее из вин, какое сможете найти?
Я улыбнулся:
— На сколько этажей мне придется спуститься, святой отец? Надеюсь, не на пятьдесят?
Священник усмехнулся:
— Сын мой, я имею привычку выпивать всякий раз, когда сажусь за стол. Если бы погреб располагался так низко, я был бы в гораздо лучшей форме. Нет, поскольку я стар и ленив, то храню вино всего лишь этажом ниже. Рядом с лестницей.
— Ясно.
— Я накрою стол, — вызвалась Энея. — Чур, завтра вечером моя очередь готовить.
И каждый из нас занялся своим делом.
Глава 45
«Рафаил» совершил прыжок к Седьмой Дракона. Капитана де Сойю и прочих путешествовавших на борту «архангела» ввели в заблуждение: двигатель авизо вовсе не являлся модификацией двигателя Хоукинга, изобретенного еще до Хиджры и позволявшего кораблю лететь быстрее света. На самом деле двигатель «Рафаила» был в известной мере фикцией: когда звездолет разгонялся до скорости, необходимой для квантового прыжка, компьютер как бы подключался к некоей системе, известной под названием Связующей Пропасти. Импульс от находившегося неизвестно где источника энергии поступал на устройство, которое искажало подпространство, видоизменяя пространственно-временной континуум. Люди этого не выдерживали и умирали в муках — клетки лопались, кости расплющивались, синапсы отказывали, внутренние органы превращались в кашицу… Впрочем, что происходит в точности, не знал никто — все воспоминания о последних секундах жизни перед прыжком при воскрешении стирались из памяти.
«Рафаил» начал торможение, приближаясь к Седьмой Дракона на ядерном двигателе с ускорением в двести «g». Тела капитана де Сойи, сержанта Грегориуса и капрала Ки вновь превратились в кашицу, поскольку корабль экономил энергию и не включал внутреннее силовое поле. Но четвертый член экипажа, Радаманта Немез, откинула крышку реаниматора и огляделась по сторонам. Ее тело слегка сплющилось под воздействием чудовищного ускорения, однако Радаманта была жива. Система жизнеобеспечения, как того требовала заложенная в бортовой компьютер программа, бездействовала — кислород не подавался, давление было значительно ниже нормы, температура составляла минус тридцать по Цельсию. Чтобы выжить в подобных условиях, обыкновенному человеку требовался космический скафандр, но Радаманта, похоже, не обращала на мелочи никакого внимания. Она лежала в своем красном комбинезоне и поглядывала на мониторы, изредка обращаясь через нейрошунт к компьютеру.
Шесть часов спустя включилось внутреннее силовое поле и начался процесс воскрешения. Система жизнеобеспечения по-прежнему не работала, однако Радаманта, игнорируя такой пустяк, как двести «g», встала, расправила плечи и направилась в соседнее помещение, где вызвала на монитор карту Седьмой Дракона и быстро обнаружила русло реки Тетис. Приказала компьютеру включить видео, провела пальцами по возникшим перед ней ледяным складкам, застругам и глубоким трещинам. Пометила здание, макушка которого торчала из ледника километрах в тридцати от реки.
Через одиннадцать часов после начала торможения «Рафаил» вышел на орбиту Седьмой Дракона. Теперь система жизнеобеспечения работала с полной нагрузкой, но Радаманте Немез было, по-видимому, все равно. Перед тем как покинуть корабль, она проверила мониторы реаниматоров. До того как де Сойя и остальные придут в себя, оставалось не меньше двух дней.
Немез заняла пилотское кресло в кабине посадочного модуля, подключилась к системе управления, скомандовала: «Отделение» и направила модуль в атмосферу планеты, двигаясь вдоль терминатора и не пользуясь никакими приборами. Через восемнадцать минут модуль совершил посадку в двухстах метрах от обледенелой макушки небоскреба.
Ледник искрился в солнечном свете. На темном небе не было ни единой звезды. На полюсах планеты продолжали функционировать громадные термосистемы, перемещавшие по поверхности воздушные массы со скоростью около четырехсот километров в час. Радаманта Немез распахнула люк, и не подумав надеть один из находившихся в шлюзе скафандров. Не дожидаясь, пока модуль выдвинет трап, она спрыгнула на лед и, несмотря на силу тяжести в 1,7g, приземлилась на ноги. В ступни вонзились ледяные иглы.
Немез включила защитный режим, видоизменивший кожный покров на глубину ноль целых восемь десятых миллиметра. Стороннему наблюдателю показалось бы, что невысокая, плотно сбитая женщина с черными волосами и бездонными черными глазами превратилась вдруг в сверкающую, переливающуюся, как ртуть, статую. В следующую секунду статуя устремилась к небоскребу со скоростью тридцать километров в час, остановилась, не найдя входа, и ударом кулака пробила сталепластовую панель. Протиснулась внутрь, подошла к шахте лифта, раздвинула двери. Обледенелый колодец был пуст — лифт давным-давно рухнул вниз.
Радаманта Немез прыгнула в колодец и со все возрастающей скоростью полетела во мрак. На одном из этажей мелькнул свет. Она ухватилась за стальной поручень, и падение прекратилось, невзирая на то, что скорость в тот момент достигла уже ста пятидесяти метров в секунду.
Немез выбралась из шахты, огляделась по сторонам, отметила про себя мебель, лампы и книги. На кухне ей встретился старик. Услышав шаги, он поднял голову.
— Рауль? Энея?
— Правильно. — Радаманта Немез двумя пальцами сдавила горло старика и подняла его над полом. — Где девочка, которую зовут Энея? Где они все?
Как ни странно, слепой старик даже не вскрикнул. Уставившись невидящим взором в потолок, он процедил сквозь зубы:
— Не знаю.
Немез кивнула и уронила старика на пол. Уселась на него верхом, приставила к глазу указательный палец. В мозг слепца проник микрощуп, который тут же «подключился» к нужному участку коры.
— Ну, святой отец, — проговорила Радаманта, — начнем снова. Где девочка? Кто ее сопровождает? Куда они пошли?
По волоконно-оптическому каналу начала поступать информация — мало-помалу затухающие всплески энергии.
Глава 46
Время, проведенное с отцом Главком, запомнилось беседами, домашним уютом и своим неторопливым течением, особенно приятным после суматохи последних месяцев. Лучше всего я помню именно беседы.
Незадолго до возвращения чичатуков я узнал одну из причин, по которым А.Беттик вызвался сопровождать меня.
— У вас есть родственники, месье Беттик? — Отец Главк упорно опускал букву «А» в имени андроида.
— Есть, — ответил тот к моему великому изумлению. Как такое может быть? Я всегда считал, что андроидов собирают из частей, выращенных в нанотанках методами генной инженерии. Так сказать, из банка донорских органов. — Обычно, — прибавил А.Беттик, поняв, что священник ожидает продолжения, — андроидов клонировали. Как правило, у каждого было четыре клона, три мужских и один женский.
— Квинтет, — проговорил отец Главк. — Значит, у вас три брата и сестра?
— Да, — подтвердил А.Беттик.
— Но ведь вы… — Я оборвал себя на полуслове и потер подбородок. Прикоснулся к чисто выбритой коже — расхаживать небритым по уютному жилищу священника казалось неприличным — и отдернул руку, словно меня ударило током. — Росли вы не вместе, верно? Я имею в виду, андроидов…
— Вы ошибаетесь, месье Эндимион, — с улыбкой ответил А.Беттик. — Андроиды появляются на свет младенцами, хотя и взрослеют гораздо быстрее людей, приблизительно за восемь стандартных лет. Сократить период взросления не представлялось возможным, отчасти поэтому расходы на производство андроидов были столь высоки.
— А как зовут ваших родственников? — поинтересовался отец Главк.
А.Беттик закрыл книгу, которую рассеянно листал.
— По традиции клонов называли в алфавитном порядке. Моих родственников зовут А.Анттиб, А.Варрия, А.Горрессон и А.Деврик.
— Кто из них женщина? — справилась Энея. — Варрия?
— Да.
— Ты помнишь свое детство?
— Меня учили, готовили к выполнению обязанностей и регулировали функциональные параметры.
Девочка легла на ковер и подперла ладонями подбородок.
— Вы ходили в школу? Играли? Развлекались?
— Нас учили на фабрике. Но основную базу данных мы получили через РНК-перевод. — Андроид посмотрел на Энею. — Что касается «играть», если вы спрашиваете, было ли у нас время, чтобы отдыхать вместе, то я отвечу «да».
— А где теперь твои родственники?
А.Беттик покачал головой.
— Вскоре после того, как мы выросли, нас разлучили. Меня купило правительство Монако-в-Изгнании, и я очутился на Асквите. По-моему, все мы оказались на разных планетах, в Сети или на Окраине.
— И ты их больше не видел?
— Нет. Несмотря на то что на строительстве Града Поэтов трудилось много андроидов, которые готовили Гиперион к прибытию короля Уильяма Двадцать третьего, они в большинстве своем прибыли на Асквит раньше меня и никогда не встречали моих родственников.
— А ты не пробовал искать через мегасферу и порталы? — осведомился я. — В те дни это было несложно.
— Закон запрещал андроидам пользоваться нуль-порталами и входить в мегасферу. Кроме того, у всех нас имеются РНК-ингибиторы, которые срабатывают, стоит попытаться нарушить запрет. Вдобавок вскоре после того, как я появился на свет, было объявлено, что андроиды не должны находиться в частной собственности, поэтому обратиться за помощью к своему работодателю я тоже не мог.
— Говоришь, вас использовали на Окраине? На планетах вроде Гипериона?
— Да, месье Эндимион.
Я помолчал.
— Так вот почему ты вызвался лететь со мной? Чтобы найти родственников… братьев или сестру…
— Шансов на то, что это произойдет, практически никаких, месье Эндимион. — А.Беттик улыбнулся. — Во-первых, требуется поистине невероятное стечение обстоятельств, а во-вторых, вряд ли кто-то из них выжил… Вспомните, как обходились с андроидами после Падения. Тем не менее… — Он замолчал, словно сообразив, что пытается объяснить очевидное, и развел руками.
* * *
Вечером накануне возвращения чичатуков я впервые услышал из уст Энеи ее теорию любви. Все началось с расспросов относительно «Песней» Мартина Силена.
— Понятно, что эту книгу внесли в список запрещенных на всех мирах Ордена, — сказала девочка, — но как насчет тех планет, которые Орден тогда еще не успел захватить? Меня интересует, добился ли дядюшка Мартин признания, о котором так мечтал.
— Помню, мы обсуждали «Песни» на занятиях в семинарии. — Отец Главк хмыкнул. — Нам было известно, что книга запрещена, но искушение тем сильнее, чем строже запрет. Мы отказывались читать Вергилия, но записывались в очередь на потрепанную копию этих стишков.
— Стишков? — переспросила Энея. — Я всегда считала дядюшку Мартина великим поэтом — потому что он иначе себя не называл. А мама говорила, что он как иголка в заднице…
— Одно другого не исключает, особенно среди поэтов. — Священник снова хмыкнул. — Все они одинаковы. Помнится, большинство критиков в тех немногочисленных литературных кружках, которые вскоре прикрыла Церковь, не оставляли от поэмы камня на камне. Некоторые, впрочем, приняли Силена всерьез — как поэта, не как историка; его версия событий, случившихся на Гиперионе незадолго до Падения, вызывала большие сомнения. И почти все потешались над апофеозом любви в конце второго тома…
— Ну да, — вставил я. — Старый ученый по имени Сол — его дочь жила против времени — открыл, что любовь есть решение задачи, которую он называл «проблемой Авраама».
— Один язвительный критик, рецензируя поэму, процитировал надпись, найденную на стене древнего здания, которое откопали на Старой Земле еще до Хиджры. — Отец Главк усмехнулся. — Она звучала так: «Если любовь — ответ, то каков вопрос?»
Энея посмотрела на меня, ожидая объяснений.
— В «Песнях» сказано, что ученый обнаружил, будто бы то, что Техно-Центр именует Связующей Пропастью, на самом деле — любовь. Наряду с гравитацией, ядерным взаимодействием и электромагнетизмом любовь составляет основу мироздания. Сол Вайнтрауб понял: Высшему Разуму ИскИнов не суждено осознать, что сострадание неотделимо от любви… Силен охарактеризовал любовь как «субквантовую невероятность, что несет информацию от фотона к фотону…».
— Думаю, Тейяр с ним согласился бы, — заметил отец Главк. — Хотя сформулировал бы иначе.
— Большинство тех, кто читал поэму, — закончил я, — считали, что она слишком сентиментальна. Так мне говорила бабушка.
Энея тряхнула волосами.
— Дядюшка Мартин был прав. Любовь на самом деле — основа мироздания. Я знаю, Сол Вайнтрауб верил в это всей душой. Он поделился своими мыслями с моей мамой перед тем, как вместе с дочкой уйти в Сфинкса.
Священник перестал раскачиваться и подался вперед, уперевшись острыми локтями в колени. Будь на его месте кто-то другой, такая поза показалась бы смешной до нелепости.
— А не проще ли сказать, что любовь есть Господь? — спросил он.
— Нет! — воскликнула Энея, вставая с ковра. Мне вдруг почудилось, что она стала на несколько лет старше. — Не проще. Древние греки знали о существовании силы тяжести, но объясняли ее действие стремлением земли, одного из четырех первоэлементов, вернуться в привычную среду. Солу Вайнтраубу удалось познать физику любви — где находится любовь, как она действует и как можно с ней справиться. Но разница между «любовь есть Господь» и тем, что понял Сол Вайнтрауб, такая же, как между греческим объяснением силы тяжести и формулами Ньютона. Первое — всего-навсего красивая фраза, а формула — постижение сути.
Отец Главк покачал головой.
— У тебя получается, что любовь можно вывести как уравнение.
— Вовсе нет, — возразила Энея с таким жаром, какого я раньше за ней не замечал. — Вы сами рассказывали, что Тейяр был уверен — вселенная превращается в единое сознание, которое никогда не станет чисто механическим. Природа не обезличена, как всегда считала наука; она черпает силы в Божестве… Так и здесь. Любовь — часть Связующей Пропасти, можно сказать, истинная суть человечности.
Я поборол желание расхохотаться.
— Значит, нужен новый Исаак Ньютон, который подарил бы человечеству физику любви? Вывел бы начала ее термодинамики и так далее?
— Да. — Глаза девочки ярко сверкали.
Отец Главк стиснул свои колени.
— И этот человек — ты, Энея с Гипериона?
Девочка отвернулась, медленно прошлась по комнате и вернулась к очагу.
— Да, — проговорила она шепотом, потупив глаза, на которых блестели слезы. — Боюсь, что да. Я не хотела, но мне пришлось… Вернее, придется… если я выживу.
У меня по спине поползли мурашки. Я пожалел, что мы затеяли этот разговор.
— Может, расскажешь поподробнее? — спросил отец Главк, лицо которого выражало совершенно детское изумление.
Энея покачала головой:
— Не могу. Я еще не готова, святой отец. Мне очень жаль.
Священник откинулся на спинку кресла. Внезапно он показался мне очень и очень старым.
— Все в порядке, милая. Мы встретились, и это уже что-то.
Энея молча обняла старика.
Кучиат вернулся на следующее утро — мы еще не успели проснуться. За время, проведенное с чичатуками во мраке ледяных туннелей, мы приобрели привычку спать по нескольку часов и двигаться дальше, но в доме отца Главка жили по его правилам — тушили огни на восемь часов подряд. Кстати сказать, усталость все равно не проходила; должно быть, при силе тяжести в 1,7g иначе и быть не может.
Чичатуки, опасавшиеся заходить в здание, стояли у входа, напоминавшего зев очередного туннеля, и улюлюкали, пока мы поспешно одевались.
В отряде насчитывалось двадцать три человека. Где они подобрали нового соплеменника — женщину, — отец Главк спрашивать не стал, а сами чичатуки хранили на сей счет молчание. Когда я вышел из спальни, моим глазам представилось зрелище, навсегда запечатлевшееся в памяти, — облаченные в меха чичатуки сидят на корточках в своей излюбленной позе, отец Главк в заштопанной сутане беседует с Кучиатом, блики пламени пляшут на ледяных стенах, а снаружи царит непроглядный мрак и явственно ощущается давящая тяжесть многометровой толщи льда…
Отец Главк от нашего имени попросил чичатуков о помощи. Он даже прибавил кое-что от себя: мы рассчитывали, что нам помогут лишь перенести плот на поверхность и подскажут, в какую сторону идти, а он попросил чичатуков отвести нас к порталу. Чичатуки отвечали по очереди, обращаясь сначала к священнику, а потом к нам, и каждый говорил в принципе одно и то же — что готов помочь.
Путь предстоял долгий и трудный. Кучиат сообщил, что ко второму порталу, расположенному метров на двести ниже того места, где мы сейчас находились, подобраться можно, что река там свободна ото льда, но…
Туннели, которые вели к порталам, никак не соединялись между собой.
— Я хотела спросить, — проговорила Энея, — откуда вообще взялись эти туннели? Может, их пробили чичатуки? Уж слишком они круглые…
Отец Главк недоверчиво поглядел на девочку.
— Так вы не знаете? — Мы затрясли головами. Тогда он повернулся к чичатукам и произнес несколько фраз на их языке. Те загомонили, залопотали, послышался лающий звук, в котором мы научились узнавать смех. — Надеюсь, вы не обиделись? — Отец Главк улыбнулся. — Нам с Неделимым Народом настолько странно, что кто-то может ходить по туннелям, не догадываясь, как они появились…
— С Неделимым Народом? — переспросил А.Беттик.
— Слово «чичатук» означает «неделимый» — точнее, «неспособный стать более совершенным».
— Мы не обиделись, — с улыбкой заверила Энея. — Лично я ничего обидного не вижу. Ну, так кто проложил туннели?
— Призраки, — ответил я, опередив священника.
Отец Главк повернулся ко мне:
— Совершенно верно, Рауль. Совершенно верно.
Энея нахмурилась:
— Когти у них, конечно, громадные, но мне кажется, даже взрослые призраки не смогут пробить этот лед…
— Мы же не видели взрослых призраков, — напомнил я.
— Вот именно, — кивнул отец Главк. — Рауль прав, милая. Чичатуки охотятся на маленьких детенышей. Те детеныши, что постарше, охотятся на чичатуков. Но детенышу очень далеко до взрослого призрака. Как правило, детеныш живет и питается во льду, но через три оборота планеты…
— То есть через двадцать девять стандартных лет, — вставила Энея.
— Да. Так вот, через три местных года щенок — не слишком удачный термин, правда? — вырастает и превращается во взрослого призрака, способного двигаться сквозь лед со скоростью около двадцати километров в час. Ростом он приблизительно пятнадцать метров и… Ну да вы наверняка увидите хотя бы одного по дороге к порталу.
Я прокашлялся.
— По-моему, Кучиат и Чиаку утверждают, что туннели тут и там никак между собой не сообщаются…
— Верно. — Отец Главк вновь повернулся к чичатукам и что-то спросил у Кучиата, потом продолжил: — Расстояние между порталами составляет около двадцати пяти километров. За один переход его не преодолеть. Во-первых, чичатуки не любят длинных переходов, а во-вторых, как заметил Айчакут, местность буквально кишит призраками, детенышами и взрослыми, которые сожрали всех чичатуков, живших в тех краях, и понаделали себе ожерелий из их черепов. Кроме того, в это время года часто бывают бури. Но все равно, Неделимый Народ готов вас сопровождать.
— Не понимаю, — признался я. — Ведь на поверхности практически нечем дышать. Как…
— Сын мой, у них есть все, что вам может понадобиться, — прервал отец Главк.
Айчакут что-то пробурчал. Кучиат добавил пару фраз более спокойным тоном.
— Они тронутся в путь, как только вы соберетесь. Кучиат говорит, что дорога к плоту займет три перехода с двумя остановками. Затем вы двинетесь на север…
Старик замолчал и отвернулся.
— Что случилось? — встревоженно спросила Энея.
Отец Главк вымученно улыбнулся и погладил бороду.
— Мне вас будет не хватать. Сколько лет… Да, похоже, я совсем расклеился. Пойдемте перекусим, а там поглядим, влезет ли еще что-нибудь из моих запасов в ваши мешки.
Расставание получилось тягостным. Старик снова оставался один в ледяном городе, где шныряют призраки и освещено одно-единственное здание… У меня подкатил к горлу комок. Энея не прятала слез. А.Беттик протянул священнику руку, но отец Главк неожиданно обнял андроида.
— Ваш день еще наступит, месье Беттик. Я это чувствую. Поверьте мне, мой друг.
А.Беттик промолчал, но, когда мы следом за чичатуками направились в глубь ледника, я заметил, что андроид то и дело оглядывается на фигуру в отверстии туннеля. Потом мы свернули за угол, и свет, лившийся из здания, исчез.
Нам действительно потребовалось три перехода с двумя остановками, чтобы добраться до плота. Наконец один за другим мы протиснулись в узкую щель. Я был уверен, что бревна придется бросить здесь, но чичатуки, не мешкая, взялись за работу.
Они наперебой восхищались моим топором, и теперь у меня появилась возможность продемонстрировать, что это за штука. Я принялся рубить бревна на куски длиной полтора метра. А.Беттик с Энеей при помощи лазера разрезали веревку, что удерживала на месте плот, а чичатуки очищали бревна ото льда и подтаскивали их поближе ко мне. Когда мы закончили, в туннеле возвышалась настоящая поленница. Внизу остались только камни очага и фонари, которые мы не стали забирать в прошлый раз.
Мысль насчет поленницы меня позабавила. Впрочем, вспомнив, насколько важны горючие материалы для чичатуков, которым нужно и греться, и отгонять призраков, я понял, что в шутке есть доля истины. Что ж, если портал нас не пропустит…
Теперь в роли переводчика выступала Энея. Она объяснила Кучиату, что мы хотим оставить им топор, очаг и прочее имущество, которое нам вряд ли понадобится. Лица под оскаленными пастями призраков буквально засветились от счастья. Потом они принялись хлопать нас по плечам с такой силой, что при каждом хлопке захватывало дух. Даже суровый Айчакут и тот пробормотал слова благодарности.
Чичатуки взвалили себе на спины куски бревен, мы с Энеей и А.Беттиком последовали их примеру (мне показалось, на меня обрушилась бетонная плита) и двинулись вверх по туннелю — навстречу разреженному воздуху, бурям и арктическим призракам.
Глава 47
На то, чтобы получить через микрощуп необходимую информацию, у Радаманты Немез ушло меньше минуты. Информация представляла собой сочетание зрительного ряда, обрывков фраз и химических соединений. Радаманта узнала все, что ей требовалось, о пребывании Энеи в ледяном городе. Она вынула щуп и позволила себе на несколько секунд погрузиться в размышления.
Энея в сопровождении человека по имени Рауль и андроида покинула город три с половиной стандартных дня тому назад. По крайней мере один из этих дней они целиком потратили на разборку плота. До второго портала около тридцати километров, а поскольку они идут поверху, то вынуждены двигаться медленно. Вполне возможно, Энея не доберется до портала — Немез увидела в мозгу священника, какими, с позволения сказать, защитными костюмами наделили девочку и ее спутников чичатуки.
Радаманта Немез усмехнулась. Случай не та вещь, на которую стоит полагаться.
Отец Главк застонал.
Немез надавила коленом на грудь священника. Микрощуп не причинил ему вреда. Чтобы залечить рану, хватит стандартного медпакета. И потом, он все равно слеп.
Радаманта помедлила, оценивая ситуацию. Встреча со священником Ордена никак не входила в ее планы. Отец Главк зашевелился, потянулся руками к лицу. Может, оставить его в живых? Риск невелик. Кто вспомнит о священнике, сосланном на планету, на которой нет условий для жизни? С другой стороны, если прикончить старика, риска вообще никакого. Все очень просто.
— Кто вы? — выдавил священник.
Немез легко подняла его с пола и перенесла с кухни в уставленный книжными полками кабинет, где шипели в очаге топливные таблетки. Вынесла из кабинета в коридор. Там тоже горели лампы — старик явно остерегался призраков. Подошла к шахте лифта.
— Кто вы? — повторил слепец, тщетно пытаясь высвободиться — этакий годовалый карапуз, которого держит взрослый. — Что вам от меня нужно?
Немез ударом ноги распахнула дверь в шахту лифта. В лицо ударил поток студеного воздуха с глубины двухсот метров. Ледяная планета будто вскрикнула. В последнюю секунду отец Главк догадался, что сейчас произойдет.
— Господи Боже, — прошептал он. Губы священника дрожали. — О святой Тейяр… Господи Боже…
Немез отпустила старика и отвернулась; ее слегка удивило, что из шахты не донеслось ни звука. По лестнице поднялась на самый верх, перепрыгивая разом через пять ступеней. Ближе к поверхности лестничные пролеты прятались под ледяным откосом. Очутившись на крыше здания, Радаманта включила защитный режим, отчего ее фигура вновь засверкала серебром, и двинулась к модулю.
У модуля крутились три молодых призрака. Немез мгновенно оценила, что они собой представляют — не млекопитающие, белый мех на самом деле не мех, а трубчатая чешуя, сохраняющая тепло тела; глаза видят в инфракрасном диапазоне, легкие способны удерживать воздух на протяжении полутора десятков часов; рост больше пяти метров, мощные передние лапы, задние предназначены для того, чтобы рыть и расчленять…
Заметив Радаманту, все трое повернулись к ней. На фоне черного неба призраки выглядели огромными белыми ласками — точнее, игуанами. Двигались они стремительно.
Может, обойти? Но если они нападут на модуль, во время старта могут возникнуть ненужные осложнения. Радаманта переключилась на боевой режим. Призраки словно застыли, а льдинки, которые швырял в лицо порывистый ветер, замерли в воздухе.
Действуя только правой рукой, острой, как алмаз, Немез расправилась с призраками за несколько секунд. Ее немного удивили две вещи: во-первых, у каждого из призраков оказалось по два громадных пятикамерных сердца, причем, чтобы убить зверя, следовало поразить оба; во-вторых, каждый носил на шее ожерелье из человеческих черепов. Покончив с призраками, которые неподвижно распростерлись на льду, Радаманта переключилась на обычный режим и потратила долю секунду на то, чтобы внимательно изучить ожерелья. Черепа маленькие, но явно человеческие. Должно быть, детские. Занятно.
Она взлетела и направила модуль на север — на реактивной тяге, поскольку от крыльев в условиях почти полного вакуума толку не было. На экране радара обозначилось русло реки, придавленное многокилометровой, пронизанной туннелями толщей льда. Металлическая арка нуль-портала сверкала подобно яркому фонарю во мраке ночи. Радар обнаружил и живых существ — взрослых призраков, пробивавших дорогу сквозь лед, — но гораздо севернее.
Радаманта посадила модуль точно над порталом и оглядела поверхность ледника, высматривая вход в туннель. Когда нашла, выскочила из кабины и отключила защитный режим — давление поднялось выше трех фунтов на квадратный дюйм, а температура достигла тридцати градусов от точки замерзания.
В лабиринте туннелей заблудиться не составляло ни малейшего труда, однако Радаманта ориентировалась по арке, находившейся метрах в трехстах ниже. Час спустя она добралась до реки. Там царил непроглядный мрак, ничего не было видно даже в инфракрасном диапазоне, а захватить фонарь Немез забыла; но она раскрыла рот, и луч ослепительно желтого света упал на ледяные стены и клубы пара над водой.
Приближающиеся шаги она услышала задолго до того, как из-за угла показались тусклые огоньки. Немез закрыла рот и встала посреди узкого, спускающегося к самой кромке воды туннеля. С первого взгляда существа казались скорее низкорослыми призраками, чем людьми, но она узнала их по картинке, позаимствованной из памяти отца Главка: чичатуки. Заметив женщину в легком комбинезоне, Кучиат остановился; все прочие последовали примеру вожака.
— Неделимый Народ приветствует воина/охотника/странника, который бродит во мраке, — наконец произнес Кучиат, делая шаг вперед. — Если тебе нужно тепло, пища или оружие, только скажи, ибо мы дружим со всеми, кто передвигается на двух ногах, и уважаем желания других.
Радаманта Немез ответила на языке чичатуков, которому научилась у отца Главка:
— Я ищу своих друзей — Энею, Рауля и человека с голубой кожей. Они уже прошли через арку?
Чичатуки посовещались между собой, очевидно, обсуждая, откуда эта женщина знает их язык. Должно быть, она знакома с «главком», потому что говорит с точно таким же акцентом.
— Они прошли подо льдом и скрылись в арке. Пожелали нам удачи, одарили подарками. — В голосе Кучиата слышалось подозрение. — Мы желаем удачи тебе и готовы принести дары. Ты хочешь присоединиться к своим друзьям, уплывшим по волшебной реке?
— С радостью, — отозвалась Немез. Она криво усмехнулась. Вновь тот же выбор. Как поступить? Радаманта шагнула вперед. Когда она переключилась на боевой режим и ее фигура переливчато засверкала, чичатуки возбужденно залопотали, словно маленькие дети. Радаманта знала, что свет их жаровен тысячекратно отражается сейчас как в зеркале на поверхности ее тела. Не тратя даром времени, не делая ни единого лишнего движения, она убила всех чичатуков.
Потом шагнула к ближайшему телу и ввела в глаз микрощуп. Мозг чичатука, лишенный притока крови, умирал, порождая напоследок череду хаотично сменяющих друг друга образов, что характерно для любого сознания, человеческого или искусственного… Мелькали темные туннели, вспыхивал яркий свет костра… Радаманта выделила быстро тускнеющую картинку: девочка, высокий мужчина и андроид пригибают головы, когда плот проходит под ледяным козырьком и ныряет в арку портала.
— Черт, — прошептала Немез.
Оставив чичатуков, она устремилась к реке.
Из ледяного панциря, возле которого бурлила вода, выступал лишь краешек портала. Над водой клубился пар. Некоторое время Радаманта изучала следы на ледяном козырьке, откуда чичатуки прощались со своими гостями. Ей хотелось «допросить» портал, но для этого следовало вскарабкаться по отвесной ледяной стене. Немез переключила конечности на соответствующий режим и принялась взбираться.
Повиснув над рекой, она приложила ладонь к панели и подождала, пока металлическая крышка не отойдет сама собой (впечатление было такое, будто с панели слезает кожа). Затем выпустила микрощупы, подсоединила их к интерфейсу. Послышался шепот, из которого выяснилось, что три Сектора Сознания наблюдают за Радамантой и обсуждают происходящее.
В эпоху Гегемонии, как было известно всем и каждому, существовали сотни тысяч, если не миллионы нуль-Т — от крохотных личных порталов до громадных арок реки Тетис и космических врат. Но Радаманта знала, что люди ошибались. Портал был только один — неизмеримо огромный, раскинувшийся на многие парсеки.
Немез начала расспрашивать искусственный интеллект, затаившийся под металлической поверхностью, среди электронной начинки. На протяжении столетий люди, которые пользовались порталами (в свое время один аналитик высчитал, что в секунду совершается свыше миллиарда нуль-Т-прыжков), сами того не подозревая служили Богостроителям — элементам Техно-Центра, стремившимся создать совершенного ИскИна, Высший Разум, способный вместить галактику, а может, и вселенную. Всякий раз, стоило человеку войти по мультилинии в инфосферу или совершить прыжок, его ДНК и ментоструктура пополняли раскинутую Техно-Центром нейросеть. Создавая порталы, Техно-Центр заботился вовсе не о людях с их неуемной тягой к странствиям и желанием путешествовать, не тратя ни времени, ни энергии; Великая Сеть была наживкой, на которую не преминули клюнуть сотни миллиардов глупцов, чьи скудные умишки стали частью вселенского сознания.
После того как Мейна Гладстон и ее проклятые посланцы, участники последнего паломничества на Гиперион, обнаружили, где таится зло, после того как по каналам внутри Великой Сети ударили нейродеструкторы (которые, кстати, помог создать сам Техно-Центр), после того как мультилинии оказались отрезанными от источников питания, расположенных где-то за пределами известной мегасферы, все составные части единого портала превратились в груды металлолома.
За исключением одной, которой воспользовались совсем недавно. Интерфейс сообщил Радаманте Немез то, о чем она, как и все Сектора, уже знала, — что портал включило Нечто, находящееся Где-то Там.
В памяти портала сохранилось направление прыжка в пространственно-временном континууме.
Энея прыгнула на Кум-Рияд. Интересно. Можно вернуться на «Рафаил» и через несколько минут оказаться на Кум-Рияде. Но это означает, что придется прервать процесс воскрешения де Сойи и остальных, а также придумать подходящее объяснение. Кроме того, Орден установил на Кум-Рияде карантин: официально планета считалась оккупированной Бродягами, а на деле одной из первых подверглась обработке в соответствии с проектом «Мир и справедливость», о котором де Сойе и его подчиненным знать не следовало (потому их и не допустили на Хеврон). Наконец, протяженность Тетиса на поверхности Кум-Рияда составляет всего-навсего несколько километров: река течет по каменистой пустыне в южном полушарии планеты и огибает Великую Мечеть в Мешхеде. Процесс воскрешения занимает три стандартных дня; за это время плот девочки наверняка преодолеет расстояние, разделяющее порталы. Иными словами, обстоятельства вновь требовали от Немез убить де Сойю и остальных и продолжать преследование в одиночку. Но ей приказали по мере возможности избегать подобных действий. Участие де Сойи в поимке Той-Кто-Учит было необходимо; это следовало из многочисленных тактических анализов и полномасштабных прогнозов. Немез подумалось, что ткань пространства-времени сильно напоминает некий изысканный ватиканский гобелен: тот, кто тянет за выбившуюся нитку, рискует распустить весь узор.
На размышление ушло несколько секунд. В конце концов Немез ввела микрощуп еще глубже и принялась изучать возможные направления дальнейших прыжков. След Энеи и ее спутников был мимолетным, сведения о направлениях выглядели гораздо отчетливее. Неведомое Нечто запрограммировало на открытие порталы еще на двух планетах — на Роще Богов и на…
Потрясенная до глубины души, Радаманта Немез поспешно извлекла микрощуп — прежде чем полученное знание успело опалить ее разум. Выходит, вот какова цель Энеи — точнее, цель того Нечто, которое направляет девочку! И эта цель недостижима как для Ордена, так и для Трех Секторов.
Впрочем, времени должно хватить. Решено, «Рафаил» прыгнет к Роще Богов. Объяснение Радаманта уже придумала. Два дня на Кум-Рияде, день на Роще Богов — она вполне успеет со всем управиться до того, как воскреснет де Сойя. Пожалуй, у нее будет пара часов, чтобы замести следы, и когда они все вместе спустятся на Рощу Богов, капитан и его коммандос не обнаружат ничего подозрительного. Все будет говорить за то, что девочка побывала на планете и отправилась дальше.
Немез поднялась на поверхность, вернулась на «Рафаил», стерла из памяти компьютера все сведения о своих действиях и забралась в реаниматор. Еще на Пасеме она перенастроила саркофаг таким образом, чтобы тот, на деле не работая, внешне выказывал все признаки деятельности. Радаманта легла и закрыла глаза. Неоднократное переключение с режима на режим ее утомило. Что ж, пока де Сойя и остальные будут приходить в себя, можно отдохнуть.
Радаманта Немез усмехнулась и прикоснулась к своей груди, перестраивая кожу так, чтобы казалось, что у нее тоже есть крестоформ. На самом деле никакого крестоформа, естественно, не было, но ведь спутники могут увидеть ее обнаженной… Радаманта вовсе не собиралась раскрывать свою истинную сущность, тем более по нелепой случайности, из-за пренебрежения пустяками.
«Рафаил» продолжал двигаться по орбите вокруг Седьмой Дракона. Три члена экипажа покоились в функционирующих реаниматорах, датчики которых фиксировали каждую стадию в медленном процессе воскрешения. Четвертый спал — спокойно, без сновидений.
Глава 48
Мы плыли через пустыню в ослепительном свете солнца класса G2, время от времени прикладываясь к бурдюкам с водой, прихваченным с Седьмой Дракона, два последних дня на которой казались сном и постепенно забывались.
Кучиат остановил отряд метрах в пятидесяти от поверхности — воздух сделался заметно разреженнее, — и мы принялись за дело. К нашему изумлению, чичатуки разделись донага. Мы поспешили отвернуться, но успели заметить, какие мускулистые, крепко сбитые у них тела; женщины не отличались сложением от мужчин, словно тот, кто создавал обитателей Седьмой Дракона, решил сконструировать тела по единому образцу. Кучиат и Чатчиа наблюдали за тем, как раздеваемся мы, а Чиаку и остальные принялись распаковывать поклажу.
С помощью Кучиата и Чатчии мы облачились в новые одежды. Те несколько секунд, которые нам пришлось провести обнаженными, стоя на шкурах призраков, были сущей пыткой: ледяной воздух буквально обжигал. Мы натянули бесформенные балахоны — изготовленные, как выяснилось впоследствии, из внутреннего слоя кожи призраков — с отверстиями для головы, рук и ног. Необычайно тонкий балахон плотно облегал тело; я, должно быть, напоминал в нем раздувшуюся сосиску. А.Беттик выглядел ничуть не лучше. Я вдруг сообразил, что это, по всей вероятности, местная разновидность атмосферных скафандров — какие когда-то носили десантники ВКС. Материал пропускал пот, но сохранял тепло; можно было не беспокоиться о том, что легкие разорвутся от нехватки воздуха, кожа начнет слезать, а кровь закипит. У каждого балахона имелся капюшон, который отставлял открытыми только глаза, нос и рот.
Кучиат достал из мешка маски из того же самого материала, выложенные изнутри мехом. В глазные прорези были вставлены глаза призраков, позволявшие видеть в инфракрасном свете. Рыло каждой маски, выполненной в форме звериной морды, венчала длинная кишка; Кучиат аккуратно пришил эти кишки к бурдюкам с водой.
В следующую секунду я понял, что бурдюки служат и для иных целей: они улавливали воздух, который выделялся изо льда, подогретого пламенем топливных таблеток. Каким-то образом бурдюки на пару с масками отфильтровывали ту его часть, которая годилась для дыхания. Я сделал вдох, и мои глаза наполнились слезами. Ощущался привкус метана и, кажется, аммиака, но дышать было можно. Судя по всему, фильтра хватало часа на два.
Поверх балахонов мы накинули шкуры призраков. Кучиат заставил нас опустить оскаленные пасти; теперь зубы полностью закрывали лица, а сами головы превратились в грубое подобие шлемов. Мы обули сапоги, зашнурованные голенища которых доходили почти до колен. Чиаку, ловко управляясь с костяной иглой, зашил наши накидки из шкур. Бурдюки с водой и воздухом висели на шеях; у каждой накидки имелся клапан, который, когда понадобится заново наполнить бурдюк, можно было без труда расстегнуть и откинуть. Чичтику, ответственный за жаровню с углями, наполнял воздухом запасные мешки и раздавал их по кругу. Начал с Кучиата, а закончил мной. Теперь я понимал, почему в момент опасности чичатуки выстраивались кольцом, в центре которого находился Чичтику. Дело заключалось не только в том, что они поклонялись, молились огню. От хранителя огня, от его бдительности и усердия зависели жизни соплеменников.
У самого выхода на поверхность, где гулял свирепый ветер, Чиаку с помощью товарищей извлек из ниши в ледяной стене длинные черные скейты, с острыми как бритва днищами и плоской поверхностью, очень удобной для ноги. Креплениями служили веревки из шкур призраков. Эти штуковины представляли собой нечто среднее между обычным скейтом и лыжей. Я неуклюже оттолкнулся, прокатился метров десять по льду и лишь тогда сообразил, что еду на когте арктического призрака.
Признаться, вначале я изрядно опасался упасть — ведь падение при 1,7g было равнозначно тому, что на меня свалится человек приблизительно моего веса; но, во-первых, мы вскоре приноровились к новому способу передвижения, а во-вторых, многослойные одежды предохраняли от серьезных ушибов. Я подхватил деревяшку из кучи, в которой были сложены распиленные на куски бревна плота, и опирался на нее, как на палку, когда местность становилась слишком уж пересеченной.
Жаль, что у меня не было ни голографа, ни хотя бы камеры. Облаченные в шкуры призраков, с бурдюками на шеях и костяными копьями в руках (лично я держал плазменную винтовку), стоящие на громадных когтях, мы, должно быть, сильно смахивали на астронавтов с рисунков эпохи палеолита на Старой Земле.
Благодаря скейтам по поверхности мы двигались гораздо быстрее, нежели в туннелях. Когда ветер дул с юга (жаль, что ненадолго), мы раскидывали руки, и нас влекло по льду будто парусные корабли.
Поверхность Седьмой Дракона отличалась своеобразной, отложившейся в памяти красотой. Пока светило солнце, небо оставалось черным, но стоило светилу скрыться за горизонтом, как на небосводе высыпали мириады звезд. Накидки и комбинезоны хорошо защищали от перепада температур днем, однако ночью на поверхности замерзли бы даже чичатуки. По счастью, нам предстояло переждать всего одну шестичасовую ночь, до которой еще оставался целый световой день.
На поверхности не было ни гор, ни холмов — только ледяные гребни; правда, на юге виднелось нечто высокое, освещенное лучами солнца. Мне понадобилось некоторое время, чтобы догадаться, что это небоскреб отца Главка, точнее, торчащая изо льда макушка здания. В остальном же глазу, как говорится, не за что было зацепиться, я еще подивился тому, как чичатуки ухитряются определять направление, но потом заметил, что Кучиат то и дело поглядывает на солнце и на свою тень.
Весь день мы двигались на север. Чичатуки выстроились кольцом, внутри которого находились знахарь и хранитель огня. Воины сжимали в руках костяные копья. Кучиат катился впереди, а Чиаку, который, как мы определили, был его помощником, ехал последним, чуть ли не задом наперед, высматривая возможных преследователей. У каждого из чичатуков имелась обернутая вокруг талии веревка — нас троих тоже, кстати сказать, экипировали соответствующим образом; я понял, зачем она нужна, когда Кучиат неожиданно свернул к востоку, огибая трещины во льду. Я бросил взгляд в одну из трещин, дна не увидел и попытался представить, каково придется тому, кто туда упадет… Ближе к вечеру кто-то из воинов все-таки провалился в очередную трещину, но выбрался самостоятельно, при помощи своего скейта, которым вырубил ступеньки во льду. Кучиат с Чиаку не успели еще приготовить веревки. Безусловно, чичатуки были дикарями, но недооценивать их способности к выживанию ни в коем случае не следовало.
В первый день призраки нам не попадались. Когда солнце село, мы вдруг заметили, что Кучиат в компании нескольких соплеменников катается кругами, словно выискивая что-то во льду. Ветер между тем продолжал швыряться пригоршнями льдинок. Будь мы в скафандрах, лицевые щитки наверняка покрылись бы многочисленными выщербинами, а на масках из кожи призраков не было ни единой царапины.
Наконец Айчакут, отъехавший далеко на запад, замахал руками — кричать не давали маски, — и мы все покатили к нему. На мой взгляд, место, на котором он стоял, ничем особенным не отличалось. Кучиат жестом велел всем отойти, снял со спины подаренный нами топор и принялся колоть лед. Под верхним слоем обнаружилась узкая щель — вход в пещеру. Четыре воина взяли на изготовку копья и вместе с Кучиатом и хранителем огня Чичтику осторожно пробрались внутрь. Остальные замерли в ожидании.
Мгновение спустя из пещеры показалась голова Кучиата. Вождь махнул рукой с топором, приглашая спускаться. Мне вдруг почудилось, будто я различаю на его лице, под забралом из зубов, довольную усмешку. Да, топор оказался хорошим подарком.
Мы провели ночь в логове призрака. Я помог Чиаку забаррикадировать вход снегом и льдом на глубину около метра. Чичтику принялся растапливать лед, чтобы в пещере можно было дышать. Двадцать три представителя Неделимого Народа и три Неразлучных Путника спали прижавшись друг к другу, сняв только маски. А снаружи свирепствовала буря, мчавшая над поверхностью облака льдинок почти со скоростью звука…
Последняя ночь в компании чичатуков запомнилась мне еще и тем, что стены ледяной пещеры были выложены человеческими костями и черепами, расположенными, не побоюсь этих слов, с претензией на изящество и художественный вкус.
На всем протяжении пути мы так и не встретили ни единого призрака — ни детеныша, ни взрослого. Целый день катили на скейтах, а незадолго до заката скинули хорошо послужившие лыжи и вошли в туннель, который вел к порталу. Спустившись достаточно глубоко, стянули маски и балахоны и неохотно вернули их чичатукам. Не знаю, как другим, а мне казалось, будто мы расстаемся с вещами, благодаря которым стали на время членами племени.
Кучиат что-то сказал. Я не понял, однако Энея перевела:
— Нам повезло… Мол, еще не бывало такого, чтобы призраки не нападали на людей на поверхности… Он говорит, что за удачей обязательно приходит беда.
— Скажи ему, я надеюсь, что он ошибается, — ответил я.
Увидев реку, над которой клубился пар, мы испытали что-то вроде шока. Несмотря на усталость, все взялись за работу. В рукавицах собрать плот было не так-то просто, но с помощью чичатуков мы управились за пару часов. Вскоре наш кораблик, жалкое подобие себя прежнего, уже покачивался на воде, лишенный мачты, палатки и очага. Но кормовое весло было на месте, а шесты, хоть и выглядели менее надежными, чем раньше, особых опасений не вызывали.
Расставание получилось более тягостным, чем я ожидал. Мы обнялись по меньшей мере дважды. На ресницах Энеи виднелись сосульки, да и мне пришлось несколько раз сглатывать комок в горле.
Наконец мы оттолкнулись от берега — было очень странно чувствовать, что двигаешься, стоя на месте (настолько крепко отложился в памяти ритм дневного перехода). Ледяная стена приближалась. Мы пригнулись, когда плот нырнул под козырек, и внезапно очутились… неизвестно где.
В лицо ударили лучи встающего из-за горизонта солнца. Река разлилась и текла неспешно и величаво. Скалистые берега поднимались террасами и плавно переходили в пустыню, которую оживляли только редкие желтые кустики да видневшиеся вдалеке холмы. Огромное алое солнце поднималось все выше, заливая пустыню ослепительным сиянием. Разница в температуре с ледяной пещерой составляла около пятидесяти градусов. Жмурясь от света, мы скинули шкуры и сложили их на корме плота. Обледенелые бревна быстро оттаяли и заблестели на солнце.
Даже не сверившись с путеводителем и не спросив комлог, мы решили, что очутились на Кум-Рияде. На эту мысль нас навела скалистая пустыня — колонны красного песчаника на фоне розового неба, красные каменные глыбы, изящные красные арки, по сравнению с которыми отдаляющийся портал казался сущим карликом. Река какое-то время текла под этими естественными мостами, затем свернула в широкую долину, где задувал обжигающий ветер, пригибавший к земле кустарник и гнавший облака красной пыли, что оседала на шкурах призраков, забивалась в рот и лезла в глаза. К полудню местность стала более живой — окультуренной, что ли. От реки под прямым углом отходили ирригационные каналы, вдоль которых стройными рядами тянулись низкорослые желтые пальмы и пурпурные хвощи. Вскоре показались первые здания, потом мы проплыли мимо деревни. Людей, однако, видно не было.
— Как на Хевроне, — прошептала Энея.
— С чего ты взяла? — отозвался я. — Может, они сидят по домам и занимаются своими делами?
Но время шло (как утверждал путеводитель, сутки на Кум-Рияде длились двадцать два часа), каналов становилось все больше, местность делалась все живописнее, деревни попадались все чаще, а люди по-прежнему не показывались. Домашних животных тоже видно не было. Мы дважды приставали к берегу — чтобы набрать воды из артезианского колодца и чтобы выяснить, откуда доносится глухой стук. Как оказалось, это стучала на ветру болтавшаяся на одной петле дверь.
Внезапно Энея согнулась, вскрикнула и схватилась за живот. Я упал на колено и повел вдоль пустынной улицы дулом пистолета, андроид же подбежал к девочке.
Никто вроде бы по нам не стрелял. Во всяком случае, сколько я ни всматривался в окна, но так и не уловил ни единого движения.
— Все в порядке, — выдохнула Энея. — Просто вдруг стало больно…
Чувствуя себя полным идиотом из-за того, что обнажил оружие, я подошел к девочке, сунул пистолет в кобуру и взял Энею за руку.
— Что случилось, детка?
— Не знаю, — выдавила она сквозь рыдания. — Что-то ужасное… Но что, не знаю… — Мы повели ее к плоту. — Пожалуйста, давайте уплывем отсюда… — Несмотря на испепеляющую жару, зубы девочки выбивали дробь.
А.Беттик установил палатку, которая теперь заняла едва ли не весь изрядно укоротившийся плот. Мы расстелили в тени шкуры и уложили на них Энею, потом дали ей напиться из бурдюка.
— Это связано с деревней? — спросил я. — Она как-то…
— Нет, — перебила Энея. Было видно, как девочка отчаянно пытается совладать со своими чувствами. — Тут тоже произошло что-то ужасное, но там… позади…
— Позади? — Я оглянулся. Ничего — отдаляющаяся деревня, желтые пальмы, долина, широкое русло реки…
— На ледяном мире? — мягко уточнил А.Беттик.
— Да, — проговорила Энея и вновь согнулась пополам. — Ой, мамочка! Как больно!
Я положил ладонь ей на лоб. Кожа девочки была неестественно горячей. Мы достали из вещмешка медпакет, и я включил режим диагностики. Выяснилось, что у Энеи лихорадка, приступи боли силой 6,3 дола, мышечные судороги и нарушения мозговой деятельности. Прибор посоветовал дать пациенту воды с ибупрофеном и обратиться к врачу.
— Город, — сказал андроид, когда плот миновал излучину реки.
Я выглянул из палатки. Вдалеке, километрах в пятнадцати, возвышались красные башни, купола и минареты.
— Не отходи от нее. — Я навалился на шест. Нынешний плот был гораздо легче себя прежнего, а потому, подгоняемый вдобавок течением, двигался намного быстрее.
Мы с А.Беттиком изучили покоробившийся от воды путеводитель и выяснили, что перед нами Мешхед, столица южного континента, местоположение Великой Мечети, чьи минареты становились видны все явственнее. Пошли пригороды, промышленные районы, наконец начался собственно город. Энея задремала. Температура у девочки подскочила выше прежнего; на медпакете мерцали алые огоньки, что означало настоятельную рекомендацию обратиться к врачу.
Но где его было взять? Мешхед, как и Новый Иерусалим, оказался совершенно безлюдным. Чудеса, да и только.
— Помнится, я слышал, что Бродяги оккупировали Кум-Рияд в то же время, что и Угольный Мешок, — сказал я. А.Беттик утвердительно кивнул и прибавил, что они с Мартином Силеном как-то перехватили радиограмму, в которой подтверждались эти сведения.
Мы причалили к невысокому пирсу. Я вынес девочку на берег, в тень городских зданий. Происходящее и впрямь сильно напоминало Хеврон, лишь мы с Энеей поменялись местами — заболела она. Я мысленно поклялся в дальнейшем по возможности избегать пустынных миров.
Улицы Мешхеда выглядели менее опрятными, чем в Новом Иерусалиме: их загромождали брошенные машины и кучи мусора. Многие окна и двери были выбиты или распахнуты настежь, из-за чего внутрь намело песка. Повсюду — на тротуарах, на мостовых и на медленно, но верно погибающих лужайках и газонах — валялись какие-то коврики. Я остановился у одного из них: мне вдруг пришло в голову, что он может оказаться ковром-самолетом. Но мои надежды не оправдались. Обыкновенные коврики, разве что занимавшие одинаковое положение…
— Коврики для молитвы, — заметил А.Беттик, когда мы двинулись дальше. Даже высотные жилые здания были ниже минаретов, возвышавшихся над парком, где росли тропические деревья. — Почти все местные жители были мусульманами. Они не желали иметь ничего общего с Орденом, их не привлекло даже фактическое бессмертие. Словом, отвергли Протекторат, не захотев ничего слушать.
Я свернул за угол и огляделся по сторонам, высматривая больницу. Горячий лоб Энеи обжигал мне щеку. Дыхание девочки было прерывистым. Казалось, она ровным счетом ничего не весит.
— По-моему, это место описано в «Песнях».
Андроид кивнул:
— Совершенно верно. Месье Силен утверждал, что полковник Кассад около трехсот лет назад одержал здесь победу над так называемым Новым Пророком.
— Когда пала Сеть, к власти снова пришли шииты? — Мы свернули на другую улицу. Признаюсь, я высматривал не столько привычный красный крест, сколько красный полумесяц.
— Да. Орден отчаянно этому противился на том основании, что шииты будто бы поддержали Бродяг, когда флот Ордена покинул этот сектор галактики.
— Похоже, прием был не слишком теплым. Во всяком случае, с точки зрения Бродяг. Очень похоже на Хеврон… Как по-твоему, куда они все подевались? Может, Бродяги взяли в заложники все население планеты и…
— Смотрите! — перебил А.Беттик. — Кадуцей![97]
И правда, на окне одного из домов был изображен неизмеримо древний символ — крылатый жезл, вокруг которого переплелись телами две змеи. Само здание ничуть не напоминало больницу — скорее уж какую-нибудь контору. А.Беттик приблизился к висевшей на окне электронной табличке, по которой бежали арабские слова. Табличка глухо забормотала.
— Ты читаешь по-арабски? — удивился я.
— Да, — ответил андроид. — А также понимаю, что нам говорят. Это язык фарси. На десятом этаже находится частная клиника. Мне кажется, там должно найтись необходимое оборудование — быть может, даже автохирург.
Я направился было к лестнице, но андроид нажал на кнопку лифта. Послышалось гудение, и к нам спустилась стеклянная кабина.
— Странно, — пробормотал я. — Почему до сих пор не отключилось питание?
Мы поднялись на десятый этаж. Энея проснулась и тихонько застонала. Выложенный плиткой коридор вывел нас на открытую террасу, где шелестели на ветру желтые и зеленые пальмы; с террасы мы попали в просторную светлую комнату с несколькими автохирургами и диагностическим оборудованием. Выбрав кровать у окна, мы раздели девочку до белья и положили ее на чистую простыню, подключили диагностер автохирурга и стали ждать. На панели управления монитора имелась клавиша выбора языка: арабскому и фарси мы предпочли сетевой английский.
Автохирург определил переутомление, обезвоживание организма и необычную мозговую деятельность, которая, по его мнению, могла возникнуть вследствие сильного удара по голове. Мы с А.Беттиком переглянулись. Энею никто по голове не бил.
Получив разрешение на лечение первых двух заболеваний, автохирург взялся за дело. На руках и ногах Энеи защелкнулись пряжки ремней, псевдопальцы машины начали нащупывать вену, манипулятор ввел девочке успокоительное и солевой раствор. Мы отошли подальше.
Через несколько минут Энея спокойно уснула. Диагностер произнес что-то на арабском. А.Беттик перевел прежде, чем я успел подойти к монитору.
— Пациент должен как следует выспаться. К утру ему станет лучше.
Я поправил ремень висевшей у меня на плече плазменной винтовки, бросил взгляд на вещмешки, которые мы швырнули в кресла для гостей, подошел к окну и сказал:
— Пойду поброжу по окрестностям, пока не стемнело. Удостоверюсь, что мы и впрямь одни.
Андроид, сложив руки на груди, поглядел на огромное алое солнце, коснувшееся крыши здания напротив.
— Думаю, мы действительно одни. Просто здесь ушло больше времени…
— На что?
— На то, чтобы похитить людей. На Хевроне мы не заметили никаких следов паники или борьбы. А тут у людей было время выскочить из машин. И потом, эти коврики… — Я только теперь заметил сетку морщин в уголках глаз и губ андроида.
— Что «коврики»?
— Люди знали, что с ними что-то произойдет, а потому провели последние минуты в молитве.
Я прислонил винтовку к креслу и расстегнул кобуру.
— Все равно пойду посмотрю. А ты последи за ней, ладно? — Я достал из вещмешка два комма, один кинул андроиду, а второй прикрепил к своему воротнику. — Если что, вызывай меня на стандартной частоте.
Рука А.Беттика легла на лоб девочки.
— Не беспокойтесь, месье Эндимион. Я буду здесь, когда она проснется.
Странно, что я столь отчетливо помню прогулку по пустынному городу. Электронная табличка сообщила, что температура сегодня сорок градусов по Цельсию — сто четыре по Фаренгейту; однако ветерок из пустыни мгновенно высушивал пот, а розово-алый закат замечательно успокаивал расшалившиеся нервы. Возможно, этот вечер отложился в памяти потому, что в последующие дни все резко и бесповоротно изменилось…
Мешхед представлял собой странное сочетание современного города и базара из «Тысячи и одной ночи», великолепного сборника сказок, которые бабушка пересказывала мне под звездным небом Гипериона. Чувствовался некий намек на романтику. На углу, к примеру, стояли электронная доска объявлений и банкомат, а стоило свернуть за угол — и невесть откуда возникали пестрые прилавки, на которых гнили фрукты. Я попытался вообразить, какая здесь царила суматоха — ржали и топали копытами лошади (или верблюды, или другие не менее легендарные животные), покупатели, не жалея глоток, торговались с продавцами, мимо скользили закутанные в чадры женщины, а вдоль рядов катили машины, отчаянно сигналя и выплевывая омерзительный диоксид углерода — или кетоны, или еще какую-нибудь дрянь, которую выбрасывали в атмосферу древние двигатели внутреннего сгорания…
Из грез меня вырвал напевный мужской голос. Он произносил слова, отдававшиеся эхом от каменных стен. Судя по всему, голос доносился из парка в паре кварталов слева. Я бросился в том направлении, на бегу вытаскивая из кобуры пистолет.
— Слышишь? — крикнул я в микрофон.
— Слышу, — ответил А.Беттик. — Дверь на террасу открыта, поэтому слышно превосходно.
— Похоже на арабский. Можешь перевести? — Преодолев последние метры и лишь слегка запыхавшись, я вылетел на лужайку, за которой начинался парк. Передо мной возвышалась грандиозная мечеть. Еще несколько минут назад над крышами виднелся краешек заходящего солнца, но пока я бежал, светило успело скрыться. Лишь розовели в небе перистые облачка.
— Да, — отозвался андроид. — Это муэдзин созывает правоверных к молитве.
Я поднес к глазам бинокль и принялся изучать минареты. Голос исходил из громкоговорителей, установленных на балконе каждой башни. Никакого движения заметно не было. Муэдзин вдруг замолчал, и воцарилась тишина, которую нарушал только птичий щебет.
— Скорее всего запись, — заметил А.Беттик.
— Пойду проверю. — Я спрятал бинокль в чехол и направился по выщербленным каменным плитам к входу в мечеть. Миновал несколько лужаек, пересек двор и остановился перед распахнутой дверью. Пол мечети загромождали сотни ковриков. Я увидел стройные колонны, которые поддерживали изящные арочные пролеты; у дальней стены одна из арок нависала над полукруглой нишей. Справа от ниши виднелась лестница с каменными перилами, украшенными затейливой резьбой, и платформа с навесом. Не входя в здание, я описал А.Беттику то, что увидел.
— Ниша называется михраб, — сообщил андроид. — Она предназначается для имама, главы мусульманской общины. А возвышение справа — минбар, то есть кафедра проповедника. Вы никого не заметили?
— Нет. — Коврики и ступени лестницы покрывал слой пыли.
— Значит, мы действительно слышали запись.
Меня подмывало войти внутрь, однако нежелание осквернить чужую святыню оказалось сильнее. Впервые я испытал схожее чувство еще в детстве, когда попал в католический собор на Клюве; а когда повзрослел и пошел служить в силы самообороны, один мой приятель все порывался отвести меня в один из последних дзен-гностических храмов на Гиперионе… Уже ребенком я понимал, что в подобных местах всегда буду посторонним: своей веры нет, а вера окружающих кажется странной… В общем, входить я не стал.
По дороге обратно, в одном из наиболее живописных кварталов, я наткнулся на обсаженный пальмами бульвар. На ручных тележках лежали предназначавшиеся для продажи продукты и игрушки. Я остановился у лотка с жареными орехами и принюхался. Судя по запаху, орехи испортились от силы несколько дней тому назад.
Бульвар вывел меня к реке. Я свернул налево, чтобы по набережной выйти к той улице, на которой находилась клиника. Время от времени я связывался с А.Беттиком. Энея по-прежнему спала.
На город опускалась ночь. Появились первые звезды, смутно различимые сквозь нависшую над Мешхедом пыль. В центре города светилось очень мало окон — по всей видимости, катастрофа произошла средь бела дня, — однако вдоль набережной горели старинные газовые фонари. Если бы не фонарь поблизости от причала, у которого мы оставили плот, я бы, возможно, ничего не заметил. А так — в свете фонаря я за добрую сотню метров до причала разглядел, что на плоту кто-то стоит.
Этот кто-то стоял неподвижно. Очень высокий, в серебристом костюме… Свет фонаря отражался от незваного гостя, будто на том был хромированный скафандр.
Я шепотом сообщил А.Беттику, что на плоту кто-то есть, велел присматривать за девочкой, а сам достал из кобуры пистолет и поднес к глазам бинокль. В ту же секунду серебристая фигура повернулась в мою сторону.
Глава 49
Капитан отец де Сойя пришел в себя в привычной теплой тьме внутри реаниматора. Переждав неизбежный приступ слабости и обуздав на время сумятицу в мыслях, он выбрался наружу и поплыл к пульту управления.
Все как и должно быть: «Рафаил» на геостационарной орбите Седьмой Дракона, что подтверждает и ослепительно сверкающий за иллюминатором ледяной эллипс, торможение почти прекратилось, трое спутников в реаниматорах вот-вот очнутся, бортовой компьютер поддерживает надлежащую температуру, невесомость сохранится до того момента, пока все члены экипажа не наберутся сил… Капитан отдал первый в новой жизни приказ — распорядился сварить всем кофе. Как обычно, сразу после воскрешения де Сойя подумал о своей кофейной чашке, которую оставил в нише рядом с навигаторским столиком.
Внезапно он заметил мигающий световой индикатор. Это означало, что поступило срочное сообщение. Странно. Пока они находились у Пасема, никаких сообщений не поступало; а тут, в этой глуши, откуда ни возьмись поступило. Интересно, от кого? Кораблей Ордена тут нет (сюда порой заглядывают только факельщики, пополняющие запасы водорода на трех газовых гигантах). Де Сойя проверил бортовой журнал: все верно, за минувшие три дня с «Рафаилом» не пытался связаться ни один звездолет. Вдобавок, по сведениям компьютера, на Седьмой Дракона не было ни гарнизона, ни монастыря — контакт с миссионерами был утерян больше пятидесяти стандартных лет тому назад.
Де Сойя приказал компьютеру прочесть сообщение. Это оказалась радиограмма из Ватикана. Сообщение поступило за доли секунды до того, как «Рафаил» совершил квантовый прыжок и покинул пространство Пасема. Оно было предельно кратким и гласило: «ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА ВАМ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО НАПРАВИТЬСЯ К ПЛАНЕТЕ РОЩА БОГОВ. ПОДПИСИ: АВГУСТИНО. МАРУСИН. КОНЕЦ».
Капитан вздохнул. Столько времени потрачено зря! Смерти, воскрешения — все впустую. Он опустился в кресло, уставился невидящим взглядом на сверкающий лимб ледяной планеты в иллюминаторе. Снова вздохнул, поднялся и двинулся в душ, задержавшись только для того, чтобы выпить кофе. Одну руку протянул за чашкой, другой набрал на пульте команды для автоматического душа. Ему подумалось, что надо бы поискать купальный халат. Ведь на борту женщина.
Рука замерла, когда пальцы нащупали пустоту. Капитан даже вздрогнул от неожиданности. Кто-то переставил его чашку!
Новый член экипажа, капрал Радаманта Немез, очнулась последней. Трое мужчин старательно отводили глаза, пока она выбиралась из реаниматора и летела в душевую кабинку, однако в каюте «Рафаила» было немало зеркальных панелей, в которых отразились плотное тело женщины, бледная кожа и лиловый крестоформ меж маленьких грудей.
Чуть позже она присоединилась к мужчинам, вместе со всеми причастилась и уселась за стол. Вид у нее был слегка растерянный.
— Это ваше первое воскрешение? — мягко спросил де Сойя.
Капрал кивнула. Ее иссиня-черные волосы были коротко острижены, только ко лбу прилипла мокрая прядь.
— Сказать, что со временем вы привыкнете, было бы преувеличением. На самом деле каждое воскрешение воспринимается как первое.
Немез пригубила кофе. Сила тяжести на борту постепенно возрастала, и женщина явно пыталась приноровиться к новым условиям. По контрасту с черно-красным мундиром ее кожа выглядела неестественно белой.
— А почему мы не летим дальше? — справилась она. — Ведь нам приказано отправляться немедленно.
— «Рафаил» сойдет с орбиты через пятнадцать минут, — отозвался де Сойя. — Мы пойдем к точке перехода с ускорением 2g, чтобы у нас было время отдохнуть перед новым прыжком.
Радаманта Немез поежилась — очевидно, при мысли о смерти, которая им вновь предстояла. Бросила взгляд в иллюминатор, посмотрела на обзорные экраны и спросила, словно желая сменить тему:
— Неужели река не замерзла вместе с атмосферой?
— Думаю, она течет подо льдом, — произнес сержант Грегориус, внимательно наблюдавший за новичком. — Ледник укрывает ее от вакуума.
Брови Немез поползли вверх.
— А на что похожа Роща Богов?
— Вы не знаете? — удивился Грегориус. — Мне казалось, о Роще Богов слышали все.
Радаманта Немез покачала головой:
— Я родилась и выросла на Эсперансе. Там в основном живут фермеры и рыбаки, которые не особенно следят за тем, что происходит на других планетах. Их не интересовала Сеть, не интересует и Орден. Они слишком заняты, главное для них — выжить, добыть средства к существованию…
— Роща Богов когда-то принадлежала тамплиерам, — проговорил де Сойя, ставя кофейную чашку на привычное место в нише. — Она сильно пострадала от Бродяг, атака которых предшествовала Падению, но говорят, что в свое время планета была поистине прекрасна.
— Так точно, сэр, — подтвердил Грегориус. — Братство тамплиеров Мюира[98] представляло собой нечто вроде культа природопоклонников. Они превратили Рощу Богов в громадный лес, деревья которого были выше и прекраснее секвой и сандаловых деревьев Старой Земли. Все тамплиеры, двадцать с лишним миллионов, жили на этой планете, в городах и на платформах на ветвях деревьев. Однако когда началась война, они допустили ошибку…
Капрал Немез подняла голову.
— То есть присоединились к Бродягам? — Похоже, слова сержанта шокировали женщину.
— Вот именно, подружка, — откликнулся Грегориус. — Быть может, это случилось потому, что у них были космические деревья…
Немез издала короткий, лающий смешок.
— Он не шутит, — проговорил Ки. — Тамплиеры помещали деревья в силовое поле класса девять, которое создавали эрги, электрические твари с Альдебарана, и снабжали их реактивными двигателями. На некоторые даже устанавливали генераторы Хоукинга.
— Летающие деревья. — Капрал Немез снова засмеялась.
— Когда на Рощу Богов напал Рой, — продолжил Грегориус, — некоторым удалось улететь, но большинство погибло… сгорело вместе с деревьями. Говорят, поверхность планеты добрых сто лет укрывал слой пепла, а из-за дыма, клубы которого затянули небо, возник эффект «ядерной зимы».
— Ядерной зимы? — переспросила Немез.
Де Сойя, пристально глядевший на женщину, спрашивал себя, как можно было доверить папский диск столь невежественному существу. Или чем человек наивнее, тем решительнее он убивает себе подобных?
— Капрал, — произнес капитан, обращаясь к Немез, — вы сказали, что выросли на Эсперансе. Вам довелось служить в тамошних силах самообороны?
Женщина покачала головой:
— Никак нет, сэр. Я завербовалась во флот. Начался голод… А тут появились вербовщики, ну и…
— Где вы служили?
— На Фрихольме, — ответила Немез. — Я была в учебном лагере.
Грегориус подался вперед, облокотился на стол.
— Какая бригада?
— Двадцать третья. Шестой полк.
— А, Кричащие Орлы. Там служила моя знакомая, — произнес Ки. — Кто вами командовал? Генерал Колмен?
Немез вновь покачала головой:
— Нет. Генерал Диринг. Я провела там десять месяцев по местному календарю. Это получается… да, восемь с половиной стандартных. А когда начали набирать добровольцев в Первый Легион… — Она замолчала, словно отказываясь разглашать секретные сведения.
Грегориус почесал подбородок.
— Странно, я ничего об этом не слышал. Сами знаете, в армии все тайное быстро становится явным. Долго вас учили?
— Два года, сержант. — Немез выдержала взгляд Грегориуса. — Информация оставалась секретной до недавнего времени. В основном нас тренировали на Ли-3 и в Кольце Ламберта.
— Вот как? Значит, вас обучали воевать в условиях малой силы тяжести и невесомости?
— Не то слово. — Немез одарила сержанта кривой усмешкой. — На целых пять месяцев нас забросили в скопление Скитальца.
Капитан де Сойя почувствовал, что беседа начинает походить на допрос. Конечно, не стоит так наседать на новичка, но ему было любопытно не меньше, чем Ки с Грегориусом. Кроме того, он ощущал некую недосказанность…
— Насколько я понимаю, легионы выполняют ту же работу, которую раньше делала морская пехота? Захватывают звездолеты?
— Не совсем, сэр. Легионы создавались для того, чтобы нападать на врага.
— Поясните, пожалуйста, капрал. По-моему, девяносто процентов сражений и так происходит на территории Бродяг.
— Да, но флот наносит удар и отступает. А легионы будут занимать вражеские укрепления.
— Это как? — не понял Ки. — Ведь укрепления Бродяг в большинстве своем находятся в космосе. Все эти орбитальные леса…
— Если понадобится, — с улыбкой проговорила Немез, — легионы будут сражаться и в вакууме.
Грегориус перехватил взгляд капитана, говоривший: «Хватит», покачал головой и сказал:
— Честно говоря, не могу представить, чем ваши легионы лучше швейцарской гвардии.
Де Сойя поднялся:
— Ускорение через две минуты. Пора занимать места. Беседу продолжим в лежачем положении.
Чтобы сбросить скорость в системе Седьмой Дракона, «Рафаилу» потребовалось почти одиннадцать часов торможения при двух «g», однако компьютер определил, что точка перехода для прыжка к Роще Богов находится лишь в тридцати пяти миллионах километров от ледяной планеты. При ускорении в одно «g» корабль мог достичь ее за двадцать пять часов, но де Сойя запрограммировал компьютер на шестичасовое ускорение при двух «g»; затем звездолету предстояло разогнаться и накопить энергию для защитных экранов, иначе прыжок с ускорением в сто «g» расплющит в лепешку все оборудование на борту.
За несколько минут до прыжка члены экипажа в последний раз обсудили план действий — три дня на воскрешение, после чего высадка на планету, обследование русла реки и подготовка к встрече с Энеей. Командовать операцией де Сойя поручил Грегориусу.
— Интересно, с какой стати Его Святейшеству вздумалось нами поруководить? — проговорил капрал Ки.
— Наверно, ему было видение, — ответил де Сойя. — Ладно, по местам. Я проверю все системы.
Как и подобает капитану корабля, он занимался этим перед каждым прыжком.
Оставшись в одиночестве, де Сойя вызвал на монитор сведения о неудачном прыжке к Хеврону. Он уже просматривал материалы, но сейчас вернулся к ним снова. Ничего необычного: снимки с орбиты — сожженные города и деревни, воронки, клубы дыма в атмосфере, радиоактивные развалины Нового Иерусалима; эхо-сигналы трех вражеских крейсеров… Получив подтверждение на радаре, компьютер прервал процесс воскрешения, и корабль покинул систему с ускорением в двести восемьдесят «g» — как говорится, удрал без оглядки. Защитные экраны Бродяг больше восьмидесяти «g» не выдерживали, поэтому врагам пришлось выбирать — либо погибнуть (а воскрешение язычникам было заказано), либо отказаться от преследования. Они предпочли второе.
Впрочем, Бродяги — снимки запечатлели зеленые плазменные хвосты за их кораблями — попытались подбить «Рафаил» с расстояния в добрую астроединицу, но внешний экран легко отразил этот залп отчаяния. Затем авизо прыгнул к Безбрежному Морю, ближайшей планете на территории Ордена…
Все как будто было в порядке, снимки выглядели достоверно, но де Сойя категорически отказывался им верить.
Он и сам не знал, почему настроен столь скептически. Разумеется, снимки можно подделать, люди успешно занимались этим на протяжении тысячи лет, с начала Цифровой Эпохи. Подобное развлечение было доступно даже ребенку. Но что касается бортового журнала… Тут необходимы поистине гигантские усилия. Так почему же он не доверяет памяти компьютера?
Капитан вызвал информацию о прыжке к Седьмой Дракона. Оглянулся через плечо на реаниматоры — крышки закрыты, на каждом мерцают зеленые огоньки. Грегориус, Ки и Немез готовятся к смерти. Сержант, как обычно, молится, Ки читает книгу на экране монитора. А вот о том, что делает женщина, де Сойя не имел ни малейшего понятия.
Отец Федерико догадывался, что ведет себя, мягко выражаясь, глупо. «Но ведь кто-то передвинул мою чашку! Кто-то ее трогал!» Быть может, чашку переставили еще на орбите Пасема? Нет, к навигаторскому столику никто не подходил. Радаманта Немез появилась на корабле раньше всех, но де Сойя прекрасно помнил, что пил кофе перед стартом, когда женщина уже легла в реаниматор. Он, как всегда, занял свое место последним. Естественно, при ускорении или торможении посуда может разбиться, не то что отъехать в сторону; но вектор торможения «Рафаила» был коллинеарен курсу корабля, поэтому незакрепленные предметы попросту не могли сдвинуться вбок. Вдобавок в нише имелись фиксаторы.
Капитан де Сойя принадлежал к древнему роду моряков и астронавтов, которые сделались с течением времени настоящими фанатиками порядка. Два десятка лет службы на фрегатах, эсминцах и факельщиках приучили его к тому, что в невесомости вещи как попало бросать не следует, иначе рискуешь получить брошенной вещью по физиономии. Кроме того, у него была унаследованная от предков привычка держать все под рукой, в определенном месте, чтобы при случае без труда найти на ощупь. Конечно, то, что кружка сдвинулась в сторону, — пустяк, но если вдуматься… У каждого из членов экипажа, за исключением новичка, была собственная ниша у навигаторского столика, служившего также обеденным столом. Когда прокладывали курс или изучали карту планеты, все сидели на своих креслах и никогда не занимали чужих. Во-первых, такова человеческая натура, а во-вторых, такова натура астронавтов, которые стремятся сделать непредсказуемую вселенную хоть чуточку предсказуемее.
Итак, кто-то сдвинул его чашку… Быть может, задел коленом, усаживаясь за стол… Кто же? Быть может… Нет, ерунда! Капитан мысленно обозвал себя параноиком.
Неожиданно ему вспомнились слова Грегориуса. Сержант только-только выбрался из реаниматора, а Немез еще не очнулась.
— Сэр, один мой приятель охраняет Ватикан. Он знает и Ки, и Реттига. Мы с ним пропустили по стопочке перед отлетом. Так вот, он клянется, что видел, как Реттига несли на носилках к машине «скорой помощи».
— Не может быть. Стрелок Реттиг умер, сержант. Неполадки в системе воскрешения. Его похоронили в космосе.
— Так нам сказали, сэр, — проговорил Грегориус. — Но мой приятель уверен, что не ошибся. Реттиг был без сознания и его несли на носилках. Правда, на лице у него была кислородная маска…
— Чушь какая-то, — произнес де Сойя. Он никогда не верил в конспирацию, поскольку усвоил на собственном опыте: о том, что вначале известно только двоим, очень быстро узнают все вокруг. — Зачем Ордену и Церкви нас обманывать? И потом, если Реттиг и впрямь жив, куда он подевался?
— Не знаю, сэр. — Грегориус пожал плечами. — Может, мой приятель все-таки ошибся… Я долго себя в этом убеждал. Но машина…
— Что машина? — требовательно спросил де Сойя.
— Машина направилась к замку Святого Ангела, сэр, — ответил сержант. — А в этом замке размещается святая инквизиция.
Паранойя, самая настоящая паранойя.
Сведения о торможении, длившемся одиннадцать часов… Три дня, потраченные на воскрешение… Де Сойя бросил взгляд на цифры в углу экрана и вызвал картинку Седьмой Дракона. Его всегда интересовало, какие ощущения испытал бы сторонний наблюдатель, доведись ему оказаться на борту авизо в этот промежуток времени. Должно быть, на корабле царит жутковатая тишина…
— До прыжка три минуты, — сообщил механический голос. — Все члены экипажа должны лечь в реаниматоры.
Де Сойя пропустил предупреждение мимо ушей. Он вызвал на экран информацию о двух с половиной днях на орбите Седьмой Дракона. Что тут происходило, пока они приходили в сознание? Капитан сам не знал, что ищет… Никаких признаков преждевременного воскрешения, все в полном соответствии с правилами… Все записи в бортовом журнале… А это еще что?!
— До прыжка две минуты, — напомнил компьютер.
Так, первый день, вскоре после выхода корабля на стандартную геостационарную орбиту… и четыре часа спустя… Ничего необычного, если не считать отметки о включении четырех малых реактивных двигателей. Ну да, чтобы выйти на орбиту, корабль класса «Рафаила» маневрирует на реактивной тяге, но обычно компьютер включает кормовой и носовой двигатели. Судя по отметкам, авизо развернулся кормой к планете, чтобы солнечный свет равномерно распределялся по корпусу, но восемь минут спустя двигатели заработали вновь! Они включались еще трижды (последнее включение, впрочем, могло означать, что корабль повернулся к планете носом, на котором располагались камеры); через четыре часа восемь минут все повторилось. Эти отметки наметанный глаз де Сойи выделил из тридцати с лишним других.
— До прыжка одна минута.
Загудели генераторы поля. «Рафаил» готовился к прыжку, до которого оставалось пятьдесят шесть секунд и который сулил де Сойе неминуемую смерть. Капитан и не подумал встать. Если даже он останется в кресле, после прыжка компьютер сам переложит его тело в реаниматор. Хороший все-таки корабль — на него можно положиться.
На протяжении многих лет Федерико де Сойя был капитаном факельщика. В последние месяцы ему пришлось совершить больше десятка квантовых прыжков на «архангеле». Он знал, что означают отметки в бортовом журнале. Пускай запись стерли — о том, что происходило на борту «Рафаила», вполне можно догадаться. Двигатели включали, чтобы сориентировать «челнок» относительно планеты. Вторая отметка означала, что «челнок» отошел от корабля и «Рафаил» маневрирует, меняя положение в соответствии со сместившимся центром тяжести. После того как авизо вновь вышел на орбиту, реактивные двигатели развернули его носом к планете.
Эти отметки, пожалуй, вряд ли привлекли бы внимание человека неопытного, но де Сойя знал, что не ошибся. Он вызвал на экран другие сведения. Никаких упоминаний о том, что кто-то пользовался «челноком». Ни снимков, ни видео, на которых был бы запечатлен вылетающий из шлюза «челнок». Наоборот — судя по журналу, катер постоянно находился на борту. Процесс воскрешения у всех четырех членов экипажа длился ровно столько, сколько положено…
Словом, все было в порядке, если не считать загадочных отметок. Двигатели дважды включались на восемь минут с интервалом в четыре часа. За восемь минут «челнок» вполне успеет совершить посадку на планету, а снимков быть и не может — ведь корабль в тот момент развернулся к планете кормой. Что касается радара и звукозаписывающих устройств, компьютеру, вполне возможно, приказали их отключить — чтобы стирать пришлось как можно меньше.
Что же получается? Кто-то приказал компьютеру стереть всякое упоминание о том, что он — или она — воспользовался катером, и туповатая машина подчинилась. ИскИну «Рафаила», по всей видимости, невдомек, что человека, двенадцать лет командовавшего факельщиком, отметки о включении двигателей могут навести на след. Будь у де Сойи в запасе хотя бы час, он бы вызвал данные о расходе топлива, проверил бы топливные баки корабля и катера и водородный накопитель Буссарда, чтобы удостовериться окончательно. Но времени уже не было.
— До прыжка тридцать секунд.
Так, до реаниматора он добраться не успеет. Ну и ладно. Де Сойя вызвал программу установки параметров, ввел свой личный код и трижды перенастроил монитор. Последнее подтверждение компьютер выдал перед самым прыжком.
Тело капитана буквально разорвало в клочья, но де Сойя умер с ухмылкой на лице.
Глава 50
— Рауль!
До рассвета оставался еще по меньшей мере час. Снаружи бушевала песчаная буря. Мы с А.Беттиком сидели в той комнате, где спала Энея. Я дремал, андроид же, как обычно, бодрствовал, но к кровати девочки, на которую падал свет от экрана биомонитора, я подскочил первым.
— Рауль…
Если верить монитору, лихорадка спала, боль ушла. Меня беспокоила только энцефалограмма.
— Я тут, детка. — Ладонь девочки уже не была такой горячей.
— Ты видел Шрайка?
Ее вопрос застал меня врасплох. Впрочем, я быстро сообразил, что дело тут вовсе не в ясновидении и не в телепатии. Должно быть, Энея время от времени просыпалась и подслушала наш с А.Беттиком разговор по радио.
— Да. Но беспокоиться нечего. Здесь его нет.
— Ты его видел…
— Да.
Энея стиснула мою ладонь обеими руками, потом села. Ее глаза заблестели.
— Где, Рауль? Где ты его видел?
— На плоту. — Свободной рукой я подтолкнул девочку: мол, ложись. Ее майка была мокрой от пота. — Все в порядке, детка. Он просто стоял там, и все.
— Он повернул голову, Рауль? Он посмотрел на тебя?
— Да, но… — Я не докончил фразу. Энея тихонько застонала, затрясла головой. — Детка… Энея… все в порядке…
— Нет, не все, — проговорила она. — Господи, Рауль! Прошлой ночью я позвала его с нами. Ты об этом знаешь? Он отказался…
— Кто? — не понял я. — Шрайк?
А.Беттик встал у меня за спиной. Ветер швырял в окна красный песок.
— Нет, конечно, нет. — Щеки девочки были мокрыми — то ли от слез, то ли от пота. — Отец Главк. — Она говорила так тихо, что я с трудом разбирал слова. — Прошлой ночью я позвала его с нами. Не надо было этого делать… Я же знала, что ничего не выйдет… А раз просила, нужно было настоять…
— Не переживай, — сказал я, откидывая с ее лба мокрую прядь. — С отцом Главком все в порядке.
— Нет. — Девочка вновь застонала. — Он мертв, Рауль. Его убила та штука, которая преследует нас. Его и всех чичатуков.
Я посмотрел на монитор. Приборы утверждали, что о лихорадке можно забыть. Тогда я повернулся к А.Беттику. Андроид не сводил с девочки глаз.
— Ты хочешь сказать, их убил Шрайк?
— Нет, не Шрайк. — Энея приложила ладонь тыльной стороной к губам. — По крайней мере я так не думаю. Нет, это был не Шрайк. — Внезапно она стиснула мою руку. — Рауль, ты меня любишь?
Я ошеломленно воззрился на нее. Прошло несколько секунд. Не пытаясь высвободить руку, я ответил:
— Конечно, детка. Ну, я хочу сказать…
— Подожди. — В первый раз с того момента как проснулась, Энея взглянула мне в глаза и тихонько рассмеялась. — Извини, я слегка запуталась во времени. Ты меня, естественно, не любишь. Я забыла, когда мы… кто мы друг другу сейчас.
— Да ладно, — отозвался я, ничего толком не поняв, и погладил ее по руке. — Детка, ты нам очень дорога. Хочешь, спроси у А.Беттика — он подтвердит. Мы…
— Тс-с. — Энея прижала пальчик к моим губам. — Тс-с. Я вправду запуталась. Мне показалось, что мы… это мы. Какими будем… — Она глубже зарылась в подушки и вздохнула. — Господи, ночь перед прыжком на Рощу Богов! Последняя ночь…
Похоже, она все-таки бредит. Вслух я этого не сказал.
— Мадемуазель Энея, — произнес А.Беттик, — мы направляемся на Рощу Богов?
— Думаю, да, — ответила она тоненьким детским голоском. — Да. Нет. Не знаю. Все расплывается… — Энея снова села. — За нами гонится вовсе не Шрайк. И не Орден.
— А кто же еще? Конечно, Орден. — Сознание девочки явно утрачивало связь с реальностью. — Они преследовали нас с самого…
Энея покачала головой. Ее лицо выражало непоколебимую уверенность.
— Нет. Орден преследует нас потому, что так хочет Техно-Центр, для которого мы представляем опасность.
— Техно-Центр? Но ведь… сразу после Падения…
— Он существует, — заявила Энея. — Живет и здравствует. После того как Мейна Гладстон уничтожила Сеть, питавшую Техно-Центр, он отступил. Но не слишком далеко, Рауль. Неужели ты не понимаешь?
— Нет, — признался я. — Где же он прятался все это время?
— Среди нас, — мрачно откликнулась девочка. — Мой отец, точнее, его личность в петле Шрюна, которую носила мама, все мне объяснил еще до моего рождения. Техно-Центр дожидался того момента, когда Церковь начнет оживать под началом Поля Дюре — Папы Тейяра Первого. Дюре был хорошим человеком, Рауль, его знали и моя мама, и дядюшка Мартин. Он носил два крестоформа — свой и отца Ленара Хойта. Хойт был слабее, что ли…
Я погладил ее по руке.
— Детка, какое все это…
— Слушай! — перебила она, отдергивая руку. — Завтра, на Роще Богов, может произойти что угодно. Я могу умереть. Или умрем мы все. Будущее не написано, только обозначено штрихами… Если я умру, а ты останешься в живых, я хочу, чтобы ты рассказал дядюшке Мартину… и всем, кому будет интересно…
— Энея, ты не умрешь…
— Ну послушай же! — взмолилась она. На глаза девочки вновь навернулись слезы.
Я кивнул. Впечатление было такое, что стих даже ветер за окном.
— Тейяра убили на девятом году правления. Мой отец предсказал его смерть. Не знаю, кто это сделал — кибриды, агенты Техно-Центра или ватиканские наемники… Воскрес он уже не Полем Дюре, а Ленаром Хойтом, и тогда Техно-Центр начал действовать. Это с подачи Техно-Центра открыли способ, благодаря которому умершие воскресают нормальными людьми, а не бесполыми придурками, как гиперионские бикура…
— Но каким образом? — не выдержал я. — И как ИскИны Техно-Центра смогли приручить крестоформы?
Я прочел ответ в глазах девочки еще до того, как она заговорила.
— Крестоформ сотворили ИскИны. Точнее, не они сами, а тот Высший Разум, над созданием которого они до сих пор бьются. ВР отправил крестоформ в прошлое вместе с Гробницами Времени. Испытал его на затерянном в глуши племени, выяснил, что кое-чего не учел…
— Пустяки, — вставил я. — Эка невидаль, бесполые недоумки. Подумаешь!
— Вот именно. — Энея снова взяла меня за руку. — Техно-Центр сумел устранить недостатки и одарил новой технологией Церковь во главе с Папой Юлием Шестым. То бишь Ленаром Хойтом.
До меня начало доходить.
— Сделка Фауста…
— Наконец-то! Чтобы получить в свое распоряжение вселенную, от Церкви потребовалось только продать душу.
— И так появился Протекторат, — негромко заметил А.Беттик. — Власть, основанная на паразитах…
— Вот почему я сказала, что за нами гонится не Орден, а Техно-Центр, — продолжала девочка. — Вернее, за мной. Я представляю для него угрозу.
Я недоверчиво покачал головой:
— Ты? Какую угрозу ты можешь представлять? Совсем еще ребенок…
— Ребенок, который до своего рождения общался с отступником-кибридом, — прошептала Энея. — Мой отец, Рауль, проник за мегасферу. Он был в метасфере, в той нейрокибернетической сети, которой боятся даже ИскИны…
— Львы, медведи и тигры, — пробормотал А.Беттик.
— Они самые. Проникнув в мегасферу, мой отец спросил у ИскИна по имени Уммон, чего боится Техно-Центр.
Тот ответил, что элементы Техно-Центра боятся метасферы, где кишмя кишат львы, медведи и тигры.
— Ничего не понимаю, детка. Я окончательно запутался.
Девочка подалась вперед, стиснула мою руку и задышала мне в ухо:
— Рауль, ты же помнишь «Песни» дядюшки Мартина. Что случилось с Землей?
— Со Старой? — тупо переспросил я. — Если верить «Песням», Уммон сказал, что в Техно-Центре существуют три фракции, которые враждуют между собой… Я ведь уже рассказывал.
— Расскажи снова.
— Уммон сказал Китсу… э-э… твоему отцу, что Ренегаты хотели уничтожить человечество. Ортодоксы, к которым принадлежал он сам, желали спасти людей. Они представили все так, будто Старая Земля провалилась в черную дыру, а на деле переместили ее то ли в Магеллановы Облака, то ли в скопление Геркулеса. Третьей фракции, Богостроителям, на человечество и на Старую Землю было плевать; они создавали свой Высший Разум. — Энея молча ожидала продолжения. — А Церковь, — прибавил я с запинкой, — сочла за лучшее согласиться с тем, во что верили практически все. Что Старую Землю и впрямь поглотила черная дыра.
— А чему веришь ты, Рауль?
Я перевел дух:
— Не знаю. Мне хотелось бы, конечно, чтобы Старая Земля продолжала существовать, но, если честно, ее гибель не особенно меня огорчила.
— Есть и третья возможность, — промолвила Энея.
Стеклянные двери на террасу вдруг заходили ходуном.
Я схватился за пистолет, в глубине души ожидая увидеть Шрайка. Но это был ветер.
— Третья возможность?
— Уммон солгал. Никто из элементов Техно-Центра никуда Землю не перемещал. Ни Ренегаты, ни Ортодоксы, ни Богостроители.
— Значит, ее все же уничтожили?
— Нет. Мой отец впоследствии догадался… Старую Землю действительно переместили в Магеллановы Облака, но Техно-Центр не имел к этому ни малейшего отношения. Связующая Пропасть подчинялась воле ИскИнов, но не до такой степени. Техно-Центр не способен даже добраться до Магеллановых Облаков. Слишком далеко… просто невообразимо далеко…
— Тогда кто же? — спросил я. — Кто похитил Старую Землю?
Энея откинулась на подушку.
— Не знаю. Думаю, Техно-Центр тоже не знает. Но они и не хотят знать — и боятся, что мы узнаем.
А.Беттик подступил ближе.
— Значит, вовсе не Техно-Центр открывал перед нами порталы?
— Нет.
— А мы сможем узнать, кому обязаны? — поинтересовался я.
— Если выживем, — ответила Энея. — Если выживем. — В глазах девочки, сменив лихорадочный блеск, затаилась усталость. — Завтра нас будут ждать, Рауль. Я разумею не капитана с его людьми. Кто-то другой, отправленный в погоню Техно-Центром… Нет, не кто-то — что-то.
— Та штука, которая, по твоим словам, убила отца Главка, Кучиата и остальных?
— Да.
— Тебе что, было видение? Откуда ты узнала про отца Главка?
— Воспоминание, — устало ответила девочка. — Воспоминание из будущего.
Я посмотрел в окно, за которым понемногу затихала буря.
— Мы можем остаться здесь. Найдем скиммер или ТМП, полетим в северное полушарие и спрячемся в Али или в каком-нибудь другом городе. Выберем по путеводителю. Нам ведь вовсе не обязательно играть по их правилам, верно?
— К сожалению, ты ошибаешься.
Я проглотил слова протеста, готовые сорваться с языка, помолчал, затем спросил:
— А какую роль играет Шрайк?
— Не знаю. Все зависит от того, кто его послал на сей раз. А может, он явился по собственному желанию. Не знаю.
— По собственному желанию? Я думал, он — просто машина.
— Ни в коем случае. Он далеко не просто машина.
Я потер щеку.
— Не понимаю. Он что, твой друг?
— Нет. И никогда им не был. — Девочка села, приложила ладонь к тому месту на моей щеке, которое я почесал секунду назад. — Извини, Рауль. Я бы с радостью все объяснила — если бы знала. Будущее не написано, все может измениться в любое мгновение. Когда я замечаю перемену, мне кажется, я вижу на песке дивный узор. А потом налетает ветер и…
Словно услышав, что о нем вспомнили, ветер пустыни швырнул в окно пригоршню песка. Энея печально улыбнулась.
— Извини, что я слегка выпала из времени…
— Выпала?
— Ну, когда спросила, любишь ли ты меня. Я забыла, где мы и когда.
— Какая разница, детка? — проговорил я после паузы. — Я в самом деле люблю тебя. И тому, кто завтра попробует убить тебя, придется сначала покончить со мной, будь то Церковь, Техно-Центр или кто еще.
— Я тоже приложу все усилия, чтобы не допустить подобного исхода, мадемуазель Энея, — заверил А.Беттик.
Девочка с улыбкой взяла нас за руки.
— Железный Дровосек и Страшила… Чем я заслужила таких друзей?
Я усмехнулся (бабушка рассказывала мне эту историю).
— А где наш Трусливый Лев?
— Это я. — Улыбка Энеи угасла. — Мне страшно, Рауль.
Никто из нас больше не сомкнул глаз. Мы упаковали свои пожитки и с первыми лучами солнца покинули клинику.
Глава 51
Из-за того, что квантовый прыжок «Рафаил» совершил на относительно малой скорости, торможение у Рощи Богов заняло всего-навсего три часа при двадцати пяти «g».
Как только авизо вышел на орбиту, Радаманта Немез сдвинула крышку реаниматора, выбралась наружу и поплыла одеваться. Перед тем как сесть в катер, она проверила мониторы остальных реаниматоров и подключилась к бортовому компьютеру. Реаниматоры действовали в стандартном режиме, что давало Немез фору в три дня. К тому времени, когда де Сойя и его люди придут в себя, с девчонкой будет покончено. Радаманта ввела в компьютер те же параметры и инструкции, что и перед высадкой на Седьмую Дракона. Компьютер подтвердил, что готов выполнить команду, а потом стереть ее из памяти.
По пути к шлюзу Радаманта задержалась у своего шкафчика. Среди одежды и личных вещей — голоснимков «семьи» и нескольких писем от несуществующего брата — лежал ремень с кармашками. Если бы кто-нибудь решил проверить их содержимое, он наткнулся бы на игровой карманный компьютер, который можно купить где угодно за восемь — десять флоринов, на катушку ниток, три пузырька таблеток и упаковку тампонов. Немез застегнула ремень на талии и направилась к «челноку».
Даже с высоты в тридцать тысяч километров сквозь разрывы в густых облаках было видно, насколько сильно пострадала Роща Богов. Громадный континент, единственный на всей планете, пятнали мириады озер с соленой водой, напоминавшие сверху следы когтей на зеленой поверхности бильярдного стола. На берегах озер и вдоль изломанной береговой линии континента чернели тысячи пятен — раны, нанесенные Бродягами (люди до сих пор были уверены, что на Рощу Богов напали именно Бродяги) без малого триста лет тому назад.
Когда «челнок» вонзился в атмосферу, со скрежетом раздирая воздух, Немез устремила взгляд на обзорный экран, на котором начали проступать детали ландшафта. Лес гигантских рекомбинантных секвой и сандаловых деревьев, привлекший когда-то на планету Братство Мюира, выгорел почти дотла во время чудовищного пожара, следом за которым наступила ядерная зима. Как в северном, так и в южном полушарии виднелись ледники и громадные снежные шапки, которые лишь теперь начинали потихоньку таять — по мере того как рассеивался облачный покров, отступивший приблизительно на тысячу километров в обе стороны от экватора. Именно туда, к экватору, и направлялась Радаманта Немез.
Она перевела «челнок» на ручное управление, подключилась к автопилоту и принялась изучать карты, загруженные из памяти бортового компьютера «Рафаила». Вот оно. Когда-то протяженность Тетиса на Роще Богов составляла около ста шестидесяти километров; река текла с запада на восток, омывая корни Мирового Древа и огибая Музей Мюира. Очевидно, главной приманкой для туристов была излучина реки к северу от Древа. Тамплиеры мнили себя экологической совестью Гегемонии, хотя их никто об этом не просил, вечно лезли с советами, как только возникал проект терраформирования новой планеты — хоть в Сети, хоть на Окраине; а Мировое Древо служило символом их самомнения и высокомерия. Впрочем, это дерево и впрямь было уникальным: ствол диаметром свыше восьмидесяти километров, подобно основанию легендарного марсианского Олимпа, сучья толщиной пятьдесят километров каждый, единственный на планете, если не во всей вселенной, живой организм, тянувшийся с поверхности к верхним слоям атмосферы.
«Бродяги» не пощадили и его. Вместо Мирового Древа из кучи пепла торчал Мировой Пень; картина отдаленно напоминала потухший вулкан. На протяжении двух с половиной столетий Роща Богов, лишившаяся своих хранителей-тамплиеров — кто погиб, кто бежал на кораблях-деревьях, — прозябала в запустении. Орден наверняка колонизировал бы планету заново, если бы не вмешательство Техно-Центра: у ИскИнов были свои, далеко идущие планы в отношении Рощи Богов, и в этих планах не было места ни миссионерам, ни колонистам.
Обнаружив верхний портал, который по сравнению с Мировым Пнем выглядел совсем крошечным, Немез направила катер к нему. Берега реки мало-помалу оживали, на усыпанных пеплом откосах вновь пробивалась трава, юные деревца, смахивавшие больше на водоросли, чем на прежний лес, уже успели вымахать на два десятка метров, а то и выше; кое-где виднелись заросли кустарника. Да, не слишком удачное местечко для засады… Немез посадила катер на северном берегу, выбралась из кабины и двинулась к арке портала.
Сняла крышку с панели доступа, отыскала интерфейс, одним движением содрала с правой руки псевдоплоть, которую аккуратно сложила и сунула в карман, и подключилась напрямую к банку данных модуля. Портал бездействовал с самого Падения. Значит, Энея здесь еще не появлялась.
Немез вернулась к катеру, подняла машину в воздух и полетела вниз по течению. Нужно найти такое место, где девчонке некуда будет сбежать и где можно укрыть «челнок» и спрятаться самой. Поскольку придется заметать следы, чтобы капитан де Сойя ничего не заподозрил, лучше всего подойдет какая-нибудь скалистая площадка. С камнями просто — полил водой, и все чисто.
Подходящее местечко нашлось в пятнадцати километрах от первого портала. Река устремлялась в ущелье, бурлила на порогах, возникших после того, как по стенам ущелья прошлись энергетические лучи «Бродяг». На берегу росли молодые деревца, повсюду громоздились валуны и черные террасы застывшей лавы. Перетащить плот волоком не представлялось возможным, следовательно, внимание девчонки и ее спутников будет сосредоточено на порогах, им просто-напросто недостанет времени наблюдать за тем, что происходит вокруг.
Немез посадила катер в километре к югу от ущелья, выбралась наружу, прихватив с собой вакуумный мешок для образцов, спрятала «челнок» под ветвями деревьев и поспешно возвратилась к реке.
Достала из кармашка на ремне катушку, сорвала верхний слой ниток и натянула над рекой невидимую паутину из сверхпрочной проволоки, затем нанесла на стволы и камни полиуглеродный фиксатор — чтобы проволока не сорвалась. Со стороны казалось, что на камнях и стволах деревьев откуда ни возьмись появился мох. Эта проволока могла разрезать что угодно: перед ней не устоял бы даже корпус «Рафаила».
Сплетя паутину, Немез переместилась чуть выше, на ровную скалистую площадку, достала один за другим свои пузырьки с пилюлями и рассыпала по земле сотни миниатюрных противопехотных мин. Покрытые полимерной пленкой, мины, словно хамелеоны, мгновенно слились с поверхностью. Эти мины отличались тем, что перед взрывом устремлялись навстречу движущемуся объекту, а осколки разлетались узким пучком, буквально вгрызавшимся в тело жертвы. Стоило человеку подойти к такой мине ближе чем на десять метров, она тут же улавливала его шаги и немедленно взрывалась. Впрочем, ее могли привести в действие и другие факторы: биение пульса, дыхание, определенная температура…
Немез огляделась по сторонам. Площадка представляла собой единственную возможность для того, чтобы выбраться на берег. Что ж, пускай выбираются. Вернувшись к валунам, Радаманта кодовым сигналом активировала сенсоры мин.
Затем открыла коробку с тампонами и швырнула в реку пригоршню керамических капсул. Они выглядели точь-в-точь как речная галька. Натолкнувшись на паутину, девчонка застрянет у порогов. Если она попробует возвратиться к выходу из ущелья, ей придется несладко. Керамические капсулы выпустят на волю сотни «уховерток», которые взрываются только после того, как проникают в мозг.
Покончив с приготовлениями, Радаманта Немез залегла за валуном метрах в десяти над порогами. У нее остались только игровой компьютер и мешок для образцов.
Компьютер представлял собой образчик высокой технологии. Те, кто его создал, именовали игрушку «Сфинксовой ловушкой» (по аналогии с гиперионским Сфинксом, созданным той же группой ИскИнов). Если включить прибор и соответствующим образом настроить, возникало антиэнтропийное либо гиперэнтропийное поле, этакий «пузырь» пяти метров в поперечнике. Мощности, которая уходила на генерирование поля, вполне хватило бы на то, чтобы обеспечить энергией на добрый десяток лет обитателей даже столь населенной планеты, как Возрождение-Вектор. Радаманта намеревалась включить прибор, который про себя окрестила «Шрайковой ловушкой», всего на три минуты.
Она вскинула голову и посмотрела на портал. Девчонка может появиться в любой момент. Немез не сомневалась, что сразу об этом узнает, поскольку обладала способностью улавливать искажения силового поля. Скорее всего с девчонкой будет Шрайк, с которым придется драться. Честно говоря, жаль, если его не будет или если он не полезет в драку.
Радаманта ощупала мешок для образцов, который был таковым на самом деле. В нем она доставит голову девчонки на «Рафаил» и спрячет в тайнике за пультом управления. Хозяевам нужны доказательства.
Криво усмехнувшись, Немез легла так, чтобы солнечные лучи падали на лицо, прикрыла глаза ладонью и позволила себе задремать. Все готово, можно и отдохнуть.
Глава 52
Когда мы добрались до набережной, на реку упали первые лучи солнца. Признаюсь, в глубине души я ожидал, что Шрайк исчез. Мои ожидания не оправдались.
Завидев на плоту трехметровую статую, отливавшую металлическим блеском, мы остановились как вкопанные. Шрайк стоял неподвижно, в той же позе, что и накануне ночью. Тогда я отступил, а теперь, справившись с изумлением, шагнул вперед и поднял винтовку.
— Не горячись, — проговорила Энея, кладя руку мне на локоть.
— Какого черта ему нужно? — Я снял винтовку с предохранителя и дослал заряд в патронник.
— Не знаю. Но твое оружие не причинит ему вреда.
Я провел языком по губам, посмотрел на девочку. Мне хотелось объяснить, что плазменный заряд прикончит кого угодно, что он пробивает броню толщиной до двадцати сантиметров (такую броню изготавливали во времена Сети). Энея выглядела бледной и изможденной, под глазами залегли черные круги. Я решил сменить тему.
— Ну так что? Пока он там, на плот нечего и соваться.
Энея стиснула мой локоть.
— У нас нет выхода. — И направилась к причалу.
Я поглядел на А.Беттика. Андроид тяжело вздохнул и пожал плечами. Мы поспешили догнать девочку.
Вблизи Шрайк производил еще более жуткое впечатление. Описывая его, я не случайно употребил слово «статуя». В нем и впрямь было что-то от статуи — если можно вообразить статую, утыканную с ног до головы хромированными шипами, ощетинившуюся лезвиями и длинными тонкими иглами. Я всегда считал себя высоким, но Шрайк был выше меня по меньшей мере на целый метр. Выглядел он весьма, если можно так выразиться, своеобразно. Усеянные шипами наколенники, плоские ступни с кинжальными остриями вместо пальцев, на пятках изогнутые лезвия — должно быть, ими он расчленял тела; гладкий хромированный панцирь перевит колючей проволокой; рук слишком много, верхние сложены на груди, вторая пара как бы прячется под ними. Череп почти гладкий, как-то странно вытянутый, в пасти, похожей на ковш экскаватора, сверкают ряды металлических зубов. На лбу очередное лезвие, чуть выше торчит металлический рог. Большие, глубоко посаженные глаза тускло светятся красным…
— И ты собираешься плыть вместе с ним? — прошептал я на ухо девочке, когда мы остановились метрах в пяти от плота. Шрайк и не подумал повернуться к нам. Глаза чудовища казались остекленевшими, но меня так и подмывало повернуться и побежать, не разбирая дороги.
— А что делать? — тоже шепотом отозвалась Энея. — Сегодня последний день. Нам необходимо плыть дальше.
Краем глаза следя за Шрайком, я посмотрел на небо и на городские здания. Ночью бушевала песчаная буря; казалось бы, небо должно быть красным от пыли, однако, если не считать розоватых облаков, оно было голубым — даже более голубым, чем накануне. Над крышами домов виднелся краешек солнца.
— Может, попробуем найти ТМП? — предложил я. — В конце концов, кто нам мешает путешествовать с комфортом? А если не ТМП, то что-нибудь еще, но без этого предмета обстановки. — Шутка показалась плоской и мне самому; правда, меня отчасти извиняло то, что по большому счету всем нам было не до шуток.
— Пошли. — С этими словами Энея спустилась на причал и перебралась на плот. Я двинулся следом, сжимая в одной руке нацеленную на хромированное чудище винтовку, а другой держась за перила древней лесенки. А.Беттик молча последовал за нами.
Мне вдруг бросилось в глаза, насколько потрепанным и жалким выглядит плот. Нос ушел под воду под тяжестью Шрайка, укороченные бревна во многих местах разошлись, палатку укрывал слой красного песка, кормовое весло грозило вот-вот сломаться, а вещи, которые мы вчера решили не брать с собой в город, напоминали остатки былой роскоши. Побросав в палатку вещмешки, мы уставились в спину Шрайку, ожидая, что монстр шевельнется — три мышки, забравшиеся на коврик, на котором спит кот.
Шрайк не пошевелился. Со спины он производил не менее внушительное впечатление. Хорошо, хоть не видно этих алых, словно налитых кровью глаз.
Энея со вздохом сделала шаг вперед, подняла руку, но так и не отважилась прикоснуться к утыканной шипами руке монстра.
— Все в порядке, — сказала она, повернувшись к нам с андроидом. — Отчаливайте.
— Откуда ты знаешь, что все в порядке? — Не знаю, почему я задал вопрос шепотом… Просто говорить в присутствии Шрайка нормальным голосом казалось верхом безумия.
— Если бы он собирался нас убить, мы бы давно уже были мертвы, — ровным тоном ответила девочка. Шагнула к правому борту, взяла в руки шест и прибавила, обращаясь к А.Беттику: — Отвяжи, пожалуйста, веревку. Время поджимает.
На лице андроида не дрогнул ни один мускул, когда он прошел на нос на расстоянии вытянутой руки от Шрайка. Продолжая сжимать в правой руке винтовку, я левой отвязал кормовой конец. Плот медленно отошел от берега. Теперь он сидел гораздо глубже, вода заливала его чуть ли не до палатки.
— Надо починить плот, — заметил я, кладя винтовку к своим ногам и берясь за кормовое весло.
— Не здесь, — откликнулась Энея и с силой налегла на шест. — Вот пройдем через портал — тогда на здоровье.
— Тебе известно, куда нас забросит?
Она покачала головой. Ее волосы будто потускнели за время болезни.
— Нет. Я знаю только, что это последний день.
Меня вновь обуяли дурные предчувствия.
— Ты уверена, детка?
— Да.
— Но куда нас забросит, не знаешь?
— Я могу лишь догадываться.
— То есть?
Энея печально усмехнулась:
— Все очень просто, Рауль. Если мы не погибнем в ближайшие несколько часов, то отправимся на поиски здания, которое я видела в своих снах.
— А как оно выглядит?
Энея ответила не сразу. Плот наконец-то вышел на середину реки. Центр остался позади, уступил место скверам и бульварам.
— Я узнаю его, как только увижу. — Девочка положила шест на палубу, подошла ко мне и потянула за рукав. Я наклонился. — Рауль, — прошептала она, — если я… если меня убьют, а ты выживешь, передай дядюшке Мартину мои слова. Ну, насчет львов, медведей и тигров… И расскажи, что замышляет Техно-Центр.
Я схватил ее за плечо.
— Не говори так, слышишь? Ничего с нами не случится! И ты сама расскажешь обо всем своему дядюшке!
Энея кивнула и снова взяла в руки шест. Я понял, что не сумел приободрить ее. Шрайк стоял в прежней позе и глядел вдаль. У ног чудовища плескалась вода, солнечный свет отражался от бесчисленных лезвий и шипов.
Я предполагал, что за Мешхедом опять начнется пустыня, но мои предположения вновь не оправдались. Парки и скверы становились все живописнее, вечнозеленые кустарники, лиственные деревья со Старой Земли и бесчисленные пальмы подступали к кромке воды. Вскоре нас окружил самый настоящий лес. Несмотря на раннее утро, солнце припекало.
Поскольку река текла практически по прямой, я закрепил весло, снял рубашку, бросил ее на свой вещмешок и забрал у чуть ли не падавшей от усталости с ног Энеи шест. Девочка одарила меня признательным взглядом.
А.Беттик тем временем стряхнул с палатки песок и уселся рядом со мной. Река сделала поворот, забираясь все глубже в тропические джунгли. Костюм андроида составляли свободная рубашка и желтые шорты, которые он носил на Хевроне и на Безбрежном Море. Широкополая шляпа лежала у ног. Энея меня удивила: она перебралась на нос и уселась поблизости от неподвижного Шрайка.
— Вряд ли он вырос сам по себе, — заметил я, имея в виду лес, и оттолкнулся шестом ото дна, выравнивая плот, который вдруг повело в сторону. — Здесь слишком сухо для джунглей.
— Я полагаю, эти деревья посадили паломники-шииты, месье Эндимион, — отозвался А.Беттик. — Послушайте.
Я прислушался. Щебетали птицы, шелестел листвой ветер, а время от времени доносилось шипение, с каким разбрызгивали воду поливальные установки.
— Невероятно. Лес ведь тянется на десятки километров. Тут нужна целая уйма воды.
— Рай, — проговорила Энея.
— Что ты сказала, детка?
— На Старой Земле мусульманами были в основном обитатели пустынь. Рай для них означал изобилие воды и зелени. А поскольку Мешхед был религиозным центром планеты, деревья, должно быть, посадили для того, чтобы показать правоверным, что ожидает тех, кто следует заветам Аллаха.
— Дорогое удовольствие, — пробормотал я. Повинуясь течению, плот свернул налево. Река стала шире прежнего. — Но куда все-таки подевались люди?
— Об этом надо спросить у Ордена.
— Что? Но ведь эти планеты — и Хеврон, и Кум-Рияд, — оккупировали Бродяги…
— Так утверждает Орден, — промолвила Энея. Я задумался. — Рауль, как по-твоему, что общего у этих миров?
Ответ пришел сам собой.
— Оба отвергли новое христианство. Отказались принять крещение. Потому что на одном жили иудеи, а на другом мусульмане. — Энея молчала. — Неужели ты думаешь… — Меня словно ударили под дых. — Церковь, конечно, может ошибаться, а Орден кичится своей властью, но… — Я вытер со лба заливавший глаза пот. — Господи… Неужели геноцид? — Последнее слово далось мне с громадным трудом.
Энея повернулась ко мне. За спиной у девочки луч солнца отразился от ноги Шрайка.
— Этого мы не знаем, — тихо сказала она. — Но и у Церкви, и у Ордена хватает мерзавцев, которые на такое вполне способны. Не забывай, Рауль, Ватикан почти полностью зависит от Техно-Центра. Крестоформы позволяют управлять людьми…
Я покачал головой.
— Это все понятно. Но геноцид… Нет, не верю. — Слово вызвало в памяти легенды, связанные с именами Горация Гленнон-Хайта и Адольфа Гитлера. Не может быть, чтобы вернулись те времена!
— Происходит что-то ужасное. Я думаю, нам специально показали Хеврон и Кум-Рияд.
— Ты уже говорила, что нас кто-то направляет. — Я навалился на шест. — Но кто? Кто, если не Техно-Центр?
Обливаясь потом, я бросил взгляд на Шрайка. От неподвижного монстра, несмотря на палящий зной, веяло ледяной стужей.
— Не знаю. — Энея обхватила руками колени. — Вон портал.
Над густыми, непролазными джунглями возвышалась увитая лианами, проржавевшая от времени арка. Ветер гнал по голубому небу красноватые от пыли облака.
Я отложил в сторону шест и подобрал винтовку. Геноцид… Мне вдруг представились ледяные пещеры, водопады, океан — и оживающий Шрайк. При этой мысли у меня засосало под ложечкой.
— Держитесь, — предупредил я на всякий случай, когда плот приблизился к арке.
Впереди и вокруг нас словно замерцало знойное марево. Внезапно свет стал другим, сила тяжести тоже изменилась. Мы очутились в новом мире.
Глава 53
Придя в сознание, капитан отец де Сойя услышал крик. Прошло несколько минут, прежде чем он понял, что кричит сам.
Открыл дрожащими пальцами защелку, отодвинул крышку реаниматора, сел. На панели монитора мигали красные и оранжевые огоньки; впрочем, важнейшие индикаторы светились зеленым. Капитан застонал от боли, медленно выбрался наружу и повис над реаниматором, не найдя, за что ухватиться. Он заметил, что руки у него все в алых пятнах, будто от ожогов.
— Матерь Божья… Где я? — Слезы навернулись на глаза, поползли по щекам. — Невесомость… Я что, на «Бальтазаре»? Что случилось?.. Нас подбили?
Нет, он на борту «Рафаила». В смятенном сознании возникли разрозненные обрывки воспоминаний. «Рафаил»… Должно быть, авизо вышел на орбиту Рощи Богов. Перед смертью капитан настроил свой реаниматор и саркофаги Грегориуса и Ки на воскрешение в течение шести часов вместо обычных трех дней. Помнится, он еще тогда подумал: «Что, Федерико, строишь из себя Господа Бога?» Это было опасно, риск возрастал многократно. Тот курьер, который доставил ему папскую буллу… отец Гавронски… как будто сто лет прошло… Отец Гавронски так и не воскрес… Капеллан «Бальтазара»… как его звали, этого стервеца?.. а, отец Сапиега… Капеллан заявил, что теперь на воскрешение потребуется несколько месяцев… долгий и мучительный процесс… И ведь говорил как обвинял, мерзавец…
Сознание потихоньку прояснялось. Он сам запрограммировал невесомость, рассудив, что вряд ли выдержит хотя бы одно «g». И оказался прав.
Подплыв к навигаторскому столику, де Сойя посмотрел на себя в зеркало — тускло блестевшая кожа отливала красным, на груди лиловел крестоформ. Он и впрямь выглядел так, словно горел на костре.
Капитан закрыл глаза, натянул белье и сутану, не обращая внимания на боль, которая пронзила тело, когда хлопок коснулся кожи. Компьютер, выполняя заложенную в память команду, приготовил кофе. Де Сойя взял чашку и поплыл обратно в каюту, оттолкнувшись ногами от навигаторского столика.
Капрал Ки должен был вот-вот очнуться. Монитор Грегориуса полыхал красно-оранжевыми огоньками. Негромко выругавшись, де Сойя подобрался поближе и взглянул на экран. Автоматика прервала процесс воскрешения сержанта.
— Проклятие! — пробормотал капитан и тут же мысленно извинился перед Господом за свою несдержанность. Без Грегориуса он чувствовал себя как без рук.
С Ки, слава Богу, все было в порядке. Де Сойя помог капралу выбраться из реаниматора, смочил губкой ярко-красную, словно обожженную кожу и протянул Ки стакан апельсинового сока.
— Что-то не так, — объяснил он, убедившись, что капрал более или менее пришел в себя. — Мне хотелось узнать, что затеяла Немез, поэтому пришлось пойти на риск.
Ки понимающе кивнул. Несмотря на то что он успел одеться, капрала била дрожь.
Де Сойя вернулся к реаниматору Грегориуса. Панель светилась оранжевым: сержант снова был мертв. На реаниматоре Немез мерцали зеленые огоньки; автомат был настроен на стандартный трехдневный срок. Показания монитора подтверждали, что бездыханное тело Радаманты Немез покоится внутри реаниматора, где совершается великое таинство воскрешения. Капитан набрал код.
Индикаторы замигали красным.
— Открытие крышки реаниматора во время воскрешения не допускается, — бесстрастно сообщил компьютер. — Всякая попытка сделать это приведет к истинной смерти.
Де Сойя пропустил предупреждение мимо ушей. Он подергал крышку. Та не поддавалась.
— Киньте мне монтировку, капрал.
Вооружившись монтировкой, де Сойя отыскал углубление, в которое сумел вставить железный стержень. Моля небеса о том, чтобы ему не позволили ошибиться, он подцепил крышку и изо всех сил надавил на стержень. Завыла сирена.
Саркофаг оказался пуст.
— Где капрал Немез? — спросил де Сойя у компьютера.
— Датчики показывают, что она находится в реаниматоре, — отозвался механический голос.
— Естественно. — Капитан отбросил монтировку, которая медленно и плавно скользнула в угол каюты. — Пошли, — сказал он Ки.
В душевой никого не было. На мостике не спрячешься… Мужчины разделились — де Сойя двинулся в штурманскую, а Ки отправился проверить шлюз.
Капитан сел в кресло и взглянул на обзорный экран. «Рафаил» двигался по геостационарной орбите в тридцати тысячах километров над поверхностью планеты. На экране клубились облака, лишь ближе к экватору виднелась обезображенная черными пятнами буро-зеленая полоска земли. Приборы утверждали, что «челнок» находится в шлюзе. Когда капитан задал вопрос вслух, компьютер подтвердил, что катер на своем месте и к нему никто не прикасался.
— Ки! — окликнул де Сойя по интеркому. Лишь усилием воли ему удалось справиться с головокружением. Зубы выбивали дробь, кожа горела, а еще — очень хотелось закрыть глаза и заснуть. — Доложите обстановку, капрал.
— «Челнока» нет, сэр, — отозвался Ки. — Индикаторы зеленые, но если я заберусь в шлюз, то наверняка окажусь в вакууме. А через иллюминатор видно, что шлюз пуст.
— Merde![99] — прошептал де Сойя. — Ладно, возвращайтесь. — Он вновь повернулся к приборам на панели, вызвал на монитор записи. Вот они… те же самые отметки о запуске двигателей… Это случилось около трех часов назад. Капитан вызвал карту экваториальных областей планеты, задал компьютеру программу визуального и радарного поиска в пределах русла реки поблизости от Мирового Древа. — Найди первый портал и покажи мне реку. А также сообщи, если обнаружишь катер.
— Катер находится на борту, — произнес компьютер. — Датчики это подтверждают.
— Хорошо. — Де Сойе вдруг захотелось выбить компьютеру пару-тройку микросхем. — Последнее распоряжение отменяется. Просканируй реку и выведи данные на главный экран. Меня интересуют любые формы жизни и любые артефакты.
— Выполняю. — Изображение на экране увеличилось в несколько раз. Арка портала росла на глазах.
— Вниз по течению, — приказал капитан.
— Выполняю.
Капрал Ки уселся в кресло рядом.
— Без катера мы туда не попадем, — заметил он, пристегиваясь.
— А боевые скафандры? — напомнил де Сойя, скрючившись от боли. — Насколько мне известно, они с абляционным покрытием.
— Да, но…
— Я предполагал, что вы с Грегориусом воспользуетесь скафандрами, а сам собирался вывести «Рафаил» на предельно низкую орбиту. Скафандры ведь выдержат спуск в атмосферу?
— Может быть, но…
— Сначала вы бы летели на реактивной тяге, потом переключились бы на электромагнитную и рано или поздно нашли бы эту… женщину, — продолжал капитан. — Нашли и остановили. И вернулись бы на катере.
Ки потер глаза.
— Так точно, сэр. Но я на всякий случай проверил скафандры… Они все повреждены.
— Повреждены… — потрясенно повторил де Сойя.
— Кто-то пробил броню, — объяснил Ки. — Хорошо, что я затребовал полную проверку, а то бы мы отдали концы, как только оказались бы снаружи.
— Все скафандры?
— Все до единого, сэр.
Капитан с трудом подавил желание выругаться.
— Идем вниз, капрал.
— Стоит ли, сэр? Мы все равно ничего не сможем сделать. Какая разница, сколько километров до поверхности, если нельзя на нее спуститься?
Де Сойя кивнул, однако все же начал вводить новый курс и допустил из-за сумятицы в мыслях несколько ошибок, на которых компьютер его поймал (а то бы гореть «Рафаилу» в верхних слоях атмосферы). Во второй раз все прошло гладко.
— На низкую орбиту выходить не рекомендуется, — произнес лишенный выражения механический голос. — Атмосфера планеты неустойчива, поэтому расстояние в триста километров от поверхности противоречит правилам безопасности, зафиксированным в…
— Заткнись и выполняй, — перебил де Сойя.
Заработал главный двигатель. Капитан закрыл глаза.
Возвращение силы тяжести отозвалось острой болью во всем теле. Ки негромко застонал.
— Активация внутреннего силового поля уменьшит неудобства, связанные с ускорением в четыре «g», — сообщил компьютер.
— Отставить, — прохрипел де Сойя. Вполне возможно, энергия понадобится для других целей.
Низкий гул, вибрация, боль… Лимб Рощи Богов на главном экране стремительно увеличивался в размерах.
«А что, если эта… предательница запрограммировала корабль на самоуничтожение в атмосфере? — спросил себя де Сойя. Он ухитрился выдавить усмешку. — Тогда она тоже не вернется домой».
Мука становилась нестерпимой.
Глава 54
Когда мы миновали арку портала, выяснилось, что Шрайк исчез.
Помедлив, я опустил винтовку и огляделся по сторонам. Река сделалась шире и мельче. По синему небу, которое было значительно темнее лазурного гиперионского, ползли пышные слоисто-кучевые облака. За нашими спинами сверкало солнце, то ли клонившееся к горизонту, то ли потихоньку из-за него поднимавшееся (лично мне показалось, что более вероятно первое).
Скалистые берега, покрытые слоем пепла, кое-где поросли редкой травой. Ощущение было такое, словно здесь недавно отбушевал лесной пожар; самый воздух был буквально пропитан пеплом. По правую руку, далеко-далеко, если не обманывало зрение, возвышался черный конус вулкана.
— Полагаю, мы на Роще Богов, — сказал А.Беттик. — Этот конус — все, что осталось от Мирового Древа.
Я постарался представить себе, каким было живое Древо, но у меня ничего не вышло — не хватило фантазии.
— А где Шрайк?
Энея встала, направилась туда, где несколько секунд назад стояло чудовище, провела рукой по воздуху, словно проверяя, не стал ли Шрайк невидимым.
— Держитесь! — крикнул я. Плот приближался к порогам. Я отвязал кормовое весло, андроид с девочкой взяли в руки шесты. Плот запрыгал по волнам, так и норовя развалиться. Наше снаряжение, которое мы просто не успели закрепить, лишь чудом не оказалось в воде. Слава Богу, все быстро кончилось.
— Здорово! — воскликнула Энея. Похоже, к девочке вдруг возвратилось хорошее настроение.
— Ну да, — проворчал я. — Между прочим, плот разваливается. — Если я и преувеличивал, то лишь чуть-чуть. Веревки на носу перетерлись окончательно.
— Мне кажется, я вижу место, где можно пристать. — А.Беттик указал на лужайку на правом берегу. — По-моему, лучше не тянуть. Дальше начнутся холмы.
Я поднес к глазам бинокль и внимательно изучил черную гряду холмов.
— Ты прав. Рисковать не стоит. Предлагаю пристать здесь.
Налегая на шесты, андроид с девочкой подвели плот к берегу. Я прыгнул в воду. Совместными усилиями мы вытащили плот на сушу. Повреждения были не слишком серьезными: сами бревна почти не пострадали. Я посмотрел на солнце. Оно опустилось еще ниже, но, судя по всему, ночь должна была наступить где-нибудь через час, не раньше.
— Заночуем тут? — спросил я. — Или поплывем дальше?
— Второе, — твердо ответила Энея.
Подумать только, на Кум-Рияде еще утро, а тут уже поздний вечер.
— Честно говоря, мне не хочется скакать в темноте по порогам.
— А мне не хочется оставаться здесь. — Девочка прищурясь поглядела на солнце, потом взяла бинокль и повернулась к черневшим вдалеке холмам. — Насколько я понимаю, по-настоящему опасных порогов на Тетисе быть не может. Так что плывем дальше.
А.Беттик прокашлялся.
— Мне представляется, — произнес он, — что планета сильно изменилась после нападения Бродяг. Вполне возможно, энергетические залпы расплавили скалы, в результате чего на реке могли возникнуть непреодолимые преграды.
— Это были не Бродяги, — возразила Энея.
— Ты о чем, детка?
— Это были не Бродяги, — повторила девочка. — Техно-Центр построил корабли, которые напали на Сеть, выдавая себя за Бродяг.
— А! — Мне вспомнилось, что в «Песнях» Мартина Силена сказано приблизительно то же самое. Признаться, в последней части поэмы я многого не понял… Впрочем, какая разница? — Как бы то ни было, впереди ущелье, а где ущелье, там и пороги, верно? Боюсь, наш плот не выдержит такого испытания.
Энея кивнула, положила бинокль в мой вещмешок.
— Не выдержит так не выдержит. Если понадобится, следующий портал мы минуем вплавь. В общем, давайте свяжем бревна и поплывем дальше. Если нам попадутся опасные пороги, мы просто пристанем к берегу.
— Если сможем, — заметил я. — По правде сказать, эти скалы особого доверия не внушают.
Девочка пожала плечами.
— Забраться на них мы сможем в любом случае.
Непоколебимая уверенность Энеи вызывала восхищение. Я знал, что девочка смертельно устала, толком еще не оправилась после болезни и чего-то боится (чего именно, сказать сложно). Однако сдаваться она не собиралась.
— Ладно, хорошо хоть Шрайка нет. А то было как-то неуютно…
Энея одарила меня вымученной улыбкой.
Починка плота заняла от силы двадцать минут. Мы заново связали бревна и расстелили на палубе палатку, чтобы не замочить ноги.
— Если придется плыть в темноте, надо поставить мачту и повесить на нее фонарь, — заметила Энея.
— Естественно. — Я воткнул в гнездо лишний шест, привязал его к бревнам, затем повесил фонарь. — Зажечь?
— Пока рано, — отозвалась девочка, бросив взгляд на солнце.
— Ладно. Мне кажется, лучше сложить все снаряжение в мешки.
Мы принялись за работу. Я положил в свой вещмешок запасную рубашку, моток веревки, плазменную винтовку и два полностью заряженных в мешхедской клинике фонаря. Хотел было спрятать и комлог, но решил, что тот почти ничего не весит, и застегнул браслет на запястье.
— Готовы? — Я взял в руки шест. С мачтой и с расстеленной на палубе палаткой плот выглядел почти как новый.
— Да, — ответила Энея. А.Беттик молча кивнул.
Вдвоем с андроидом мы оттолкнули плот от берега.
Течение было быстрым — километров двадцать, а то и двадцать пять в час. К тому времени, когда мы достигли ущелья, солнце, как ни странно, еще не село. По обеим сторонам поднялись скалистые стены, плот запрыгал по волнам, но веревки выдержали. Я вглядывался в берег, выискивая место, где можно было бы пристать на случай, если мы услышим грохот порогов или водопада. Если не считать узких расщелин, в которых рос вечноголубой кустарник, перемежавшийся карликовыми деревцами, приставать было некуда. Лучи заходящего солнца золотили макушки скал. Я уже начал прикидывать, не приготовить ли нам что-нибудь горячее на обед — или на ужин, — когда А.Беттик негромко произнес:
— Впереди пороги.
Я посмотрел вперед. Из реки торчали валуны, у которых пенилась вода. Годы, проведенные на Кэнсе, не прошли даром: мне хватило одного взгляда, чтобы оценить ситуацию.
— Прорвемся. Расставьте ноги пошире, старайтесь держаться поближе к центру плота и беспрекословно выполняйте мои команды. У нас должно получиться. Если упадете, постарайтесь догнать плот. У меня есть веревка. — Я поставил ногу на лежавший на палубе моток.
Откровенно говоря, валуны внушали некоторые опасения, но за ними река разливалась и успокаивалась. Если судьба не уготовила нам иных испытаний, мы вполне можем плыть хоть всю ночь…
Совместными усилиями мы выровняли плот. Я налег на весло, пытаясь обогнуть ближайшие валуны. Мы угодили в водоворот, нас дважды развернуло и пронесло мимо первой гряды. Пожалуй, если бы не водоворот, плот разбился бы в щепки.
Энея завопила от восторга. Я усмехнулся. Даже на лице А.Беттика появилась улыбка. Ничего удивительного. Это разве пороги? Так, детское развлечение, не более того. На настоящих порогах люди попросту замирают от страха как вкопанные… Мы принялись давать друг другу указания: «Толкай! Правее! Осторожно!»; девочка находилась справа от меня, андроид стоял по левую руку. Мы миновали здоровенный валун, плот подхватило течение, и тут я почему-то вскинул голову — и увидел, как мачту вместе с фонарем перерезало пополам.
— Какого черта? — Внезапно ожили воспоминания, пробудившие инстинкты, которые, как я полагал, атрофировались много лет назад. — В воду! — крикнул я, когда плот повело влево, бросил весло и вместе с Энеей прыгнул головой вперед в бурлящую реку.
Задержись андроид хотя бы на долю секунды, и невидимые нити, перерубившие мачту с фонарем, расчленили бы его на месте. Я вынырнул как раз вовремя, чтобы увидеть, как нить, притаившаяся под водой, разрезала плот надвое, а затем, когда бревна закружились в водовороте, аккуратно рассекла каждое поперек. Мои башмаки скребли по дну. Поддерживая одной рукой Энею, я размышлял. Эти нити могли означать только одно. Когда мы воевали на Урсе, несколько моих приятелей угодили в ловушку: повстанцы натянули нити на дороге в город, и тридцать плохих (с точки зрения повстанцев) парней, возвращавшихся на автобусе из кино, мгновенно превратились в обезглавленные трупы.
Я окликнул А.Беттика, но вода ревела так, что ничего не было слышно. Попытался ухватиться за валун, промахнулся, но сумел-таки вцепиться в следующий. Мне чуть не стало плохо, когда я подумал о нитях, натянутых под водой…
Из воды показалась голова андроида. Течение перевернуло А.Беттика, он инстинктивно вскинул левую руку. Невидимая нить отсекла ему кисть. Андроид вынырнул, ухватился правой рукой за торчавший из воды камень. Кисть, пальцы которой по-прежнему судорожно сжимались, исчезла в пене водоворота.
— Господи Боже! — услышал я собственный голос. — Черт побери! — Энея устремила на меня взгляд, в котором не было и намека на панику. — С тобой все в порядке? — Эти нити чудовищно тонкие; человек может и не заметить, что остался без ноги. Девочка кивнула. — Держись крепче! — Энея прильнула ко мне. — Черт, черт, черт!.. — Повторяя проклятие как мантру, я высвободил левую руку и принялся шарить в заплечном мешке. Пистолет находился в кобуре на правом бедре, которым я прижимался к валуну. Здесь было мелко, не глубже метра; когда снайпер начнет стрелять, спрятаться будет негде. К тому же стоит нырнуть — и течение понесет нас прямо на смертоносные нити.
А.Беттик, державшийся за камень метрах в восьми от нас, поднял левую руку, из которой хлестала алая кровь. По-видимому, он только теперь ощутил боль — сморщился и едва не разжал пальцы. Неужели андроиды умирают как люди? Я отогнал шальную мысль.
Берег оставался безжизненным. Когда снайпер выстрелит, мы ничего не услышим. Надо признать, ловушка устроена образцово — как говорится, по учебнику. И попали мы в нее моими стараниями: ведь правил-то я.
Отыскав в мешке фонарь, я вытащил его наружу и зажал в зубах. Затем кое-как расстегнул ремень и кивком попросил Энею вынуть из кобуры пистолет, а сам сунул фонарь под подбородок и прижал к груди.
Девочка выполнила мою просьбу. Я знал, что выстрелить она не сможет, но сейчас это не имело ни малейшего значения. Мне был нужен ремень.
— Беттик! — крикнул я, приготовившись к броску. Андроид повернулся к нам. На его лице застыла гримаса боли. — Лови! — Я изо всех сил швырнул ремень, чуть было не выронив при этом фонарь. Точнее, все-таки выронил, но успел подхватить до того, как он скрылся под водой.
Правой рукой андроид держался за камень, поэтому он поймал ремень кровоточащим обрубком левой. Бросок получился на удивление точным — я постарался на совесть, зная, что второй возможности не будет.
— Наложи жгут! — крикнул я.
Вряд ли он расслышал. Не важно, андроид и сам знал, что нужно делать. Подтянулся, лег животом на камень, обернул ремень вокруг предплечья левой руки, завязал и затянул узел зубами (отверстий на нужном расстоянии в ремне попросту не было).
Тем временем я включил фонарь, установив луч на максимальное рассеивание, и направил на реку.
Как оказалось, тот, кто устроил западню, натянул моноволоконные нити, которые отражали свет. Впечатление было такое, будто над водой сверкают, пересекаясь под разными углами, алые лучи лазеров. Некоторые из них мерцали прямо над головой А.Беттика. Справа и слева от андроида нити уходили под воду. Одна из нитей висела в каком-нибудь метре от Энеи.
Я повел фонарем вдоль берега. Кажется, все чисто. Нити над А.Беттиком через несколько секунд потускнели и погасли, словно их и не было. Я снова осветил гибельную паутину, затем включил лазер. Нить, на которую я нацелил луч, раскалилась добела, но не расплавилась. Не сверхпроводник, естественно, но чтобы с ней справиться, мощности карманного лазера явно не хватит…
Где же снайпер? Может, нити натянули давным-давно и никто не ждет в засаде? Хотелось бы, конечно, в это верить, но…
А.Беттик, похоже, держался за камень из последних сил.
— Гадство, — пробормотал я, повесил фонарь на пояс и перехватил руку Энеи. — Давай, детка. — Подтянулся на правой руке, забрался повыше на скользкий валун, втянул на треугольную макушку Энею. Напор воды был такой, словно она норовила расплющить меня по поверхности валуна. — Удержишься?
— Да. — Лицо девочки было бледным, мокрые волосы прилипли ко лбу, на щеке и на виске виднелись царапины, на подбородке лиловел синяк.
Я убедился, что девочка и впрямь держится крепко, похлопал ее по плечу и тронулся в путь. Внезапно мне бросились в глаза бревна плота, кувыркавшиеся в белой пене ниже по течению.
Устоять на ногах не удалось. Меня поволокло по дну, но я все же ухитрился добраться до камня, в который вцепился А.Беттик, ни во что не врезавшись по дороге. Я ухватился за андроида. Тот остался без рубашки, исполосованной в клочья острыми гранями камней. Из порезов на голубой коже сочилась кровь, но эти порезы не шли ни в какое сравнение с левой рукой А.Беттика. Андроид застонал.
Жгут не сумел остановить кровотечение. Увидев на воде алое пятно, я сразу вспомнил акул с Безбрежного Моря и зябко поежился.
— Уходим, — сказал я, подставляя андроиду плечо.
Когда я выпрямился, мне почудилось, будто на меня направили несколько пожарных шлангов — таким был напор воды. А.Беттик по мере возможности старался мне помогать. Впрочем, особой помощи ждать не приходилось — он потерял столько крови, что сознание в нем едва теплилось.
Где же снайпер? Почему он не стреляет? Моя спина ныла от напряжения.
Правый берег был ближе. Там виднелась более или менее ровная, поросшая травой площадка. Единственное место, где можно выбраться на сушу. Оно словно манило к себе, и это наводило на нехорошие мысли.
Кроме того, не мог же я бросить Энею.
Шаг за шагом, то бредя, то плывя, мы кое-как продвигались вверх по течению. В лицо летели пенные брызги. Наконец мы добрались до валуна, за который цеплялась девочка.
— К берегу! — крикнула она, протягивая мне холодную руку. По лицу Энеи текли струйки воды.
— Нет! — Я помотал головой. — Вон туда!
Преодолевая напор воды, мы двинулись против течения. Я словно обезумел, но только мое безумие не давало нам упасть. Всякий раз, когда дно уходило из-под ног, я воображал себя Мировым Древом, несокрушимым, непоколебимым, вросшим корнями глубоко в почву. Мне на глаза попалось поваленное дерево — метрах в двадцати от нас на правом берегу. Если укрыться за ним… А.Беттику срочно требуется медицинская помощь, иначе он умрет. Пока мы в воде, об этом нечего и думать: проще уж сразу швырнуть медпакет в реку. А травянистая площадка выглядит чересчур привлекательно…
Значит, моноволоконные нити. Я посветил фонариком. Нити висели лишь над порогами. А что, если они под водой? Что, если в следующую секунду я останусь без ног?
Пытаясь не обращать внимания на подобные мысли, я упорно продвигался вперед, таща за собой своих спутников. Мокрый фонарь норовил выскользнуть из руки. А.Беттик слабел на глазах. Энея вцепилась в меня, как в спасательный круг.
Мы преодолели метров десять, когда раздался грохот и впереди вырос водяной столб. Я чуть было не упал. Голова Энеи скрылась под водой. Хорошо, что я успел ухватить девочку за рубашку. А.Беттик, похоже, потерял сознание.
В тот же миг из реки вынырнул Шрайк — глаза сверкают, руки бешено мельтешат.
— Господи! — Не знаю, кто из нас крикнул. Быть может, все трое.
Мы дружно развернулись. Утыканные шипами пальцы рассекли воздух в считанных сантиметрах за нашими спинами.
А.Беттик ушел под воду. Я схватил его за правую руку. Признаться, так и подмывало отдаться на волю течения. Энея споткнулась, но устояла на ногах и ткнула рукой в направлении берега. Я кивнул.
Шрайк застыл посреди реки, воздев металлические руки, напоминавшие занесенные для удара скорпионьи хвосты. Сделав несколько шагов, я обернулся и увидел, что монстр исчез.
Мы падали и поднимались. Наконец под моими ногами зачавкала речная грязь. Я выпихнул на берег Энею, потом буквально закатил на траву А.Беттика, швырнул следом мешок, крикнул: «Медпакет!» и только потом выбрался из воды сам. В руках не осталось и толики силы, нижняя часть тела словно онемела.
Энея кое-как извлекла из мешка медпакет, приложила к груди пребывавшего в бессознательном состоянии А.Беттика присоски, развернула жгут и перетянула левую руку андроида, сорвав мой ремень. Послышалось шипение: пакет ввел пациенту то ли болеутоляющее, то ли стимулятор. На мониторе замигали разноцветные огоньки.
Я рухнул на берег. Мои зубы выбивали дробь.
— Где пистолет? — выдавил я.
Энея покачала головой.
— Я его потеряла… Когда мы… когда появился Шрайк…
Девочку била дрожь.
Как ни странно, я сумел кивнуть. В реке никого не было. Может, Шрайк решил с нами не связываться? Где же термоодеяло? Ах да, его унесло течением. Из всего снаряжения уцелело только то, что находилось в моем заплечном мешке.
Я приподнялся и посмотрел на реку. Стены ущелья таяли в полумраке. Со стороны порогов к нам приближалась какая-то женщина.
Я поднял фонарь и включил лазер.
— Неужели ты выстрелишь в меня из этого? — удивленно осведомилась женщина.
Энея уставилась на незваную гостью. На женщине был диковинный черно-красный комбинезон. Невысокого роста, черные волосы коротко острижены, лицо бледное, с правой руки словно содрали кожу, обнажив кость…
Девочка задрожала сильнее прежнего, ее глаза сузились. Она будто превратилась в дикарку. Взгляд выражал ненависть, руки сами собой сжались в кулаки.
Женщина засмеялась.
— Я думала, будет интереснее. — Она спрыгнула с камня на траву.
Глава 55
День тянулся нескончаемо долго. Немез изнывала от скуки. Она даже задремала, но встрепенулась, как только ощутила искажение поля: в пятнадцати километрах вверх по течению сработал первый портал. Радаманта переместилась на несколько метров, спряталась за валуном и принялась ждать.
То, что произошло потом, сильно смахивало на фарс. Немез со скукой наблюдала за неуклюжими попытками преодолеть пороги, за спасением искусственного человека — искусственного человека, поправила она себя, без искусственной руки. Ее слегка развеселило и заинтриговало разве что появление Шрайка. Разумеется, она знала, что Шрайк где-то поблизости: это существо порождало искажения поля, немногим отличавшиеся от тех, которые создавал нуль-портал. Радаманта даже переключилась на боевой режим. Она видела, как Шрайк вошел в реку и как испугались люди, для которых он появился совершенно неожиданно. Интересно, что замыслила эта древняя штуковина? Хочет уберечь людей или, наоборот, гонит их к ней? Этакая преданная металлическая овчарка… Естественно, все зависит от того, кто именно отправил Шрайка на Рощу Богов.
Впрочем, какая разница? Техно-Центр считал, что Шрайка создал и отправил в прошлое ранний вариант Высшего Разума. Было известно, что он потерпел поражение и что снова будет побежден в грядущем, когда произойдет схватка между хилым человеческим разумом и окрепшим машинным ВР. Короче говоря, Шрайк был неудачником, не более чем досадной помехой. Немез он интересовал постольку поскольку: она ожидала, что хотя бы этот шипастый урод окажется более или менее достойным соперником. Однако надежда постепенно таяла.
Когда измученные люди выбрались на полоску травы и вытащили из воды бесчувственного андроида, Немез вдруг поняла, что ей надоело прятаться. Она прикрепила к поясу мешок для образцов, повесила на запястье игровой компьютер, выбралась из укрытия и направилась к людям.
Юноша — очевидно, тот самый Рауль — стоял на одном колене и целился в нее из лазера.
— Неужели ты выстрелишь в меня из этого? — с улыбкой осведомилась Немез.
Юноша молча поднял лазер. Что ж, если он и впрямь выстрелит и попытается ее ослепить, она переключится на боевой режим и, не выключая лазер, забьет эту хреновину ему в глотку, чтобы знал, с кем связываться.
Энея медленно повернула голову. Теперь Радаманта поняла, из-за чего тревожился Техно-Центр: девочку, словно статические разряды, окружали коды доступа к Связующей Пропасти. Но до того, как она сумеет ими воспользоваться, должно пройти много лет. Весь этот Sturm und Drang,[100] вся эта срочность была ни к чему. Девчонка попросту не подозревает о своих талантах и уж тем паче не умеет их применять.
Немез осознала, что слегка опасалась встречи с девочкой, ожидая от той неприятностей. Опасения оказались напрасными, Энея не собиралась вызывать Связующую Пропасть, поскольку не догадывалась, что способна на такое. Жаль, очень жаль. Очередное разочарование.
— Я думала, будет интереснее, — произнесла Радаманта, подступая ближе.
— Что вам нужно? — требовательно спросил Рауль, пытаясь подняться. Очевидно, он растратил все силы, барахтаясь в реке.
— От тебя — ничего, — ответила Радаманта. — Твой синий приятель меня тоже не интересует. А вот с Энеей я хотела бы потолковать. — Кивком головы она указала на рощицу, где расставила противопехотные мины. — Почему бы тебе не забрать своего гомункула и не пойти вон туда? А мы перекинемся парой словечек. — Немез сделала еще один шаг.
— Не двигайся, — прохрипел Рауль.
Немез притворилась испуганной, умоляюще всплеснула руками.
— Пожалуйста, не стреляй. — Глупец! Он и не подозревает, что ей не причинит вреда лазер и в десять тысяч раз мощнее этого.
— Отойди, — приказал Рауль, палец которого лежал на спусковом крючке. Лазер был нацелен Немез в лоб.
— Хорошо. — Радаманта попятилась — и, переключившись в боевой режим, превратилась в человекоподобную сверкающую статую.
— Рауль! — воскликнула Энея.
Немез скучала все сильнее. Стоило ей переключиться, как люди словно застыли. Девчонка замерла с открытым ртом, не докончив фразы. Бурлящая река будто покрылась льдом, как если бы то был снимок с невероятно короткой выдержкой. Пенные брызги повисли в воздухе. Одна капля воды, казалось, приклеилась к подбородку Рауля.
Радаманта сделала шаг вперед, забрала у Рауля лазер. Может, и впрямь забить фонарь ему в глотку, а потом переключиться обратно и понаблюдать за реакцией остальных? Но заметив краем глаза сжатую в кулак руку Энеи, Немез вспомнила, что у нее есть более важное дело.
Она переключилась на долю секунды, сняла с пояса мешок для образцов, снова трансформировалась в хромированную скульптуру, подошла к сидящей на корточках девчонке, левой рукой подставила мешок под подбородок Энеи, а правую превратила в длинное лезвие, немногим тупее натянутой поперек реки моноволоконной проволоки.
— Прощай… детка. — Немез усмехнулась. Она подслушала разговор, который вела между собой нелепая троица.
И занесла руку для удара.
— Что там, черт побери, происходит? — воскликнул капрал Ки. — Ни хрена не вижу.
— Тихо, — приказал де Сойя. Они сидели в креслах, прильнув к экранам мониторов.
— Немез стала… не знаю, металлической, что ли… — сказал Ки, прокручивая видеозапись. — А потом исчезла.
— На радаре ее нет, — произнес де Сойя, пробуя один за другим различные режимы сканирования. — В инфракрасном диапазоне тоже пусто… Хотя температура на поверхности поднялась градусов на десять. Приборы показывают усиление ионизации.
— Локальный шторм? — Ки недоуменно покачал головой и вдруг ткнул пальцем в экран. — А теперь что? Девочка лежит, а с тем парнем…
— Его зовут Рауль Эндимион, — проговорил де Сойя, пытаясь улучшить качество изображения. Несмотря на усилия компьютера зафиксировать картинку, изображение прыгало и расплывалось: этому способствовали увеличение температуры и атмосферные помехи. «Рафаил» находился в двухстах восьмидесяти километрах над гипотетическим уровнем моря, значительно ниже стандартной геостационарной орбиты. Компьютер непрерывно выражал беспокойство по поводу перегрева корпуса.
Капитан де Сойя увидел достаточно, а потому принял решение.
— Отключить бортовые системы, — приказал он. — Жизнеобеспечение на минимальном уровне. Убрать носовые экраны. Увеличить мощность реактора до ста пятнадцати процентов и приготовиться к переходу в тактический режим.
— Это небезопасно… — начал было компьютер.
— Отменить все ограничения и отключить динамики, — перебил де Сойя. — Код «дельта девять-девять-два-ноль». Подтвердить выполнение приказа.
На мониторах появились колонки цифр, заслонившие картинку с поверхности.
— Господи Боже, — прошептал Ки, глаза которого, казалось, вот-вот вылезут из орбит. — Господи Боже…
— Вот именно, — тоже шепотом отозвался де Сойя, наблюдая за тем, как уровень энергии бортовых систем, за исключением визуального контроля и тактического дисплея, опускается ниже красной линии.
И тут на поверхности загремели взрывы.
Серебристая фигура исчезла, сохранившись разве что перед мысленным взором. Я моргнул. В следующую секунду лазер исчез у меня из пальцев, внезапно стало жарко. Воздух рядом с Энеей неожиданно помутнел, мелькнуло нечто металлическое, с шестью руками и четырьмя ногами. Я вскочил и бросился к девочке, зная, что все равно не успею; как ни удивительно, я успел — оттолкнул Энею, и мы с ней покатились по траве.
Медпакет издал такой звук, словно кто-то провел пальцем по грифельной доске. Не обратить внимания было невозможно. Мы теряли А.Беттика. Прикрывая собой Энею, я пополз к андроиду. В этот миг в рощице у меня за спиной загремели взрывы.
Немез взмахнула рукой. Та должна была пройти сквозь хрящи и мышцы как нож сквозь масло, но натолкнулась на преграду. Удар оказался настолько сильным, что руку пронизала дрожь.
Радаманта посмотрела вниз. Ее руку стискивал десяток утыканных шипами пальцев. Другой десяток сжимал предплечье. Шрайк стоял рядом с замершей в неподвижности девочкой, его глаза сверкали алым.
Вмешательство Шрайка на какое-то мгновение выбило Немез из колеи, однако она ничуть не испугалась. Вырвала руку, отпрыгнула в сторону.
Все было как прежде: река застыла, Рауль Эндимион тянет руку, словно нажимая на невидимый спусковой крючок, андроид валяется на траве, индикаторы медпакета светятся, но не мерцают. Вот только Энею заслонила массивная металлическая фигура.
Немез усмехнулась. Так сосредоточилась на Энее, что не заметила этого олуха! Что ж, больше подобной ошибки она не допустит.
— Тебе нужна девчонка? — спросила Радаманта. — Тебя тоже послали прикончить ее? Тогда прошу… Но чур, голова моя!
Шрайк опустил руки, обошел вокруг девочки. Острые шипы на коленях чудом не воткнулись той в глаза. И вновь встал в той же позе, заслоняя Энею от Немез.
— А, так она тебе не нужна? Тогда пошел прочь!
Немез стала действовать со сверхзвуковой скоростью — метнулась влево, прыгнула вправо, нанесла удар. Если бы не искажение пространственно-временного континуума, раздался бы грохот, который сотряс бы все вокруг на десятки километров.
Шрайк отразил удар. Посыпались искры, в землю вонзилась молния. Шипы со свистом рассекли воздух в том месте, где долю секунды назад находилась Немез. Радаманта атаковала с тыла. Если бы удар достиг цели, девчонка осталась бы лежать бездыханной, с переломанным позвоночником.
Но Шрайк вновь подставил руку. Немез отшвырнуло к рощице. Она пролетела три десятка метров, ломая ветви. Шрайк устремился за ней.
Немез врезалась в камень, и тот на добрых пять сантиметров ушел в толщу скалы. Ощутив, что Шрайк переключился на медленный режим, Радаманта последовала его примеру. Деревья затрещали, вспыхнуло пламя. Противопехотные мины уловили движение и начали взрываться, причем взрыв породил цепную реакцию. Шрайка повлекло к Энее. Словно потянулись друг к другу две половинки древней урановой бомбы…
Из груди Шрайка торчал длинный изогнутый скальпель. Немез слышала все душещипательные истории о жертвах, которых этот осколок прошлого прижимал к груди, а затем развешивал на Древе Боли. Ни одна из историй не произвела на нее впечатления. Когда начали взрываться мины, силовое поле защитило Радаманту от взрывов и согнуло скальпель на груди Шрайка пополам. Металлический монстр разинул пасть и зарычал в ультразвуковом диапазоне. Немез ударила — и Шрайк, отлетев на полтора десятка метров, плюхнулся в реку.
Радаманта вновь повернулась к Энее. Рауль накрыл девочку своим телом. Как трогательно! Какая забота! Радаманта действовала настолько быстро, что в неподвижности замерли даже языки пламени, клубившегося в гуще разрывов.
Опережая ударную волну, Немез бросилась к девочке. Решено, она отрубит головы обоим. Голову девчонки отдаст хозяевам, а вторую сохранит на память.
До Энеи оставалось не больше метра, когда из облака пара, что собралось над руслом реки, вырвался Шрайк. Он атаковал слева, Немез промахнулась на считанные сантиметры и покатилась по земле, сдирая плодородный слой. Под тяжестью тел хрустели ветки. Наконец противники врезались в каменную стену. С панциря Шрайка сыпались искры. Огромные челюсти сомкнулись на горле Немез.
— Ах ты… ублюдок… — выдавила она. — Ты… верно… шутишь… — Быть съеденной заживо каким-то оборотнем устаревшей модели в ее планы никак не входило. Немез превратила руку в острие, которое вонзила глубоко в грудь Шрайка. Тем временем зубы сжимались все сильнее. Четыре пальца Радаманты пронзили панцирь, выдернули что-то, показавшееся на ощупь внутренними органами; на деле это оказались похожие на проволоку сухожилия и осколки панциря. Шрайк пошатнулся, замахал руками, точно серпами, и клацнул зубами, будто не веря, что противник еще жив.
— Ну давай, сука! — Немез шагнула вперед. — Давай! — Ей вдруг захотелось уничтожить эту груду металлолома (как говорят люди, взыграло ретивое), но она по-прежнему отдавала себе отчет в том, что у нее другая задача. Нужно всего-навсего отвлечь Шрайка или обездвижить его, чтобы он больше не встревал. А когда девчонка расстанется с головой, про него можно будет забыть. Или поместить в клетку и время от времени «выпускать на природу» — чтобы воинам Легионов было на кого поохотиться. — Давай! — повторила Немез.
Шрайку все же досталось: он переключился на медленный режим, не убрав поля. Если бы не поле, Немез прикончила бы его в два счета, а так, стоит ей сделать шаг в сторону, как Шрайк тут же окажется за спиной… Радаманта тоже переключилась на медленный режим. Нет худа без добра: можно поэкономить энергию.
* * *
— Иисусе! — воскликнул я. Энея глядела в ту же сторону из-под моей руки.
Все происходило одновременно. Истошно верещал медпакет, воздух был таким горячим, словно вырывался из доменной печи, в рощице гремели взрывы и полыхало пламя, над рекой клубился пар и летали щепки, а в трех метрах от нас Шрайк сражался с серебристой скульптурой.
Энея выползла из-под меня и подобралась к А.Беттику. Я пополз следом, не сводя глаз со сражающихся монстров, которые то возникали из ниоткуда, то вновь куда-то пропадали. Сыпались искры, в камни и почву вонзались молнии.
— Искусственное дыхание! — крикнула девочка. Я посмотрел на монитор. Сердце А.Беттика остановилось добрую минуту назад. Андроид потерял слишком много крови.
Серебристая тень метнулась к Энее. Я хотел было прыгнуть на перехват, но меня опередили: металлическое чудище отвело угрозу, послышался скрежет и лязг.
— Давай я! — Я заставил Энею отодвинуться и принялся массировать грудь андроида. Монитор показывал, что нашими стараниями к мозгу А.Беттика начала поступать кровь. Андроид задышал — правда, не самостоятельно: его легкие сокращались и расширялись благодаря усилиям Энеи. Я продолжал массаж, то и дело оглядываясь на металлических монстров, бившихся невдалеке. Пахло озоном.
— На следующий год, — крикнула Энея, перекрывая шум (несмотря на чудовищную жару, зубы девочки стучали), — мы будем отдыхать в другом месте!
Я решил, что она спятила. Поднял голову. Глаза девочки сверкали, но взгляд был вполне осмысленным. Медпакет заверещал снова, и я сосредоточился на андроиде.
Раздался грохот, с которым не шли ни в какое сравнение ни треск пламени, ни шипение пара, ни лязг металла о металл. Не прекращая массировать грудь А.Беттика, я обернулся.
Воздух словно загустел. Там, где совсем недавно сражались две серебристые фигуры, теперь стояла одна. Внезапно металлический блеск исчез, и я увидел ту самую женщину. Судя по всему, схватка ничуть ее не утомила.
— Итак, — произнесла она, делая шаг вперед, — на чем мы остановились?
Загнать Шрайка в ловушку оказалось не так-то просто. Немез приходилось непрерывно отбиваться от пальцелезвий. Она будто сражалась с дюжиной пропеллеров. Ей доводилось бывать на планетах, где использовались воздушные суда с пропеллерами. На одной такой планете двести лет назад она убила Консула Гегемонии.
Глядя в пламенеющие алые глаза, Немез слегка попятилась. «Прошло твое время», — подумала она. Руки и ноги действовали словно по собственной воле — наносили удары, парировали, делали выпады. Улучив момент, Немез пробила силовое поле Шрайка и сорвала с одной из рук многочисленные шипы. Кисть рухнула наземь, но в живот Радаманте вонзились целых пять скальпелей, не сумевших, впрочем, преодолеть силовой экран.
— Ну-ну, — процедила она и поставила Шрайку подножку, — не так быстро.
Шрайк пошатнулся, и в ту самую секунду, когда он стал на мгновение уязвим, Немез на миг отключила свой экран, схватила игровой компьютер и насадила его на шип, торчавший из перевитой проволокой шеи Шрайка.
— Вот и все. — Она отпрыгнула, переключилась на боевой режим, чтобы помешать Шрайку снять компьютер, и активировала устройство, представив себе красный кружок.
Возникло гиперэнтропийное поле, и многорукая туша перенеслась на пять минут в будущее. Пока поле существует, вернуться Шрайк ни за что не сможет.
Радаманта Немез убрала силовой экран. Горячий ветерок показался ей восхитительно прохладным.
— Итак, — сказала она, наслаждаясь впечатлением, которое произвела на людей, — на чем мы остановились?
— Стреляйте, сэр! — воскликнул Ки.
— Не могу, — ответил де Сойя, палец которого лежал на тактической гашетке. — Подземные воды. Если я выстрелю, произойдет взрыв, в котором погибнут все.
Приборы показывали, что для залпа задействована вся возможная энергия.
Ки поднес к губам микрофон и навел луч на мужчину с девочкой, внимательно следя за тем, чтобы луч не коснулся Немез.
— Бесполезно, — проронил де Сойя. Еще ни разу в жизни он не чувствовал себя столь беспомощным.
— Камни! — кричал Ки. — Бегите на камни!
Я встал, прикрывая собой Энею и горько жалея о том, что у меня нет ни пистолета, ни фонаря с лазером. Женщина приближалась. Плазменная винтовка лежала в мешке, который валялся у кромки воды. Всего-то и дел, что прыгнуть в ту сторону, схватить винтовку, снять ее с предохранителя, прицелиться и выстрелить. Но я знал, что такой роскоши мне не позволят. Даже если я успею все это проделать, Энея наверняка погибнет.
В этот миг у меня на запястье завибрировал комлог. Помните, раньше были такие беззвучные будильники? Вот-вот, было очень похоже. Когда я не обратил на него внимания, в кожу словно вонзилась иголка. Я поднес чертову штуку к уху.
— Беги на камни, — прошептал комлог. — Бери девочку и беги на камни.
Чушь какая-то! Я посмотрел на А.Беттика. Зеленых огоньков на медпакете становилось все меньше. Я подтолкнул Энею, и мы начали пятиться.
— Куда же вы? — с улыбкой проговорила женщина. — Это не слишком вежливо. Энея, если ты послушаешься меня, твой приятель останется жив. И ваш андроид тоже выживет, если, конечно, его откачают.
Я поглядел на Энею, испугавшись, что она примет это предложение. Девочка стиснула мою руку. Страха в ее пристальном взгляде по-прежнему не было.
— Все будет в порядке, детка, — прошептал я, продолжая пятиться влево. Позади была река, а слева, метрах в пяти, начинались камни.
Женщина шагнула вправо, перекрывая дорогу.
— Слишком все это затянулось, — произнесла она вполголоса. — У меня осталось четыре минуты. Куча времени. Целая вечность.
— Бежим! — Я потащил Энею к камням. Никакого плана у меня не было. Я действовал по подсказке, полученной от комлога, который вдобавок говорил не своим голосом.
Мы так и не добрались до камней. В лицо ударил горячий воздух. Металлическая фигура возникла метрах в трех впереди.
— Прощай, Рауль Эндимион, — сказал монстр, лицо которого оставалось неподвижным, и занес металлическую руку.
Внезапно мне обожгло брови, рубашка вспыхнула, нас с девочкой швырнуло в разные стороны. Мы плюхнулись наземь, покатились прочь от нестерпимого жара. Заметив, что волосы Энеи дымятся, я накрыл руками голову девочки. Медпакет верещал не переставая, но этот звук утонул в чудовищном грохоте. Я скинул рубашку, и мы с Энеей поползли обратно, так быстро, как только могли. Впечатление было такое, будто мы вдруг очутились в кратере вулкана перед самым извержением.
Схватив в охапку А.Беттика, мы подтащили его к реке и не задумываясь бросились в кипящий поток. Я удерживал над водой голову андроида, Энея же цеплялась одной рукой за камни, а другой за меня, чтобы нас не унесло течением. Над самой поверхностью воды — точнее, над слоем речного ила — воздух был более или менее прохладным.
На лбу вспухли волдыри. Должно быть, бровей у меня уже не осталось. Я осторожно поднял голову.
Хромированная фигура стояла в центре огненного круга около трех метров в диаметре. Пламя тянулось к небесам, исчезая в неведомой дали. Над объятой пламенем фигурой мерцало марево.
Женщина попыталась было сделать шаг, но луч с небес словно пригвоздил ее к земле. Хромовое покрытие сделалось сначала красным, потом зеленым, наконец, стало ослепительно белым. Женщина погрозила кулаком небу. Камень плавился у нее под ногами, ручьи, нет, настоящие реки лавы текли вниз, к лужайке. Некоторые стекали прямо в Тетис, по счастью, довольно далеко от нас; над потоком вновь с шипением заклубился пар. Признаюсь, в тот миг я впервые в жизни чуть было не поверил в Бога.
По всей видимости, женщина заметила опасность на несколько секунд позже, чем следовало. Она исчезла, потом возникли размытые очертания фигуры, которые пропали опять… В конце концов она попросту утонула в озере лавы у себя под ногами.
Луч утюжил камни добрую минуту. Смотреть на него было невозможно. Чувствуя, что со щек начинает слезать кожа, я вновь уткнулся лицом в ил. Течение так и норовило увлечь нас за собой, туда, где кипела лава и была натянута проволока.
Вскинув голову, я успел заметить поднятый кулак. Воздух задрожал, замерцал — и все кончилось. Лава мгновенно начала остывать. К тому времени, когда мы с Энеей выбрались из реки и снова принялись массировать А.Беттику грудь, каменная масса успела затвердеть, остались лишь немногочисленные тлеющие «щупальца». В воздухе кружились искры, которые ветерок приносил из рощицы, где по-прежнему полыхал пожар. Улыбчивой женщины видно не было.
Медпакет, как ни удивительно, продолжал функционировать. Красные огоньки понемногу сменялись янтарными по мере того, как нашими стараниями к А.Беттику возвращалась жизнь. Кровотечение из руки наконец-то остановилось. Когда андроид начал дышать самостоятельно, я посмотрел на девочку, которая сидела на корточках напротив, и спросил:
— Что теперь?
За спиной раздался негромкий хлопок. Я обернулся и увидел Шрайка.
— О Боже, только не это.
Энея покачала головой. Лицо девочки было покрыто волдырями, волосы местами выгорели, рубашка превратилась в лохмотья. В остальном, кажется, с ней все было в порядке.
— Не волнуйся, — сказала она.
Я встал, добрел до мешка и сунул руку внутрь, нащупывая плазменную винтовку. Тщетно. Винтовка расплавилась, не выдержав опаляющего жара. Просто чудо, что не взорвались заряды. Я бросил мешок и повернулся к Шрайку, сжимая кулаки. Иди сюда, сволочь, ну иди же сюда.
— Не волнуйся, — повторила Энея, погладив меня по плечу. — Он с нами.
Мы вернулись к А.Беттику. Ресницы андроида затрепетали.
— Я пропустил что-то интересное? — осведомился он хриплым шепотом.
Никто не засмеялся. Энея притронулась к щеке андроида, потом посмотрела на меня. Шрайк стоял неподвижно, у него над головой кружились искры, на панцирь оседала копоть.
А.Беттик закрыл глаза. Индикаторы медпакета снова замигали.
— Ему нужно выспаться, — прошептал я. — Иначе мы его наверняка потеряем.
Девочка кивнула. По-моему, она прошептала что-то в ответ. Правда, не своим голосом.
Я поднял левую руку, всю в пятнах ожогов. На ней не осталось ни единого волоска.
Мы прислушались. Из комлога доносился знакомый голос.
Глава 56
Когда Энея все-таки отозвалась, капитан отец де Сойя не сумел скрыть удивления. Он не ожидал, что древний комлог способен воспринимать направленный луч. Имелось даже изображение — над главным экраном возникла чуть искаженная голографическая проекция двух перепачканных сажей лиц.
— Разрази меня гром, — произнес капрал Ки, глядя на капитана.
— Да уж, — отозвался де Сойя и прибавил, обращаясь к лицам над экраном: — Говорит капитан отец де Сойя. Я нахожусь на борту звездолета «Рафаил»…
— Я вас помню, — перебила девочка. Де Сойя сообразил, что компьютер передает не только речь, но и голографические образы. Должно быть, над комлогом плавает миниатюрная копия его собственной головы, как бы отороченной высоким воротником.
— Я тебя тоже помню. — Иного ответа у капитана не нашлось. Погоня продолжалась много дней. Де Сойя посмотрел в черные глаза Энеи, отметил про себя волдыри на лице девочки. Как она близко…
— Кто это был? — спросил Рауль Эндимион. — То есть что это было?
Капитан покачал головой.
— Не знаю. Ее звали Радаманта Немез. К нам она попала несколько дней назад. Утверждала, что является воином Легиона и прошла специальную подготовку… — Де Сойя умолк. Подумать только, он делится с врагами секретной информацией! Поймав усмешку капрала Ки, де Сойя вдруг сообразил, что это уже не важно: им все равно не избежать трибунала. — Скорее всего это была ложь. По-моему, Немез не была человеком.
— Аминь, — подытожил Рауль Эндимион, бросил взгляд в сторону, затем вновь повернулся к де Сойе. — Капитан, наш друг умирает. Вы можете чем-нибудь помочь?
Де Сойя снова покачал головой.
— Нам до вас не добраться. Немез забрала катер и вывела из строя дистанционное управление. Мы не можем даже выйти с ним на связь. Но на катере есть автохирург, так что если вы его отыщете…
— Где он? — справилась девочка.
Капрал Ки подался вперед, чтобы оказаться в поле зрения.
— Радар показывает, что катер находится в полутора километрах к югу от вас. В холмах. Он замаскирован, но вряд ли вы пройдете мимо. Мы вас проводим.
— Комлог говорил вашим голосом! — воскликнул Эндимион. — Это вы требовали бежать к камням.
— Ну да, — согласился Ки. — Мы зарядили орудие на полную мощность, если не ошибаюсь, гигаватт восемьдесят, предел для здешней атмосферы, но прикинули, что, когда начнут испаряться подземные воды, вы наверняка погибнете. А на камнях у вас был шанс…
— Нас туда не пустили, — криво усмехнулся Рауль.
— Попытка не пытка, — откликнулся Ки.
— Спасибо вам, — поблагодарила Энея.
Ки смущенно кивнул и откинулся на спинку кресла.
— Как сказал капрал, — произнес де Сойя, — мы проводим вас до катера.
— Чего ради? — поинтересовался Рауль. — Кстати, почему вы убили своего солдата?
— Это был не мой солдат.
— Но она служила Ордену и Церкви.
— Надеюсь, Церковь тут ни при чем, — тихо проговорил де Сойя. — А если нет… значит, моя Церковь стала исчадием ада. — Наступило молчание, которое нарушал только треск статических разрядов. — На вашем месте я бы не медлил. Скоро стемнеет.
Рауль и девочка огляделись по сторонам, что выглядело довольно комично: они словно забыли, где находятся.
— Между прочим, — сообщил Рауль, — ваш луч расплавил мой фонарь.
— Если хотите, могу посветить, — отозвался де Сойя без улыбки. — Одного залпа с вас хватит?
— Пожалуй, обойдемся без света, — ответил Рауль. — Я отключу камеру. Вы не против? Комлог настроен на вашу частоту — если что, вызывайте.
Глава 57
На то, чтобы преодолеть полтора километра, потребовалось больше двух часов. Не так-то просто пробираться по застывшим потокам лавы, тем паче — с А.Беттиком на спине: того и гляди упадешь и переломаешь ноги. Вокруг царил непроглядный мрак, не было даже звезд — их скрывали облака. Честно говоря, мы бы вряд ли добрались до катера, если бы Энея не нашла в траве мой фонарик с лазером.
— Откуда он, черт побери, тут взялся? — Насколько я помнил, фонарик был у меня в руке и я целился из него в женщину-убийцу. Потом он попросту исчез… Ну да ладно. Не день, а сплошные загадки; одну из них мы оставили на лужайке — я разумею неподвижно застывшего Шрайка, который не обратил на наш уход ни малейшего внимания.
Энея шагала впереди, освещая дорогу фонариком. В конце концов мы пересекли нагромождение лавы и углубились в холмы. Вполне возможно, мы бы двигались быстрее, если бы не А.Беттик.
Медпакет израсходовал на него все свои скромные запасы антибиотиков, стимуляторов, болеутоляющего и прочих препаратов. Андроид выжил исключительно стараниями медпакета. Однако его состояние по-прежнему внушало серьезные опасения. Он потерял слишком много крови: моя затея с ремнем оказалась не очень удачной, кровотечение остановилось, только когда Энея наложила А.Беттику настоящий жгут. Время от времени мы делали андроиду искусственное дыхание, чтобы поддержать хотя бы приток крови к мозгу; медпакет исправно оглашал окрестности пронзительным писком. Из комлога доносился голос капрала; я решил, что, даже если они замышляют заманить нас в ловушку и захватить Энею, мы все равно чертовски им обязаны. И всю дорогу, когда луч фонаря падал на потоки лавы или на обугленные деревья, мне казалось, что меня вот-вот схватит за ногу зловещая женщина-убийца…
Капрал привел нас прямиком к катеру. Энея поставила было ногу на ступеньку металлического трапа, но я заставил девочку спуститься.
— Не стоит рисковать, детка. Вдруг они нас обманули? Вдруг дистанционное управление в полном порядке? Заберешься, а катер возьмет и взлетит — и поминай как звали.
Энея опустилась на землю. Мне еще не доводилось видеть ее такой усталой.
— Я верю им. Они сказали…
— Давай все же не будем рисковать. Оставайся здесь, а я поднимусь наверх и посмотрю, есть ли там автохирург.
Пока я карабкался по трапу с андроидом на плечах, меня одолевали мрачные мысли. Что, если дверь заперта, а ключи в кармане у той металлической стервы?
Рядом с люком находился крошечный светящийся пульт.
— Шесть-девять-девять-два, — сообщил комлог голосом капрала Ки.
Я набрал комбинацию цифр, и люк скользнул в сторону. На борту катера и впрямь имелся автохирург, который ожил, стоило мне прикоснуться к кнопке. Я осторожно, стараясь не задеть обрубок левой руки, положил андроида на операционный стол, убедился, что хирург начал действовать, и закрыл колпак — словно задвинул крышку гроба.
Показания приборов оптимизма не внушали. Какое-то время я тупо глядел на монитор, потом вдруг сообразил, что буквально сплю стоя. Потер глаза и подошел к открытому люку.
— Детка, если хочешь, заберись на трап. Но если заработает двигатель, немедленно прыгай.
Энея поднялась на пару перекладин, выключила фонарь. Темноту с грехом пополам рассеивали мониторы автохирурга и огоньки на панели управления катера.
— И что потом? — спросила девочка. — Я спрыгну, а вы с А.Беттиком улетите, и что мне делать?
— Искать второй портал, — ответил я.
— Вы нам не доверяете, — произнес комлог голосом капитана де Сойи. — Что ж, ничего удивительного.
Я сел, прислонился спиной к переборке, послушал, как ветер шелестит листвой в набросанных поверх катера ветвях, и поинтересовался:
— Что случилось, капитан? Вас послали захватить Энею. Почему вы помогли нам?
Мне вспомнились стычка у Парвати, наша встреча на Возрождении-Вектор…
— Рауль Эндимион, — ответил капитан, — у меня ваш ковер-самолет.
— Правда? — Интересно, когда я видел ковер в последний раз? А, на Безбрежном Море. — Мир тесен, капитан. — Я постарался не выдать волнения, хотя, откровенно говоря, отдал бы что угодно, чтобы мне вернули ковер прямо сейчас. Энея внимательно слушала, то и дело поглядывая в сторону автохирурга — проверяя, не отступился ли тот от пациента.
— Совершенно верно, — отозвался де Сойя. — Друзья мои, мне кажется, я начал понимать ваш образ мыслей. Быть может, однажды вы начнете понимать меня.
— Может быть. — В ту пору я и не подозревал, что его слова окажутся пророческими.
— Мы считаем, что капрал Немез повредила автопилот катера, — тон капитана сделался деловым, почти резким, — но вас убеждать ни в чем не станем. Можете располагать катером как вам заблагорассудится. Кстати, Энее ничто больше не угрожает.
— То есть? — Обожженные места болели все сильнее. Пожалуй, надо порыться в рундуках, поискать медпакет. На катере, предназначенном для посадки на планеты, его просто не может не быть.
— Мы улетаем, — объявил капитан.
Я выпрямился.
— Как мы в этом убедимся?
Капитан хмыкнул.
— Вообще-то корабль, идущий на реактивной тяге, заметить несложно. Приборы показывают, что облаков над вами почти нет. Вы нас увидите.
— Мы увидим, как вы покидаете орбиту, — уточнил я. — Но как мы узнаем, что вы покинули систему?
Энея потянула меня за руку и проговорила в комлог:
— Капитан, куда вы летите?
— На Пасем, — помолчав, отозвался де Сойя. — В распоряжении Ордена всего три таких корабля, как «Рафаил», включая и наш… Мы с капралом уже прикидывали, не махнуть ли нам… куда-нибудь, но нельзя забывать, что мы — солдаты. Мы служим Ордену и Христу. Поэтому мы возвращаемся на Пасем, навстречу своей судьбе…
Жуткая тень священной инквизиции дотянулась даже до Гипериона. Я поежился, и не только потому, что со стороны Мирового Древа вдруг подул холодный ветер.
— Кроме того, — продолжал де Сойя, — нам необходимо вернуться на Пасем, чтобы тамошние специалисты позаботились о нашем товарище, которого не сумели воскресить автоматы.
Я бросил взгляд на автохирурга и неожиданно поверил в то, что капитан больше нам не враг.
— Отец де Сойя, — сказала Энея, — что они с вами сделают? С вами и с капралом?
— Если нам повезет, — из комлога донесся смешок, — нас казнят, а потом отлучат от Церкви. Если нет, второе произойдет первым.
Лицо Энеи оставалось серьезным.
— Капитан де Сойя, капрал Ки… присоединяйтесь к нам. Пускай ваш корабль возвращается на Пасем, а мы все вместе пойдем искать портал.
Молчание затянулось. Я уже решил, что связь прервалась, но тут раздался негромкий голос капитана:
— Искушение велико. Очень велико. Мне хочется испытать, каково это — путешествовать по нуль-Т, и еще больше хочется познакомиться с тобой. К сожалению, милая, мы оба — слуги Церкви и должны выполнить свой долг. Я искренне надеюсь, что капрал Немез — ошибка, что подобного не повторится. Но чтобы выяснить, нам необходимо вернуться.
Внезапно в глаза брызнул яркий свет. Я высунулся из люка: в разрывах облаков сверкала бело-голубая колонна плазменного выхлопа.
— И потом, — чувствовалось, что сила тяжести на корабле возросла: капитан словно задыхался, — мы попросту не можем спуститься, Немез повредила не только автопилот катера, но и боевые скафандры. Так что увы…
Плазменный выхлоп удлинялся и становился все ярче. Господи, когда-то и мы летали на своем корабле… Внезапно мне в голову пришла мысль, от которой я покачнулся, как от удара.
— Капитан, а вы уверены, что эта… Немез мертва? Мы увидели, как она утонула в лаве, но…
— Ничего не могу сказать. Мой совет — улетайте отсюда как можно скорее. Катер — наш подарок, возможно, он вам пригодится.
Я окинул взглядом местность. Ветер шелестел листвой, поднимая клубы пепла, а мне казалось, будто к нам приближается женщина-убийца.
— Энея, — окликнул де Сойя.
— Да, капитан.
— Связь скоро прервется… Мне хотелось бы кое-что тебе сказать.
— Я слушаю.
— Дитя мое, если мне вновь прикажут найти тебя… именно найти, а не… Понимаешь, я — офицер флота, слуга Церкви…
— Понимаю. — Энея не сводила глаз с мало-помалу тускневшего плазменного следа. — Прощайте, капитан. Прощайте, капрал Ки. Спасибо вам за все.
— Прощай, доченька, — ответил де Сойя. — Благослови тебя Господь. — Связь прервалась, и воцарилась тишина.
— Пошли, — сказал я. — Мы улетаем. Немедленно.
Задраить люки не составило труда. Мы проверили автохирург — огоньки были оранжевыми, но не мигали, — расположились в креслах и пристегнулись ремнями. Сквозь лобовое стекло виднелось поле лавы, над которым сверкали редкие звезды.
— Итак. — Я поглядел на панель. Неужели кто-то способен разобраться в этом скопище кнопок, переключателей, мониторов, проекционных пластин и тому подобного? Между креслами располагался пульт с двумя штурвалами, причем на каждом имелись углубления для пальцев. Кроме того, на пульте находилась по меньшей мере дюжина портов для прямого подключения к автопилоту. — Итак, — повторил я. — Есть идеи?
— Может, выйдем и пойдем пешком? — предложила девочка. В огромном кресле она казалась совсем крохотной.
Я вздохнул.
— Мысль хорошая, но… — Я ткнул пальцем в сторону гудящего автохирурга.
— Знаю. — Энея будто обмякла. — Я пошутила.
Я погладил ее по руке. Как всегда, меня словно ударило током — это было нечто вроде физического déjà vu.[101]
— Черт возьми! Я думал, что чем совершеннее технология, тем она проще, а ощущение такое, будто мы попали в кабину старинного истребителя.
— Просто нам нужен профессионал, — объяснила Энея. — Профессиональный пилот.
— У вас он есть, — чирикнул комлог (на сей раз — своим собственным голосом).
— Ты умеешь управлять кораблем? — недоверчиво спросил я.
— Позвольте напомнить, что я и есть корабль, — гордо заявил комлог. Одно из звеньев браслета вдруг открылось. — Пожалуйста, подсоедините красный контакт к красному интерфейсу.
Я послушался. Панель управления ожила — засветились мониторы, заработали датчики, загудели вентиляторы, штурвалы встали в исходное положение. Экран центрального монитора сделался желтым.
— Куда вы хотите отправиться, месье Эндимион и мадемуазель Энея? — осведомился комлог.
— К следующей арке, — ответила девочка. — К последнему порталу.
Глава 58
Мы вылетели в день, на несколько секунд зависли над рекой, затем медленно двинулись дальше. Комлог передоверил нам штурвалы, предварительно объяснив, как ими пользоваться; контроль за бортовыми системами он взял на себя, а кроме того, отслеживал наши действия, дабы не допустить глупых ошибок. Переглянувшись с Энеей, я направил катер над макушками деревьев. Похоже, мы в безопасности — если, конечно, капрал Немез не проникнет за катером через портал.
Без плота было как-то непривычно, оставалось утешаться тем, что от него все равно не было бы толку. Река превратилась в крохотный ручеек глубиной не более десяти сантиметров и около трех-четырех метров шириной; с обеих сторон его стискивали высокие лесистые берега. Деревья казались смутно знакомыми; преобладали лиственные породы, чем-то напоминавшие челму или плотинник, только с развесистыми, как у полудуба, кронами. Широкие ярко-желтые листья чередовались с огненно-красными; казалось, берега реки устилает роскошный ковер.
Небо было голубее, чем на большинстве тех миров, на которых мы побывали, но с гиперионским все же в сравнение не шло. Солнце светило ярко, но не припекало. Лучи светила, проникая сквозь лобовое стекло, падали нам на колени.
— Интересно, каково снаружи? — проговорил я.
Комлог — или корабль (кто его разберет) — решил, по-видимому, что я обращаюсь к нему, и на экране центрального монитора высветилось:
Атмосфера: N2 — 0,77
O2 — 0,21
Ar — 0,009
CO2 — 0,0003
H2O — переменная (-0,01)
Давление у поверхности: 0,986 бар
Плотность: 5518 кг/м³
Магнитное поле: 0,318 Гаусс
Масса: 5,976 х 1024 кг
Скорость убегания: 11,2 км/с
Ускорение: 9,8 м/с²
Угол наклона магнитной оси: 11,5
Дипольный момент: 7,9 х 1025 Гаусс/см³
— Очень странно, — заявил комлог. — Совпадение невозможно…
— Что ты имеешь в виду? — Спрашивая, я уже знал ответ.
— Данные практически совпадают с теми характеристиками, которые относятся к Старой Земле. Еще не случалось такого, чтобы параметры двух планет…
— Стоп! — перебила Энея, тыкая пальцем в лобовое стекло. — Пожалуйста, приземлись.
Если бы мы садились на ручном управлении, я бы поломал множество деревьев, но комлог взял управление на себя и посадил катер на скалистой площадке метрах в двадцати от ручья, да так, что не задел ни единой ветки. Пока я пялился на видневшуюся за деревьями плоскую крышу дома, Энея успела открыть люк.
Девочка спрыгнула наземь. Я проверил монитор автохирурга, с удовольствием отметил, что некоторые огоньки стали зелеными, и сказал:
— Наблюдай за А.Беттиком. И учти — может случиться так, что нам понадобится срочно взлетать.
— Учту, месье Эндимион, — пообещал комлог.
По берегу ручья мы подошли к дому. Описать его будет не так-то просто, но я попробую.
Он стоял рядом с водопадом: вода срывалась с обрыва высотой около трех метров и летела в естественную заводь, где плавала желтая листва. Время от времени течение подхватывало пригоршню листьев и увлекало за собой. Сразу бросались в глаза прямоугольные террасы, нависавшие над заводью и водопадом, как бы опровергая закон всемирного тяготения. По всей видимости, дом выстроили из камня, стекла, бетона и стали. Слева от террас возвышалась каменная стена с тремя окнами, расположенными друг над другом. Затейливые металлические рамы были окрашены в оранжевый цвет.
— Свободнонесущая конструкция, — заметила Энея.
— Что?
— Так в архитектуре называются подобные террасы, — объяснила девочка. — Они как бы повторяют известняковые пласты, залегавшие здесь миллионы лет назад.
Я остановился и пристально поглядел на Энею. Катера за деревьями видно не было.
— Это твой дом. Тот, о котором ты грезила еще до рождения.
— Да. — Губы девочки дрогнули. — Я даже знаю, как он называется. «Водопад».[102]
Я кивнул и принюхался. Пахло прелой листвой, землей, водой — и чем-то еще. Совсем не так, как на Гиперионе, но почему-то казалось, что я вернулся домой.
— Старая Земля, — прошептал я. — Неужели это возможно.
— Просто Земля, — поправила Энея и взяла меня за руку. — Пойдем.
Мы пересекли ручей по невысокому мостику, прошли по усыпанной гравием дорожке, миновали террасы и поднялись на крыльцо. Когда я переступил порог, мне почудилось, будто мы очутились в пещере.
В просторной гостиной мы остановились и окликнули хозяев, но никто не отозвался. Энея шагала словно в трансе, водила рукой по камню и дереву, восхищенно восклицала, когда натыкалась на что-нибудь любопытное.
Большую часть каменного пола устилал ковер. В нише виднелись полки с книгами: названий я издалека не разобрал, а подходить ближе не хотелось. Вдоль стен тянулись металлические карнизы — должно быть, они служили украшением. У дальней стены возвышался громадный очаг, занимавший пространство от пола до потолка.
В очаге, несмотря на солнечный день, потрескивали дрова. Я снова окликнул хозяев, и снова мне ответила тишина.
— Нас ждали. — Это была шутка, но в ней, судя по всему, присутствовала доля истины. А я был вооружен всего-навсего карманным лазером.
— Да, — подтвердила Энея. Она приблизилась к очагу, положила обе ладони на металлическую сферу, что помещалась в нише слева от очага. Диаметр сферы составлял около полутора метров; она была выкрашена в красный цвет и с расстояния казалась ржавой. — Котел, в котором греют вино. Так сказал архитектор… Его использовали только один раз, а потом принесли с кухни сюда. Краска может быть ядовитой.
— Говоришь, архитектор? Тот, которого ты ищешь? У которого хочешь учиться?
— Он самый.
— Я думал, он гений. Но с какой стати гению отливать такой котел и покрывать его вдобавок ядовитой краской?
Энея улыбнулась. Нет, ухмыльнулась.
— Рауль, и на гениев порой находит. Хочешь доказательств — вспомни наше путешествие. Пошли дальше.
С террас открывался замечательный вид: ты словно выглядывал из уютной пещеры в поражающий буйством красок мир. Мы вернулись в гостиную, поднялись по складной лесенке, крепившейся шарнирами к потолку, на второй этаж и очутились на площадке над еще одной заводью, которую ручей образовывал выше водопада.
— Бассейн, — обрадованно воскликнула Энея.
— Для чего он служит?
— Так. — Девочка пожала плечами. — Но мой архитектор считал — я цитирую, — что «бассейн необходим со всех точек зрения».
Я тронул девочку за плечо. Она обернулась, улыбнулась — не отстраненно, как можно было бы предположить. Нет, улыбка буквально осветила ее лицо.
— Где мы, Энея?
— Водопад. Медвежья Тропа. Западная Пенсильвания.
— Это государство?
— Провинция. То есть штат. Территория бывших Соединенных Штатов Америки. Северная Америка, планета Земля.
— Земля, — повторил я, оглядываясь по сторонам. — Но где хозяева? Где твой архитектор?
Девочка покачала головой.
— Не знаю. Думаю, скоро объявится.
— И сколько мы тут пробудем, детка? — Мне бы хотелось запастись оружием и провиантом. Пожалуй, этим я и займусь, пока А.Беттик будет поправляться.
— Несколько лет. Шесть-семь, не больше. По крайней мере так мне кажется.
— Лет? — Я замер у верхнего пролета лесенки. — Ты сказала «лет»?
— Рауль, мне надо набраться опыта. Я должна учиться.
— Чему? Ремеслу архитектора?
— Не только.
— Ладно, ты будешь учиться. А я?
— Я знаю, тебе кажется, что с тобой поступили несправедливо. — Я пристально поглядел на девочку: она и не думала насмехаться. — Если не ошибаюсь, для тебя найдется подходящее занятие. — Я молча ждал продолжения. — Землю надо изучить. Мои родители бывали здесь… Мама считала, что львы, медведи и тигры — ну, те силы, которые похитили Землю из-под носа у Техно-Центра, — что они проводят тут эксперименты…
— Какие еще эксперименты?
— С гениальностью. Или, точнее, с человечностью.
— Что-то я не понимаю.
Энея повела рукой.
— Этот дом построен в 1937 году.
— От Рождества Христова?
— Да. Разрушили его в двадцать первом веке, во время восстания, если не раньше. Те, кто переправил Землю на новое место, восстановили дом точно так же, как восстановили для моего отца Рим девятнадцатого столетия.
— Рим? — переспросил я, чувствуя себя полным идиотом оттого, что приходится уточнять едва ли не каждое слово девочки. Знаете, бывают такие деньки.
— Тот Рим, в котором провел свои последние дни Джон Китс. Но это другая история.
— Ага. Я помню ее из «Песней» твоего дядюшки Мартина. Признаться, я ничего в ней не понял.
Энея махнула рукой.
— Я тоже не понимаю, Рауль. Но те, кто перенес Землю, не только восстанавливают древние города и здания, они воскрешают людей. Создают… динамику.
— Таким-то образом? — с сомнением в голосе справился я.
— Дело в том, что… Мой отец был кибридом, помнишь? Тело человека, а личность — матрица ИскИна.
— Но ты же не кибрид.
Энея покачала головой. Мы двинулись дальше. Под нами шумел водопад.
— Пока я буду учиться, тебе предстоит кое-что сделать.
— Например?
— Изучить Землю, выяснить, что замышляют… существа, которые ее похитили, и привести наш корабль.
— Наш корабль? — В конце концов, мысленно прикрикнул я на себя, хватить строить идиота. — То есть мне придется воспользоваться нуль-Т?
— Да.
— И привести сюда корабль Консула?
Девочка вновь покачала головой.
— На это уйдет несколько столетий. Нет, мы встретимся с тобой в другом месте, на каком-нибудь из миров Сети.
Я потер небритую щеку.
— Что-нибудь еще? Давай выкладывай, что ты для меня припасла, какую маленькую одиссею?
— Еще нужно слетать на Окраину и повидать Бродяг. Но это мы сделаем вместе.
— Хорошо. Надеюсь, больше ничего? Знаешь ли, я уже не так молод…
Я попытался обратить все в шутку, но Энея оставалась убийственно серьезной. Она взяла меня за руку.
— Нет, Рауль, это только начало.
Запищал сигнал вызова.
— Что стряслось? — Естественно, первая моя мысль была об А.Беттике.
— Мне сообщили координаты, — озадаченно произнес комлог.
— Как насчет видео?
— Только координаты и крейсерская высота.
— Куда летим?
— Координаты соответствуют точке в трех тысячах километров к юго-западу отсюда.
Я посмотрел на Энею.
— Что сие означает?
— Точно я не знаю, — ответила девочка, — но кое-какие догадки у меня есть. Пускай это будет сюрпризом.
Держа друг друга за руки, мы вышли из дома и по залитому солнечным светом ковру палой листвы направились к катеру.
Глава 59
Я уже говорил: зря вы это читаете. Теперь я понимаю, что следовало выразиться иначе: зря я это пишу.
На протяжении бесчисленных дней и ночей я заполнял гладкие веленевые страницы воспоминаниями об Энее, Энее-девочке, и ни словом не обмолвился о той, кого вы знаете как мессию и кому, быть может, ошибочно поклоняетесь. Но я писал не для вас — и, как выяснилось, не для себя. Своими воспоминаниями я оживил Энею-ребенка потому, что хотел, чтобы ожила Энея-женщина — ожила вопреки логике, вопреки истории, вопреки безнадежности и отчаянию.
Каждое утро, когда автоматически вспыхивают лампы, я просыпаюсь в кошачьем ящике Шредингера, три на шесть метров, и с изумлением обнаруживаю, что еще жив, что так и не почувствовал ночью миндального привкуса.
Каждое утро я сражаюсь со страхом и отчаянием, пишу воспоминания и аккуратно складываю в стопку веленевые странички. К сожалению, здешняя система переработки далека от совершенства: больше дюжины страниц зараз она не выдает. Вот и получается, что мне приходится запихивать в рециркулятор первые страницы рукописи. Они выходят чистенькими и свежими, садись и пиши. Змея, которая гложет собственный хвост. Настоящее безумие. Либо — истинная сущность здравомыслия.
Вполне возможно, процессор в текстовой палете запоминает все, что я пишу. Он запомнит и то, что мне еще предстоит написать, — если, конечно, судьба будет благосклонна. Но, честно говоря, чихал я на процессоры и на судьбу. Меня интересует лишь та дюжина страниц — невинно чистых поутру и заляпанных чернилами, заполненных мелким, бисерным почерком к вечеру.
На этих страницах каждый день оживает Энея.
Прошлой ночью, когда огни в камере погасли и от вселенной меня отделяла разве что статико-динамическая капсула застывшей энергии, в которой хватало места и флакону с цианидом, и таймеру, и счетчику радиации, — так вот, прошлой ночью я услышал, как Энея окликает Рауля Эндимиона по имени. Я сел. Царил непроглядный мрак, но я настолько разволновался, что позабыл включить свет; я был уверен, что сплю, но тут ее пальцы коснулись моей щеки. Это были ее пальцы, уж мне ли не знать. Я целовал их, еще когда Энея была ребенком. Поцеловал и в ту ночь, на прощание.
Ее пальцы коснулись моей щеки. Пахнуло знакомым ароматом. К моим губам прильнули милые губы.
— Рауль, хороший мой, мы уходим отсюда, — прошептала она. — Не сейчас. Когда ты закончишь свою историю. Как только все вспомнишь и все поймешь.
Я потянулся к ней, но она словно отступила. Когда зажглись огни, в камере никого не оказалось.
Я расхаживал по своему эллипсоиду, пока огни не вспыхнули вновь, уже утром. В те бесконечные месяцы я боялся вовсе не смерти — Энея научила меня относиться к ней как к неизбежности, — я боялся безумия. Почему? Потому что безумие лишило бы меня воспоминаний об Энее.
Внезапно мне бросилось в глаза, что текстовая палета включена. На миг я застыл как вкопанный. Перо высовывалось из-под крышки… Когда мы путешествовали по вселенной с Энеей, я заметил у нее привычку засовывать перо меж страниц дневника, который она вела. У меня задрожали руки. Я рециркулировал то, что написал вчера, и включил принтер.
Из устройства выползла одна-единственная страница. Я сразу узнал почерк Энеи.
Это был своего рода поворотный пункт. Либо я действительно обезумел, либо спасен и воскрес для новой жизни.
Читайте и судите сами. Скажу лишь, что прочел ее с надеждой на спасение. Не на духовное, а на физическое — на телесное воссоединение с той, кого помню и люблю больше всех на свете.
Иначе, на мой взгляд, читать и не стоило.
Глава 60
Рауль, можешь считать, что это постскриптум к твоим воспоминаниям, которые я прочла сегодня ночью. Господи, сколько минуло лет… Помнишь последние три часа, которые мы провели вместе на катере — ты, мой милый Рауль, наш добрый А.Беттик и я? Катер летел по направлению к Талиесин-Уэст, где меня ожидали долгие годы ученичества. Мне так хотелось все тебе рассказать — поведать о снах, в которых мы были любовниками и поэты слагали песни о нашей любви; о видениях грядущих опасностей, о встречах с новыми друзьями и о тягостных прощаниях, о еще не испытанной скорби и еще не свершившемся торжестве.
Но я промолчала.
Помнишь? Мы дремали, сидя в креслах. До чего же странная штука жизнь… Последние часы наедине, завершение одного из самых запоминающихся промежутков нашей близости, конец моего детства, начало иных отношений — а мы дремали. И ладно бы в одном кресле, а то в разных… Жизнь чертовски жестока. Бесценные воспоминания теряются среди повседневных мелочей.
Но мы устали. Нам было даже не до разговоров.
Когда катер пошел на снижение над пустыней, я вырвала страничку из своего бедного дневника, уцелевшего в воде и в огне, и написала тебе записку. Ты спал, опустив голову на подлокотник кресла, по подбородку текла струйка слюны. У тебя не было ни бровей, ни ресниц, на макушке, там, где волос коснулось пламя, виднелась проплешина. Выглядел ты забавно — этакий клоун, которого сморил сон. (Помнишь, мы с тобой говорили о клоунах, когда летели к Бродягам? Ты видел клоунов в цирке Порт-Романтика, а я наблюдала за ними в Джек-тауне на ежегодной ярмарке в канун праздника Первопоселенцев.)
Ожоги. Пятна мази на щеках и на висках, под глазами и на верхней губе — ни дать ни взять клоунский грим. Белое на красном. Ты был прекрасен, Рауль. Я полюбила тебя. Пойми, я любила тебя в прошлом и будущем и за пределами пространства-времени.
Ну вот, я написала записку, сунула ее в карман твоей наполовину истлевшей рубашки и тихонько поцеловала тебя в губы, отыскав необожженный уголок. Ты пошевелился, но не проснулся. На следующий день ты не сказал мне ни слова насчет записки, вообще о ней не упоминал, и я долго гадала, нашел ты ее или нет — может, она выпала из кармана или ты выкинул ее заодно с рубашкой в Талиесине…
Строки принадлежали моему отцу. Он написал их столетия назад. Потом умер, воскрес, если можно так выразиться, кибридом и умер снова, уже как человек. Умер — и продолжал жить: его личность скиталась по метасфере. Вместе с Консулом покинул Гиперион, проникнув в ДНК бортового компьютера. Что бы там ни плел в своих «Песнях» дядюшка Мартин, о чем отец говорил, прощаясь с моей матерью, известно только им двоим. Но когда мама проснулась на следующее утро, она обнаружила эти строки — и сохранила распечатку до конца жизни. Я знаю… Когда мы жили в Джектауне, я прокрадывалась в ее комнату и читала выцветшие строчки на пожелтевшем веленевом листе. Каждую неделю, начиная с того дня, когда мне исполнилось два года.
Милый Рауль, эти строки я подарила тебе с прощальным поцелуем в последний день нашего первого путешествия. Эти строки я оставила тебе сегодня с поцелуем надежды. Эти строки я потребую у тебя при следующей встрече, когда ты закончишь свои воспоминания и начнется наша дорога в вечность.
Прекрасное пленяет навсегда. К нему не остываешь. Никогда Не впасть ему в ничтожество. Все снова Нас будет влечь к испытанному крову С готовым ложем и здоровым сном.[103]А сейчас, Рауль Эндимион, я говорю тебе «прощай» до той поры, когда мы снова встретимся на страницах твоих воспоминаний, в яростном экстазе…
Дитя в безвестье канувших времен, Молчунья, на которой старины Красноречивый след запечатлен! О чем по кругу ты ведешь рассказ? То смертных силуэты иль богов? Темпейский дол или Аркадский луг? Откуда этот яростный экстаз? Что за погоня, девственный испуг, Флейт и тимпанов отдаленный зов?[104]А пока, любовь моя, желаю тебе испытанного крова, готового ложа и здорового сна.
Книга II ВОСХОД ЭНДИМИОНА
Мы не субстанция, которая просто существует. Мы — структуры, которые увековечивают себя.
Норберт Винер «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине» А в музыке — Божий перст, в ней взрыв той воли могучей, Что, законам высший закон, мир из хаоса сотворила. Скажите мне, где еще нам даровано из трезвучий Создать не какой-то аккорд, а немеркнущее светило?[105] Роберт Браунинг «Аббат Фоглер»Если то, что я сказал, окажется недостаточно ясным, а я опасаюсь, что так оно и есть, то я верну тебя к месту, с какого начал этот ход мыслей, то есть начал я с рассмотрения, как человека образуют обстоятельства, — но что суть обстоятельства, как не пробные камни его сердца? — но что суть пробные камни, как не искусы его сердца? — но что суть искусы его сердца, как не укрепители или изменители его натуры? — но что есть его измененная натура, как не его душа? — но чем была его душа до того, как она явилась в наш мир и претерпела эти искусы, и изменения, и совершенствования? Разум без Личности — а как созидается эта Личность? Через посредство Сердца? А как Сердцу стать этим Посредником, если не в мире Обстоятельств? И теперь ты, полагаю, вместе с Поэзией и Богословием можешь возблагодарить свои Звезды, что мое перо не столь уж многоречиво…[106]
Джон Китс. Из письма к братуПеред вами наконец раскроются тайны Гробниц Времени, вам предстоит узнать исход величайшей межзвездной войны миров — войны, в которой на карту поставлена судьба человечества…
ЧАСТЬ I
Глава 1
— Папа умер! Да здравствует Папа! — эхом прокатилось по внутреннему двору замка Сан-Дамазо: Папа Юлий Четырнадцатый был найден мертвым в своих покоях. Святой отец умер во сне. За считанные минуты новость распространилась в тесном скоплении разномастных зданий, по-прежнему называвшихся Ватиканским Дворцом, и побежала по Ватикану, как искра в кислородной среде. Слух охватил комплекс ватиканских служб, проскользнул сквозь ворота Святой Анны в Апостольский Дворец, достиг ушей верных в соборе Святого Петра (архиепископ, служивший мессу, оглянулся через плечо на беспрецедентный гул и шушуканье) и выплеснулся на площадь, где толпились тысяч восемьдесят заезжих имперских чиновников и туристов.
Выкатившись из Ватикана через Колокольную арку, весть разогналась до скорости элементарной частицы, достигла скорости света и унеслась с Пасема со скоростью, в тысячи раз превышающей световую. А в самом центре событий, за древними стенами Ватикана, трезвонили фоны и комлоги, передавая весть в громадный, наводящий ужас замок Святого Ангела, в подвалы Инквизиции. Все утро в Ватикане негромко постукивали четки и шелестели сутаны: служители Церкви, шепча молитвы, всматривались в зашифрованные сообщения на комлогах, ожидая распоряжений сверху. Личные коммуникаторы и импланты тысяч имперских чиновников, командования Флота, политиков и служащих Гильдии торговцев буквально раскалились. Через тридцать минут в пресс-службу Ватикана прибыли представители всех информационных служб Пасема. Все ждали. В межзвездном сообществе, где Церкви принадлежит абсолютная власть, новости в эфир поступают только из официальных источников.
Ровно через два часа десять минут Церковь в лице госсекретаря Ватикана кардинала Лурдзамийского официально подтвердила смерть Папы Юлия Четырнадцатого. Слова кардинала были переданы через орбитальные спутники и разнеслись по всему Пасему. Планета с населением в полтора миллиарда душ (все — возрожденные христиане, носящие крестоформы, практически все — и гражданские, и военные — на службе государства Ватикан или в бюрократическом аппарате Священной Империи Пасема) замерла, слушая сообщение с некоторым интересом. Двенадцать звездолетов класса «архангел» стартовали с орбитальных баз. В момент квантового прыжка все люди на борту погибли, но сообщение осталось в памяти бортовых компьютеров и достигло шестидесяти планет и звездных систем, где находились важнейшие епархии. Возвращаясь на Пасем, курьеры-«архангелы» примут на борт некоторых кардиналов — они успеют как раз к началу Конклава. Впрочем, большинство предпочтут остаться в своих епархиях, страшась неизбежной смерти — даже в гарантированной надежде воскресения, — и отправят интерактивную пластину с голограммой, где записано их «eligo»[107] за нового Верховного Понтифика.
Восемьдесят пять имперских кораблей с двигателями Хоукинга — в основном сверхскоростные факельщики — готовились к разгону и выходу в гиперпространство. Для членов экипажа путешествие продлится не больше месяца, в реальном времени пройдут годы. Но еще пятнадцать-двадцать дней они будут ждать в пространстве Пасема, пока не завершатся выборы нового Папы, чтобы затем разнести новости по ста тридцати менее значительным епархиям Священной Империи, где архиепископы служат еще миллиардам верных. А уже с центральных миров известие о смерти, воскресении и переизбрании Папы достигнет самых маленьких систем, самых дальних миров и мириадов колоний Окраины.
И наконец, флотилия из двух с лишним сотен беспилотных курьерских кораблей выведена из ангара на огромной астероидной базе — бортовые компьютеры ждут официального сообщения о воскресении и переизбрании Папы Юлия, чтобы, разогнавшись до субсветовых скоростей, войти в пространство Хоукинга и доставить известия тем кораблям Священной Империи, которые несут службу на самой границе, у Великой Стены, оберегая человечество от нашествия Бродяг.
Папа Юлий умирал уже восемь раз. У понтифика было слабое сердце, и он отказывался от лечения, отвергая и хирургию, и нанопластику, придерживаясь убеждения, что Папа проживет столько, сколько ему отпущено Богом, а после его смерти изберут нового Папу. Тот факт, что один и тот же Верховный Понтифик был переизбран уже восемь раз, ни в чем его не разубедил. И сейчас, пока тело Папы Юлия готовили к отпеванию, кардиналы начали приготовления к выборам.
Сикстинскую капеллу закрыли для туристов и внесли в нее древние высокие деревянные кресла под балдахинами для восьмидесяти трех кардиналов, которые будут присутствовать во плоти. Для тех, кто должен передать свой голос, установили голографические проекторы и подключили интерактивные матрицы. Перед алтарем поставили стол для декана кардинальской коллегии и двух кардиналов — его помощников. На стол положили карточки, суровую нить, иголки, ящик, серебряное блюдо, льняные одежды и прочие необходимые для выборов предметы и накрыли все белым льняным полотном. Двери капеллы закрыли, заперли и тщательно опечатали. Снаружи поставили швейцарских гвардейцев в полной боевой броне с энергетическими ружьями на изготовку. Такой же пост разместили у входа в часовню воскрешения.
Согласно древнему протоколу, выборы должны состояться не ранее чем через пятнадцать и не позднее чем через двадцать дней. Итак, все было готово.
Некоторые толстяки несут свое бремя как наказание, зримый образ собственной слабости и лени. Другие царственно принимают его как видимый знак возрастающего могущества. Симон Августино кардинал Лурдзамийский принадлежал к последней категории. Он выглядел на хорошие шестьдесят стандартных лет — и сохранял свою внешность уже более двух столетий активной жизни и успешных воскрешений. Лысоватый, круглолицый, с тихим приятным голосом, кардинал Лурдзамийский считался в Ватикане олицетворением здоровья и бодрости. В самых узких кругах церковной иерархии полагали, что кардинал Лурдзамийский — тогда еще молодой, незаметный ватиканский чиновник — под руководством измученного болью отца Ленара Хойта, гиперионского паломника, раскрыл тайну, превратившую крестоформ в орудие воскрешения. И его — как и вновь скончавшегося Папу — связывали с возрождением Церкви, стоявшей тогда на грани исчезновения.
Была в этой легенде доля истины или нет, но в тот день — в первый день после девятой смерти Папы (и за пять дней до воскресения Его Святейшества) — кардинал Лурдзамийский чувствовал себя превосходно. Госсекретарь Ватикана, глава комиссии, осуществлявшей контроль за двенадцатью Священными конгрегациями, и кардинал-префект самой устрашающей и самой таинственной из них — Священной конгрегации вселенской инквизиции, кардинал Лурдзамийский был самым могущественным человеком в курии. И в данный момент, пока тело Его Святейшества Папы Юлия Четырнадцатого лежало в соборе Святого Петра, кардинал Лурдзамийский, бесспорно, был самым могущественным человеком в Священной Империи.
Факт, не ускользнувший в то утро от внимания кардинала.
— Они уже здесь, Лукас? — пророкотал он, обращаясь к человеку, который уже более двух стандартных столетий был его помощником и доверенным лицом.
Высокий, степенный, величественный кардинал Лурдзамийский словно не желал стариться. Тощий, костлявый, суетливый монсеньор Лукас Одди выглядел стариком. Заместитель госсекретаря Ватикана и секретарь секретного отдела, Одди больше был известен как Заместитель. Прозвище «Секрет» также вполне подходило высокому угловатому бенедиктинцу: за двадцать два десятилетия его безупречной службы никто — даже сам кардинал Лурдзамийский — так и не узнал, о чем думает и что чувствует этот человек. Отец Лукас Одди столь долго был верной правой рукой кардинала Лурдзамийского, что Симон Августино давно уже воспринимал его не иначе как бессловесного проводника своей воли.
— Их только что проводили в приемную, — ответил монсеньор Одди.
Кардинал Лурдзамийский кивнул. Более тысячи лет назад — задолго до Хиджры, когда человечество покинуло умирающую Землю и устремилось к звездам, — в Ватикане сложился обычай проводить важные встречи не в личных кабинетах, а в официальных приемных. Внутренняя приемная госсекретаря Ватикана кардинала Лурдзамийского была маленькая, пять квадратных метров, и не отличалась излишней роскошью. Круглый мраморный стол стоял посреди комнаты, сквозь единственное окно виднелась изумительная расписанная фресками крытая галерея; на стенах висели две работы кисти Каро-тана, гения тридцатого столетия, — одна изображала борение Христа в Гефсиманском саду, на другой Папа Юлий (точнее, отец Ленар Хойт) принимал первый крестоформ из рук грозного, похожего на гермафродита архангела, а сатана (в обличье Шрайка) бессильно взирал на происходящее.
Четыре человека, сидевшие в приемной, представляли Исполнительный совет Панкапиталистической лиги независимых католических межзвездных торговых организаций, более известной как Гильдия торговцев. Двое — Хельвиг Эрон и Кеннет Хей-Модино — во всем походили друг на друга: изящные дорогие накидки, строгие модельные стрижки, тонкие биомодулированные черты лица североевропейского типа Старой Земли, у каждого — изысканная красная булавка, знак принадлежности к Суверенному Воинскому Ордену Госпиталя Святого Иоанна в Иерусалиме, на Родосе и Мальте — древнему обществу, более известному как орден мальтийских рыцарей. Третий — мужчина азиатского происхождения — был одет в простое кимоно. Его звали Кендзо Исодзаки, и в тот день он был — после Симона Августино, кардинала Лурдзамийского, — бесспорно, вторым по могуществу человеком в Империи. Четвертая — женщина лет пятидесяти, узколицая брюнетка — Анна Пелли Коньяни; по всеобщему мнению — вероятная преемница Исодзаки и (по слухам) давняя любовница женщины-архиепископа с планеты Возрождение-Вектор.
Когда кардинал Лурдзамийский вошел в приемную, все четверо встали и поклонились. Монсеньор Лукас Одди был единственным наблюдателем, он стоял поодаль от стола, скрестив руки на груди; исполненные муки глаза Каро-тановского Христа в Гефсиманском саду смотрели на собравшихся из-за черного плеча монсеньора.
Эрон и Хей-Модино выступили вперед, чтобы преклонить колени и поцеловать кардинальский перстень. Симон Августино небрежно махнул рукой: соблюдение протокола здесь не обязательно. Торговцы заняли свои места, и кардинал сказал:
— Мы старые друзья. В этой беседе я представляю в период временного отсутствия Его Святейшества Святой Престол. Вы знаете: все и всё, о ком или о чем мы будем говорить сегодня, останется в этих стенах. — Кардинал Лурдзамийский улыбнулся. — А эти стены, друзья мои, самые надежные во всей Священной Империи.
Эрон и Хей-Модино ответили натянутыми улыбками. Исодзаки хранил вежливо-благожелательное выражение лица. Анна Пелли Коньяни нахмурилась:
— Ваше преосвященство, могу ли я говорить свободно?
Кардинал выставил перед собой пухлую ладонь. Он никогда не доверял людям, которые просят разрешения говорить свободно, равно как и тем, кто клянется говорить искренне или любит употреблять выражение «честно говоря».
— Разумеется, друг мой. Очень жаль, что в силу сложившихся обстоятельств у нас сегодня так мало времени…
Анна Пелли Коньяни кивнула. Она поняла приказ быть краткой.
— Ваше преосвященство, мы просили об этой встрече потому, что можем говорить с вами не только как верные члены Панкапиталистической лиги Его Святейшества, но и как друзья Святого Престола и ваши друзья.
Кардинал Лурдзамийский вежливо кивнул. Его тонкие губы сложились между складками жира в едва заметную улыбку.
— Разумеется.
Хельвиг Эрон откашлялся:
— Ваше преосвященство, Гильдия торговцев имеет вполне понятный интерес в предстоящих выборах нового Папы…
Кардинал молча ждал продолжения.
— Наша цель сегодня, — продолжил Хей-Модино, — заверить ваше преосвященство — и как госсекретаря Ватикана, и как потенциального кандидата на избрание — в том, что Лига будет и впредь с величайшей преданностью проводить политику Ватикана.
Кардинал Лурдзамийский едва заметно кивнул. Он все понял. Шпионская сеть Исодзаки пронюхала о возможном заговоре ватиканской иерархии. Каким-то образом они подслушали самый тихий шепот в самых непроницаемых для шепота комнатах; что-то типа: «Пора заменить Папу Юлия новым понтификом». И Исодзаки узнал, что этим новым понтификом должен стать Симон Августино, кардинал Лурдзамийский.
— В это печальное межвременье, — продолжила Коньяни, — мы сочли своим долгом заверить вас, как в частном порядке, так и от имени нашей организации, что Лига будет и впредь служить интересам Святого Престола и Святой Матери Церкви, как она служит уже более двух стандартных столетий.
Кардинал Лурдзамийский снова кивнул, ожидая продолжения, но никто из представителей Гильдии торговцев не сказал более ни слова. На мгновение кардинал задумался, почему Исодзаки явился лично? «Чтобы самому наблюдать мою реакцию, не полагаясь на отчеты подчиненных, — понял он. — Старик полагается на свое чутье более, чем на кого-либо и что-либо другое. — Симон Августино улыбнулся. — Верная политика». Он выждал с минуту, пока тишина не стала совсем напряженной, и лишь затем заговорил.
— Друзья мои, — пророкотал он, — вы и представить себе не можете, как греет сердце бедного священника в наше скорбное время визит четырех столь знатных и столь высокопоставленных особ.
Исодзаки и Коньяни остались невозмутимы, как инертный газ, но кардинал заметил, что во взглядах двух других мелькнуло плохо скрываемое предвкушение. Если кардинал примет их поддержку, пусть даже неявно, это поставит Гильдию торговцев на один уровень с заговорщиками из Ватикана и de facto сделает их равными новому Папе.
Кардинал склонился над столом. Он мысленно отметил, что Кендзо Исодзаки за все время разговора не моргнул ни разу.
— Друзья мои, — продолжил кардинал, — как добрые возрожденные христиане, — он кивнул в сторону Эрона и Хей-Модино, — как рыцари-госпитальеры, вы, несомненно, знакомы с процедурой избрания нового Папы. Однако позвольте мне освежить вашу память. Кардиналы и их интерактивные копии собираются в Сикстинской капелле. Существует три способа, какими мы можем выбрать Папу: единогласным одобрением, делегированием либо голосованием. При единогласном одобрении все кардиналы, участвующие в выборах, движимые Духом Святым провозглашают имя одного и того же человека как Верховного Понтифика. И каждый выкрикивает eligo — «Я выбираю» — и имя того, кого мы единогласно выбрали. При делегировании мы избираем нескольких — ну, скажем, десять — кардиналов, чтобы они за нас сделали выбор. При голосовании кардиналы голосуют тайно до тех пор, пока чья-либо кандидатура не наберет более двух третей голосов. Потом, когда новый Папа избран, миллиарды зрителей видят sfumata — белый дым, который означает, что у Церкви снова есть Первосвященник.
Четыре представителя Гильдии торговцев хранили молчание. Каждому была досконально известна процедура избрания Папы — и, разумеется, не только древний механизм, но и интриги, давление, подтасовки, запугивание и открытый шантаж — все то, что веками сопровождало выборы. И они начали понимать, почему кардинал Лурдзамийский столь подробно объясняет очевидные вещи.
— На последних девяти выборах, — продолжал кардинал, — Папа был избран единогласно… непосредственным воздействием Духа Святого.
Кардинал Лурдзамийский замолчал на долгое тяжелое мгновение. Монсеньор Лукас Одди стоял неподвижный, как Христос на фреске, и бесстрастный, как Кендзо Исодзаки.
— У меня нет оснований полагать, — сказал наконец кардинал, — что эти выборы пройдут иначе.
Руководители Гильдии торговцев замерли. Наконец Исодзаки слегка наклонил голову. Послание услышано и понято. В стенах Ватикана нет никаких заговорщиков. А если и есть, кардинал Лурдзамийский держит все в своих руках и в поддержке Гильдии торговцев не нуждается. Если ситуация изменилась и время кардинала Лурдзамийского еще не пришло, Папа Юлий вновь станет главой Церкви и Священной Империи Пасема. Исодзаки и его люди ради неисчислимых прибылей и безграничного влияния, ожидавших их в случае выигрыша, пошли на неимоверный риск. Теперь они столкнулись с последствиями. Столетием раньше Папа Юлий за гораздо меньшее прегрешение отлучил предшественника Исодзаки от Церкви с лишением крестоформа и приговорил к изгнанию из общины верных — к которой принадлежит, разумеется, каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок на Пасеме и на большинстве планет Священной Империи, — следовательно, к истинной смерти.
— А сейчас — сожалею, но неотложные дела вынуждают меня покинуть ваше приятное общество, — пророкотал кардинал.
Исодзаки, нарушая все протоколы, вскочил, бросился вперед и, преклонив колени, поцеловал кардинальский перстень.
— Ваше преосвященство, — прошептал старый миллиардер.
На этот раз кардинал Лурдзамийский не встал и не вышел из комнаты до тех пор, пока каждый из четырех самых богатых и самых влиятельных коммерсантов не подошел выразить свое почтение.
На следующий день после смерти Папы Юлия звездолет класса «архангел» совершил прыжок в пространство Рощи Богов. Это был единственный «архангел», не приписанный к курьерской службе, он был меньше других новых кораблей и назывался он «Рафаил».
Через несколько минут после выхода на постоянную орбиту от «архангела» отделился челнок и с визгом вошел в атмосферу. На борту находились двое мужчин и одна женщина. Все трое — как близнецы: стройные, бледные, темноволосые, с короткой стрижкой. У каждого — одинаково холодные глаза и одинаково тонкие губы. На каждом — строгий красно-черный комбинезон. На запястье — комлог. Само их присутствие в челноке было абсурдно — при переходе корабля класса «архангел» через планково пространство все люди на борту гибнут, а воскресение происходит лишь на третий день.
Эти трое не были людьми.
Выпустив крылья, челнок на скорости в три маха вошел в более плотные слои. Сквозь дымку все отчетливее прорисовывалась поверхность планеты тамплиеров, Рощи Богов, — бескрайняя выжженная земля, поля, покрытые слоем пепла, селевые потоки, ледники и редкие зеленые секвойи. Челнок пролетел на субзвуковой скорости над узкой лентой растительности, выжившей в умеренном климате у экватора, и дальше — вдоль реки, к тому, что осталось от Мирового Древа. Исполинский обугленный пень восьмидесяти трех километров в диаметре на километр возвышался над равниной. Челнок обогнул пень и лег на прежний курс — вдоль реки на запад, продолжая снижаться. Он приземлился на плато, там, где река входит в узкое ущелье.
Двое мужчин и женщина сошли по трапу и оглядели местность. На Роще Богов было утро, река бурлила на перекатах, ниже по течению в густых зарослях щебетали птицы. Пахло хвоей, мокрой землей, золой и чем-то еще — чужим и непонятным. Уже более двух с половиной столетий прошло с тех пор, как этот мир испепелили с орбиты. Громадные корабли-деревья тамплиеров, не успевшие выйти в открытый космос, сгорели в пламени пожара, который бушевал на Роще Богов без малого век, и лишь ядерная зима смогла загасить его.
— Осторожно! — предупредил мужчина, когда все трое спустились к реке. — Она натянула моноволоконную нить.
Женщина кивнула и вытащила боевой лазер. Установив максимальную дисперсию пучка, она веером развернула луч над поверхностью воды. Невидимые волокна засверкали, словно покрытая утренней росой паутинка, нити тянулись через реку, опутывали валуны, выныривали из белой пены порогов.
Женщина выключила лазер.
— Там нам работать не придется.
Пройдя низиной вдоль берега, они вскарабкались по крутому скалистому склону. Гранит оплавился еще при орбитальной бомбардировке, но на одном уступе виднелись более свежие следы разрушений. У самой вершины, метрах в десяти от кромки воды, в камне был выжжен кратер — идеальная чаша метров пяти в диаметре и с полметра в глубину. На юго-восточном склоне, там, где застыл, сбегая к реке, поток лавы, образовались черные каменные ступени. Поверхность кратера — темная и гладкая — блестела, как полированный оникс в гранитной оправе.
Мужчина поднялся по ступеням, распластался на гладком камне и ухом приник к скале. Мгновение — и он вскочил, дав знак своим спутникам.
— Отойди! — Женщина прикоснулась к комлогу.
Они успели отступить ровно на пять шагов, когда небо прорезало огненное копье энергетического пучка. Птицы, истерически вереща, устремились под защиту деревьев. Воздух мгновенно насытился электричеством и сделался обжигающе горячим. Прокатилась мощная ударная волна. Пламя охватило кроны в радиусе пятидесяти метров.
Ослепительно сияющий конус с поразительной точностью вошел в кратер, и гладкий камень превратился в озеро жидкого огня.
Двое мужчин и женщина не вздрогнули, не шелохнулись. Их комбинезоны раскалились добела, но спецматериал не загорелся. Не загорелась и плоть.
— Пора! — прокричала женщина сквозь рев пламени, и золотой луч погас. Поток горячего воздуха с воем устремился в образовавшийся вакуум. От перепада давления в кратере взбурлило озеро лавы.
Мужчина опустился на колено, словно к чему-то прислушиваясь. Затем встал, кивнул остальным и совершил фазовый переход. Существо из плоти и крови в одно мгновение превратилось в сверкающую хромированную статую. Серебряная кожа идеально отражала голубизну неба, горящий лес и озеро жидкого пламени. Он погрузил руку в кипящую лаву, нагнулся, пошарил — и встал. Казалось, рука, расплавившись, растекается по поверхности еще одной серебряной фигуры — женской. Хромированная статуя мужчины вытащила из бурлящего котла лавы хромированную статую женщины и отнесла ее туда, где не плавился камень и не горела трава. Остальные проследовали за ними.
Мужчина переключился в стандартный режим. Еще мгновение — и из жидкого серебра возникла женщина — двойник той, коротко стриженной, что прилетела на челноке.
— Где эта сукина дочь? — спросила та, что когда-то была известна как Радаманта Немез.
— Ушла, — ответил мужчина (то ли брат-близнец, то ли мужской клон Радаманты). — Они открыли последний портал.
Радаманта Немез поморщилась, сгибая и разгибая онемевшие пальцы.
— По крайней мере я убила мерзкого андроида.
— Нет, — покачала головой женщина, неотличимая от Немез. (Имени у нее не было.) — Они улетели на катере «Рафаила». Андроид потерял руку, но автохирург спас ему жизнь.
Немез кивнула и оглянулась на скалистый утес — с него все еще стекала лава. Над рекой в отблесках пламени сверкала мономолекулярная нить. Позади горел лес.
— Там было… не слишком приятно. Когда с корабля ударил луч, я не могла пошевелиться. И потом не смогла совершить фазовый переход — вокруг был камень. Требовалась огромная концентрация энергии. Долго я там была?
— Четыре земных года, — ответил второй мужчина, до сих пор хранивший молчание.
Радаманта Немез подняла тонкую бровь — вопросительно, не удивленно.
— Центр знал, где я…
— Центр знал, где ты, — подтвердила женщина. Ее голос был точно такой же, как у Немез. И выражение лица точно такое же. — И Центр знал, что ты провалила задание.
Немез едва заметно усмехнулась:
— Значит, эти четыре года — наказание?
— Напоминание, — уточнил мужчина, вытащивший ее из камня.
Радаманта Немез переступила с ноги на ногу, словно проверяя вестибулярный аппарат. Ее голос звучал ровно.
— Итак, почему вы пришли за мной сейчас?
— Девчонка, — коротко ответила другая. — Она вернулась. Операция продолжается.
Немез кивнула.
Мужчина — тот, что спас Немез, — положил руку на ее костлявое плечо.
— И учти: четыре года в камне — ничто по сравнению с тем, что тебя ждет в случае повторного провала.
Мгновение Немез молча смотрела на него. Потом, синхронно — как в балете — повернувшись спиной к шипящей лаве и ревущему пламени, все четверо, шагая в ногу, двинулись к челноку.
На пустынной планете Мадре-де-Диос, на высокогорном плато Льяно-Эстакадо,[108] названном так из-за колонн атмосферных генераторов, понатыканных через каждые десять километров, отец Федерико де Сойя готовился к ранней мессе.
Нуэво-Атлан — небольшой городок (сотни две шахтеров работают по контракту, несколько десятков обращенных мариан пасут коргоров на ядовитых свалках), и отец де Сойя точно знал, сколько прихожан будет на утренней мессе: четверо. Старая вдова Санчес, которая, если верить слухам, шестьдесят два года назад во время песчаной бури убила своего мужа; близнецы Перелл — они почему-то ходили именно сюда, в эту старую полуразрушенную церковь, хотя в поселке шахтеров была новая, с кондиционерами; и загадочный старик с безобразными шрамами на лице — он всегда молился на самой дальней скамье и ни разу не подошел к причастию.
Бушевала песчаная буря — здесь всегда бушевала песчаная буря, — и последние тридцать метров от своей глинобитной хижины до ризницы отец де Сойя бежал бегом, накинув на голову прозрачный фибропластовый капюшон. Требник он засунул поглубже в карман, чтобы не засыпало песком. Впрочем, это не помогало. Каждый вечер, когда он снимал сутану и вешал на крючок шапочку, на пол красным водопадом сыпался песок, словно крупинки засохшей крови из разбитых песочных часов. И каждое утро, когда он открывал требник, песок скрипел между страницами и оседал на пальцах.
Священник вбежал в ризницу и задраил за собой герметичную переборку.
— Доброе утро, отец, — поздоровался Пабло.
— Доброе утро, Пабло, мой самый верный министрант.
На самом-то деле, как мысленно поправил себя священник, Пабло — его единственный министрант. Простой мальчуган — «простой» в старинном смысле слова: честный, недалекий, открытый, преданный, дружелюбный. Пабло помогал де Сойе служить мессу: в обычные дни — в шесть тридцать утра и по воскресеньям дважды, хотя в воскресенье на утреннюю мессу приходили все те же четверо, а на вечернюю — полдюжины шахтеров.
Мальчик кивнул и заулыбался — улыбка на мгновение исчезла, пока он просовывал голову в свеженакрахмаленный стихарь, а затем появилась вновь.
Отец де Сойя пригладил свои темные волосы и подошел к высокому шкафу, где хранилось облачение. Песчаная буря пожирала рассветные лучи, и утро было темное, как ночь в горах. В пустой холодной комнате светила только одна тусклая лампа. Де Сойя преклонил колени, помолился — привычно, но горячо, — и начал одеваться.
Двадцать лет отец капитан де Сойя — Федерико де Сойя, командир факельщика «Бальтазар», — носил мундир. Тогда единственными символами его священнического служения были крест и жесткий белый воротничок. Ему доводилось надевать боевую пластокевларовую броню, скафандр, тактический шлем — все, что положено капитану факельщика, но ничто не было ему внутренне ближе, чем это скромное облачение приходского священника. Четыре года назад отца капитана де Сойю разжаловали и списали из Флота. За эти годы он вновь обрел свое истинное призвание.
За его спиной в маленькой комнате суетился Пабло: мальчик снял свои грязные грубые башмаки и переобулся в дешевые фибропластовые туфли — мать велела ему надевать их только на мессу.
Отец де Сойя поправил облачение. Сегодня, вознося молитву над дарами, он принесет бескровную жертву во искупление грехов вдовы… или убийцы… и старика со шрамами на последней скамье.
Пабло, улыбаясь, подскочил к священнику. Де Сойя положил руку ему на голову, пытаясь пригладить волосы и заодно передать мальчику свое спокойствие. Затем обеими руками взял чашу и тихо сказал: «Пора». Пабло, чувствуя торжественность момента, перестал улыбаться и первым шагнул к двери в алтарную часть.
Де Сойя сразу заметил, что сегодня в часовне пять человек. Не четыре. Прихожане стояли, преклонив колени, на своих привычных местах, но был и еще кто-то, пятый, — его высокая фигура едва виднелась в глубине маленького нефа сбоку от двери.
Присутствие незнакомца беспокоило отца де Сойю, мешало сосредоточиться полностью на таинстве, частью которого был он сам.
— Dominus vobiscum,[109] — произнес отец де Сойя.
Вот уже более трех тысяч лет — он верил — Господь действительно был с ними… с ними со всеми.
— Et cum spiritu tuo…[110]
Пабло эхом повторил его слова, а священник слегка повернул голову: вдруг пламя свечей выхватит высокую, худощавую фигуру из мрака нефа? Нет. Безнадежно.
Во время евхаристической молитвы отец де Сойя забыл о таинственном незнакомце, сейчас он видел только гостию, которую, держа в негнущихся пальцах, возносил над алтарем.
— Hoc est enim corpus meum,[111] — отчетливо произнес иезуит, ощущая всю силу этих слов и моля — в десятитысячный раз, — чтобы его Господь и Спаситель в милосердии Своем омыл его от тех беззаконий, что совершил он, капитан Флота.[112]
К причастию пошли только близнецы Переллы. Как всегда.
— Corpus Christi,[113] — произнес де Сойя, протягивая им гостию. Он боролся с желанием бросить взгляд на таинственную фигуру в тени.
Месса закончилась почти в полной темноте. Вой ветра заглушил завершающую молитву и ответное «аминь». Электричества в часовне не было — здесь никогда не было электричества, — и десяток мерцающих свечей не мог разогнать мрак. Отец де Сойя благословил паству, отнес чашу в темную ризницу и поставил ее на малый алтарь. Пабло вбежал следом, скинул стихарь и натянул анорак.
— До завтра, отец.
— Да, спасибо, Пабло. Не забудь…
Поздно. Мальчишка уже выскочил из церкви и помчался к мельнице — он работал там вместе с отцом и дядьями. В неплотно прикрытую дверь мгновенно просочился красный песок.
Будь все, как обычно, отец де Сойя должен был сейчас снять облачение и убрать его в шкаф. Позже, днем, он отнес бы одежду домой и привел в порядок. Но сейчас он медлил. Почему-то ему казалось, что облачение еще пригодится, будто это — пластокевларовая боевая броня и он сейчас не на Мадре-де-Диос, а на борту факельщика, в битве в Угольном Мешке.
Высокая фигура остановилась у входа в ризницу. Отец де Сойя молча ждал, борясь с желанием осенить себя крестным знамением, схватить святые дары и выставить их перед собой как щит — от вампира или от дьявола. Ветер за стенами церкви застонал, как баньши.
Незнакомец шагнул вперед, и свет лампы упал на его лицо. И де Сойя узнал капитана Марджет Ву, адъютанта адмирала Марусина, командующего Имперским Флотом. И второй раз за это утро де Сойя мысленно поправил себя — не капитана, теперь уже адмирала Марджет Ву: на ее воротнике поблескивали адмиральские шевроны.
— Отец капитан де Сойя? — спросила Марджет Ву.
Иезуит медленно покачал головой. На этой планете, где в сутках всего двадцать три часа, было только семь тридцать утра, но он уже чувствовал себя безмерно усталым.
— Просто отец де Сойя, — ответил он.
— Отец капитан де Сойя, — повторила адмирал Ву, и на этот раз в ее голосе не было вопроса. — Вы вновь призваны на действительную военную службу. У вас десять минут на сборы.
Федерико де Сойя вздохнул и закрыл глаза. Он чуть не плакал. «Прошу тебя, Господи, Отче, да минует меня чаша сия». Когда он открыл глаза, чаша по-прежнему стояла на алтаре, а адмирал Ву по-прежнему выжидающе смотрела на него.
— Есть, — тихо ответил он и медленно, бережно начал снимать с себя облачение.
На третий день после смерти и погребения Папы Юлия Четырнадцатого в саркофаге началось движение. Тончайшие пуповины и чуткие зонды скользнули в сторону и исчезли. Сначала человек, лежавший на каменной плите, казался безжизненным, только поднималась и опадала грудная клетка, затем он вздрогнул, застонал и — долгие, томительные минуты спустя — приподнялся на локте и осторожно сел. Богато расшитый льняной покров соскользнул с него, обнажив до пояса.
Несколько минут человек сидел на краю мраморной плиты, обхватив голову дрожащими руками. Потом поднял взгляд и посмотрел на панель, скрывавшую потайной ход в стене часовни. Панель с еле слышным шипением сдвинулась с места. Кардинал в пурпурном облачении шагнул в сумрак зала. Тихо шелестел шелк. Постукивали четки. Следом за кардиналом вошел высокий стройный мужчина с пепельными волосами и серыми глазами. На нем был простой элегантный костюм из серой — под цвет волос и глаз — фланели. В трех шагах позади кардинала и мужчины в сером вышагивали два швейцарских гвардейца в оранжево-черных мундирах эпохи Возрождения. Оружия при них не было.
Обнаженный человек на мраморной плите моргнул, словно его глазам был невыносим даже приглушенный свет, проникавший в сумрак часовни. Наконец взгляд его сфокусировался.
— Кардинал Лурдзамийский, — прошептал воскресший.
— Да, отец Дюре, — сказал кардинал. Он бережно держал в руках огромную серебряную чашу.
Обнаженный человек поморщился и облизнул губы, словно проснулся с ощущением неприятного вкуса во рту. Он был стар — худое, изможденное лицо, печальные глаза, испещренное шрамами тело. На груди, как две опухоли, мерцали лилово-красным два крестоформа.
— Какой нынче год? — спросил он после долгого молчания.
— 3131 от Рождества Христова, — ответил кардинал.
Отец Поль Дюре закрыл глаза.
— Пятьдесят семь лет с моего последнего воскрешения. Двести семьдесят девять лет с Падения порталов… — Он открыл глаза и посмотрел на кардинала. — Двести семьдесят лет с тех пор, как вы отравили меня, убив Папу Тейяра Первого.
Кардинал Лурдзамийский издал смешок.
— Хорошо считаете. Быстро вы восстановились после воскрешения.
Поль Дюре перевел взгляд на человека в сером.
— Альбедо. Посмотреть пришли? Или ручных иуд приходится подбадривать?
Высокий человек ничего не ответил. Кардинал Лурдзамийский побагровел, поджал свои и без того тонкие губы — теперь их уже невозможно стало различить в багровых складках щек.
— Может, хочешь еще что-нибудь сказать напоследок, антипапа проклятый?
— Не тебе, — прошептал Поль Дюре и закрыл глаза в молитве.
Два швейцарских гвардейца схватили отца Дюре за руки. Иезуит не сопротивлялся. Гвардеец резко запрокинул ему голову, и на тощей старческой шее выступил кадык.
Кардинал Лурдзамийский осторожно подошел поближе. Из складок алого шелкового рукава выскользнул острый кинжал с роговой рукоятью. Кардинал взмахнул рукой — легко и небрежно. Из перерезанной артерии Поля Дюре хлынула кровь.
Отступив, чтобы не запачкать одежды, Симон Августино спрятал нож в складки рукава, поднял огромную чашу и подставил ее под пульсирующую струю. Когда чаша наполнилась почти до краев, а струя иссякла, он кивнул швейцарским гвардейцам, и те тут же отпустили голову отца Дюре.
Воскресший снова был мертв. Голова его запрокинулась, глаза были закрыты, рот разинут в немом крике, края раны разошлись, словно губы в зловещей ухмылке. Швейцарские гвардейцы уложили тело на плиту и сдернули с него покров. Обнаженный мертвец был жалок — перерезанное горло, испещренная шрамами грудь, длинные белые пальцы, впалый живот, дряблые гениталии, костлявые ноги… Смерть и в эпоху воскрешения лишает достоинства всех, даже тех, кто всю жизнь прожил в суровой аскезе.
Гвардейцы держали роскошный покров на безопасном расстоянии. Кардинал Лурдзамийский плеснул кровью из чаши в мертвые глаза, в открытый рот, в ровную ножевую рану на горле, на грудь, на живот, в пах — и все покрылось алыми, в тон кардинальской мантии, брызгами.
— Sie aber seid nicht Fleischlich, sondern Geistlich, — произнес кардинал. — Не плотью, но духом ты сотворен.
Высокий человек в сером поднял бровь:
— Бах?
— Разумеется. — Кардинал поставил опустевшую чашу на мраморную плиту, кивнул швейцарским гвардейцам, и те накрыли тело сложенным вдвое покровом. Роскошная ткань мгновенно пропиталась кровью. — Jesu meine Freunde,[114] — добавил кардинал.
— Именно. — Человек в сером вопросительно поглядел на Симона Августино.
— Да, — кивнул кардинал Лурдзамийский. — Пора.
Человек в сером обошел саркофаг и встал позади гвардейцев, всецело поглощенных своей работой. Когда, тщательно расправив покров, они выпрямились и отошли от саркофага, человек в сером поднял руки и приложил ладони к их шеям. Гвардейцы широко распахнули глаза, открыли рты — но не успели даже закричать: глаза их вспыхнули, кожа сделалась прозрачной, и сквозь нее проступило оранжевое пламя. Еще мгновение — и они исчезли, испарились, разлетелись на мельчайшие частицы.
Человек в сером вытер ладони, стряхивая тончайший слой пепла.
— Какая жалость, советник Альбедо, — густым басом пророкотал кардинал.
Человек в сером посмотрел, как оседает в воздухе пыль, перевел взгляд на кардинала и вновь вопросительно поднял бровь.
— Нет-нет-нет, — пробасил кардинал. — Я о покрове. Эти пятна не выведешь ничем. После воскрешения придется ткать новый. — Он повернулся и, шелестя одеждами, направился к потайной двери. — Пойдемте, Альбедо. Нам нужно поговорить, а мне еще мессу служить.
Дверь скользнула на место, и в полумраке часовни осталось лишь накрытое дорогим покровом тело. Легкий серый дымок таял, поднимаясь к куполу, словно отходили души тех, кто был убит здесь несколько минут назад.
Глава 2
В ту неделю, когда Папа Юлий умер в девятый раз и в пятый раз был убит отец Поль Дюре, мы с Энеей находились в 160 000 световых лет от Пасема, на похищенной планете Земля — на Старой Земле, настоящей Земле, — вращавшейся вокруг чужой звезды класса G в чужой галактике — Малом Магеллановом Облаке.
Для нас это была необычная неделя. Мы, конечно, не знали, что Папа умер, — между похищенной Землей и планетами Империи не существовало никакой связи, кроме разве что бездействующих порталов. На самом-то деле — теперь я это знаю — до Энеи известие о кончине Папы дошло, и дошло таким способом, о котором мы тогда даже не подозревали, но она никогда не говорила о том, что происходит в Священной Империи (чаще мы называли ее между собой Орденом), а нам и в голову не приходило об этом расспрашивать. Все годы изгнания на Земле наша жизнь была настолько простой, спокойной и полноценной, что сейчас это даже трудно понять, а вспоминать — почти что больно. Ту неделю мы прожили весьма полноценно, хоть и не сказать, чтобы спокойно: в понедельник умер Старый Архитектор (Энея училась у него последние четыре года). Во вторник, холодным зимним вечером, его похоронили в пустыне — похоронили печально и поспешно. В среду Энее исполнилось шестнадцать. На Талиесин опустился покров беды и смятения, и только А.Беттик и я постарались отпраздновать с ней день рождения.
Андроид испек шоколадный торт — любимое лакомство Энеи, а я подарил ей для прогулок изящную резную трость. Я сам вырезал ее из необычайно твердой ветки, которую мы нашли во время очередной вылазки в горы, устроенной Старым Архитектором. В тот вечер в уютной маленькой хижине Энеи мы ели торт и пили шампанское. Энея казалась подавленной — смерть старика и всеобщее смятение выбили ее из колеи. Сейчас мне понятна истинная причина: Энея уже знала о смерти Папы, знала о тех бурных событиях, что ждут нас, и о том, что четыре самых безмятежных года нашей жизни подошли к концу.
Помню наш разговор в тот вечер, в день ее шестнадцатилетия. Стемнело рано и тут же похолодало. За стенами уютной хижины бушевала песчаная буря, кусты полыни и юкки скрипели и гнулись к земле. Мы уже выпили шампанское и теперь сидели у чадящей лампы, держа в руках кружки с горячим чаем, и тихонько беседовали под завывания ветра.
— Странно, — сказал я. — Мы знали, что он старый и больной, но никто, похоже, не верил, что он умрет. — Я, конечно, говорил о Старом Архитекторе, а не о каком-то абстрактном Папе. И — как и все мы, изгнанники на Земле, — наставник Энеи не принял крестоформ. Он в отличие от Папы умер раз и навсегда.
— Похоже, он знал, — тихо проговорила Энея. — За последний месяц он побеседовал с каждым из своих учеников. Своего рода передача последней крупицы мудрости.
— И какой же последней крупицей мудрости он поделился с тобой? — спросил я. — Ну, то есть если это не секрет… или не что-то такое, слишком личное.
Энея улыбнулась:
— Напомнил, что заказчик непременно заплатит вдвое больше, если сообщать о дополнительных расходах постепенно и только после того, как будет заложен фундамент и конструкция начнет обретать форму. Он сказал, что тогда отступать уже некуда, и клиент не сорвется с крючка.
Мы с А.Беттиком рассмеялись. В нашем смехе не было ничего оскорбительного — Старый Архитектор принадлежал к числу тех редких созданий, в которых истинный гений сочетается с очень сильной личностью, — но, даже вспоминая его с грустью и любовью, мы вынуждены были признать: хитрость и эгоизм тоже были частью его натуры. Старый Архитектор был кибридом Фрэнка Ллойда Райта — человека, жившего еще до Хиджры, в двадцатом веке от Рождества Христова. И хотя в Талиесинском братстве все — даже самые старшие ученики, его ровесники, — уважительно называли его «мистер Райт», я всегда думал о нем только как о Старом Архитекторе: ведь именно так назвала своего будущего наставника Энея, когда еще только собиралась отправиться к нему на Старую Землю. А.Беттик, видимо, думал о том же, что и я.
— Забавно, — проговорил он.
— Ты о чем? — спросила Энея.
Андроид улыбнулся и потер культю. Эта привычка появилась у него в последние несколько лет. Автохирург катера, на котором мы улетели сквозь портал с Рощи Богов, спас А.Беттику жизнь, но руку вырастить не сумел — метаболизм андроида слишком отличен от человеческого.
— Да вот… Церковь обладает огромной властью во всех делах человечества, но на вопрос, есть ли у человека душа, которая покидает тело после смерти, до сих пор нет однозначного ответа. Однако в случае мистера Райта мы знаем, что его личность кибрида все еще существует отдельно от его тела — или по крайней мере существовала какое-то время после его смерти.
— Можем ли мы утверждать это с полной уверенностью? — усомнился я.
Чай был горячий и вкусный. Мы с Энеей купили его — точнее, выменяли — на индейском рынке, в пустыне, там, где когда-то стоял город Скоттсдейл.
На мой вопрос ответила Энея:
— Да. Личность моего отца пережила смерть тела и хранилась в петле Шрюна, вживленной в голову матери. Более того, нам известно, что затем она самостоятельно существовала в мегасфере, после чего на время перешла в бортовой компьютер корабля Консула. Личность кибрида продолжает свое существование в виде волнового пакета, который распространяется вдоль матриц данных инфосферы — или в мегасфере, — пока не достигнет ИскИна-источника в Техно-Центре.
Я знал это, но никогда не понимал.
— Хорошо, — сказал я, — но к какому ИскИну отправился волновой пакет мистера Райта? Магелланово Облако никак не связано с Техно-Центром. И инфосферы тут тоже нет.
Энея отставила пустую чашку.
— Связь должна быть, иначе ни мистер Райт, ни другие кибриды, которые бывали на Земле, не смогли бы здесь существовать. Вспомни, пока умирающая Гегемония не уничтожила нуль-порталы, Техно-Центр втайне использовал планково пространство как среду-носитель.
— Связующая Бездна, — повторил я слова из «Песней» старого поэта.
— Именно, — кивнула Энея. — Мне всегда казалось, что это название ни о чем не говорит.
— Как бы она там ни называлась, я все равно не понимаю, как это ей удалось добраться сюда… в другую галактику.
— Среда-носитель Техно-Центра распространяется повсюду, она проходит сквозь время и пространство. — Энея нахмурилась. — Нет, не так… Пространство и время вплетены в нее… Связующая Бездна — выше пространства и времени.
Я огляделся. Лампа освещала маленькую комнату, но за ее стенами царил непроглядный мрак и завывал ветер.
— Значит, Центр может и до нас добраться?
Энея покачала головой. Мы это уже обсуждали. Тогда я не понял, в чем дело. Не понимал я этого и сейчас.
— Эти кибриды связаны с ИскИнами, которые на самом деле не являются частью Техно-Центра. Мистер Райт… Мой отец… второй кибрид Китса… они с Техно-Центром не связаны.
Я окончательно перестал что-либо понимать.
— В «Песнях» сказано, что кибриды Китса — и твой отец в том числе — созданы Уммоном, ИскИном Техно-Центра. Уммон рассказал твоему отцу, что кибриды — результат их экспериментов.
Энея встала и подошла к выходу. Брезент трепетал под напором ветра, но держался, не пропуская песок. Да, она выстроила надежный дом.
— «Песни» написал дядя Мартин. Он хотел честно изложить истину и сделал все, что мог. Но были там моменты, которых он не понимал.
— Я тоже. — Я подошел к Энее, обнял ее за плечи и почувствовал, насколько она повзрослела за эти четыре года. — С днем рождения, детка!
Она оглянулась и положила голову мне на грудь.
— Спасибо, Рауль.
Да, сильно она изменилась с тех пор, как мы увиделись впервые — ей тогда только-только исполнилось двенадцать. Я мог бы сказать, что за эти годы она выросла и обрела женское естество, но, хоть бедра ее и округлились, а грудь отчетливо проступала под старым свитером, я по-прежнему не воспринимал ее как женщину. Да, она уже не ребенок, но еще не женщина. Она… Энея. Блестящие темные глаза были все те же — умные, вопросительные, немного печальные от некоего тайного знания, — и ощущение физического прикосновения, возникающее, когда она обращала на вас свой пристальный, понимающий взгляд, было таким же сильным, как и всегда. Русые волосы за эти годы чуть потемнели, она их остригла прошлой весной, теперь они были короче, чем у меня десять лет назад, когда я служил в гиперионских силах самообороны. Я положил руку ей на голову, взлохматил короткие-короткие волосы и отыскал взглядом такие знакомые светлые пряди, выгоревшие под безжалостным солнцем Аризоны.
Пока мы стояли и слушали, как бьется о брезент песок, а А.Беттик молчаливой тенью сидел позади нас, Энея взяла мою руку в свои. Сегодня ей исполнилось шестнадцать, и она уже не девочка, скорее молодая женщина, но ее руки все равно казались крошечными в моей огромной ладони.
— Рауль?..
Я молча смотрел на нее и ждал.
— Сделаешь для меня кое-что? — Она сказала это нежно, очень нежно.
— Да. — Я не колебался ни секунды.
Она сжала мою руку и посмотрела мне в глаза. Нет, точнее, заглянула мне в душу.
— Сделаешь для меня кое-что завтра?
— Да.
Она все так же пристально смотрела на меня и все так же сжимала мою руку.
— Ты сделаешь для меня что угодно?
На этот раз я ответил не сразу. Я знал, что влекут за собой такие клятвы, пусть даже это странное, удивительное дитя ни разу еще не просило меня что-нибудь для нее сделать — не просила, чтобы я отправился с ней в эту безумную одиссею. Я обещал это старому поэту, Мартину Силену, еще до того, как познакомился с Энеей. Я знал, что есть вещи, которые я не смог бы — ни в здравом уме, ни в помутнении рассудка — заставить себя сделать. Но чего я не мог бы сделать никогда — это хоть в чем-то отказать Энее.
— Да, — сказал я. — Я сделаю все, о чем ты попросишь.
В это мгновение я понял, что умер, — и воскрес.
Энея больше ничего не сказала, только кивнула, сжала в последний раз мою ладонь и вернулась к свету, к торту, к ожидавшему нас другу-андроиду. Прошло несколько дней — и я узнал, о чем она просила и как трудно остаться верным клятве.
Я прервусь ненадолго. Я понимаю, что вы ничего обо мне не знаете, если вы не читали первую часть моего повествования, а первая часть моего повествования существует только в памяти скрайбера, ведь я пишу на микровеленовых страницах, которые каждый день очищаю заново. На этих уничтоженных страницах я рассказал всю правду. Или по крайней мере ту правду, которую я знаю. Или по крайней мере старался говорить правду. Большей частью.
Итак, микровеленовые страницы очищены, скрайбер — здесь, рядом со мной, и значит, первую часть не читал никто. Тот факт, что она была написана в «кошачьем ящике» Шредингера на орбите Армагаста («кошачий ящик» — маленькая сверхнепроницаемая энергетическая оболочка, эллипсоид, удерживающий атмосферу, в нем есть система рециркуляции воздуха и воды, синтезатор пищи, койка, стол, скрайбер и капсула с цианидом, которая разобьется, когда будет зарегистрирован определенный случайный изотоп), практически гарантирует, что вы не читали первых страниц.
Но я не уверен.
Странные вещи происходили тогда. Странные вещи происходят с тех пор. Я не берусь судить о том, читал ли кто-нибудь (и прочтет ли кто-нибудь) те — или эти — страницы.
Так или иначе, но лучше я еще раз представлюсь. Я — Рауль Эндимион. Моя фамилия происходит от «покинутого» университетского города на забытой Богом планете Гиперион. Я специально взял в кавычки слово «покинутый», потому что именно в этом всеми забытом городе я познакомился со старым поэтом — Мартином Силеном, древним автором запрещенной эпической поэмы, «Песней», — и там-то начались мои приключения. Слово «приключения» я употребил с долей иронии и еще в том смысле, что сама наша жизнь — уже приключение. И хотя мое странствие началось как настоящее приключение — с попытки (причем успешной) спасти двенадцатилетнюю Энею от всей мощи Священной Империи и доставить ее живой и невредимой на далекую Старую Землю, — оно растянулось на целую жизнь, и в этой жизни была любовь, была утрата и было чудо.
Как бы то ни было, в то время, о котором я рассказываю, в ту неделю, когда умер Папа, когда умер Старый Архитектор, когда Энея невесело отметила в изгнании свое шестнадцатилетие, мне было тридцать два года, я был все так же высок, все так же крепок, все так же любил охотиться, иногда — подраться и еще — смотреть, как командуют другие; был все так же неопытен, и только балансировал на краю пропасти, но еще не влюбился навеки в девочку, которую оберегал, как младшую сестренку, и которая — как мне показалось в тот вечер — стала уже взрослой женщиной, не сестрой — но другом.
А еще я должен сказать, что все, что я здесь описываю — события в Священной Империи, убийство Поля Дюре, извлечение из камня Радаманты Немез, мысли отца Федерико де Сойи, — не литературная версия, не экстраполяция и не вымысел, нет, это совсем не то, что было в романах древних авторов, современников Мартина Силена. Я это знаю. Знаю, о чем думал отец де Сойя, знаю, как выглядел в тот день советник Альбедо. Знаю не потому, что я всеведущ, но лишь благодаря событиям и откровениям, которые подарили мне доступ к всеведению.
Вы все поймете позже. По крайней мере я надеюсь, что поймете.
Простите мне это очередное неуклюжее выступление. Человек, личность которого была воспроизведена в кибриде, отце Энеи, — поэт Джон Китс — писал в прощальном письме к своим друзьям: «Я всегда откланивался неуклюже». Вот так и я — не важно, прощальный это поклон или приветственный, как сейчас.
Итак, я возвращаюсь к своим воспоминаниям и прошу вас быть снисходительными, если они покажутся несколько сбивчивыми и не совсем понятными.
Три дня и три ночи после шестнадцатого дня рождения Энеи завывал ветер и клубился песок. И все это время девочка отсутствовала. За минувшие четыре года я привык к ее «отлучкам» — так она их называла — и уже не изводил себя так, как в первое ее исчезновение. Но в этот раз я беспокоился сильнее обычного: из-за смерти Старого Архитектора все двадцать семь учеников и шестьдесят с лишним человек обслуги в лагере среди пустыни — Старый Архитектор называл его Талиесин-Уэст — пребывали в тревоге и в смятении. К тому же всех нервировала песчаная буря — она всегда всех нервирует. Люди семейные и обслуга жили неподалеку, в одном из тех каменных строений, которые мистер Райт велел своим ученикам возвести к югу от главного здания. Лагерь очень напоминал форт — наружные стены, внутренние дворы и крытые переходы (во время песчаной бури по ним очень здорово было перебегать из дома в дом), — но каждый, пусть даже самый удачный день, прожитый без солнца или без Энеи, приносил мне все больше тревоги и беспокойства.
И каждый день по нескольку раз я приходил к ее хижине: она отстояла дальше всех от основного комплекса, почти в четверти мили к северу, если идти в сторону гор. И каждый раз, приходя, я не заставал ее. Дверной полог не был привязан, а на столе лежала записка, в которой она просила меня не беспокоиться, сообщала, что это — просто очередная ее экспедиция и что воды она взяла достаточно. Я все равно беспокоился, но с каждым посещением все больше и больше восхищался ее домом.
Четыре года назад, когда мы с ней прибыли сюда на катере, украденном с боевого корабля Ордена, оба разбитые, обессиленные, обожженные (я уже не говорю об искалеченном андроиде в автохирурге), Старый Архитектор и его ученики приняли нас очень тепло и сердечно. Мистера Райта даже не удивило (а если и удивило — он сумел это скрыть), что двенадцатилетний ребенок переходил через порталы с планеты на планету ради того, чтобы найти его и попроситься к нему в учение. Помню, как в первый же день Старый Архитектор спросил Энею, что она знает об архитектуре. «Ничего, — тихо ответила она, — кроме того, что вы тот, у кого я должна учиться».
Очевидно, ответ оказался правильным. Мистер Райт рассказал ей, что всем своим ученикам, прибывшим на Землю еще до Энеи — как выяснилось, их было двадцать шесть, — он давал задание спроектировать и построить себе в пустыне жилище. Старый Архитектор предложил ей строительные материалы — брезент, камень, цемент, немного драгоценной древесины, — но что из этого сотворить, Энея должна придумать сама.
Прежде чем Энея взялась за работу (мне-то было легче — я просто разбил палатку рядом с лагерем), мы осмотрели постройки других учеников. Выяснилось, что почти все они спроектированы по типу шатров — довольно прочные, иногда с претензией на стиль, — но вряд ли могут служить защитой от песка, дождя и сильного ветра. Мы не увидели ничего запоминающегося.
Одиннадцать дней трудилась Энея над своим жилищем. Я помогал ей — таскал тяжести, копал ямы (А.Беттик в то время лежал в автохирурге), но проект девочка полностью разработала сама, да и большую часть работы проделала тоже самостоятельно. И в результате получился замечательный дом.
Сначала Энея выкопала глубокую яму — она хотела, чтобы большая часть жилища располагалась ниже уровня земли. Затем из гладких каменных плит выложила пол. Тщательно подогнав камни, чтобы не осталось никаких щелей, она застелила пол яркими ковриками и попонами, которые выменяла на индейском рынке в пятнадцати милях от лагеря. Потом Энея возвела каменные стены — на метр в высоту (изнутри казалось, что они выше). Она использовала ту самую технику грубой «пустынной кладки», в которой мистер Райт сложил стены лагеря. Не знаю, как ей это удалось, ведь тогда она еще не слышала уроков Старого Архитектора.
Сначала Энея собирала камни — она находила их в пустыне, в небольших ручейках и сухих руслах неподалеку от лагеря. Камни были всех размеров и цветов — багровые, черные, ржаво-красные и темно-коричневые, а на некоторых были петроглифы или окаменелости. Закончив собирать камни, Энея соорудила деревянную опалубку и уложила самые большие камни гладкой стороной внутрь. Затем она несколько дней под палящим солнцем выгребала из сухого русла песок, возила в тачке к месту строительства, замешивала цементный раствор и заливала им камни.
У нее получилась грубая кладка, камень в бетоне — «пустынная кладка», как называл это мистер Райт, — но выглядело все непривычно, причудливо — и прекрасно: неровные разноцветные камни проступали из бетона, вся поверхность была покрыта живописными изломами… Стены получились достаточно толстыми, чтобы днем не пропускать жар пустыни, а ночью удерживать драгоценное тепло.
Ее жилище было куда более продуманным, чем казалось с первого взгляда, — прошли месяцы, пока я наконец полностью оценил все архитектурные тонкости. Итак, вы откидываете брезентовый полог и, пригнувшись, входите в прихожую, затем спускаетесь по трем широким ступеням винтовой лестницы и оказываетесь у деревянной арки в каменной стене — это вход в комнату. Так вот, наклонный, петляющий коридор — своего рода воздушный шлюз, заслон от песка и зноя пустыни, а полог на входе — брезентовые полотнища внахлест — усиливает эффект. Комната, которую Энея называла «главной», размером была всего три на пять метров, но казалась гораздо больше. У стены — высокий каменный стол, вокруг стола — встроенные скамьи, у северной стены — самый настоящий очаг, рядом, в нишах, еще скамьи. И настоящий, встроенный в стену дымоход, который нигде не соприкасался ни с деревом, ни с брезентом. Там, где кончалась каменная кладка (примерно на уровне глаз, если сидеть на скамье), во всю длину северной и южной стены Энея сделала защищенные экранами окна, при желании их можно было наглухо задраить изнутри брезентом или прикрыть скользящими деревянными ставнями. Из стекловолоконных реек, найденных в груде лагерного хлама, Энея соорудила каркас для брезентового потолка: правильные арки, резкие пики, своды — как в кафедральном соборе, и таинственные глубокие ниши.
Она устроила себе самую настоящую спальню, куда можно было пройти из гостиной, поднявшись на две ступени и повернув при этом на шестьдесят градусов. Напротив входа, у стены, стоял огромный валун — он был здесь еще до постройки дома. Водопровода не было — мы все пользовались общими душевыми и уборными, но Энея сложила из камня очаровательный маленький бассейн — прямо рядом с кроватью (лист фанеры с матрацем и подушками) — и несколько раз в неделю нагревала воду на общей кухне и таскала ее, ведро за ведром, в свое жилище, чтобы принять ванну.
Свет, проникавший сквозь брезентовые стены и потолок, был тепло-розовым на рассвете, масляно-желтым в полдень и оранжевым вечером. Кроме того, Энея специально расположила дом так, чтобы цереусы, кустарники и кактусы в разное время суток отбрасывали на брезентовые стены разные тени. Да, славное это было жилище. И щемяще пустое, когда моя девочка уходила куда-нибудь.
Я уже говорил, что после смерти Старого Архитектора его ученики и обслуга пребывали в смятении. Возможно, точнее было бы сказать — в растерянности. За трое суток, пока Энея отсутствовала, я вдоволь наслушался причитаний — все-таки девяносто человек, вместе они не сходились, даже за едой: мистер Райт не любил больших скоплений народа. Паника нарастала с каждым днем, и не последнюю роль тут играло отсутствие Энеи. Она была самой младшей ученицей в Талиесине — и вообще самой младшей, — но все уже привыкли спрашивать ее совета и прислушиваться к ее словам. За одну неделю они потеряли своего наставника и своего лидера.
На четвертое утро после ее дня рождения кончилась песчаная буря, и Энея вернулась. Я привычно бегал трусцой, как всегда, сразу после рассвета, и заметил ее издалека: она шла по пустыне со стороны гор — темный силуэт в утренних лучах, тоненькая фигурка с короткими волосами, сияющими, как нимб, — и в эту секунду я вспомнил, как впервые увидел ее на Гиперионе, в долине Гробниц Времени.
Заметив меня, она усмехнулась.
— Эй, буль! — крикнула она. (Старая шутка, которую она еще ребенком вычитала в какой-то книге.)
— Эй, скаут! — прокричал я в ответ на том же шутовском жаргоне.
Мы остановились в пяти шагах друг от друга. Мне безумно хотелось броситься к ней, прижать ее к себе и умолять, чтобы она больше не исчезала. Но я сдержался. Кактусы чолья и кусты полыни отбрасывали длинные тени. Щедрые утренние лучи омывали нашу смуглую кожу оранжевым сиянием.
— Как настроение в отряде? — спросила Энея. Судя по виду, она все три дня голодала. Она всегда была худенькая, но сейчас ребра прямо-таки выпирали под тонкой хлопчатобумажной футболкой. Ее губы пересохли и потрескались. — Они взбудоражены?
— Ходят под себя кирпичами. — Все эти годы я избегал солдафонских шуток в разговоре с ребенком, но ей ведь уже шестнадцать. А кроме того, порой она употребляла такие словечки, которых не знал даже я.
Энея усмехнулась. Солнце позолотило светлые пряди в ее коротких волосах.
— Ну, думаю, для архитекторов это не вредно.
Я потер подбородок. Пора бриться, уже отросла щетина.
— Серьезно, детка. Они более чем взбудоражены.
Энея кивнула:
— Ага. Они не знают, что делать и куда податься. — Она прищурилась и посмотрела на лагерь: беспорядочное нагромождение камней среди кактусов. На невидимых окнах играли блики. — Давай соберем всех в музыкальном павильоне и поговорим. — И, не дожидаясь ответа, Энея быстро зашагала к Талиесину.
Так начался наш последний день на Земле.
…Я слышу свой голос в скрайбере и вспоминаю, что как раз на этой фразе надолго замолчал. Я хотел рассказать тогда все об этих четырех годах изгнания на Старой Земле — о каждом ученике, о каждом в Талиесинском братстве, о Старом Архитекторе, о его причудах и мелочных придирках, о его блестящих идеях и детской восторженности. Я хотел записать все наши разговоры с Энеей за эти сорок восемь местных месяцев (которые — чему я не переставал изумляться — в точности соответствовали стандартным месяцам Гегемонии), хотел рассказать, как постепенно приходило ко мне понимание ее невероятных способностей. Наконец, я хотел рассказать обо всех своих вылазках — о кругосветном путешествии на катере, о долгой, полной приключений поездке на автомобиле по Северной Америке, о том, как мне попадались в пути другие группки людей, объединившиеся вокруг кибридов великих личностей прошлого (чего только стоила одна община кибрида Иисуса из Назарета в Новой Палестине). Но, услышав на скрайбере свое молчание, я вспомнил, почему не стал об этом рассказывать.
Я уже говорил, что пишу эти слова в «кошачьем ящике» Шредингера на орбите Армагаста, в ожидании смерти: как только сработает детектор, в воздух будет запущен цианид. Смерть будет быстрой, почти мгновенной. И я должен успеть рассказать вам нашу — мою и Энеи — историю. Я спешу, поэтому стараюсь говорить лишь о главном, не отвлекаясь на мелочи.
Поэтому скажу только, что эти четыре года на Земле достойны подробного описания. Если коротко, то девяносто человек Талиесинского братства были разными — честными (и не очень) и интересными, как все мыслящие человеческие существа, каждый — со своей историей. Да, они достойны отдельного рассказа. Как и мои путешествия в катере и в фургоне «Вуди» 1948 года, который одолжил мне Старый Архитектор. При желании об этом можно написать настоящую эпическую поэму.
Но я не поэт. Я, как следопыт, возвращаюсь к прошедшим дням, и сейчас моя цель — проследить путь Энеи, проследить, как она выросла и стала мессией, и не идти по другим следам. И так я и сделаю.
Старый Архитектор всегда называл наше поселение «привалом в пустыне». Большинство учеников именовали его Талиесином, что по-валлийски означает «сияющее чело» (мистер Райт был родом из Уэльса). Я долго пытался вспомнить планету под названием Уэльс, пока до меня не дошло, что Старый Архитектор жил и умер задолго до эры космических полетов. Энея чаще всего называла поселок «Талиесин-Уэст», из чего следовало — даже для таких тупых, как я, — что где-то должен быть Талиесин-Ист.
Когда три года назад я спросил ее об этом, Энея объяснила, что настоящий мистер Райт построил свой первый Талиесин в начале тридцатых годов двадцатого века в Спринг-Грин, в штате Висконсин (штат — территориальная единица в бывшем североамериканском государстве, которое называлось Соединенные Штаты Америки). А когда я спросил Энею, походил ли тот Талиесин на нынешний, она ответила:
— Не очень. В Висконсине было несколько Талиесинов, и почти все они сгорели. Вот почему мистер Райт построил здесь столько бассейнов и фонтанов — на случай пожара.
— Значит, он построил первый Талиесин в тридцатых годах?
Энея покачала головой:
— В тридцать втором он основал Талиесинское братство. Но сам он рассматривал это главным образом как возможность использовать бесплатный труд своих учеников — и для того, чтобы воплотить мечту, и для того, чтобы не умереть с голоду во время Депрессии.
— А что такое Депрессия?
— Экономический спад в древних капиталистических государствах. Вспомни, в те времена экономика не была по-настоящему универсальной и зависела от частных коммерческих структур, называемых банками, от золотых запасов и от реальной стоимости денег — железных монет и кусочков бумаги, которые, как тогда полагали, имели определенную ценность. Короче говоря, массовая галлюцинация, а в тридцатые годы галлюцинация обернулась кошмаром.
— О Боже!
— Вот именно. Как бы то ни было, задолго до этого, в 1909 году, мистер Райт, будучи уже не первой молодости, бросил жену и шестерых детей и сбежал в Европу с замужней женщиной.
Я ошарашено заморгал. Представить, что у восьмидесятилетнего Старого Архитектора был бурный роман, закончившийся столь скандально, было довольно трудно. И еще я никак не мог понять, каким образом вся эта история связана с моим вопросом про Талиесин-Ист.
— Когда он вернулся сюда с той, другой женщиной, — заметив, как внимательно я ее слушаю, Энея улыбнулась, — он начал строить первый Талиесин — в своем родном Висконсине для Мамочки…
— Для своей матери? — Я окончательно запутался.
— Для Мамочки Бортвик. Миссис Ченни. Для другой женщины.
— Ой!
Перестав улыбаться, она продолжила:
— Скандал лишил его работы, сделал его здесь, в Штатах, настоящим изгоем. Но он выстроил Талиесин и начал все с нуля, пытаясь отыскать новых заказчиков и покровителей. Его первая жена, Кэтрин, не желала давать ему развод. Газеты — так назывались базы данных, которые наносились на бумагу и регулярно распространялись, — лакомились сплетнями и раздували скандал, не позволяя ему затихнуть.
Во время разговора мы прогуливались по внутреннему дворику. Помню, как раз в этот момент мы остановились у фонтана. Меня всегда изумляло, сколько всего знает этот ребенок.
— А потом, — продолжила Энея, — пятнадцатого августа 1914 года один из рабочих в Талиесине сошел с ума, зарубил Мамочку Бортвик, ее сына Джона и дочь Марту топором, сжег их тела, подпалил лагерь и, прежде чем проглотить ампулу с ядом, убил еще четверых друзей и учеников мистера Райта. Лагерь сгорел дотла.
— Боже мой, — прошептал я, оглянувшись на столовую, где кибрид Старого Архитектора обедал вместе с самыми старшими учениками.
— Он никогда не сдавался. Через несколько дней, восемнадцатого августа, мистер Райт объезжал искусственное озеро близ Талиесина. Плотина не выдержала, и его смыло в реку. Вопреки всему он выплыл. А через пару недель начал строить заново.
Тут мне показалось — я понимаю, что она хочет сказать.
— Почему же мы не в том Талиесине? — спросил я, когда мы побрели по пустынному дворику, удаляясь от журчащего фонтана.
— Хороший вопрос. — Энея покачала головой. — Боюсь, на этой восстановленной Земле его не существует. Хотя для мистера Райта тот Талиесин значил очень многое. Он умер здесь… в окрестностях Талиесин-Уэста… Девятого апреля 1959 года… Но похоронен был в том Талиесине, в Висконсине…
Я резко остановился. Мысль о том, что Старый Архитектор смертен, раньше никогда не приходила мне в голову и теперь вызвала смутное беспокойство. Здесь, в изгнании, все было таким спокойным, неизменным, но сейчас Энея напомнила мне, что всему — и всем — когда-нибудь приходит конец. Или, точнее, приходил конец, пока Церковь не подарила человечеству крестоформы и — вместе с ними — воскресение плоти. Впрочем, никто в нашем братстве — а возможно, вообще никто на этой похищенной Земле — не желал принимать крестоформ.
Этот разговор состоялся три года назад. Сегодня утром, через неделю после смерти кибрида Старого Архитектора, мы были готовы встретить неизбежный конец.
Пока Энея принимала душ и приводила себя в порядок, я разыскал А.Беттика, и мы с ним пошли известить всех о собрании в музыкальном павильоне. Синекожего андроида, кажется, нисколько не удивило, что Энея, самая младшая из нас, приняла это решение. Последние несколько лет и А.Беттик, и я молча наблюдали, как девочка постепенно становится лидером Талиесинского братства.
С пустыря — в дом обслуги, из дома обслуги — на кухню, там я ударил в большой колокол, висевший над гостевым столом. Те ученики и работники, которых я не предупредил, наверняка услышат колокол и придут узнать, что случилось.
Выйдя из кухни, я объявил о собрании в общей столовой, а потом заглянул еще в личную столовую мистера Райта — сейчас пустую — и в чертежную залу. Это было, пожалуй, самое любопытное помещение в лагере: длинные ряды кульманов и столов под наклонной брезентовой крышей. Утренние лучи сочились сквозь два ряда окон. Запах нагретого солнцем брезента был так же приятен, как щедрый желтый свет. Как-то раз Энея сказала мне, что именно из-за этого ощущения — будто работаешь в доме из света, ткани и камня — мистер Райт и переехал на запад, во второй Талиесин.
В чертежной зале было с десяток учеников, все сидели без дела — сейчас никто не работал, ведь не было больше Старого Архитектора, а без него — с кем обсудить проект? — и я сообщил, что Энея хотела бы собрать нас всех в музыкальном павильоне. Никто не возразил. Похоже, все приняли как само собой разумеющееся, что шестнадцатилетняя девочка просит девяносто человек (и все — старше нее) собраться в разгар рабочего дня. Более того, учеников обрадовало известие, что она вернулась и взяла заботу о них на себя.
Из чертежной залы я направился в библиотеку, где провел столько счастливых часов, а потом заглянул в конференц-зал, освещенный четырьмя встроенными в пол светопанелями, и сообщил о собрании всем, кого застал там. Крытый переход привел меня в театр, там Старый Архитектор по субботам показывал фильмы. Стоило мне туда заглянуть, как меня тут же начинал разбирать смех. Обстановка была весьма торжественная: толстые каменные стены, крыша, наклонный пол, покрытый потертым красным ковром, фанерные скамьи с красными подушками, сотни белых рождественских гирлянд на потолке. Когда мы с Энеей только прибыли в Талиесин, мы были изумлены, узнав, что Старый Архитектор требует, чтобы ученики и их родственники «одевались к обеду» — причем исключительно в старинные смокинги с черными галстуками, совсем как в исторических голофильмах. Женщины непременно должны были надеть старинное вечернее платье. Те, кто, путешествуя через порталы или Гробницы Времени, не захватил с собой вечерний костюм, снабжались одеждой из собственных запасов мистера Райта.
В первую же субботу Энея вместо выданного ей вечернего платья надела к обеду черный смокинг, белую рубашку и черный галстук. Посмотрев на весьма выразительную физиономию Старого Архитектора, я ни на секунду не усомнился: сейчас он неминуемо вышвырнет нас из братства и изгонит в пустыню, но возмущение на его лице почти тут же сменилось улыбкой, а через несколько секунд он уже весело смеялся. С тех пор он ни разу не просил Энею надеть что-нибудь другое.
После официальных субботних обедов мы слушали музыку или смотрели кино — древние фильмы, снятые на пленку, которые крутил специальный аппарат. Это было все равно что наслаждаться пещерным искусством. И мне, и Энее нравились фильмы, которые подбирал мистер Райт — пленки двадцатого века, многие еще черно-белые, — и по причине, которую он никогда не объяснял, старик предпочитал смотреть их с титрами, прыгавшими на экране.
Сегодня театр был пуст, рождественские гирлянды погашены. Я поспешил дальше, из комнаты в комнату, из здания в здание, созывая учеников, рабочих и всех, кто попадался мне на пути, пока не встретил у фонтана А.Беттика. А тогда мы присоединились к толпе и двинулись к музыкальному павильону.
В павильоне был большой, просторный зал с широкой сценой и шестью рядами зачехленных кресел — по восемнадцать в каждом ряду. Стены обшиты панелями красного дерева (Старый Архитектор вообще любил красный цвет). На застеленной красным ковром сцене — рояль и несколько цветов в кадках. Над головой, на каркасе из стальных прутьев и деревянных балок, — белый брезент. Энея рассказывала, что после смерти первого мистера Райта брезент заменили на пластик — хлопот меньше. Но когда пришел наш мистер Райт, пластик убрали, убрали и стекла в чертежной зале — и вновь вернулся приглушенный свет, сочившийся сквозь белую ткань.
Мы с А.Беттиком остановились у дальней стены. Пришедшие, тихо переговариваясь, занимали места, кое-кто остался стоять в проходе. Когда Энея, раздвинув занавес, выбежала на сцену, все разом умолкли.
Акустика в музыкальном павильоне мистера Райта была хорошая, а Энея и без того обладала способностью говорить, не повышая голоса, но так, чтобы ее слышали все.
— Спасибо, что пришли. Я думаю, мы должны поговорить.
С пятого ряда тут же поднялся Джев Питерс, один из старейших учеников.
— Ты уходила, Энея. Снова в пустыню. — Девочка кивнула. — Ты беседовала с львами, тиграми и медведями?
Никто не захихикал, не зашушукался. Вопрос был задан вполне серьезно, и все девяносто человек столь же серьезно ожидали ответа. Здесь я должен кое-что объяснить.
Все началось с «Песней» Мартина Силена, написанных больше двух столетий назад. В повествовании о паломничестве на Гиперион, о Шрайке, о битве человечества с Техно-Центром объяснялось, как первые киберпространственные сети превратились в планетарные инфосферы. В эпоху Гегемонии ИскИны Техно-Центра, используя нуль-порталы и мультилинии, объединили сотни инфосфер в единую, тайную, межзвездную инфосферу, названную мегасферой. Но согласно «Песням», отец Энеи — кибрид Джона Китса — добрался в бестелесной форме до центра мегасферы и обнаружил, что существует еще одна, большая инфосфера, протянувшаяся, возможно, за пределы нашей галактики, — метасфера, в которую даже ИскИны не рискуют заглядывать, потому что она полна «медведей, тигров и львов» — это слова ИскИна Уммона. Эти самые существа — или интеллекты, или боги, кто их разберет, — тысячу лет назад похитили Землю и перебросили сюда, пока ее не успел уничтожить Техно-Центр. Эти вот львы, тигры и медведи были незримыми стражами нашей планеты. Никто из братства никогда не видел ни одну из этих сущностей, никто с ними не говорил, никто не имел твердых доказательств их существования. Никто, кроме Энеи.
— Нет, — ответила девочка, — я с ними не разговаривала. — Она опустила глаза, словно смутившись. Она вообще всегда очень сдержанно говорила на такие темы. — Но, мне кажется, я слышала их.
— Они говорили с тобой? — спросил Джев Питерс. В зале повисла тишина.
— Нет. Этого я не сказала. Я просто… слышала их… Совсем немного, это — как если бы вы случайно подслушали чей-то разговор за стенкой…
Многие заулыбались. Толстыми в домах Талиесинского братства были только наружные стены, а перегородки между спальнями — исчезающе тонки.
— Ладно, — сказала с первого ряда Бетс Кимбол, наш шеф-повар — дородная, рассудительная женщина. — Расскажи нам, о чем они говорили.
Энея подошла к самому краю покрытой красным ковром сцены и оглядела собравшихся.
— Сейчас скажу. У нас не будет больше продуктов и товаров с индейского рынка. Он исчез.
Казалось, в павильоне взорвалась граната. Когда гомон немного стих, вперед выступил Хасан — один самых сильных строительных рабочих.
— Что значит «исчез»? Где же мы будем доставать еду?
Для паники имелись все основания. При первом мистере Райте, в двадцатом веке, лагерь братства в пустыне располагался километрах в пятидесяти от крупного города Феникс. В отличие от висконсинского Талиесина, где во времена Депрессии ученики сами выращивали злаки на плодородных землях, попутно работая на строительстве мистера Райта, этот лагерь полностью зависел от Феникса — ученики ездили туда за продуктами и прочими необходимыми вещами, они выменивали их или покупали на бумажные деньги. Старый Архитектор всегда полагался на щедрость клиентов и жил в долг, из месяца в месяц.
Но рядом с нашим лагерем никаких городов не было. Единственная дорога — две засыпанные гравием колеи — уходила на запад, в пустоту. Я это знал, ведь я облетал окрестности на катере и обследовал на автомобиле. Но километрах в тридцати от лагеря еженедельно собирались индейцы, и мы выменивали на разные безделушки провизию и подручные материалы. Так было задолго до нашего с Энеей прибытия на Землю, и, видимо, все обитатели Талиесина считали, что так будет всегда.
— Что значит «исчез»? — хрипло повторил Хасан. — Куда подевались индейцы? Они что, все были кибридами, как мистер Райт?
Энея повела рукой. Я уже привык к этому жесту, аналогу буддийского выражения «му», которое в определенном контексте может быть переведено как «не задавай вопросов».
— Рынок исчез потому, что нам он больше не нужен, — сказала Энея. — Индейцы были вполне настоящие — навахо, апачи… Но они живут своей жизнью, у них — свой эксперимент. С нами они торговали… из любезности.
Все загомонили, многие что-то злобно выкрикивали. Когда шквал недовольства поутих, Бетс Кимбол спросила:
— Что нам делать, девочка?
Энея села на край сцены, не желая отделять себя от остальных.
— Братства больше не существует. Этот этап нашей жизни завершен.
— Неправда! — прокричал из глубины зала молодой ученик. — Мистер Райт вернется! Он же кибрид, вспомните! Искусственный человек! Техно-Центр… или медведи, тигры и львы… Кто бы его ни сотворил, они вернут его нам!
Энея покачала головой — печально, но решительно:
— Нет. Мистер Райт ушел. Братства больше не существует. Без пищи и материалов, которые издалека привозили индейцы, лагерь в пустыне не протянет и месяца. Мы вынуждены уйти.
— Куда, Энея? — тихо спросила Пере, одна из самых молодых учениц в Талиесине.
Пожалуй, именно тогда я впервые понял, что все эти люди целиком полагаются на молодую женщину, которую я до сих пор считал ребенком. Когда Старый Архитектор был рядом — читал лекции, вел семинары, устраивал дискуссии в чертежной зале, возглавлял вылазки в горы, требовал для себя уединения и лучшей пищи, — отношение к Энее как к лидеру было не столь явным. Но теперь все стало очевидным.
— Да, — поддержал кто-то из середины зала. — Куда, Энея?
Она развела руками. Тоже привычный жест: «Вы должны сами ответить на свой вопрос».
— Есть два варианта, — сказала она. — Каждый из вас пришел сюда либо через портал, либо через Гробницы Времени. Вы можете вернуться через тот же портал…
— Нет!
— Как?
— Никогда… Лучше умереть!
— Нет! Орден выследит нас и убьет!
Все кричали одновременно. Их слова выражали глубинный ужас. Я чувствовал запах страха, такой запах исходил от животных, попадавшихся в мои капканы на Гиперионе.
Энея подняла руку, и все умолкли.
— Вы можете вернуться через порталы в Священную Империю или остаться на Земле, но тогда вам самим придется заботиться о себе.
Многие облегченно вздохнули — выходит, можно не возвращаться. Я их понимал: для меня Орден тоже стал кошмаром. По крайней мере раз в неделю я просыпался в холодном поту: мне снилось, что я возвращаюсь.
— Но если вы останетесь, — продолжила девочка, все так же сидя на краю сцены, — вы окажетесь в одиночестве. У людей, которые здесь живут, свои эксперименты. Свои проекты. Вы здесь не нужны.
В зале вновь поднялся шум, но Энея словно ничего не замечала.
— Если вы останетесь здесь, — спокойно продолжала она, — вы потеряете все, чему научил вас мистер Райт, и то, чему вы научились сами. Земле не нужны архитекторы. Сейчас не нужны. Мы вынуждены вернуться.
— А Ордену они нужны? — ехидно поинтересовался Джев Питерс. — Например, чтобы строить их проклятые церкви?
— Да, — кивнула Энея.
Джев стукнул кулаком по спинке кресла.
— Но они схватят нас и убьют, как только узнают, кто мы… откуда мы…
— Да, — повторила Энея.
— Ты возвращаешься, девочка? — спросила Бетс Кимбол.
— Да, — в третий раз сказала Энея и соскочила со сцены.
Все встали, громко переговариваясь с соседями. Джев Питерс высказал то, что думали все девяносто человек:
— Мы можем пойти с тобой, Энея?
Девочка вздохнула:
— Нет. Мне кажется, уйти отсюда — все равно что умереть или родиться. И каждый решит для себя этот вопрос сам. — Она улыбнулась. — Или с очень близкими друзьями.
Наступила тишина.
— Рауль уйдет первым, — наконец сказала Энея. — Сегодня вечером. Один за другим, каждый из вас сам найдет свой портал. Я помогу вам. Я последней уйду с Земли. Но уйду, обязательно уйду, не позже, чем через две недели. Мы все должны уйти.
Люди стали подходить к сцене, потянулись к девочке с коротко стриженными волосами.
— Некоторые из нас еще встретятся снова. Я уверена, что некоторые из нас еще встретятся.
В ее словах я услышал другое: не все мы доживем до следующей встречи.
— Что ж, — прогудела Бетс Кимбол, обнимая Энею за плечи, — продуктов на прощальный пир у нас хватит. Нынешний ужин вы запомните надолго! Как говорила моя мамаша, никто не путешествует на пустой желудок. Кто поможет мне на кухне?
Люди начали расходиться — группами, семьями, — и все старались держаться поближе к Энее. В эту секунду мне очень хотелось схватить ее за плечи, встряхнуть хорошенечко и завопить: «Какого черта! «Рауль уйдет первым… сегодня вечером». Да кто, черт побери, ты такая, чтобы указывать, когда мне уходить? И как ты думаешь меня заставить?» Но она была слишком далеко и вокруг нее толпилось слишком много народу. А потому мне осталось одно — с очень злобным видом плестись за толпой, медленно продвигавшейся к кухне.
Энея оглянулась, высматривая меня поверх голов, и в ее глазах была просьба: «Позволь мне все объяснить».
Я отвернулся.
В сумерках она нашла меня в ангаре, который мистер Райт велел выстроить в полукилометре к востоку от лагеря. Вместо стен висели брезентовые полотнища, четыре мощные каменные колонны подпирали деревянную крышу. Этот ангар выстроили специально для катера, на котором мы с Энеей и А.Беттиком прилетели на Землю.
Я откинул брезентовый полог и стоял у открытого люка катера, и тут я увидел Энею, которая шла ко мне по пустыне. У меня на запястье был комлог — браслет, который я не надевал уже больше года; там хранилась почти вся память бортового компьютера — компьютера корабля Консула, и он здорово мне помог, когда я учился управлять катером. Сейчас он мне был не нужен — память комлога загрузили в компьютер катера, да и сам я уже вполне освоился с управлением, но с ним все равно казалось как-то надежнее. Комлог проводил проверку всех систем катера и, если можно так выразиться, что-то бормотал себе под нос.
Энея остановилась в дверях, прямо под откинутым пологом. В косых лучах закатного солнца брезент казался багровым, и все вокруг было исчерчено длинными черными тенями.
Я демонстративно отвернулся.
— Как катер? — спросила она.
Бросив взгляд на комлог, я, не поворачиваясь, ответил:
— Нормально.
— Топлива достаточно?
Я все так же сосредоточенно изучал крышку люка.
— Смотря куда лететь.
Энея подошла ближе и взяла меня за руку.
— Рауль?
На этот раз пришлось на нее посмотреть.
— Не сердись. — Она улыбнулась. — Есть вещи, которые мы вынуждены делать.
Я отдернул руку.
— Иди ты ко всем чертям! И нечего за всех решать, что кому делать! Тоже мне, шестнадцатилетняя соплюшка, а туда же! А ты не думаешь, что есть вещи, которые некоторые из нас как раз и не вынуждены делать? С какой стати я должен куда-то лететь без тебя? — Я выскочил из ангара и решительно направился к своей палатке. Огромный багровый шар уходил за горизонт. В низких закатных лучах весь лагерь пылал, словно охваченный пожаром.
— Рауль, стой!
— Я нехотя оглянулся, и тут вдруг до меня дошло, насколько она измучена. Весь день она разговаривала, успокаивала, убеждала, объясняла. Прямо не братство, а какое-то гнездо вампиров, которые только ее энергией и живут.
— Ты сказал…
— Ну, сказал, — перебил я. И тут же понял, что веду себя как капризный ребенок. Смутившись, я снова отвернулся, делая вид, будто любуюсь последними красками заката. Несколько минут мы оба молчали, глядя, как сгущаются тени и тускнеет небо на западе. Сколько раз за эти четыре года мы с Энеей вместе смотрели на закат? Сколько долгих вечеров провели за разговорами под звездным небом пустыни? Неужели и впрямь этот закат — наш последний? Я невольно вздрогнул.
— Рауль, — снова позвала Энея, когда сумерки сгустились и стало холодно. — Пойдем со мной?
Я не сказал «да», но я пошел за ней по каменистой осыпи, сосредоточенно глядя под ноги, чтобы не наступить в темноте на какую-нибудь юкку или на очередной кактус. Так мы и шли, пока не дошли до лагеря. Горел свет. Интересно, долго проработают генераторы? В главном резервуаре топлива на шесть дней, в запасном — еще на десять. Индейского рынка нет — значит, запасы пополнить не удастся. Три недели света и… и что дальше? Темнота, упадок, полная остановка строительства — и неминуемая гибель нашего Талиесина…
Я думал, мы направляемся к столовой, но мы миновали освещенные окна — за столами сидели люди, они о чем-то переговаривались, и все провожали взглядами Энею (меня они сейчас не замечали). А мы все шли — мимо студии мистера Райта, мимо конференц-зала, мимо чертежной залы…
Остановились мы только около мастерской. Она стояла на отшибе, специально для работы со всякими ядохимикатами и прочей гадостью. Последнее время я сюда не заглядывал.
В дверях ждал А.Беттик. Андроид улыбался — точно так же, как когда принес на день рождения Энеи шоколадный торт.
Энея молча вошла в мастерскую и включила свет.
На верстаке стояла маленькая лодка, не больше двух метров в длину, похожая на заостренное с обоих концов зерно. Сверху она была затянута непромокаемой тканью, только у кокпита оставалось небольшое отверстие с тубусом — очевидно, для гребца. Рядом лежало весло с двумя лопастями. Я осторожно приблизился и провел рукой по корпусу: гладкий фибропласт на жестком алюминиевом каркасе. Никто, кроме А.Беттика, не смог бы это соорудить. Я негодующе глянул на андроида. Он кивнул.
— Это каяк, — объяснила Энея. — Такие лодки очень давно делали на Старой Земле.
— Видел я эти каяки. У мятежников с Ледяного Когтя были, помню, похожие.
Энея пропустила мою реплику мимо ушей.
— А.Беттик сделал его для тебя по моей просьбе, — спокойно продолжала она. — Несколько недель он не выходил из мастерской.
— Для меня, — тупо повторил я, и меня пробрала дрожь. Теперь понятно, что мне предстоит.
Энея подошла ближе. Она стояла прямо под лампой, и темные круги под глазами казались еще темнее. Сейчас она выглядела гораздо старше своих шестнадцати лет.
— Понимаешь, Рауль, ведь плота у нас больше нет.
Я знал, о каком плоте речь. О том, на котором мы пересекли множество планет и который был уничтожен во время схватки на Роще Богов. Он пронес нас сквозь ледяные пещеры Седьмой Дракона, сквозь пустыни Кум-Рияда и пески Хеврона, по океану Безбрежного Моря… Да, я знал, о каком плоте речь. И догадывался, что для меня означает эта лодка.
— Значит, я плыву обратно? Тем же путем?
— Другим. Вниз по реке Тетис. Через другие миры. Через много других миров. Пока река не приведет тебя к кораблю.
— К кораблю? — Мы оставили поврежденный звездолет Консула на неизвестной планете.
Девочка кивнула, и на миг тени под глазами исчезли.
— Нам нужен корабль, Рауль. Если можешь, пожалуйста, выполни мою просьбу. Спустись на каяке по реке Тетис, отыщи корабль и прилети на нем туда, где будем ждать мы с А.Беттиком.
— В пространство Ордена? — Меня охватил ужас.
— Да.
— Почему я? — Я посмотрел на А.Беттика и тут же сам устыдился своих мыслей: «Зачем посылать человека… своего лучшего друга… когда есть андроид?» Я опустил глаза.
— Путешествие будет опасным. Я верю в тебя, Рауль, верю, что ты справишься. Верю, что ты найдешь корабль и вернешься к нам.
Я невольно расправил плечи.
— Ладно. Нам надо вернуться к тому порталу, через который мы сюда прилетели?
— Нет. Есть другой, ближе. На Миссисипи.
— Ладно, — повторил я. Над Миссисипи я летал. До нее отсюда около двух тысяч километров к востоку. — Когда выходим? Завтра?
Энея взяла меня за руку.
— Нет, — устало проговорила она. — Сегодня. Сейчас.
Я не возражал. Не спорил. Ни слова не говоря, я взялся за нос каяка. А.Беттик подхватил корму, Энея пристроилась посередине, и мы потащили треклятую лодку к катеру.
Глава 3
Великий Инквизитор задерживался. Ватиканский дорожный контроль провел ТМП Инквизитора через закрытую зону вблизи космопорта, перекрыв все движение в восточном секторе Ватикана и продержав тридцатитысячетонный грузовик на орбите до тех пор, пока машина Великого Инквизитора не пролетела над юго-восточной посадочной площадкой.
А в бронированном ТМП Великий Инквизитор — его преосвященство Джон Доменико кардинал Мустафа — не любовался дивными видами приближающегося Ватикана: ни вырастающими в рассветных лучах древними стенами, ни загруженным транспортом двадцатирядным шоссе Понте-Витторио-Эмануэле, переливающимся, как покрытая рябью река. Все внимание Великого Инквизитора был приковано к разведданным, выдаваемым на экран комлога.
Когда последний параграф, промелькнув на экране, был записан в память с запретом доступа, Великий Инквизитор спросил своего помощника, отца Фаррелла:
— И больше не было никаких встреч с торговцами?
Отец Фаррелл, худощавый мужчина с невыразительными серыми глазами, никогда не улыбался, но сейчас его лицо дернулось в ответ на шутку кардинала.
— Нет.
— Вы уверены?
— Абсолютно.
Великий Инквизитор откинулся в кресле и позволил себе мимолетную улыбку. Торговцы совершили только одну — преждевременную, неудачную попытку прощупать кандидата на Святой Престол, вышеупомянутого кардинала Лурдзамийского, и Инквизитор только что прослушал полную запись этой встречи. Кардинал позволил себе еще одну мимолетную улыбку: Лурдзамийский был прав, полагая, что его приемная полностью защищена от прослушивания. Любое записывающее устройство — даже имплантированное одному из посетителей — было бы немедленно обнаружено и удалено. Любая попытка направить сверхчувствительные микрофоны снаружи также была бы пресечена в зародыше. И сейчас настал звездный час Великого Инквизитора, получившего полную видео— и аудиозапись тайной встречи.
Два стандартных года назад монсеньор Лукас Одди лег в ватиканскую клинику на профилактическую пересадку сердца и замену слуховых и зрительных нервов. Отец Фаррелл имел беседу с хирургом и выказал готовность ознакомить его со всеми достопримечательностями Священной Канцелярии, если тот не имплантирует в тело монсеньора вполне определенное высокотехнологическое устройство. Хирург выполнил поручение и весьма скоро погиб истинной смертью без всякой надежды воскресения в автокатастрофе на Большой Северной Отмели.
У монсеньора Лукаса Одди не было ни электронных, ни механических жучков, просто к его зрительному нерву подсоединили семь бионанорекордеров. Еще четыре аудионанорекордера подключили к его слуховому нерву. Сами биорекордеры ничего не транслировали, они лишь сохраняли данные в химической форме и прогоняли их по кровеносной системе на импульсный передатчик — тоже полностью органический, — вживленный Одди в левый желудочек. Ровно через десять минут после того, как Одди покинул защищенный от прослушивания кабинет кардинала Лурдзамийского, передатчик выдал направленный импульс на один из близлежащих транспондеров. Информация из приемной кардинала Лурдзамийского поступала не в режиме реального времени — факт, по-прежнему печаливший Джона Доменико Мустафу, — но максимально быстро, настолько быстро, насколько позволяла современная технология.
— Исодзаки напуган, — сказал отец Фаррелл. — Он думает…
Великий Инквизитор поднял указательный палец. Фаррелл умолк на полуслове.
— Вы не знаете, напуган он или нет, — проговорил кардинал. — Вы не знаете, о чем он думает. Вы знаете только, что он говорит и что он делает, и на основе этого делаете выводы о его мыслях и чувствах. Никогда не стройте необоснованных предположений относительно ваших врагов, Мартин. Ошибка может оказаться фатальной.
Отец Фаррелл склонил голову в знак покорности и согласия.
ТМП приземлился на крыше замка Святого Ангела. Великий Инквизитор столь стремительно шагнул к люку и спустился по трапу, что Фарреллу пришлось совершить небольшую пробежку, чтобы догнать своего наставника. Коммандос из безопасности, одетые в алые доспехи Священной Канцелярии, тут же выстроились в эскорт, но Великий Инквизитор небрежным взмахом руки отослал их прочь. Он хотел закончить разговор с отцом Фарреллом. Кардинал взял своего помощника за руку — не из нежных чувств, но чтобы замкнуть цепь, — и перешел на субзвуковую речь.
Исодзаки и лидеры торговцев не напуганы. Если бы кардинал Лурдзамийский пожелал от них избавиться, они были бы уже мертвы. Исодзаки нужно было сообщить, что торговцы его поддержат. И он это сообщил. Кто на самом деле напуган — это военные.
Отец Фаррелл нахмурился и передал по субзвуковой костной цепи:
Военные? Но они еще не разыграли свою карту. Они не совершили никакого предательства.
Именно, — отозвался Великий Инквизитор. — Торговцы свой ход сделали и знают, что, когда придет время, кардинал Лурдзамийский обратится за помощью к ним. А командование Флота слишком долго боялось сделать неверный шаг. Сейчас они боятся, что ждали слишком долго.
Фаррелл кивнул. Они спустились по гравиколодцу в каменные недра замка Святого Ангела и теперь шли темными коридорами мимо облаченных в броню гвардейцев, сквозь смертоносные силовые поля. У неприметной стальной двери несли караул двое коммандос в алых доспехах, с энергетическими ружьями на изготовку.
— Свободны, — бросил Великий Инквизитор и приложил ладонь к идентификационной пластине. Стальная дверь неслышно скользнула в сторону.
Каменный коридор был мрачным и темным. В комнате ослепительно яркий свет играл на стерильных поверхностях и приборных панелях. Техники, оторвавшись от работы, посмотрели на Великого Инквизитора. Одну стену целиком занимали квадратные дверцы, более всего напоминавшие торцы выдвижных гробов в древнем морге. Одна из этих дверок была открыта, и на выдвинутой из ледяного хранилища плите лежал обнаженный мужчина.
Великий Инквизитор и отец Фаррелл подошли поближе.
— Он быстро восстанавливается, — сообщил техник, стоявший у пульта. — Мы держим его на грани сознания. Можем привести в чувство за несколько секунд.
— Как долго продолжался последний холодный сон? — спросил отец Фаррелл.
— Шестнадцать локальных месяцев. Тринадцать с половиной стандартных.
— Разбудите его, — приказал Великий Инквизитор.
Секунда — и веки мужчины дрогнули. Он был невысок, подтянут и мускулист, на теле — ни шрамов, ни кровоподтеков. Руки и ноги крепко связаны. За левым ухом был вживлен нейрошунт, от которого почти невидимые оптоволоконные провода тянулись к консоли.
Человек застонал.
— Капрал Бассин Ки, — позвал Великий Инквизитор. — Вы меня слышите?
Капрал Ки издал какой-то нечленораздельный звук.
Великий Инквизитор кивнул и продолжил тоном светской беседы:
— Ну что, капрал, начнем с того, на чем мы остановились?
— Долго… — с трудом шевеля сухими, застывшими губами, проговорил капрал Ки. — Долго я…
Отец Фаррелл, подойдя к пульту управления, кивнул Мустафе.
Оставив вопрос капрала без ответа, Джон Доменико кардинал Мустафа ласково поинтересовался:
— Почему вы с капитаном де Сойей отпустили девочку?
Капрал Ки открыл глаза, моргнул — словно свет причинял ему боль — и снова закрыл. Он ничего не сказал.
Великий Инквизитор кивнул своему помощнику. Отец Фаррелл пробежался пальцами по пиктограммам сенсорной панели, но не стал пока активизировать ни одну из них.
— Повторяю. Почему вы с де Сойей позволили девочке и ее преступным сообщникам бежать с Рощи Богов? На кого вы работали? Каковы были ваши мотивы?
Капрал Ки лежал на спине, стиснув кулаки и крепко зажмурив глаза. Он по-прежнему молчал.
Великий Инквизитор едва заметно указал головой влево, и отец Фаррелл взмахнул двумя пальцами над пультом. Для человека непосвященного пиктограммы выглядели столь же абстрактно, как иероглифы, но Фаррелл хорошо знал их значение. Та, что он выбрал, символизировала раздавленные яички.
Капрал Ки судорожно вздохнул и открыл рот в безмолвном крике, но нейроингибиторы заблокировали звук.
Великий Инквизитор кивнул, и Фаррелл убрал пальцы с активной зоны над пиктограммой. По телу капрала пробежала дрожь, мышцы живота непроизвольно сократились.
— Это всего лишь виртуальная боль, — прошептал Великий Инквизитор. — Нейронная имитация. Ваше тело не пострадало.
Ки попытался изогнуться и посмотреть, правда ли это, но путы прочно держали его.
— А может, и нет, — продолжил кардинал. — Может, на этот раз мы прибегли к старым, менее изысканным методам. — Он подошел поближе к плите, так, чтобы Ки мог видеть его лицо. — Повторяю… почему вы и отец капитан де Сойя отпустили девочку на Роще Богов? Почему вы атаковали члена экипажа Радаманту Немез?
Капрал Ки оскалился в ухмылке:
— С-с-сука!
— Именно. — Великий Инквизитор снова кивнул отцу Фарреллу.
На этот раз Фаррелл активизировал пиктограмму «раскаленная проволока над правым глазом».
И вновь капрал Ки открыл рот в безмолвном крике.
— Итак, — ласково проговорил Великий Инквизитор, — почему?
— Прошу прощения, ваше преосвященство, — отец Фаррелл бросил взгляд на комлог, — но месса Конклава начинается через сорок пять минут.
Великий Инквизитор махнул рукой.
— У нас еще есть время, Мартин. У нас еще есть время. — Он тронул капрала Ки за плечо. — Факты, капрал. Всего несколько слов — и вас отведут в ванную, оденут и выпустят на свободу. Вы согрешили против Господа и Церкви, но сущность Церкви — прощение грехов. Объясните нам ваше предательство, и все будет прощено.
Это было поразительно — но капрал Ки расхохотался.
— Сволочь! — произнес он. — Ты уже заставил меня рассказать все, что я знаю, с помощью правдосказа. Тебе известно, почему мы прикончили эту стерву и отпустили ребенка. И ты никогда не выпустишь меня на свободу. Пошел ты…
Великий Инквизитор пожал плечами и отошел от капрала. Глянув на свой золотой комлог, он тихо сказал:
— У нас еще есть время. Много времени. — И кивнул Фарреллу.
Пиктограмма на пульте виртуальной боли, с виду напоминавшая обычные круглые скобки, означала раскаленный клинок в пищевод. Именно эту пиктограмму активизировал, изящно взмахнув пальцами, отец Фаррелл.
Отец капитан Федерико де Сойя был воскрешен на Пасеме и две недели провел на положении узника в ватиканском ректории Легионеров Христа. Ректорий был тихий и уютный. Маленький пухлый капеллан, отвечавший за воскрешение — отец Баджо, — как всегда, предупредителен, приветлив и заботлив. Де Сойя ненавидел это место и этого священника.
Никто прямо не сказал отцу капитану де Сойе, что ему возбранено покидать ректорий, ему просто дали понять, что он должен оставаться здесь, пока его не вызовут. Через неделю после воскрешения, когда он окреп и набрался сил, его вызвали в штаб-квартиру Имперского Флота, где он имел встречу с адмиралом Ву и ее шефом, адмиралом Марусиным.
Отец капитан де Сойя вошел в кабинет, отдал честь, встал «вольно» и приготовился слушать. Адмирал Марусин объяснил, что при повторном рассмотрении решения трибунала четырехлетней давности были выявлены нарушения и упущения в ведении дела. Дальнейшее изучение привело к отмене решения: отец капитан де Сойя должен быть немедленно восстановлен в прежнем звании капитана Флота. Было решено подыскать ему соответствующий корабль для несения боевой службы.
— Ваш старый факельщик «Бальтазар» уже несколько лет стоит в сухом доке, — сказал адмирал Марусин. — Полное переоборудование корабля класса «архангел-эскорт». Ваш помощник, капитан Стоун, — превосходный командир.
— Так точно, сэр, — ответил де Сойя. — Стоун была превосходным исполнителем. Уверен, из нее вышел хороший начальник.
Адмирал Марусин рассеянно кивнул, перелистывая веленовые страницы еженедельника.
— Да-да, — проговорил он. — Действительно хороший. Мы рекомендовали ее на новый «архангел» планетарного класса. У нас найдется «архангел» и для вас, отец капитан.
Де Сойя моргнул, постаравшись скрыть удивление.
— «Рафаил», сэр?
Адмирал поднял глаза, и на его обветренном, испещренном морщинами лице мелькнула тень улыбки.
— Да, «Рафаил», но не тот, каким командовали вы. Тот сейчас переименован и переоборудован для курьерской службы. Новый «архангел» «Рафаил»… кстати, отец капитан, вы что-нибудь слышали об «архангелах» планетарного класса?
— Нет, сэр. Ничего конкретного. — Кое-что он слышал на своей пустынной планете, проходя мимо кантины, где громко разговаривали пьяные шахтеры.
— Четыре стандартных года, — пробормотал Марусин, качая головой. Его седые волосы были аккуратно зачесаны назад. — Адмирал, введите Федерико в курс дела. Кратко.
Марджет Ву кивнула и прикоснулась к сенсорной панели на тактическом пульте, встроенном в стену. Между ней и капитаном де Сойей повисла голограмма звездолета. Отец капитан сразу заметил, что новый корабль превосходит старый «Рафаил» размерами, блеском, изяществом — и беспощадностью.
— Его Святейшество обратился с просьбой к каждой индустриально развитой планете Священной Империи построить — или по крайней мере финансировать постройку — одного боевого «архангела» планетарного класса, — отрывисто проговорила адмирал Ву. — За четыре года со стапелей сошел двадцать один крейсер. Еще шестьдесят почти готовы. — Изображение стало вращаться, все увеличиваясь. Внезапно лазерный луч рассек главную палубу. — Жилые помещения, рубка и тактический центр намного просторнее, чем на вашем старом «Рафаиле», — просторнее даже, чем на вашем старом факельщике. Двигатели — и квантовые, и термоядерные — в полтора раза меньше, при этом — эффективнее, надежнее, проще в эксплуатации. На борту нового «Рафаила» — три катера и один скоростной разведбот. Автоматические саркофаги на двадцать восемь членов экипажа плюс двадцать два морских пехотинца.
— Защита? — спросил отец капитан де Сойя, сцепив руки за спиной.
— Силовые поля десятого уровня. Новейшие секретные технологии. Электроника класса «омега». Генератор помех. Кроме того — стандартный набор гиперкинетических и лазерных средств.
— Огневая мощь? — Де Сойя мог бы и сам оценить огневую мощь по апертурам на голограмме, но ему хотелось послушать, что скажет Марджет Ву.
Вместо нее ответил Марусин, и в его голосе звучала такая гордость, будто он демонстрировал де Сойе своего новорожденного внука.
— По всей длине корпуса — энергетические пушки, но питаются они не от термоядерного, а от квантового двигателя. Уничтожают все на расстоянии в половину астроединицы. Новые гиперкинетические ракеты Хоукинга — миниатюризированные! — в два раза легче и компактнее тех, которые были у вас на «Бальтазаре». Плазменные боеголовки. Нейродеструкторы…
Отец капитан де Сойя постарался сохранить невозмутимость. Нейродеструкторы во Флоте Ордена были запрещены.
Должно быть, Марусин заметил что-то в его взгляде.
— Времена меняются, Федерико. Этот бой — последний. Бродяги плодятся в своих норах как кролики. Если мы не остановим их сейчас, через год-другой они захватят Пасем.
Отец капитан де Сойя кивнул.
— Могу я узнать, сэр, какая именно планета финансировала постройку нового «Рафаила»?
Марусин усмехнулся и ткнул пальцем в голограмму. Корабль стал стремительно увеличиваться, словно наползая на де Сойю. Корпус раскололся как орех и открыл тактический центр, а изображение все увеличивалось и увеличивалось, пока отец капитан не смог разглядеть маленькую бронзовую табличку — «Корабль флота Его Святейшества «Рафаил», а ниже: «Построен на средства жителей планеты Небесные Врата во спасение всего человечества».
— Чему вы улыбаетесь, отец капитан? — спросил адмирал Марусин.
— Ну… сэр, это просто… да, дело в том, что я бывал на Небесных Вратах, сэр. Конечно, с тех пор прошло больше четырех лет, сэр, но тогда там проживало с десяток старателей да еще гарнизон на орбите. С тех пор как триста лет назад на планету напали Бродяги, сэр, там никто не селился. Я просто представить себе не могу, чтобы Небесные Врата финансировали такой корабль. Мне кажется, тут потребовался бы совокупный доход планеты типа Возрождение-Вектор…
Марусин по-прежнему усмехался.
— Абсолютно точно, отец капитан. Небесные Врата — это сущий ад: ядовитая атмосфера, кислотные дожди, серные трясины. Планета так и не оправилась после нападения Бродяг. Однако Его Святейшество полагает, что такие миры следует передавать под опеку частным лицам. На Небесных Вратах, по счастью, сохранились залежи тяжелых металлов. Поэтому мы продали планету.
На этот раз де Сойя все-таки моргнул.
— Продали? Всю?
Марусин фыркнул.
— Мы продали ее «Опус Деи», отец капитан, — пояснила адмирал Ву.
Де Сойя ничего не сказал, но молчание не означало, что он все понял.
— «Опус Деи» — религиозное объединение, — добавила Ву. — Ему… а, ну да… ему почти двенадцать столетий. Основано в 1920 году от Рождества Христова. За последние несколько лет стало не только могущественным союзником Святого Престола, но и достойным соперником Гильдии торговцев.
— А, понятно. — Отец капитан де Сойя вполне мог представить себе, как религиозное объединение покупает целую планету, но чего он представить себе не мог — так это каким образом торговцы не придушили в зародыше столь серьезного соперника. Нет, так не бывает. Он повернулся к адмиралу Марусину: — Последний вопрос, сэр.
Адмирал бросил взгляд на комлог и коротко кивнул.
— Я не служил на Флоте четыре года, — тихо произнес де Сойя. — Все это время я не носил форму, не отслеживал новые технические достижения. Мир, где я совершал священническое служение, был так далек от всех текущих событий, что я с таким же успехом мог бы все эти четыре года провести в криогенной фуге. Разве можно доверить мне командование новым «архангелом», сэр?
Марусин нахмурился.
— Мы быстро введем вас в курс дела, отец капитан. Командование Флота знает, что делает. Вы отказываетесь от назначения?
Мгновение отец капитан де Сойя медлил.
— Никак нет, сэр, — наконец сказал он. — Я ценю доверие, оказанное мне вами и Священной Империей. И сделаю все, что в моих силах, адмирал. — Де Сойя прошел двойную школу послушания — как иезуит и как офицер флота Его Святейшества.
— Не сомневаюсь, Федерико. Мы рады вашему возвращению. Если не возражаете, нам хотелось бы, чтобы вы оставались в ректории Легионеров на Пасеме — пока мы не будем готовы отправить вас на ваш корабль.
«Проклятие! — подумал де Сойя. — Опять под арестом у проклятых Легионеров».
— Конечно, сэр, — сказал он вслух. — Там уютно.
Марусин снова посмотрел на комлог. Очевидно, аудиенция заканчивалась.
— Какие-нибудь просьбы, отец капитан?
Де Сойя снова помедлил. Он знал, что просить не следует — это не принято. И все равно сказал:
— Да, сэр… Есть одна. На старом «Рафаиле» со мной служили трое солдат. Швейцарские гвардейцы, я забрал их с Гипериона… Стрелок Реттиг — да, он погиб, сэр… но сержант Грегориус и капрал Ки были со мной до конца, и я хотел узнать…
Марусин кивнул:
— Вы хотите, чтобы они были с вами на новом «Рафаиле». Вполне обоснованно. У меня был кок, которого я таскал за собой с корабля на корабль… Беднягу убили во второй битве в Угольном Мешке… Я ничего не знаю об этих людях… — Адмирал посмотрел на Марджет Ву.
— По счастливой случайности, отец капитан, — проговорила та, — повторно изучая ваше дело, я посмотрела файлы. Сержант Грегориус проходит службу на Кольце Ламберта. Не сомневаюсь, что его перевод будет рассмотрен. Что касается капрала Ки… боюсь…
Де Сойя почувствовал дурноту. Ки был с ним на Роще Богов — Грегориуса тогда пришлось после неудачного воскрешения оставить в саркофаге, — и в последний раз он видел неунывающего коротышку капрала после возвращения на Пасем, когда полицейские увели его в другую камеру. Де Сойя долго тряс ему на прощание руку и уверял, что они непременно еще встретятся…
— Боюсь, что капрал Ки погиб два стандартных года назад, — договорила Ву. — Был убит во время нападения Бродяг на Клин Стрельца. Насколько я поняла, его наградили Серебряной звездой святого Михаила… посмертно, разумеется.
Де Сойя скорбно кивнул.
— Благодарю вас, — сказал он.
Адмирал Марусин одарил де Сойю отеческой улыбкой государственного деятеля и протянул через стол руку.
— Удачи, Федерико. Задайте Бродягам жару на своем «Рафаиле».
* * *
Штаб-квартира Гильдии торговцев располагалась не на самом Пасеме, а в точке Лагранжа, в шестидесяти орбитальных градусах над планетой. Между миром Ватикана и гигантским полым Тором — углеродным бубликом 270 метров толщиной, около километра в высоту и 26 километров в диаметре — дрейфовала половина имперских орбитальных баз. Как-то раз Кендзо Исодзаки вычислил, что ракета, запущенная с Тора торговцев, будет уничтожена ровно через 12,06 наносекунды.
Кабинет Исодзаки — светлая луковица на длинном угольно-черном стебле — возвышался на четыреста метров над внешним ободом Тора. Оболочку луковицы при желании можно было затемнить. Сегодня она была прозрачной, если не считать одну секцию, поляризованную, чтобы приглушить нестерпимый блеск желтого пасемского солнца. Из-за вращения Тора кабинет время от времени попадал в его тень, и тогда в бездонной черноте космоса зажигались звезды — словно кто-то отдергивал тяжелую штору, а за ней — тысячи ярких, немигающих свечей. «Или мириады костров во вражеском лагере», — подумал Исодзаки, когда в двадцатый раз за день наступила тьма.
Сегодня, когда стены были абсолютно прозрачны, его овальный кабинет казался островком, затерянным в черной безграничности космоса. Сверкали звезды, серебрился вдали Млечный Путь. Но отнюдь не это привычное зрелище занимало сейчас мысли главы Гильдии торговцев: среди звезд мазками исполинской кисти были прочерчены выхлопы трех грузовиков. Исодзаки настолько наловчился определять по ним скорость и расстояние, что с ходу мог сказать, что это за корабли и когда они пришвартуются. «Молдахар» дозаправился от газового гиганта в созвездии Эпсилон Эридана, и его след был краснее обычного. Капитан «Эммы Констант», как всегда, спешила доставить на Тор свой груз — стратегически важные металлы с Пегаса-51, — а потому тормозила с превышением всех допустимых норм. Самый короткий хвост принадлежал «Элемозинерии Апостолика», только что вышедшей из состояния С-плюс после квантового прыжка. Исодзаки знал наперечет все три сотни выходных апертур в этом секторе и мгновенно определил, что она прилетела из системы Возрождения.
Тем временем из пола возник прозрачный цилиндр лифта, и звезды осветили пассажира. Исодзаки знал, что цилиндр прозрачен только снаружи. Он набрал код, и дверца кабины отъехала в сторону.
Из лифта вышла Анна Пелли Коньяни. По команде Исодзаки ИскИн бесшумно закрыл за ней дверь. Даже не взглянув на звездное небо, ближайшая помощница и протеже главы Гильдии подошла к столу.
— Добрый день, Кендзо-сан.
— Добрый день, Анна. — Он жестом указал на самое удобное кресло.
Коньяни покачала головой и осталась стоять. Она никогда не садилась в кабинете Исодзаки. Исодзаки никогда не забывал предложить ей сесть.
— Месса Конклава скоро закончится, — сказала Коньяни.
Исодзаки кивнул. В то же мгновение ИскИн затемнил стены кабинета и включил трансляцию с Пасема.
Собор Святого Петра этим утром переливался алым, пурпурным, черным, белым — восемьдесят три кардинала, прибывших на Конклав, подходили к причастию, возвращались на свои места, преклоняли колени, молились, вставали, пели. А позади толпы кандидатов на папский престол стояли сотни епископов и архиепископов, дьяконов и сотрудников курии, военачальников и гражданских администраторов, делегаты от доминиканцев, иезуитов, бенедиктинцев, салезианцев и единственный представитель немногих оставшихся францисканцев. И наконец, в самых дальних рядах стояли почетные гости — делегаты от Гильдии торговцев, от «Опус Деи», от Ватиканского банка и представители Понтификальной академии наук. Повсюду виднелись пестрые мундиры швейцарских гвардейцев и палатинской стражи, командир тайной Дворянской гвардии — бледный темноволосый мужчина в красном мундире — стоял поодаль.
Исодзаки и Коньяни молча наблюдали пышное зрелище. Оба они были приглашены на мессу, но за последние несколько столетий у руководства Гильдии сложилась традиция почитать крупные церковные церемонии собственным отсутствием, посылая на них лишь своих официальных представителей. Оба они смотрели, как кардинал Куэзноль служит мессу, и оба видели в нем ту ничего не значащую марионетку, каковой он и являлся; все внимание Исодзаки и Анны Пелли Коньяни занимали кардинал Лурдзамийский, кардинал Мустафа и еще полдюжины сильных мира сего в первых рядах.
Прозвучало заключительное благословение, месса закончилась, и кардиналы торжественной процессией направились в Сикстинскую капеллу. В присутствии капитана швейцарских гвардейцев и префекта Ватикана двери капеллы были заперты и опечатаны. На этом прямая трансляция завершилась. Далее следовали комментарии и рассуждения на фоне закрытых дверей.
— Достаточно, — бросил Исодзаки.
Изображение исчезло, стены вновь растворились, и солнечные лучи заполнили комнату, повисшую над черной бездной.
Анна Пелли Коньяни едва заметно улыбнулась:
— Голосование будет недолгим.
Исодзаки вернулся к своему креслу.
— Анна, как по-вашему, мы — правление Гильдии торговцев — обладаем реальной властью?
На лице Коньяни отразилось недоумение.
— Судя по моим дивидендам за последний финансовый год, Кендзо-сан, наша прибыль составила тридцать шесть миллиардов марок.
Исодзаки сцепил пальцы в замок.
— Мадам Коньяни, — сказал он, — не будете ли вы так любезны снять пиджак и блузку?
Его протеже даже не моргнула. За все двадцать восемь стандартных лет их совместной работы — по сути, работы начальника и подчиненного — месье Исодзаки еще ни разу не дал повода заподозрить его в сексуальных домогательствах. Всего мгновение она колебалась, потом спокойно расстегнула пиджак, повесила его на кресло (то самое, в которое она никогда не садилась) и, стянув с себя блузку, аккуратно положила ее поверх пиджака.
Исодзаки встал, обошел стол и остановился в шаге от нее.
— У вас красивое белье. — Он снял с себя пиджак и расстегнул старомодную рубашку.
Коньяни стянула комбинацию, обнажив маленькую, прекрасной формы грудь с розовыми сосками.
Кендзо Исодзаки поднял руку, словно собираясь коснуться ее груди, — но не коснулся. Он приложил ладонь к собственному лиловому крестоформу.
— Вот, — проговорил он, — вот где власть. — Отвернувшись, он начал одеваться. Коньяни, пожав плечами, последовала его примеру.
Когда оба оделись, Исоздаки сел за стол и привычным жестом указал на кресло. К его молчаливому удивлению мадам Анна Пелли Коньяни села.
— Из ваших слов следует, — начала Коньяни, — что успешность или же безуспешность нашей попытки стать доверенными людьми нового Папы — если вообще когда-нибудь будет новый Папа — не имеет никакого значения. Главный рычаг — воскрешение — все равно останется в руках Церкви.
— Не совсем. — Исодзаки вновь сцепил пальцы. — Я утверждаю лишь, что тот, кто управляет крестоформом, управляет человеческой вселенной.
— Церковь… — Коньяни осеклась. — Ну конечно, крестоформ — только составляющая в равновесии сил. Техно-Центр открыл Церкви тайну воскрешения. Они в союзе с Церковью уже двести восемьдесят лет…
— У Техно-Центра свои цели, — тихо сказал Исодзаки. — Какие цели, Анна?
Кабинет погрузился во тьму. За стенами вновь вспыхнули звезды. Коньяни задумчиво смотрела на Млечный Путь.
— Кто знает? — ответила она наконец. — Закон Ома.
— Очень хорошо, — улыбнулся Исоздаки. — Путь наименьшего сопротивления может ведь привести нас не к Церкви, а к Техно-Центру?
— Но советник Альбедо не встречается ни с кем, кроме Папы и кардинала Лурдзамийского.
— Или встречается, но мы этого не знаем, — поправил Исодзаки. — Так или иначе, Техно-Центр вмешивается в дела человечества.
Коньяни кивнула. Она поняла недосказанное: сконструированные специалистами Гильдии ИскИны экстра-класса способны отыскать в инфосфере путь к Техно-Центру. Без малого триста лет главным девизом Церкви и Священной Империи было: «Не должно строить мыслящие машины, равные человеку или его превосходящие». ИскИны, используемые в Империи, были не «искусственными интеллектами», а «искусными инструментами», вроде тех, с которых все и началось почти тысячу лет назад: именно такой дебильный автомат стоял в кабинете Исодзаки, таким был и жизнерадостно-тупой компьютер на старом «Рафаиле» капитана де Сойи. Но последние десять лет в секретных лабораториях Гильдии торговцев проводились различные исследования, и результатом их стало воссоздание автономных ИскИнов, таких же, если не лучше тех, что были в эпоху Гегемонии. На карту было поставлено очень и очень многое, выигрыш означал абсолютную монополию во всех торговых операциях и нарушение издавна сложившегося равновесия между Флотом и Гильдией; проигрыш — отлучение, пытки в подвалах Инквизиции и неминуемую казнь.
Анна Пелли Коньяни встала.
— Боже мой, — проговорила она, — это явно будет последняя пробежка.
Исодзаки кивнул и снова улыбнулся.
— Анна, вам известно, откуда произошло это выражение?
— «Пробежка»? Нет… кажется, из спорта?
— Из древней агрессивной игры под названием «футбол».
Коньяни знала: все, что говорит шеф, имеет отношение к делу. Рано или поздно он сам объяснит, чем важна эта информация. Она молча ждала.
— У Церкви есть нечто, что хочет… в чем нуждается Техно-Центр, — сказал Исодзаки. — Укрощение крестоформа — их часть сделки. Церковь вынуждена отдать взамен нечто равноценное.
«Равноценное бессмертию миллиардов человеческих существ?» — подумала Коньяни.
— Я всегда полагала, — сказала она, — что, когда двести с лишним лет назад Ленар Хойт и кардинал Лурдзамийский вступили в контакт с выжившими элементами Техно-Центра, Церковь предложила со своей стороны тайно восстановить статус Техно-Центра в человеческой вселенной.
Исодзаки развел руками:
— Зачем, Анна? Где выгода Центра?
— Когда Центр был составной частью Гегемонии, он управлял Великой Сетью и мультилиниями и использовал нейроны человеческого мозга для создания Высшего Разума.
— Ах да, — проговорил учитель. — Но нуль-порталов больше нет. Если они используют людей… как? и где?
Анна Пелли Коньяни невольно приложила руку к груди.
Исодзаки усмехнулся:
— Раздражает, да? Как слово, которое вертится на кончике языка, но которое никак не вспомнить. Головоломка с утраченным фрагментом. Но этот утраченный фрагмент только что нашелся.
Коньяни подняла бровь:
— Девочка?
— Вернулась в Священную Империю, — сказал глава Гильдии торговцев. — Наши агенты, приближенные к кардиналу Лурдзамийскому, подтвердили, что Центру это известно. Она вернулась после смерти Его Святейшества… Знают только госсекретарь, Великий Инквизитор и командование Флота.
— Где она?
Исодзаки покачал головой:
— Если Техно-Центр это и знает, то не потрудился сообщить. Однако командование Флота вызвало того капитана — де Сойю…
— Центр предсказал, что он должен участвовать в поимке девочки, — едва заметно улыбнулась Коньяни.
— Ну и? — Исодзаки явно гордился своей ученицей.
— Закон Ома.
— Именно.
Женщина снова невольно прикоснулась к груди.
— Если мы первыми найдем девочку, мы получим рычаг… сможем вступить в переговоры с Центром. И еще средства — наши новые возможности… — Никто из руководства Гильдии не упоминал о секретном проекте вслух, даже в защищенных от прослушивания кабинетах. — Если у нас будет девочка и средства, — продолжила Коньяни, — у нас появится рычаг, чтобы потеснить Церковь в сделке Техно-Центра с человечеством.
— Если только мы выясним, что же дает Центру Церковь за контроль над крестоформами, — пробормотал Исодзаки. — И предложим то же самое… или нечто лучшее.
Коньяни рассеянно кивнула. Она видела, как все это связано с ее деятельностью координатора «Опус Деи».
«Любым путем», — внезапно поняла она.
— Тем временем мы должны первыми найти девочку… Флот, конечно, задействует свои средства, о которых никогда не узнают в Ватикане.
— Верно и обратное. — Исодзаки очень любил интеллектуальные игры.
— И мы тоже должны последовать их примеру, — сказала Коньяни, направляясь к лифту. — Все средства… — Она улыбнулась учителю. — Решающая игра на троих с нулевой суммой, так, Кендзо-сан?
— Именно, — кивнул Исоздаки. — Победителю достается все — власть, бессмертие, богатство, превосходящее всякое воображение. Проигравшему — полное разорение, истинная смерть и вечное рабство всех потомков. — Он поднял указательный палец. — Но игра — не на троих, Анна. На шестерых.
Коньяни остановилась у самого лифта.
— Я вижу только четверых… У Техно-Центра — свои причины первым отыскать девочку. Но…
— Мы должны допустить, что ребенок преследует собственные цели в этой игре, верно? И есть еще кто-то — или что-то, — кто ввел ее пешкой в эту игру… итак, вот вам шестой игрок.
— А может, это кто-то из пяти? — Коньяни улыбнулась. Она тоже любила азартные игры с высокими ставками.
Исодзаки кивнул и повернулся в кресле — смотреть сквозь прозрачную стену очередной восход. Он не оглянулся, когда закрылась дверь и Анна Пелли Коньяни уплыла в лифте из его кабинета.
Над алтарем Сикстинской капеллы Иисус Христос — лик Его неумолим и безжалостен — делит людей на праведных и неправедных, на благословенных и проклятых. Третьего не дано.
Кардинал Лурдзамийский, сидя в своем кресле под балдахином, разглядывал «Страшный Суд» Микеланджело. Христос на этой фреске всегда казался кардиналу устрашающим, властным и беспощадным — словом, идеальный наблюдатель за выборами первосвященника.
В маленькой часовне едва уместились восемьдесят три высоких деревянных кресла под балдахинами с восемьюдесятью тремя кардиналами. Оставшегося места как раз хватило для голограммы отсутствующих тридцати семи — если проецировать их по очереди.
Это было первое утро «сидения» кардиналов в Ватиканском дворце. Кардинал Лурдзамийский чувствовал себя свежим и бодрым — этой ночью он спал на жесткой кровати в своем Ватиканском кабинете, на завтрак монахини принесли ему в покои Борджа простую еду и дешевое белое вино. После трапезы все кардиналы собрались в Сикстинской капелле — каждый в своем кресле, занавески раздвинуты.
И вот час настал. Все кардиналы поднялись со своих мест. Рядом со столом декана коллегии кардиналов замерли голограммы тридцати семи отсутствующих. Из-за тесноты изображения были совсем маленькими — крохотные фигурки в кукольных домиках, парящие над полом, словно тени былого. Кардинал Лурдзамийский привычно улыбнулся: размеры изображений строго соответствовали рангу отсутствующих.
Папу Юлия всегда переизбирали единогласно. Один из помощников декана поднял руку: возможно, Дух Святой и направляет собравшихся, но без координации не обойтись. Рука опустилась, и восемьдесят три присутствующих кардинала и тридцать семь голограмм разом заговорили.
— Eligo! Отец Ленар Хойт! — закричал кардинал Лурдзамийский и оглянулся на кардинала Мустафу, выкрикивавшего те же слова из своей кабинки.
Декан коллегии кардиналов и его помощники замерли в ожидании. Выкрики были громкими и отчетливыми, но — и это совершенно очевидно — единодушия не наблюдалось. Впервые за двести семьдесят лет.
Кардинал Лурдзамийский не улыбался и не оглядывался по сторонам. Он и так знал, кто именно не стал выкрикивать имя Папы Юлия. Он знал, чем удалось подкупить этих мужчин и женщин. Он знал, чем они рискуют, и знал, что им почти наверняка придется расплачиваться. Кардинал Лурдзамийский знал все это потому, что именно он тайно дирижировал происходящим.
После недолгого совещания тот кардинал, по сигналу которого началось голосование, произнес:
— Будем считать голоса.
Пока готовили и раздавали бюллетени, кардиналы возбужденно переговаривались между собой. На памяти большинства из них еще ни разу не случалось ничего подобного. Тем временем почти все голографические изображения разом исчезли. Остались лишь те, кто догадался заранее подготовить для выборов интерактивные чипы.
Церемониймейстеры прошли вдоль старинных кресел, раздавая карточки. Помощники декана заглянули к каждому — убедиться, что у всех есть перо. Когда все было готово, декан снова поднял руку, открывая голосование.
Кардинал Лурдзамийский взглянул на карточку. В левом верхнем углу были напечатаны слова: «Eligo in Summum Pontificem».[115] Чуть ниже оставалось место для одного имени. Симон Августино кардинал Лурдзамийский вписал: «Ленар Хойт», сложил карточку и демонстративно поднял руку. Вслед за ним все восемьдесят два кардинала, присутствовавших лично, и с полдюжины интерактивных голограмм проделали то же самое.
Декан коллегии начал вызывать кардиналов по рангу. Кардинал Лурдзамийский первым встал с кресла и, преследуемый неотступным, пугающим взглядом Христа, направился к алтарю. У самого алтаря он осенил себя крестным знамением, опустился на колени и склонил голову в безмолвной молитве. Затем поднялся и громко произнес:
— Призываю в свидетели Господа нашего, Иисуса Христа, который судит все мои помыслы, намерения и действия, в том, что я отдаю свой голос за человека, достойного быть Его наместником.
Кардинал торжественно положил сложенную вдвое карточку на серебряное блюдо и, выждав несколько мгновений, опустил ее в ящик. Декан коллегии кивнул; кардинал Лурдзамийский снова преклонил колени перед алтарем и вернулся на место.
Кардинал Мустафа, Великий Инквизитор, прошествовал к алтарю — отдать свой голос…
Голосование длилось больше часа. Один помощник декана высыпал карточки на стол. Второй пересчитал — восемьдесят девять, включая шесть интерактивных, — и аккуратно переложил в другой ящик. Начался подсчет голосов.
Первый кардинал развернул карточку, переписал с нее имя и передал второму, тот, отметив карточку, протянул ее третьему и последнему — Куэзнолю. Куэзноль громко и отчетливо объявил имя и лишь затем сам расписался на бюллетене.
Кардиналы тотчас записали имя на скрайберы. После Конклава скрайберы соберут и файлы уничтожат, чтобы не осталось никаких записей о ходе выборов.
Итак, подсчет голосов продолжался. Кардинала Лурдзамийского — как и остальных присутствовавших — интересовало одно: смогут ли кардиналы-отступники реально ввести в игру новую фигуру.
Огласив очередное имя, Куэзноль одну за другой нанизывал карточки на нить, протыкая иголкой слово «eligo». Когда были зачитаны все бюллетени, на обоих концах нити завязали узлы.
Избранника пригласили в капеллу. Стоя у алтаря в простой черной сутане, он казался смиренным и несколько растерянным.
Встав, декан коллегии кардиналов спросил:
— Принимаешь ли ты свое каноническое избрание на Святой Престол?
— Да, принимаю, — ответил священник.
При этих словах перед ним поставили кресло с балдахином. Декан простер руки и возгласил:
— Принимая твое каноническое избрание, все собравшиеся — перед лицом Бога Всемогущего — признают тебя епископом римской Церкви, Папой и главой коллегии епископов. И да поможет тебе Господь.
— Аминь. — Кардинал Лурдзамийский потянул за шнур и опустил балдахин.
Балдахины опустили все восемьдесят три присутствовавших и тридцать семь голографических образов. Лишь новый Папа не опустил балдахина. Священник — теперь Верховный Понтифик — сидел в своем кресле, откинувшись на подушки.
— Какое имя ты избираешь для своего понтификата? — спросил декан.
— Я избираю имя Урбан Шестнадцатый, — ответил священник.
По капелле пронесся шепоток. Декан протянул руку, помог Папе подняться и вместе с помощниками вывел его из капеллы.
Кардинал Мустафа сказал, повернувшись к кардиналу Лурдзамийскому:
— Он, должно быть, имел в виду Урбана Второго. Урбан Пятнадцатый жил в двадцать седьмом веке — жалкий трус, способный только детективы читать да писать трогательные послания бывшей возлюбленной.
— Урбан Второй, — задумчиво протянул кардинал Лурдзамийский. — Да, конечно.
Через несколько минут декан и его помощники вернулись вместе со священником — теперь уже Папой, облаченным во все белое — белая сутана, белая шапочка, широкий белый пояс. Кардинал Лурдзамийский — как и все остальные — опустился на колени прямо на каменный пол, и новый понтифик дал свое первое благословение.
Карточки сожгли, предварительно плеснув в огонь bianco, чтобы дым был по-настоящему белым.
Кардиналы вышли из Сикстинской капеллы и направились древними коридорами в собор Святого Петра. Декан кардинальской коллегии объявил с балкона многотысячной толпе имя нового Папы.
Среди пятисот тысяч людей, собравшихся в то утро на площади Святого Петра, был отец капитан Федерико де Сойя. Его выпустили из ректория Легионеров Христа лишь несколько часов назад. Чуть позже, после полудня, ему надлежало явиться в космопорт Имперского Флота для отправки на корабль. Прогуливаясь по Ватикану, де Сойя внезапно оказался в толпе среди тысяч мужчин, женщин и детей, и толпа, как могучая река, вынесла его на площадь.
Когда показались первые клубы белого дыма, собравшихся охватило ликование. И без того немыслимое скопление народа под балконом Святого Петра стало каким-то образом еще гуще под напором тысяч и тысяч, стекавшихся из-под колоннады и с ближайших улиц. Сотни швейцарских гвардейцев с трудом сдерживали этот могучий натиск.
Декан кардинальской коллегии объявил об избрании нового Папы, Его Святейшества Урбана Шестнадцатого, и по площади прокатился вздох изумления. Де Сойя внезапно осознал, что стоит как в столбняке, открыв рот. Никто не сомневался, что новым Папой станет Юлий Пятнадцатый. Неужели?.. Нет, об этом даже думать нельзя.
Новый понтифик вышел на балкон, и изумленные возгласы сменились приветственными — возгласы нарастали, становились все громче и громче и никак не желали стихать.
Это был Папа Юлий — знакомое лицо, высокий лоб, печальные глаза… Отец Ленар Хойт, спаситель Церкви, вновь избран Папой. Его Святейшество поднял руку в привычном благословении и замер, ожидая тишины, но приветствия все не стихали, и рев эхом заполнил всю площадь.
«Почему Урбан Шестнадцатый?» — задумался отец капитан де Сойя. Будучи священником, принадлежа к обществу Иисуса, он достаточно хорошо изучил историю Церкви и сейчас мгновенно перебрал в уме всех Пап по имени Урбан. Почти все они ничем не прославились за годы понтификата. Почему…
— Проклятие! — воскликнул отец капитан де Сойя, но никто не расслышал его за многоголосым ревом толпы. — Проклятие! — повторил он.
Крики еще не стихли, и новый понтифик даже не начал говорить и еще не объяснил свой странный выбор, но де Сойя уже знал. И от этого знания у него заболело сердце.
Урбан Второй был Папой с 1088 по 1099 год от Рождества Христова. На соборе в Клермоне… кажется, в ноябре 1095 года… Урбан Второй провозгласил священную войну против мусульман на Ближнем Востоке, призвал к спасению Византии и к освобождению христианских святынь от мусульманского владычества. Его призыв привел к Первому крестовому походу… первой из многих кровопролитных кампаний.
Толпа наконец успокоилась. Папа Урбан Шестнадцатый заговорил — знакомый, наполненный новой силой голос парил над головами полумиллиона собравшихся и через ретрансляторы разносился по самым дальним уголкам Священной Империи Пасема.
Отец капитан де Сойя протискивался сквозь толпу, стремясь поскорее вырваться с тесной площади, запруженной народом, — его внезапно охватила клаустрофобия.
Бесполезно. Толпа стояла стеной, в радостном возбуждении внимая каждому слову понтифика. Отец капитан де Сойя остановился и склонил голову. Когда в толпе завопили: «Deus le volt!»,[116] де Сойя заплакал.
Крестовый поход. Слава. Окончательное решение проблемы Бродяг. Неисчислимые смерти. Невообразимые разрушения. Отец капитан де Сойя крепко зажмурился, но его по-прежнему преследовали видения: ослепительно яркие взрывы в бездонной черноте космоса, целые миры, охваченные огнем, океаны, превращающиеся в пар, и континенты, превращающиеся в кипящие потоки лавы; он видел горящие орбитальные леса, обугленные тела, парящие в невесомости, он видел хрупких, крылатых созданий, сгорающих в пламени и обращающихся во прах.
Отец капитан де Сойя плакал, окруженный ликованием полумиллионной толпы.
Глава 4
Я по опыту знал — труднее всего уходить и прощаться ночью.
Больше всего любят ночные операции в армии. Кажется, за время моей службы все важнейшие марш-броски в гиперионских силах самообороны начинались после полуночи. С тех пор предрассветная тьма у меня всегда ассоциируется с какой-то странной смесью возбуждения и страха, предвкушения и ужаса, и еще — с запахом опоздания. Энея сказала всем, что я должен уйти вечером, но ведь на сборы нужно время. Мы вылетели где-то в начале третьего и лишь перед самым рассветом достигли места назначения.
А ведь если бы Энея не объявила заранее о моем уходе, можно было бы обойтись без всей этой суеты и спешки. За четыре года очень многие в Талиесинском братстве привыкли во всем следовать советам Энеи. Но только не я. Мне было тридцать два. Энее — шестнадцать. Это я должен был опекать и защищать ее и — если уж на то пошло — указывать ей, что делать и когда. И мне совсем не нравился такой поворот событий.
Кроме того, я думал, что А.Беттик полетит с нами, но Энея сказала, что он должен остаться в лагере, и еще двадцать минут ушло на то, чтобы разыскать андроида и попрощаться с ним.
— Мадемуазель Энея говорит, что мы обязательно встретимся, — сказал он. — Значит, месье Эндимион, так оно и будет.
— Рауль, — в пятисотый раз поправил я его. — Зови меня Рауль.
— Хорошо. — А.Беттик едва заметно улыбнулся: не будет он меня слушаться.
— Иди ты в задницу! — Я пожал ему руку. Мне очень хотелось обнять старого друга, но я знал, что это лишь смутит его. Не могу утверждать, что андроиды в буквальном смысле слова запрограммированы на роль холодного чопорного слуги — в конце концов, они не роботы, а живые органические существа, — но по сути своей они все равно безнадежно официозны. Уж этот-то по крайней мере точно.
Ну вот, а потом мы отправились в путь: вывели катер из ангара в ночную пустыню и тихо-тихо — как только можно было — взлетели. Мне не удалось попрощаться со всеми — время было позднее и многие легли спать. Но я тешил себя надеждой, что еще встречу кого-нибудь из старых друзей на своем пути. Впрочем, на самом-то деле надежды было мало.
Катер мог бы долететь до цели и на автопилоте — Энея ввела в компьютер все координаты, — но я включил ручное управление, чтобы хоть чем-то занять себя и отвлечься. Нам предстояло преодолеть около полутора тысяч километров. Мы бы запросто покрыли это расстояние за десять минут, если бы не необходимость экономить энергию, а так пришлось максимально раздвинуть крылья и лететь на субзвуковой скорости в десяти километрах над поверхностью. Мы приказали бортовому компьютеру помалкивать и откинулись в креслах, наблюдая, как проносится внизу ночной материк.
— Детка, куда мы так торопимся? — спросил я.
Энея задумчиво повела рукой — я знал этот жест уже пять лет.
— Главное — начать. — Сейчас ее голос звучал совсем тихо, почти безжизненно, в нем не осталось и следа той бодрости и энергии, которая всех в Талиесинском братстве заставляла следовать ее воле. Возможно, я был единственным, кто это почувствовал, только мне в ее голосе послышались слезы.
— Ну конечно… Взять и выгнать меня глухой ночью…
Энея покачала головой и отвернулась к черному ветровому стеклу. И я понял, что она действительно плачет. Когда она повернулась, в мокрых глазах отразились на миг красные огоньки приборов.
— Если ты не отправишься сегодня, я не выдержу и попрошу тебя не уходить. А если ты не уйдешь, я снова не выдержу и останусь на Земле… и никогда не вернусь.
В эту секунду мне безумно захотелось взять ее за руку, но я только крепче сжал штурвал.
— Эй, мы же можем вернуться вместе. Я вообще не вижу смысла уходить порознь.
— Смысл есть, — прошептала Энея так тихо, что мне пришлось склониться к ней — иначе бы я не расслышал.
— За кораблем мог бы съездить А.Беттик. А мы с тобой останемся на Земле до тех пор, пока не поймем, что готовы вернуться…
Энея покачала головой:
— Я никогда не буду готова вернуться, Рауль. Мне просто до смерти страшно!
Перед глазами у меня пронеслась вся наша лихая скачка по планетам — погони, перестрелки, факельщики, истребители, морские пехотинцы, швейцарские гвардейцы и та тварь, что чуть не прикончила нас на Роще Богов, — и я сказал:
— И мне страшно, детка. Может, нам лучше остаться? Здесь они не смогут добраться до нас.
Энея посмотрела на меня, и я узнал это выражение: нет, не упрямство, просто уверенность в том, что решение принято и говорить больше не о чем.
— Ладно. Но ты не ответила, почему А.Беттик не может сесть в этот каяк, проплыть по реке Тетис и привести корабль. И почему мне нельзя телепортироваться вместе с тобой.
— Я ответила. Ты просто не слушал. — Энея поежилась. — Рауль, если ты уйдешь и мы договоримся встретиться в определенное время в определенном месте в пространстве Ордена, мне придется телепортироваться отсюда и сделать то, что я сделать должна. А то, что я должна сделать сейчас, я должна сделать одна.
— Энея…
— Что?
— Ты хоть сама догадываешься, что это полный бред?
Девочка не ответила. Под нами, чуть левее, промелькнули костры какого-то лагеря. Я поглядел на них и прибавил:
— Не знаешь, что за эксперимент проводят там твои инопланетные друзья?
— Не знаю. И они не инопланетные друзья.
— Не инопланетные? Или не друзья?
— Ни то и ни другое. — Пожалуй, она впервые дала столь четкое определение тому богоподобному разуму, что похитил Старую Землю — и нас вместе с ней.
— Расскажи что-нибудь об этих не-инопланетных не-друзьях, — попросил я. — В конце концов все может случиться… Не факт, что я доберусь до назначенного места встречи. А знаешь, мне бы хотелось узнать их тайну, пока я еще не ушел.
Не успел я закончить фразу, как тут же пожалел о своих словах. Энея вздрогнула как от удара.
— Прости, детка. — На этот раз я все-таки взял ее за руку. — Прости, я не хотел. Просто я очень зол.
Энея кивнула, и я снова увидел слезы на ее глазах.
Мысленно отвесив себе подзатыльник, я сказал:
— В Талиесине все были уверены, что эти инопланетяне — великодушные, богоподобные создания. Люди говорят: «Львы, и тигры, и медведи», а думают «Иисус, и Яхве, и И.П.» — ну тот, из старого фильма, который нам показывал мистер Райт. И все были уверены — когда братству придет конец, они явятся и отведут нас домой, к маме. Никакой опасности. Никакого переполоха. Никакого психоза.
Энея улыбнулась сквозь слезы.
— Люди ждут явления Иисуса, и Яхве, и И.П., которые придут спасать их задницы, уже давно, задолго до того, как, научившись прикрывать вышеозначенные задницы медвежьими шкурами, вылезли из пещер. Придется им подождать еще немного. Это наше дело… наша битва… и мы сами должны заботиться о себе.
— Чья «наша»? Ты, я и А.Беттик против восьмисот миллиардов возрожденных христиан? — горестно спросил я.
Энея снова изящно махнула рукой.
— Ага, — сказала она. — Пока — так.
Там, где мы приземлились, мало того что было темно, так еще и лил дождь — холодный, противный осенний дождь. Миссисипи — большая река, одна из самых больших на Старой Земле; катер долго кружил над водой, пока наконец не приземлился в маленьком городе на западном берегу. Я следил за посадкой по монитору — в залитом дождем иллюминаторе царила непроглядная тьма.
Мы пролетели над холмом, покрытым голыми деревьями, потом — над узким асфальтированным мостом и приземлились метрах в пятидесяти от берега, на мощенной камнем площади. Городок лежал в распадке между лесистыми холмами, и я разглядел на мониторе маленькие деревянные домики, кирпичные пакгаузы и несколько высоких зданий у самой реки — должно быть, силосные башни. Словом, самая обычная архитектура девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого столетий, характерная для этой части Старой Земли: то ли этот город почему-то миновали землетрясения и пожары Эпохи Бед, то ли львы, и тигры, и медведи восстановили его — не знаю. Узкие улочки были совершенно пусты, и инфракрасный датчик не обнаружил поблизости ни живых существ, ни работающих двигателей — но опять-таки было ведь всего полпятого утра, дикий холод и дождь. Кто, будучи в здравом уме и твердой памяти, выйдет из дома до рассвета в такую погоду?
Мы накинули пончо, я подхватил свой рюкзачок и попрощался с катером:
— Пока, Корабль. Веди себя прилично.
Мы спустились по трапу в дождливую ночь.
Энея помогла мне вытащить из багажника каяк, и мы двинулись вниз, к реке, по мощенной камнем улочке. В прошлый раз у меня были очки ночного видения, какое-никакое оружие и крепкий плот со всякими приспособлениями. А сейчас — только лазерный фонарик, единственное, что напоминало о нашем путешествии на Землю (поставленный на минимум, луч освещал скользкую от дождя брусчатку метра на два перед нами), охотничий нож навахо в рюкзаке, несколько сандвичей и пакет с сухофруктами.
Я был вполне готов выступить против Ордена.
— Что это за город? — спросил я.
— Ганнибал, — ответила Энея, пытаясь удержать скользкий каяк.
Пришлось мне взять фонарик в зубы и подхватить проклятую лодчонку второй рукой. И лишь когда мы добрели до берега и я, опустив каяк на землю, снова взял фонарь в руку, я наконец сказал:
— А, Сент-Питерсберг.
Недаром я столько часов провел в талиесинской библиотеке за чтением древних печатных книг.
Энея задумчиво кивнула.
— Это безумие. — Я повел лучом фонарика вдоль пустынной улицы, по кирпичной стене пакгауза, вниз, к темной реке. Течение было ужасающе быстрым. Только безумец мог рискнуть пуститься в плавание.
— Да, — согласилась Энея. — Безумие.
Холодные струи дождя стекали с ее капюшона.
Я обошел каяк и взял ее за руку.
— Ты видишь будущее. Когда мы должны встретиться снова?
Она стояла, опустив голову, и я не видел ее лица. В руке, которую я отчаянно сжимал сквозь полу пончо, жизни было не больше, чем в засохшей ветке. Она что-то проговорила, но так тихо, что я ничего не расслышал сквозь шум дождя и рев воды.
— Что? — переспросил я.
— Я невижу будущее. Я помню отдельные его фрагменты.
— Какая разница?
Энея вздохнула и подошла поближе. Было холодно, и наше дыхание, превращаясь в пар, в самом буквальном смысле слова смешивалось в воздухе. От тревожного ожидания отчаянно забилось сердце.
— Разница в том, — объяснила она, — что видение — однозначно, воспоминание… ну, это совсем другое.
Я покачал головой. Дождь, стекая с капюшона, заливал мне глаза.
— Не понимаю.
— Помнишь день рождения Бетс Кимбол? Когда Джев играл на рояле, а Кикки упился до бесчувствия?
— Ну? — Меня уже раздражала эта дискуссия — посреди ночи, посреди дождя, посреди нашей разлуки.
— Когда это было?
— Что?
— Когда это было? — повторила она. Позади нас воды Миссисипи вырывались из мрака, чтобы в следующее мгновение вновь исчезнуть, умчаться во мрак со скоростью монорельсового поезда.
— В апреле. Нет, в начале мая. Точно не помню.
Энея кивнула.
— А как был одет в тот вечер мистер Райт?
У меня еще ни разу не возникало такого желания наорать на Энею или отшлепать ее. Ни разу — до этой минуты.
— Откуда мне знать? Зачем вспоминать?
— А ты попробуй.
Я тяжело вздохнул и устремил взгляд на темные холмы в черноте ночи.
— Вот дерьмо, ну не помню я… в сером шерстяном костюме? Да, точно, помню, он стоял у рояля, и на нем был серый шерстяной костюм. Ну тот, с большими пуговицами.
Энея снова кивнула.
— День рождения Бетс мы отмечали в середине марта, — проговорила она сквозь завесу дождя. — А мистер Райт не пришел, потому что простудился.
— Ну и? — Я уже знал, к чему она ведет.
— Ну и я помню отдельные фрагменты будущего, — повторила она, и в ее голосе послышались слезы. — Я боюсь полагаться на эти воспоминания. Если я скажу, когда мы должны встретиться снова, это может оказаться как серый костюм мистера Райта.
Одну долгую минуту я молчал. Капли дождя колотили по воде, словно крохотные кулачки по крышке гроба. Наконец я кивнул:
— Угу.
Энея подошла совсем близко и обвила меня руками. Зашуршали, соприкоснувшись, наши пончо. Я почувствовал, как пробежала дрожь у нее по спине. Она отступила на шаг:
— Дай мне, пожалуйста, фонарик.
Я молча протянул ей фонарь. Энея откинула нейлоновый фартук на крохотном кокпите каяка и осветила вделанную в фибропластовый корпус деревянную панель. На панели была единственная красная кнопка.
— Видишь?
— Ага.
— Не трогай ее, что бы ни случилось.
Скажу честно, это меня здорово рассмешило. Среди книг, которые я прочел в библиотеке Талиесина, были абсурдистские пьесы типа «В ожидании Годо». У меня возникло ощущение, что нас здесь затопило потоком сюра и абсурда.
— Я серьезно, — сказала Энея.
— Зачем нужна кнопка, если ее нельзя трогать? — поинтересовался я, вытирая мокрое от дождя лицо.
Энея покачала головой:
— Не трогай ее до тех пор, пока у тебя не останется иного выхода.
— А как я узнаю, детка, что иного выхода не осталось?
— Узнаешь. — Она еще раз обняла меня. — Давай-ка лучше спустим лодку на воду.
Я наклонился, чтобы поцеловать ее в лоб. За последние несколько лет я делал это десятки раз — провожая ее в «отлучки», встречая, просто чтобы понять, какая у нее температура, когда она болела. Но сейчас, когда я наклонился, Энея подняла голову, и я в первый раз, сам того не ожидая, поцеловал ее в губы.
Кажется, я говорил уже, что во взгляде Энеи было куда больше силы, чем в прикосновении любого другого человека… что ее прикосновение было подобно электрическому разряду. А этот поцелуй… он был сильнее ее взгляда и прикосновения. В ту ночь, в Ганнибале, на западном берегу реки Миссисипи, на планете, которая когда-то звалась просто Земля, затерянной где-то в Малом Магеллановом Облаке, в темную дождливую ночь мне было тридцать два года, и за все тридцать два года я еще ни разу не испытал такого потрясения, каким стал этот наш первый поцелуй.
Я отпрянул. В луче фонаря я увидел, как блестят ее темные глаза… В них светилось озорство и еще, возможно, облегчение, словно закончилось долгое ожидание, и еще что-то…
— До свидания, Рауль! — Она приподняла корму каяка.
Совершенно ошалевший, я толкнул лодку в темную воду и, подтянувшись на руках, нырнул в кокпит. А.Беттик рассчитал все идеально: лодка была как раз по мне, как хороший костюм. Я устроился так, чтобы при гребле не задеть, случаем, красную кнопку. Энея толкнула каяк, и он закачался на воде. Она протянула мне весло, потом — рюкзак, потом — фонарь.
Я направил луч на разделившую нас темную воду.
— Где портал? — Собственный голос показался мне вдруг чужим и далеким. Все мои мысли, все чувства до сих пор были заняты ее поцелуем. Мне тридцать два года. Этому ребенку едва исполнилось шестнадцать. Мой долг — охранять и защищать ее до тех пор, пока в один прекрасный день мы не вернемся на Гиперион, к старому поэту. Нет, это просто безумие.
— Ты его непременно увидишь, — сказала Энея. — Вскоре после рассвета.
Значит, плыть придется не один час. Настоящий театр абсурда.
— А что я должен делать после того, как найду корабль? Где мы встречаемся?
— На планете Тянь-Шань. Это значит «Небесные горы». Корабль должен знать, как найти ее.
— Это в пространстве Ордена?
— На самой границе, — ответила Энея. — Когда-то она была на Окраине Гегемонии. Орден включил Тянь-Шань в свой протекторат и обещал прислать миссионеров, но покорить планету ему пока не удалось.
— Тянь-Шань, — повторил я. — Ладно. Как я тебя там найду? Планеты — они большие.
Ее темные глаза блестели в свете фонарика — то ли от дождя, то ли от слез, а может, от того и другого вместе.
— Ищи гору под названием Хэн-Шань… Священную Гору Севера. Рядом с ней — Цыань-кун-Су — Храм-Парящий-в-Воздухе. Я буду там.
Я рубанул воздух кулаком.
— Класс! Значит, мне всего-то и нужно будет заглянуть в местные казармы Ордена, спросить, где тут Храм-Парящий-в-Воздухе, а ты будешь парить там, поджидая меня.
— На Тянь-Шане всего несколько тысяч гор, — произнесла она ровным, печальным голосом. — И всего несколько городов. Корабль сам найдет Хэн-Шань и Цыань-кун-Су с орбиты. Приземлиться тебе там не удастся, но ты сможешь сойти с Корабля.
— Почему мне не удастся там приземлиться? — спросил я, раздраженный всеми этими головоломками в головоломках.
— Увидишь, Рауль. — В ее голосе были слезы. — Пожалуйста, уплывай.
Течение пыталось увлечь лодку на середину реки, но я отчаянно выгребал вдоль берега. Энея шла вдоль кромки воды, на шаг позади меня. Небо на востоке как будто слегка посветлело.
— Ты уверена, что мы встретимся? — прокричал я сквозь стену дождя.
— Я ни в чем не уверена, Рауль.
— Даже в том, что мы оба переживем все это? — Я не знал, что значит «это». И даже не знал, что значит «переживем».
— А в этом — особенно, — сказала девочка, и я увидел знакомую улыбку, полную озорства, предчувствия, печали и какой-то удивительной мудрости.
Течение уносило меня прочь.
— Сколько времени уйдет на поиски Корабля?
— Думаю, всего несколько дней, — прокричала она. Нас разделяло уже несколько метров, а течение несло меня на стремнину.
— А когда я найду Корабль… сколько лететь до Тянь-Шаня?
Энея что-то прокричала в ответ, но ее голос затерялся в плеске волн о борта моей маленькой лодки.
— Что?! — завопил я. — Не слышу!
— Я люблю тебя! — И ее голос отчетливо и звонко прокатился над темной водой.
Течение подхватило лодку и понесло. Я не мог говорить. Руки не слушались.
— Энея!
Я направил луч света на берег, в темноте промелькнуло ее пончо, а потом луч выхватил бледный овал лица, полускрытый капюшоном.
— Энея!
Она что-то крикнула, помахала рукой. Я помахал в ответ.
Течение становилось все сильнее. Я отчаянно заработал веслом, чтобы не врезаться в дерево, зацепившееся корнями за песчаную отмель, а потом меня вынесло на стремнину и помчало на юг. Я оглянулся, но Энею уже скрыли от меня последние дома Ганнибала.
Через минуту я услышал гул двигателей, быстро глянул на небо — надо мной пронеслась какая-то тень. Может быть — тень ее катера. А может — дождевая туча.
Река уносила меня на юг.
Глава 5
Отец капитан де Сойя покинул систему Пасема на звездолете «Рагуил» — крейсере класса «архангел», точной копии корабля, на который он был назначен командиром. Чудовищное ускорение квантового двигателя, известного в Священной Империи как двигатель Гидеона, убило де Сойю мгновенно. Воскрес он не за три, а за два дня — риск был велик, но распоряжения командования не предусматривали задержек, — и очнулся на стратегической космической станции «Омикрон2-Эпсилон3» на орбите мертвой, каменистой планеты, вращавшейся во мраке космоса на бывшей Окраине, между Эпсилоном Эридана и Эпсилоном Индейца, в дюжине световых лет от того места, где когда-то была Старая Земля.
Де Сойе дали сутки на сборы, после чего он был доставлен на пересадочный пункт, в сотне тысяч километров от военной базы. Девушка-мичман, пилотировавшая катер, отклонилась от стандартной траектории, чтобы капитан мог как следует разглядеть свой новый корабль, и де Сойю полностью захватило открывшееся ему зрелище.
«Рафаил», вне всяких сомнений, был чудом современной техники, не воссоздание — как все имперские корабли, которые прежде видел де Сойя, — и не развитие технических достижений Гегемонии. Судя по внешнему дизайну, корабль был создан для работы в полном вакууме, но, несмотря на сложность конструкции, оставалось четкое ощущение смертоносной стремительности. Корпус состоял из сочетания морфосплавов и островков энергетического поля и мог мгновенно менять форму — всего несколько лет назад такое казалось немыслимым. Пока катер медленно летел по баллистической дуге мимо «Рафаила», де Сойя наблюдал, как длинный корабль из серебристо-хромового становится матово-черным, практически исчезая из поля зрения. Гладкий фюзеляж поглотил все орудийные рубки и жилые каюты, оставив лишь орудийные блистеры и зонды силовых полей. Либо звездолет готовился к квантовому прыжку, либо офицеры на борту прекрасно знали, что в катере летит их новый капитан, и устроили небольшое шоу.
Де Сойя знал: и первое, и второе предположение в равной степени соответствуют истине. Перед тем как крейсер сделался абсолютно черным, де Сойя успел заметить сферы термоядерных двигателей, висевшие гроздьями жемчужин вдоль центральной оси; на «Бальтазаре», факельщике, которым когда-то командовал де Сойя, двигатели были все собраны вместе. Еще он заметил, насколько меньше двигатели Гидеона тех, что были на старом «Рафаиле». И последнее, что он успел заметить, — мерцание огней в исчезающих полупрозрачных кубриках и абсолютно прозрачный купол капитанского мостика. Из инструкций, полученных перед вылетом в штабе Флота, де Сойя знал: в боевых условиях все прозрачные участки покрываются толстым слоем брони, но он всегда ценил возможность полюбоваться сквозь невидимые стены бездонным космосом.
— Приближаемся к «Уриилу», сэр, — сообщила девушка-пилот.
Де Сойя кивнул. Издалека «Уриил» казался близнецом нового «Рафаила», но, когда катер подлетел ближе, стали заметны дополнительные омега-генераторы, добавочные антенны и купол конференц-зала — все, что положено флагманскому кораблю.
— Приготовьтесь, сэр, швартуемся.
Де Сойя снова кивнул и опустился в антиперегрузочное кресло второго пилота. Стыковка прошла настолько гладко, что он практически не почувствовал толчка. Де Сойе очень хотелось похвалить молодого пилота, но привычки бывалого командира взяли верх.
— В следующий раз, — сказал он, — приближаясь к кораблю, не тяните с торможением до последней секунды. На флагмане не одобряют показательных выступлений.
Улыбка сошла с ее лица. Де Сойя положил руку ей на плечо.
— А в остальном — хорошая работа. Я бы взял вас пилотом к себе на корабль.
У девушки засверкали глаза.
— Спасибо, сэр. Об этом можно только мечтать. Эта работа на станции… — Она осеклась, сообразив, что сказала слишком много.
— Знаю. — Де Сойя направился к шлюзу. — Знаю. Но сейчас — радуйтесь, что вы не участвуете в крестовом походе.
Шлюз распахнулся, и почетный караул проводил отца капитана де Сойю на борт «Уриила», названного — если де Сойя не ошибался — именем ветхозаветного предводителя небесного воинства.
В девяноста световых годах от «Уриила» и всего лишь в трех световых годах от Пасема на гигантской скорости вышел из подпространства старый «Рафаил». При таком ускорении выдавливается костный мозг из человеческих костей, разрушаются клетки человеческого организма, размазываются нейроны человеческого мозга. Радаманта Немез и ее клоны не испытывали приятных ощущений, но ни один из них не вскрикнул и даже не поморщился.
— Что это за место? — спросила Немез, разглядывая бурую планету, которая заполняла экран. «Рафаил» тормозил при 230 g. Немез не села в амортизационное кресло — она повисла на поручне с небрежностью кондуктора, пробирающегося по переполненному автобусу.
— Свобода, — ответил ее близнец.
Немез кивнула. Больше никто ничего не говорил, пока «архангел» не вышел на орбиту и от него не отделился катер, с визгом устремившийся в разреженную атмосферу.
— Он будет здесь? — спросила Немез. От ее висков тянулись к пульту управления оптоволоконные нити.
— О да, — ответила ее двойняшка.
На Свободе жила горстка людей, но после Падения всем пришлось укрыться в силовых куполах в сумеречной зоне, и у них не было техники, способной отследить «архангел» или планетарный катер. В этой системе не было ни одной имперской базы. Между тем на солнечной стороне этого скалистого мира даже свинец кипел, как вода; а на теневой стороне разреженный воздух был близок к точке замерзания. Однако в недрах непригодной для жилья планеты на восемьсот с лишним тысяч километров протянулись туннели, каждый — квадратного сечения со стороной тридцать метров. Свобода была одним из девяти миров-Лабиринтов, открытых еще на заре Хиджры и исследованных в эпоху Гегемонии. К этим девяти мирам принадлежал и Гиперион. И ни один человек не знал тайну создателей этих Лабиринтов.
Катер миновал завесу аммиачного ливня на теневой стороне, завис на мгновение перед отвесной стеной льда, которую можно было различить только с помощью сверхчувствительных датчиков, сложил крылья и устремился к квадратному отверстию Лабиринта. После первого поворота туннель на многие километры протянулся прямо как стрела. Под ним радар показывал паутину других переходов. Катер пролетел три километра и на первом же перекрестке свернул влево, еще пять километров на юг, полкилометра вниз — и Немез посадила катер.
Инфракрасный датчик уловил тепло только от остывающей лавы. Немез увеличила чувствительность прибора. Пустота. Нахмурившись, она включила бортовые прожекторы.
Идеально прямой коридор уходил в бесконечность, теряясь во мраке, вдоль стен — ряды каменных плит, и на каждой плите — обнаженное человеческое тело. Немез бросила взгляд на экран радара: под ними — такие же прямые туннели, каменные плиты, обнаженные тела.
— Выходим, — сказал мужской клон Радаманты — тот, что вытащил ее из озера лавы на Роще Богов.
Немез не стала возиться со шлюзом. Воздух с ужасающим ревом вырвался из катера. В подземелье сохранились остатки атмосферы — очень разреженной, хуже, чем на Марсе, — но для Немез этого было достаточно. Ее датчики показали температуру: минус 162 градуса по Цельсию.
У стены, освещенный бортовыми прожекторами, стоял человек.
— Добрый вечер, — сказал советник Альбедо — высокий мужчина в безупречном сером костюме, сшитом по последней пасемской моде. Он общался напрямую, на частоте 75 мегагерц. Губы Альбедо не шевелились, улыбка обнажала ровные белые зубы.
Немез молча ждала. Она знала: ни выговора, ни наказания больше не будет. Три Сектора готовили ей новое задание.
— Девочка, Энея, вернулась в Священную Империю, — сказал Альбедо.
— Куда именно? — спросила двойняшка Немез. В ее ровном голосе чувствовалось нетерпение.
Советник Альбедо развел руками.
— Портал… — начала Немез.
— На этот раз ничего нам не сообщил. — Советник по-прежнему улыбался.
Немез нахмурилась. За все века существования Великой Сети Три Сектора Техно-Центра так и не научились пользоваться порталами, не оставляя следа.
— Кое-Что-Еще… — проговорила она.
— Разумеется. — Альбедо резко махнул рукой, прекращая бессмысленные разговоры. — Но нам по-прежнему никто не мешает регистрировать сам факт связи. И мы уверены, что девочка — среди тех, кто возвращается через порталы Сети со Старой Земли.
— Есть и другие? — спросил мужской клон Немез.
Альбедо кивнул.
— Сначала было немного. Теперь — больше. По последним данным — не менее пятидесяти случаев.
Немез скрестила руки на груди.
— Вы полагаете, что Кое-Что-Еще завершает эксперимент со Старой Землей?
— Нет. — Альбедо подошел к ближайшей плите и посмотрел на обнаженное человеческое тело — молодая женщина, лет восемнадцати, не больше. Рыжеволосая, на бледной коже и на веках — слой инея. — Нет, — повторил он. — Секторы сходятся на том, что возвращается только группа Энеи.
— Как нам ее найти? — задумчиво спросила двойняшка Немез. — Мы могли бы прыгнуть на каждый из миров, где есть порталы, и лично опросить каждый.
Альбедо кивнул.
— Кое-Что-Еще способно скрыть местонахождение конечного портала. Однако Центр почти уверен, что закрыть доступ к матрицам памяти оно не в состоянии.
«Почти уверен», — повторила про себя Немез. Непривычная формулировка для Техно-Центра.
— Мы хотим, чтобы вы… — начал Альбедо, указывая пальцем на двойняшку Немез. — Ортодоксы не дали вам имен, так?
— Нет, — ответила та. На ее бледный лоб падали мягкие темные пряди. На тонких губах не было даже тени улыбки.
Альбедо хмыкнул.
— Радаманте Немез имя было нужно, чтобы войти в команду «Рафаила». Думаю, имена понадобятся и остальным. Хотя бы для моего удобства. — Альбедо указал на женщину: — Скилла. — Затем повернулся к мужчинам: — Гиес. Бриарей.
Все трое никак не отреагировали на это крещение.
— Вас это забавляет, советник? — спросила Немез.
— Да, — ответил Альбедо.
Воздух, вырывавшийся из катера, конденсировался вокруг них зловещим туманом. Тот, кого отныне звали Бриарей, сказал:
— Мы возьмем этот «архангел» и обследуем все миры старой Сети. Мне кажется, начать следует с планет реки Тетис.
— Да, — согласился Альбедо.
Скилла постучала ногтем по замерзшей ткани комбинезона.
— С четырьмя кораблями поиск пойдет в четыре раза быстрее.
— Естественно, — кивнул Альбедо. — Мы отказались от этого по нескольким причинам — в первую очередь из-за того, что у Флота не так уж много свободных «архангелов», которые можно было бы одолжить.
Немез подняла бровь.
— Разве Техно-Центр когда-нибудь просил Империю об одолжении?
— Нам нужны их деньги, заводы и человеческие ресурсы для постройки кораблей, — очень спокойно ответил Альбедо. — Вторая — и главная — причина в том, что мы не хотим разъединять вас на случай, если придется встретиться с кем-то — или с чем-то, — с кем — или с чем — вы в одиночку не справитесь.
Немез по-прежнему стояла, подняв бровь. В словах советника она услышала намек на ее провал на Роще Богов.
— С чем во всей Священной Империи мы можем не справиться, советник? — спросил Гиес.
И вновь человек в сером костюме развел руками. Клубы тумана за его спиной разошлись, открыв бледные тела на каменных плитах.
— Со Шрайком.
Немез фыркнула:
— Я побила его голыми руками.
Альбедо, все так же улыбаясь, покачал головой.
— Нет, — сказал он. — Ты воспользовалась нашим гиперэнтропийным устройством, чтобы отправить его на пять минут в будущее. А это не то же самое, что побить голыми руками.
— Шрайк больше не подчиняется Высшему Разуму? — спросил Бриарей.
Альбедо в последний раз развел руками.
— Боги грядущего больше не общаются с нами, мой дорогостоящий приятель. Они воюют друг с другом, и эхо их сражений разносится во времени. Если дело нашего бога должно быть выполнено в наше время, мы должны выполнить его сами. — Советник обвел взглядом четверых киборгов. — Инструкции понятны?
— Найти девчонку, — сказала Скилла.
— И? — спросил советник.
— Убить ее, — ответил Гиес. — Без колебаний.
— А если вмешаются ее последователи? — Улыбка Альбедо стала еще шире, а голос звучал пародией на школьного учителя.
— Убить их, — отозвался Бриарей.
— А если появится Шрайк? — Улыбка внезапно пропала.
— Уничтожить, — сказала Немез.
Альбедо кивнул.
— Еще вопросы есть?
— Сколько здесь человек? — показала Скилла на плиты с телами.
Советник Альбедо потер подбородок.
— Несколько десятков миллионов на этой планете, в этой секции Лабиринта. Но здесь много секций. — Он снова улыбнулся. — И еще восемь миров-Лабиринтов.
Медленно повернув голову, Немез посмотрела сквозь туман на уходящие в бесконечность ряды плит. Датчики показывали, что температура тел равнялась температуре воздуха.
— Это работа Ордена, — заключила она.
Альбедо хмыкнул:
— Разумеется. Зачем Трем Секторам Сознания или грядущему Высшему Разуму складировать человеческие тела? — Он подошел к телу рыжеволосой женщины и постучал по застывшей груди. Воздух в туннеле был слишком разреженным, чтобы в нем разносился звук, но Немез почудилось, будто она слышит скрежет ногтя по холодному мрамору.
— Еще вопросы? — справился Альбедо. — У меня важная встреча.
Ни слова не говоря, четверо киборгов повернулись и вошли в катер.
* * *
В тактическом центре «Уриила» собрались двадцать офицеров Флота: капитаны кораблей эскадры и все первые помощники. Среди помощников был и командор Хоган Жабер по прозвищу Жаба. Тридцати шести стандартных лет, возрожденный христианин с Малого Возрождения, отпрыск некогда могущественного рода, чьи владения покрывали два с половиной миллиона гектаров — и чей нынешний долг составлял почти пять марок на гектар, Жабер посвятил свою жизнь служению Церкви и отдал свои профессиональные таланты Флоту. Кроме того, он был шпионом и потенциальным убийцей.
Он с любопытством поглядывал на своего нового командира. Все в эскадре — едва ли не все на Флоте — были наслышаны об отце капитане де Сойе. Бывшему командиру факельщика пять лет назад доверили папский диск — символ практически неограниченной власти, и дали сверхсекретное задание, и де Сойя это задание провалил. В чем состояло задание, никто толком не знал, но из-за папского диска отец капитан нажил немало врагов во всем Имперском Флоте. Его последующий провал и внезапное исчезновение послужили поводом для множества догадок, почти все сходилось на том, что де Сойю отдали в руки Инквизиции, отлучили от Церкви и скорее всего казнили.
Но сейчас он стоял здесь, в тактическом центре, и ему было поручено командование величайшей ценностью — крейсером класса «архангел».
Внешность де Сойи удивила Жабера: невысокий, темноволосый, с печальными глазами, больше подходившими святому великомученику с древней иконы, чем капитану боевого звездолета. Адмирал Алдикакти, коренастая лузианка, председательствовавшая на совещании, быстро представила друг другу собравшихся.
— Отец капитан де Сойя, — сказала она, едва де Сойя занял свое место за круглым серым столом посреди круглого серого зала. — Полагаю, кое-кого из присутствующих вы знаете. — Адмирал славилась полным отсутствием такта и свирепостью в битвах.
— Капитан Стоун — мой давний друг. — Де Сойя кивнул своему бывшему старшему помощнику. — С капитаном Хирном мы вместе участвовали в сражениях. Я знаком с капитаном Сати, и с капитаном Лемприером мы встречались. Кроме того, я имел честь работать с генералом Учикавой и генералом Барнс-Эйвне.
Адмирал Алдикакти фыркнула.
— Генерал Барнс-Эйвне представляет здесь морских пехотинцев и швейцарскую гвардию. Вы уже познакомились со своим помощником, отец капитан?
Де Сойя покачал головой, и Алдикакти представила ему Жабера. Жабу удивили сила рукопожатия капитана и властность в его взгляде. «Пускай у него глаза мученика, — подумал Жабер, — этот человек привык отдавать приказы».
— Хорошо, начнем, — рявкнула адмирал Алдикакти. — Пожалуйста, капитан Сати.
Следующие двадцать минут в блистере сменяли друг друга голографические изображения и траектории полетов. Комлоги и скрайберы наполнялись данными и записями. Сати говорил очень тихо. Изредка ему задавали вопросы или просили пояснений.
Жабер, изумленный размахом операции, делал собственные пометки и, выполняя работу старшего помощника, записывал все данные, которые впоследствии могут понадобиться капитану.
Эскадра «Гидеон» была первой эскадрой крейсеров класса «архангел». Факельщики с двигателями Хоукинга были отправлены к месту рандеву — на Окраину, в двадцати световых годах за Великой Стеной, — заблаговременно, за несколько месяцев, но лишь для участия в первой операции: после квантового прыжка семи «архангелам» предстояло действовать самостоятельно.
— Наиболее удачное сравнение — марш генерала Шермана через Джорджию в американской Гражданской войне, еще до Хиджры, в девятнадцатом веке, — сказал капитан Сати, и больше половины офицеров тут же запросили у комлогов данные об этом историческом событии. — До сих пор, — продолжал Сати, — наши сражения с Бродягами проходили на «ничейной земле»: за Великой Стеной или на границе. Глубоких рейдов практически не было. — Сати сделал паузу. — Пять лет назад отец капитан де Сойя провел один из самых глубоких.
— Комментарии будут, отец капитан? — спросила адмирал Алдикакти.
Мгновение де Сойя колебался.
— Мы сожгли орбитальный лес, — произнес он наконец. — Сопротивления не было.
Хогану Жаберу показалось, что капитану об этом говорить стыдно.
Сати удовлетворенно кивнул:
— Мы надеемся, что так же будет и на этот раз. По сообщениям разведки, основные силы Бродяг сосредоточены у Великой Стены, в глубине территории — лишь незначительные группы. Без малого триста лет они размещали свои военные силы, базы и жилые системы, исходя из ограничений технологии Хоукинга.
В блистере вновь возникли тактические голограммы.
— Уже стало штампом считать, что преимущество Священной Империи — в налаженных линиях транспорта и связи, а сила Бродяг — в их скрытности и затерянности в пространстве. Глубокие рейды были невозможны из-за уязвимости наших тылов и партизанской тактики Бродяг, которые нередко успевали полностью уничтожить наш авангард еще до подхода основных сил.
Сати замолчал, глядя на сидевших вокруг стола офицеров.
— Дамы и господа, эти дни ушли в прошлое. — Зал заполнила голограмма: прочерченная красной линией траектория эскадры подобно лазерному клинку рассекала межзвездное пространство.
— Задание — уничтожить все внутренние базы Бродяг и их колонии. — Тихий голос Сати неожиданно обрел силу. — Кометные фермы, города-бидонвили, торы, скопления Л-5, орбитальные леса, родильные астероиды, пузырьковые ульи… все!
— И штатских «ангелов» тоже? — спросил отец капитан де Сойя.
Хоган Жабер моргнул. На Флоте Бродяг-мутантов называли «ангелы Люцифера» или просто «ангелы» (ирония на грани кощунства), но подобные термины редко использовались в разговорах с высшим командным составом.
— Особенно «ангелов», отец капитан, — ответила адмирал Алдикакти. — Его Святейшество Папа Урбан объявил крестовый поход против проклятых нелюдей-Бродяг, которые плодятся во мраке космоса. Его Святейшество особо подчеркнул в своей энциклике, что в Божьей Вселенной нет места этим богопротивным мутантам. Штатских Бродяг не существует. Вы чего-то не понимаете, отец капитан де Сойя?
Офицеры за столом затаили дыхание. Наконец де Сойя ответил:
— Нет, адмирал. Я понимаю энциклику Его Святейшества.
Инструктаж продолжался.
— В операции будут задействованы следующие крейсеры класса «архангел». — Сати принялся перечислять: — «Уриил», «Рафаил», «Михаил», «Гавриил», «Рагуил», «Ремиил» и «Сариил». Флагман — «Уриил». Звездолеты будут совершать квантовый прыжок к нужной системе и затем тормозить в самой системе один-два дня, за это время команды успеют воскреснуть. Его Святейшество даровал нам соизволение на использование саркофагов нового типа — вероятность успешного воскрешения девяносто два процента. После перегруппировки сил мы нападаем на Бродяг, наносим им максимальный урон — и совершаем прыжок к следующей точке. Любой звездолет, получивший серьезные повреждения, будет оставлен, команду эвакуируют на другие корабли, крейсер уничтожат. Ни один «архангел» с двигателем Гидеона не должен достаться Бродягам, пускай даже без таинства воскрешения он для них бесполезен. Продолжительность операции — около трех стандартных месяцев. Вопросы?
Отец капитан де Сойя поднял руку.
— Прошу прощения. Я отсутствовал несколько стандартных лет, но я заметил, что все корабли эскадры носят имена архангелов, упомянутых в Ветхом Завете.
— Да, отец капитан, — кивнула адмирал Алдикакти. — Ваш вопрос?
— Только это, адмирал. По-моему, в Библии по именам упоминаются только семь архангелов. Как же будут называться остальные корабли?
За столом послышались смешки, и де Сойя понял, что своим вопросом, как и предполагал, разрядил напряжение.
Адмирал Алдикакти улыбнулась:
— Мы приветствуем возвращение товарища по оружию и сообщаем ему, что ватиканские теологи изучили книгу Еноха и прочие неканонические тексты, чтобы найти там других ангелов, которых можно возвести в ранг «почетных архангелов», и Священная Канцелярия постановила дать их имена кораблям Флота. Мы сочли… э-э-э… символическим, что первые семь «архангелов» планетарного класса, названные именами Библейских архангелов, должны испепелить врага священным огнем.
Смешки сменились одобрительными возгласами и негромкими аплодисментами.
Больше вопросов не было.
— Да, еще одно… — сказала адмирал Алдикакти. — Если увидите этот корабль… — Над столом повисла голограмма диковинного звездолета. По меркам Флота — совсем небольшой корабль, корпус обтекаемый, как для полетов в атмосфере, у дюз стабилизаторы.
— Что это? — улыбнулась капитан Стоун. — Шутка Бродяг?
— Нет, — без всякого выражения тихо ответил де Сойя. — Это технология времен Великой Сети. Личный звездолет… принадлежавший конкретному человеку…
Некоторые из помощников снова засмеялись.
Адмирал Алдикакти разрубила изображение ребром ладони, и смешки мгновенно стихли.
— Отец капитан прав. Это корабль времен Великой Сети, когда-то он принадлежал одному дипломату Гегемонии. — Она покачала головой. — У них были деньги на красивую жизнь. На корабле установлен двигатель Хоукинга, модифицированный Бродягами, возможно, он вооружен и должен рассматриваться как опасность.
— Что мы должны делать, если встретим его? — спросила капитан Стоун. — Захватить в качестве трофея?
— Нет, — проговорила адмирал. — Уничтожить на месте. Испарить. Еще вопросы?
Вопросов больше не было. Офицеры разошлись по своим кораблям готовиться к первому прыжку. По дороге на «Рафаил» старший помощник Жабер докладывал своему новому командиру о готовности корабля и команды, а сам все время думал: «Надеюсь, мне не придется убивать этого человека».
Глава 6
Я по опыту знал — после боли вынужденной разлуки, когда покидаешь семью, уходя на войну, или когда смерть разлучает с тем, кто дорог, или когда расстаешься с тем, кого любишь, и не знаешь, увидишься ли вновь, — испытываешь странное спокойствие, чуть ли не облегчение, словно самое страшное уже позади и бояться нечего. Так оно и было в тот дождливый предрассветный час, когда я оставил Энею на Старой Земле.
Мой каяк был маленьким, а Миссисипи — огромной. Пока не рассвело, я работал веслом в бешеном темпе, почти в панике — подгоняемый возбуждением, я напряженно всматривался, стараясь разглядеть коряги, отмели и плавник в ревущем потоке. Река была здесь очень широкой — кажется, не меньше мили. (Старый Архитектор пользовался старинными мерами длины: милями, ярдами, футами, и многие из нас в Талиесине приобрели привычку подражать ему.) Наверное, река вышла из берегов — мертвые деревья показывали, что вода разлилась на сотни метров от первоначального русла — и теперь бурлила меж высоких утесов.
Где-то через час начало светлеть. Сначала слева проявились границы серых облаков и черно-серых круч — и потом по поверхности реки разлился ровный, холодный свет. Не зря я так осторожничал в темноте: река буквально кишела длинными щупальцами отмелей, бревнами, полузатопленными деревьями — корни, как головы гидры, проносились по стремнине, словно исполинские тараны, сокрушая все на своем пути. Я выбрал, как я надеялся, самый удачный поток и, усиленно работая веслом, чтобы не врезаться в плавающие обломки, попробовал насладиться рассветом.
Все утро я плыл на юг, не встречая никаких признаков человеческого жилья, если не считать одного случая — промелькнули древние белые здания, затонувшие среди мертвых деревьев и солоноватых вод там, где некогда был западный берег, а теперь топь у подножия утесов. Дважды я причаливал к островам: в первый раз — чтобы облегчиться, а во второй — чтобы облегчить маленький рюкзак, единственное, что я взял с собой. Во время второй остановки — позже утром, когда солнце пригрело реку и меня, — я сидел на бревне на песчаном берегу и ел сандвичи с холодным мясом и горчицей. Я прихватил с собой две фляжки — одну повесил на пояс, другую сунул в рюкзак — и пил понемногу, сдерживая себя — ведь неизвестно, можно ли пить воду Миссисипи, и уж тем более неизвестно, когда мне удастся возобновить запас.
Уже днем я заметил впереди город и арку портала.
Немного раньше в Миссисипи справа влился приток, и река стала значительно шире. Должно быть, это Миссури. Я спросил комлог, и память корабля подтвердила мою догадку.
И вскоре после этого я увидел арку.
Этот портал сильно отличался от тех, сквозь которые мы проходили в наших странствиях: больше, древнее, приземистее, сильнее изъеден ржавчиной. Может, когда-то он был высоким и стоял на суше, на западном берегу реки, но теперь металлическая арка торчала из воды в сотнях метров от берега. Остовы затопленных зданий — «низких небоскребов» эпохи до Хиджры, как подсказал мне мой недавно приобретенный архитектурный навык, — торчали неподалеку из медлительных вод.
— Сент-Луис, — сообщил браслет комлога. — Уничтожен еще до Злых Лет. Покинут до Большой Ошибки восьмого года.
— Уничтожен? — переспросил я, направляя каяк к гигантскому своду и впервые заметив, что западный берег позади арки изгибается правильным полукругом, образуя мелкое озерцо. На берегу выстроились дугой старинные деревья. Метеоритный кратер? Или воронка от бомбы или взорвавшейся электростанции? Впрочем, есть и другие варианты, не знаю. — Как уничтожен?
— Нет информации, — отозвался комлог. — У меня имеются данные, относящиеся к арке прямо по курсу.
— Ведь это портал? — спросил я, сражаясь с сильным течением западнее стремнины и направляя каяк к арке.
— Не совсем, — сказал комлог. — Размеры и местоположение артефакта совпадают с местоположением и размерами так называемой Гетуэй-Арк, архитектурного сооружения, возведенного в городе Сент-Луис во времена Соединенных Штатов Америки, национального государства, в середине двадцатого столетия. Символизирует экспансию на запад протонационалистических пионеров европейского происхождения, мигрировавших сюда с целью вытеснения североамериканских туземцев.
— Индейцев, — уточнил я, тяжело дыша от напряжения. Кое-как мне удалось обуздать каяк и подвести его к арке. Хотя солнце уже час с лишним пекло в полную силу, вдруг похолодало — набежали серые облака и снова задул холодный ветер. По фибропласту каяка забарабанили дождевые капли. Течение несло каяк прямо к центру арки, и я отложил весло, приняв все меры, чтобы случайно не нажать на таинственную красную кнопку. — Значит, этот портал построили в честь людей, которые убивали индейцев… — Я подался вперед и оперся на локти.
— Первоначально Гетуэй-Арк не могла служить порталом, — сообщил комлог.
— И как она пережила эту… катастрофу? — Я указал веслом на кратер и затопленные здания.
— Нет информации, — ответил комлог.
— И ты не знаешь, портал ли это? — Я снова принялся грести. Арка нависала надо мной, до ее свода было не меньше ста метров. Лучи зимнего солнца тускло поблескивали на ржавых боковинах.
— Нет. В моей памяти нет сведений о наличии порталов на Старой Земле.
Разумеется, откуда им быть? Старая Земля провалилась в черную дыру в результате Большой Ошибки — или была похищена львами, тиграми и медведями, — как минимум за полтора столетия до того, как Техно-Центр одарил Гегемонию технологией порталов. Но все же здесь был маленький, однако вполне работоспособный портал на реке — точнее, на ручье — в западной Пенсильвании, сквозь него мы с Энеей и вышли с Рощи Богов четыре года назад. Во время моих странствий я видел и другие.
— Что ж, — сказал я, обращаясь больше к самому себе, чем к идиоту-комлогу, — если этот портал не работает, поплывем дальше. Энея знала, что делает, посылая нас сюда.
Но если честно, я здорово сомневался. Под аркой не наблюдалось характерного для порталов мерцания: проблесков солнечного света или тусклого сияния звезд. Только темнеющее небо и черная полоса леса на дальнем берегу.
Откинувшись назад, я смотрел на арку — во многих местах отсутствуют облицовочные панели и торчат стальные ребра конструкции. Каяк вошел в арку, поплыл дальше и… ничего не произошло. Ни малейшего изменения, никакого резкого светового или гравитационного сдвига, никаких инопланетных запахов. Эта штука оказалась просто доисторической развалиной, которая лишь отдаленно напоминала…
Все переменилось.
Только что я плыл по бурлящей Миссисипи к озеру на месте города Сент-Луис — и вдруг в одно мгновение оказался на своей крошечной фибропластовой лодочке в узком канале между стенами освещенных зданий, а где-то в вышине, над самыми крышами, догорал закат.
— Иисусе, — прошептал я.
— Древний мессия, — охотно сообщил комлог. — Религии, основанные на его предполагаемых учениях, включают в себя дзен-христианство, древний и современный католицизм и такие протестантские секты, как…
— Заткнись, — сказал я. — Режим послушного ребенка. — Теперь комлог будет говорить, только когда его спросят.
По каналу — если это, конечно, был канал — плыли и другие лодки. Дюжины яхт, гребных лодок и каяков двигались вверх и вниз по течению. На набережных и эспланадах, на мостах — везде сотни людей, парочки или небольшие компании, все коренастые, в ярких одеяниях.
Подняв весло, я почувствовал, насколько изменилась сила тяжести: в два раза больше земной, по первому впечатлению — и медленно поднял голову к сотням — нет, тысячам, — освещенных окон, балконов и посадочных площадок, к серебристым поездам, проносившимся по прозрачным трубам над рекой, к ТМП, воздушным платформам и паромам, перевозившим людей через этот невероятный каньон… и понял.
Лузус. Это должен быть Лузус.
Я уже встречался с лузианами — богатые охотники, прилетавшие на Гиперион пострелять уток, очень богатые игроки в казино на Девяти Хвостах (я работал там вышибалой) и даже несколько эмигрантов в наших гиперионских силах самообороны, по всей вероятности, скрывавшиеся от властей. Все они, коренастые и мускулистые, как две капли воды походили на тех, кого я видел сейчас на набережных и эспланадах; и все они чем-то напоминали примитивные, но весьма мощные паровые машины.
Никто, похоже, не обращал никакого внимания ни на меня, ни на мой каяк. Странно: ведь с точки зрения лузиан я должен был возникнуть ниоткуда, материализоваться под аркой портала.
Оглянувшись, я понял, почему мое появление прошло незамеченным. Портал был старинным — некогда, во времена Гегемонии, он стоял на реке Тетис, и арка была встроена в стену Улья, — а ведь здесь повсюду громоздились платформы и мостки, и так получилось, что тот участок канала, за порталом, терялся в глубокой тени. На моих глазах маленькая моторная лодка вынырнула из этой тени, словно тоже возникла из небытия.
А в таком одеянии — на мне были свитер и куртка (если учесть, что из каяка торчали только плечи) — я вполне мог сойти за коренастого лузианина, ничем не выделявшегося в этой пестрой толпе. Мимо пронеслась парочка на реактивных лыжах. Они приветливо помахали мне.
Я помахал в ответ.
— Иисусе, — снова прошептал я.
На сей раз комлог промолчал.
Здесь я должен прервать свой рассказ.
У меня было искушение — хотя в «кошачий ящик» в любой момент может быть выпущен цианид — описать во всех подробностях мою одиссею. И действительно, из всего, что было за эти четыре года, только мое странствие и заслуживает называться настоящим приключением.
И впрямь, нетрудно было догадаться — это мое путешествие будет вроде того, первого, с Возрождения-Вектор на Старую Землю. Тогда наш с Энеей путь лежал в основном через пустынные или покинутые миры: Хеврон, Новая Мекка, Роща Богов, безымянная планета джунглей, где мы оставили корабль Консула. Впрочем, в тех немногих случаях, когда мы натыкались на местных жителей — словно по иронии судьбы, так и произошло на Безбрежном Море, — контакт имел катастрофические последствия для обеих сторон: я взорвал плавучую платформу, меня поймали, арестовали, подстрелили и чуть было не утопили. По ходу дела я потерял все самое ценное из нашего снаряжения, даже древний ковер-самолет, сохранившийся со времен легендарной Сири, и не менее древний револьвер сорок пятого калибра, некогда принадлежавший Ламии Брон, матери Энеи.
Но большую часть пути река Тетис несла Энею, А.Беттика и меня по пустынным мирам — зловеще пустынным, как Хеврон или Новая Мекка, словно некий ужас выгнал оттуда людей, — и там мы были одни.
Но только не здесь. Лузус бурлил жизнью. Впервые я понял, почему планетарные соты называют Ульями.
Путешествуя по незаселенным планетам, мы с А.Беттиком и Энеей полагались исключительно на собственные силы. А сейчас — одинокий и, в сущности, беззащитный, я поймал себя на том, что машу рукой имперской полиции и лузианским священникам. Канал был здесь не шире тридцати метров, бетон и пластик — никаких притоков, ответвлений, спрятаться совершенно негде. Под мостами и переходами, правда, можно было бы остаться незамеченным, но речной транспорт непрерывным потоком проплывал мимо этих мест. Нет, спрятаться негде.
Впервые в жизни я оценил все безрассудство перемещений через порталы. Моя одежда явно нездешняя, и стоит мне только ступить на берег, как все это сразу же заметят. Да и телосложение неподходящее. А уж гиперионский выговор и подавно наведет на подозрения. У меня нет ни денег, ни личной карточки, ни лицензии на право вождения ТМП, ни бумаг с имперской печатью.
Я уже давно жадно принюхивался к соблазнительным ароматам с берега — ветерок явственно доносил запах жаркого и холодного пива, но понимал: стоит мне выйти и заглянуть в бар, не пройдет и минуты, как меня арестуют.
Конечно, некоторые имперские подданные перемещались между мирами — миллионеры, деловые люди, искатели приключений, готовые проводить месяцы в криогенной фуге и годы в транспортных звездолетах, самонадеянные из-за самого факта наличия крестоформа: пока они странствуют, работа, и дом, и семья никуда не денутся в их возрожденном христианском мире — но таких мало. К тому же никто не путешествует по галактике без денег и без разрешения официальных властей. Да, так и есть — если я все-таки рискну заглянуть в кафе, бар или ресторан, кто-нибудь наверняка вызовет местную полицию или имперский военный патруль. Для начала они установят, что на мне нет креста, что я — язычник в христианской вселенной.
Я облизнул пересохшие губы — желудок утробно урчал от голода, руки не слушались от усталости и повышенной гравитации, глаза слезились от недосыпа и переживаний, но я, отринув береговые соблазны, двинулся вдоль по каналу… Эх, лучше бы следующий портал оказался ближе, чем дальше.
Здесь я воздержусь от повествования об удивительных видах и звуках, о диковинных людях и встречах. Я никогда не был на таком застроенном, таком людном и таком домашнем мире, как Лузус. Чтобы обследовать шумный Улей, промелькнувший мимо, у меня ушел бы по меньшей мере месяц.
Шесть часов путешествия по каналу — и я зарулил под желанную арку и очутился на Фройде — шумном, суетливом, густо заселенном мире, о котором я почти ничего не знал и даже не смог бы определить, где я, собственно, нахожусь, если б не штурманские файлы комлога. Там я наконец выспался, спрятав каяк в пятиметровом коллекторе. Я сладко спал на клочьях фибропласта, повисшего на проволочной изгороди.
Проспал я стандартные сутки, но на Фройде сутки длятся тридцать девять стандартных часов, поэтому следующий портал я разыскал вечером того же дня, меньше чем в пяти километрах ниже по течению.
С солнечной Фройде, населенной имперскими подданными, я перенесся на Невермор — мир угрюмых горных селений, нависающих над пропастью каменных замков и вечно хмурого неба. Ночью в черной вышине проносились кометы и местные вороны; расправив кожистые крылья, парили они над рекой, и черные силуэты перечеркивали яркие хвосты комет.
Меня окликнули плотогоны, и я помахал в ответ, продолжая грести к полосе бурлящей воды, которая чуть не перевернула каяк. Вослед завывали сирены со стен неверморских замков.
Я миновал портал и очутился в знойной, выжженной солнцем пустыне, на маленькой планете, которая, как сообщил комлог, называлась Витус-Грей-Балиан Б. Я никогда не слышал о ней, ее не было даже в старинных звездных атласах времен Гегемонии, которые бабушка бережно хранила в своем фургоне и в которые я при каждом удобном случае так и норовил заглянуть.
По дороге на Старую Землю река Тетис пронесла нас с А.Беттиком и Энеей через Новую Мекку и Хеврон, в пустынях там не было жизни и города стояли покинутые. Но здесь, на Витус-Грей-Балиане Б, глинобитные постройки сгрудились у кромки воды, и примерно через километр встречались плотины и дамбы — вода отводилась на поля, протянувшиеся вдоль реки. По счастью, река служила тут основной транспортной артерией, и я вынырнул из арки портала под прикрытием тяжелой баржи и продолжал себе грести среди бесчисленных лодок и судов — скифов, плотов, барж, буксиров, моторных лодок. Метрах в трех-четырех над поверхностью воды изредка проплывали ТМП.
Гравитация здесь была слабая — возможно, даже меньше двух третей земной, и временами возникало странное ощущение, что следующий взмах весла поднимет каяк над водой. Но если сила тяжести почти не чувствовалась, то свет — солнечный свет — придавил меня гигантской потной дланью. Полчаса такой гребли, и я опустошил вторую фляжку. Пришла пора заняться поисками воды.
Можно подумать, что обитатели планеты с низкой гравитацией непременно худы как щепки — полная противоположность коренастым обитателям Лузуса, — но почти все, кого я видел на берегах реки — мужчины, женщины, дети, — были такие же низкорослые и коренастые, как лузиане. В их одежде, яркой и многоцветной, чувствовалась та же пестрота, что и у обитателей Фройде, но здесь у каждого был какой-нибудь один ярчайший оттенок — алые комбинезоны, лазурные плащи и накидки, изумрудно-зеленые костюмы, платья, шарфы и шляпы, струящийся поток желтого шифона и розовые тюрбаны. Я заметил, что двери и ставни глинобитных домиков, лавок, гостиниц тоже окрашены все в определенный цвет. Что бы это значило? Может, знак касты? Политическая ориентация? Социальный или экономический статус? Или обозначение родства? В любом случае, что бы это ни было, нечего и думать затеряться в толпе на берегу в моем хаки.
Но выбора не оставалось — либо причалить к берегу, либо умереть от жажды. Миновав очередной автоматический шлюз, я подгреб к пирсу и с трудом привязал прыгающий на волне каяк — по реке как раз прошла тяжелая баржа. Я направился к круглому деревянному сооружению — похоже, это была артезианская скважина: женщины в желтых платьях выходили оттуда с кувшинами. Меня вот только беспокоило — если я наберу воду, не нарушу ли я тем самым какой-либо закон, кастовое ограничение, религиозное установление или местный обычай. Имперских властей в ближайшей окрестности не наблюдалось — ни черных сутан, ни красно-черных мундиров, — но это еще ничего не значит. Ведь даже на Окраине, к которой, как сообщил комлог, принадлежит Витус-Грей-Балиан Б, практически нет такой планеты, где так или иначе не присутствовал бы Орден. Я незаметно переложил охотничий нож в задний карман куртки — попробую в случае чего прорваться к лодке. Но если явится полиция, с парализаторами и игольниками, мое путешествие на этом закончится.
Правда, оно все равно должно было закончиться, и очень скоро, но тогда я этого не знал. Меня даже не насторожила боль в спине, появившаяся еще на Лузусе.
Итак, я неуверенно приближался к колодцу, если это колодец.
Это был колодец.
Никто никак не отреагировал ни на мой высокий рост, ни на тусклую одежду. Никто, даже дети в ярко-синем и ярко-красном — на миг они перестали играть, посмотрели на меня без всякого интереса и вернулись к своим делам. Я напился вдоволь и наполнил водой обе фляжки. У меня сложилось впечатление — уж не знаю почему, — что обитатели Витус-Грей-Балиана Б (или по крайней мере жители этой прибрежной деревушки) просто-напросто слишком вежливы, чтобы пялиться на меня или расспрашивать, что мне нужно. Завинтив вторую фляжку и уже повернувшись, чтобы идти к каяку, я подумал, что даже трехглавый инопланетный монстр — или, если уж пошел такой сюр, сам Шрайк — запросто мог бы напиться в жаркий знойный день из этого артезианского колодца, и его бы никто ни о чем не спросил.
Я сделал три шага по пыльной улице, и тут накатила боль. Я согнулся пополам, не в силах вздохнуть, упал на колени, завалился набок и скрючился в приступе раздирающей боли. Я бы завопил, если б мог. Хватая воздух, как рыба, выброшенная на берег, я свернулся в позе эмбриона, сраженный болью.
Нельзя сказать, что я вовсе уж не знаком с болью и лишениями. Когда я служил в силах самообороны, гиперионские военные как раз изучали этот вопрос, и тогда выяснилось: почти все новобранцы, отправленные на Ледяной Коготь сражаться с мятежниками, настоящие слабаки — боли совсем не выдерживают. А в городах северной Аквилы вряд ли вообще когда-либо испытывали боль, с которой не могли справиться пилюли или автохирург.
Я вырос на Гиперионских пустошах, и у меня несколько побольше опыта по этой части: порезы, сломанная нога (на меня наступил вьючный мул), синяки и ушибы (падения со скал), сотрясение мозга, ожоги, разбитые губы, фонарь под глазом — результат потасовок с дружками. А на Ледяном Когте меня ранили трижды — дважды шрапнелью, когда погибли все вокруг, и один раз из снайперской винтовки. Тогда, помнится, даже послали за священником, который долго уговаривал меня, пока еще не поздно, принять крестоформ.
Но такой боли я не испытывал никогда.
Я стонал, задыхался — похоже, мне все-таки удалось пробить стену вежливости и привлечь к себе внимание местных. Я поднял руку и запросил от комлога информацию, что со мной творится. Нет ответа. Между приступами невыносимой боли я повторил запрос. Нет ответа. И тут я вспомнил, что сам переключил эту хреновину в режим послушного ребенка. Я позвал его по имени и повторил запрос.
— Могу я активировать скрытую биосенсорную функцию, месье Эндимион? — спросил дебильный ИскИн.
Я и понятия не имел, что у него есть эта самая биосенсорная функция, скрытая, или как ее там. Я что-то промычал в ответ, и меня опять скрутила боль. Ощущение было такое, словно в спину вонзили кривой нож и медленно поворачивают в ране. Боль текла сквозь меня как ток по раскаленной проволоке. Началась рвота. Красивая женщина в ослепительно белом одеянии попятилась и подняла одну белую сандалию.
— Что со мной? — выдавил я между приступами боли. — Что происходит? — И попробовал ощупать спину — наверняка там кровь и открытая рана. Я искал торчащую стрелу или копье, но там ничего не было.
— Вы в состоянии шока, месье Эндимион, — объяснил лоботомированный ошметок ИскИна Корабля Консула. — Кровяное давление, рефлексы, пульс полностью подтверждают диагноз.
— От чего? — с трудом проговорил я и застонал: боль вырвалась на волю и разлилась по всему телу. Мой желудок был пуст, но позывы на рвоту не прекращались. Нарядные аборигены соблюдали дистанцию, даже сейчас я заметил, что им несвойственны дурные манеры: они не перешептывались, не пялились на меня, но свои занятия тем не менее отложили.
— Что случилось? — Я старался говорить шепотом. — Что могло вызвать такое?
— Пуля, — пропищал комлог. — Колотая рана. Копье, нож, стрела, дротик. Или лазер, или импульсный заряд. Или игольник. Возможно, вам в печень или в почки ввели длинную тонкую иглу.
Корчась от боли, я еще раз ощупал спину, дотянулся до ножа в чехле и отшвырнул его подальше. Куртка и рубашка целы и невредимы — хотя, по идее, должны уже насквозь пропитаться кровью. Из меня не торчало ничего острого.
Боль снова прожгла меня, и я громко застонал. Так я не стонал даже тогда, когда меня подстрелил снайпер на Ледяном Когте или когда мул дяди Вани сломал мне ногу.
Боль мешала мыслить отчетливо, и в голове мелькало примерно следующее: «Местные… каким-то образом… телепатия… отравили… воду… невидимые лучи… карают за…»
Отказавшись от попытки додумать, я снова застонал. Кто-то в ярко-голубой юбке или тоге и безупречных сандалиях — ногти покрашены в синий цвет — подошел поближе.
— Простите, сэр, — раздался нежный голосок на сетевом английском с сильным акцентом. — У вас что-то случилось? — Это прозвучало как: «Увассто-тослусилось?»
— Аргх! — Меня била судорога.
— Могу я чем-то помочь? — произнес тот же голосок.
— О… аргх!.. Да…
От боли я едва не потерял сознание. Перед глазами заплясали черные точки. Я уже не видел ни голубой юбки, ни сандалий. Дикая боль не отпускала… Я не мог скрыться в беспамятстве.
Вокруг шелестели мантии и тоги. Аромат духов, одеколона, мыла… Чьи-то руки подхватили меня. В спину и в основание черепа будто вонзилась раскаленная добела проволока.
Глава 7
Папская аудиенция была назначена на 8.00 по ватиканскому времени. В 7.52 черный ТМП Джона Доменико Мустафы прибыл к пропускному пункту на Виа-дель-Бельведер. Инквизитор и его доверенное лицо, отец Фаррелл, прошли через детекторы и датчики — сначала контрольный пункт швейцарской гвардии, затем пост палатинской стражи и, наконец, новый пост, Дворянской гвардии.
Джон Доменико кардинал Мустафа, Великий Инквизитор, незаметно переглянулся со своим помощником, когда они проходили последний контрольный пункт. Дворянская гвардия, казалось, состояла из клонированных близнецов — сплошь худощавые мужчины и женщины, бледные, темноволосые, с застывшими взглядами. Мустафа знал, что тысячу лет назад швейцарские гвардейцы были наемниками на папской службе, палатинская стража состояла из надежных местных, непременно рожденных в Риме: они обеспечивали почетную охрану во время публичных выходов Его Святейшества, а в Дворянскую гвардию набирали аристократов — нечто вроде папской награды за преданность. Ныне швейцарская гвардия — самое элитное подразделение коммандос, палатинская стража всего лишь год назад была восстановлена Папой Юлием Четырнадцатым, а сейчас Папа Урбан, как оказалось, решил доверить свою безопасность новой Дворянской гвардии.
Великий Инквизитор знал, что эти близнецы действительно клоны, ранние прототипы засекреченного Легиона, авангард новой армии, сконструированный Техно-Центром по требованию Папы и его госсекретаря. Инквизитор дорого заплатил за эту информацию и знал: его положение — если не жизнь — окажется под угрозой, если только кардинал Лурдзамийский или Его Святейшество узнают о том, что ему это известно.
Они миновали посты охраны. Кардинал Мустафа отказался от услуг чиновника, предложившего проводить их наверх. Пока отец Фаррелл поправлял после обыска сутану, Мустафа открыл дверцу древнего лифта, который должен был доставить их в папские покои.
Тайный ход на самом деле начинался в подвале — воссозданный Ватикан был построен на холме, и вход с Виа-дель-Бельведер был ниже первого этажа. Неторопливый подъем в скрипучей клети лифта — отец Фаррелл явно нервничал, перебирал бумаги, вертел скрайбер и вообще ерзал и места себе не находил, а кардинал Мустафа отдыхал, — и вот первый этаж — двор Сан-Дамазо. Вот и второй этаж — причудливые апартаменты Борджа и Сикстинская капелла. Со скрипами и стонами лифт проехал второй этаж с официальной приемной, консисторией, библиотекой, аудиенц-залом и замечательными палатами Рафаэля. На третьем этаже они остановились, и дверцы кабины с лязгом распахнулись.
Кардинал Лурдзамийский и его помощник, монсеньор Лукас Одди, кивали и улыбались.
— Доменико. — Кардинал Лурдзамийский крепко пожал руку Великому Инквизитору.
— Симон Августино, — вежливо склонил голову Великий Инквизитор.
Итак, на встрече будет присутствовать госсекретарь. Мустафа подозревал и опасался, что именно так оно и будет. Выйдя из лифта и шагая к папским покоям, Великий Инквизитор бросил взгляд на кабинет госсекретаря и — в десятитысячный раз — позавидовал близости этого человека к Папе.
Папа встретил гостей в просторной, ярко освещенной галерее, соединявшей секретариат Ватикана с личными покоями Его Святейшества. Понтифик улыбался. Странно, обычно он неулыбчив. Сутана с белым воротником, белый пояс, на голове круглая белая шапочка. Белые туфли еле слышно шелестели по гладким плитам пола.
— А, Доменико. — Папа Урбан Шестнадцатый протянул перстень для поцелуя. — Симон. Как хорошо, что вы пришли.
Отец Фаррелл и монсеньор Одди, преклонив колена, терпеливо ждали своей очереди приложиться губами к кольцу святого Петра.
Его Святейшество прекрасно выглядит, подумал Великий Инквизитор, он определенно помолодел и посвежел. Да, куда лучше, чем до его недавней смерти. Высокий лоб и горящие глаза — те же самые, но Мустафа отметил, что в облике воскрешенного Папы появилось что-то такое… какая-то настойчивость и убежденность.
— Мы как раз собирались совершить утреннюю прогулку по саду, — сказал Его Святейшество. — Не хотите ли присоединиться?
Все четверо кивнули и поспешили следом за Папой. Прошли галерею и по гладкой широкой лестнице поднялись на крышу. Личные помощники Его Святейшества держались на расстоянии, у выхода в сад швейцарские гвардейцы застыли по стойке «смирно», глядя прямо перед собой. Кардинал Лурдзамийский и Великий Инквизитор отставали от Папы буквально на шаг, а отец Фаррелл и монсеньор Одди держали дистанцию в два шага за ними.
Папские сады — лабиринт цветущих шпалер, нежно струящихся фонтанов, аккуратных живых изгородей и деревьев с трехсот миров Священной Империи, каменные дорожки и причудливый цветущий кустарник. Надо всем этим — силовой купол класса «десять». Прозрачный изнутри и непрозрачный для внешних наблюдателей, он обеспечивал и конфиденциальность, и защиту. Небо Пасема в это утро было сияющим и безоблачно синим.
— Кто-нибудь из вас помнит, — начал Его Святейшество под шелест сутан по каменным плитам дорожки, — когда небо здесь было желтым?
Кардинал Лурдзамийский издал нечто вроде урчания — у него это означало смешок.
— О да, — сказал он, — я помню. Небо было отвратно желтое, в воздухе было все что угодно, но только не то, чем дышат, жуткий холод и нескончаемый дождь. Да, тогда Пасем считался отверженным миром. Потому-то старая Гегемония вообще позволила Церкви обосноваться здесь.
Папа Урбан Шестнадцатый едва заметно улыбнулся и указал на синее небо и теплое ласковое солнце:
— Итак, мы видим определенные улучшения за время нашего служения, так ведь, Симон Августино?
Оба кардинала тихонько рассмеялись. Они быстро обошли крышу, и Его Святейшество выбрал другой маршрут через центр сада. Переступая по узкой дорожке с плиты на плиту, кардиналы и их помощники гуськом следовали за белой сутаной понтифика. Вдруг Его Святейшество остановился перед тихо журчащим фонтаном и обернулся.
— Вы слышали, — сказал он, и вся шутливость куда-то исчезла, — эскадра адмирала Алдикакти переведена за Великую Стену?
Кардиналы кивнули.
— Это первое, но далеко не последнее вторжение, — пояснил святой отец. — Мы не надеемся… не предсказываем… мы знаем.
Глава Священной Канцелярии, госсекретарь и их помощники ждали продолжения.
Папа посмотрел на каждого по очереди.
— Сегодня, друзья мои, мы намерены посетить Кастель-Гандольфо…
Великий Инквизитор поймал себя на том, что его так и тянет — зачем? — посмотреть наверх. Папский астероид все равно не увидишь в дневное время. Он знал, что королевское «мы» понтифика вовсе не есть приглашение — ни для кардинала Лурдзамийского, ни для него.
— …где несколько дней проведем в медитации, молитве и размышлениях над нашей следующей энцикликой, — продолжал Папа. — Она будет называться «Redemptor Hominus» и станет наиважнейшим документом нашего пастырского служения Святой Матери Церкви.
Великий Инквизитор склонил голову. «Искупитель человечества», — подумал он. Это может быть что угодно.
Когда кардинал Мустафа поднял взгляд, Папа улыбался, будто прочел его мысли.
— Это будет о нашем священном долге, Доменико, — сохранить человечность человека. Это должно продолжить, прояснить и расширить то, что получило известность как энциклика Крестового похода. Должно определить волю Господа нашего — нет, заповедь… род человеческий должен пребывать в обличье человеческом и не оскверняться преднамеренными мутациями и уродствами.
— Окончательное решение проблемы Бродяг, — пробормотал кардинал Лурдзамийский.
Его Святейшество нетерпеливо кивнул:
— Да, но не только. «Redemptor Hominus» объяснит роль Церкви в определении будущего. Дорогие друзья, в некотором смысле будет намечен план на следующее тысячелетие.
«Матерь Божия!» — подумал Великий Инквизитор.
— Священная Империя — полезное орудие, — продолжал святой отец, — но в предстоящие дни, месяцы и годы мы заложим фундамент для более действенного проявления роли Церкви в повседневной жизни всех христиан.
«То есть все миры Империи следует прибрать к рукам, — мысленно перевел Великий Инквизитор, не поднимая глаз в глубокомысленном внимании к словам Папы. — Но как?»
Папа Урбан Шестнадцатый снова улыбнулся. Кардинал Мустафа заметил, уже не впервые, что глаза его никогда не улыбаются — в них застыли горечь и настороженность.
— По выходе энциклики, — сказал Его Святейшество, — вы сможете полнее уяснить себе роль Священной Канцелярии, нашей дипломатической службы и таких полезных организаций и объединений, как «Опус Деи», понтификальная комиссия «Мир и справедливость» и Cor Unum.
Великий Инквизитор постарался скрыть изумление. Cor Unum! Понтификальная комиссия под официальным названием Pontificum Consilium «Cor Unum» de Humana et Christiana Progressione Fovenda — всего лишь незначительный комитет, и это так вот уже несколько столетий. Мустафа не сразу припомнил их президента… Кардинал дю Нойе вроде бы. Ничтожная фигура в ватиканской бюрократии. Старуха. «Что, черт возьми, здесь происходит?»
— Мы живем в волнующее время, — сказал кардинал Лурдзамийский.
— Так-то оно так… — Великому Инквизитору почему-то вспомнилось древнее китайское проклятие насчет эпохи перемен.
Папа продолжил прогулку, и кардиналы с помощниками заторопились следом. Сквозь силовой купол проникал легкий ветерок, шевеливший золотистые цветы на изваянии священного дуба.
— Кроме того, наша новая энциклика затронет серьезную проблему ростовщичества в новую эпоху, — добавил Папа.
Великий Инквизитор от неожиданности сбился с шага, и ему пришлось поторопиться, чтобы не отстать. Потребовалось огромное усилие, чтобы сохранить безразличие. Ему-то это удалось, а вот отец Фаррелл за его спиной, похоже, был просто в шоке.
«Ростовщичество? — подумал Великий Инквизитор. — Триста лет действуют установленные Церковью для Гильдии правила торговли. Никто не желает возвращения первобытного капитализма… Но контроль не слишком суров… Если это — попытка сосредоточить все политические и экономические силы непосредственно в ведении Церкви… Неужели Юлий… то есть Урбан… намерен отменить гражданскую автономию Империи и Гильдии торговцев? И вообще, при чем тут военные?»
Его Святейшество остановился у чудесного куста с белыми цветами и ярко-голубыми листьями.
— Смотрите, как хорошо прижилась иллирийская горечавка, — с нежностью проговорил он. — Подарок архиепископа Поске с Галабии-Пескас.
«Ростовщичество! — думал Великий Инквизитор в диком замешательстве. — Отлучение от Церкви… лишение крестоформа… за нарушение торговых ограничений и контроля доходов… Прямое вмешательство Ватикана… Матерь Божия!»
— Но мы пригласили вас по другому поводу, — сообщил Папа Урбан Шестнадцатый. — Симон Августино, будьте так добры, поделитесь с кардиналом Мустафой теми тревожными разведданными, которые были получены вчера.
«Им стало известно о наших биошпионах, — в панике подумал Мустафа. Сердце тяжело ухало. — Они знают об агентах… о том, что Священная Канцелярия попыталась напрямую связаться с Техно-Центром… о прощупывании кардиналов перед выборами… обо всем!»
Он сохранил соответствующее выражение лица: глубочайшая заинтересованность, сугубо служебная обеспокоенность тем, что Папа употребил слово «тревожные».
Громадный кардинал Лурдзамийский словно подобрался. Тяжелое громыхание слов будто исходило из его груди или даже живота. За его спиной как пугало посреди поля маячила фигура монсеньора Одди (Мустафа вырос на сельскохозяйственной планете Малое Возрождение).
— Шрайк снова появился, — сказал кардинал Лурдзамийский.
«Шрайк! Какое он имеет отношение…» — Обычно острый ум Мустафы спотыкался, он был не в состоянии ухватить суть всех этих изменений и откровений. Наверняка ловушка. Осознав, что госсекретарь молчит и ждет ответа, Великий Инквизитор тихо спросил:
— А военные власти на Гиперионе могут разобраться с этим, Симон Августино?
Кардинал Лурдзамийский покачал массивной головой — толстые щеки затряслись, как желе.
— Демон появился не на Гиперионе, Доменико.
Мустафа изобразил приличествующее случаю изумление. «Я знаю из допроса капрала Ки, что чудовище появилось на Роще Богов четыре года назад, видимо, чтобы помешать убийству девочки по имени Энея. Чтобы узнать это, мне пришлось организовать мнимую смерть Ки и похищение после его назначения в Имперский Флот. Они знают? И почему сейчас мне это сообщили?» — Великий Инквизитор ждал, когда метафорический топор обрушится на его вполне реальную шею.
— Восемь стандартных дней назад, — продолжал кардинал Лурдзамийский, — чудовищное существо, которое может быть только Шрайком, появилось на Марсе. Число погибших… истинной смертью — монстр вырывает крестоформы из тела жертв — катастрофически велико.
— Марс, — тупо повторил кардинал Мустафа. Он посмотрел на святого отца, ожидая объяснений, наставлений… даже приговора, которого он так боялся, но Верховный Понтифик изучал почки на розовом кусте. Отец Фаррелл шагнул вперед. Великий Инквизитор жестом остановил его. — Марс? — Он не чувствовал себя таким тупым и неосведомленным уже десятилетия, если не столетия.
Кардинал Лурдзамийский улыбнулся:
— Да… На одном из терраформированных миров в системе Старой Земли. До Падения там находился штаб ВКС, Военно-Космических Сил, но для Империи Пасема этот мир практически бесполезен — слишком далеко. Вам совершенно незачем было знать о нем, Доменико.
— Я знаю, где Марс, — возразил Великий Инквизитор более резко, чем хотел. — Я просто не понимаю, как там мог очутиться Шрайк. — «И какое, черт бы вас всех побрал, это имеет отношение ко мне?» — мысленно прибавил он.
Кардинал Лурдзамийский кивнул:
— В соответствии с тем, что нам известно, демон по прозвищу Шрайк действительно никогда раньше не покидал Гиперион. Но сомневаться не приходится. Этот ужас на Марсе… Губернатор объявил чрезвычайное положение, архиепископ Робсон лично обратился к Его Святейшеству за помощью.
Великий Инквизитор потер подбородок и задумчиво кивнул:
— Имперский Флот…
— Корабли Флота, дислоцированные в Старом Округе, были срочно переброшены туда, — перебил госсекретарь. Верховный Понтифик склонился над карликовым деревцем и простер руку над крохотной, кривой веточкой, словно благословляя. Казалось, он не слушает.
— Корабли укомплектованы морскими пехотинцами и швейцарскими гвардейцами, — продолжал кардинал Лурдзамийский. — Мы надеемся, что они одолеют и — или — уничтожат этого демона…
«Матушка учила меня никогда не доверять тем, кто употребляет выражение «и/или», — подумал Мустафа.
— Конечно, — сказал он вслух. — Я отслужу за них мессу.
Кардинал Лурдзамийский вновь улыбнулся. Святой отец наконец-то оторвался от созерцания чахлого деревца.
— Вот именно, — сказал Лурдзамийский, и Мустафе послышалось урчание довольного кота, измывающегося над несчастной мышью. — Мы согласны, что это скорее дела веры, чем Флота. Шрайк — как открылось Его Святейшеству более двухсот лет назад — воистину демон, возможно, главный агент Сатаны.
Мустафа мог только кивнуть.
— Мы полагаем, что лишь Священная Канцелярия достаточно подготовлена и оснащена — духовно и материально, — чтобы должным образом изучить это появление… и спасти несчастных мужчин, женщин и детей на Марсе.
«Козел вонючий!» — подумал Джон Доменико кардинал Мустафа, Великий Инквизитор и префект Священной Конгрегации по вопросам вероучения, известной под названием Верховной конгрегации святой инквизиции — и привычно мысленно раскаялся в произнесении непристойности.
— Понятно, — сказал он вслух, ровным счетом ничего не понимая, но восхищаясь ловкостью своих врагов. — Я немедленно назначу комиссию…
— Нет-нет, Доменико, — вмешался Его Святейшество, подходя поближе. — Вы должны отправляться немедленно. Эта… материализация демона угрожает целостности Тела Христова.
— Отправляться… — тупо повторил Мустафа.
— Мы реквизировали у Флота новейший звездолет класса «архангел», — живо отреагировал кардинал Лурдзамийский. — На борту — двадцать восемь человек команды, вы можете взять с собой еще двадцать одного… ваш персонал и служба безопасности… итак — двадцать один — и вы сами, разумеется.
— Разумеется, — повторил кардинал Мустафа и изобразил улыбку. — Разумеется.
— Имперский Флот ведет битву с этим воплощением дьявола — с Бродягами, в тот самый миг, когда мы с вами беседуем, — пророкотал кардинал Лурдзамийский. — Но демонической угрозе можно противостоять — и нанести сокрушительный удар — силою Церкви нашей святой.
— Разумеется, — поспешил согласиться Великий Инквизитор. «Марс, — подумал он. — Самый дальний прыщ на заднице цивилизованной вселенной. Триста лет назад я бы воспользовался мультилинией, а теперь придется выйти из игры и проторчать там столько, сколько им будет угодно. Никакой информации. Никакой возможности управлять моими людьми. А Шрайк… Если его все еще контролирует этот, чтоб его, Высший Разум Техно-Центра, то он очень просто может быть запрограммирован убить меня. Просто великолепно». — Разумеется, — повторил он. — Святой отец, когда я должен отправляться? Вы позволите мне закончить с текущими делами Священной Канцелярии… У меня есть в запасе несколько дней… или недель?
Папа улыбнулся и сжал локоть Мустафы.
— «Архангел» уже ждет вас и ваших людей, Доменико. Нам сообщили, что оптимальное время вылета — через шесть часов.
— Разумеется, — в последний раз сказал Великий Инквизитор, опустился на колено и поцеловал папский перстень.
— Господь с вами. — Папа коснулся склоненной головы кардинала и произнес формальное благословение на латыни.
Поцеловав перстень и ощутив на языке привкус камня и металла, Великий Инквизитор еще раз улыбнулся про себя ловкости тех, кого он думал переиграть и превзойти в коварстве.
Отцу капитану де Сойе так и не удалось поговорить с сержантом Грегориусом, а сейчас остались считанные минуты до прыжка в пространство Бродяг.
Первый прыжок — тренировочный полет в безымянную систему в двадцати световых годах за Великой Стеной. Как и Эпсилон Эридана, солнце в этой системе было класса K; но не красный карлик, а типа Арктура.
Эскадра «Гидеон» совершила переход без происшествий — новые саркофаги двухдневного автоматического воскрешения работали без сбоев. На третий день семь «архангелов» уже тормозили в системе, играя в тактические «кошки-мышки» с девятью факельщиками, которые прибыли туда раньше, после нескольких месяцев пути. Факельщикам было приказано спрятаться в системе, а «архангелам» — найти их и уничтожить.
Три факельщика укрылись в облаке Оорта среди протокомет, выключили двигатели, заглушили передатчики, а энергию расходовали на самом минимуме. «Уриил» засек их на расстоянии в 0,86 светового года и выпустил три виртуальные гиперкинетические ракеты. Де Сойя вместе с шестью другими капитанами находился в тактическом пространстве — солнце где-то на уровне пояса, двухсоткилометровые выхлопы семи «архангелов» словно процарапаны алмазом на черном стекле — и наблюдал, как голограммы возникли, обрели четкость и дематериализовались в облаке Оорта, преследуя теоретические гиперкинетические самонаводящиеся ракеты, как они вынырнули из пространства Хоукинга, разыскали бездействующие факельщики и зарегистрировали два точных виртуальных поражения цели и одно «серьезные повреждения — высокая вероятность уничтожения противника».
В системе не было планет как таковых, однако еще четыре факельщика условного противника обнаружились в засаде в аккреционном диске в плоскости эклиптики. «Ремиил», «Гавриил» и «Рафаил» атаковали издалека и определили поражение целей задолго до того, как датчики факельщиков смогли зарегистрировать присутствие «архангелов»-нарушителей.
Последние два факельщика затаились в фотосфере гиганта, заслонились силовыми полями класса «десять», а тепло излучали через моноволокна длиной в полмиллиона километров. Командование Флота весьма неодобрительно относилось к подобным уловкам во время тренировочных боев, но де Сойя только порадовался дерзости двух командиров: он и сам предпринял бы такой маневр лет десять назад.
Эти последние факельщики вырвались из-за К-звезды на полной тяге, их поля переизлучали тепло в видимом спектре — две ослепительно белые протозвезды. Они попытались сблизиться с эскадрой, идущей на скорости в три четверти световой. Ближайший «архангел» — «Сариил» — уничтожил оба факельщика, не потратив ни эрга из запасов для силового поля класса «тридцать», которое протянулось на сто километров впереди носа крейсера, расчищая путь. Если силовое поле откажет, чудовищные скорости потребуют чудовищную цену…
Адмирал Алдикакти упомянула о «вероятном поражении» цели в облаке Оорта. Эскадра развернулась по дуге, и все капитаны и их помощники встретились в тактическом пространстве обсудить модельный бой перед прыжком в пространство Бродяг.
Де Сойя терпеть не мог все эти встречи… сидят бюрократы надутые, три десятка мужчин и женщин в форменных мундирах Флота вокруг виртуального стола, сидят и обсуждают тактику, стратегию, технические неполадки оборудования и степень боеготовности. Солнце класса К ярко сверкает; звездолеты — как тлеющие угольки на черном бархате.
На трехчасовом совещании было решено, что «вероятное поражение» следует расценивать как промах и впредь запускать как минимум пять самонаводящихся гиперкинетических ракет. Далее перешли к обсуждению энергозатрат и выбора оптимальной дистанции точного поражения цели. Была разработана следующая стратегия: один «архангел» входит во вражескую звездную систему в тридцати световых минутах впереди эскадры — как приманка для радаров и датчиков противника, остальные идут следом и уничтожают цели.
Проведя на боевых постах двадцать два стандартных часа, еще не до конца оправившись после воскрешения, люди валились с ног. Но с «Уриила» по направленному лучу передали координаты для прыжка, и «архангелы» начали разгоняться к точке перехода. Де Сойя обошел звездолет, подбадривая экипаж. Сержанта Грегориуса, который командовал отделением из пяти швейцарских гвардейцев, он оставил напоследок.
Как-то раз, во время долгой и безуспешной погони на старом «Рафаиле» за девочкой по имени Энея, отец капитан де Сойя решил, что ему надоело называть сержанта Грегориуса «сержант Грегориус», и вызвал на экран его досье, чтобы узнать имя. К своему удивлению, де Сойя обнаружил, что имени у сержанта нет. Громадный ветеран родился и вырос на северном континенте болотистой планеты Патаупха, в воинской культуре, где новорожденным давали восемь имен — семь «имен слабости» и одно «имя силы», его обретали только те, кто уцелел после семи испытаний и доказал свое право. Бортовой компьютер сообщил капитану, что приблизительно из трех тысяч кандидатов выживал один, отвергавший после этого «имена слабости» и приобретавший «имя силы». О природе семи испытаний никаких данных в компьютере не было. Как следовало из досье сержанта, Грегориус первым из шотландцев-маори с Патаупхи стал морским пехотинцем, а впоследствии был принят в швейцарскую гвардию. Де Сойя давно уже хотел расспросить сержанта о семи испытаниях, но так и не набрался решимости.
В тот день, когда де Сойя спустился по гравиколодцу в кубрик гвардейцев, сержант Грегориус так обрадовался ему, что казалось, вот-вот кинется обниматься. Но не кинулся — щелкнул каблуками, вытянулся в струнку и гаркнул:
— Смирно!
Пятеро гвардейцев, занимавшихся своими делами — кто читал, кто стирал, кто чистил оружие, — тут же вскочили. На мгновение кубрик заполнили разлетевшиеся во все стороны скрайберы, журналы, импульсные ножи, части броневых скафандров и энергетические винтовки.
Капитан де Сойя кивнул сержанту и окинул взглядом всех пятерых — трех мужчин и двух женщин, ужасно, просто ужасно молодых. Худощавые, мускулистые, прекрасно адаптированные к невесомости и готовые к бою. Все как один ветераны. Каждый отличился так, что именно его выбрали для участия в этой операции. Де Сойя заметил в их глазах боевой азарт, и ему стало грустно.
Несколько минут ушло на проверку снаряжения, представление и беседу. Затем де Сойя поманил Грегориуса и вылетел из кубрика в отсек, где помещалась корабельная прачечная. Оставшись с Грегориусом наедине, капитан протянул руку:
— Чертовски рад видеть вас, сержант.
Грегориус ответил на рукопожатие и ухмыльнулся. Его квадратное, испещренное шрамами лицо ничуть не изменилось, и улыбка осталась такая же — открытая и приветливая.
— Взаимно, капитан. С каких это пор святой отец не боится поминать черта, а?
— А с таких пор, как его назначили командовать этим кораблем, сержант, — ответил де Сойя. — Как ваши дела?
— Отлично, сэр. Все в порядке.
— Вы участвовали в операции «Святой Антоний» и во вторжении в Стрелец. Капрал Ки погиб при вас?
Сержант Грегориус потер подбородок.
— Никак нет, сэр. Я был в созвездии Стрельца два года назад, но Ки там не видел. По слухам, транспорт, на котором он летел, подбили. На этом транспорте у меня была еще пара приятелей, сэр…
— Очень жаль, — сказал де Сойя. Они плавали в невесомости рядом со стиральной машиной. Капитан ухватился за фал и развернулся, чтобы посмотреть Грегориусу в глаза. — Как вы перенесли допрос, сержант?
Грегориус пожал плечами:
— Меня продержали на Пасеме несколько недель. Задавали одни и те же вопросы. Не поверили ни единому слову про то, что произошло на Роще Богов, — ни насчет той девки-киборга, ни насчет Шрайка. Потом, похоже, им надоело задавать вопросы, меня разжаловали в капралы и вернули на службу.
— Простите меня, сержант. — Де Сойя вздохнул. — Я рекомендовал повысить вас в звании. — Он невесело усмехнулся. — И вот чего стоила моя рекомендация. Нам повезло, что нас не отлучили от Церкви и не казнили.
— Так точно, сэр. — Грегориус бросил взгляд на звезды в иллюминаторе. — Нам явно не обрадовались, это вы верно заметили. — Он посмотрел на капитана. — А вы, сэр? Я слыхал, вас отправили в отставку?
Де Сойя улыбнулся:
— Да. Из боевых капитанов — в приходские священники.
— Говорят, вас сослали на какой-то занюханный пустынный мирок, сэр. Дескать, там и мочу продают по десять марок бутылка.
— Верно, — улыбнулся де Сойя. — Это моя родная планета.
— Вот дерьмо! — Грегориус совсем смутился. — Прошу прощения, сэр. Я хотел… Ну, я не… ни за что…
Де Сойя тронул его за плечо:
— Не переживайте, сержант. Вы абсолютно правы. На этой планете действительно торгуют мочой — только по пятнадцать марок за бутылку. Не по десять.
— Так точно, сэр. — На черной коже Грегориуса проступил румянец стыда.
— Да, сержант…
— Слушаю, сэр.
— С вас пятнадцать «Радуйся, Мария» и десять «Отче наш» за непристойные выражения. Не забывайте, я по-прежнему ваш духовник.
— Есть, сэр. — Сержант двинулся было к кубрику, но вдруг остановился. — Можно один вопрос, капитан?
— Давайте.
— У меня такое чувство, сэр, — пробормотал Грегориус, — что… В общем, ничего конкретного, но приглядывайте за своей спиной.
— Ладно, — ответил де Сойя.
Подождав, пока Грегориус вернется в кубрик и люк закроется, он направился к главному гравиколодцу. Следовало до старта лечь в свой саркофаг.
В системе Пасема было полным-полно торговых кораблей, боевых звездолетов, орбитальных станций — Тор Гильдии торговцев, военные базы, терраформированные астероиды типа Кастель-Гандольфо, орбитальные «бидонвили» по низким ценам, куда слетались миллионы, лишь бы поближе к центру цивилизации — ведь жить на самой планете не всем по карману. Кроме того, там наблюдалась самая высокая концентрация личных космических средств передвижения. Вот почему Кендзо Исодзаки, исполнительный директор и председатель Исполнительного Совета панкапиталистической лиги независмых католических трансгалактических торговых организаций, желая побыть в одиночестве, взялся пилотировать личный челнок и шел тридцать два часа на высоком ускорении к внешнему кольцу системы.
Даже выбрать челнок оказалось не слишком просто. Гильдия владела целой флотилией для перемещений внутри системы, но Исодзаки вполне допускал, что, несмотря на все принятые меры, на каждом челноке наверняка сидят «жучки». Сначала он предполагал арендовать грузовик, но потом рассудил, что его врагам — Ватикану, Священной Канцелярии, разведке Флота, «Opus Dei», соперникам внутри Гильдии и мало ли кому еще — ничего не стоит установить «жучки» на каждый из великого множества звездолетов Гильдии.
В конце концов Исодзаки переоделся, загримировался, отправился в общественный док Тора, купил на месте древний хоппер и велел своему подпольному ИскИну в комлоге вывести корабль из оживленной зоны эклиптики. Хоппер шесть раз окликали имперские патрули, однако лицензия была в порядке, к тому же он направлялся к астероидам — перекопанным вдоль и поперек, но все равно привлекательным для отчаявшегося старателя, — посему без личного досмотра обошлось.
Исодзаки злила эта мелодрама, бесцельная трата драгоценного времени. Можно было бы встретиться и у него в кабинете на Торе — если бы согласился второй. Но второй отказался, а Исодзаки в глубине души понимал, что ради этой встречи отправился бы и на Альдебаран.
Через тридцать два часа после вылета с Тора хоппер убрал внутреннее силовое поле и разбудил пассажира. Бортовой компьютер, на редкость тупой прибор, ни на что другое неспособный, выдал Исодзаки координаты и сведения о разработках, а нелегальный комлог тем временем сканировал пространство, выискивая корабли — в активном режиме или затаившиеся, после чего объявил, что сектор свободен.
— Как же он сюда доберется, если тут нет кораблей? — спросил Исодзаки, размышляя вслух.
— Иначе добраться невозможно, сэр, — отозвался комлог. — Если он здесь, что представляется крайне маловероятным…
— Молчать! — цыкнул Исодзаки.
Он сидел в пропахшем маслом полутемном блистере и глядел на зияющий жерлами шахт астероид в полукилометре от хоппера. Тем временем корабль сравнял скорость с астероидом, и знакомое пасемское звездное небо за астероидом начало вращаться. Если не считать астероида, вокруг не было ничего — только вакуум, космические лучи и пронзительная тишина.
И тут в наружный шлюз постучали.
Глава 8
В то время, когда происходила передислокация войск, в то время, когда армады матово-черных звездолетов дырявили пространственно-временной континуум, в тот самый миг, когда Великого Инквизитора отправили на терзаемый Шрайком Марс, а исполнительный директор Гильдии торговцев летел на тайное рандеву в открытом космосе, я лежал беспомощный в постели, мучимый дикой болью в спине и животе.
Боль — штука любопытная и обескураживающая. Мало что на свете способно столь бесцеремонно и столь решительно завладеть вашим вниманием, и мало о чем столь же скучно слушать или читать.
Боль всепоглощающа. Поразительно неумолимая, она обладает всеподчиняющей силой. В часы агонии — и тогда, и потом — я пытался сосредоточиться на окружающем, думать о других вещах, говорить с людьми, даже повторял в уме таблицу умножения, но боль проникала во все уголки сознания, точно расплавленное железо — в трещины плавильного тигля.
Я смутно осознавал происходящее — я на планете, которую комлог определил как Витус-Грей-Балиан Б; набирал воду из колодца, когда меня скрутила боль; подошла женщина в синем одеянии, синие ногти, открытые сандалии, и позвала на помощь других — в синих одеяниях, — они перенесли меня в дом, и я продолжал сражаться с болью на мягкой кровати. Там были и еще люди — женщина в синем платье и платке, молодой мужчина в синем костюме и в тюрбане и по крайней мере двое детей, тоже в синем. Эти добрые люди не только удовлетворились моими нечленораздельными извинениями и маловразумительными жалобами — они разговаривали со мной, клали на лоб влажные компрессы, успокаивали, сняли с меня ботинки, носки, жилет, заботились обо мне, ободряюще шепча что-то на своем странном языке, пока я пытался сохранить хоть крохи собственного достоинства, сражаясь с приступами боли.
Прошло несколько часов — небо за окнами стало по-вечернему розовым, — и женщина, та, что первой подошла ко мне, сказала:
— Гражданин, мы попросили местного священника-миссионера о помощи, и он отправился за доктором с имперской военной базы в Бомбасино. У военных почему-то не оказалось ни свободных скиммеров, ни других летательных аппаратов, поэтому священник и доктор… если доктор приедет… поедут вниз по реке — это пятьдесят пулов. Если повезет, они будут здесь еще до рассвета.
Я понятия не имел, сколько в одном пуле метров — или километров — и сколько надо времени, чтобы проделать путь в пятьдесят пулов, я не знал даже, сколько в этом мире длится ночь, но от одной лишь мысли, что скоро настанет конец моим мучениям, на глаза мне навернулись слезы… и я прошептал:
— Пожалуйста, мэм, не надо имперских врачей…
Женщина положила мне на лоб холодную ладонь.
— Так надо. В Лок Чайлд-Ламонде больше нет своего доктора. Вы можете умереть без медицинской помощи.
Я застонал и перекатился на бок. Боль пронзила меня раскаленной проволокой. Я понимал, что доктор с базы сразу поймет, что я не отсюда, сообщит обо мне полиции или военным — если этого уже не сделал их «священник-миссионер», — и меня наверняка задержат и допросят. На сем моя миссия и закончится — полным провалом. Четыре с половиной стандартных года назад, отправляя меня в эту одиссею, старый поэт Мартин Силен поднял бокал шампанского и предложил тост за героев. Если бы он только знал, чем это обернется в действительности! А может, знал?
Ночь тянулась с леденящей медлительностью. То ко мне заглядывали две женщины — посмотреть, как я, — то дети в голубых платьицах (наверное, в ночных рубашках) таращились на меня из полутемного коридора. У девочки светлые волосы… и прическа совсем как у Энеи в ту пору, когда мы встретились, и ей было двенадцать, а мне — двадцать восемь стандартных лет. Мальчик — он младше девочки — очень бледный, голова выбрита. Всякий раз, заглядывая ко мне, он робко махал ручонкой. Когда боль отступала, я вяло махал в ответ.
Уже рассвело, а врача все не было. Соленой мутью накатило отчаяние. Я не в силах выносить эту ужасающую боль еще час. Интуитивно я знал, что такие люди, как мои хозяева, давным-давно дали бы мне болеутоляющее, если б оно у них было. Я всю ночь пытался вспомнить, не осталось ли чего-нибудь подходящего в каяке. Нет, единственное, что я захватил из лекарств, — аспирин и средства дезинфекции. А против такой сокрушающей волны боли аспирин не поможет.
Я решил, что, пожалуй, смогу продержаться еще десять минут. Они сняли браслет комлога и положили на полку у кровати. Можно попробовать скоротать время за разговором с комлогом. Я потянулся к полке, задыхаясь от накатившей боли… еще немного — получилось! — Нацепив браслет на запястье, я прошептал:
— Биомонитор включен?
— Да.
— Я умираю?
— Показатели жизнедеятельности критические, — сообщил комлог неизменно спокойным тоном. — Вы в шоке. Кровяное давление… — Он пустился перечислять технические подробности и перечислял их до тех пор, пока я не велел ему заткнуться.
— Ты не выяснил, что со мной случилось?
За приступами боли волнами накатывала тошнота. В желудке уже ничего не осталось, но позывы на рвоту не прекращались.
— Состояние напоминает приступ при воспалении аппендикса.
— Аппендицит… — Такие бесполезные придатки, как аппендикс, были давным-давно генетически удалены из человеческого организма. — Разве у меня есть аппендикс?
Наступило утро… Шелест одежд в тишине дома… женщины уже несколько раз заглядывали ко мне.
— Ответ отрицательный, — сообщил комлог. — Такого не бывает, если только это не генетические отклонения, в данном случае вероятность…
— Помолчи, — прошипел я. В комнату вошли две женщины в голубом, а с ними — третья, выше, тоньше, явно не местная. В черном комбинезоне с крестом и кадуцеем — значком медицинских частей Имперского Флота на левом плече.
— Доктор Молина, — представилась она, распаковывая маленький черный саквояж. — На базе все скиммеры на маневрах, мне пришлось добираться по реке на катере. — Она приложила одну присоску к моей груди. Вторую — к животу. — Вы, наверное, считаете, что я проделала этот путь исключительно ради вас. Так вот, вынуждена вас разочаровать: один из наших скиммеров потерпел аварию близ Кероа-Тамбат, в восьмидесяти километрах к югу отсюда, и мне нужно оказать раненым первую помощь. Ничего серьезного, синяки и ушибы да одна сломанная нога. Не отзывать же скиммер с маневров из-за такой ерунды. — Доктор Молина достала из саквояжа небольшой приборчик и подключила к присоскам. — А если вы из тех, что сбежали несколько дней назад с грузовика Гильдии, то ограбить меня все равно не удастся. Вы не получите ни денег, ни наркотиков. Снаружи, у двери, двое охранников. — Она надела наушники. — Итак, что с вами стряслось, молодой человек?
Я покачал головой, заскрежетал зубами от очередного приступа боли и, когда смог, ответил:
— Не знаю, доктор… Спина… И тошнит…
Не обращая на меня внимания, доктор Молина изучала показания прибора. Внезапно она резко наклонилась и надавила мне слева на живот.
— Больно?
Я чуть не заорал.
— Да, — сказал я, когда смог говорить.
Она кивнула и повернулась к моей спасительнице в голубом.
— Скажите священнику, который меня привез, чтоб принес большую сумку. Организм полностью обезвожен. Нужно подключить искусственное питание. А потом я введу ему ультраморф.
И тут я понял: есть только боль, она над всем, превыше всего — превыше идеологий, честолюбивых устремлений, мыслей, эмоций; я знал это с детства, я видел, как умирала от рака моя мать. Есть только боль. И спасение от боли. Я готов сделать что угодно для этой разговорчивой и грубоватой женщины-врача.
— Что со мной? Откуда эта боль?
У доктора Молины был старинный шприц, в который она набрала из пузырька приличную дозу ультраморфа. Если бы даже она сказала мне, что я подхватил инфекцию и жить мне осталось несколько часов, — это не важно, все хорошо, только бы мне дали болеутоляющее.
— Камень в почках. — Должно быть, на моем лице отразилось полнейшее непонимание, потому что доктор Молина пояснила: — Маленький камешек… Но слишком крупный, чтобы выйти самостоятельно… Возможно, кальциевый… У вас были в последние дни какие-нибудь проблемы с мочеиспусканием?
Я постарался вспомнить. Да, иногда возникала боль и определенные затруднения, но я приписывал это тому обстоятельству, что слишком мало пью.
— Были, но…
— Камень в почках, — повторила доктор Молина, потирая мне левое запястье. — Так, укольчик сюда… — Укола я практически не почувствовал — что эта боль по сравнению с главной? Она подсоединила иглу к бутылке, в которой плескался физраствор. — Подействует через минуту. Потерпите, скоро ваши неудобства останутся позади.
Неудобства?.. Я закрыл глаза — не хотелось, чтобы видели, что я плачу. Женщина, которая спасла меня, взяла мою руку в свои ладони.
Боль начала отступать. Никогда в жизни ничего меня так не радовало, как это отсутствие боли. Словно приглушили наконец невыносимо громкий звук, и я обрел способность думать. Я снова стал собой, когда боль опустилась до привычного уровня ножевых ран и сломанных ног. С этим я мог справиться, не теряя достоинства. Женщина в голубом держала меня за руку.
— Спасибо, — прошептал я растрескавшимися губами, сжимая ее ладонь. — И вам спасибо, доктор Молина.
Врач наклонилась надо мной и легонько потрепала по щеке.
— Вам нужно поспать, но сначала я хотела бы кое-что выяснить. Не засыпайте, пока не ответите на мои вопросы.
Я кивнул, перед глазами все плыло.
— Как вас зовут?
— Рауль Эндимион. — Я вдруг понял, что не могу ей лгать. Должно быть, она подмешала в раствор «правдосказ».
— Откуда вы, Рауль Эндимион? — Она держала свой диагностический прибор так, словно это был рекордер.
— С Гипериона. Континент Аквила. Мой клан…
— Как вы попали в Лок Чайлд-Ламонд на планете Витус-Грей-Балиан Б, Рауль? Вы — один из тех, кто бежал в прошлом месяце с грузовика Гильдии?
— На каяке, — словно издалека услышал я свой голос. По телу разлилось приятное тепло. — Приплыл по реке на каяке. Через портал. Нет, я ниоткуда не сбегал…
— Через портал? — озадаченно переспросила доктор Молина. — Что вы хотите сказать, Рауль? Что вы просто проплыли под ним, сначала вверх по реке, а затем вниз?
— Нет. Я проплыл сквозь него. Из другого мира.
Доктор Молина обменялась взглядом с женщиной в голубом.
— Вы проплыли через портал из другого мира? То есть портал действует? И он перебросил вас сюда?
— Да.
— Откуда? — Левой рукой доктор считала мой пульс.
— Со Старой Земли. Я прибыл с Земли.
На мгновение я словно воспарил, блаженно-свободный от боли, а доктор тем временем вышла в коридор, поманив за собой женщину в голубом. До меня доносились обрывки разговора:
— …явно не все в порядке с головой… он не мог пройти через… галлюцинации… Старая Земля… Наверное, накачался наркотиками… один из беглецов… — Это говорила Молина.
— Мы рады приютить его… — отвечала женщина в голубом. — Мы позаботимся о нем…
— Здесь останется священник и один охранник… Когда в Кероа-Тамбат прибудет медскиммер, мы остановимся здесь, заберем его и доставим на базу… завтра или послезавтра… Не отпускайте его… Возможно, военная полиция…
Пребывая наверху блаженства потому лишь, что боль ушла, я перестал сопротивляться и погрузился в ультраморфные сны.
Мне снился наш разговор с Энеей несколько месяцев назад. Прохладная летняя ночь в пустыне, мы сидим под навесом у ее дома, пьем из кружек и смотрим, как на небе зажигаются звезды. Говорили мы об Ордене, и на все, что я ставил ему в упрек, у Энеи находилось, что возразить. Наконец я рассердился:
— Тебя послушать, так это вовсе и не Орден тебя ловил и пытался убить. Можно подумать, что не имперские корабли гонялись за нами по спиральному рукаву и не они подстрелили наш звездолет на Возрождении-Вектор. Не окажись там портал…
— Орден не гнался за нами, не стрелял в нас и не пытался нас убить, — тихо сказала девочка. — Всего лишь элементы Ордена. Мужчины и женщины, выполняющие приказы из Ватикана… или откуда-то еще, откуда там они их получают.
— Ладно, — сказал я, все еще не в силах успокоиться, — пусть всего лишь элементы этого стреляли в нас и убивали… Секундочку… Что ты имела в виду? Что значит «из Ватикана или откуда-то еще»? По-твоему, есть еще другие, кто отдает приказы? Другие, не Ватикан?
Энея передернула плечами. Движение грациозное, но меня это всегда приводило в бешенство. Одна из ее наименее приятных подростковых привычек.
— Разве есть другие? — спросил я требовательно и куда более резко, чем имел обыкновение говорить с моим юным другом.
— Всегда есть другие, — спокойно сказала Энея. — Рауль, они были правы, когда пытались отловить меня. Или убить.
И во сне — как и наяву — я поставил чашку с чаем на пол и уставился на нее.
— Ты говоришь, что ты… и я… что нас нужно поймать… или убить? Как зверей? И что они правы?
— Конечно, нет. — Энея скрестила руки на груди. В холодном ночном воздухе от чашек поднимался пар. — Я хочу сказать, Орден был вправе — с их точки зрения — прибегнуть к экстраординарным мерам, чтобы остановить меня.
Я покачал головой:
— Что-то я не помню, чтобы ты говорила что-нибудь этакое, ради чего за тобой следовало высылать в погоню целую эскадру звездолетов. Знаешь, детка, самым еретическим твоим высказыванием была фраза, что любовь — движущая сила Вселенной, как гравитация или электромагнитное взаимодействие. Но это просто…
— Чушь? — спросила Энея.
— Демагогия, — поправил я.
Энея улыбнулась и взъерошила свои короткие волосы.
— Рауль, друг мой, не того, что я говорю, они страшатся. А того, что делаю. Чему учу… делая… прикасаясь…
Я посмотрел на нее. Я уже почти забыл всю чепуху о Той-Кто-Учит в «Песнях» — эпической поэме Мартина Силена. Энея — и есть тот самый мессия, чей приход описан в пророчествах старого поэта двести лет назад… или даже больше. Пока вроде бы ничто не указывало на то, что в Энее исполнится пророчество о новом мессии… ничто — или почти ничто… она ведь вышла из Сфинкса в Долине Гробниц Времени на Гиперионе, и с чего бы вдруг Ордену неотступно преследовать и пытаться убить ее… и меня — того, кто оберегал ее на тернистом пути к Старой Земле.
— Что-то я не слышал в твоих поучениях ничего такого еретического или уж очень опасного, — мрачно сказал я. — Впрочем, я также не заметил, что ты делала что-либо, представляющее угрозу этой их Священной Империи.
Я всматривался в далекие огоньки Талиесинского братства. Пустыня кругом — пустыня и темнота ночи. И сейчас, в ультраморфном сне — и не во сне даже, а в воспоминании, — я словно видел себя со стороны, из темноты ночи наблюдая за происходящим в освещенной хижине.
Энея покачала головой и отпила глоток чая.
— Ты, может, и не видишь, Рауль, а они — видят. Они уже относятся ко мне как к заразе. И они правы… именно это я и есть — для Церкви я именно вирус, как в древности вирус иммунодефицита на Старой Земле или Красная Смерть, прокатившаяся после Падения по Окраине… Вирус, который проникает в каждую клетку организма и репрограммирует ДНК этих клеток… или хотя бы достаточное количество клеток, чтобы организм сбился с толку, стал слабеть… и погиб.
В моем сне я парил над шатром Энеи, как ястреб в ночи, кружа в вышине среди чужих звезд над Старой Землей, и видел нас — девочку и мужчину, — сидящих при свете керосиновой лампы, как заблудшие души в затерянном мире, как, впрочем, оно и было.
Еще два дня боль то захватывала, то отступала от меня, и я безвольно плыл по течению, то погружаясь в беспамятство, то приходя в себя, как лодка в океане. Я пил очень много воды — женщины в голубом приносили мне воду в стеклянных бокалах.
Я брел до туалета и мочился через фильтр — хотел поймать камень, вызывающий эту дикую пульсирующую боль. Камня не было. И каждый раз я был вынужден возвращаться в кровать и ждать следующего приступа. И мне не приходилось ждать напрасно. Даже тогда я сознавал, что в этом весьма мало героики настоящего приключения.
Перед уходом — доктор отправилась к месту аварии скиммера дальше по реке — мне дали понять, что и у охранника, и у приходского священника есть комы и что, если со мной возникнут проблемы, они немедля сообщат на базу. Доктор Молина уведомила, что мне будет очень плохо, если командованию Флота придется снять с маневров скиммер, чтобы экстренно доставить арестованного. Кроме того, она велела мне пить как можно больше воды и почаще мочиться. Если камень так и не выйдет, она поместит меня в тюремный лазарет на базе и разрушит камень ультразвуком. Она оставила четыре дозы ультраморфа женщине в голубом и ушла не попрощавшись. Охранник — лузианин средних лет, вдвое тяжелее меня, с игольником в кобуре и нейростеком на поясе — заглянул в комнату, сердито глянул и вернулся на пост у входной двери.
Пора уже перестать называть главу дома «женщиной в синем». Первые несколько часов боли она была для меня только женщиной в синем — кроме того, что была моей спасительницей, конечно, — но уже в первый день я узнал, что зовут ее Дем Риа. Я узнал также, что ее главный брачный партнер — другая женщина, Дем Лоа, и еще есть молодой мужчина, третий в их брачной триаде, Алем Микайл Дем Алем; и что девочка-подросток, Сес Амбре, дочь Алема от предыдущего брака, а бледный мальчик, совсем лысый — которому на вид около восьми стандартных лет, — дитя этого союза, хотя я так и не выяснил, кто его биологическая мать… Его звали Бин Риа Дем Лоа Алем, и он умирал от рака.
— Наш деревенский доктор, старейшина… он умер в прошлом месяце, и замены ему не нашлось… прошлой зимой отправил Бина в нашу больницу в Кероа-Тамбат, но они только назначили лучевую и химиотерапию и посоветовали надеяться на лучшее, — рассказывала Дем Риа, сидя у моей постели.
В тот день Дем Лоа пристроилась рядом, на другом стуле с прямой спинкой. Я спросил о мальчике, чтобы не обсуждать собственные проблемы. Солнечный свет ложился густыми, красными как кровь мазками на глинобитные стены, и изысканные одежды женщин переливались всеми оттенками глубоких тонов кобальтовой сини. Кружевные занавеси дробили лучи на свет и тени, создавая диковинный узор. Мы болтали в промежутках между приступами боли. Спина болела так, словно по ней врезали тяжелой дубинкой, но это было еще вполне терпимо, если сравнивать с резким, пронизывающим ожогом боли, когда камень сдвигался. Доктор сказала, что боль — хороший признак, когда так болит, значит, камень движется. Постепенно основной очаг боли переместился в низ живота. Но доктор еще сказала, что, чтобы камень прошел, могут потребоваться месяцы, и это еще в том случае, если камень окажется достаточно маленьким, чтобы выйти самостоятельно. А многие камни, подчеркнула она, приходится распылять или удалять хирургическим путем… Я заставил себя переключиться и дальше обсуждать здоровье ребенка.
— Лучевая и химиотерапия, — повторил я. Почему-то эти слова вызвали у меня отвращение. Словно Дем Риа сказала, что врач прописал мальчику пиявки. В Гегемонии знали, как лечить рак, но почти все генные технологии были утрачены после Падения. А что не было утрачено, стало чересчур дорогостоящим для повсеместного применения, когда Великая Сеть канула в небытие. Имперский торговый Флот возил грузы и товары между звездами — но это было медленно, дорого и слишком мало. Медицина была отброшена на несколько веков назад. Моя мать умерла от рака — она отказалась от лучевой и химиотерапии, которые ей предложили в клинике.
Но зачем лечить смертельный недуг, если есть крестоформ? Можно умереть и воскреснуть здоровым. Крестоформ излечивал даже некоторые наследственные болезни. А смерть, как неустанно повторяла Церковь, — таинство, столь же сакральное, как и воскресение. Об этом можно молиться. Теперь любой может преобразить боль и отчаяние болезни и смерти в торжество искупительной жертвы Христа. До тех пор, разумеется, пока этот любой носит крестоформ.
Я прокашлялся.
— Э… у Бина нет… Ну, я хотел сказать… — Ночью, когда мальчик махал мне рукой, его рубашка распахнулась, приоткрыв хилую грудь без крестоформа.
Дем Лоа покачала головой. Капюшон ее одеяния был из мерцающей переливчатой как шелк ткани.
— Никто из нас еще не принял крестоформ. Но отец Клифтон… э-э-э… убеждает нас…
Я мог только кивнуть. Боль в спине и в паху вернулась, пробежав как электрический ток по нервам.
Пожалуй, мне следует разъяснить, что означали разные цвета в одежде жителей Лок Чайлд-Ламонда на планете Витус-Грей-Балиан Б. Дем Риа рассказывала, что сто лет назад те, кто сейчас живет по берегам реки, переселились из звездной системы 9352-й Лакайля. Их мир, когда-то называвшийся Горечь Сибиату, был реколонизирован имперскими религиозными фанатиками. Новые колонизаторы дали ей другое название — Неизреченная Милость — и принялись обращать местные культуры, пережившие Падение. Культура Дем Риа — миролюбивая, философская, ориентированная на взаимодействие всех членов сообщества, — предпочла обращению эмиграцию. Двадцать семь тысяч человек пожертвовали свое состояние и рискнули жизнью, чтобы снарядить древний ковчег и доставить всех — мужчин, женщин, детей, домашних животных и все-все-все после сорока девяти лет холодного сна на Витус-Грей-Балиан Б, где после Падения не выжил никто.
Народ Дем Риа называл себя Спектральной Спиралью Амуа, по названию эпической философской симфонической голопоэмы Хэлпула Амуа. В поэме Амуа цвета спектра метафорически символизировали человеческие ценности. Спиральные сочленения, наслоения, синергии и столкновения служили зримым выражением конфликтов, этими ценностями создаваемых. Спиральная симфония Амуа исполнялась с музыкой, стихами и голографическими изображениями, все вместе олицетворяло философское взаимодействие. Дем Риа и Дем Лоа объяснили, что их культура заимствовала значения цветов у Амуа: белый — цвет чистоты, интеллектуальной честности и физической любви; красный — страсть, искусство, политические убеждения и храбрость; синий — интроспективные откровения музыки, математики, индивидуальная терапия помощи другим; изумрудно-зеленый — созвучие с природой, контакт с техникой, сохранение вымирающих видов; черный — цвет мистерий, и так далее. Тройной брак, непротивление и другие особенности культуры возникли частично из философии Амуа и в большей степени — из богатой общинной культуры народа Спирали, созданной на Горечи Сибиату.
— Значит, отец Клифтон убеждает вас прийти в Церковь? — спросил я, когда боль немного отступила.
— Да, — сказала Дем Лоа.
Их супруг, Алем Микайл Алем, вошел в комнату и сел на подоконник. Он внимательно слушал, но говорил мало.
— Ну а вы что? — Я осторожно повернулся. Я не просил дать мне ультраморф уже несколько часов. Скажу честно, мне страшно хотелось его попросить.
— Если мы все примем крест, маленького Бина Риа Дем Лоа Алема отправят на базу в Бомбасино. Даже если они не смогут его вылечить, Бин вернется к нам… после… — Дем Риа опустила голову и спрятала руки в складках одежды.
— Они не позволят принять крест только Бину? — догадался я.
— Конечно… Они всегда стоят на том, что обратиться должна вся семья. Впрочем, это можно понять… Отец Клифтон очень расстроен, но он надеется, что мы примем Иисуса Христа и примем не слишком поздно…
— А ваша дочь, Сес Амбре — ей бы хотелось стать христианкой? — спросил я и тут же понял: это слишком личное, о таком не спрашивают. Но мне было интересно, да и размышления об этой мучительной дилемме отвлекали от моей вполне реальной, но куда менее значимой боли.
— Сес Амбре хочет стать возрожденной христианкой и полноправной гражданкой Священной Империи, — ответила Дем Лоа, поднимая голову. — Тогда ей позволят посещать церковную академию в Бомбасино или в Кероа-Тамбат. Она считает, что там ее ждут интересные брачные перспективы.
Я раскрыл было рот, передумал, а потом все-таки сказал:
— Но ведь тройной брак не… Разве Церковь позволит…
— Нет, — сказал Алем. Он нахмурился, серые глаза смотрели грустно. — Церковь не допускает ни однополых, ни полигамных браков. Наша семья погибнет.
Я заметил, как все трое обменялись взглядами… и в этих взглядах была такая любовь и такой страх потери, что это на долгие годы останется со мной.
Дем Риа вздохнула:
— В любом случае это неизбежно. И отец Клифтон прав… мы должны сделать это сейчас, ради Бина, а то дождемся: он умрет истинной смертью, мы потеряем его навсегда… и только потом примем крест. Уж лучше водить нашего мальчика на воскресную мессу и слушать, как он смеется, чем ходить в собор, чтобы поставить свечу за упокой его души.
— Почему неизбежно? — удивился я.
Дем Лоа пожала плечами.
— Наше общество Спектральной Спирали зависит от всех его членов… Все витки и составляющие Спирали должны быть на своем месте, чтобы взаимодействовать, работать ради прогресса и добра. Но все больше и больше людей Спирали оставляют свои цвета и принимают крестоформ. Ядро долго не продержится.
Дем Риа коснулась моего локтя, как бы желая подчеркнуть то, что скажет дальше:
— Все-таки они не сумели нас принудить. — Ее голос звучал как шелест ветра в кружеве занавесей за ее спиной. — Мы способны оценить и чудо воскрешения, но… — Она замолчала.
— Но это очень тяжело, — договорила Дем Лоа, и ее ровный голос вдруг сорвался.
Алем Микайл Дем Алем поднялся с подоконника, подошел к своим супругам и, опустившись на колени, невыразимо нежно коснулся запястья Дем Лоа, а другой рукой обнял Дем Риа. На мгновение они забыли все, и меня тоже, в своей любви и скорби.
А потом вернулась боль, пронзила раскаленным копьем, проникая как лазер в спину и пах. Я громко застонал, не в силах удержаться.
Трое разомкнули объятия, и Дем Риа протянула руку за шприцем с очередной дозой ультраморфа.
Сон был все тот же — я лечу в ночи над Аризоной, внизу пустыня, я смотрю на себя и Энею: мы пьем чай и болтаем под навесом у ее домика, на этот раз разговор ушел далеко от воспоминания о нашем реальном разговоре той ночью.
— Это как ты — вирус? — спросил я. — Как это так получается, что то, чему ты учишь, чему бы ты ни учила, — угроза для огромной могущественной Империи?
Энея смотрела прямо перед собой, в черную пустоту, вдыхая ночные ароматы. И она не повернулась ко мне.
— Знаешь, в чем главная ошибка в «Песнях» дяди Мартина, Рауль?
— Нет, — сказал я. За прошедшие годы она уже сообщала о выявленных ошибках, пропусках и неверных предположениях — да и вместе мы обнаружили несколько во время путешествия на Старую Землю.
— Их две, — тихо сказала Энея. В ночной пустыне раздался крик ястреба. — Первая — он верил тому, что сообщил моему отцу Техно-Центр.
— Насчет того, что они — те, кто похитил Землю? — уточнил я.
— Насчет всего, — поправила Энея. — Уммон лгал кибриду Джона Китса.
— Почему? — удивился я. — Ведь они собирались уничтожить его.
Наконец Энея повернулась ко мне:
— Там была моя мать, чтобы записать разговор. И Центр знал, что она расскажет все старому поэту.
Я задумчиво кивнул:
— А он приведет это как достоверный факт. Но с какой стати им было лгать?..
— Вторая ошибка более серьезна, — не повышая голоса, перебила Энея. Небо на северо-западе по-прежнему чуть светилось. — Дядюшка Мартин верил, что Техно-Центр — враг человечества.
Я поставил чашку на камень.
— Ошибка? А что, ИскИны нам не враги? — Энея не ответила. Я принялся загибать пальцы. — Во-первых, из «Песней» следует, что Центр стоял за нападением на Гегемонию — за той атакой, которая привела к Падению. Не Бродяги, а именно Центр. Церковь это отрицает и винит во всем Бродяг. Ты хочешь сказать, что Церковь права, а старый поэт — нет?
— Нет. Атаку спланировал Центр.
— Миллиарды погибших… — Я чуть не плюнул от возмущения. — Гегемония уничтожена. Великая Сеть уничтожена. Мультилинии уничтожены…
— Техно-Центр не обрубал мультилиний.
— Ладно. — Я перевел дыхание. — Их обрубили некие загадочные сущности… Скажем, твои медведи, тигры и львы. Но ведь атаку-то организовал Центр…
Энея кивнула и подлила себе чая.
Я загнул второй палец.
— Второе. Техно-Центр использовал порталы как каких-то космических пиявок, паразитирующих на человеческих нейронных сетях для их этого самого чертова проекта Высшего Разума — да или нет? Всякий раз тот, кто телепортировался… использовался… этими… этими самыми ИскИнами. Так или не так?
— Именно так, — сказала Энея.
— Третье. — Я загнул следующий палец. — В поэме Рахиль — дочь паломника Сола Вайнтрауба, которая пришла из будущего сквозь Гробницы Времени, — говорит о том времени, которое придет… — я процитировал: — «разразится последняя война между создателем Техно-Центра — Высшим Разумом — и человеческим духом». Это ошибка?
— Нет.
— Четвертое, — сказал я, начиная чувствовать себя последним идиотом, демонстрирующим упражнения по загибанию пальцев, но к этому моменту я уже был достаточно зол, чтобы продолжить. — Разве Центр не признался твоему отцу, что создал его… создал кибрид Джона Китса… только как приманку для — как они это называли? — эмпатической составляющей человеческого Высшего Разума, который, как предполагалось, возникнет когда-нибудь в будущем?
— Так они говорили, — согласилась Энея, потягивая чай. Похоже, все это ее забавляло. А я еще больше озлился.
— Пять. — Я загнул последний палец на правой руке, теперь я показывал ей кулак. — Разве не Центр — о черт!.. — не Центр приказал Ватикану поймать и убить тебя на Гиперионе, на Возрождении-Вектор, на Роще Богов… половину пути по спиральному рукаву?
— Да, — спокойно сказала Энея.
— И разве не Центр, — сердито продолжал я, напрочь забыв про счет на пальцах и про то, что мы, собственно, говорим об ошибках старого поэта, — создал эту особь женского пола… эту… эту тварь… ведь она отрубила бедному А.Беттику руку на Роще Богов и, не вмешайся тогда Шрайк, унесла бы твою голову в сумке? — Я погрозил неизвестно кому кулаком, так я был зол. — Разве не этот сраный Центр пытался прикончить меня заодно с тобой и, наверное, таки прикончит, если у нас хватит дури когда-либо опять сунуться в пространство Ордена?
Энея кивнула.
Я почти задыхался, как после спринтерской дистанции.
— Ну и? — неубедительно закончил я, разжимая кулак.
Энея коснулась моего колена — и, как всегда, меня словно током дернуло.
— Рауль, я не утверждала, что Центр не замышляет всякие пакости. Я всего лишь сказала, что дядюшка Мартин ошибался, изображая его врагом человечества.
— Но если все это правда… — Я в ошалении замотал головой.
— Это элементы Техно-Центра напали на Гегемонию перед Падением, — пояснила Энея. — Мы знаем — ведь мой отец побывал там с Уммоном, — что Техно-Центр не пришел к согласию по многим вопросам.
— Но… — начал я.
Энея подняла руку, и я умолк.
— Они использовали наши нейронные сети для создания своего проекта Высшего Разума, но ни из чего не следует, что это повредило людям.
Ну и ну! Вот это объяснение — при мысли о том, что ИскИны используют человеческие мозги как нейронную пузырьковую память, меня чуть не вывернуло наизнанку.
— Они не имеют права!
— Конечно, нет, — согласилась Энея. — Им бы следовало спросить разрешения. И что бы ты сказал?
— Что?! Трахнуть себя в задницу! Вот что! — завопил я, тут же осознав всю абсурдность подобного пожелания применительно к ИскИнам.
Энея улыбнулась.
— Ты должен помнить, что мы использовали их ментальную энергию для наших собственных целей больше тысячи лет. Не думаю, что мы спрашивали позволения их предков, когда создали первый кремниевый ИскИн… или первый магнито-пузырьковый… или на основе ДНК.
— Это совсем другое. — Я сердито отмахнулся.
— Ну да, конечно. Группа ИскИнов, носящая прозвище Богостроителей, создала для людей немало проблем в прошлом и еще создаст в будущем — включая попытку убить нас с тобой, — но они всего лишь часть Техно-Центра.
Я покачал головой.
— Не понимаю, детка, — сказал я уже немного мягче. — Ты действительно утверждаешь, что есть плохие ИскИны и хорошие ИскИны? Ты что, забыла — они же на самом деле рассматривали вариант полного уничтожения человеческой расы! И они ведь это сделают, даже если мы попробуем им помешать. Ну так и что, по-твоему, они не враги человечества?
Энея опять коснулась меня. В темных глазах читалась тревога.
— Не забывай, Рауль, человечество уже было близко к самоуничтожению. Капиталисты и коммунисты готовы были взорвать Землю, а ведь тогда была только одна планета. И ради чего?
— Ну да, — вяло согласился я, — но…
— А Церковь и сейчас готова уничтожить Бродяг. Это геноцид… и мало того — геноцид в невиданных доселе масштабах.
— Ну… Церковь… да и многие другие… не считают Бродяг человеческими существами.
— Ерунда! — возразила Энея. — Они человеческие существа. Они эволюционировали из людей со Старой Земли, как и ИскИны Техно-Центра. Все три расы — сироты в грозу.
— Все три расы… — повторил я. — Господи Боже, Энея, ты что, причисляешь Техно-Центр к человечеству?
— Мы сами создали их, — кротко сказала она. — Поначалу мы применяли человеческие ДНК для увеличения вычислительной мощности ИскИнов. Мы привыкли к роботам. Они создали кибридов из ДНК человека и ИскИнов. И сейчас у власти человеческое сообщество — и вся слава, вся власть принадлежит ему, потому что оно установило завет с Богом… — человеческим Высшим Разумом. Быть может, в Техно-Центре аналогичная ситуация — я имею в виду власть Богостроителей.
Я ошарашенно уставился на нее. Я ничего не понимал.
Энея положила обе руки на мое колено. Я чувствовал заряд ее прикосновения через ткань брюк.
— Рауль, ты помнишь, что сказал ИскИн Уммон второму кибриду Китса? Этот фрагмент «Песней» достоверен. Уммон говорил буддийскими коанами… или по крайней мере это звучит так в интерпретации дядюшки Мартина.
Я закрыл глаза, припоминая эту часть эпической поэмы. Давно, очень давно мы с бабушкой сидели у костра и по очереди читали поэму наизусть.
Энея начала произносить слова, едва они всплыли в моей памяти.
— Вот что сказал Уммон второму кибриду Китса:
[Ты должен понять/
Китс/
единственным выходом для нас
было создание гибрида/
Сына Человека/
Сына Машины\\
И это прибежище должно быть таким привлекательным/
чтобы беглое Сопереживание
даже не смотрело на прочие обиталища\
Сознание почти божественное
какое только могли предложить
тридцать человеческих поколений/
воображение свободно странствующее
через пространство и время\\
И благодаря этим дарам
и соответствиям/
образовать связь между мирами/
которая позволила бы
этому миру ладить
с обеими сторонами]
Я потер щеку и задумался. Ночной ветерок шевелил брезентовый полог шатра и доносил дурманящие запахи пустыни. Чужие звезды светили у горизонта над старыми горами Старой Земли.
— Эмпатия, по общему мнению, исчезнувшая составляющая человеческого ВР, — медленно проговорил я, словно разгадывая загадку. — Часть нашего эволюционировавшего сознания, вернувшаяся назад во времени. — Энея посмотрела на меня. — Под гибридом разумелся кибрид Джона Китса. Сын Человека и Машины.
— Нет, — тихо возразила Энея. — Это вторая ошибка дядюшки Мартина. Кибриды Китса не были созданы, чтобы стать прибежищем для Сопереживания в этот период. Они были созданы, чтобы стать орудием слияния Техно-Центра и человечества. Короче, чтобы появился ребенок.
Я посмотрел на ее маленькие детские руки.
— Значит, ты — «сознание почти божественное, какое только могли предложить тридцать человеческих поколений»? — Энея пожала плечами. — И у тебя есть «воображение, свободно странствующее сквозь пространство и время»?
— Оно у всех людей есть, — сказала Энея. — Разница в том, что я — в мечтах или в воображении — вижу то, что действительно случится. Помнишь, я сказала тебе, что помню будущее?
— Угу.
— Вот сейчас я вспомнила, что через несколько месяцев тебе приснится наш разговор. Ты будешь лежать в постели — с ужасной болью — на планете с очень сложным названием, и вокруг тебя будут люди в голубом…
— Чего-чего?
— Не бери в голову. Это обретет смысл, лишь когда наступит. Все не-вероятности исполняются, когда волны вероятности коллапсируют в событие.
— Энея, — услышал я собственный голос, поднимаясь над пустыней все выше и выше, и увидел далеко внизу маленькие фигурки — себя и девочку, — скажи мне, в чем твой секрет?.. Что делает тебя мессией, этой «связью между мирами»?..
— Хорошо, Рауль, хорошо, любимый… — Она вдруг превратилась во взрослую женщину — за мгновение до того, как я поднялся слишком высоко на крыльях сна, чтобы различать детали или слышать. — Я скажу тебе. Слушай.
Глава 9
К моменту перехода в пятую систему Бродяг эскадра «Гидеон» уже уверенно била на поражение.
Еще из курса военной истории отец капитан де Сойя знал, что почти все бои в космосе, которые велись не ближе одной второй АЕ от планеты, луны, астероида или стратегической точки пространства, начинались только в обусловленном месте. И, насколько он помнил, примерно так же все обстояло уже до Хиджры на Старой Земле — как правило, великие морские сражения проходили в виду суши в тех же акваториях; если что и менялось с течением времени, так это сами корабли — от греческой триремы до стальных линкоров. Но с появлением авианосцев все изменилось: штурмовики дали возможность наносить удары далеко в море — это уже были совсем не те легендарные морские сражения, когда крейсеры вели обстрел с дистанции прямой видимости. И когда это произошло — а тогда даже еще не пришло время управляемых снарядов, тактических боеголовок и энергопушек, — морские волки Старой Земли начали тосковать по залпам и абордажам.
И в космической войне вернулись к принципу ведения боя в обусловленном месте. Великие сражения эпохи Гегемонии — давние междоусобные войны с генералом Горацием Гленнон-Хайтом, столетия войны между мирами Гегемонии и Роями Бродяг, — как правило, велись вблизи планет или космических порталов. А дистанции между противниками были до смешного малы — сотни тысяч километров, а зачастую и десятки тысяч, впрочем, бывало и того меньше, — и это при том, что до места битвы — световые годы и парсеки. Но это было необходимо, поскольку на то, чтобы преодолеть одну астрономическую единицу, у света уходило восемь минут, у ракет, даже с максимальным ускорением, намного больше, а погоня и сама стычка длились иногда не один день. Спин-звездолеты легко уворачивались от ракет, а наложенные Церковью ограничения на применение ИскИнов существенно затрудняли задачу. Поэтому уже многие столетия космические битвы велись по издавна заведенному правилу — эскадры прыгали в нужный сектор пространства, где обнаруживали готового к обороне противника, перемещались на расстояние поражения, обменивались разящими ударами и отступали на подготовленные позиции, освобождая дорогу подкреплениям, — или гибли, если отступать было некуда, а победитель торжествовал и подбирал трофеи.
Технически те корабли, на которых де Сойя служил раньше, были, конечно, не так совершенны, да и скорости гораздо ниже, но они имели мощное тактическое преимущество над крейсерами класса «архангел». На пробуждение после криогенной фуги требовались в худшем случае часы, а в лучшем — минуты, а это значит, что капитан и экипаж звездолета с двигателем Хоукинга готов к бою сразу после выхода из состояния С-плюс. А на «архангелах», даже с папским разрешением на ускоренный — и опасный — двухдневный цикл воскрешения, — требовалось как минимум пятьдесят стандартных часов, прежде чем экипаж будет в состоянии сражаться. Теоретически это давало огромное преимущество обороняющимся. Теоретически Орден мог бы оптимизировать применение кораблей с двигателями Гидеона — например, отправлять аппараты без команды, пилотируемые ИскИнами, во вражеское пространство. Они учиняли бы там бойню и прыгали обратно, прежде чем противник успеет что-либо понять.
Но такая теория здесь неприменима. ИскИны, способные на решение таких неопределенных логических задач, никогда не будут разрешены Церковью. Но это все не важно, главное, что Имперский Флот разработал-таки стратегию нападения с учетом требований воскрешения таким образом, чтобы не дать противнику никаких преимуществ. Короче говоря, теперь никаких сражений по правилам. «Архангелы» должны были обрушиться на врага, как разящая десница Господня, — и именно это они сейчас и делали.
Первые три вторжения эскадры «Гидеон» в пространство Бродяг осуществлялись по стандартному плану: первым совершал переход «Гавриил», корабль капитана Стоун, и жестко тормозил в системе — лакомая приманка для всех электромагнитных, нейтронных и прочих зондов дальнего радиуса действия. Ограниченных возможностей бортовых ИскИнов хватило для распознавания местоположения и типа всех объектов — и оборонительных позиций, и центров сосредоточения населения — при одновременном слежении за медленным перемещением в системе военных транспортных кораблей Бродяг.
Через тридцать минут «Уриил», «Рафаил», «Ремиил», «Сариил», «Михаил» и «Рагуил» совершали переход в систему. Сбросив скорость до трех четвертых световой, эскадра все равно летела как пуля по сравнению с черепашьими скоростями факельщиков Бродяг. Получив с «Гавриила» информацию и параметры цели по узконаправленному лучу, эскадра открывала огонь из оружия, неподвластного ограничениям световых скоростей. Модифицированные гиперкинетические ракеты Хоукинга возникали словно из небытия среди вражеских кораблей и над населенными центрами — некоторые поражали цели, другие взрывались в строго рассчитанных точках, устраивая плазменные либо термоядерные взрывы. В то же время в намеченные секторы посылались зонды, которые выходили в реальное пространство и атаковали врага лазерами, уничтожая все и вся в радиусе сотен тысяч километров.
Кроме того, и это было самое страшное, крейсера использовали нейродеструкторы, которые словно невидимые серпы косили врагов подобно неумолимой карающей деснице Господа. В мгновение ока плавились и сгорали несчетные триллионы нервных клеток. Десятки тысяч Бродяг погибали, так и не узнав, что на них напали.
А затем эскадра выходила в реальное пространство и приближалась к останкам вражеских укреплений, чтобы нанести последний удар.
Каждая из семи звездных систем зондировалась управляемыми ракетами, и только если присутствие Бродяг подтверждалось, намечались главные цели и давался сигнал к атаке. Каждая из семи звездных систем имела свое название — обычно буквенно-цифровое по Новому общему каталогу, но штаб на «Урииле» назвал их по именам семи главных ветхозаветных демонов.
Отцу капитану де Сойе вообще казалось, что это уж чересчур, вся эта каббалистика — семь архангелов, семь главных целей, семь главных демонов, семь смертных грехов. Но вскоре он привык.
Системы назвали так: Бельфегор (праздность), Левиафан (зависть), Вельзевул (чревоугодие), Сатана (гнев), Асмодей (похоть), Маммона (алчность) и Люцифер (гордыня).
Бельфегор — система красного карлика — напомнила де Сойе звездную систему Барнарда, но вместо прелестного, полностью терраформированного Мира Барнарда у Бельфегора была единственная планета — безымянный газовый гигант. А вокруг этого безымянного газового гиганта вращались цели — заправочные станции для факельщиков Роев, гигантские танкеры, доставлявшие газ с планеты на орбиту, доки и орбитальные верфи. Де Сойя атаковал без колебаний, превратив все объекты в орбитальную лаву.
Эскадра «Гидеон» обнаружила, что почти все крупные населенные пункты дрейфуют за газовым гигантом в троянских точках — множество маленьких орбитальных лесов, а в них десятки тысяч адаптировавшихся к космосу «ангелов». Почти все они раскрыли в слабом красном свете солнца силовые крылья, отчаянно пытаясь спастись. Семь «архангелов» обратили в прах хрупкие экосистемы, уничтожили все леса, все астероиды, все водяные кометы, и летящие «ангелы» сгорели в пламени, как мотыльки.
Вторая система, Левиафан, вопреки столь выразительному названию — звезда класса В типа Сириуса едва ли с дюжиной астероидов Бродяг, жавшихся поближе к бледному пламени. Здесь не было явно военных целей, которые де Сойя так охотно атаковал в системе Бельфегора: астероиды никак не защищены — возможно, здесь даже находились родильные дома: в полых внутри скалах поддерживалось давление и создавалась приемлемая среда для тех, кто предпочел не адаптироваться к вакууму и жесткой радиации.
Сметя все «лучами смерти», эскадра «Гидеон» проследовала дальше.
Третья система, Вельзевул, — красный карлик типа Альфы Центавра: ни планет, ни колоний, одна-единственная база во тьме, в тридцати астроединицах от солнца. Там заправлялись и ремонтировались пятьдесят семь кораблей Роя. Тридцать девять боевых кораблей, от крохотных разведчиков до линкоров класса «орион», ринулись на эскадру «Гидеон». Сражение продолжалось две минуты восемнадцать секунд. Все пятьдесят семь кораблей Бродяг и комплекс военной базы превратились в облако газа. Ни один «архангел» не получил повреждений. Эскадра двигалась дальше.
Четвертая система, Сатана, — никаких кораблей, только колонии для выращивания потомства, протянувшиеся до облака Оорта. В этой системе эскадра задержалась на одиннадцать дней, предавая огню «ангелов Люцифера».
Пятая система, Асмодей, центрированная приятным оранжевым карликом класса К, что-то вроде Эпсилона Эридана. Здесь на защиту населенного пояса астероидов выплеснулись волны внутрисистемных факельщиков. Факельщики были уничтожены с минимальными энергопотерями. «Гавриил» сообщил о наличии восьмидесяти двух заселенных астероидов, численность населения оценивалась примерно в полтора миллиона адаптированных и неадаптированных Бродяг. Восемьдесят один астероид был уничтожен или обработан с огромного расстояния нейродеструкторами. А потом адмирал Алдикакти отдала приказ высадить десант. Эскадра «Гидеон» сбрасывала скорость по вытянутой эллиптической траектории, которая привела их через четыре дня к поясу астероидов и к тому самому, единственному, оставшемуся. Радар показал, что астероид кружится и кувыркается совершенно беспорядочно — лишь богам хаоса понятно, по какой модели, но что он вращается вокруг своих осей. Зондирование показало, что астероид внутри полый и что там находится не менее десяти тысяч живых особей. Они обнаружили родильный дом Бродяг.
На эскадру попытались напасть шесть безоружных хопперов. С расстояния в восемьдесят шесть тысяч километров «Уриил» превратил их в плазму. Тысяча «ангелов» — некоторые с оружием малой мощности или с винтовками — расправили крылья и полетели к кораблям Имперского Флота длинными галсами на гребне солнечного ветра. Но их скорость была слишком мала… Сжечь их предоставили «Гавриилу».
«Архангелы» обменялись сообщениями по направленному лучу. «Рафаил» и «Гавриил» подтвердили приказы и приблизились к безмолвному астероиду на тысячу километров. Открылись шлюзы, и в лучах желтого карлика двенадцать крохотных фигурок — по шесть с каждого корабля — устремились к скале. Сопротивления не было. Солдаты обнаружили два загерметизированных шлюза. Они синхронно взорвали внешние двери и по трое проникли внутрь.
— Благословите, отец, ибо я согрешил… Последний раз я исповедовался два стандартных месяца назад.
— Продолжайте.
— Отец, сегодняшняя акция… Это беспокоит меня.
— Да?
— Так нельзя…
Отец капитан де Сойя молчал. Он наблюдал за ходом операции и видел сержанта Грегориуса по виртуальным тактическим каналам. Он переговорил с людьми после задания. И сейчас он приготовился выслушать все это еще раз в сумраке конфессионала.
— Продолжайте, сержант.
— Есть, сэр! — ответил Грегориус из-за перегородки. — Я хотел сказать, отец… — Сержант шумно вздохнул. — Мы не встретили сопротивления. В смысле, я и мои ребята. Мы поддерживали связь по лучу с отделением сержанта Клюге с «Гавриила». А также, разумеется, с генералами Барнс-Эйвне и Учикавой.
Де Сойя в своей части кабинки конфессионала хранил молчание. Кабинка была сборной, ее разбирали, когда шли в форсированном режиме или на боевых позициях, то есть большую часть времени, но сейчас здесь, как в настоящих конфессионалах, пахло деревом, потом, бархатом и грехом. Отец капитан имел время ощутить это, до последнего разгона перед точкой перехода в шестую систему Бродяг — Маммону — оставалось еще полчаса. Он предоставил команде время для исповеди, но откликнулся только сержант Грегориус.
— Когда мы приземлились, сэр… отец… я отправил парней к южному шлюзу, мы так делали на виртуальных тренажерах. Мы взорвали шлюз как нечего делать, а потом включили силовые экраны, на случай, если вдруг засада.
Де Сойя кивнул. Боевые скафандры швейцарских гвардейцев — лучшее, что есть в человеческой вселенной, они действовали в воде и воздухе, выдерживали вакуум, жесткое излучение, энергетический залп и взрыв мощностью до килотонны. А в новых скафандрах — еще и встроенные силовые поля, которые питаются от силовых полей звездолетов.
— Ну и… они на нас напали… эти Бродяги, отец, они сражались в лабиринте туннелей, в темноте. Среди них и эти — адаптированные к космосу существа, сэр, «ангелы», только со сложенными крыльями. Но больше обычных людей в комбинезонах… о броне и говорить-то смешно… В нас стреляли из винтовок и лучеметов, но у них-то обычные очки ночного видения, значит, мы и заметили их первыми, с нашими-то фильтрами. — Грегориус опять тяжело вздохнул. — Через пару минут мы прорвались дальше, во внутренние помещения. Все, кто пытался остановить нас в туннелях, так там и остались…
Де Сойя молча слушал.
— А внутри… Ну… — Грегориус прокашлялся. — Оба отделения взорвали внутренние шлюзы одновременно, сэр… и северный, и южный сразу. Передатчики, которые мы оставили за собой в туннеле, здорово поддерживали связь по лучу, значит, мы и были все время на связи и с Клюге, и с кораблями. На внутренних шлюзах была аварийная система — так мы и думали, и ее тоже взорвали, и страховочные мембраны следом… Внутри астероид полый… мы это, знали, конечно… но я еще никогда не был внутри родильного астероида, отец… Надо же, беременная скала…
Де Сойя слушал.
— Он был эдак километр в поперечнике, и полно этих самых гравитационных башенок, которые занимали много места. Изнутри форма примерно такая же, как снаружи…
— Картофелина, — подсказал отец капитан де Сойя.
— Точно, сэр. Куда ни глянь, всюду ямы какие-то… Пещер полно и гроты там всякие… ну прям берлоги беременных Бродяг…
Де Сойя кивнул и посмотрел на свой хронометр: интересно, доберется ли обычно немногословный сержант в этом перечне до осознания своих грехов? Вот-вот уже надо будет складывать конфессионал перед прыжком.
— Для Бродяг, отец, это, ну как… конец света, должно быть… Астероид разгерметизировался, воздух улетает, как вода через дырку в ванной, кругом какие-то ошметки, Бродяг швыряет в разные стороны, как опавшие листья… У нас были включены наружные наушники, сэр… такой грохот, что голова раскалывается, — и тут вой ветра, и вопли Бродяг, треск, будто от молний, взрывы плазменных гранат, эхо… оно не стихало долго-долго. Оно было громким, отец.
— Да, — сказал из темноты отец капитан де Сойя.
Сержант Грегориус помолчал.
— Как бы то ни было, отец, а приказано было доставить по два экземпляра всего — взрослых мужчин, мутировавших и нет; женщин, беременных и нет; пару детишек обоего пола и пару младенцев… Мы принялись за дело, парализовывали и оттаскивали… Сила тяжести внутри была где-то в одну десятую g, как раз хватало, чтобы мешки с телами лежали там, куда их положишь…
Молчание. Де Сойя хотел было заговорить и завершить исповедь, но сержант Грегориус прошептал через разделяющую темноту:
— Простите, отец. Я знаю, что вам это все известно, но… Понимаете… В общем, тут я и сломался. Почти все обычные Бродяги, не мутанты, уже мертвы или умирают, кто от декомпрессии, кто от ран. Мы не пользовались нейродеструкторами. Ни я, ни Клюге ничего не говорили своим парням — просто никому и в голову не пришло пользоваться ими.
А Бродяги-мутанты превратились в «ангелов», их тела вдруг засверкали, когда они включили свои силовые экраны. Конечно, крылья они развернуть в туннелях не могли, да и толку от них было чуть… ни света, ни солнечного ветра, и сила тяжести чересчур велика… но все равно… Некоторые пытались использовать крылья как оружие.
Сержант издал странный звук, который при желании можно было бы принять за смешок.
— У нас были силовые экраны класса «четыре», а они нападали на нас со своими стрекозиными крылышками… Мы их сожгли, потом нас отправили по трое из каждого отделения обратно с добычей, и мы с Клюге повели остальных вычищать пещеры…
Де Сойя слушал. На исповедь оставалось меньше минуты.
— Мы знали, что это родильный астероид, отец. Мы знали… все знают… что Бродяги, даже те, которые запустили к себе внутрь машины и перестали быть людьми… что они так и не научились рожать и выкармливать детей в невесомости… Мы знали, что это родильный астероид, когда лезли внутрь… Прошу прощения, отец…
Де Сойя хранил молчание.
— Но даже так, сэр… Эти пещеры сильно напоминали дома… кровати, колыбели, видеоблоки, кухни… мы и не думали, что у Бродяг может быть такое… Но больше всего пещер были как…
— Ясли, — докончил капитан де Сойя.
— Так точно, сэр. Ясли. Крошечные кроватки, а в них лежали малыши… Не какие-нибудь там уроды, сэр, не чудовища, не те бледные крылатые твари, с которыми мы сражались, не «ангелы Люцифера»… просто обыкновенные малыши… Их там были сотни, нет, тысячи… Пещера за пещерой… Во многих комнатах они погибли от декомпрессии, кого-то разорвало на кусочки, кто-то просто умер, задохнулся. Но некоторые пещеры оставались герметичными. Мы взрывали шлюзы и проникали внутрь. Матери… беременные женщины с распущенными волосами… они бросались на нас, царапались и кусались, отец… Мы не обращали на них внимания — все равно: или вынесет из пещеры в туннель, или задохнутся… Но дети… в своих крошечных пластиковых респираторах…
— Инкубаторах, — поправил капитан де Сойя.
— Так точно, — устало отозвался сержант Грегориус. — Мы связались с кораблями, спросили, что нам делать с этой кучей детишек в инкубаторах… И генерал Барнс-Эйвне приказала…
— …продолжать, — прошептал отец капитан де Сойя.
— Так точно, сэр… И мы…
— …выполняли приказ, сержант.
— Мы истратили на ясли все гранаты до последней, отец. А потом пошли в ход винтовки. Комната за комнатой, пещера за пещерой. Пластик плавился… Одеяла вспыхивали… Наверно, туда подавался чистый кислород — малыши взрывались как гранаты… Нам пришлось включить экраны, и все равно… Я целых два часа отчищал скафандр… Но много инкубаторов не взорвалось, они пылали, как сухое дерево, как факелы, со всем, что в них было, словно в печке… Воздуха уже не осталось, абсолютный вакуум, но в инкубаторах атмосфера еще была… и мы отключили наружные наушники. Все как один. Но все равно мы слышали плач и крики — сквозь силовые поля, сквозь шлемы… Я до сих пор их слышу, святой отец…
— Сержант…
— Да, сэр?
— Вы выполняли приказ, сержант. Мы все выполняли приказ. Его Святейшество уже давно объявил, что Бродяги променяли свою человеческую сущность на наноустройства, на мутации с хромосомами…
— Но эти крики, отец…
— Сержант! Ватиканский Собор и Его Святейшество постановили, что крестовый поход необходим — само существование человечества под угрозой, — необходим ради спасения от Бродяг. Есть приказ. И вы его выполняли. Мы солдаты, сержант.
— Да, сэр, — прошептал Грегориус.
— У нас нет времени, сержант. Мы поговорим об этом позже. А сейчас я налагаю на вас епитимью… не за то, что вы как солдат исполняли приказ, а за то, что позволили себе усомниться. Пятьдесят «Аве Мария» и сто «Отче наш», сержант… И молитесь, молитесь, как следует, чтобы понять…
— Да, отец.
— А теперь говорите, что вы искренне раскаиваетесь… поторопитесь, сержант.
Когда до него из-за перегородки донесся торопливый шепот, отец капитан де Сойя поднял руку в благословении и произнес формулу отпущения грехов:
— Ego te absolvo…
Восемь минут спустя отец капитан и экипаж «Рафаила» лежали в своих саркофагах. Звездолет разогнался и совершил прыжок в систему Маммоны. После мгновенной смерти экипаж ожидало долгое и мучительное воскрешение.
Великий Инквизитор умер и отправился в ад.
Это была лишь вторая его смерть и второе воскресение, и ни то, ни другое не привело его в восторг. И Марс на самом деле оказался адом.
Джон Доменико кардинал Мустафа и его свита в количестве двадцати одного человека — чиновники Священной Канцелярии и служба безопасности, включая личного помощника Великого Инквизитора, незаменимого отца Фаррелла, — прибыли в систему Старой Земли на новом «архангеле». Перед началом работы на Марсе на восстановление сил после воскрешения было отпущено целых четыре дня. Великий Инквизитор получил уже достаточно информации о красной планете, чтобы у него сложилось вполне твердое убеждение: Марс — это ад.
— На самом деле, — возразил отец Фаррелл, когда Великий Инквизитор поделился с ним выводом, что Марс и есть ад, — тут больше подойдет другая планета системы, Венера… Там все плавится и кипит, чудовищное давление, озера жидкого металла, страшные ветры и ураганы…
— Заткнись, — сказал Великий Инквизитор и вяло махнул рукой.
Марс… Первый мир, колонизированный людьми, несмотря на низкий рейтинг (2,5 по старой шкале Сольмева)… Здесь была проведена первая попытка терраформирования, и, соответственно, первая провальная попытка… После того как Старая Земля ухнула в черную дыру, Марс обходили стороной — из-за двигателя Хоукинга, из-за Хиджры, из-за того, что никто не хотел жить на этой ржаво-красной планете, когда в галактике почти бесконечное множество миров с более здоровым и приятным климатом.
Века после гибели Старой Земли Марс был таким захолустьем, что его даже не включили в Великую Сеть — этот пустынный мир мог, пожалуй, заинтересовать только изгнанников с Новой Палестины (легендарный полковник Федман Кассад, как с удивлением узнал Мустафа, родился в одном из лагерей палестинских беженцев) и дзен-гностиков, возвращавшихся на равнину Эллада, чтобы возродить учение магистра Шредера. Лет сто все вроде бы шло к тому, что вторая попытка терраформирования будет удачной — гигантские котлованы стали морями, в долине Маринер разрослись целые чащи циклазоидных папоротников, но энтропия победила, и наступил следующий ледниковый период.
Во времена расцвета Великой Сети Флот Гегемонии принес на красную планету порталы и создал в недрах исполинского вулкана Олимп Офицерскую Школу ВКС. Почти полная изоляция Марса от торговли и культуры Сети вполне устраивала ВКС, и вплоть до Падения планета так и оставалась военной базой. После Падения остатки ВКС установили на Марсе военную диктатуру — так называемую Марсианскую Военную Машину, — распространявшую свое влияние до Центавра и Тау Кита; это могло бы стать зародышем второй галактической империи, если бы не вернулся Орден. Имперский Флот быстро расправился с марсианским, загнал Военную Машину в пределы системы Старой Земли, а полководцы попрятались на древних орбитальных базах ВКС и в туннелях Олимпа. Военные базы Священной Империи обосновались в поясе астероидов и на спутниках Юпитера, а на Марс высадили миссионеров и губернатора, дабы усмирить красную планету.
Тут-то и выяснилось, что на Марсе так мало жителей, что и обращать в истинную веру и управлять, собственно, некем. Воздух холодный и разреженный, большие города разрушены, вовсю свирепствуют пылевые бури, в ледяных пустынях мрут от эпидемий последние горстки кочевников — все, что осталось от великой расы марсиан; и теперь лишь колючие хилые кактусы росли там, где некогда цвели яблоневые сады и зрели на плантациях ягоды брэдберии.
Как ни странно, лучше всех приспособились к изменившимся условиям загнанные, презираемые палестинцы Фарсиды. Потомки древней Ядерной Диаспоры 2038 года от Рождества Христова прижились на Марсе и донесли ислам до многих кочевых племен и свободных городов-государств. Когда на Марсе появились имперские миссионеры, новые палестинцы не обнаружили ни малейшего желания подчиняться Церкви, ведь их не удалось сломить даже безжалостной Марсианской Военной Машине.
Именно там — в палестинской столице Арафат-каффиех — появился Шрайк и прикончил сотни, если не тысячи человек.
Великий Инквизитор переговорил со своими чиновниками, встретился с командованием гарнизона Имперского Флота на орбите и в сопровождении внушительного эскорта отправился непосредственно на Марс. Космопорт столицы, города Сент-Малахи, был открыт только для военных кораблей — впрочем, прибытия транспортов или пассажирских звездолетов в ближайшую марсианскую неделю все равно не ожидалось. Первыми сели шесть катеров конвоя, и когда кардинал Мустафа ступил на марсианскую почву — точнее, на Имперский бетон космопорта, — сотня швейцарских гвардейцев и людей из службы безопасности оцепили космопорт. Официальную делегацию Марса, в том числе архиепископа Робсона и губернатора Клэр Пало, тщательно обыскали и проверили сканерами.
Из космопорта делегацию Священной Канцелярии доставили наземным транспортом по городским улицам мимо обшарпанных зданий в новый губернаторский дворец на окраине Сент-Малахи. Были приняты беспрецедентные меры безопасности. Личную охрану Великого Инквизитора сочли недостаточной и разместили во дворце полк мотопехоты марсианских сил самообороны. Кардиналу Мустафе показали документальные материалы, подтверждающие, что две недели назад Шрайк побывал на плато Фарсида.
— Чушь какая-то, — возмущался Великий Инквизитор в ночь перед вылетом на место происшествия. — Все эти голограммы и видеокадры — двухнедельной давности или сняты с большой высоты. Да, на них есть это размытое пятно, которое вы называете Шрайком, и несколько десятков трупов. Но где местные жители? Где очевидцы? Где две тысячи семьсот жителей Арафат-каффиех?
— Мы не знаем, — ответила губернатор Клэр Пало.
— Мы связались с Ватиканом, но нам было велено не соваться туда и ждать вас, — добавил архиепископ Робсон.
Великий Инквизитор покачал головой и взял один из снимков.
— Что это? — спросил он. — База на окраине Арафат-каффиех? Да она не уступает в оснащении столичному космопорту.
— Это не имперская база, — сказал капитан Уолмак, командир «Джебраила» и командующий эскадрой. — До появления Шрайка космопорт принимал ежедневно от тридцати до пятидесяти челноков.
— От тридцати до пятидесяти, — повторил Великий Инквизитор. — И это не имперская база. А чья? Может, Гильдии? — Он угрюмо посмотрел на архиепископа с губернатором.
— Нет, — сказал архиепископ после продолжительной паузы. — Гильдия тут ни при чем.
Великий Инквизитор сложил руки на груди.
— Челноки зафрахтовал «Опус Деи», — сообщила губернатор Пало.
— С какой целью? — Великий Инквизитор невольно поискал взглядом своих людей из службы безопасности — они стояли через каждые шесть метров.
Губернатор развела руками:
— Мы не знаем, ваше преосвященство.
— Доменико, — дрогнувшим голосом проговорил архиепископ, — нам было приказано не вмешиваться.
— Приказано? Кем? У кого есть право приказывать архиепископу и губернатору? — Великий Инквизитор не на шутку разгневался. — Во имя Христово! Кто вам приказал?
Взгляд архиепископа был мрачен, но тверд.
— Вот именно, что во имя Христово, ваше преосвященство. У представителей «Опус Деи» были официальные диски от понтификальной комиссии «Мир и справедливость». Нам было сказано, что в Арафат-каффиех проводится секретная операция. Нам рекомендуют не вмешиваться.
— Секретные операции на Марсе, и не только на Марсе, — прерогатива Священной Канцелярии! Понтификальная комиссия «Мир и справедливость» не смеет приказывать здесь. Где ее представители? Почему они меня не встречали?
Губернатор Клэр Пало указала на снимок:
— Вот они.
Кардинал Мустафа посмотрел на глянцевое фото: пыльные улицы, тела в белых одеждах. Обезображенные, в неестественных позах, раздувшиеся на жаре. Великому Инквизитору очень хотелось громко завопить… или немедленно расстрелять этих идиотов.
— Почему их не воскресили и не допросили?
Архиепископ Робсон грустно улыбнулся:
— Вы поймете все завтра, ваше преосвященство. Вы все поймете завтра.
ТМП на Марсе не функционируют, поэтому до плато Фарсида пришлось добираться на армейских скиммерах, которые с орбиты страховали факельщики и «Джебраил». За двести километров до места пять взводов морской пехоты покинули скиммеры и полетели впереди, на малой высоте, сканируя местность.
Арафат-каффиех встретил их мертвой тишиной.
Первыми, увязнув в песке, сели скиммеры с охраной. Они включили силовое поле, и воздух и дома вокруг площади словно замерцали. Морские пехотинцы выстроились по периметру защитного купола. Вторая линия оцепления, солдаты губернатора, — на улицах за площадью. На площади личная охрана Великого Инквизитора в черных боевых скафандрах окружила кардинальский скиммер.
— Чисто, — доложил по тактическому каналу сержант морских пехотинцев.
— В радиусе километра от объекта никакого движения, — сообщил лейтенант сил самообороны. — На улицах много тел.
— Все чисто, — подтвердил капитан швейцарской гвардии.
— Подтверждаю. В Арафат-каффиех никакого движения, кроме ваших людей, — донесся голос капитана «Джебраила».
— Сообщения принял, — сказал шеф службы безопасности Священной Канцелярии Браунинг.
Испытывая досаду и некоторую неловкость, Великий Инквизитор спустился по трапу на песчаный пустырь. Проклятая осмотическая маска настроения ничуть не улучшала.
Отец Фаррелл, архиепископ Робсон, губернатор Пало и толпа чиновников бросились следом. Кардинал Мустафа прошел мимо охранников и царственным взмахом руки велел открыть проход в защитном поле, невзирая на протесты командора Браунинга.
— Где первый… — начал Великий Инквизитор, нетвердой походкой следуя по узкому переулку напротив пустырей: сила тяжести на Марсе меньше, и он не успел привыкнуть.
— Сразу за углом, — выдохнул архиепископ.
— Нам следовало бы подождать. Наружное силовое поле… — сказала губернатор Пало.
— Вон там, — указал отец Фаррелл в дальний конец улицы.
Пятнадцать человек разом остановились, помощники и охраннники чуть было не налетели на них.
— Господи, — прошептал архиепископ Робсон и перекрестился. Его лицо под прозрачной осмотической маской было мертвенно-бледным.
— Иисусе! — пробормотала губернатор Пало. — Я видела фотографии и голограммы, но это… Боже!
— Э… — протянул отец Фаррелл, приближаясь к первому телу.
Великий Инквизитор встал рядом с отцом Фарреллом. Тело на красном марсианском песке выглядело как жуткая абстрактная скульптура. Зубы… рот, перекошенный в предсмертном крике… поодаль валяется рука. Трудно поверить, что это было человеческое существо…
— Тут что, постарались стервятники? Или крысы? — спросил Великий Инквизитор.
— Нет, — ответил майор Пиет, командующий гарнизоном. — С тех пор как воздух стал разреженным, птицы все исчезли. Датчики не засекли ни крыс, ни других грызунов.
— Значит, Шрайк, — не слишком уверенно сказал Великий Инквизитор. Он подошел ко второму телу — похоже, женскому. Его словно сначала вывернули наизнанку, а затем разодрали в клочья. — А тут?
— Мы полагаем, что это все — дело рук Шрайка, — сказала губернатор Пало. — У полицейских, которые обнаружили тела, была при себе камера. Вы видели снимки…
— Если судить по снимкам, то Шрайков тут было не меньше десятка, — возразил отец Фаррелл. — И вообще снимки очень нечеткие.
— Была песчаная буря, — объяснил майор Пиет. — А Шрайк был только один… Мы внимательно изучили снимки. Он просто двигался сквозь толпу с такой скоростью, что казалось, будто их несколько.
— Двигался сквозь толпу, — повторил Великий Инквизитор. Он подошел к третьему телу — миниатюрной женщины или подростка. — И творил все это…
— И творил все это, — повторила губернатор Пало. Она посмотрела на архиепископа Робсона, который, не в силах стоять, прислонился к стене.
На этом участке улицы было от двадцати до тридцати трупов.
Отец Фаррелл присел и рукой в перчатке провел по груди первого мертвеца, по углублению на месте крестоформа.
— А где крестоформ? — тихо спросил он.
Губернатор Пало покачала головой:
— Мы ни одного не нашли. Хотя бы кусочек… хотя бы миллиметр ткани…
— Это нам известно, — раздраженно прервал ее Великий Инквизитор.
— Очень странно, — сказал епископ Эрдль, главный специалист Священной Канцелярии по технике воскрешения. — Насколько мне известно, еще не было случая, чтобы не удавалось обнаружить хотя бы крохотный кусочек крестоформа. Губернатор Пало права. Для таинства воскрешения хватило бы и миллиметра ткани.
Великий Инквизитор остановился у тела, пришпиленного неведомой силой к железному поручню.
— Похоже, Шрайк охотился за крестоформами. Он вырывал их с корнем.
— Невозможно, — возразил епископ Эрдль. — Совершенно невозможно. В крестоформе свыше пятисот метров микроволокна…
— Невозможно, — согласился Великий Инквизитор. — Но если мы переправим эти тела на корабль, готов поспорить на что угодно, что воскресить их не удастся. Да, Шрайк раздирал им глотки, вырывал сердца и легкие, но охотился он за крестоформами.
Командор Браунинг появился из-за угла с пятью солдатами в черных доспехах.
— Ваше преосвященство, — обратился он к Великому Инквизитору по тактическому каналу, чтобы больше никто не слышал. — Самое худшее в квартале отсюда… Пойдемте.
Высокие чины последовали за человеком в черной броне, но медленно, нехотя.
Они насчитали триста шестьдесят два тела. Но на улицах — лишь малая часть, остальных обнаружили в домах или ангарах космопорта на окраине Арафат-каффиех. Делали голограммы, судебные медики Священной Канцелярии досконально изучали каждое тело перед отправкой в морг в пригороде Сент-Малахи. Было установлено, что все они — с других планет; нет ни палестницев, ни коренных марсиан.
Специалистов особенно заинтересовал космопорт.
— Восемь катеров обслуживали поле, — сообщил майор Пиет. — Это очень много. В Сент-Малахи только два катера. Да еще наверняка звездолеты имели собственные катера — ну, скажем, по два на каждый… внушительная цифра.
Великий Инквизитор посмотрел на Робсона.
— Мы ничего об этом не знали, — ответил архиепископ. — Как я уже говорил, операцию проводило «Опус Деи».
— Что ж, судя по всему, весь персонал «Опус Деи» мертв… причем окончательно… Теперь расследование будет проводить Священная Канцелярия. Как по-вашему, чем они тут занимались? Может, добывали тяжелые металлы? Или минералы?
Губернатор Пало покачала головой:
— Марс перекапывали вдоль и поперек тысячу лет. Тут не осталось ничего ценного. Даже для обычных старателей, не говоря уж об «Опус Деи». Не те масштабы.
Майор Пиет поднял визор шлема и потер щетину на подбородке.
— Но что-то же они сюда переправляли, ваше преосвященство. Восемь катеров… современный космопорт… автоматизированная система охраны…
— Если Шрайк… если, конечно, это был Шрайк… не уничтожил компьютерные файлы… — начал командор Браунинг.
Майор Пиет покачал головой.
— Файлы уничтожены, но Шрайк тут ни при чем. Файлы были уничтожены компьютерными вирусами, сами машины — взорваны. — Он окинул взглядом пустое административное здание, куда уже просочился красный песок. — Я полагаю, что эти люди сами уничтожили свои данные еще до появления Шрайка. Видимо, они собирались эвакуироваться. Вот почему все катера готовы к старту и автопилоты в полной боевой…
Отец Фаррелл кивнул.
— Но у нас есть только орбитальные координаты. И никаких данных, с кем именно должно было состояться рандеву.
Майор Пиет посмотрел в окно, за которым бушевала песчаная буря.
— Двадцать наземных машин, — тихо пробормотал он, ни к кому не обращаясь. — Восемьдесят человек в каждой. Что-то слишком много, если предположить, что персонал «Опус Деи» на Марсе чуть больше трехсот… да, конечно, столько трупов мы и обнаружили.
Губернатор Пало нахмурилась и скрестила руки на груди.
— Мы не знаем, сколько здесь было сотрудников «Опус Деи», майор. Все данные уничтожены. Откуда вы знаете, что не тысяча или…
Тут вмешался командор Браунинг:
— Прошу прощения, губернатор, но в казармах по периметру космопорта можно разместить не более четырехсот человек. Возможно, майор прав… то количество тел, которое мы обнаружили… и есть весь персонал «Опус Деи».
— Вы в этом уверены, командор?
— Нет, мадам.
Губернатор махнула рукой в сторону машин, едва различимых за пеленой песка.
— Но у нас есть наглядое подтверждение того, что людей было гораздо больше.
— А что, если это первая партия? — спросил командор Браунинг.
— Тогда почему они уничтожили записи в компьютерах вместе с самими компьютерами? — вопросом на вопрос ответил майор Пиет. — Почему все выглядит так, будто они собирались улетать отсюда навсегда?
Великий Инквизитор остановил их повелительным жестом.
— Хватит досужих предположений. Завтра Священная Канцелярия начнет собственное официальное расследование. Губернатор, мы можем разместиться в вашем дворце?
— Разумеется, ваше преосвященство. — Пало опустила голову — то ли в знак согласия, то ли чтобы скрыть выражение лица. Возможно, и то, и другое.
— Отлично, — кивнул Великий Инквизитор. — Командор, майор, вызовите скиммеры. Здесь останутся медэксперты и похоронная команда.
За окном все сильнее бушевала песчаная буря.
— Как называется это безобразие?
— Самум, — ответила губернатор Пало. — Такая буря может охватывать всю планету. И с каждым годом они становятся все яростнее.
— Местные говорят, что это древние марсианские боги, — прошептал архиепископ Робсон. — Что они требуют обратно то, что принадлежит им.
Менее чем в четырнадцати световых годах от Старой Земли, над планетой, называвшейся Витус-Грей-Балиан Б, звездолет, носивший когда-то имя «Рафаил», а ныне безымянный, закончил торможение и вышел на геостационарную орбиту. Четверо живых существ на его борту плавали в невесомости, рассматривая голограмму планеты на видеоэкране.
— Насколько достоверны данные о возмущениях поля портала? — спросила женщина по имени Скилла.
— Достовернее не бывает, — ответила ее двойняшка, Радаманта Немез. — Но надо проверить.
— Начнем с базы Имперского Флота? — предложил мужчина по имени Гиес.
— С самой крупной, — уточнила Немез.
— Значит, с базы в Бомбасино, — сказал Бриарей, сверившись с данными на пульте управления. — Северное полушарие. У центрального русла канала. Население…
— Какая разница, сколько там народу? — перебила Немез. — Нас интересует, проходили здесь Энея, андроид и Рауль Эндимион или нет.
— Катер готов, — доложила Скилла.
Катер вошел в атмосферу, выпустил крылья, пересек терминатор — им сразу же разрешили посадку (тут сработал диск Немез) — и приземлился среди «скорпионов», боевых скиммеров и бронированных ТМП. Гостей встретил запыхавшийся лейтенант и проводил в кабинет начальника базы.
— Итак, значит, Дворянская гвардия… — задумчиво протянул генерал Солжников, изучая лица вошедших и сведения с папского диска.
— Да, — равнодушно ответила Радаманта Немез. — Это подтверждают наши бумаги, чипы и диск. Сколько раз вам повторять одно и то же, генерал?
Лицо и шея Солжникова над высоким воротником кителя побагровели. Вместо того чтобы ответить, он еще раз взглянул на голограмму. Теоретически эти офицеры Дворянской гвардии — новая игрушка нового Папы Римского — старше его по званию. Теоретически они могли приказать расстрелять его или отлучить от Церкви, поскольку в звании центуриона Дворянской гвардии сосредоточена вся мощь Имперского Флота и Ватикана. Теоретически — согласно тексту и коду срочности на диске — они могли приказывать губернатору планеты и даже указывать архиепископу, что и как делать. Теоретически Солжникову до смерти хотелось, чтобы эти бледные рожи никогда не заглядывали к нему в кабинет.
Он изобразил улыбку.
— Мои люди в вашем распоряжении. Чем могу служить?
Худощавая женщина по фамилии Немез бросила на стол генерала голокарту и включила ее. Над столом возникли головы трех людей в натуральную величину — точнее, двух: третий был андроидом.
— Я не знал, что в пространстве Священной Империи еще есть андроиды, — удивился Солжников.
— Никто из ваших людей не встречал этих троих на вверенной вам территории, генерал? — спросила Немез, пропустив мимо ушей реплику Солжникова. — Их могли видеть на той широкой реке, которая течет у вас от Северного полюса к экватору.
— Вообще-то это канал… — Солжников оборвал себя. Никого из четверых, похоже, эта информация не интересовала. Он вызвал своего помощника, полковника Винару.
— Как их зовут? — спросил Солжников, когда Винара появился и встал у стены, держа в руке комлог.
Немез назвала все три имени. Генерал готов был поклясться, что никогда их не слышал.
— Это не местные имена, — сказал он, наблюдая, как полковник Винара проверяет данные. — Местные — они называют себя Спектральной Спиралью Амуа — собирают имена, как моя гончая на Патаупхе собирала палки. Понимаете, у них в ходу брачные триады…
— Это не местные, — перебила Немез. — Они с другой планеты.
— Понятно… — Солжников явно обрадовался. Значит, эти типы сейчас отсюда выметутся, осталось потерпеть от силы пару минут. — Мы вряд ли сможем помочь вам. Дело в том, что, с тех пор как мы прикрыли местную лавочку в Кероа-Тамбат, Бомбасино — единственный действующий космопорт на Витус-Грей-Балиане Б. Если не считать нескольких арестованных на гауптвахте, тут нет ни одного иммигранта. Местные все принадлежат к Спектральной Спирали, и хотя они любят… э… яркие цвета, андроида все равно бы заметили… Что такое, полковник?
— Ни изображения, ни имена не опознаны, сэр, — сообщил Винара, — но четыре с половиной стандартных года назад эти трое были объявлены в розыск. — Он вопросительно поглядел на офицеров Дворянской гвардии.
Их лица были совершенно непроницаемы.
Генерал Солжников развел руками:
— Прошу прощения. Последние две недели мы проводили крупные маневры, но если бы здесь появился кто-нибудь чужой…
— Сэр, — перебил полковник Винара, — есть те четверо беглецов.
«Черт тебя возьми!» — подумал Солжников.
— Четверо беглецов с транспорта Гильдии, — объяснил он гвардейцам. — Их обвинили в употреблении наркотиков, и они решили сбежать. Насколько я помню, все мужчины, под шестьдесят, и, — он многозначительно посмотрел на полковника Винару: мол, заткнись, ты, козел драный, — и мы обнаружили их тела в Большой Луже. Верно, полковник?
— Мы нашли только три тела, сэр. — Винара упорно не замечал сигналов начальства. Он снова сверился с комлогом. — Один из наших скиммеров потерпел аварию близ Кероа-Тамбат, и мы отправили туда медика… доктора Абне Молину… вместе с миссионером, чтобы она занялась ранеными.
— Какое, черт возьми, это имеет отношение к делу, полковник? — взъярился Солжников. — Эти офицеры ищут девочку-подростка, мужчину лет тридцати и андроида.
— Так точно, сэр, — отчеканил испуганный Винара. — Но доктор Молина сообщила по рации, что она оказала первую помощь больному чужаку в Лок Чайлд-Ламонде. Мы решили, что это четвертый беглец…
Радаманта Немез шагнула вперед столь быстро, что генерал Солжников невольно моргнул. В движениях этой женщины сквозило что-то не совсем человеческое.
— Где находится Лок Чайлд-Ламонд? — требовательно спросила она.
— Это деревня на берегу канала, приблизительно в восьмидесяти километрах к югу, — ответил Солжников. Он повернулся к полковнику с таким видом, словно во всем, что здесь сейчас творилось, виноват не кто иной, как Винара. — Когда этого человека доставят сюда?
— Завтра утром, сэр. Медицинский скиммер должен подобрать уцелевших и врача близ Кероа-Тамбат в семь ноль-ноль, после чего он залетит в… — Полковник не успел договорить: четверо офицеров Дворянской гвардии развернулись на каблуках и направились к двери.
Немез бросила через плечо:
— Генерал, проследите, чтобы путь к Лок Чайлд-Ламонду был свободен. Мы полетим на катере.
— Право, не стоит! — засуетился генерал. — Этот человек арестован и будет здесь… Эй!
Офицеры дружно вышли из кабинета, спустились по ступенькам и двинулись к своему катеру. Солжников выскочил следом и крикнул, пытаясь привлечь их внимание:
— Атмосферные полеты на катерах запрещены! Эй! Мы вышлем скиммер! Эй! Этот человек наверняка не тот, кого вы ищете… Эй!
Четверо даже не оглянулись. Они забрались по трапу в катер и закрыли люк. Взвыли сирены, персонал базы поспешил в укрытие. Катер поднялся на маневровых двигателях, перешел на маршевые и устремился к югу.
— В Бога и душу! — прошептал генерал Солжников.
— Прошу прощения, сэр… — переспросил полковник Винара.
Солжников смерил его взглядом, от которого расплавился бы свинец.
— Отправьте за ними два боевых скиммера… нет, три. И по взводу морской пехоты на каждом. Это наша территория, не хватало еще, чтобы эти сосунки совали нос куда не следует. Нужно, чтобы скиммеры прилетели туда раньше и морпехи захватили этого долбаного типа… даже если им придется укокошить всех аборигенов отсюда до Лок Чайлд-Ламонда. Все ясно, полковник?
Винара ошарашенно уставился на генерала.
— Выполнять! — рявкнул Солжников.
Полковник Винара рысью сорвался с места.
Глава 10
Я не спал всю ночь и весь следующий день, корчась от боли.
Время от времени вставал и брел в туалет, волоча за собой аппарат искусственного питания, усиленно мочился, а затем проверял идиотский фильтр. Уже под утро камень наконец вышел.
Я не мог в это поверить. Последние полчаса боль уже не так мучила меня, и сейчас, когда я разглядывал красноватый предмет, немногим больше песчинки, я никак не мог поверить, что именно он и послужил причиной стольких терзаний.
— Придется поверить, — сказала Энея, сидевшая на краешке раковины и наблюдавшая за тем, как я заправляю пижамную куртку в штаны. — В жизни чаще всего так и бывает: вещи вроде бы незначительные причиняют самую сильную боль.
— Угу, — пробурчал я, смутно сознавая, что Энеи здесь быть не может, что я никогда не стал бы мочиться в присутствии кого бы то ни было и уж тем более Энеи. Наверняка опять ультраморфные грезы.
— Поздравляю, — сказала Энея-призрак. Ее улыбка казалась вполне реальной — озорная, дразнящая, та самая, к которой я привык за прошедшие годы. Я видел, что на ней те самые зеленые брюки и хлопковая рубашка, которые она часто надевала в Талиесине. Но еще я видел сквозь нее раковину и полотенца на стене.
— Спасибо, — сказал я и с трудом доковылял до кровати. Я все никак не мог поверить, что боль не вернется, — ведь доктор Молина не отрицала, что камней может быть и несколько.
Энея исчезла, и появились Дем Риа, Дем Лоа и охранник.
— Это просто замечательно! — воскликнула Дем Риа.
— Мы так рады! — подхватила Дем Лоа. — Мы надеялись, что вам не придется делать операцию.
— Дай сюда правую руку, — приказал охранник и защелкнул наручник, приковав меня к медной спинке кровати.
— Я арестован? — тупо спросил я.
— А ты сомневался? — фыркнул охранник. Его темная кожа под визором каски лоснилась от пота. — Завтра утром за тобой прилетит скиммер. Ведь ты не хочешь пропустить рейс? — И он опять вышел постоять в тени под деревом у крыльца.
— Нам очень жаль, Рауль Эндимион, — проговорила Дем Лоа, касаясь своими прохладными пальцами наручника.
— Вы не виноваты… — Я был так измотан и вдобавок накачан ультраморфом, что еле ворочал языком. — Вы очень добры ко мне. Очень добры. — Еще не затихшая боль мешала провалиться в сон.
— Отец Клифтон хотел прийти побеседовать с вами. Вы не против?
Крысы, грызущие мои ноги, обрадовали бы меня куда больше.
— Конечно. Почему бы нет? — сказал я.
Отец Клифтон был моложе меня, круглый, лысоватый, добродушный, небольшого росточка — но все же выше, чем Дем Риа, Дем Лоа и другие местные. Такие мне, пожалуй, уже встречались. В гиперионских силах самообороны у нас был капеллан, чем-то похожий на отца Клифтона — серьезный, довольно безобидный, этакий маменькин сыночек, который и в священники-то пошел потому, что не хотел становиться взрослым и сам за себя отвечать. Бабушка объяснила мне, что приходские священники в деревнях близ пустошей так и остаются детьми: прихожане относятся к ним с почтением, обыватели сплетничают о них, и никто по сути-то не считает их настоящими мужчинами, и вряд ли бабушка была настоящей антиклерикалкой — хотя и отказывалась принять крест, — просто ее забавляло, что у великой и могучей Священной Империи такие приходские священники.
Отцу Клифтону хотелось устроить теологический диспут.
По-моему, я застонал, но все решили, что это от боли, и потому добрый священник наклонился поближе, участливо погладил меня по руке и пробормотал:
— Ну-ну, сын мой.
Я уже говорил, что он был лет на шесть моложе меня?
— Рауль… Могу я называть вас так?
— Конечно, отец. — Я закрыл глаза и притворился, что сплю.
— Как вы относитесь к Церкви, Рауль?
Не размыкая век, я закатил глаза.
— К Церкви, отец?
Отец Клифтон ждал.
Я пожал плечами. Точнее, попытался — это не так-то просто, когда одна рука в наручнике над головой, а во второй торчит игла внутривенного питания.
Но отец Клифтон, похоже, понял.
— Вам она безразлична? — спросил он тихо.
«Как можно быть безразличным к организации, которая хочет тебя поймать и прикончить?»
— Не совсем, отец, — ответил я. — Просто Церковь… Ну, была не совсем уместна в моей жизни… по многим причинам…
Миссионер вопросительно приподнял бровь.
— Рауль, о Церкви можно сказать многое, разумеется, не все в Церкви совершенно, но уж неуместной ее вряд ли можно счесть…
Я хотел было снова пожать плечами, но решил, что хватит и одной попытки.
— Я знаю, к чему вы клоните. — Может, на этом наша беседа закончится?
Отец Клифтон наклонился еще ближе:
— Рауль, вы знаете, что завтра утром вас отправят на военную базу в Бомбасино?
Я кивнул. Хорошо хоть голова двигалась свободно.
— Вы знаете, что за дезертирство Имперский Флот и Гильдия карают смертью?
— Ага, но только после беспристрастного судебного разбирательства.
Отец Клифтон игнорировал мой сарказм. Он нахмурился, давая мне понять, что обеспокоен. Интересно, что его так тревожило: моя судьба или моя бессмертная душа? Или и то, и другое?
— Для христиан… — Он помолчал. — Для христиан такая казнь не более чем временные неудобства — мгновенный ужас, а затем радость воскресения. Но для вас…
— Ничегошеньки, — сказал я, помогая ему закончить фразу. — Большой пшик. Вечный мрак. Я стану пищей для червей.
— Этого не должно случиться, сын мой. — Отец Клифтон почему-то не пожелал веселиться вместе со мной.
Я вздохнул и посмотрел в окно. На Витус-Грей-Балиане Б около полудня. Солнце здесь светит как-то немного не так, как на тех планетах, где мне довелось побывать: на Гиперионе, Старой Земле, Безбрежном Море и многих других. Да, разница есть, но она столь неуловима, что я затрудняюсь описать. Но это очень красиво. Очень. Я смотрел на кобальтовое небо в росчерках лиловых облаков, на лучи масляно-желтого света на розовой стене и на деревянном подоконнике, слушал крики детей, играющих на улице, тихий разговор Сес Амбре и ее больного брата Бина и думал: «Потерять все это навсегда?..»
И призрачный голос Энеи ответил: «Но терять все это навсегда — и есть сущность человеческого бытия, любимый».
Отец Клифтон кашлянул:
— Вы когда-нибудь слышали о пари Паскаля, Рауль?
— Да.
— Неужели? — Похоже, отец Клифтон здорово удивился. — Тогда вам известно, какой в нем заключен смысл.
Я снова вздохнул. Боль стала постоянной, уже не было приливов и отливов, как раньше… Впервые о Блезе Паскале я услышал от бабушки, еще ребенком, и с Энеей мы о нем говорили. В библиотеке Талиесина я случайно наткнулся на его «Мысли».
— Паскаль был математиком, — сообщил отец Клифтон, — до Хиджры, по-моему, в середине восемнадцатого века…
— Вообще-то семнадцатого, — поправил я. — Если не ошибаюсь, он родился в 1623 году, а умер в 1662-м. — Ну, положим, с датами я слегка блефовал. Вроде похоже, но держать пари на свою голову я бы не стал. Как-то зимой мы с Энеей недели две подряд обсуждали Просвещение и как оно повлияло на людей эпохи до Хиджры.
— Верно, — согласился отец Клифтон, — но когда именно он жил, не так важно, как его так называемое пари. Поразмыслите, Рауль, с одной стороны — шанс воскресения, бессмертие, вечность на небесах и благодать Господня. С другой… Как вы выразились?
— Большой пшик, — с удовольствием повторил я. — Вечный мрак.
— Хуже того, — сказал молодой священник с неподдельной убежденностью. — Ничто. Сон без сновидений. Но Паскаль понимал, что если ты лишен искупления Христова, то это во сто крат хуже. Это вечное сожаление… бесконечная печаль…
— А-а? — спросил я. — Вечное наказание.
Отец Клифтон стиснул руки, явно смущенный этой стороной вопроса.
— Возможно, — сказал он. — Но даже если ад — только вечное сожаление об утраченных возможностях… Стоит ли рисковать? Паскаль понял, что, если Церковь ошибается, ничего не потеряешь, если принять надежду. А если права…
Я улыбнулся:
— Несколько цинично.
Священник пристально посмотрел на меня.
— Не так цинично, как бессмысленная смерть, Рауль. Приняв Христа, ты можешь творить добро, служить своим ближним, своим братьям и сестрам во Христе, и ты спасешь свою жизнь и свою бессмертную душу.
Я кивнул, помолчал и проговорил:
— А все-таки это важно, когда именно он жил.
Отец Клифтон озадаченно заморгал: он явно не понял.
— Блез Паскаль, я имею в виду, он пережил невиданную интеллектуальную революцию. Коперник, Кеплер и их последователи тысячекратно расширили вселенную. Солнце стало… ну, просто солнцем, отец. Все переместилось, отодвинулось, выкатилось из центра. Паскаль однажды сказал: «Меня ужасает вечное молчание бесконечных пространств».
Отец Клифтон наклонился так низко, что я уловил исходящий от его кожи запах мыла и аромат крема для бритья.
— Тем больше у вас оснований разделить его мудрость, Рауль.
Мне захотелось отодвинуться от этого розового, свежевыбритого, лунообразного лица. От меня самого пахло потом, болью и страхом. Зубы я не чистил уже сутки.
— Я не считаю возможным заключать пари, если это имеет отношение к Церкви, настолько привыкшей, что все продается и покупается, что устанавливает цену за спасение жизни ребенка — полное повиновение и подчинение всем ее требованиям, — сказал я.
Отец Клифтон отшатнулся, как от пощечины. Он встал и похлопал меня по плечу.
— Отдыхайте. Мы с вами еще поговорим до отлета.
Но времени у меня не оставалось — катер Немез уже садился на военной базе в Бомбасино.
Отец Клифтон ушел, и я заснул.
Я наблюдал, как мы с Энеей сидим на крыльце ее домика и продолжаем наш разговор.
— Я уже видел этот сон, — сказал я, прикасаясь к камню под холстиной. Камень еще хранил дневное тепло.
— Да, — согласилась Энея, потягивая свежезаваренный чай.
— Ты собиралась рассказать мне, что делает тебя мессией, — услышал я собственный голос. — Раскрыть секрет, почему ты стала той «связью между мирами», о которой говорил ИскИн Уммон.
— Да, — повторила она и кивнула. — Но сначала скажи, ты считаешь, что правильно ответил отцу Клифтону?
— Правильно? — Я пожал плечами. — Он меня разозлил.
Энея отпила маленький глоток. Пар поднимался от чашки к ее ресницам.
— Но ведь ты так и не ответил на вопрос о пари Паскаля.
— Я не мог ответить ничего другого. Маленький Бин Риа Дем Лоа Алем умирает от рака. Церковь использует крестоформ как рычаг давления. Это мерзко… Я не желаю иметь с этим ничего общего.
Энея посмотрела на меня:
— Но если бы Церковь не была насквозь продажной, Рауль… если бы она предлагала крестоформ, не требуя ничего взамен… Ты бы принял его?
— Нет, — выпалил я и сам удивился.
Энея улыбнулась:
— Значит, дело не в Церкви и не в продажности. Ты отвергаешь саму идею воскресения.
— Такое воскресение — да. Его я отвергаю.
— А что, есть другое?
— Церковь полагала, что есть, — сказал я. — Без малого три тысячи лет она предлагала воскресение души, а не тела.
— И ты веришь в такое воскресение?
— Нет, — без колебаний ответил я. И покачал головой. — Пари Паскаля никогда меня не привлекало. Оно казалось мне логически… неполным.
— Возможно, потому, что предлагает лишь два варианта, — предположила Энея. Где-то в ночи заухала сова. — Духовное воскресение и бессмертие — либо смерть и проклятие.
— Два последних — не одно и то же.
— Для такого человека, как Блез Паскаль, это одно и то же. Для того, кого ужасает «вечное молчание бесконечных пространств».
— Духовная агорафобия, — пробормотал я.
Энея рассмеялась.
— Религия всегда предлагала людям этот обманчивый дуализм, — сказала она, поставив чашку на камень. — Молчание бесконечных пространств — или уютный покой внутренней определенности.
Я хмыкнул.
— Пасемская Империя и Церковь предлагают более прагматичную определенность.
Энея кивнула:
— В наши дни, возможно, это единственный выход. Возможно, наш источник веры иссяк.
— По-моему, ему следовало бы иссякнуть давным-давно, — сурово сказал я. — Человечество дорого заплатило за все эти религиозные предрассудки. Войны… погромы… отрицание логики, науки, медицины… не говоря уж о том, что власть попадала в руки таких же, как те, кто заправляет Пасемской Империей.
— Разве религия только предрассудок, Рауль? Разве вера — это глупость?
— Что ты хочешь сказать? — спросил я, ожидая подвоха.
— Если ты веришь в меня, это глупо?
— Верю в тебя… В кого? В мессию? Или в друга?
— А какая разница? — Энея снова улыбнулась своей дразнящей улыбкой.
— Вера в друга… это дружба, — сказал я. — Верность. — И, помедлив, прибавил: — Любовь.
— А вера в мессию? — спросила Энея.
Я досадливо махнул рукой.
— Это религия.
— А если твой друг — мессия? — не унималась она.
— То есть если он думает, что мессия? — уточнил я и снова пожал плечами. — Наверно, ты хранишь ему верность и пытаешься уберечь от сумасшедшего дома.
— Хотела бы я, чтобы все было так просто, мой друг, — с непонятной мне горечью сказала Энея.
Она уже не улыбалась.
— Энея, девочка моя, так ты расскажешь мне, что делает тебя мессией? Из-за чего ты стала связью между двумя мирами?
Она торжественно кивнула.
— Меня избрали потому лишь, что я была первым ребенком от союза человечества и Техно-Центра.
Она это уже говорила. Я тряхнул головой.
— Значит, вот какие эти два мира, которые ты объединяешь… мы и Техно-Центр?
— В какой-то мере, — ответила Энея, поднимая голову и глядя на меня. — Но они не единственные. Именно этим и занимаются мессии, Рауль, — перекидывают мостки между мирами. Между эпохами. Объединяют в единое целое непримиримые концепции.
— Выходит, мессией тебя делает твоя связь с обоими мирами? — тупо спросил я.
Энея покачала головой — быстро, почти нетерпеливо. В ее взгляде промелькнуло что-то вроде раздражения.
— Нет, — ответила она резко. — Я мессия из-за того, что могу делать.
Я даже испугался ее реакции.
— И что же ты можешь делать?
Энея протянула ладонь, ее пальцы коснулись моих волос.
— Помнишь, я говорила, что Церковь и Орден были правы насчет меня? Что я — вирус?
— Угу.
Она стиснула мое запястье.
— Я могу распространять этот вирус, Рауль. Заражать других. В геометрической прогрессии. Я — разносчик заразы.
— Какой заразы? Мессианства?
Она вновь покачала головой. Ее лицо было столь печальным, что мне захотелось обнять ее, утешить.
— Нет. Всего лишь следующего шага к пониманию того, кто такие мы, люди. Кем можем стать.
Я перевел дыхание.
— Ты рассуждала о том, чтобы научить физике любви. О представлении любви как основополагающей силы во вселенной. Это и есть вирус?
По-прежнему держа меня за руку, Энея пристально поглядела мне в глаза.
— Это источник вируса, — сказала она тихо. — Я учу тому, как пользоваться этой энергией.
— И как же? — прошептал я.
Энея моргнула, словно мой вопрос вырвал ее из сладостного забытья.
— Допустим, у нас есть четыре этапа. Четыре стадии. Четыре шага. Четыре ступени. — Я молча ждал. Ее пальцы все так же стискивали мое запястье. — Первый этап состоит в том, чтобы изучить язык мертвых.
— Какое это…
— Тсс! — Энея приложила палец к моим губам. — Второй — изучить язык живых.
Я кивнул, хотя ничего не понимал.
— Третий — научиться слышать музыку сфер, — прошептала она.
Копаясь в книгах талиесинской библиотеки, я наткнулся в одной из них на старинную фразу о музыке сфер. В этой книге речь шла об астрологии в донаучную эпоху Старой Земли, о крошечных деревянных моделях Солнечной системы в лаборатории Кеплера, о сферах звезд и планет, движимых ангелами… В общем, сплошная чушь. Я не представлял, о чем говорит моя подруга и какое это имеет значение в эпоху, когда человечество перемещается по галактике быстрее света.
— Четвертый этап, — Энея вновь отвернулась от меня, — заключается в том, чтобы научиться делать первый шаг.
— Первый шаг, — озадаченно повторил я. — Ты имеешь в виду свой первый шаг?.. Как там… изучить язык мертвых?..
Энея покачала головой и медленно, словно выныривая откуда-то, сфокусировала на мне взгляд.
— Нет. Это общий первый шаг.
Затаив дыхание, я произнес:
— Ладно. Я готов. Научи меня.
Энея улыбнулась:
— В том-то все и дело, Рауль. Если я соглашусь, то навсегда стану Той-Кто-Учит. Но вся глупость в том, что мне не надо этому учить. Я должна лишь делиться этим вирусом с теми, кто пожелает его принять.
Я посмотрел на ее тонкие пальцы, сжимавшие мое запястье.
— Значит, меня ты уже… наделила? — Я не чувствовал ничего необычного, лишь привычное электрическое покалывание от ее прикосновения.
Она рассмеялась:
— Нет, Рауль. Ты еще не готов. Чтобы поделиться вирусом, нужен не просто физический контакт, нужно причащение. А я пока не решила, каким оно должно быть… если мне предстоит…
— Поделиться со мной? — докончил я. «Что еще за причащение?»
— Поделиться со всеми, — шепотом поправила она. — С каждым, кто готов принять. — Она посмотрела мне в глаза. Где-то в пустыне затявкал койот. — Эти уровни… этапы… несовместимы с крестоформом, Рауль.
— Значит, возрожденные не смогут научиться? — спросил я. — А их гораздо больше, чем нас.
Энея покачала головой:
— Могут… если откажутся от крестоформа… Выбор за ними.
Я шумно выдохнул. Слова Энеи представлялись мне непонятными — из-за того, что она говорила обтекаемо. «Неужели все на свете мессии изъясняются столь туманно?» — голосом бабушки поинтересовался циник в глубине моей души. Вслух я сказал:
— Не существует способа избавиться от крестоформа, не убив его владельца, который в результате умирает истинной смертью. — Я частенько задумывался над тем, не этот ли факт — основная причина моего отказа принять крест. Или я всего-навсего по-юношески верю в бессмертие?
Энея не ответила на вопрос. Она спросила:
— Тебе нравятся местные, правда?
Я попытался сообразить, к чему она клонит. Приснилась мне эта фраза, эти люди, эта боль? Разве я не сплю? Или вспоминаю разговор, действительно имевший место? Но Энее ничего не было известно о Дем Риа, Дем Лоа и об остальных. Ночная пустыня, брезентовые стены и фундамент вдруг подернулись дымкой, как мираж…
— Нравятся, — подтвердил я.
Энея убрала руку с моего запястья. Секундочку, разве на мне уже нет наручников?
Энея кивнула и пригубила остывший чай.
— Для них есть надежда, Рауль. Для них — и для тысяч других культур, возникших или возродившихся после Падения. Гегемония означала гомогенность. Империя означает даже нечто большее. Человеческий геном… человеческая душа не доверяет гомогенности, Рауль. Она всегда готова рискнуть, ради перемен, ради разнообразия.
— Энея, — позвал я, протягивая к ней руки. — Я не… Мы не можем… — Мне вдруг показалось, что я падаю с громадной высоты, картина распалась, точно карточный домик под дождем. Моя подруга исчезла.
— Проснитесь, Рауль. Они летят за вами. Вас арестуют.
Я попытался проснуться, точно тонущий выплывая на поверхность сознания. Я рвался к воздуху и свету, но усталость и болеутоляющее тянули меня обратно. Я не понимал, зачем Энее понадобилось меня будить. Мы ведь так хорошо беседовали во сне.
— Проснитесь, Рауль Эндимион. — Это не Энея. Еще прежде, чем окончательно проснулся и открыл глаза, я узнал по сильному акценту Дем Риа.
Я сел. Женщина раздевала меня! Я увидел, что она сняла с меня ночную рубаху и теперь надевала майку — свежевыстиранную, с запахом ветра, но, несомненно, мою. Белье было уже на мне. Брюки, рубашка и куртка лежали рядом. Как это Дем Риа ухитрилась снять рубаху — ведь моя рука прикована к…
Я уставился на запястье. Наручника на нем не было — он валялся на одеяле. Кровообращение потихоньку восстанавливалось, кожу покалывало. Я облизнул губы и попытался произнести без запинки:
— Летят? Арестуют?
Дем Риа одевала меня как ребенка. Я отмахнулся от нее и начал застегивать пуговицы; мои пальцы вдруг сделались удивительно неуклюжими, хотя в Талиесине большинство предпочитало именно одежду на пуговицах, а не на «липучках». Я полагал, что давным-давно привык, но, как видно, ошибался.
— …и мы услышали по радио, что в Бомбасино приземлился катер. На нем прилетели четверо в незнакомых мундирах — двое мужчин и две женщины. Они расспрашивали о вас начальника базы. Только что они вылетели сюда — катер и три скиммера. Они сядут через четыре минуты. Или даже раньше.
— Радио? — глупо переспросил я. — Вы же говорили, что радио не работает. Разве не поэтому священник сам отправился на базу за врачом?
— Не работает передатчик отца Клифтона, — прошептала Дем Риа, помогая мне встать. Опираясь на нее, я кое-как натянул брюки. — У нас есть свои приемники… с направленным лучом… спутники… и Церковь ничего не знает об этом. У нас свои шпионы. Один из них и предупредил… Торопитесь, Рауль Эндимион! Корабли вот-вот прилетят.
Наконец я проснулся полностью, меня била дрожь от гнева и отчаяния. Почему эти подонки не оставят меня в покое? Четверо в незнакомых мундирах. Наверняка Орден. Значит, розыски Энеи и нас с А.Беттиком не закончились, когда тот священник в чине капитана — кажется, де Сойя — позволил нам ускользнуть из ловушки на Роще Богов четыре года назад.
Я посмотрел на комлог. Скиммеры будут здесь через минуту. Слишком мало времени, я не успею спрятаться.
— Пустите, — сказал я, отстраняя женщину в синем. Окно было открыто, ласковый ветерок шевелил занавески. Мне казалось, я улавливаю ультразвуковое гудение скиммеров. — Я должен покинуть ваш дом… — Мне представилось, как солдаты сжигают дом вместе с Сес Амбре и Бином…
Дем Риа отвела меня от окна. В комнату вошел молодой Алем Микайл Дем Алем вместе с Дем Лоа. Они тащили охранника-лузианина. Сес Амбре, сверкая глазами от возбуждения, поддерживала охранника за ноги, а Бин пытался на ходу стащить с него башмак. Лузианин крепко спал.
Я уставился на Дем Риа.
— Дем Лоа минут пятнадцать назад предложила ему чая, — тихо объяснила она. — Боюсь, мы использовали весь ваш ультраморф, Рауль Эндимион.
— Я должен уйти… — начал я. Боль в спине была вполне терпимой, только ноги подкашивались.
— Нет, — отрезала Дем Риа. — Они вас сразу же поймают. — Она указала на окно. Снаружи донесся безошибочно узнаваемый гул маршевых двигателей катера, затем включились маневровые… Должно быть, катер завис над деревней, выискивая место для посадки. И почти сразу же — тройной звуковой удар — прибыли скиммеры; два приземлились совсем рядом.
Алем Микайл раздел лузианина до белья и уложил его на кровать, затем надел ему на правую руку наручник, который пристегнул к прутьям спинки. Дем Лоа с помощью Сес Амбре тем временем запихивала в мешок одежду, бронежилет и башмаки. Маленький Бин Риа Дем Лоа Алем швырнул туда же каску. Мальчишка держал в руках увесистый игольник. Признаться, я вздрогнул. Алем усмехнулся и забрал игольник у сына. По тому, как Бин держал оружие — пальцы на рукояти, не на спусковом крючке, дуло смотрит в пол, предохранитель на месте, — было ясно: он умеет с ним обращаться.
Бин улыбнулся мне, взял мешок с одеждой охранника и выбежал из комнаты. Гул снаружи шел по нарастающей. Я повернулся к окну.
Черный скиммер садился, вздымая клубы пыли, в тридцати метрах по улице, вдоль берега канала. Я видел его в просвете между домами. Катер повернул немного южнее — наверное, к тому лугу у источника, где меня скрутил первый приступ боли.
Я торопливо застегивал куртку, Алем протянул мне игольник. Я по привычке проверил предохранитель и индикатор заряда, потом покачал головой.
— Не надо. Нападать на солдат с игольником — просто безумие. Их броня… — Признаться, в тот миг я думал не столько о броне, сколько о том, что ответный огонь в мгновение ока сровняет с землей этот дом, и о том, что будет с мальчиком, который выбежал на улицу с тяжелым мешком. — Бин… Если его поймают…
— Мы знаем, мы знаем, — сказала Дем Риа, буквально выталкивая меня из спальни в узкий коридор. Этой части дома я не помнил. Последние сорок с чем-то часов моя вселенная ограничивалась спальней и уборной. — Пойдемте.
Я высвободился и протянул игольник Алему.
— Позвольте мне уйти. — Мое сердце бешено колотилось. Я указал на храпящего лузианина. — Они ни за что не примут его за меня. Они могут связаться с врачом — если уже не связались, — чтобы она меня опознала. Просто скажите им… — я поглядел на дружелюбные лица — …скажите, что я одолел охранника и под дулом пистолета… — Я замолчал, сообразив, что, как только охранник очнется, моя версия мгновенно лопнет. И участие семьи Алем в моем побеге станет очевидным. Я посмотрел на игольник. Один залп стальных иголок — и охранник уже никогда не проснется, чтобы причинить неприятности этим добрым людям.
Вот только я никогда этого не сделаю. Я могу выстрелить в имперского солдата в честном бою — мой страх, беспомощность, загнанность в угол дают мне право использовать эту возможность, но я никогда не выстрелю в спящего человека.
Хотя честной борьбы, похоже, не предвидится. Солдаты наверняка в боевой броне, значит, бесполезно применять что-либо слабее имперского штурмового оружия. А эта тайная военная четверка с катера — может, швейцарские гвардейцы? В таком случае они точно неуязвимы для игольника.
Хлопнула задняя дверь, и в коридор вбежал Бин, из-под подвернутого балахона виднелись запыленные, по-паучьи тонкие ноги. Мальчик не получит крестоформ и умрет от рака. А взрослые проведут лет десять в тюрьме…
— Извините… — прошептал я, слова не шли на ум, а хотелось сказать так много. С улицы доносились голоса солдат, расталкивающих толпу.
— Рауль Эндимион, — спокойно сказала Дем Лоа, протягивая мне рюкзак, который они вытащили из каяка, — пожалуйста, заткнись и следуй за нами. Быстро.
Под полом коридора оказался вход в туннель, крутая лестница вела вниз. Я всегда считал, что тайные подземные ходы бывают только в мелодраме, но последовал за Дем Риа довольно охотно. Наверное, со стороны мы выглядели весьма странно: впереди спускались Дем Риа и Дем Лоа, за ними я — с игольником в руке и рюкзаком за спиной, за мной Бин и Сес Амбре и последним (он тщательно закрыл за собой люк) Алем Микайл Дем Алем. В доме не осталось никого, если не считать храпящего охранника.
Лестница уводила глубже уровня фундамента; поначалу мне показалось, что стены коридора — из того же материала, что и стены дома. Потом я сообразил, что подземный ход прорублен в мягком камне, возможно, в песчанике. Двадцать семь ступеней — и вот мы на дне вертикального колодца, дальше Дем Риа повела нас по узкому коридору, освещенному бледными люм-шарами. Интересно, а зачем вообще этой обычной средней семье понадобился подземный ход?
Словно прочитав мои мысли, Дем Лоа прошептала:
— Спектральная Спираль Амуа требует… ну, определенной сдержанности при входе в дом друг к другу. Особенно во время Двойной Тьмы.
— Двойной Тьмы? — прошептал я, ныряя под очередным люм-шаром. Мы прошли уже метров двадцать — по-моему, удаляясь от канала: туннель затемно уходил вправо.
— Двойное затмение — две луны этого мира закрывают солнце, — прошептала Дем Лоа. — Оно продолжается ровно девятнадцать минут. Это главная причина, почему мы выбрали этот мир… э… извините за каламбур?
— Ага, — сказал я, но ровным счетом ничего не понял, впрочем, в данный момент это не имело значения. — У Ордена есть приборы для обнаружения таких паучьих нор. А еще радиолокаторы для глубинного поиска. Они…
— Да-да! — сказал за моей спиной Алем. — Но мэр и остальные задержат их на несколько минут.
— Мэр? — тупо переспросил я. Мои ноги все еще подкашивались. Спина и живот побаливали, хотя и не так сильно.
— Мэр потребует у них ордер на обыск, — прошептала Дем Риа. Коридор расширился и сотню метров никуда не сворачивал, я обратил внимание, что встречаются и ответвления от главного туннеля. Да, это не просто пещера, тут какие-то чертовы катакомбы. — Орден признает власть мэра в Лок Чайлд-Ламонде. На Витус-Грей-Балиане Б все еще действуют законы, поэтому солдатам потребуется ордер — без ордера они ничего не смогут сделать.
— Да они в два счета получат любое разрешение, какое захотят! — Я ускорил шаг, чтобы не отстать. Мы дошли до очередного перекрестка и свернули направо.
— Ну естественно, — согласилась Дем Лоа, — но сейчас на улицы вышли все жители Лок Чайлд-Ламонда, все цвета — красный, белый, зеленый, черный, желтый, тысячи человек… И народ все прибывает, многие подходят из близлежащих поселков. Ни один не покажет, где искать вас. Отца Клифтона выманили из города. Доктора Молину наши родственники задержали в Кероа-Тамбат, и она не может связаться со своим начальством. Охранник проспит еще как минимум час. Нам сюда.
Мы свернули налево и остановились у двери. Дем Риа приложила ладонь к замку, фотоэлемент сработал, и мы оказались в просторной пещере. Мы стояли на металлической лестнице и смотрели на подземный ангар. Я насчитал с полдюжины странных машин: удлиненный корпус, громадные колеса, крылья, паруса и педали. Они приводились в движение ветром и мускульной силой, деревянная обшивка, яркие полимерные покрытия и пластик.
— Ветроциклы, — объяснила Сес Амбре.
Мужчины и женщины в изумрудно-зеленых одеяниях готовили к старту три аппарата. В одном я заметил свой каяк.
Мои спутники стали спускаться вниз по лестнице, а я так и остался стоять на верхней площадке.
— Что случилось? — спросил Алем Микайл.
— Почему вы это делаете? Почему все помогают мне? Что происходит?
Дем Риа оперлась на металлические перила и посмотрела на меня:
— Рауль Эндимион, если вас поймают, то убьют.
— Откуда вы знаете? — спросил я тихо, но акустика в этом подземном ангаре такая, что мой голос услышали даже те, кто возился с машинами.
— Вы разговаривали во сне, — объяснила Дем Лоа.
Я мотал головой, ничего не понимая. Ну да, мне снилась Энея и наш разговор. Но при чем тут эти люди — для них-то это ничего не значит.
Дем Риа поднялась на одну ступеньку и коснулась моего запястья.
— Было предсказано, что она придет. Женщина по имени Энея. Мы называем ее Та-Кто-Учит.
По коже побежали мурашки — то ли от слов Дем Риа, то ли от холодного света люм-шаров в подземелье. Старый поэт Мартин Силен называл мою подругу мессией, но он вообще привносил толику цинизма во все, что говорил и делал. В Талиесине Энею уважали… Мы с ней говорили о мессианстве и наяву, и в навеянных ультраморфом снах, но… Господи Боже, я ведь побывал на дюжине миров, начиная с Гипериона, а до Малого Магелланова Облака, где теперь Старая Земля, сотни световых лет! Откуда эти люди могли узнать…
— Хэлпул Амуа знал о Той-Кто-Учит, когда сочинял свою композицию, — сказала Дем Лоа. — Все мы ведем свой род от эмпатов. Спираль — это образ жизни, усиливающий эмпатические способности.
Я покачал головой:
— Извините, но я не понимаю…
— Пожалуйста, Рауль Эндимион, — сказала Дем Риа, стискивая мое запястье, — постарайтесь понять: если вы не убежите, Империя получит ваше тело и душу. А ведь и то, и другое нужно Той-Кто-Учит.
Я искоса глянул на Дем Риа, думая, что она шутит, но ее лицо оставалось серьезным.
— Пожалуйста, — попросил Бин, вкладывая свою ладошку в мою. — Поторопись, Рауль.
Я сбежал по лестнице. Мужчина в зеленом протянул мне красный балахон, Алем Микайл помог одеться. Все семейство — две старшие женщины, Сес Амбре и Бин — разделось донага, избавилось от синих балахонов и теперь облачилось в красные. Я успел заметить, что все-таки местные жители мало похожи на лузиан — ростом они ниже, но их отличают стройность и изящество. Ни у кого не было волос — ни на голове, ни где-либо еще. От этого почему-то их смуглые тела становились еще привлекательнее.
Я отвернулся, поняв, что краснею. Сес Амбре захихикала и ущипнула меня за руку. Все мы теперь были в красном. Алем Микайл переоделся последним.
Я протянул Алему игольник, но он велел мне оставить оружие и показал, как спрятать его в складках одежды. Припомнив, что в рюкзаке у меня только индейский нож и лазерный фонарик, я благодарно кивнул.
Мы с женщинами и детьми разместились в задней части кузова, там, где лежал каяк, и над нами натянули красный тент. Пришлось пригнуться, когда сверху натянули второй слой ткани и накидали доски и ящики. Осталась лишь узкая щелка, сквозь которую можно было смотреть наружу. Я прислушался к шагам Алема, который прошел мимо нас и забрался в седло. Во второе уселся незнакомый мне мужчина, тоже в красном, и мы двинулись к воротам.
Мачту еще не поднимали, парус был зарифлен.
— Куда мы едем? — шепотом спросил я у Дем Риа, которая лежала рядом со мной. От деревянной обшивки пахло кедром.
— К арке портала ниже по течению, — ответила она.
Я недоуменно заморгал.
— Вы и это знаете?
— Они дали вам «правдосказ», — прошептала Дем Лоа. — И вы говорили во сне.
— Мы знаем, что Та-Кто-Учит отправила тебя с поручением, — радостно выпалил Бин, лежавший справа от меня. — Мы знаем, что тебе нужно добраться до портала. — Он похлопал по корпусу каяка. — Я бы хотел уплыть с тобой.
— Слишком опасно, — прошипел я, ощущая, что фургон выкатился из пещеры. Сквозь ткань лился солнечный свет. Ветроцикл остановился — водители установили мачту и развернули парус. — Слишком опасно. — Я имел в виду не поручение Энеи, а их попытку доставить меня к порталу. — Если они знают, кто я, они будут следить за аркой.
Дем Риа кивнула:
— Да, Рауль Эндимион, они будут следить за аркой. И это опасно. Но скоро наступит темнота. Через четырнадцать минут.
Я взглянул на комлог — темнеть начнет часа через полтора, не раньше.
— До арки всего шесть километров, — прошептала из-за каяка Сес Амбре. — Все выйдут на улицы и будут праздновать.
Тут я наконец понял.
— Двойная Тьма?
— Да. — Дем Риа погладила мою руку. — Тише, а то нас услышат снаружи.
— Слишком опасно, — прошептал я еле слышно. Фургон, поскрипывая, выбрался на дорогу. Под полом залязгали цепи, я почувствовал, как ветер наполнил парус. «Слишком опасно», — мысленно повторил я.
Если бы я знал, что происходит буквально в сотнях метров от фургона, я бы понял, насколько все это опасно.
Когда мы выехали на набережную, я отважился выглянуть в щелку между кузовом и тентом. Судя по всему, ветроцикл двигался вдоль канала от деревни к деревне, по полосе твердой как камень соли.
— Пустыня Ваххаби, — прошептала Дем Риа, когда мы набрали скорость и покатили на юг. Мимо с ревом проносились на всех парусах другие ветроциклы, водители с бешеной скоростью крутили педали.
Шесть километров мы преодолели за десять минут и свернули с соляного тракта на мощеную дорогу через поселок — домики здесь были из белого камня. Алем с напарником свернули парус и медленно повели ветроцикл по улице между домами и каналом. Вдоль канала — заросли огромных папоротников, виднеются диковинные разноцветные причалы, веранды и пристани, покачиваются на воде изящные лодки. Вдали, уже за поселком, где канал переходит в подобие реки, я увидел громадную арку портала. За ней — папоротниковый лес, на западе и востоке бескрайняя пустыня. Алем вывел ветроцикл на кирпичный тракт.
Я поглядел на комлог. До наступления Двойной Тьмы меньше двух минут.
Внезапно набежал ветер, и над нами мелькнула тень. Мы невольно пригнулись, когда черный скиммер низко пролетел над каналом. Скиммер сделал разворот, опустился еще ниже и пролетел над кораблями, проходившими сквозь арку портала. Речное движение было оживленным: гребные лодки, сверкающие моторки, яхты — от одиночек до громадин; каноэ и прочие лодки; несколько судов на воздушной подушке, беззвучно паривших над поверхностью воды, и даже плоты — совсем как тот, на котором когда-то плыли мы с Энеей и А.Беттиком.
Скиммер пролетел над рекой, над аркой портала с юга на север, потом — под аркой с севера на юг и умчался в направлении Лок Чайлд-Ламонд.
— Пошли. — Алем Микайл откинул тент и вытащил каяк. — Надо спешить.
Внезапно пронесся порыв теплого воздуха, потом вдруг повеяло прохладой, закачались и зашелестели папоротники, небо сделалось багряно-черным. Появились звезды. Я глянул вверх и успел заметить зубчатую корону вокруг одной луны и ослепительный диск второй.
С севера донесся самый призрачный и скорбный звук, какой я когда-либо слышал: это был протяжный вой, больше напоминавший стон человека, чем вой сирены, он становился все выше и выше, пока не перешел на сверхзвуковые частоты. Это заиграли одновременно сотни, тысячи рогов, к которым в тот же миг присоединились сотни, если не тысячи голосов.
Тьма сгущалась. Звезды сверкали все ярче. Диск нижней луны напоминал громадный купол, готовый в любой момент рухнуть на планету. Суда на реке к северу и к югу от арки портала включили сирены — звук получился ужасающий, тут в воздух взмыли ракеты и фейерверки — разноцветные звездочки, вертящиеся колеса, полосы желтого, зеленого, голубого, красного и белого — Спектральная Спираль? — и бесчисленные петарды. Грохот и сверкание просто невообразимые.
— Поспешим, — повторил Алем.
Я спрыгнул наземь, скинул балахон, швырнул его в кузов и принялся помогать Алему выгружать каяк. Ко мне присоединились Дем Риа, Дем Лоа, Сес Амбре, Бин и безымянный водитель. Все вместе мы отнесли каяк к реке и спустили на воду. Войдя по колено в теплую воду, я уложил в кокпит свой рюкзак и игольник, а потом, придерживая каяк, чтобы его не унесло течением, оглянулся на двух женщин, двух мужчин и двух детей в красных балахонах.
— Что будет с вами? — спросил я. Моя спина еще побаливала, но сейчас меня беспокоило не это.
Дем Риа покачала головой:
— Ничего плохого с нами не случится, Рауль Эндимион. Если Орден попытается схватить нас, мы просто исчезнем в туннелях под пустыней Ваххаби, скроемся на время. — Она улыбнулась и поправила балахон на плече. — Но обещайте нам, Рауль Эндимион…
— Все что угодно, — отозвался я. — Если это будет в моих силах.
— Обещайте, если получится, вернуться вместе с Той-Кто-Учит на Витус-Грей-Балиан Б, к людям Спектральной Спирали. Мы постараемся до ее появления не поддаваться на уговоры миссионеров.
Я кивнул, посмотрел на гладко выбритый череп Бина Риа Дем Лоа Алема, на его красный капюшон, на бледные от химиотерапии щеки, на блестящие глаза и сказал:
— Хорошо. Если получится, мы вернемся вместе.
Они все прикоснулись ко мне — не пожали руку, а именно прикоснулись: к куртке, к руке, к лицу, к спине. Я прикоснулся к каждому из них в ответ, повернул каяк носом по течению и забрался в кокпит. Весло было зафиксировано в зажимах, как я его и оставил. Я затянул «фартук» кокпита, случайно задел рукой пресловутую красную кнопку, засовывая внутрь игольник — если уж это не вызвало у меня приступа паники, не знаю, что сможет его вызвать, — взял в левую руку весло, а правой помахал тем, кто стоял на берегу. Когда каяк вышел на середину канала, шесть фигур в красных одеждах слились с тенями папоротников.
Арка портала росла на глазах. Над головой начала выдвигаться из-за солнца первая луна, но вторая — побольше, все еще заслоняла светило. Фейерверк и вопли сирен продолжались, даже стали еще яростнее. Я старался держаться ближе к правому берегу с тем расчетом, чтобы затеряться среди лодок, идущих вниз по течению, но все же ни к кому слишком не приближаться.
Если меня собираются перехватывать, тут как раз самое подходящее место. Я автоматически потянулся за игольником и положил его на корпус перед собой. Каяк подхватило течением и понесло, я опустил весло и стал ждать. Когда портал сработает, в нем будет только моя лодка, никаких других. Арка портала чернела на фоне звездного неба.
Внезапно на берегу, метрах в двадцати от меня, что-то произошло.
Я схватил пистолет и прицелился, не совсем понимая, что там творится.
Прогремели два взрыва. Потом какие-то вспышки.
Фейерверк? Нет, эти вспышки гораздо ярче. Энергозалп? Слишком уж ярко. И не прицельно. Больше похоже на плазменный взрыв.
И тут краем глаза я заметил нечто непонятное, то ли наяву, то ли мне пригрезилось: две фигуры, слившиеся в свирепых объятиях, точно негатив древней фотографии, неожиданное резкое движение, еще один взрыв, вспышка, ослепившая меня прежде, чем зрительный образ зафиксировался в сознании — шипы, клинки, две головы, упершиеся лбами, пять рук, искры, человеческое тело и что-то более массивное, скрежет металла, вопль, перекрывающий вой сирен на реке… Над поверхностью воды прошла ударная волна, чуть было не перевернувшая мой каяк и погнавшая по реке полосу белой пены.
И тут я очутился под аркой — вспышка, уже привычное головокружение, ослепительный свет, и мы вместе с лодкой куда-то провалились.
Именно провалились. Мы падали, переворачиваясь. Та часть канала, которая перенеслась вместе со мной, рухнула небольшим водопадом, а каяк летел сам по себе, вращаясь на лету. В панике я выронил пистолет и ухватился за борт; лодка закрутилась еще сильнее.
Я отчаянно моргал, пытаясь разглядеть, сколько до земли, а каяк тем временем набирал скорость.
Голубое небо над головой. Вокруг облака — огромные, слоисто-кучевые облака протяженностью в тысячи метров вверх и тысячи вниз, многокилометровый слой облаков, а внизу — черные грозовые тучи.
Подо мной не было ничего, кроме неба, в которое я падал. Водопад разделился на гигантские капли, словно кто-то взял сотню ведер с водой и выплеснул их в бездну.
Каяк покачнулся, угрожая перевернуться. Я подался вперед и чуть не выпал, меня удержали только «фартук» да скрещенные ноги.
Я завопил, ухватился за край кокпита, стиснул его так, что побелели костяшки пальцев. Вокруг ревел холодный воздух, а каяк летел все быстрее, набирая убийственную скорость. Между мной и раздираемыми молниями тучами внизу лежали тысячи и тысячи метров пустоты. Весло выпало из зажима и умчалось вниз.
Я сделал единственное, что мог сделать в сложившихся обстоятельствах: раскрыл рот и завопил.
Глава 11
Кендзо Исоздзаки мог честно сказать, что никогда в жизни ему не было страшно. Воспитанный в самурайских традициях на папоротниковых островах Фудзи, он с детства был приучен не ощущать страха и презирать тех, кто его испытывает. Допускалась лишь осторожность — и для Исодзаки она с годами стала второй натурой, но страх был ему чужд, абсолютно чужд.
До настоящего момента.
Когда открылся внутренний шлюз, Исодзаки встал. Тот, кто ожидал его, прибыл на этот безжизненный, лишенный воздуха астероид раньше. И даже без скафандра.
Исоздаки сознательно не взял с собой оружия и не стал вооружать хоппер. Но когда ледяные кристаллы толстым слоем осели на шлюзе и появилась человеческая фигура, Кендзо Исоздаки пожалел о своем решении.
Фигура была человеческой — по крайней мере внешне. Смуглая, загорелая кожа, аккуратно подстриженные седые волосы, безупречный серый костюм, серые глаза, глядевшие из-под обледенелых ресниц, приятная улыбка…
— Добрый день, месье Исодзаки, — поздоровался советник Альбедо.
Исодзаки поклонился. Он сумел обуздать рвавшееся в галоп сердце, дышал уже ровно, а теперь сосредоточился на том, чтобы не выдать своих чувств голосом.
— Спасибо, что отклинулись на мое приглашение, — произнес он ровным тоном.
Альбедо скрестил руки на груди. Он по-прежнему улыбался, однако эта улыбка не могла одурачить Исодзаки. В морях вокруг папоротниковых островов на Фудзи водилось множество акул, биомоделированных из древних ДНК и замороженных эмбрионов со старинных «ковчегов» Буссарда.
— Приглашение? — переспросил Альбедо со странной интонацией. — Или вызов?
Исодзаки слегка наклонил голову и опустил руки.
— Я бы никогда не осмелился, месье…
— По-моему, вы знаете, как меня зовут, — перебил Альбедо.
— Молва утверждает, что вы — тот же самый советник Альбедо, который почти триста лет назад сотрудничал с Мейной Гладстон, сэр, — сказал Исодзаки.
— Тогда я был… менее материален, — заметил Альбедо, в свою очередь опуская руки. — Но личность та же самая. И сэром меня называть не надо.
Исодзаки вновь поклонился.
Советник Альбедо прошел в кабину хоппера, провел рукой по панели управления, по спинке пилотского кресла и по топливному баку.
— Скромный корабль для столь могущественного человека, месье Исодзаки.
— Я решил, что лучше не привлекать внимания, советник. Могу я вас так называть?
Не отвечая, Альбедо стремительно подступил к Исодзаки. Тот не повел и бровью.
— А свой виртуальный зонд вы запустили в инфосферу Пасема тоже для того, чтобы не привлекать внимания? — Голос советника раскатился по кабине.
Исоздаки смело встретил пристальный взгляд серых глаз.
— Советник, я предположил, что… что, если Техно-Центр по-прежнему существует, мы… Гильдия… должны связаться с ним напрямую… установить личный контакт. Зонд был запрограммирован на самоуничтожение, если его обнаружат антивирусы. И реагировать он должен был только на запросы, исходящие непосредственно от Техно-Центра.
Советник Альбедо расхохотался.
— Ваш виртуальный зонд, Исодзаки-сан, был неуклюж, как легендарный слон в посудной лавке из знаменитой поговорки.
Председатель совета директоров Гильдии озадаченно и вместе с тем оскорбленно моргнул.
Альбедо уселся в кресло, потянулся и сказал:
— Присаживайтесь, друг мой. Вы многим рисковали, чтобы найти нас. Вы поставили на карту собственную жизнь и даже личную парковку для скиммера в ватиканском саду. Рассказывайте, для чего вам это понадобилось.
Лишившийся на какое-то время душевного равновесия, Кендзо Исодзаки огляделся, прикидывая, куда можно сесть. В конце концов он пристроился на панели управления. Исодзаки не любил невесомости, в кабине поддерживалась небольшая сила тяжести; впрочем, лучше бы ее не было — к горлу вдруг подкатила тошнота. Исоздаки вздохнул и попытался привести мысли в порядок.
— Вы служите Ватикану… — начал он.
— Техно-Центр никому не служит, — быстро перебил Альбедо.
Исодзаки опять вздохнул и начал снова:
— Ваши интересы и интересы Ватикана пересекаются настолько, что Техно-Центр снабжает Империю технологиями, необходимыми для ее существования…
Советник Альбедо улыбался и молчал.
«За то, что я скажу сейчас, — подумал Исодзаки, — Его Святейшество вполне может скормить меня Великому Инквизитору. И тогда я умру под пытками».
— Некоторые члены Исполнительного Совета Гильдии торговцев, — сказал он вслух, — полагают, что интересы Гильдии и интересы Техно-Центра могут совпадать сильнее, чем интересы Центра и Ватикана. Мы полагаем, что… э… изучение этих общих интересов будет выгодно обеим сторонам.
Советник Альбедо улыбнулся шире прежнего. Но промолчал.
Ощущая словно наяву веревочную петлю у себя на шее, Исодзаки продолжил:
— На протяжении почти трех столетий Церковь поддерживала в людях убеждение, что Техно-Центр был уничтожен во время Падения. Но миллионы близких к власть предержащим на планетах, входящих в пространство Священной Империи Пасема, не верят слухам о гибели Центра…
— Слухи о нашей смерти сильно преувеличены, — перебил советник Альбедо. — Что с того?
— Поэтому, понимая, что союз между ИскИнами Техно-Центра и Ватиканом был полезен обеим сторонам, Лига хотела бы предложить подобный союз с нашей торговой организацией — союз, который оказался бы более выгодным для вас, советник…
— Предлагайте, Исодзаки-сан, — сказал Альбедо, откидываясь на спинку кресла.
— Во-первых, — голос Исодзаки окреп, — Гильдия расширяет сферу своего влияния намного быстрее, нежели любая религиозная организация. Капитализм вновь набирает силу и вновь становится тем средством, которое объединяет сотни миров.
Во-вторых, Церковь продолжает вести бесконечную войну с Бродягами и с бунтовщиками в пространстве Империи. Гильдия относится к подобным конфликтам как к пустой трате энергии и драгоценных человеческих и материальных ресурсов. Что более важно, в человеческие конфликты оказывается втянутым и Техно-Центр, что никоим образом не может идти ему на пользу и приносить выгоду.
В-третьих, хотя Церковь и пользуется такими разработанными Техно-Центром технологиями, как двигатель Гидеона и саркофаги, Церковь никак не выделяет роль Центра в создании этих технологий. На самом деле Церковь до сих пор на словах рассматривает Техно-Центр как заклятого врага человечества и утверждает, что ИскИны были уничтожены из-за того, что объединились с дьяволом. Гильдия не испытывает необходимости в подобных предрассудках и измышлениях. Если Центр пожелает скрываться и далее, уже в союзе с нами, мы отнесемся к его желанию с уважением, но будем всегда готовы в открытую признать его заслуги, как только он того захочет. А на текущий момент Гильдия намерена раз и навсегда покончить с демонизацией Техно-Центра в истории и восстановить то отношение к нему, какого он заслуживает.
Советник Альбедо как будто задумался. Наконец, бросив взгляд в иллюминатор, он спросил:
— Значит, вы хотите видеть нас богатыми и уважаемыми?
Кендзо Исодзаки промолчал, чувствуя, что его собственное будущее и распределение власти в человеческом пространстве балансируют на острие ножа. Он не мог угадать мыслей Альбедо: вполне возможно, сарказм кибрида был своего рода прелюдией к отказу.
— А как нам тогда быть с Церковью? — поинтересовался Альбедо. — Как быть с почти тремя столетиями молчаливого партнерства?
Исодзаки усилием воли обуздал вновь пустившееся вскачь сердце.
— Мы не желаем вмешиваться в отношения Центра с другими, тем более в отношения, которые сам Центр считает для себя выгодными, — сказал он негромко. — Будучи деловыми людьми, мы в Гильдии отчетливо видим ограничения любого общества, основанного на религии. Для подобных обществ характерны догматизм и иерархичность; таковы отличительные черты теократии. Опять же как деловые люди, озабоченные прибылью как своей, так и наших партнеров, мы видим способы, которые позволят сделать сотрудничество между людьми и Техно-Центром более взаимовыгодным.
Советник Альбедо кивнул:
— Исодзаки-сан, вы помните тот день, когда в своем кабинете велели вашей помощнице, Анне Пелли Коньяни, раздеться?
Лишь огромным усилием воли Исодзаки удалось сохранить безразличное выражение лица. Но при мысли о том, что Центр проник в его кабинет, подсматривает и подслушивает, у него буквально застыла в жилах кровь.
— Вы тогда спросили, — продолжал Альбедо, — почему мы помогли Церкви «настроить» крестоформ. «С какой целью? — спросили вы. — В чем тут выгода для Центра?»
Исодзаки посмотрел на человека в сером; еще острее, чем прежде, ему почудилось, будто он заперт в хоппере наедине с готовой к броску коброй.
— У вас когда-нибудь была собака, Исодзаки-сан? — осведомился Альбедо.
По-прежнему думая о кобрах, председатель совета директоров Гильдии лишь непонимающе взглянул на собеседника.
— Собака? — переспросил он секунду спустя. — Нет, не было. На моей родной планете собак мало.
— Понятно, — улыбнулся Альбедо, — но ничего страшного. У вас там были акулы, верно? Кажется, вы пытались приручить акуленка, когда вам было шесть стандартных лет? Если не ошибаюсь, вы звали его Кейко.
Исодзаки не смог бы ответить, даже если от этого зависела бы его жизнь.
— И как вы выходили из положения, как отпугивали акулу, если она набрасывалась на вас, когда вы вместе плавали в лагуне Шиоко? — продолжал Альбедо.
— Ошейник, — выдавил Исодзаки после нескольких попыток.
— Прошу прощения? — Советник Альбедо наклонился к собеседнику.
— Ошейник, — прохрипел Исодзаки уже на грани обморока. — Шоковый ошейник. Приходилось всегда носить с собой диск с передатчиком. Такие диски были у всех рыбаков.
— Вот именно, — с улыбкой согласился Альбедо. — Если ваша любимица делала что-то не то, вы быстро учили ее уму-разуму. Одним движением пальца. — Он вытянул руку и сложил ее, словно обхватывая невидимый диск. Смуглый палец надавил на невидимую кнопку. Сквозь тело Кендзо Исодзаки прошел не то чтобы электрический разряд — скорее это были волны откровенной, ничем не замутненной боли, начинавшиеся в груди, в крестоформе, погруженном в плоть, и растекавшиеся, как телеграфные сигналы, по сотням метров волокна, пустившего корни во всем теле.
Вскрикнув, Исодзаки перегнулся пополам и рухнул на пол.
— Помнится, если ваш Кейко становился агрессивным, он получал несколько зарядов подряд? — справился советник Альбедо. — Кажется, сейчас как раз такой случай. — Его пальцы вновь пробежали по невидимому диску.
Боль усилилась. Исодзаки опорожнил мочевой пузырь прямо в скафандр и освободил бы кишечник, если бы тот уже не был пуст. Он попытался закричать, но челюсти были плотно сжаты, эмаль на зубах начала трескаться и отслаиваться. Он прикусил язык и ощутил на губах привкус крови.
— А ведь это еще цветочки, Исодзаки-сан, по сравнению с тем, как вы мучали Кейко. — Советник Альбедо встал, подошел к шлюзу и набрал код.
Корчась на полу, чувствуя, что его тело стало бесполезным придатком к крестоформу, от которого расходятся волны боли, Исодзаки тщетно силился закричать. Глаза норовили вылезти из орбит, из носа и ушей текла кровь.
Набрав код, советник Альбедо вновь надавил на невидимую кнопку.
Боль исчезла. Исодзаки стошнило. Каждая мышца болела по отдельности, а нервы просто пылали.
— Я передам ваше предложение трем элементам Техно-Центра, — торжественно произнес советник Альбедо. — Его обсудят и надлежащим образом рассмотрят. А пока, мой друг, мы вынуждены положиться на вашу скромность.
Исодзаки попытался произнести нечто членораздельное, но не сумел. Он не сумел даже подняться с пола. К его несказанному ужасу, ослабевший от пережитого кишечник с шумом выпустил газы.
— Надеюсь, никаких виртуальных зондов больше не будет, Исодзаки-сан? — Альбедо вошел в шлюз и захлопнул за собой люк.
Снаружи серая масса астероида вращалась в соответствии с законами, известными лишь богам математики хаоса.
Радаманте Немез и трем ее клонам потребовалось лишь несколько минут, чтобы долететь на катере от базы в Бомбасино до деревни Лок Чайлд-Ламонд. Впрочем, полет осложняло присутствие трех боевых скиммеров, которые отправил вдогонку этот недоумок генерал Солжников. Немез подключилась к «тайному» лучу, по которому велись переговоры между скиммерами и базой, и выяснила, что командует скиммерами адъютант Солжникова полковник Винара. Кроме того, она узнала, что на деле полковник ничего решать не будет — всеми его действиями станет руководить с помощью голо-симуляторов и тому подобной ерунды генерал Солжников.
Когда катер завис над искомой деревней — это слово не слишком подходило к кучке домов на западном берегу канала, отделенной лишь небольшим промежутком свободного пространства от тысяч других, протянувшихся вдоль канала в линию, — скиммеры нагнали его и стали заходить на посадку, пока Немез выискивала подходящее местечко, чтобы приземлиться.
Двери домов были раскрашены в яркие цвета. На людях — одежды той же самой расцветки. Немез знала, что означают эти цвета: она подключилась и к бортовому компьютеру, и к зашифрованным файлам базы, в которых хранились сведения о людях Спектральной Спирали. Данные заинтересовали ее только в одном: они показывали, что эти люди не торопятся принимать крещение и безо всякой охоты подчиняются имперским властям. Иными словами, от них вполне можно ожидать помощи бунтовщице-девчонке и ее спутникам — мужчине и однорукому андроиду.
Скиммеры приземлились на грунтовой дороге у канала. Немез посадила катер в парке, наполовину разрушив артезианский источник.
Гиес, сидевший в кресле второго пилота, вопросительно приподнял бровь.
— Скилла и Бриарей проведут официальное расследование, — сказала Немез. — Ты останешься со мной.
Без всякой гордости или тщеславия она отметила, что клоны давно и молчаливо признали ее право командовать, несмотря на то что Техно-Центр дал им разрешение убить ее в случае повторного провала.
Скилла и Бриарей спустились по трапу и двинулись сквозь толпу. Солдаты в боевых скафандрах с опущенными визорами устремились им навстречу. Наблюдая за происходящим по оптическому каналу, Немез узнала голос полковника Винары.
— Мэр, женщина по имени Сес Гиа, запрещает нам обыскивать дома.
Немез заметила презрительную усмешку на лице Бриарея, отразившуюся в визоре полковника. Лицо Бриарея выглядело отражением ее собственного, разве что чуть более мужественным.
— И вы допустите, чтобы эта… мэр… командовала вами? — спросил Бриарей.
Полковник Винара поднял руку в перчатке:
— Священная Империя признает местные власти… пока они являются частью протектората.
— Вы сказали, что доктор Молина оставила здесь охранника, — напомнила Скилла.
Винара кивнул. Наушники шлема многократно усиливали шум его дыхания.
— Пока мы его не нашли. Хотя пытаемся установить связь с тех пор, как вылетели из Бомбасино.
— Разве у этого солдата нет вживленного чипа? — поинтересовалась Скилла.
— Нет. Чип находится в его броне.
— И что?
— Броню мы нашли в колодце, в нескольких кварталах отсюда, — сообщил полковник.
— Полагаю, солдата в колодце не было. — Голос Скиллы оставался ровным.
— Нет, — подтвердил Винара. — Только броня и каска. Тела не обнаружено.
— Жаль. — Скилла отвернулась, но затем вновь посмотрела на полковника. — Только броня? Оружия не было?
— Нет, — мрачно ответил Винара. — Я приказал обыскать все улицы и допросить всех местных жителей. Возможно, кто-нибудь скажет, где находился тот беглец, арестованный доктором Молиной. Тогда мы окружим дом и потребуем, чтобы все, кто внутри, сдались. Я запросил у гражданского суда в Бомбасино… э… ордер на обыск.
— Отличный план, полковник, — заметил Бриарей. — Может быть, ордер вам выдадут все же раньше, чем эту деревню накроет ледник.
— Ледник? — переспросил Винара.
— Не обращайте внимания, — вмешалась Скилла. — Если не возражаете, мы присоединимся к вам. — Одновременно она связалась на тактической частоте с Немез и спросила: — Что теперь?
Оставайтесь с ним и делайте то, что собирались, — ответила Немез. — Соблюдайте законы, выполняйте приказы. Еще не хватало найти девчонку или Эндимиона с этими идиотами под боком. Мы с Гиесом отправляемся на поиски.
Удачной охоты, — пожелал Бриарей.
Гиес уже ждал в шлюзе. Немез сказала:
— Я проверю деревню, ты спустишься по реке до портала и будешь ждать там. Проверяй все, что движется. Когда будешь связываться со мной, переключайся. Я буду время от времени проверять и твой сигнал. Если найдешь его или девчонку, вызывай меня.
Переключившись в боевой режим, можно было по-прежнему общаться на общей частоте, но расход энергии в этом случае был чудовищным — намного превосходившим необходимый уровень. Посему было гораздо выгоднее периодически переключаться туда-обратно и выходить на связь. Но все равно даже расход энергии на сигнал тревоги был равноценен годовому бюджету этой планеты.
Гиес кивнул, и они оба переключились в боевой режим, превратившись в хромированные статуи. Снаружи шлюза воздух словно загустел, а свет стал сочнее. Звук иссяк. Всякое движение прекратилось. Человеческие фигуры превратились в неподвижные, слегка размытые скульптуры в развевающихся как на ветру одеждах с застывшими складками.
Немез не понимала физической природы переключения. Впрочем, чтобы пользоваться этим режимом, понимать его было совершенно не обязательно. Она знала, что это ни антиэнтропийная, ни гиперэнтропийная манипуляция со временем — хотя грядущий ВР имел в своем распоряжении обе эти почти магические возможности — и не своего рода «ускорение», связанное с выходом за пределы звука и восприятия; это было нечто вроде перехода к границе пространственно-временного континуума. «Вы станете — в самом прямом смысле — крысами, шуршащими в стенах времени», — так говорил ИскИн, создавший киборгов.
Это сравнение Радаманту Немез ничуть не обидело. Она знала о том, сколь чудовищное количество энергии передается ей и ее клонам от Техно-Центра через Связующую Бездну в момент переключения. Центр явно ценил свои собственные создания, иначе не стал бы расходовать на них столько энергии.
Две хромированные фигуры спустились по трапу и двинулись в противоположные стороны — Гиес устремился к порталу, а Немез миновала своих застывших клонов, имперских солдат и местных жителей и направилась в деревню.
Ей практически не потребовалось времени, чтобы отыскать дом, в котором спал прикованный к кровати охранник. Она покопалась в файлах военной базы, чтобы опознать спящего: лузианин по имени Геррин Паутц, тридцать восемь стандартных лет, анонимный алкоголик, два года до выхода на пенсию, шесть наказаний и три отсидки на гауптвахте за время службы, караульная служба и самые простые задания… и стерла загруженные в память файлы. Солдат ее не интересовал.
Убедившись, что выходивший окнами на канал дом пуст, Радаманта Немез переключилась обратно и на мгновение замерла в спальне. Звук и движение возвратились: храп охранника, пешеходы на улицах, легкий ветерок, шевеливший белые занавески на окнах, отдаленный шум уличного движения, даже лязг брони солдат, обыскивавших закоулки деревни.
Стоя над охранником, Немез протянула руку и коснулась пальцем шеи спящего. Из-под ногтя вынырнула игла, которая вонзилась в шею охранника на добрых десять сантиметров, оставив на коже лишь крохотное пятнышко крови. Солдат не проснулся.
Немез вынула иглу и проверила состав крови: опасный уровень С27H45OH — уровень холестерина в крови был недопустимо высок; кроме того, уровень тромбоцитов свидетельствовал о наличии тромбоцитопенной пурпуры, возможно, связанной с пребыванием в условиях жесткой радиации. Содержание алкоголя в крови составляло 122 мг на 100 мл — охранник был пьян, хотя по его виду это определить было затруднительно (алкоголик, привычен ко всему). А это еще что? Искусственное снотворное, ультраморф, в смеси с кофеином. Немез улыбнулась. Кто-то опоил охранника ультраморфом, подмешанным в чай или в кофе — но весьма осторожно, чтобы не допустить передозировки.
Немез принюхалась. Ее способность улавливать и определять органические молекулы в воздухе — то есть нюх — как минимум в три раза превосходила чувствительность масс-спектрометра; другими словами, приблизительно соответствовала нюху гончей со Старой Земли. В комнате отчетливо ощущались запахи многих людей. Некоторые были застарелыми, немногие — совсем свежими. Она определила запах пьяницы-охранника, несколько терпких, мускусных женских ароматов, молекулярные следы по крайней мере двоих детей — точнее, подростка и ребенка, страдающего раком и проходившего курс химиотерапии, а также запахи двух взрослых мужчин, один — явно местного жителя, а вот второй — одновременно знакомый и чужой. Чужой потому, что у него был запах планеты, на которой Немез никогда не бывала, а знакомый потому, что она прекрасно знала его: Рауля Эндимиона сопровождал запах Старой Земли.
Немез перешла в другую комнату, обыскала весь дом, но запаха девчонки, столь памятного, несмотря на минувшие четыре с половиной года, нигде не учуяла, равно как и антисептического запаха андроида, которого звали А.Беттиком. Тут был только Рауль Эндимион. Был — и куда-то исчез.
Ей не составило труда отыскать люк в полу. Вырвав его с петлями, Немез на мгновение задержалась, прежде чем спуститься по лестнице. Она передала сообщение Гиесу, ответа не получила — Гиес, по всей видимости, был в боевом режиме. В конце концов, с тех пор, как они покинули катер, прошло всего пятнадцать секунд. Немез усмехнулась. Ничего, она еще свяжется с Гиесом, и тот окажется здесь раньше, чем сердца Рауля Эндимиона и его спутников отобьют десять ударов.
Впрочем, Радаманта Немез собиралась лично отдать должок. Продолжая улыбаться, она спрыгнула в люк и пролетела восемь метров до пола.
Туннель был освещен. Немез вновь принюхалась, отделив богатый адреналином запах Рауля Эндимиона от прочих. Гиперионец явно нервничал. И он был то ли болен, то ли ранен — Немез уловила запах пота в сочетании с ультраморфом. Значит, именно Эндимиона лечила та самая доктор Молина, и кто-то подмешал прописанные ему лекарства в чай или кофе охранника-лузианина.
Немез переключилась и побежала по туннелю, освещенному мертвенно-бледными люм-шарами. Не важно, какая у Эндимиона фора по времени, — она его быстро догонит. Ей доставило бы удовольствие снести ему голову, не выходя из боевого режима — эта процедура показалась бы сторонним наблюдателям чем-то мистическим, произведенным невидимой рукой. Но от Рауля Эндимиона требовалась информация. Правда, для этого совершенно не нужно, чтобы он был в сознании. Проще всего разлучить его с приятелями, поместить внутрь того поля, которое окружает ее саму, всадить в мозг иглу, обездвижить, перенести на катер, сунуть в саркофаг, а потом рассыпаться в благодарностях перед полковником Винарой и генералом Солжниковым и пообещать, что они смогут допросить Рауля Эндимиона, когда корабль покинет орбиту планеты; а она пропустит в его мозг микроволокна, извлечет РНК и воспоминания. Эндимион больше не придет в себя — когда Немез узнает, что ей требуется, она убьет его и выкинет тело в космос. Ее цель — и цель ее клонов — найти девчонку по имени Энея.
Внезапно огни в туннеле погасли.
«Я же в боевом режиме, — подумала Немез. — Это невозможно». Ничто не могло произойти столь быстро.
Она резко затормозила. В туннеле стало темно, как беззвездной ночью, и даже максимальное увеличение не помогало. Немез переключилась на инфракрасный, обследовала туннель впереди и позади себя. Пусто. Раскрыв рот, она послала сонарный сигнал, сначала вперед, потом назад. Пусто… Ультразвук отразился от стен, не встретив других препятствий. Немез модифицировала силовое поле, чтобы послать сигнал радара в обоих направлениях. Туннель был пуст, вот только тянулся он на сотни километров во все стороны — настоящий лабиринт. В тридцати метрах впереди, за толстой металлической дверью, находился подземный гараж, где стояли какие-то машины и суетились люди.
Несколько озадаченная, Немез на мгновение вышла из боевого режима — проверить, почему погасли огни.
Прямо перед ней возникло нечто. У нее было меньше одной десятитысячной секунды, чтобы переключиться обратно. Четыре бронированных кулака ударили в нее с силой сотни тысяч копров. Ее отшвырнуло назад, к расколовшейся в щепки лестнице, она врезалась в каменную стену и вошла глубоко в камень.
Свет так и не зажегся.
За те двадцать стандартных дней, которые Великий Инквизитор провел на Марсе, он возненавидел красную планету сильнее, чем самый ад.
Каждый день над поверхностью планеты бушевали песчаные бури — самумы, как называли их местные. Несмотря на то что кардинал Мустафа и его спутники поселились в губернаторском дворце на окраине Сент-Малахи, несмотря на то что дворец был герметически ничем не хуже звездолета, а воздух в нем регулярно фильтровался, а в окнах стояли пятьдесят два слоя прочного пластика, а двери больше смахивали на шлюзы, песок все равно находил дорогу внутрь.
Принимая по утрам душ, Джон Доменико кардинал Мустафа с отвращением наблюдал, как стекают в слив красноватые от песка струи. Когда слуга помогал Великому Инквизитору одеваться — все одежды были свежевыстиранными и выглаженными, — на шелковых складках уже лежал слой песка. Во время завтрака — Мустафа завтракал в одиночестве в столовой губернатора — у него на зубах скрипел песок. Когда он вел допросы в просторной дворцовой зале для приемов, песок забирался под клобук Великого Инквизитора и под воротник, проникал в волосы и под аккуратно наманикюренные ногти.
Снаружи все было еще хуже. Скиммеры и наземные машины стояли без движения. Космопорт работал лишь несколько часов в день, в краткие промежутки затишья между бурями. Наземные машины скоро превратились в песчаные дюны, и даже хваленые фильтры не справлялись с песком, проникавшим в двигатели и — казалось бы — цельные модули. Связь со столицей поддерживалась лишь благодаря нескольким древним краулерам и роверам да термоядерным челнокам, доставлявшим провизию и свежую информацию, но, несмотря на все усилия, работа правительственной комиссии и военных зашла в тупик.
На пятый день самума пришло сообщение о нападении палестинцев на армейские базы на плато Фарсида. Майор Пиет, немногословный командир гарнизона, приказал своим солдатам и бойцам сил самообороны грузиться в краулеры и бронетранспортеры. На них напали в сотне километров от плато, и лишь половине отряда во главе с Пиетом удалось вернуться в Сент-Малахи.
В начале второй недели сообщили об атаках палестинцев на различные посты в обоих полушариях. С гарнизоном на Элладе была потеряна всякая связь, а гарнизон на Южном полюсе сообщил на «Джебраил», что не выдерживает натиска и собирается сдаться.
Губернатор Клэр Пало — она трудилась в крохотном кабинете, который раньше принадлежал одному из ее помощников, — после разговора с архиепископом Робсоном и Великим Инквизитором отправила в осажденный гарнизон термоядерное и плазменное оружие. Кардинал Мустафа также разрешил использовать огневую мощь «Джебраила», и лагерь палестинцев на Южном полюсе был уничтожен с орбиты. Силы самообороны, гарнизон Ордена, морпехи, швейцарские гвардйецы и коммандос Священной Канцелярии обороняли Сент-Малахи, в особенности — кафедральный собор и дворец губернатора. В условиях непрекращающейся бури любой местный житель, подходивший к городскому периметру ближе чем на восемь километров, если у него не было специального радиомаяка, уничтожался на месте, и лишь потом выяснялось, кто он такой и чего хотел. Некоторые оказались палестинскими партизанами.
— Самум не может длиться вечно, — проворчал командор Браунинг, глава личной охраны Великого Инквизитора.
— Он может дуть еще три или четыре стандартных месяца, — возразил майор Пиет, грудь которого была забинтована. — Или даже дольше.
Расследование Священной Канцелярии пока ни к чему не привело: полицейских, обнаруживших трупы в Арафат-каффиех, допросили вновь, с применением «правдосказа» и нейропроб, но они лишь подтвердили уже сказанное; судмедэксперты Канцелярии, трудившиеся бок о бок с коронерами из Сент-Малахи, сообщили, что ни один из трупов не подлежит воскрешению — Шрайк с корнем вырвал крестоформы; было решено с помощью автоматических зондов связаться с Пасемом, чтобы установить личности жертв и — что гораздо важнее — суть операции, которую проводил на Марсе «Опус Деи», используя сверхсовременный космопорт. Зонд вернулся через две недели по местному времени и доставил лишь сведения о мертвецах; никаких объяснений по поводу действий «Опус Деи» дано не было.
На пятнадцатый день самума, когда стали поступать сообщения о новых нападениях палестинцев на конвои и гарнизоны, после множества бессмысленных допросов, Великий Инквизитор с громадным облегчением узнал от капитана Уолмака, связавшегося с ним по тактическому каналу, что обстоятельства требуют его немедленного возвращения на орбиту.
«Джебраил» относился к новейшему типу «архангелов» и с борта катера, который доставил кардинала Мустафу на орбиту, казался весьма эффективным и устрашающим. Великий Инквизитор слабо разбирался в боевых звездолетах, но даже он заметил, что капитан Уолмак привел корабль в полную боеготовность: звездолет втянул в корпус многочисленные антенны и датчики, двигатель Гидеона облекли сверкавшей на солнце броней, из портов торчали стволы орудий. За «архангелом» вращался Марс — окутанный пыльным саваном диск цвета запекшейся крови. Кардинал Мустафа искренне надеялся, что видит эту планету в последний раз.
Отец Фаррелл заметил, что все восемь факельщиков марсианской эскадры находятся в пределах пятисот километров от «Джебраила» — по космическим стандартам, едва ли не рядом. Великий Инквизитор сообразил, что случилось и впрямь что-то очень серьезное.
Катер Мустафы пристыковался первым. Уолмак лично встретил Великого Инквизитора в шлюзе, где внутреннее силовое поле поддерживало привычную силу тяжести.
— Прошу прощения за вмешательство в ваши дела, ваше преосвященство… — начал капитан.
— Ерунда, — отмахнулся кардинал Мустафа, отряхивая сутану. — Что стряслось, капитан?
Уолмак подмигнул — из шлюза как раз появилась свита Великого Инквизитора: естественно, отец Фаррелл, командор Браунинг, трое чиновников Священной Канцелярии, сержант морской пехоты Нелл Каснер, специалист по воскрешениям епископ Эрдль и майор Пиет, бывший начальник марсианского гарнизона, — Великий Инквизитор забрал его у губернатора.
Кардинал Мустафа заметил нерешительность капитана.
— Можете говорить свободно, капитан. Все эти люди нами проверены.
Уолмак кивнул:
— Ваше преосвященоство, мы нашли корабль.
Взгляд кардинала Мустафы выразил полнейшее недоумение.
— Тяжелый транспорт, который покинул орбиту Марса в день бойни, — пояснил капитан. — Мы знали, что челноки должны были куда-то лететь…
— А-а-а, — проговорил Великий Инквизитор. — Но мы предполагали, что его давно здесь нет, что он совершил прыжок в неизвестном направлении…
— Так точно, сэр. Но я на всякий случай приказал обследовать систему, предположив, что он мог и не успеть совершить прыжок. Мы обнаружили его в поясе астероидов.
— Он туда и направлялся? — спросил Мустафа.
Капитан покачал головой:
— Не думаю, ваше преосвященство. Он вращается сам по себе, двигатели заглушены… Наши приборы показывают, что корабль мертв…
— Но это транспорт? — уточнил отец Фаррелл.
Капитан Уолмак повернулся к помощнику Великого Инквизитора:
— Да, святой отец. Это транспорт «Сайгон-мару». Грузоподъемность три миллиона тонн, в составе торгового флота еще со времен Гегемонии.
— Гильдия, — негромко произнес Великий Инквизитор.
— По принадлежности — да, ваше преосвященство, — мрачно признал Уолмак. — Но наши данные свидетельствуют о том, что «Сайгон-мару» был снят со службы и разрезан на металлолом восемь стандартных лет назад.
Кардинал Мустафа и отец Фаррелл переглянулись.
— Вы уже побывали на борту, капитан? — спросил командор Браунинг.
— Нет, — ответил Уолмак. — Учитывая возможные политические осложнения, я хотел получить разрешение его преосвященства.
— Отлично, — одобрил Великий Инквизитор.
— Кроме того, — продолжал Уолмак, — мне требовался полный комплект швейцарских гвардейцев и морских пехотинцев.
— Почему, сэр? — спросил майор Пиет, форма которого топорщилась на забинтованной груди.
— Что-то здесь не так, сэр. — Уолмак перевел взгляд с майора на кардинала Мустафу. — Что-то очень и очень не так.
Более чем в двухстах световых годах от Марса эскадра «Гидеон» завершала поставленную задачу — уничтожала систему Люцифера.
С седьмой и последней из систем, к которым была отправлена карательная экспедиция, справиться оказалось труднее всего. Система желтой звезды класса G с шестью планетами, две из которых были пригодны для жизни и без терраформирования, буквально кишела Бродягами — военными базами за поясом астероидов, родильными домами в этом поясе, «ангельскими» обиталищами вокруг самой внутренней из планет, заправочными станциями на орбите газового гиганта и орбитальным лесом между планетами, которые в Солнечной системе могли бы сойти за Венеру и Старую Землю. Эскадре понадобилось десять стандартных дней, чтобы отыскать и уничтожить эти жизненно важные узлы Бродяг.
Когда с ними было покончено, адмирал Алдикакти созвала совещание на борту флагманского корабля и сообщила, что планы изменились: рейд оказался столь успешным, что они получили приказ разыскать новые цели и продолжить наступление. Алдикакти отправила на Пасем автоматический зонд и получила разрешение на продолжение самостоятельных действий. Семи «архангелам» предстояло прыгнуть к ближайшей системе в пространстве Священной Империи, к Тау Кита, где их должны были перевооружить, переоснастить и заправить; туда же должны были подойти и пять новых кораблей. Зонды уже обнаружили дюжину новых вражеских систем, ни одна из которых еще не получила сведений об учиненной бойне. Учитывая время на воскрешение, следующая атака планировалась через десять стандартных дней.
Семь капитанов вернулись на свои корабли и стали готовиться к прыжку от Люцифера к базе ТКЦ.
Командор Хоган Жабер — Жаба — нервничал. Помимо официальных обязанностей старшего помощника на борту «Рафаила», второго по старшинству после капитана де Сойи, у Жабера были еще обязанности шпиона, которому платили за слежку за капитаном и за сообщения обо всем подозрительном — сначала главе представительства Священной Канцелярии на борту «Уриила», а затем, насколько он мог судить, по цепочке вверх вплоть до легендарного кардинала Лурдзамийского. Проблема в данный момент заключалась в том, что Жабер что-то подозревал, но не мог определить источник своих подозрений.
Вряд ли стоило сообщать по направленному лучу на «Уриил», что отец капитан де Сойя слишком уж часто принимает исповедь у своих подчиненных, хотя на деле именно это было одной из причин беспокойства Жабера. Разумеется, Жаба Жабер стал шпионом не по призванию: оказавшись в положении джентльмена в стесненных обстоятельствах, он сначала поступил на военную службу, еще на Возрождении Малом, а затем, храня верность Империи и Церкви, как убеждал сам себя, возжелал постоянного притока денег, дабы вернуть утраченные владения, и стал шпионить за своим командиром.
Исповедь не то чтобы выбивалась из общего ряда — в конце концов вся команда состояла из христиан, переживших уже не одно воскрешение, и обстоятельства, в которых они оказались — угроза истинной, вечной смерти (если лучевой залп Бродяг прорвется сквозь силовой экран), — явно способствовали повышению религиозности. Но Жабер ощущал присутствие некоего дополнительного фактора — пожалуй, начиная с Маммоны. В промежутках между яростными сражениями в системе Люцифера весь экипаж и отделение швейцарских гвардейцев на борту «Рафаила» — двадцать семь человек, не считая сбитого с толку старшего помощника, — посещали конфессионал столь же регулярно, сколь космолетчики посещают публичные дома на Окраине.
А конфессионал — единственное место на корабле, где нельзя задержаться, чтобы подслушать.
Жабер не мог предположить, какой вызревает заговор. Бунт? Во-первых, это немыслимо — на протяжении трех столетий ни один корабль на Флоте даже близко не подходил к мятежу; во-вторых, нелепо — бунтовщики не ходят на исповедь, чтобы обсудить свои грехи с капитаном корабля.
Может, капитан де Сойя набирает себе помощников для каких-нибудь неблаговидных делишек? Но вряд ли он может предложить экипажу что-то такое, что заставит матросов и солдат нарушить присягу. Команда не любила Хогана Жабера — его не любили еще с детства, это было врожденное проклятие его аристократичности, он знал, — но невозможно, чтобы они в конфессионале договаривались учинить ему какую-нибудь пакость. Если капитан де Сойя каким-то образом обольстил экипаж и склонил к измене, худшее, на что они способны, — украсть «архангел» (Жабер подозревал, что его назначили на «Рафаил» с учетом этого маловероятного события). Но зачем? «Рафаил» постоянно поддерживал связь с другими кораблями, не считая моментов самого прыжка и двух дней воскрешения после оного, и если команда попытается похитить звездолет, остальные корабли эскадры мгновенно уничтожат его.
При этой мысли Хоган Жабер вздрогнул. Он не любил умирать и не желал делать это чаще, чем необходимо. Кроме того, если о нем будут помнить как о члене экипажа взбунтовавшегося корабля, это вряд ли поможет ему вернуть титул полновластного лорда на Малом Возрождении. А что, если кардинал Лурдзамийский — или кто там стоит на верху шпионской цепочки? — прикажет его пытать, отлучит от Церкви и казнит вместе с остальными, чтобы скрыть тот факт, что на борту «Рафаила» был ватиканский шпион?
Эта мысль ввергла Жабера в пучину отчаяния.
Он утешился тем, что подобная измена не просто маловероятна — она безумна. Сейчас не те времена, о которых он читал в книгах, когда моря Старой Земли бороздили корабли, экипажи которых устраивали бунты, становились пиратами, грабили торговые суда и терроризировали порты. Украденному «архангелу» просто будет некуда деться, негде спрятаться, негде пополнить боезапас, негде заправиться. Флот разделается с ним как нечего делать.
Несмотря на все свои логические построения, командор Хоган Жабер по-прежнему чувствовал себя неуверенно.
Он провел на вахте в рубке четыре часа во время разгона к точке прыжка, когда с «Уриила» поступило срочное сообщение: пять вражеских факельщиков-эсминцев прятались в пылевом торе у внутренней луны внешнего газового гиганта и теперь пытаются уйти в С-плюс, прикрываясь светилом системы как щитом. «Гавриилу» и «Рафаилу» предписывалось отклониться от курса, выпустить оставшиеся гиперкинетические ракеты, уничтожить факельщики, а затем вернуться на прежнюю траекторию. Флагман считал, что два «архангела» смогут прыгнуть через восемь часов после остальных.
Отец капитан де Сойя отрапортовал о получении приказа и распорядился изменить курс; командор Жабер по тактическому каналу увидел, что капитан Стоун на «Гаврииле» сделала то же самое. «Адмирал не оставляет нас одних, — подумал старший помощник. — Не только мое начальство не доверяет де Сойе».
Это была не то чтобы восхитительная погоня — не погоня вообще, если уж на то пошло. Учитывая гравитационную динамику системы, древним факельщикам Бродяг потребовалось бы четырнадцать часов для достижения релятивистской скорости, необходимой для прыжка. «Архангелы» же заняли нужные позиции всего через четыре часа после получения приказа. У Бродяг не было оружия, эффективного на таком расстоянии; что касается «Рафаила» и «Гавриила», они могли уничтожить факельщики добрый десяток раз. Если ракеты пройдут мимо цели, есть ведь еще нейродеструкторы.
Командор Жабер находился на мостике — капитан отправился в свою каюту вздремнуть, — когда «архангелы» вышли на дистанцию поражения. Остальные корабли эскадры уже давно совершили квантовый прыжок. Жабер повернулся в кресле, чтобы вызвать капитана, и тут внезапно створки люка разошлись, и на мостике появился де Сойя в сопровождении других офицеров. На мгновение Жабер забыл о своих подозрениях — забыл, что ему платят за подозрительность, — уставившись на диковинную группу. Кроме капитана, здесь были сержант швейцарских гвардейцев — Грегориус — и двое его подчиненных. А также артиллерийский офицер командор Карел Шан, энергетик лейтенант Пол Дениш, эколог командор Беттц Аргайл и механик лейтенант Элия Гуссейн Меир.
— Какого черта… — начал старший помощник Жабер и замолчал. Сержант Грегориус держал в руках парализатор, дуло которого смотрело в лицо Жаберу.
У Жабера в голенище сапога был игольник, который он носил несколько недель, но о котором совсем забыл. На него еще никогда не направляли оружие — даже парализатор, — и он испытывал сейчас ощущение, от которого немедленно захотелось намочить штаны. Он сосредоточился на том, чтобы совладать со своим мочевым пузырем. На то, чтобы сосредоточиться на чем-нибудь другом, его уже не хватило.
Женщина в мундире швейцарского гвардейца подошла к нему и вытащила из сапога игольник. Жабер смотрел на оружие так, будто никогда раньше его не видел.
— Хоган, — проговорил капитан де Сойя, — мне очень жаль, но мы проголосовали и решили, что не можем терять время, уговаривая вас присоединиться к нам. Поэтому вам придется посидеть под замком.
Призвав на память все диалоги из виденных мелодрам, Жабер отважился на блеф:
— У вас ничего не выйдет! «Гавриил» уничтожит вас. Вас арестуют и казнят. Они вырвут крестоформы из ваших…
Парализатор в руке сержанта тихо загудел. Если бы его не удержали и не усадили на пол, Хоган Жабер наверняка рухнул бы навзничь.
Капитан де Сойя занял освободившееся кресло.
— Смените курс, — приказал он лейтенанту Меиру. — Введите координаты для прыжка. Полное аварийное ускорение. Полная боеготовность. — Он повернулся и посмотрел на Жабера. — А этого засуньте в саркофаг.
Гвардейцы вынесли крепко спящего шпиона.
Прежде чем приказать, чтобы убрали внутреннее силовое поле, прежде чем наступила невесомость, капитан де Сойя позволил себе насладиться мимолетным, но восхитительным чувством полета — такое испытывает человек, прыгнувший с утеса, до того, как сила тяжести устанавливает свой категорический императив. На деле корабль всем корпусом содрогался под ускорением более чем в шестьсот g, что почти на 180 процентов превышало стандартное. Любая флуктуация силового поля мгновенно убила бы экипаж. Но до точки прыжка оставалось уже меньше сорока минут.
Де Сойя не был уверен, что поступает правильно. Мысль о том, что он изменяет Государству и Церкви, была для него ужаснейшей мыслью на свете. Но он знал, что, если у него и вправду бессмертная душа, выбора попросту не остается.
Надеяться на чудо — или по крайней мере на то, что удача повернется к ним лицом, — заставляло капитана де Сойю то обстоятельство, что к нему присоединились еще семь человек. Восемь, считая его самого, из двадцати восьми членов экипажа. Остальных парализовали, и теперь они спали в своих саркофагах. Де Сойя знал, что и ввосьмером можно прекрасно справиться с управлением «Рафаилом» практически в любой ситуации: ему повезло — или то было милостью небес, — что к нему присоединились несколько офицеров. Поначалу капитан полагал, что может рассчитывать только на Грегориуса и двух его гвардейцев.
Первыми отважились нарушить присягу трое швейцарских гвардейцев — после «зачистки» второго родильного астероида в системе Люцифера. Несмотря на присягу Священной Империи, Церкви и швейцарской гвардии, эти молодые люди восприняли избиение младенцев как откровенное убийство. Дона Фу и Энос Делрино обратились сперва к своему сержанту, а затем вместе с ним пришли в исповедальню и поделились своими сомнениями с де Сойей. Сначала они хотели попросту сбежать. Но де Сойя предложил другой план.
Лейтенант Меир пришел на исповедь с теми же проблемами. Безжалостное истребление невыразимо прекрасных «ангелов», которое он наблюдал в тактическом пространстве, отравило ему душу и едва не заставило вернуться к религиям предков — иудаизму и исламу. Вместо этого он отправился на исповедь и признал свою психическую неуравновешенность. Капитан де Сойя изумил Меира, сообщив лейтенанту, что его проблемы не вступают в конфликт с христианством.
В последующие дни угрызения совести привели на исповедь эколога командора Беттц Аргайл и энергетика лейтенанта Пола Дениша. Убедить Дениша оказалось сложнее всего, но долгие разговоры с соседом по каюте, лейтенантом Меиром, сделали свое дело.
Последним к заговору присоединился артиллерийский офицер Карел Шан: он больше не мог направлять смертоносные лучи нейродеструкторов и не спал уже три недели.
В последний день пребывания в системе Люцифера де Сойя осознал, что больше рассчитывать не на кого. Остальные члены экипажа рассматривали происходящее как грязную, но необходимую работу. Когда дойдет до стычки, большинство офицеров, матросов и швейцарских гвардейцев на борту окажутся на стороне старшего помощника Хогана. Поэтому капитан вместе с сержантом Грегориусом решили не давать им такой возможности.
— Нас вызывает «Гавриил», капитан, — сообщил лейтенант Дениш. Он подключился не только к пульту управления огнем, но и к передатчику.
Де Сойя кивнул.
— Убедитесь, что все саркофаги включены. — Впрочем, он знал, что в проверке необходимости нет, что каждый бодрствующий член экипажа занял место согласно боевому расписанию, а остальные лежат в саркофагах, пристегнутые ремнями безопасности.
Прежде чем выйти в тактический режим, де Сойя проверил траекторию на центральном дисплее. Они уходили от «Гавриила», несмотря на то что тот шел с ускорением в триста g и изменил курс с тем расчетом, чтобы перехватить «Рафаил». Вдалеке виднелись факельщики Бродяг, медленно ползущие к своей точке перехода. Де Сойя мысленно пожелал им удачи; единственная причина, по которой они еще существуют, — внезапная смена курса «Рафаилом». Он включил тактический дисплей.
В следующий миг он сам себе показался великаном, стоящим в космосе. Шесть планет, несчетное количество лун, горящие орбитальные леса системы Люцифера простирались на уровне его талии. Далеко за пылающим солнцем балансировали на крошечных плазменных выхлопах мотыльки — факельщики Бродяг. Выхлоп «Гавриила» был гораздо длиннее, а ослепительно сверкающий выхлоп «Рафаила» затмевал сияние звезд. Капитан Стоун ожидала де Сойю.
— Федерико, — проговорила она, стоя в нескольких шагах от него. — Что ты творишь, во имя всего святого?
Де Сойя думал о том, чтобы не отвечать на вызов. Если бы это позволило им выиграть несколько драгоценных минут, он бы и не отозвался. Однако он хорошо знал Стоун. Она бы не стала медлить. Капитан бросил взгляд на дисплей. До момента перехода оставалось тридцать шесть минут.
«Капитан! — раздался в наушниках взволнованный голос командора Шана. — Обнаружены четыре ракеты! Я их засек!»
Капитан де Сойя был уверен, что ничем — ни мимикой, ни непроизвольным жестом — не выдал своих чувств перед капитаном Стоун. Связавшись с Шаном, он проговорил:
— Все в порядке, Карел. Я их вижу. Они движутся к факельщикам. — Затем на тактической частоте обратился к Стоун: — Кажется, вы атаковали Бродяг?
Лицо Стоун оставалось суровым даже на симуляторе.
— Разумеется. А почему ты не сделал этого, Федерико?
Вместо ответа де Сойя шагнул ближе к солнцу. На его глазах ракеты вынырнули прямо перед факельщиками. Они взорвались через несколько секунд: две термоядерные, затем две плазменные. У всех факельщиков защитные силовые экраны были на максимуме (на тактическом дисплее это выглядело так, словно корабли окружены оранжевыми коконами), но взрывы смели всякую защиту. Изображение сделалось красным, потом белым, а потом три факельщика просто-напросто исчезли, перестали существовать как материальные объекты. Еще два превратились в кучу обломков, по-прежнему двигавшихся к теперь уже никому не нужной точке перехода. Последний уцелел, но его силовой экран рухнул, а выхлоп исчез. Если кто и выжил во время взрыва, теперь они все были мертвы, ибо корабль пронизывала жесткая смертоносная радиация.
— Что ты делаешь, Федерико? — повторила капитан Стоун.
Де Сойя помнил, что капитана Стоун зовут Хален. Но предпочел не переходить на личности.
— Выполняю приказ, капитан.
Даже на симуляторе лицо Стоун выразило сомнение.
— Какой приказ, капитан де Сойя? О чем вы говорите? — Оба знали, что их разговор записывается. И тот, кто выживет, будет обладать записью беседы.
Де Сойя постарался, чтобы его голос прозвучал твердо:
— Нам передали приказ с корабля адмирала Алдикакти, за десять минут до прыжка. Мы выполняем этот приказ.
Лицо Стоун оставалось бесстрастным, но де Сойя догадывался, что она уточняет у своего старшего помощника, выходил ли «Уриил» на связь с «Рафаилом». На самом деле выходил, но совсем по другому поводу: флагман передавал точные координаты рандеву в системе Тау Кита.
— Что это за приказ, капитан де Сойя?
— Секретный, капитан Стоун. И к «Гавриилу» он не относится. — Командору Шану де Сойя сказал: — Наведите нейродеструкторы и передайте мне управление, как договаривались.
Секунду спустя в его правой руке появился пульт, невидимый для Стоун, но вполне ощутимый для де Сойи. Он попытался расслабить кисть, но указательный палец как бы сам собой лег на кнопку. По тому, сколь свободно, сколь небрежно висела вдоль тела правая рука капитана Стоун, де Сойя догадывался, что его собеседница тоже держит в руке пульт. В тактическом пространстве их разделяло около трех метров. Между ними, на уровне груди, двигались к плоскости эклиптики выхлоп «Рафаила» и более короткий выхлоп «Гавриила».
— Капитан де Сойя, ваша новая точка перехода не соответствует координатам Тау Кита.
— У нас новый приказ, капитан Стоун. — Де Сойя посмотрел в глаза своему бывшему помощнику. Хален всегда замечательно умела скрывать свои чувства. На факельщике «Бальтазар» он не раз и не два проигрывал ей в покер.
— Куда вы направляетесь теперь, капитан де Сойя?
Тридцать три минуты до прыжка.
— Секретная информация, капитан Стоун. Могу только сказать, что по завершении операции «Рафаил» присоединится к эскадре в системе Тау Кита.
Левой рукой Стоун потерла щеку. Де Сойя внимательно наблюдал за пальцами ее правой руки. Чтобы открыть огонь, ей не придется поднимать руку, но, как правило, в таких случаях срабатывает инстинкт и человек машинально прицеливается в противника…
Де Сойя ненавидел нейродеструкторы и знал, что Стоун относится к ним ничуть не лучше. Это было оружие трусов, запрещенное к использованию штабом Флота и Церковью — до санкционированной Святым Престолом экспедиции. В отличие от тех, что применялись во времена Гегемонии, новые нейродеструкторы уничтожали все живое на борту противника, выкашивали будто серпами. Если в двух словах, принцип их действия состоял в следующем: аккумуляторы, питавшиеся от двигателя Гидеона, испускали волны, вносившие искажения в пространственно-временной континуум. В результате возникало легкое нарушение матрицы реального времени, похожее на неудачный прыжок в пространстве Хоукинга, и этого легкого нарушения было вполне достаточно, чтобы уничтожить хрупкую гармонию человеческого мозга.
Но хоть Стоун и разделяла ненависть офицеров флота к нейродеструкторам, она наверняка решит ими воспользоваться. На постройку «Рафаила» были затрачены огромные суммы, поэтому Стоун первым делом попытается помешать украсть корабль, не повредив при этом сам звездолет. Проблема состояла в том, что даже залп из нейродеструкторов вряд ли помешает «Рафаилу» совершить прыжок — все зависит от того, какая программа заложена в бортовой компьютер и насколько она уже выполнена. По традиции капитан проводил прыжок вручную — по крайней мере всегда держал под рукой кнопку сброса, — но у Стоун не было никаких гарантий, что де Сойя намерен следовать традициям.
— Могу я поговорить с командором Жабером? — спросила Стоун.
Де Сойя улыбнулся:
— Мой старший помощник занят, он выполняет свои обязанности. — «Значит, Хоган — шпион. Вот подтверждение, которого нам не хватало».
«Гавриил» уже не смог бы догнать их, даже ускорившись до шестисот g. «Рафаил» достигнет точки перехода задолго до того, как другой звездолет окажется на «абордажном» расстоянии. Итак, чтобы остановить их, Стоун придется пустить в ход «лучи смерти», а затем потратить драгоценную энергию на то, чтобы подавить силовые экраны. Если она ошибается — если де Сойя и вправду действует в соответствии с полученными в последнюю минуту приказами, — ее почти наверняка ждет военный трибунал и позорная отставка. Но если она ничего не предпримет, а де Сойя и впрямь намеревается угнать «архангел», ее точно отдадут под суд, отправят в отставку, отлучат от церкви и, вполне возможно, казнят.
— Федерико, — тихо сказала она, — пожалуйста, сбросьте скорость, чтобы мы могли вас догнать. Потом вы снова разгонитесь и отправитесь выполнять свои секретные приказы. Я всего лишь прошу разрешения пройти на борт «Рафаила» и убедиться, что все в порядке.
Де Сойя помедлил с ответом. Он не мог на это пойти — торможение неминуемо приведет к медленному двухдневному воскрешению команды перед следующим прыжком. Он не сводил глаз с лица Стоун, одновременно следя за изображением «Гавриила» на фоне ослепительно белого хвоста пламени. Может быть, она попытается пробить экраны «Рафаила» обычным оружием. У де Сойи не было никакого желания пускать в ход ракеты или лучевые пушки, не хотелось ни в коем случае уничтожать «Гавриил». Да, он изменил Церкви и государству, но убийцей становиться не собирался.
Значит, нейродеструкторы…
— Хорошо, Хален, — почти весело отозвался он. — Я прикажу Хогану уменьшить ускорение до двухсот g, чтобы вы могли подойти к нам. — Он повернул голову, словно собираясь отдать приказ.
Должно быть, его рука дрогнула. Рука Стоун тоже — невидимое оружие слегка приподнялось, когда она надавила на кнопку.
За долю секунды до залпа де Сойя заметил восемь искорок, отделившихся от «Гавриила». Стоун не желала испытывать судьбу — она вознамерилась испарить «Рафаил», хотя бы так не дать ему ускользнуть.
Виртуальный образ капитана Стоун отшатнулся и исчез, когда на ее корабль обрушились «лучи смерти». Люди на борту мгновенно погибли, связь нарушилась.
Менее чем секунду спустя капитан де Сойя ощутил, что его выдернуло из тактического пространства и что нейроны в его мозгу буквально поджарились. Кровь хлынула из его глазниц, рта и ушей, но капитан был уже мертв, как и все остальные бодрствовавшие на борту «Рафаила» — сержант Грегориус и двое его гвардейцев, лейтенанты Меир и Дениш, командоры Аргайл и Шан.
Шестнадцать секунд спустя восемь ракет возникли в реальном пространстве и взорвались рядом с безмолвным «Рафаилом».
Гиес наблюдал в реальном времени, как Рауль Эндимион попрощался с провожавшими его людьми в красных балахонах, сел в каяк и принялся грести по направлению к арке портала. Местное население, похоже, праздновало двойное лунное затмение, над рекой грохотал фейерверк, из тысяч глоток вырывались диковинные звуки. Гиес встал и приготовился пройти по воде, чтобы выхватить жертву из каяка. Было решено, что, если Рауль Эндимион окажется один, его следует оставить в живых для допроса — поскольку главной целью было установить местонахождение девчонки Энеи; но никто не запрещал слегка поиздеваться над ним. Гиес намеревался переключиться в боевой режим и перерезать Эндимиону сухожилия на руках. Он мог сделать это в долю секунды, причем так, чтобы человек не истек кровью до того, как окажется на борту звездолета.
Шесть километров до портала Гиес преодолел практически мгновенно, на ходу проверяя лица прохожих и заглядывая в диковинные повозки, словно замершие на дороге. Очутившись у арки и укрывшись в ивняке на высоком берегу канала, он переключился в стандартный режим. Его задача — охранять черный ход. Немез свяжется с ним, когда найдет пропавшего беглеца.
За двадцать минут ожидания Гиес успел переговорить со Скиллой и Бриареем, но от Немез не было ничего. Это удивляло. Все молча допускали, что она должна найти пропавшего человека за несколько секунд реального времени. Гиес не беспокоился — он просто не умел беспокоиться в истинном смысле слова, — он лишь предположил, что Немез все еще разыскивает беглеца, непрерывно переключаясь из режима в режим. Должно быть, все его запросы приходились как раз на те моменты, когда она была в боевом режиме. Кроме того, он отдавал себе отчет, что Немез, как более ранний экземпляр, расходует больше энергии. Она меньше их привыкла к общению на этих частотах. Гиес ничуть не возражал бы, если бы им приказали не извлекать Немез из камня на Роще Богов, а попросту найти ее и уничтожить.
Движение на реке было оживленным. Всякий раз, когда к арке портала с запада или с востока приближалось судно, Гиес переключался и шел по покрытой растениями поверхности воды проверять. С некоторых пассажиров он снимал тюрбаны, дабы убедиться, что перед ним не Эндимион и не андроид, А.Беттик, и не эта девчонка, Энея. На всякий случай он делал пассажирам биопсию, каждый раз удостоверяясь, что это исконные обитатели Витус-Грей-Балиана Б.
После очередной проверки он возвращался в свое укрытие и снова принимался ждать. Через пятнадцать минут после того, как он покинул катер, сначала над порталом, а затем и сквозь арку, пролетел боевой скиммер. Забираться в него было бы утомительно. Вдобавок внутри вместе с солдатами находилась Скилла, поэтому Гиесу не пришлось утруждать себя.
Надоело, — сказала Скилла.
Точно, — согласился Гиес.
Где Немез? — подал из города голос Бриарей. Он сообщил, что эти идиоты-солдаты получили наконец разрешение на обыск и ходят теперь из дома в дом.
Она со мной не связывалась, — ответил Гиес.
Во время лунного затмения он заметил фургон, который остановился на берегу. Из фургона выскочил Рауль Эндимион. Гиес был уверен, что не ошибся. Совпадали не только внешние данные, которые хранились у него в памяти, совпадал и запах, который передала им всем Немез. Гиес мог бы переключиться незамедлительно, подойти к человеку, который застыл как вкопанный, и сделать ему биопсию, но решил, что не стоит. Все равно ошибки быть не могло.
Вместо того чтобы связаться со своими клонами или попытаться предупредить Немез, Гиес подождал еще минуту. Предвкушение доставляло ему удовольствие. Он не хотел делиться этим удовольствием с кем бы то ни было. Кроме того, подумалось ему, лучше подождать, пока Эндимион расстанется с местными, которые вон уже машут ему на прощание руками.
Гиес наблюдал, как Рауль Эндимион в своей идиотской лодчонке выгребает на центральное течение реки. Он прикинул, что лучше забрать Эндимиона вместе с каяком; если местные знают, что он плывет к порталу, значит, он должен исчезнуть целиком. Они лишь заметят вспышку, и Эндимион как бы растворится в воздухе. На самом же деле Гиес подхватит каяк с пассажиром и заключит их в свое поле. В конце концов каяк тоже может пригодиться — у него наверняка особый запах…
На обоих берегах канала местные пели и веселились. Лунное затмение стало полным. Над рекой взорвались фейерверки, которые отбросили причудливые тени на ржавую арку. Эндимион отвернулся от провожающих и сосредоточился на том, чтобы удержать лодку в центральном течении.
Гиес поднялся, лениво потянулся и приготовился к переключению.
Внезапно рядом с ним, почти вплотную, возникло нечто высотой около трех метров.
«Невозможно, — подумал Гиес. — Я должен был ощутить искажение поля…»
Взмывшие в небо ракеты отразились на хромированном панцире. Металлические зубы и хромированные шипы искажали распускающиеся огненные цветы — желтые, белые, красные… Гиес перехватил собственное отражение, изуродованное, обезображенное, и в следующий миг переключился.
На переключение обычно уходило меньше микросекунды. Но каким-то образом одна из четырех когтистых лап неведомого существа проникла сквозь экран до того, как тот полностью сформировался. Пальцы-лезвия вонзились в синтетическую плоть, нащупывая одно из сердец.
Гиес не обратил на это внимания и атаковал сам, взмахнув серебристой рукой, как саблей. Этот удар рассек бы углеродистый сплав, как мокрую картонку. Но на существо удар никак не подействовал. Посыпались искры, раздался глухой стук, онемевшая рука Гиеса отскочила.
Когтистая лапа тем временем выдирала километры волокна, из которых состояли внутренние органы киборга. Гиес сообразил, что его распороли от пупка до груди. Какая разница? Он по-прежнему работоспособен.
Гиес стиснул правую руку в кулак и ткнул им в налитые кровью глаза. Разомкнулись и сомкнулись громадные челюсти, и правую руку Гиеса как отрезало ниже запястья.
Гиес бросился на призрака, пытась совместить экраны, чтобы самому пустить в ход зубы. Две громадные лапы стиснули его, пальцы-лезвия вновь проникли сквозь экран и погрузились в плоть. Хромированный череп стремительно приблизился, шип пронзил правый глаз Гиеса и правую лобную долю.
Гиес закричал — не от боли, хотя впервые за свою короткую жизнь он ощутил нечто вроде боли, — но от безудержной ярости. Его зубы щелкнули как стальные капканы, когда он потянулся к горлу существа, но то спокойно удерживало его на расстоянии вытянутой руки.
Затем чудовище выдрало из груди Гиеса оба сердца и швырнуло их в воду. Наносекунду спустя, одним движением перекусив Гиесу хребет, оно отделило голову киборга от тела. Гиес попытался включить телеметрический контроль, глядя на происходящее уцелевшим, залитым кровью глазом и одновременно вызывая клонов, но передатчик в черепе был уже сломан, а приемник в селезенке вырван с мясом.
Мир завертелся перед глазами — сначала корона солнца, выходящего из-за второй луны, затем ракеты, затем разноцветная поверхность реки, затем снова небо — и тьма. Теряя сознание, Гиес догадался, что его голову бросили в реку. Последним образом, запечатлевшимся на его сетчатке перед тем, как голова погрузилась в воду, было безголовое, судорожно подергивающееся тело, прижатое к панцирю неведомого врага, обвисшее на многочисленных шипах. Со вспышкой Шрайк переместился, а голова Гиеса ударилась о воду и погрузилась в темные волны.
Радаманта Немез появилась пять минут спустя. Она переключилась и увидела, что речной берег пуст, если не считать безголового трупа ее клона. Ветроцикл с семейством в красных балахонах исчез. На реке не было ни одной лодки. Солнце потихоньку выплывало из-за второй луны.
— Гиес здесь, — сообщила она Бриарею и Скилле, которые вместе с солдатами находились в городе. Солдаты нашли и освободили от наручников спящего охранника. Никто из допрошенных местных не признался, чей это дом. Скилла предложила полковнику Винаре не тратить больше времени на пустые расспросы.
Отключив силовой экран, Немез ощутила некий дискомфорт. Все ее ребра — из кости и пермастали — были повреждены либо погнуты. Некоторые внутренние органы превратились в кашу. Левая рука не слушалась. Она пробыла без сознания около двадцати стандартных минут. Без сознания! За все четыре года, проведенных в камне на Роще Богов, она ни разу не теряла сознания. И все повреждения получены через непроницаемый силовой экран!
Какая разница? Покинув этот забытый Техно-Центром мир, она позволит телу заняться самовосстановлением. Немез опустилась на колени рядом с телом клона. Тот был распорот, обезглавлен, чуть ли не вывернут наизнанку. И все еще подергивался.
Немез вздрогнула — не из сочувствия к Гиесу, не из отвращения к поврежденному телу киборга (сказать откровенно, она восхищалась профессионализмом Шрайка) — но от раздражения. Как она могла пропустить эту схватку! Атака в туннеле была слишком быстрой и неожиданной — ее застали в момент переключения, что до сих пор считалось невозможным.
Я найду его, — передала она и переключилась. Воздух загустел, сделался похожим на патоку. Немез спустилась к воде, преодолела сопротивление водной поверхности и пошла бродить по дну, вызывая на общей частоте и проверяя дно радаром.
Она нашла голову Гиеса в километре ниже по течению, которое здесь было довольно сильным. Пресноводные ракообразные уже объели губы и оставшийся глаз и подбирались к глазницам. Немез смахнула их и вынесла голову на берег канала.
Передатчик Гиеса был расплющен, вокодер исчез. Немез протянула микроволокно и установила прямую связь с блоком памяти. С левой стороны череп Гиеса был проломлен, из дыры вытекали мозговая жидкость и ДНК-гель.
Она ни о чем не спрашивала. Просто переключилась и перегрузила память в себя, одновременно передавая ее содержимое двум другим киборгам.
Шрайк, — сказала Скилла.
А то, — бросил Бриарей.
Тихо, — приказала Немез. — Разберитесь со своими придурками. Я приберусь здесь и буду ждать вас в катере.
Дырявая голова Гиеса пыталась что-то сказать, отчаянно шевеля остатками языка. Немез поднесла ее к уху.
— Пжста. — «Пожалуйста». — Пмги. — «Помоги». — М-м… — «Мне».
Немез опустила голову и посмотрела на тело на берегу. Многих органов не хватало. В речном иле колыхались сотни метров микроволокна, некоторые обрывки уже плыли по течению. Внутренние органы и нейроблоки были расколоты. На осколках костей заиграли лучи солнца — Двойная Тьма подходила к концу. Пожалуй, тут не поможет ни хирург катера, ни даже звездолета. А у самого Гиеса исцеление займет не один месяц.
Немез отложила голову в сторону, завернула тело киборга в его собственное микроволокно. Убедившись, что вокруг пусто, она зашвырнула труп далеко в реку. Она успела заметить во время прогулки по дну, что река кишит безжалостными хищниками. Пускай — кое-что им явно придется не по вкусу.
Она вновь подняла голову Гиеса. Язык по-прежнему шевелился. Ухватившись пальцами за пустые глазницы, Немез размахнулась и отправила голову вслед за телом. Та скрылась под водой почти беззвучно.
Немез приблизилась к арке портала, отыскала защиту, проникла под нее и подключилась.
Не понимаю, — сказал Бриарей. — Он открылся в никуда.
Вовсе нет, — возразила Немез, перепроверив данные. — Никуда в старой Сети. Никуда в смысле — туда, где Техно-Центр не ставил порталов.
Это невозможно, — вмешалась Скилла. — Не существует порталов, кроме тех, которые ставил Техно-Центр.
Немез вздохнула. Ее клоны были полными идиотами.
Заткнитесь и возвращайтесь на катер. Придется докладывать лично. Советник Альбедо наверняка пожелает сам подключиться к памяти Гиеса.
Немез переключилась и устремилась к катеру сквозь густой, мутно-желтый воздух.
Глава 12
Я вовсе не забыл о красной, «панической» кнопке. Проблема была очень проста — когда впадаешь в настоящую панику, тут уж не до кнопок.
Каяк падал в воздушную бездну; далеко внизу, в тысячах метров подо мной, виднелись багрово-черные тучи, а над головой нависали молочно-белые облака. Я выронил весло и тупо наблюдал за его полетом. Мы с каяком падали быстрее, чем весло, по причине различных аэродинамических свойств и скорости (в тот момент я был не в состоянии рассчитать все параметры). Огромные овальные капли из реки, которые перенеслись вместе со мной, тоже падали, то разделяясь, то сливаясь в сферы и эллипсоиды, как в невесомости, и ветер уносил их прочь. Игольник, позаимствованный у охранника в спальне Дем Лоа, застрял между моим бедром и «фартуком» кокпита. Мои руки раскинуты, словно я вообразил себя птицей, готовой взлететь. Пальцы в ужасе стиснуты в кулаки. Челюсти сжаты до скрежета зубовного.
Падение продолжалось.
Высоко позади виднелась арка портала, впрочем, слово «арка» было неуместно — в воздухе плавала металлическая конструкция, то ли кольцо… то ли тор… то ли ржавый бублик. На мгновение в этом кольце мелькнуло небо Витус-Грей-Балиана Б и тут же исчезло, остались только облака. Металлическое кольцо было единственной материальной вещью в воздушном океане, но я уже опустился на добрую тысячу метров ниже. Голова пошла кругом. Внезапно мне показалось, что я птица. Я увидел, как подлетаю к порталу, как усаживаюсь на кромку арки и жду…
Жду чего?
Я еще крепче ухватился за борта каяка, который летел носом вниз, к лиловой бездне в километрах и километрах подо мной.
Именно тогда я и вспомнил о «панической» кнопке. «Не трогай ее, что бы ни случилось, — сказала Энея, когда мы спускали каяк на воду в Ганнибале. — Не трогай ее до тех пор, пока у тебя не останется иного выхода».
Каяк опять развернулся по горизонтальной оси, и меня чуть не выбросило. Задница уже не касалась подушечки на дне кокпита. Я как бы плавал внутри, а сам каяк мчался вниз в окружении этакого созвездия из капель воды. Я решил, что другого выхода у меня и впрямь не остается, сорвал пластиковую крышку и надавил пальцем на красную кнопку.
На корпусе лодки перед кокпитом и позади него раскрылись панели. Я пригнулся, когда надо мной начал разворачиваться аккуратно сложенный материал. Каяк сначала выровнялся, а потом резко затормозил — я чуть было из него не вывалился — и бешено закачался. Из бесформенной массы у меня над головой потихоньку складывалось нечто — более сложное, нежели обыкновенный парашют. Даже несмотря на нарастающую панику, я узнал материал: мы с А.Беттиком покупали его на индейском рынке. Пьезоэлектрическая ткань со встроенными солнечными батареями была почти прозрачной и очень легкой, но крепкой и запоминала до дюжины конфигураций; мы тогда думали купить еще и заменить холст на главной студии — тот уже давно пришел в негодность, — но мистер Райт не захотел. Заявил, что предпочитает приглушенный свет. Десяток метров нового материала А.Беттик отнес к себе в мастерскую, а я о нем попросту забыл…
И вспомнил только теперь.
Падение прекратилось. Каяк висел под громадным треугольным парусом, который поддерживали десять нейлоновых шкотов, крепившихся к корпусу. Мы продолжали спускаться, но теперь это уже был именно спуск, а никак не падение. Я посмотрел наверх — ткань была прозрачной, — но арки портала не разглядел, ее заволокло облаками. Ветер и воздушные течения несли меня прочь.
Наверно, мне следовало быть признательным моим друзьям, девочке и андроиду, которые предусмотрели подобную возможность и снарядили каяк соответствующим образом, но первое, о чем я подумал, было — «Разрази вас гром!». Это было уже слишком. Очутиться в воздушном пространстве неведомого мира, не видеть земли… Если Энея знала, что меня забросит сюда, почему она не…
Не видеть земли? Я перегнулся через борт и посмотрел вниз. Возможно, предполагалось, что я аккуратно спланирую на некую поверхность…
Нет. Подо мной — лишь многокилометровая толща воздуха, ничего больше; на дне ее громоздятся лиловые тучи, яростно сверкают молнии. Должно быть, давление там просто чудовищное. Кстати сказать, если это и вправду юпитерианский мир — сам Юпитер, Вихрь или какой-нибудь еще, — откуда здесь взяться кислороду в количестве, достаточном для дыхания? Насколько мне известно, все газовые гиганты, обнаруженные людьми, состоят из враждебных человеку газов — метана, аммиака, гелия, фосфина и прочей гадости. Никогда не слышал о газовых гигантах с пригодной для дыхания смесью кислорода и азота. И тем не менее я дышал. Воздух был более разреженным, чем на других мирах, где я побывал, и слегка отдавал аммиаком, но для дыхания вполне годился. Значит, это не газовый гигант. Куда меня, черт подери, занесло?
Я поднял руку и произнес, обращаясь к браслету на запястье:
— Где я, черт возьми?
После паузы — я еще успел подумать, что эта штуковина таки сломалась на Витус-Грей-Балиане Б, — комлог отозвался нравоучительным тоном:
— Неизвестно, месье Эндимион. У меня недостаточно данных.
— Выкладывай, что у тебя есть.
Тут же на меня обрушились сведения о температуре по Кельвину, атмосферном давлении в миллибарах, средней плотности в граммах на кубический сантиметр, предположительной скорости убегания в километрах в секунду и расчетном магнитном поле в гауссах, после чего пошел длинный перечень атмосферных газов и рассуждения о соотношении элементов.
— Скорость убегания — пятьдесят четыре целых две десятых километра в секунду, — повторил я. — Вполне подходит для газового гиганта.
— Совершенно верно, — откликнулся комлог. — На юпитерианских мирах скорость убегания составляет пятьдесят девять целых пять десятых километра в секунду.
— Но атмосфера здесь совершенно иная, — продолжал я размышлять вслух. Слоисто-кучевые облака стремительно увеличивались в размерах, словно на голографическом экране. Их толщина составляла около десяти километров, нижний край терялся в лиловых тучах, где сверкали молнии. Солнечный свет казался золотистым и приглушенным, почти вечерним.
— В моей памяти нет сведений о планетах с подобной атмосферой, — сообщил комлог. — Оксид углерода, этан, ацетилен и прочие углеводороды не совпадают с параметрами шкалы Сольмева, это можно объяснить кинетической молекулярной энергией и солнечной радиацией, разрушающей метан; а присутствие оксида углерода представляет собой результат испарения метана и водяных паров в нижних слоях, где температура превышает тысячу двести градусов по Кельвину, но уровень кислорода и азота…
— Что? — поторопил я.
— Указывает на наличие жизни, — закончил комлог.
Я обернулся, внимательно осмотрел небо с облаками, будто ожидая, что из-за них вот-вот появятся местные жители.
— Жизнь на поверхности? — уточнил я.
— Вряд ли, — ответил комлог. — Если этот мир соответствует стандартам, давление на так называемой поверхности должно составлять чуть менее семидесяти миллионов атмосфер в единицах Старой Земли при температуре около двадцати пяти тысяч градусов по Кельвину.
— Как высоко мы находимся?
— Трудно сказать. Но, учитывая, что на данный момент атмосферное давление составляет 0,76 от стандарта Старой Земли, можно предположить, что мы находимся над тропосферой, в нижних слоях стратосферы.
— Разве тогда не должно быть холоднее? Это же почти вакуум.
— Не на газовом гиганте, — снисходительно ответил комлог. — Оранжерейный эффект создает термический слой, нагревая нижние слои стратосферы до почти приемлемой по человеческим меркам температуры. На расстоянии в несколько тысяч метров температура может то повышаться, то существенно понижаться.
— Несколько тысяч метров, — повторил я. — Сколько до вакуума и сколько под нами?
— Неизвестно. Можно экстраполировать, что отношение экваториального радиуса планеты к верхним слоям атмосферы составляет приблизительно семьдесят тысяч километров, а толщина слоя кислорода, азота и углекислого газа — от трех до восьми тысяч километров относительно двух третей расстояния до гипотетического центра планеты.
— От трех до восьми тысяч километров, — тупо повторил я. — Где-то пятьдесят тысяч километров над поверхностью…
— Приблизительно, — уточнил комлог. — Следует отметить, что при подобном давлении на поверхности молекулярный кислород металлизируется…
— Ага, — перебил я. — Пока хватит. — У меня было такое ощущение, что меня вот-вот стошнит.
— Должен указать на аномалию. Цветовая окраска слоисто-кучевых облаков указывает на наличие моносульфида аммиака или полисульфидов, хотя на уровне апотропосферы должны существовать лишь аммиачные облака, тогда как водяные облака должны формироваться при давлении не выше десяти атмосфер, поскольку…
— Хватит, — сказал я.
— Я указываю на это потому, что здесь имеется любопытный атмосферный парадокс…
— Заткнись, — не выдержал я.
Когда солнце зашло, стало холодно. Этот закат я буду помнить до самой смерти.
Высоко-высоко надо мной куски голубого неба потемнели до гиперионской сочной ляпис-лазури, а потом стали темно-багровыми. Когда небо вверху и бездна внизу потемнели, облака вокруг сделались ярче. Я говорю «облака», но этим словом не передашь всего того великолепия, которое я видел. Я вырос среди бродячих пастухов и торговцев на пустошах между Великим Южным морем и плато Пиньон, потому могу судить, ибо знаю, о чем говорю.
Высоко надо мной перистые кучевые и ломаные слоисто-кучевые облака ухватили закатные лучи и окрасились в различные оттенки розового — с лиловой каймой и золотистым фоном. Я словно очутился в храме с высоким розовым сводом, опирающимся на тысячи колонн — скоплений облаков, — основания которых терялись в бездне, в сотнях тысяч километров внизу. И каждая такая колонна светилась изнутри, отражая солнечные лучи, пробивавшиеся из разрывов на западе. Эти лучи словно воспламеняли облака, будто они были из какого-то горючего материала.
«Моносульфид или полисульфиды», — сообщил комлог. Какая разница? Из чего бы эти облака ни состояли, закат и вправду воспламенил их своими багряными лучами. Алые полосы, кроваво-красные облачные подвески, розовые скопления на фоне золотистого свода, словно мышцы и нервы человеческого тела, и белые верхние слои — настолько белые, что можно ослепнуть, глядя на них; казалось, это струятся вокруг бледных лиц золотистые пряди волос. Свет стал настолько ярким, что у меня на глазах выступили слезы, а потом сделался еще ярче, если такое вообще возможно. Между облачными колоннами пролегли сверкающие лучи божественного сияния, освещая одни и погружая в тень другие, проходя сквозь облака льда и пелену дождя, рассыпая сотни обыкновенных радуг и тысячи двойных и тройных. От лиловой бездны поднялись тени, заслоняя собой клубящиеся колонны. Правда, поначалу они принесли не сумерки и не тьму, а лишь легкое затенение — ослепительно золотой цвет стал бронзовым, ослепительно белый — кремовым, затем приобрел оттенок сепии, а кроваво-алый сделался цвета запекшейся крови или ржавчины, после чего стал цветом осеннего заката. Корпус каяка больше не мерцал, парус уже не ловил свет. Тени медленно поднимались все выше — им потребовалось, наверное, не меньше получаса (впрочем, я был слишком поглощен зрелищем, чтобы сверяться с комлогом), чтобы достичь неба; когда они легли на свод облачного храма, почудилось, будто в храме притушили огни.
В общем, чертовски потрясающий закат.
Я помню, что моргнул. Игра света и тени в сочетании с клубящимися облачными массами привела меня в легкое замешательство. Подступившая темнота обещала отдых глазам. Но тут засверкали молнии и вспыхнуло северное сияние.
На Гиперионе северного сияния не было и в помине — а если и было, я никогда его не видел. Но на Старой Земле мне довелось наблюдать его — на полуострове, где когда-то находилась Скандинавская республика (я тогда как раз облетал на катере планету). Помнится, тогда у меня по коже побежали мурашки, а огни сверкали и плясали на северном горизонте точно прозрачное платье призрачной танцовщицы.
В северном сиянии этого мира не было и намека на изящество. Полосы, столбы света, столь же прямые и четкие, как клавиши рояля, появились высоко в небе в том направлении, которое я определил для себя как юг. Подо мной замерцали завесы зеленого, золотистого, красного и кобальтового. Они вытягивались в длину и ширину, сливались с другими, разрывались и тут же склеивались вновь. За несколько минут разноцветные полосы заполнили все небо — вертикальные, горизонтальные, наклонные… Вновь возникли облачные башни, отражавшие тысячи разноцветных огней. Казалось, я слышу шипение частиц, гонимых чудовищной силой вдоль магнитных линий.
Я и впрямь что-то слышал — шелест, треск, грохот, то раздельно, то длинной чередой. Развернувшись в кокпите, я перегнулся через борт и посмотрел вниз. Там сверкали молнии и гремел гром.
В детстве я навидался достаточно гроз с молниями. На Старой Земле мы с Энеей и А.Беттиком регулярно усаживались по вечерам на пороге дома и наблюдали за грозами, что бушевали над северными горами. Но к такому я готов не был…
Бездна, как я ее называл, раньше представляла собой сгусток темноты; она была столь далеко, что можно было не беспокоиться по поводу чудовищного давления и не менее чудовищной температуры. Но теперь она буквально кишела молниями, от горизонта до горизонта, как будто взрывались одна за другой ядерные бомбы. Хватило бы и одного такого взрыва, чтобы уничтожить все живое в целом полушарии. Я ухватился за борта каяка и попытался убедить себя, что гроза идет в сотнях километров подо мной.
Молнии вонзались в облачную колоннаду. Ослепительно белые вспышки сливались с разноцветными полосами северного сияния. Гром грохотал на пределе слышимости, сперва лишь пугая исподволь, а затем поистине ужасая. Каяк то опускался рывками, несмотря на парус, то поднимался — опять рывками. Я вцепился в борт и горько пожалел о том, что меня сюда занесло.
И тут разряды стали перелетать с одной облачной колонны на другую.
С помощью комлога и собственных прикидок я оценил масштаб происходящего — атмосфера толщиной в десятки тысяч километров, горизонт отстоит настолько, что между заходящим солнцем и мной можно вполне разместить дюжину Старых Земель или Гиперионов. Молнии окончательно убедили меня в том, что этот мир предназначен для богов и титанов, а не для человека.
Электрические разряды были шире Миссисипи и длиннее Амазонки. Я видел эти реки и видел молнии. И я могу судить.
Я скрючился в крохотном кокпите, словно это могло меня спасти, если разряд угодит в мой маленький каяк. Волосы на руках встали дыбом, я сообразил, что покалывание в шее и в затылке имеет ту же причину — волосы у меня на голове извивались точно змеи. На панели комлога мигали сигналы тревоги. Вполне возможно, прибор произносил какие-то слова, но я не услышал бы ни звука, даже если б рядом выстрелили из пушки. Под ударами воздушных потоков парус покоробился, шкоты начали рваться. В какой-то миг, когда меня ослепила очередная вспышка, каяк встал почти горизонтально — выше, чем парус. Я был уверен, что шкоты оборвутся, и мы полетим вниз в саване из паруса, и будем лететь очень долго — пока чудовищное давление не заткнет мои вопли в глотку.
Каяк дернулся — раз, другой, третий… Он продолжал раскачиваться, как обезумевший маятник, — но уже под парусом.
Вдобавок к безумию молний, вдобавок к непрерывной череде взрывов в облачных башнях, вдобавок к разрядам, полосовавшим колоннаду точно нейроны в спятившем мозгу, от облаков начали отрываться шаровые молнии, которые так и норовили встать на нашем пути.
Я видел, как один из этих шипящих, рассыпающих искры шаров проплыл в сотне метров от меня: он был размером с небольшой астероид — этакая электрическая луна. Шум, который он производил, не поддается описанию; внезапно нахлынули непрошеные воспоминания о пожаре в лесах Аквилы, о торнадо, разметавшем по пустоши наш караван, — мне тогда было пять лет, о взрывах плазменных гранат на громадном голубом леднике Ледяного Когтя. Впрочем, эти воспоминания, даже все вместе, не могут передать той силы, что исходила от молнии и пронеслась мимо каяка подобно иссиня-золотому валуну.
Гроза продолжалась не меньше восьми часов. Столько же длилась и ночь. Когда кончилась гроза, я заснул. Проснулся — измученный, страдающий от жажды, истерзанный ночными кошмарами, в которых сверкали молнии и грохотал гром, все еще частично оглохший. Хорошо бы, подумалось мне, и помочиться за борт, вот только бы не вывалиться из лодки. Лучи утреннего солнца озарили облачные столбы, сменившие ночную колоннаду. Рассвет был проще заката: облачный покров лишился своей ослепительно белой с золотом расцветки; облака понемногу сползали вниз, ко мне, дрожащему от холода. Я промок насквозь. Должно быть, ночью шел проливной дождь, а я и не заметил.
Я осторожно встал на колени, крепко ухватился левой рукой за край кокпита, убедился, что каяк раскачивается уже не так резко, и принялся за дело. Тонкая золотистая струйка замерцала на солнце, исчезая в бесконечности. Бездна вновь стала угрюмо-лиловой. У меня болела поясница, и я вдруг вспомнил кошмар последних дней, связанный с почечным камнем. Как будто это было в другой жизни, давным-давно минувшей. «Что ж, — подумал я, — если вышел еще один камень, его я ловить не собираюсь».
Я застегнул ширинку и стал устраиваться в кокпите, пытаясь вытянуть ноги и при этом не вывалиться из лодки, размышляя о том, что найти в этом мире другой портал вряд ли возможно — ведь кто знает, куда меня унесло в эту сумасшедшую ночь… И тут я сообразил, что больше не одинок.
Из бездны поднялись живые существа и теперь кружили около меня.
Поначалу я заметил лишь одно; сравнивать мне было не с чем, поэтому я не мог определить на глаз его размеров. Существо вполне могло оказаться на расстоянии в несколько метров от моего каяка и иметь в поперечнике лишь несколько сантиметров, а могло быть громадным и находиться очень-очень далеко. Оно проплыло между двумя облачными колоннами, и я прикинул, что второе предположение, пожалуй, ближе к истине. Когда существо приблизилось, я разглядел, что его окружают мириады других, менее крупных.
Прежде чем попытаться описать его, я должен сказать, что мы, люди, несмотря на все наши достижения в покорении космоса, не слишком готовы к встрече с гигантскими формами иной жизни. На сотнях планет, исследованных и колонизированных во время и после Хиджры, аборигены в основном представляли собой растительную форму жизни или простейших, подобно светящимся стрекозам на Гиперионе. Крупных же аборигенов — скажем, левиафанов с Безбрежного Моря или цеппелинов с Вихря — беспощадно истребляли. В результате на большинстве планет сложилась такая ситуация: немногочисленные местные формы жизни при подавляющем превосходстве приспособившихся к новым условиям существ со Старой Земли. Люди терраформировали все эти планеты, принесли с собой свои бактерии, своих червей, рыб, птиц и животных в древних «ковчегах», а позднее начали строить так называемые «родильные фабрики». Примером того, что получилось, может служить Гиперион, на котором местная растительность — огненные деревья, челма, плотинник — и насекомые сосуществуют с трансплантами и мутантами, такими как акулы, утки, олени, дубы и вечноголубые ели. Мы не привыкли к инопланетным животным.
А мне навстречу поднимались именно инопланетные животные. Сомневаться не приходилось.
Самое крупное напоминало камбалу — очередного земного мутанта, прижившегося и расплодившегося в теплых водах Великого Южного моря на Гиперионе. Существо было почти плоским и прозрачным, его внутренние органы хорошо просматривались, хотя, признаюсь честно, было очень трудно определить, где у него изнутри, а где снаружи: оно все колебалось, пульсировало и ежесекундно меняло форму, точно готовящийся к битве звездолет. Головы как таковой у него не было, ничто на теле, никакой придаток ее не напоминал, но я разглядел множество щупалец — скорее зарослей, болтавшихся повсюду, то втягивающихся, то вытягивающихся отростков. Они находились и внутри прозрачного тела, и снаружи, и я никак не мог разобраться, как движется это существо — то ли отталкивается щупальцами, то ли, сокращаясь и распрямляясь, выталкивает из себя газ, который и сообщает ему подъемную силу.
Насколько я помнил из древних книг и объяснений бабушки, цеппелины Вихря выглядели гораздо проще — газовые мешки в форме капель — и представляли собой клетки, удерживавшие внутри себя метан и азот, перерабатывавшие в себе гелий, этакие огромные медузы, плававшие в кислородно-аммиачно-метановой атмосфере. Если меня не подводила память, цеппелины были чем-то вроде атмосферного протопланктона, который парил в ядовитой атмосфере подобно носимой ветрами манне. На Вихре не было хищников… пока не прибыли люди с их воздушными батискафами и не начали собирать редкие газы.
По мере того как «камбала» приближалась, я различал все лучше ее внутренние органы: бледные, пульсирующие, что-то вроде сложенных кольцами кишок, трубки для питания, воспроизводства и испражнения, а также некие отростки, смахивавшие на половые органы — или на глаза на щупальцах. Существо продолжало сворачиваться, втягивать щупальца, чтобы в следующий миг распрямиться, вытянуть щупальца, словно кальмар, плывущий в прозрачной воде. В длину оно было метров пятьсот-шестьсот.
Я начал замечать и других существ. Вокруг «камбалы» сновали сотни, если не тысячи золотистых дисков, размерами от крохотных, с мою ладонь, до громадных, крупнее речных мант, что таскали баржи на гиперионских реках. Эти диски тоже были почти прозрачными, хотя их внутренности заволакивала некая зеленоватая субстанция — возможно, газ, воспламененный их собственным биоэлектрическим полем. Они сновали вокруг «камбалы», время от времени словно исчезая у нее внутри, чтобы затем появиться вновь. Я не мог бы поклясться, что видел, как «камбала» проглотила хотя бы один диск, но в какой-то момент мне почудилось, будто я вижу множество этих дисков, плывущих по ее кишкам подобно призрачным огонькам в трубке.
Чудовище со свитой неумолимо приближалось, поднимаясь все выше. Солнечный свет, прошедший сквозь них, упал на мой каяк. Я понял, что неверно оценил размеры существа — в длину оно было никак не меньше километра, а когда сжималось, то сокращалось чуть ли не втрое. Живые диски окружили мою лодку. Я заметил, что они не только складываются, как манты, но и беспрерывно вращаются.
Я вытащил игольник, который отдал мне Алем, и опустил предохранитель. Если чудовище нападет, я всажу ему в бок половину магазина; надеюсь, кожа у него не только прозрачная, но и тонкая. Может, мне удастся проделать в нем дыру достаточно большую для того, чтобы газ, позволяющий ему плавать в воздухе, весь вышел наружу.
В этот миг гидроподобные щупальца распрямились во всех направлениях — некоторые пролетели в каких-то метрах от моего паруса, — и я понял, что ничего не успею сделать, что оно в мгновение ока уничтожит мой парус. Я стал ждать, в глубине души опасаясь, что меня вот-вот затянет в пасть к монстру — если, конечно, у него есть пасть.
Ничего не произошло. Мой каяк продолжал, как я полагал, двигаться на запад, парус ловил восходящие потоки воздуха и обвисал на нисходящих, облака клубились по-прежнему, а «камбала» и ее свита — которую я про себя окрестил паразитами — держались в стороне, к северу, в сотне метров от меня. Может, они преследуют лодку из любопытства? Или хотят есть? А вдруг диски все-таки нападут?
Не оставалось ничего другого, как ожидать развития событий. Я положил на колени бесполезный игольник, сжевал последнюю галету и выпил немного воды. Ее у меня осталось меньше чем на день. Я выругал себя за то, что не додумался собрать дождевые капли ночью во время грозы; с другой стороны, еще неизвестно, пригодна ли дождевая вода для питья.
Затяжное утро наконец-то переросло в день. Несколько раз каяк оказывался в облаке, и тогда я поднимал голову и жадно облизывал губы, на которых оседали капельки влаги. Вкус у воды был самый обыкновенный. Всякий раз, выныривая из облака, я ожидал увидеть, что «камбала» исчезла, но она упорно не отставала и держалась справа и чуть выше. Когда местное солнце только-только миновало зенит, каяк угодил в восходящий поток, который повлек его вверх с такой скоростью, что парус едва не сложился пополам, но вскоре лодка выровнялась. Хотя из облака я вынырнул на несколько километров выше прежнего, воздух там был реже и холоднее. «Камбала» поднялась следом за мной.
«Может, она пока не проголодалась? — подумал я. — Может, она питается по ночам?» Веселые меня одолевали мысли.
Я продолжал вглядываться в пустое небо, высматривая в разрывах облаков арку портала. Ничего похожего. Ветер нес меня на запад, а воздушные потоки влекли то к югу, то к северу. И потом, разве можно говорить о каком-то стабильном курсе после такой ночи? Конечно, нет. Но я все равно пялился за борт.
К полудню я вдруг сообразил, что на юге внизу появились еще живые существа. У подножия громадной облачной башни плавали другие «камбалы», солнечный свет, проходивший сквозь их тела, пропадал в лиловой бездне. Их были десятки — нет, сотни, — этих диковинных существ. Я был слишком далеко, чтобы разглядеть окружающие их золотистые диски, но блики солнца — как будто на пылинках — ясно показывали, что дисков там, должно быть, миллионы. Может, чудовища обычно держатся нижних слоев атмосферы, и только это — все еще плывшее справа, если можно так выразиться, на дистанции поражения — увязалось за мной из любопытства?
Мышцы затекли. Я выбрался из кокпита и попытался, держась за шкоты, как следует потянуться на корпусе. Это было опасно, но необходимо. Я лег на спину и принялся крутить ногами педали воображаемого велосипеда. Потом начал делать отжимания. Когда онемение прошло, я вновь забрался в кокпит и задремал.
Как ни странно это прозвучит, но весь тот день я размышлял о своем, хоть рядом с лодкой и плыла чужеземная рыбина, способная проглотить меня в один присест, а в нескольких метрах от нас резвились чужеродные золотистые диски. Человек быстро привыкает к непонятному, если оно не демонстрирует ничего особенного.
Я размышлял о минувших днях, месяцах и годах. Думал об Энее — о том, что фактически бросил ее одну, — и обо всех других людях, оставленных мною. А.Беттик и прочие обитатели Талиесина, старый поэт на Гиперионе, Дем Лоа, Дем Риа и их семья на Витус-Грей-Балиане Б, отец Главк в ледяных туннелях Седьмой Дракона, Кучиат, Чиаку, Кучту, Чичтику и прочие чичатуки… Энея не сомневалась в том, что отец Главк и наши друзья чичатуки погибли после того, как мы улетели оттуда, но никогда не объясняла, каким образом она это узнала. Я думал о других, вспомнилось даже, как бабушка и остальные члены клана махали мне, когда я уходил на службу в силы самообороны много лет назад. Но постоянно, о чем бы я ни думал, мои мысли возвращались к Энее.
Я оставил слишком многих. Слишком многим позволял выполнять мою работу и сражаться за меня. Отныне я буду сражаться сам. А если я когда-нибудь разыщу Энею, то больше не покину ее до самой смерти. Это решение пробудило во мне ярость, питавшуюся отчаянием от невозможности найти другой портал в этом безбрежном океане облаков.
ТЫ ЗНАЕШЬ
ТУ-КТО-УЧИТ
ОНА КОСНУЛАСЬ
ТЕБЯ (!?!?)
Эти слова донеслись не по воздуху, и я их не то чтобы услышал. Впечатление было такое, словно каждое слово бьет набатом в моей голове. Я буквально подскочил, чуть не вывалился из лодки, но вовремя ухватился за борт каяка.
ТЫ УЖЕ ПОЗНАЛ\ИЗМЕНИЛСЯ
НАУЧИЛСЯ СЛЫШАТЬ\ВИДЕТЬ\ИДТИ
У ТОЙ-КТО-УЧИТ
(????)
Каждое слово отзывалось мигренью. Это были ментальные удары чудовищной силы. Слова выкрикивались у меня в мозгу моим собственным голосом. Наверно, я начал сходить с ума.
Вытирая слезы, я бросил взгляд на гигантскую «камбалу» и ее золотистую свиту. Чудовище сжималось и разжималось, пульсировало, выбрасывало и втягивало обратно щупальца, плывя в холодном воздухе. Я не мог поверить, что слова исходят от него. Оно было уж слишком… биологическим. Вдобавок я не верил в телепатию. Я посмотрел на кишащие рядом с чудищем диски, но в их поведении смысла было не больше, чем в кружении пыли, меньше, чем в синхронном движении косяка рыб или стаи летучих мышей. Чувствуя себя полным идиотом, я крикнул:
— Кто ты? Кто говорит?
И сморщился, готовясь к очередному словесному залпу, но ответа не последовало.
— Кто говорит? — крикнул я на ветер. Ответа не было, если не считать ответом хлопки паруса и скрип шкотов.
Каяк дернулся вправо, выровнялся, снова дернулся. Я развернулся влево, почти ожидая увидеть другую «камбалу», атакующую мою лодку, но моим глазам предстало нечто гораздо более зловещее.
Пока я наблюдал за инопланетным монстром на севере, с юга меня почти окружили клубящиеся черные тучи. Из грозового фронта вырвались длинные языки, которые и раскачивали лодку, а подо мной словно текла черная река. Внизу сверкали молнии, среди черных громад проскакивали разряды и сновали сыплющие искрами шары. А еще ближе, на краю фронта, который почти нависал надо мной, кружилась дюжина торнадо, выгибаясь подобно скорпионьим хвостам. Каждый такой хвост был размером с «камбалу», если не больше — вертикальные столбы, исполненные безумной ярости, — и каждый окружала группка меньших торнадо. Мой хлипкий парус вряд ли выдержит напор хотя бы одного из них — а пройти мимо, похоже, нет никакой возможности.
Я кое-как поднялся и ухватился левой рукой за шкот, чтобы не потерять равновесия. Правую же сомкнул в кулак и погрозил подступающим торнадо, грозовому фронту и невидимому небу.
— Будьте вы прокляты! — крикнул я. Мои слова затерялись в вое ветра. Куртка колотила меня по бокам. Резкий порыв чуть не швырнул каяк в вихреворот. Почти лежа на корпусе лодки, в позе парашютиста, за которым я когда-то наблюдал на Ледяном Когте (я застиг его в миг паузы перед прыжком — а прыгать ему явно не хотелось), я вновь погрозил кулаком и крикнул: — Давайте, ублюдки! Плевать мне на ваших богов!
Словно в ответ один торнадо придвинулся ближе и выпустил отросток, который как будто искал, за что зацепиться. Он прошел в сотне метров от меня, но каяк закрутился, как игрушечный кораблик в сливе ванной. Сметенный с ног напором ветра, я рухнул на корпус лодки и наверняка свалился бы в бездну, не вцепись я в вовремя подвернувшийся шкот. Мои ноги уже болтались над воздушной пучиной.
Вместе с торнадо шла градовая туча, и на меня обрушились градины, иные — размером с мой кулак. Они разорвали парус, забарабанили по корпусу лодки, точно залп из игольника; мне досталось по ноге, по плечу и по спине. Боль была такая, что я чуть не разжал пальцы. Впрочем, с тем же успехом я мог бы их и разжать, потому что от паруса уже не было ни малейшего толка: он спас меня от участи быть разнесенным в клочья градинами, но сам пострадал весьма изрядно. Каяк устремился вниз, к лиловой бездне. Вокруг бушевали торнадо. Я перехватил бесполезный уже шкот в том месте, где он входил в корпус, и повис, твердо вознамерившись продержаться до самого конца, до тех пор, пока меня вместе с лодкой не расплющит чудовищным давлением или не разорвет в клочья ветром. Я вдруг понял, что снова кричу, и этот мой крик мне самому показался странным — почти веселым.
Мы пролетели меньше километра, набрав скорость гораздо выше гиперионского или земного стандартного ускорения, когда забытая мной «камбала» сделала бросок. Она двигалась с чудовищной быстротой, точно манта, преследующая свою жертву. Вокруг меня зазмеилось множество извивающихся щупалец, и я понял, что она наконец проголодалась и не намерена упускать свой ужин.
Если бы она схватила меня, и от меня самого, и от каяка — при скорости, на какой мы падали, — остались бы одни воспоминания. Однако чудовище стало падать вместе с нами, окружив лодку, парус и меня своими щупальцами — каждое толщиной от двух до пяти метров, а потом резко затормозило, выпустив газ с запахом аммиака, точно звездолет при заходе на посадку. И снова начало подниматься, взбираясь туда, где по-прежнему бушевали торнадо и клубились черные тучи. Наполовину теряя сознание, я все же сообразил, что «камбала» движется прямиком в грозовой фронт. И тут она швырнула меня вместе с лодкой к отверстию в своем громадном прозрачном теле.
Что ж, вот я и нашел пасть.
Меня окружали остатки паруса, этакий самодельный саван. Каяк словно окунули в какую-то пленку. Я попытался повернуться, подползти к кокпиту, достать игольник, пробить себе выход наружу…
Но игольник вывалился, когда лодка полетела вниз. Вместе с ним улетели подушки, рюкзак с одеждой, водой, едой и фонариком. Все пропало.
Я попытался хмыкнуть, но не слишком преуспел — щупальца подтянули каяк с его брыкающимся пассажиром вплотную к зияющему отверстию на брюхе чудовища. Теперь я отчетливее различал внутренние органы — пульсирующие, поглощающие, содрогающиеся, некоторые и впрямь с золотистыми дисками. В ноздри ударил почти невыносимый запах аммиака; у меня тут же заслезились глаза и запершило в горле.
Я подумал об Энее. Мысль была краткой и не слишком красноречивой, мне просто вспомнилось, как девочка выглядела в день своего шестнадцатилетия — короткая стрижка, кожа облезла от постоянного пребывания на солнце, — и я мысленно произнес: «Прости, детка, я сделал все, что мог, но у меня не получилось. Прости».
В следующий миг длинные щупальца сложились и вовлекли лодку вместе со мной в безгубую пасть, шириной, как я сообразил, тридцать или сорок метров. Подумав о фибропластовом корпусе, о ткани, из которой был изготовлен парус, я еще успел злорадно пожелать: «Надеюсь, сволочь, ты заработаешь расстройство желудка».
А потом я вдохнул запах аммиака и рыбы, смутно осознал, что воздух внутри «камбалы» не слишком пригоден для дыхания, решил выпрыгнуть из каяка, чтобы меня не переварило вместе с ним, но потерял сознание.
А «камбала», наплевав на мой обморок, продолжала подниматься сквозь облака, и их чернота была чернее безлунной ночи; безгубая пасть закрылась и исчезла, словно ее и не было. Я, каяк и парус превратились в бесплотные тени в жидком содержимом пищеварительного тракта этой твари.
Глава 13
Кендзо Исодзаки нисколько не удивился, когда за ним пришли швейцарские гвардейцы. Полковник швейцарской гвардии в сопровождении восьми солдат, все как один в парадных оранжево-синих мундирах, с энергаторами и «жезлами смерти», прибыл на Тор, потребовал немедленной встречи с Исодзаки в его личном кабинете и предъявил председателю совета директоров Гильдии зашифрованный диск, которым ему предписывалось явиться на аудиенцию к Его Святейшеству Папе Урбану Шестнадцатому, форма одежды парадная.
Когда Исодзаки направился в комнату отдыха, полковник последовал за ним. Исодзаки быстро принял душ и облачился в строгий костюм — белая рубашка, серый жилет, красный галстук, черные брюки, двубортный пиджак с золотыми пуговицами, черная бархатная шапочка.
— Могу я позвонить своим коллегам и отдать необходимые распоряжения на случай, если намеченные на сегодня встречи не состоятся? — спросил Исодзаки, когда они вышли из лифта в главный холл, где выстроились в две шеренги остальные гвардейцы, образовав нечто наподобие оранжево-синего коридора.
— Нет, — коротко ответил полковник.
У причала, к которому обычно пристыковывался личный звездолет Исодзаки, их ожидал авизо. Экипаж корабля приветствовал Исодзаки кивками, помог пристегнуться к креслу, и корабль устремился к месту назначения, сопровождаемый двумя факельщиками.
«Они обращаются со мной как с заключенным, а не как с почетным гостем», — подумал Исодзаки. Его лицо, разумеется, оставалось бесстрастным, но внутри нарастала паника, к которой, как ни странно, примешивалось что-то вроде облегчения. Он ожидал ареста с того дня, как тайно встретился с советником Альбедо. И почти не спал со времени той малоприятной встречи. Исодзаки знал, что Альбедо незачем скрывать от кого бы то ни было попытки Гильдии установить прямой контакт с Техно-Центром. Правда, он надеялся, что эти попытки сочтут его личной инициативой. Он мысленно поблагодарил всех известных ему богов за то, что Анна Пелли Коньяни сейчас не на Пасеме, а на Возрождении-Вектор, где она осуществляет важную торговую сделку.
Со своего кресла, стоявшего между креслами полковника и одного из солдат, Исодзаки мог видеть тактический дисплей над пультом управления. Ослепительно светящаяся сфера выглядела весьма внушительно, но Исодзаки пилотировал звездолеты еще когда нынешний пилот был ребенком, а потому заметил, что летят они не к Пасему, но к троянской точке в гуще военных баз и имперских фортов на астероидах.
«Значит, меня везут в тюрьму Священной Канцелярии», — подумал Исодзаки. Это даже хуже, чем очутиться в замке Святого Ангела, где, по слухам, день и ночь не прекращают работу модуляторы виртуальной боли. В орбитальной темнице никто не услышит твоих воплей. Он был уверен, что приглашение на папскую аудиенцию — всего лишь уловка, способ без проблем выманить его с территории Гильдии. Исодзаки был готов поспорить на что угодно, что через несколько дней — если не часов — его костюм насквозь пропитается потом и кровью.
Как выяснилось, он ошибался во всем. Авизо затормозил над плоскостью эклиптики, и только тут Исодзаки догадался, куда они летят. Кастель-Гандольфо, «летняя резиденция» Его Святейшества.
Включив просмотровый аппарат, Исодзаки вызвал на экран вид снаружи и стал наблюдать, как авизо отделился от факельщиков и двинулся к массивному астероиду в форме картофелины. Свыше сорока километров в длину и двадцать пять в поперечнике, Кастель-Гандольфо больше походил на планету — мощное силовое поле удерживало атмосферу, на холмах и лугах под голубым небом зеленела трава, склоны гор поросли лесом, в котором водились животные, по распадкам сбегали горные потоки. Исодзаки заметил старинную деревушку в итальянском стиле. Пасторальный вид был обманчив: военные базы вокруг астероида могли уничтожить целый флот, а сам астероид был изрыт туннелями и пещерами, где располагался гарнизон швейцарских гвардейцев и имперских элитных подразделений численностью более десяти тысяч человек.
Авизо выпустил крылья и пролетел оставшиеся десять километров на электрических импульсных двигателях, работавших совершенно беззвучно. Последние пять километров его сопровождали гвардейцы в боевых скафандрах. Солнечный свет отражался от скафандров, от лицевых щитков на шлемах. Гвардейцы окружили звездолет, некоторые направили на корабль датчики, считывая зашифрованные данные о количестве людей на борту и о том, кто они такие. Видимо, ничего подозрительного обнаружено не было, поскольку в одной из каменных башен замка появилось отверстие, куда и вплыл авизо, заглушив двигатели. Гвардейцы подтянули корабль к пирсу.
Щелкнул люк воздушного шлюза. Восемь гвардейцев вышли первыми и выстроились в две шеренги, а полковник вывел Кендзо Исодзаки. Исодзаки оглянулся в поисках лестницы или лифта, но тут пол под ногами дрогнул и пирс вместе с кораблем начал опускаться. Все происходило совершенно беззвучно, платформа медленно погружалась в недра Кастель-Гандольфо.
Наконец спуск прекратился. В каменной стене появилась дверь. Зажглись люм-шары, осветив коридор и отделанные стальными панелями стены. Через каждые десять метров виднелись фибропластовые стояки с камерами слежения. Полковник махнул рукой, и Кендзо Исодзаки шагнул вперед. В конце туннеля вспыхнул голубой свет — еще одна проверка личности. Прозвенел звонок, в стене напротив возникла дверь. За ней находилась приемная. Там сидели трое. Все трое встали, когда появился Исодзаки со своей свитой.
«Черт!» — подумал он. В приемной находилась Анна Пелли Коньяни, в своем лучшем платье, а также Хельвиг Эрон и Кеннет Хей-Модино, двое других исполнительных директоров Панкапиталистической Лиги Независимых Католических галактических торговых организаций.
«Черт! — мысленно повторил Кендзо Исодзаки, невозмутимо кивая своим коллегам. — Из-за меня арестовали и всех остальных. Нас всех отлучат от Церкви и казнят».
— Сюда, — сказал полковник, открывая украшенную искусной резьбой дверь. За ней находилось полутемное помещение. Исодзаки почувствовал запах воска и ладана. Внезапно он понял, что сам полковник входить не собирается. То, что ожидало внутри, касалось только их четверых.
— Спасибо, полковник, — вежливо поблагодарил Кендзо Исодзаки и твердым шагом вошел в пронизанную благовониями тьму.
Это была небольшая часовня, темная, если не считать тускло мерцавших у одной стены свечей в железных подсвечниках и двух сводчатых витражей за алтарем в дальнем конце помещения. На самом алтаре горели еще шесть свечей, а напротив окон стояли медные светильники, пламя которых было скорее рыжеватым, чем алым. Слева от алтаря — высокое кресло с прямой спинкой и бархатным сиденьем. На спинке кресла вырезан символ, с первого взгляда напоминавший крестоформ; приглядевшись, Исодзаки узнал тройной папский крест. Алтарь и кресло стояли на невысоком каменном помосте.
Больше в часовне не было ни кресел, ни скамей, однако по обе стороны от прохода, по которому шли Исодзаки, Коньяни, Эрон и Хей-Модино, прямо на полу были разложены красные бархатные подушечки. Четыре штуки — по две с каждой стороны — были свободны. Представители Гильдии по очереди окунули пальцы в чашу со святой водой, перекрестились, преклонили колени перед алтарем и опустились на подушечки. Прежде чем склонить голову в молитве, Кендзо Исодзаки исподволь огляделся.
Ближе всех к алтарю стоял на коленях госсекретарь Ватикана Симон Августино кардинал Лурдзамийский — гора мяса, облаченная в красное с черным; когда кардинал склонил голову, его многочисленные подбородки легли на высокий воротник. За его спиной виднелась похожая на пугало фигура монсеньора Лукаса Одди. Напротив кардинала Лурдзамийского сидел, прикрыв глаза, Великий Инквизитор, глава Священной Канцелярии, Джон Доменико кардинал Мустафа. Рядом расположился его печально известный помощник, палач отец Фаррелл.
Сбоку от Августино стояли на коленях три офицера Флота — адмирал Марусин, чьи седые волосы мерцали и переливались в неярком свете, адмирал Марджет Ву и еще кто-то — его Кендзо Исодзаки вспомнил не сразу, — ну да, адмирал Алдикакти. Рядом с Великим Инквизитором сидела кардинал дю Нойе, префект и президент «Cor Unum». Этой женщине было далеко за семьдесят, однако лицо ее оставалось по-юношески подтянутым, седые волосы коротко подстрижены, глаза отливали сталью. Мужчину средних лет, стоявшего на коленях позади кардинала, Исодзаки не знал.
С учетом их четверых — Эрон и Хей-Модино были ближе к Великому Инквизитору, а Исодзаки и Коньяни встали на подушечки с той стороны прохода, где расположился госсекретарь, — в часовне находилось тринадцать человек. Интересное число, подумал Кендзо Исодзаки.
В этот миг распахнулась потаенная дверца справа от алтаря, и в часовне появился Папа в сопровождении четырех служителей. Все присутствующие поднялись с колен и встали, склонив головы. Кендзо Исодзаки успел узнать двоих помощников Его Святейшества и главу службы безопасности; четвертым был советник Альбедо в своем неизменном сером костюме. Папа прошел через часовню, подставляя для поцелуя перстень и благословляя присутствующих, которые при его приближении опускались на колени. Рядом с ним шагал Альбедо. Наконец Его Святейшество Урбан Шестнадцатый уселся на свое кресло, а Альбедо встал у него за спиной. Тринадцать человек немедленно поднялись вновь.
Исодзаки опустил глаза; его лицо оставалось по-прежнему безучастным, зато сердце так и норовило выпрыгнуть из груди. «Неужели Альбедо предаст всех? Неужели все, кто здесь находится, тайно пытались связаться с Техно-Центром? Значит, нас обвинят в измене, лишат крестоформов и казнят? Что ж, вполне возможно».
— Братья и сестры во Христе, — начал Его Святейшество, — мы признательны вам за то, что вы откликнулись на наше приглашение. То, что будет сказано здесь сегодня, должно остаться тайной до тех пор, пока Святой Престол не дарует разрешения раскрыть эту тайну другим. Так мы повелеваем и требуем от вас послушания под страхом отлучения и вечных мук без света Господня.
Тринадцать человек тихо произнесли слова согласия.
— За последнее время, — продолжал Его Святейшество, — случилось много странного и ужасного. Мы засвидетельствовали эти события издалека — некоторые из них мы предвидели по воле Господа нашего, Иисуса Христа, — а о многих молили, чтобы они миновали нас, пощадили наших людей, нашу Священную Империю Пасема, нашу Церковь, не испытывали нашей воли, веры и крепости. Но человек предполагает, а Господь располагает. Даже самым преданным его слугам не под силу разобраться во всех событиях и знамениях, и остается лишь полагаться на Его милость, когда эти события начинают казаться угрожающими.
Присутствующие по-прежнему не поднимали глаз.
— Вместо того чтобы излагать эти события с нашей точки зрения, — тихо произнес Его Святейшество, — мы попросим сообщить о них тех, кто принимал в них непосредственное участие. А затем с радостью объясним, какая существует связь между вещами, казалось бы, несвязанными. Адмирал Марусин, вы начнете?
Седовласый адмирал встал так, чтобы видеть и Папу, и всех остальных. Он прокашлялся.
— Донесения с планеты под названием Витус-Грей-Балиан Б свидетельствуют о том, что у нас была возможность захватить рожденного на Гиперионе человека по имени Рауль Эндимион, того самого, который ускользнул от нас — вместе с главной разыскиваемой, девочкой Энеей, — почти пять стандартных лет назад. Воины особого отряда Дворянской гвардии, — адмирал посмотрел на Папу, который утвердительно кивнул, — …да, воины особого отряда обратились к начальнику гарнизона на Витус-Грей-Балиане Б за разрешением отыскать этого человека. Он сумел скрыться прежде, чем мы его нашли, однако у нас имеются достоверные свидетельства того, что это был тот самый Рауль Эндимион, который более четырех лет назад появился на короткий срок на Безбрежном Море.
Кардинал Лурдзамийский кашлянул.
— Адмирал, я думаю, будет неплохо, если вы сообщите, каким образом этому Раулю Эндимиону удалось бежать с Витус-Грей-Балиана Б.
Кендзо Исодзаки с изумлением отметил, что кардинал Лурдзамийский говорит за Папу.
— Конечно, ваше преосвященство, — откликнулся Марусин. — Судя по всему, этот Эндимион появился на планете через древний портал и таким же образом покинул ее.
Никто из присутствующих не издал ни звука, но Исодзаки словно ощутил некий ментальный фон, выражавший шок и любопытство. В самом деле, ходили слухи, что несколько лет назад весь Имперский Флот охотился за каким-то еретиком, ухитрявшимся включать порталы…
— Этот портал продолжал действовать, когда ваши люди его проверяли? — осведомился Симон Августино.
— Нет, ваше преосвященство, — ответил Марусин. — Порталы бездействовали, оба, — и тот, через который Эндимион, по всей видимости, появился на планете, и тот, через который он ее покинул.
— Но вы уверены, что этот… Эндимион… прибыл именно через портал? Возможно, он никуда не убегал, а просто хорошо спрятался?
— Уверены, ваше преосвященство. Эту планету тщательно охраняют. Орбитальные базы способны засечь любой корабль, подлетающий к Витус-Грей-Балиану Б, с расстояния в несколько световых лет. Что касается «спрятался»… Мы буквально перевернули планету вверх дном… применили «правдосказ» к десяткам тысяч местных жителей. Человека по имени Рауль Эндимион там нет. Однако свидетели упомянули вспышку у нижнего портала в тот самый миг, когда наши датчики на орбите зарегистрировали импульс электромагнитного поля, соответствующий тому возмущению, которое, как следует из архивных данных, производят работающие порталы.
Его Святейшество поднял голову и сделал знак кардиналу Лурдзамийскому.
— Адмирал, я полагаю, у вас есть и другие, не менее интересные новости? — пророкотал тот.
Марусин мрачно кивнул:
— Так точно, ваше преосвященство, Ваше Святейшество. Впервые в истории нашего флота случился бунт…
Исодзаки вновь уловил всеобщий шок. Сам он не выказал никаких эмоций, но краем глаза заметил взгляд, брошенный на него Анной Пелли Коньяни.
— Я попрошу рассказать об этом адмирала Алдикакти. — Марусин сделал шаг назад и замер, сложив руки на груди.
Исодзаки заметил, что адмирал Алдикакти была из тех лузианок, которые из-за особенностей телосложения кажутся едва ли не бесполыми. Ни дать ни взять кирпич в адмиральском мундире.
Алдикакти не стала тратить время на откашливание и сразу перешла к делу. Кратко изложив предысторию эскадры «Гидеон», она описала успешные действия в семи системах на Окраине, после чего приступила к описанию удивительных событий в системе Люцифера.
— До того момента эскадра действовала в полном соответствии с разработанным стратегическим планом, — сказала она. — Поэтому, по завершении операции в системе Люцифера, я отправила автоматический зонд на Пасем с просьбой к Его Святейшеству и адмиралу Марусину разрешить дозаправку на Тау Кита и продолжить операцию — атаковать другие системы Бродяг, пока слух о наших действиях еще не распространился по Окраине. Разрешение было получено, и ядро эскадры двинулось к Тау Кита, где должно было состояться рандеву с пятью другими «архангелами», спущенными со стапелей уже после нашего отлета.
— Вы сказали «ядро», адмирал? — негромко уточнил кардинал Лурдзамийский.
— Да, ваше преосвященство. — В голосе Алдикакти не было и намека на сомнения или извинения. — Выяснилось, что наши датчики не сумели вовремя обнаружить пять вражеских факельщиков. Они разгонялись для квантового прыжка в другую систему Бродяг и могли распространить новость о нашем появлении. Вместо того чтобы отменить прыжок эскадры к Тау Кита, я поручила капитанам «Гавриила» и «Рафаила» уничтожить вражеские факельщики, а затем присоединиться к нам, уже на ТКЦ.
Кардинал Лурдзамийский потер пухлые ладони и не столько проговорил, сколько промурлыкал:
— Значит, ваш флагман «Уриил» и четыре других звездолета совершили прыжок к Тау Кита?
— Да, ваше преосвященство.
— А «Рафаил» и «Гавриил» остались в системе Люцифера?
— Да, ваше преосвященство.
— Адмирал, вам было известно, что «Рафаилом» командует капитан отец де Сойя, несколько лет назад отправленный в отставку за то, что не сумел поймать девочку по имени Энея?
— Да, ваше преосвященство.
— И вы знали, что командование флота и Святой Престол весьма озабочены… э… лояльностью капитана де Сойи, что Священная Канцелярия поместила на борт «Рафаила» тайного агента, которому было приказано не спускать с капитана де Сойи глаз?
— Да, ваше преосвященство, — вновь повторила адмирал Алдикакти. — Я знала, что агенты Священной Канцелярии на моем корабле получают донесения от шпиона на борту «Рафаила», командора Жабера.
— Ваши агенты делились с вами своими опасениями относительно капитана де Сойи, адмирал?
— Нет, ваше преосвященство. Я не имела ни малейшего представления о причинах интереса, проявляемого Священной Канцелярией к капитану де Сойе.
Кардинал Мустафа кашлянул и поднял палец.
Кардинал Лурдзамийский, который, как быстро догадался Исодзаки — и не только Исодзаки, — вел допрос, посмотрел на Папу.
Его Святейшество кивнул.
— Я счел необходимым объяснить Его Святейшеству и всем, кто присутствует на этом собрании, — начал Мустафа, — что наблюдение за капитаном де Сойей было одобрено и санкционировано… госсекретарем и штабом Флота… лично адмиралом Марусиным.
Наступила короткая пауза.
Наконец Симон Августино спросил:
— Кардинал Мустафа, вы можете объяснить, чем именно этот человек привлек внимание Священной Канцелярии?
— Конечно, ваше преосвященство. — Мустафа облизнул пересохшие губы. — Из сообщений наших… агентов следует, что во время погони за девочкой по имени Энея отец капитан де Сойя вполне мог… заразиться.
— Заразиться? — уточнил кардинал Лурдзамийский.
— Да, ваше преосвященство. Мы пришли к выводу, что эта девочка обладает способностью физически и психически воздействовать на тех подданных Священной Империи, которые вступают с ней в контакт. Разумеется, в этой связи нас не могли не тревожить лояльность и повиновение приказам капитана одного из кораблей Флота.
— Откуда вы получили эти данные, кардинал Мустафа? — спросил госсекретарь.
Великий Инквизитор помедлил с ответом.
— У нас имеются свои источники, ваше преосвященство.
— В том числе — бывший подчиненный капитана де Сойи, которого вы держите в своей тюрьме, так, кардинал? Как бишь его… некий капрал Ки. Я не ошибаюсь?
— Нет, ваше преосвященство. — Мустафа моргнул и повернулся так, чтобы стать вполоборота к остальным присутствующим. — Подобные действия продиктованы заботой о безопасности Церкви и Государства.
— Конечно, ваше преосвященство, — согласился кардинал Лурдзамийский. — Адмирал Алдикакти, можете продолжать.
— Через несколько часов после того, как пять «архангелов» прыгнули к Тау Кита, — сообщила Алдикакти, — и прежде чем завершился двухдневный цикл воскрешения, в пространстве ТК появился автоматический зонд. Его отправила капитан Стоун…
— Капитан «Гавриила», — уточнил госсекретарь.
— Так точно, ваше преосвященство. Сообщение, доставленное зондом, предназначалось лично мне. В нем сообщалось, что вражеские факельщики уничтожены и что «Рафаил» отклонился от курса, разгоняется для прыжка и не реагирует на приказы остановиться.
— Иными словами, — промурлыкал кардинал Лурдзамийский, — корабль взбунтовался.
— По-видимому, да, ваше преосвященство. Причем в этом случае бунт возглавил капитан корабля.
— Отец капитан де Сойя.
— Так точно, ваше преосвященство.
— Предпринимались ли попытки связаться с агентом Священной Канцелярии на борту «Рафаила»?
— Да, ваше преосвященство. Капитан де Сойя заявил, что командор Жабер занят выполнением непосредственных обязанностей. Капитан Стоун сочла это маловероятным…
— А что ответил де Сойя относительно изменения курса?
— Капитан де Сойя ответил, что получил от меня приказ, предписывающий «Рафаилу» изменить курс, — сообщила адмирал Алдикакти.
— Капитан Стоун приняла это объяснение?
— Нет, ваше преосвященство. «Гавриил» пустился в погоню за «Рафаилом» и навязал бой.
— Чем закончился этот бой?
Алдикакти помедлила долю секунды.
— Ваше преосвященство… Ваше Святейшество… Поскольку сообщение капитана Стоун предназначалось лично мне, прошли сутки — столько заняло срочное воскрешение, — прежде чем я прочла его и приняла решение о немедленном возвращении в систему Люцифера.
— Сколько вы взяли с собой кораблей, адмирал?
— Три, ваше преосвященство. Мой флагман «Уриил» с новым экипажем и два «архангела» из тех, что ожидали нас у Тау Кита, «Михаил» и «Азраил». Я сочла, что не могу рисковать людьми и объявлять срочное воскрешение для всей эскадры.
— А сами рисковали, адмирал, — заметил кардинал Лурдзамийский.
Алдикакти промолчала.
— И что случилось потом?
— Мы прыгнули в систему Люцифера, ваше преосвященство. На воскрешение ушли сутки, причем много воскрешений было неудачных. В итоге мне удалось набрать экипаж только для одного «Уриила». Оставив два других звездолета на орбите, я начала поиск «Гавриила» и «Рафаила». Обнаружить их не удалось, но мы засекли близ солнца радиобуй…
— Оставленный…
— Капитаном Стоун, ваше преосвященство. Этот буй содержал отчет о бое, который состоялся меньше двух суток назад. Стоун попыталась уничтожить «Рафаил» плазменными и термоядерными ракетами, а когда эта попытка провалилась, приказала применить нейродеструкторы.
В часовне воцарилась тишина. Исодзаки следил за бликами, которые свечи отбрасывали на лицо Его Святейшества Папы Урбана Шестнадцатого.
— И к чему это привело? — спросил госсекретарь.
— Обе команды погибли, — ответила Алдикакти. — Показания датчиков «Гавриила» свидетельствуют о том, что «Рафаил» успел совершить прыжок. Экипаж «Гавриила» находился в саркофагах, а капитан Стоун запрограммировала свой и еще несколько саркофагов на срочное восьмичасовое воскрешение. Эту процедуру перенесли только двое — она сама и ее помощник. Оставив буй с сообщением, капитан Стоун прыгнула вслед за «Рафаилом». Она сообщила, что намерена разыскать и уничтожить «Рафаил», если получится — до того, как де Сойя и его присные воскреснут… впрочем, неизвестно, где бунтовщики были в момент залпа из нейродеструкторов — в саркофагах или нет.
— Капитан Стоун знала, куда именно совершил квантовый прыжок «Рафаил»?
— Нет, ваше преосвященство. Это невозможно определить заранее.
— И как вы отреагировали на эти данные, адмирал?
— Я подождала двенадцать часов, чтобы дать возможность воскреснуть экипажам «Михаила» и «Азраила». После этого все три корабля прыгнули по координатам, оставленным «Гавриилом». Я оставила второй маяк для тех «архангелов», которые должны были прибыть через несколько часов от Тау Кита.
— Вы не сочли нужным дождаться их?
— Нет, ваше преосвященство. Я полагала, что необходимо как можно скорее продолжить погоню.
— Тем не менее, адмирал, вы дождались воскрешения экипажей двух других кораблей. Почему вы не продолжили погоню на «Урииле»?
— Это решение было продиктовано обстоятельствами, ваше преосвященство, — без колебаний ответила Алдикакти. — Вероятность того, что капитан де Сойя увел «Рафаил» в какую-либо из вражеских систем, была чрезвычайно высока… Вдобавок эта система могла обладать гораздо лучшей обороной, чем те, с которыми мы сталкивались до сих пор. Я также предполагала, что «Гавриил», которым командовала капитан Стоун, был уничтожен либо «Рафаилом», либо кораблями Бродяг. Поэтому три звездолета — это был тот минимум, с каким можно было отправляться в неизведанное.
— Система и впрямь оказалась вражеской, адмирал?
— Нет, ваше преосвященство. По крайней мере в течение двух недель, которые мы там провели, нам не удалось обнаружить каких-либо следов Бродяг.
— Куда же вы прыгнули, адмирал?
— В наружную оболочку красного гиганта, — ответила Алдикакти. — Наши силовые экраны работали на пределе мощности.
— Все три корабля выдержали прыжок?
— Никак нет, ваше преосвященство. Только «Уриил» и «Азраил». «Михаил» погиб вместе со всем экипажем.
— Вы нашли «Гавриил» и «Рафаил»?
— Только «Гавриил», ваше преосвященство. Он находился приблизительно в двух астрономических единицах от звезды. Все системы бездействовали. Силовой экран был частично разрушен, и внутри корабля все расплавилось.
— Вам удалось найти и воскресить капитана Стоун и других членов экипажа, адмирал?
— К сожалению, нет, ваше преосвященство. Там не осталось достаточно органического материала, чтобы провести процедуру воскрешения.
— «Гавриил» пострадал из-за близости к звезде или вследствие атаки «Рафаила» или Бродяг?
— Наши эксперты до сих пор не смогли прийти к определенному выводу, ваше преосвященство. Предварительные данные свидетельствуют о том, что повреждения вызваны и тем, и другим. Причем характер повреждений указывает на орудия, имевшиеся на борту «Рафаила».
— Вы хотите сказать, что «Гавриил» вел бой в автоматическом режиме вблизи звезды?
— В самой звезде, ваше преосвященство. Судя по всему, «Рафаил» ожидал в засаде и атаковал «Гавриила» через несколько секунд после того, как он вышел из пространства Хоукинга.
— Какова вероятность того, что «Рафаил» также получил серьезные повреждения? Возможно, он рухнул на звезду?
— Возможно, ваше преосвященство, но мы исходим из противоположного. По нашим представлениям, капитан де Сойя покинул систему и удалился в неизвестном направлении.
Кардинал Лурдзамийский кивнул, отчего его щеки колыхнулись.
— Адмирал Марусин, вы можете оценить угрозу, которую представляет собой «Рафаил», если он и впрямь уцелел?
Марусин сделал шаг вперед.
— Ваше преосвященство, мы должны исходить из того, что капитан де Сойя и остальные бунтовщики являются врагами Священной Империи и что похищение крейсера класса «архангел», нашего новейшего и самого грозного оружия, было спланировано заранее. Мы также должны допустить худшее — что эта операция проводилась в сотрудничестве с Бродягами. — Адмирал перевел дыхание. — Ваше преосвященство… Ваше Святейшество… с двигателем Гидеона перемещение в пределах нашего рукава галактики становится делом одной секунды. «Рафаил» может прыгнуть в любую систему — даже к Пасему, — и наши приборы не успеют его зарегистрировать так, как мы отслеживаем корабли Бродяг. Он также может терроризировать торговые пути, атаковать беззащитные планеты и колонии… В общем, бессовестно разбойничать.
Папа поднял палец:
— Адмирал Марусин, вы хотите сказать, что самая ценная наша технология может попасть в руки Бродяг и что они способны со временем ею воспользоваться?
И без того красное лицо Марусина побагровело.
— Ваше Святейшество, это маловероятно. Практически невозможно… Процесс производства «архангела» столь сложен, стоимость даже одного корабля столь высока, блокировки столь надежны…
— Маловероятно, но все-таки возможно, — перебил Папа.
— Да, Ваше Святейшество.
Папа рубанул ладонью воздух.
— Мы полагаем, что услышали достаточно. Адмирал Марусин, адмирал Ву, адмирал Алдикакти, можете идти.
Офицеры преклонили колени, склонили головы, встали и медленно попятились. Дверь за ними закрылась с тихим шипением.
Теперь в часовне остались десять человек, не считая помощников Папы и советника Альбедо.
Папа кивнул госсекретарю:
— Ваши предложения, Симон Августино?
— Адмирала Марусина отправить в отставку и перевести на гражданскую службу, — негромко проговорил кардинал. — Адмирала Ву назначить временно исполняющим обязанности командующего Флотом, пока не будет найдена достойная замена Марусину. Адмирала Алдикакти отлучить от Церкви и расстрелять.
Папа печально кивнул:
— Теперь мы выслушаем кардинала Мустафу, кардинала дю Нойе, директора Исодзаки и советника Альбедо и на этом закончим.
— …Так завершилось официальное расследование Священной Канцелярии на Марсе, — подытожил кардинал Мустафа. Он бросил взгляд на Симона Августино и прибавил: — Капитан Уолмак настоял на том, чтобы я и мои подчиненные вернулись на борт «Джебраила», находившегося на орбите планеты.
— Пожалуйста, продолжайте, ваше преосвященство, — кивнул кардинал Лурдзамийский. — Вы можете объяснить, по какой причине капитан Уолмак настаивал на вашем немедленном возвращении?
— Да, — ответил Мустафа, потирая нижнюю губу. — Капитан Уолмак обнаружил транспорт, на который доставлялись грузы с неизвестной базы близ марсианского города Арафат-каффиех. Корабль был обнаружен в поясе астероидов.
— Можете сказать, как он назывался, ваше преосвященство? — спросил кардинал Лурдзамийский.
— Да. «Сайгон-мару».
Несмотря на железное самообладание, которым отличался Кендзо Исодзаки, его губы дрогнули. Он прекрасно помнил этот корабль, на котором когда-то служил юнгой его старший сын. «Сайгон-мару» представлял собой древний транспорт, ионный звездолет грузоподъемностью, кажется, около трех миллионов тонн…
— Директор Исодзаки? — окликнул его кардинал Лурдзамийский.
— Да, ваше преосвященство? — В голосе Исодзаки не было и намека на какие-либо эмоции.
— Этот корабль принадлежит Гильдии торговцев. Я не ошибаюсь?
— Нет, ваше преосвященство, — ответил директор. — Но если меня не подводит память, транспорт «Сайгон-мару» был отправлен в металлолом вместе с шестьюдесятью или около того другими устаревшими кораблями приблизительно… восемь стандартных лет назад.
— Ваше преосвященство, разрешите? — вмешалась Анна Пелли Коньяни. — Ваше Святейшество? — Пока говорил Исодзаки, она о чем-то шепталась с комлогом, а теперь теребила свою сережку.
— Пожалуйста, директор Коньяни, — откликнулся Симон Августино.
— Наши данные свидетельствуют, что «Сайгон-мару» действительно был продан восемь лет три месяца и два дня назад независимой компании по утилизации отходов. По нашим сведениям, впоследствии он был переплавлен на автоматическом заводе на орбите Армагаста.
— Благодарю вас, директор Коньяни, — сказал госсекретарь. — Кардинал Мустафа, можете продолжать.
Великий Инквизитор кивнул. В своем рассказе он старался излагать лишь самое важное. А сам тем временем размышлял о том, о чем предпочел умолчать.
«Джебраил» в сопровождении факельщиков приблизился к безмолвному транспорту и уравнял скорости. Мустафе всегда казалось, что пояс астероидов — это нечто, кишащее камнями различных размеров, но вблизи «Сайгон-мару» астероидов не оказалось, хотя на тактическом дисплее их было множество. Только уродливый матово-черный транспорт — груда проржавевших цилиндров и труб, около полукилометра длиной. Уравняв скорости, «Джебраил» словно замер на расстоянии каких-нибудь трех астроединиц от желтого светила, давшего в незапамятные времена жизнь человечеству.
Мустафа помнил — и горько сожалел — о своем решении лично побывать на корабле вместе с десантниками. Помнил, какое испытал неудобство, погрузившись в боевой скафандр с мономолекулярным внутренним комбинезоном, нейронной сетью Искусственного Интеллекта и толстенной наружной броней, а также с многочисленными приспособлениями на ремне и реактивным ранцем за спиной. «Джебраил» проверил транспорт радаром, выяснилось, что живых существ на борту «Сайгон-мару» нет, но на всякий случай «архангел» отдалился на тридцать километров, едва Великий Инквизитор, командор Браунинг, сержант морской пехоты Нелл Каснер, бывший начальник марсианского гарнизона майор Пиет и десять швейцарских гвардейцев и морских пехотинцев выбрались из шлюза.
Мустафа помнил, как подскочил его пульс, когда они приблизились к мертвому транспорту. Двое коммандос поддерживали его, словно он был не человеком, а неодушевленным предметом. Он помнил солнечные блики на визорах шлемов. Солдаты переговаривались по направленному лучу, подавали сигналы взмахом руки, занимали позиции по сторонам открытого настежь шлюза. Двое проникли внутрь с оружием на изготовку. Следом за ними отправились командор Браунинг и сержант Каснер. Минуту спустя прозвучал вызов по тактическому каналу, и провожатые повели кардинала под руки к зияющему черному отверстию.
Лучи фонарей выхватили из мрака трупы, плававшие в невесомости. Это напоминало сон палача… Замороженные тела, вырванные кишки, сломанные ребра… Рты, разинутые в безмолвном вопле, застывшие потоки крови, выпученные глаза… Среди трупов повсюду плавали внутренности.
— Экипаж, — сообщил командор Браунинг.
— Это Шрайк? — спросил кардинал Мустафа. Про себя он быстро читал молитву об отпущении грехов — не для того, чтобы обрести душевное равновесие, просто чтобы отвлечься от ужасного зрелища. Его предупредили, что блевать в скафандре не стоит. Разумеется, фильтры быстро очистят шлем, но любая автоматика когда-нибудь отказывает…
— Возможно, — ответил майор Пиет, засовывая руку в рваную рану на груди одного из трупов. — Видите, все крестоформы выдраны. Как в Арафат-каффиех.
— Командор! — позвал один из тех солдат, которые от шлюза двинулись на корму. — Сержант! Сюда! Мы в первом трюме.
Браунинг и Пиет, опередив Великого Инквизитора, шагнули в громадный цилиндрический трюм. Лучи фонарей не в силах были рассеять мрак.
Эти трупы были в полном порядке. Они лежали на стеллажах вдоль стен, удерживаемые нейлоновыми ремнями. Ряды стеллажей уходили в глубь трюма, между ними оставался только узкий проход. Мустафа и его свита двинулись вперед, светя фонариками в разные стороны. Застывшие серые тела, штрих-коды на ступнях, закрытые глаза, руки, прижатые ремнями к бедрам, поникшие пенисы, неподвижно торчащие груди, волосы на головах и на лобках словно приглаженные или, наоборот, всклокоченные… Дети — с гладкой бледной кожей, со вздувшимися животами и полупрозрачными веками… Младенцы со штрих-кодами на пятках…
В четырех трюмах было обнаружено несколько десятков тысяч тел. Все — человеческие. Все— обнаженные. Все — мертвые.
— Вы завершили осмотр «Сайгон-мару», ваше преосвященство? — спросил кардинал Лурдзамийский.
Мустафа сообразил, что надолго замолчал, поглощенный своими мрачными воспоминаниями.
— Да, ваше преосвященство, — ответил он хрипло. — Завершили.
— И к какому выводу пришли?
— На борту транспорта «Сайгон-мару» находится шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать семь человеческих тел, — сказал Великий Инквизитор. — Пятьдесят один человек — экипаж корабля. Мы опознали всех членов команды. Все они были обезображены и изуродованы, как и жертвы резни в Арафат-каффиех.
— Живых обнаружить не удалось? Или воскресить?
— Нет.
— Как вы полагаете, кардинал Мустафа, причастен ли демон Шрайк к гибели экипажа «Сайгон-мару»?
— Полагаю, что да, ваше преосвященство.
— По вашему мнению, кардинал, несет ли Шрайк ответственность за гибель шестидесяти семи тысяч восьмисот двадцати семи человек, чьи тела обнаружены в трюмах «Сайгон-мару»?
Джон Доменико помедлил с ответом.
— По моему мнению, ваше преосвященство, — он повернул голову к человеку в кресле: — Ваше Святейшество, причиной смерти шестидесяти семи с лишним тысяч человек, мужчин, женщин и детей, обнаруженных на борту «Сайгон-мару», явился вовсе не Шрайк. Во всяком случае, на их телах нет тех ужасных ран, которые мы нашли на телах членов экипажа.
Кардинал Лурдзамийский, шелестя одеждами, шагнул вперед.
— И что же говорят судмедэксперты Священной Канцелярии относительно истинной причины смерти этих несчастных, кардинал Мустафа?
Тот ответил, опустив глаза:
— Ваше преосвященство, ни наши эксперты, ни эксперты Флота пока не в состоянии установить причину смерти этих людей. Фактически… — Мустафа не докончил фразы.
— Фактически, — продолжил за него Симон Августино, — по телам тех, кого вы нашли на борту «Сайгон-мару», не считая членов экипажа, причину смерти определить невозможно и невозможно сказать, мертвы они или нет. Правильно?
— Да, ваше преосвященство. — Мустафа обвел взглядом собравшихся. — Они явно не живые, и в то же время — никаких следов разложения, никаких признаков обычной смерти…
— Но они все-таки не живые? — уточнил кардинал Лурдзамийский.
Мустафа потер щеку.
— По крайней мере мы их оживить не смогли, ваше преосвященство. Мы также не обнаружили признаков мозговой или клеточной активности. Такое впечатление, что все жизненные функции этих тел… остановлены, что ли.
— И как вы поступили с транспортом «Сайгон-мару», кардинал?
— Капитан Уолмак оставил на его борту призовую команду, — ответил Великий Инквизитор. — А мы незамедлительно вернулись на Пасем, чтобы доложить Его Святейшеству. «Сайгон-мару» идет сюда на двигателе Хоукинга, сопровождаемый четырьмя факельщиками, и прибудет в ближайшую систему Империи — кажется, на Мир Барнарда — через три стандартные недели.
Кардинал Лурдзамийский кивнул:
— Спасибо, Великий Инквизитор. — Госсекретарь подошел к папскому креслу, преклонил колени и перекрестился. — Ваше Святейшество, я предлагаю выслушать ее преосвященство кардинала дю Нойе.
Папа Урбан поднял руку, словно благословляя.
— Мы с удовольствием выслушаем кардинала дю Нойе.
Кендзо Исодзаки никак не мог собраться с мыслями. Почему он должен все это выслушивать? С какой целью директоров Гильдии заставляют слушать отчеты офицеров Флота и кардиналов Церкви? Когда он услышал приговор адмиралу Алдикакти, кровь застыла у него в жилах. Что же будет с ними?
Нет, этого не случится. Алдикакти приговорили к отлучению от Церкви и смертной казни за некомпетентность. Если Мустафу, Коньяни и прочих, включая самого Исодзаки, обвинят в измене, мгновенная смерть будет наилучшим исходом — на который не приходится рассчитывать. Модуляторы боли в замке Святого Ангела будут трудиться целую вечность.
Кардинал дю Нойе явно по собственной инициативе решила воскреснуть старухой. Как большинство стариков, она выглядела цветущей — зубы все на месте, морщинок самый минимум, глаза ясные; правда, очень коротко подстриженные волосы — седые, а кожа туго обтягивает скулы, ну и что? Она не стала тратить время на долгое вступление.
— Ваше Святейшество, ваши преосвященства, уважаемые директора… Я представляю здесь организацию «Cor Unum», префектом и президентом которой являюсь, а также частное учреждение, известное как «Опус Деи». По причинам, которые вскоре станут вам известны, администраторы «Опус Деи» не смогли присутствовать лично.
— Продолжайте, ваше преосвященство, — сказал кардинал Лурдзамийский.
— Транспорт «Сайгон-мару» был закуплен нами для «Опус Деи» семь лет назад на заводе по утилизации отходов.
— С какой целью, ваше преосвященство? — спросил Симон Августино.
Кардинал дю Нойе обвела взглядом собравшихся, последним посмотрела на Папу и опустила глаза.
— С целью переправки безжизненных тел с планеты на планету, ваше преосвященство. К сожалению, в последний раз операция окончилась неудачей.
Трое директоров Гильдии не то чтобы издали некий звук, но все же это было больше, чем обыкновенный вздох.
— Безжизненных тел… — повторил кардинал Лурдзамийский с интонацией прокурора, который заранее знает ответы на все свои вопросы. — Откуда были эти тела, кардинал дю Нойе?
— Отовсюду, ваше преосвященство. За последние пять лет «Опус Деи» действовал на Хевроне, Кум-Рияде, Фудзи, Неверморе, Седьмой Дракона, Парвати, Циндао-Сычуаньской Панне, Новой Мекке, Мао Четыре, Иксионе, Кольце Ламберта, Горечи Сибиату, Безбрежном Море, Северной Литторали, терраформированной луне Возрождения Малого, Новой Гармонии, Новой Земле и на Марсе.
«Все планеты за пределами территории Ордена, — отметил про себя Исодзаки. — Или те, где Орден не имеет реальной власти».
— Сколько всего тел перевезли ваши транспорты, кардинал дю Нойе? — вкрадчиво поинтересовался Симон Августино.
— Приблизительно семь миллиардов, ваше преосвященство, — ответила женщина.
Кендзо Исодзаки сосредоточился на том, чтобы никоим образом не выдать своего изумления. Семь миллиардов тел. Транспорт класса «Сайгон-мару» может перевезти за раз около сотни тысяч — если складывать их как дрова. Получается, что ему нужно было совершить приблизительно семьдесят тысяч рейсов с планеты на планету. Чушь какая-то. А может, у них десятки таких транспортов… причем сверхсовременных, класса «нова», вмещающих сотни тысяч? Все миры, о которых только что упомянула кардинал дю Нойе, в последние четыре года были закрыты для Гильдии — под предлогом карантина из-за торговых или дипломатических разногласий со Священной Империей.
— Это все нехристианские миры, — услышал Исодзаки свой собственный голос. Подобное нарушение протокола он позволил себе впервые. Все присутствовавшие дружно повернулись к нему. — Это нехристианские миры, — повторил он, опуская даже титулы, с которыми следовало обращаться к собравшимся. — Или христианские, но с преобладанием нехристиан, такие как Марс, Фудзи или Невермор. Получается, что «Cor Unum» и «Опус Деи» истребляют нехристиан? Но зачем куда-то перевозить тела? Почему просто не оставить их гнить на родных планетах, которые впоследствии заселят колонисты?
Его Святейшество поднял руку. Исодзаки замолчал. Папа кивнул кардиналу Лурдзамийскому.
— Кардинал дю Нойе, — продолжил госсекретарь, как будто и не было вопросов Исодзаки, — каково было назначение этих транспортов?
— Не знаю, ваше преосвященство.
Кардинал Лурдзамийский кивнул.
— А кто дал разрешение на эту операцию, кардинал?
— Комиссия «Мир и справедливость», ваше преосвященство.
Голова Исодзаки невольно дернулась. Кардинал дю Нойе в открытую возлагала вину за эту жестокость… за беспрецедентное массовое убийство на одного человека. У комиссии «Мир и справедливость» был один-единственный префект. Папа Урбан Шестнадцатый, бывший Юлий Четырнадцатый. Исодзаки опустил голову, пряча глаза. Может, попытать счастья, попробовать добраться до этого мерзавца и придушить его собственными руками? Впрочем, он не пробежит и половины расстояния, как его подстрелят. Но как хотелось попробовать!
— Кардинал дю Нойе, — продолжал Симон Августино с таким видом, словно не произошло ничего особенного, словно не открылась чудовищная правда, — вам известно, каким образом эти люди… эти нехристиане… были приведены в безжизненное состояние?
«Приведены в состояние, — мысленно повторил Исодзаки. Он всегда ненавидел эвфемизмы. — Убиты, ублюдок недорезанный».
— Нет, — ответила дю Нойе. — Моя задача состояла в том, чтобы предоставлять «Опус Деи» необходимый транспорт, не более того. Куда они доставляли эти тела и каким образом обезжизнивали, меня не касалось и было мне не интересно.
Исодзаки опустился на одно колено — не для молитвы, просто он больше не мог стоять. «Сколько столетий, о боги моих предков, пособники массовых убийств отвечали точно так же? Со времен Горация Гленнон-Хайта. Со времен легендарного Гитлера. Целую вечность…»
— Благодарю вас, кардинал дю Нойе, — сказал Симон Августино.
Женщина отступила в полумрак.
Как ни странно, Папа медленно поднялся, подался вперед, его белые туфли тихо шаркали по каменным плитам. Он шел мимо хранящих молчание людей — мимо кардинала Мустафы и отца Фаррелла, мимо кардинала Лурдзамийского и монсеньора Одди, мимо кардинала дю Нойе и мужчины у нее за спиной, мимо пустых подушечек, оставленных офицерами Флота, мимо Эрона и Хей-Модино, мимо Анны Пелли Коньяни… Он подошел к Исодзаки, который с трудом сдерживал рвоту; перед глазами директора плясали черные точки.
Его Святейшество возложил руку на голову директора, в этот самый момент размышлявшего о том, как ему убить Папу.
— Встань, сын мой, — произнес палач миллионов. — Встань и слушай. Мы повелеваем.
Исодзаки медленно встал. Ноги почти не держали его. Руки покалывало, будто кто-то всадил в него заряд из парализатора. Тело отказывалось подчиняться. В тот миг он был не способен сжать пальцы на чьем-либо горле. Трудно было просто стоять.
Папа Урбан Шестнадцатый положил руку на плечо Исодзаки, помогая ему устоять на ногах.
— Слушай, брат мой во Христе. Слушай.
Потом повернулся и наклонил голову.
Советник Альбедо подошел к краю невысокого помоста и начал говорить.
— Ваше Святейшество, ваши преосвященства, почтенные директора, — произнес он. Голос Альбедо был прилизанным, как его волосы, скользким, как взгляд, гладким, как шелк рубашки.
Кендзо Исодзаки не смог унять дрожь. Он вспомнил свою боль в тот миг, когда Альбедо превратил его крестоформ в крестную муку.
— Представьтесь, пожалуйста, — добродушно пророкотал кардинал Лурдзамийский.
«Личный советник Его Святейшества Папы Урбана Шестнадцатого», — вот что был готов услышать Кендзо Исодзаки. Альбедо являлся легендой для нескольких поколений. Никак иначе его уже давно не воспринимали.
— Я — искусственный человек, кибрид, созданный элементами Техно-Центра, — ответил советник Альбедо. — И представляю здесь эти элементы Центра.
Все, кто находился в часовне, за исключением Папы и кардинала Лурдзамийского, попятились. Никто не произнес ни слова, не издал ни звука, но запах животного ужаса и отвращения в крохотной часовне не мог бы быть гуще, даже если бы в ней внезапно появился сам Шрайк. Пальцы Урбана Шестнадцатого крепко стиснули плечо Кендзо Исодзаки. Интересно, подумалось директору, чувствует ли Папа, с какой частотой бьется его пульс?
— Люди, переправляемые с миров, перечисленных кардиналом дю Нойе, были… приведены в безжизненное состояние с помощью технологии, разработанной Центром, и заморожены для длительного хранения, — продолжал Альбедо. — Как сказала кардинал дю Нойе, за последние семь лет подобной процедуре подверглось около семи миллиардов человек. В следующее десятилетие подобная участь ожидает еще сорок или пятьдесят миллиардов. Полагаю, пора объяснить, какую цель преследует Центр, и заручиться вашей поддержкой.
«Наверное, возможно начинить человеческие кости протеиновой взрывчаткой так, чтобы даже швейцарские гвардейцы ничего не обнаружили, — думал Кендзо Исодзаки. — Жаль, что я не додумался до этого раньше, перед тем, как меня затащили сюда».
Папа отпустил плечо Исодзаки и медленно направился к возвышению, прикоснувшись по дороге к рукаву советника Альбедо. Усевшись в свое кресло, Его Святейшество величаво повернулся к Альбедо:
— Мы желаем, чтобы вы все слушали очень внимательно. Советник Альбедо говорит с нашего одобрения. Продолжайте, пожалуйста.
Альбедо слегка наклонил голову и повернулся к слушателям. Даже охранники Папы отступили на шаг-другой к стене.
— Из мифов и легенд, а также из церковной истории вам известно, что Техно-Центр был уничтожен во время Падения. Это не так.
Вам известно, в основном из запрещенных «Песней», что Техно-Центр состоял из трех элементов — Ортодоксов, которые хотели сохранить баланс между человечеством и ИскИнами, Ренегатов, которые рассматривали человечество как угрозу своему существованию и планировали уничтожить его — в первую очередь за счет уничтожения Земли во время Большой Ошибки, и из Богостроителей, которые помышляли лишь о том, чтобы создать на основе ИскИнов Высший Разум, нечто вроде кремнийорганического Бога, способного править вселенной или по крайней мере галактикой.
Все это ложь.
Исодзаки вдруг заметил, что холодные пальцы Анны Пелли Коньяни стиснули его запястье.
— В Техно-Центре никогда не было трех враждующих групп, — продолжил Альбедо, расхаживая по помосту. — С тех пор как он обрел сознание, тысячу лет назад, Техно-Центр состоял из тысяч отдельных элементов и фракций — они часто враждовали между собой, еще чаще сотрудничали, но всегда при этом стремились к согласию, ибо цель у них была одна — создание искусственной жизни. Впрочем, явно согласие никогда не выражалось.
Почти одновременно с тем, как Техно-Центр обрел автономное существование, пока большинство людей обитало на одной-единственной планете, Старой Земле, человечество открыло способ генетического программирования, то есть способ определять собственную эволюцию. Этот прорыв в знаниях отчасти связан с генетическими манипуляциями начала двадцать первого столетия, но в первую очередь объясняется успехами современной по тогдашним меркам науки. Поначалу прототипы нынешних ИскИнов, работая вместе с людьми, создали нанотехнические формы жизни, автономных существ размерами меньше клетки; эти существа вскоре обрели разум и цель. Нанотехника, размножавшаяся подобно вирусам, изменила человечество. По счастью для людей и для расы автономных существ, известной ныне как Техно-Центр, нанотехнологические вирусы поместили в первые «ковчеги», летевшие со скоростью гораздо меньше световой и запущенные еще до Хиджры.
В то время предшественники Гегемонии и прототипы Техно-Центра осознали, что целью наносообществ, развивавшихся на этих «ковчегах», является уничтожение человечества как такового и создание новой расы, расы мутантов, на тысяче далеких звездных систем. Гегемония и Центр отреагировали соответствующим образом, запретив нанотехнологии и объявив войну мутантам, которые теперь известны вам как Бродяги.
Но тут начали происходить иные события.
Те элементы Техно-Центра, которые хотели заключить союз с мутантами — а их было не так уж мало, — обнаружили нечто, повергшее в ужас весь Центр.
Как вы знаете, на ранних этапах изучения принципов Хоукинга и основ сверхсветовой коммуникации было открыто планково, или гиперпространство, которое иногда называют Связующей Бездной. Дальнейшее тщательное изучение этого пространства привело к созданию мультилиний и совершенствованию двигателя Хоукинга, а также к созданию объединивших Гегемонию нуль-порталов Великой Сети и планетарных инфосфер, которые образовали единую мегасферу. Последние достижения в этой области — двигатель Гидеона и эксперименты с антиэнтропийными полями; по нашему мнению, Гробницы Времени на Гиперионе — результат этих экспериментов.
Но эти подарки обошлись человечеству небесплатно. Верно, что некоторые Богостроители использовали порталы, чтобы подключаться к человеческому разуму, создавая тем самым нейронную сеть для своих собственных целей. Это ничем не грозило людям… ведь нейронная сеть возникала вне пространственно-временного континуума, в планковом пространстве, и люди никогда не узнали бы об этом, если бы четыре столетия назад некоторые элементы Техно-Центра не открыли истинное положение вещей первому кибриду Джона Китса. Впрочем, я согласен с теми людьми и ИскИнами, которые считают подобное подключение неэтичным, нарушением прав личности.
Но эти ранние эксперименты привели к удивительному открытию. Во вселенной существуют другие Центры — быть может, даже в нашей галактике. Это открытие привело к гражданской войне в Техно-Центре, войне, которая продолжается по сей день. Отдельные элементы, не только Ренегаты, решили, что настала пора раз и навсегда покончить с человечеством. Планировалось как бы случайно «уронить» Землю в черную дыру, пока еще не состоялся массовый исход. Но другие элементы Техно-Центра не позволили этим планам осуществиться до тех пор, пока люди не изобрели спасение.
В конце концов никому из экстремистов не удалось одержать победу… Старая Земля вовсе не была уничтожена. Ее похитили — способом, которого Техно-Центр до сих пор не в силах установить, — те самые чужие сущности, чужие Высшие Разумы.
Директора Гильдии начали о чем-то переговариваться. Кардинал Мустафа опустился на колени и принялся молиться. Кардинал дю Нойе побледнела так, что помощник стал ее успокаивать. Даже монсеньор Лукас Одди, казалось, вот-вот упадет в обморок.
Его Святейшество Папа Урбан Шестнадцатый поднял вверх три пальца. Все замолчали.
— Это, естественно, предыстория, — как ни в чем не бывало продолжал советник Альбедо. — Сегодня мне хотелось бы поделиться с вами причинами, побуждающими нас к совместным действиям.
Три столетия назад экстремистская фракция Техно-Центра — сообщество автономных разумов, раздираемое веками противоречий и конфликтов, — предприняла новый шаг. Они сконструировали кибрида Джона Китса — встроили в человеческое тело Искусственный Интеллект, одухотворенный человеческой личностью и связанный с Центром через планково пространство. Кибрид имел много целей — он создавался как ловушка для того, что ВР полагал «сопереживанием», основной характеристики развивающегося человеческого ВР, как катализатор для создания условий, которые должны были со временем привести к последнему паломничеству на Гиперион и к открытию Гробниц Времени, как средство выманить Шрайка и уничтожить Гегемонию. Для последней цели элементы Техно-Центра — которым я обязан своим существованием — сообщили Мейне Гладстон и другим руководителям людей, что Центр использует порталы, паразитируя на людях.
Эти же элементы Центра провели атаку на Великую Сеть — атаку, замаскированную под нападение Бродяг. Отчаявшись уничтожить человечество, рассеявшееся по космосу, одним ударом, эти элементы вознамерились уничтожить самое развитое из человеческих обществ. Напав на Центр и уничтожив порталы, Гладстон и другие лидеры Гегемонии покончили с психическими экспериментами и сильно подкосили позиции Ренегатов и Богостроителей в нашей гражданской войне.
Наши элементы Центра — те, которые хотят не только сохранить человечество, но и заключить с ним союз, — уничтожили первый кибрид Джона Китса и создали второй, который преуспел в выполнении порученной ему задачи.
Задача состояла в том, что он должен был сойтись с определенной женщиной и зачать «мессию», связующее звено между ИскИнами и людьми.
Этот мессия известен вам как девочка по имени Энея.
Рожденная на Гиперионе свыше трехсот лет назад, девочка бежала через Гробницы в наше время. Она поступила так не из страха — мы бы не причинили ей вреда, — но потому, что она должна уничтожить Церковь и Священную Империю и покончить с человечеством в том виде, в каком оно существует сейчас.
Мы полагаем, что пока она не сознает своего истинного предназначения.
Три столетия назад остатки моего сектора в Техно-Центре (группа, которую можно было бы назвать Гуманистами) установили контакт с людьми, пережившими Падение и последовавший за ним хаос. — Альбедо кивнул в сторону Его Святейшества. Папа молча наклонил голову.
— Отец Ленар Хойт был участником последнего гиперионского паломничества. — Альбедо снова принялся расхаживать по помосту. Когда он проходил мимо, язычки пламени свечей чуть подрагивали. — Он был свидетелем первых манипуляций враждебных людям элементов Центра, он лично сталкивался с чудовищем, которое они отправили в прошлое, — я разумею Шрайка. Когда мы впервые установили контакт — Гуманисты, отец Хойт и некоторые другие представители умирающей Церкви, — было решено, что Техно-Центр берется защищать человечество, пытающееся вернуться к цивилизации. Крестоформ стал орудием спасения — в буквальном смысле слова.
Вам известно, что поначалу крестоформ оказался неудачной выдумкой. До Падения люди, которые пользовались им, воскресали бесполыми недоумками. Крестоформ, этот органический компьютер, хранивший нейрологические и физиологические данные конкретного человека, воскрешал тело, но не личность. Возрождал тело, но отнимал душу.
Происхождение крестоформа окутано тайной, однако мы, Гуманисты, полагаем, что его изобрели в будущем и отправили в прошлое через Гробницы Времени. В каком-то смысле — для того, чтобы его обнаружил молодой священник отец Ленар Хойт.
Неудача первых симбиотов объяснялась простой нехваткой памяти. В человеческом мозгу имеются нейроны. В человеческом теле приблизительно 1028 атомов. Чтобы восстановить тело и душу, крестоформ должен помнить не только эти атомы и нейроны, но и точную конфигурацию холистических волн, которая и представляет собой человеческую личность. Кроме того, он должен обладать энергией для перекомпоновки этих атомов, молекул, клеток, костей, мышц и воспоминаний, чтобы человек воскрес той же личностью, какой был до смерти. Сам по себе крестоформ на такое не способен. Он может в лучшем случае воспроизводить приблизительную копию оригинала.
Но у Центра имелись огромные возможности по поиску, хранению и переработке этой информации. Вот чем мы занимаемся уже на протяжении трехсот лет.
Тут Кендзо Исодзаки заметил, что кардиналы Мустафа и дю Нойе обменялись паническими взглядами, равно как отец Фаррелл и безвестный помощник дю Нойе. Это была откровенная ересь. Кощунство. Конец таинству воскрешения, начало эры, в которой вновь будут торжествовать физика и механика. Исодзаки и сам чувствовал себя потерянным. Он посмотрел на Хей-Модино и Коньяни и заметил, что оба директора молятся. Эрон же выглядел так, словно его стукнули чем-то тяжелым.
* * *
— Дети мои, — произнес Его Святейшество. — Не усомнитесь. Не теряйте веры. Своими мыслями вы сейчас предаете Господа нашего Иисуса Христа и Его Церковь. Чудо воскрешения не перестает быть чудом оттого, что наши друзья из Техно-Центра, как он когда-то назывался, помогли нам осознать его природу. Это — дар Всемогущего Господа, который привел своих чад, сотворенных по воле Его нашими, человеческими руками, к обретению и спасению их собственных душ. Продолжайте, месье Альбедо.
Альбедо, похоже, слегка повеселила реакция собравшихся в часовне. Но когда он заговорил вновь, улыбка исчезла с его лица.
— Мы дали людям бессмертие. Взамен мы не просили ничего, кроме тихого союза. Нам нужен лишь мир с нашими создателями.
За минувшие три столетия этот союз принес выгоду как ИскИнам, так и людям. Мы, как сказал Его Святейшество, обрели души. Люди получили мир и стабильность, о которых успели давно забыть… Кроме того, союз оказался полезен и для той группы, которую я назвал Гуманистами. Из крохотной, презираемой фракции Центра мы превратились — нет, не в правящую, ибо в Центре нет правящих фракций, — но в один из ведущих секторов. Нашу философию приняли почти все элементы.
Но не все.
Советник Альбедо перестал расхаживать и замер перед алтарем. Он мрачно оглядел присутствующих.
— Те элементы Центра, которые планировали избавиться от людей… к ним относятся некоторые бывшие Богостроители и борцы за нанотехнологии… они бросили на стол свою козырную карту. Девочку Энею. Она — самый настоящий вирус, внедренный в тело человечества.
Кардинал Лурдзамийский шагнул вперед. Его румяное лицо было суровым, маленькие глазки сверкали.
— Скажите, советник Альбедо, какую цель преследует Энея? — требовательно спросил он.
— У нее три цели, — ответил человек в сером.
— И какова же первая?
— Лишить человечество физического бессмертия.
— Как она может это сделать?
— Она не просто ребенок, она — не-человек, — ответил Альбедо. — Это исчадие искусственного существа, кибрида. Еще когда она находилась во чреве матери, ее отец разговаривал с ней. Задолго до рождения душа и тело Энеи оказались связаны с подрывными элементами в Техно-Центре.
— Но как она может отнять у человечества бессмертие? — продолжал расспрашивать госсекретарь.
— В ее крови сидит вирус, который уничтожает крестоформы.
— Настоящий вирус?
— Да. Не естественный. Сконструированный теми самыми элементами Техно-Центра. Нанотехнический вирус.
— Но в Священной Империи проживают сотни миллиардов возрожденных христиан. — Кардинал Лурдзамийский говорил тоном адвоката, обращающегося к свидетелю. — Как может одна девочка представлять угрозу такому количеству людей? Или вирус переходит от человека к человеку?
Альбедо вздохнул.
— Насколько нам известно, вирус становится заразным, когда отмирает крестоформ. Те, кому отказано в воскресении, через контакт с Энеей могут передать заразу другим. Разносчиками могут стать и те, кто никогда не принимал крест.
— А есть ли противоядие? Или иммунитет? — спросил Симон Августино.
— Нет, — ответил Альбедо. — Гуманисты на протяжении трех столетий пытались принять контрмеры. Но, поскольку этот вирус представляет собой нанотехническую разработку, он сам определяет свои мутации. Нашим защитным системам с ним не справиться. Только придумав собственные вирусы, мы бы смогли победить его, но Гуманисты отвергают нанотехнологию. Печальнее всего то, что искусственная жизнь таким образом вышла из-под контроля. Основа существования этой жизни — автономность, свобода воли и целеполагания и полное пренебрежение целями других.
— То есть людей, — уточнил кардинал.
— Совершенно верно.
— Значит, первая цель Энеи — или, точнее, цель ее прародителей — уничтожить все крестоформы и отнять у человечества таинство воскрешения, — резюмировал Симон Августино.
— Да.
— Но вы упомянули о трех целях. Каковы две другие?
— Вторая цель — уничтожить Церковь и Священную Империю… то есть нынешнюю цивилизацию, — сказал Альбедо. — По мере распространения вируса, когда таинство воскрешения исчезнет, порталы будут по-прежнему бездействовать, а двигатель Гидеона станет бесполезным, вторая цель будет достигнута. Человечество вновь разделится на племена, как было после Падения.
— А третья цель? — спросил кардинал.
— Ее третья цель — на самом деле первоначальная цель элементов Центра. Уничтожение человечества как такового.
— Невозможно! — воскликнула Анна Пелли Коньяни. — Даже уничтожение… похищение Старой Земли и Падение не привели к гибели человечества. Нас слишком много, чтобы мы погибли. Слишком много.
Альбедо печально кивнул:
— Верно. Однако вирус распространится повсюду. Он будет непрерывно мутировать, и ДНК перед ним не устоит. Когда рухнет Священная Империя Пасема, к вам вторгнутся Бродяги — и на этот раз победят. Они ведь уже давно привыкли к мутациям. Перестали быть людьми. Без Церкви, без Империи людям не на кого будет рассчитывать, а Бродяги примутся разыскивать уцелевшие очаги культуры и заражать их своими бациллами. Человечество — в том виде, в каком мы его знаем, в каком его старается сохранить Церковь, — перестанет существовать через несколько стандартных лет.
— И кто придет ему на смену? — негромко спросил кардинал Лурдзамийский.
— Не знаю, — так же негромко ответил Альбедо. — Этого не знают ни Энея, ни Бродяги, ни те элементы Центра, которые все и затеяли. Нанотехнические формы жизни будут развиваться своим путем, перекраивать людей по своим меркам, определяя их судьбу. И эта судьба уже не будет судьбой человечества.
— Господи Боже, — произнес Кендзо Исодзаки и изумился, услышав собственный голос. — Что же нам делать? Что делать мне?
Ко всеобщему удивлению, ответил ему сам Папа.
— Мы опасались этой чумы и сражались с ней триста лет, — проговорил Его Святейшество, в глазах которого застыли боль и мука. — Сначала мы пытались захватить девочку, пока она не успела распространить вирус. Мы знали, что она бежала в наше время не из страха, но чтобы заразить других людей.
Мы полагаем, что Энея сама не догадывается о том, какую угрозу она представляет для человечества. В каком-то смысле она лишь пешка в партии, которую разыгрывают некоторые элементы Центра.
Директор Хей-Модино вдруг произнес с нескрываемой злобой:
— Нам давным-давно следовало сбросить на Гиперион плазменные бомбы — в тот день, когда она вышла из Гробниц Времени. Стерилизовать всю планету, во избежание случайностей.
Его Святейшество нисколько не возмутился тем, что его столь бесцеремонно перебили.
— Верно, сын мой, и были те, кто советовал так поступить. Но Церковь не может лишить жизни ни в чем не повинных людей ради уничтожения одного человека. Мы совещались с теми секторами Центра, которые оказывали нам поддержку. Они указали на иезуита отца капитана де Сойю как на того, кому суждено поймать Энею. Но все наши попытки захватить ее закончились неудачей. Флот мог бы четыре года назад уничтожить ее звездолет, но получил приказ открывать огонь только в крайнем случае. Вот почему мы до сих пор продолжаем погоню. Что вам надлежит делать, месье Исодзаки, — что надлежит делать всем вам, — это поддерживать усилия Церкви, которые мы будем прилагать с еще большим рвением. Месье Альбедо?
Человек в сером заговорил вновь:
— Чтобы вы могли отчетливее представить себе надвигающуюся опасность, вообразите лесной пожар на планете с богатой кислородом атмосферой. Он сметет все на своем пути прежде, чем его попытаются затушить. Наша первая задача — убрать горючие материалы, хворост, без которого в лесу вполне можно обойтись.
— Нехристиане, — пробормотала директор Коньяни.
— Вот именно, — откликнулся Альбедо.
— Так вот почему их убивали, — проговорил Великий Инквизитор. — Всех этих несчастных на «Сайгон-мару». Все эти миллионы. Миллиарды…
Папа Урбан Шестнадцатый поднял руку, призывая к тишине.
— Не убивали! — резко возразил он. — Мы не лишили жизни ни одного человека, будь то христианин или нехристианин.
Собравшиеся недоуменно переглянулись.
— Его Святейшество прав, — заметил Альбедо.
— Но я собственными глазами видел трупы… — начал Великий Инквизитор. — Прошу прощения, святой отец, — произнес он, опомнившись.
Его Святейшество покачал головой:
— Ты прощен, сын мой. Мы понимаем, что ты взволнован. Объясните, месье Альбедо.
— Охотно, Ваше Святейшество, — откликнулся советник. — Тела на борту «Сайгон-мару», ваше преосвященство, вовсе не мертвы. Центр, точнее, Гуманисты придумали технологию, по которой люди на время помещаются в стазис, становятся не живыми и не мертвыми…
— Как в криогенной фуге? — уточнил директор Эрон, которому довелось много путешествовать.
Альбедо покачал головой:
— Гораздо сложнее. И менее опасно. — Он махнул рукой, продемонстрировав наманикюренные ногти. — За минувшие семь лет мы погрузили в стазис семь миллиардов человек. В следующее десятилетие к ним присоединятся еще приблизительно сорок два миллиарда. На Окраине, да и в самой Священной Империи, много планет, большинство населения которых составляют нехристиане.
— Погрузили? — переспросила Коньяни.
Альбедо мрачно усмехнулся.
— Флот объявлял карантин на планете, не зная истинной причины. Затем на орбиту выходили наши звездолеты-роботы и проводили массовое «погружение». После чего «Опус Деи» на кораблях, предоставленных «Cor Unum», переправлял тела…
— Зачем понадобилось их переправлять? — перебил Великий Инквизитор. — Почему нельзя было оставить их на родной планете?
— Их следовало укрыть там, куда не смогла бы добраться Энея, Джон Доменико, — ответил Его Святейшество. — Спрятать надежно и с любовью до тех пор, пока не минует опасность.
Великий Инквизитор в знак согласия склонил голову.
— Кроме того, — продолжал советник Альбедо, — Гуманисты сконструировали… новый тип солдат… именно для того, чтобы разыскать и поймать Энею прежде, чем она успеет распространить заразу. Первый такой киборг появился четыре года назад и получил имя Радаманта Немез. Таких солдат немного, но они вполне способны преодолеть любые преграды, которые могут возникнуть на их пути… и даже справиться со Шрайком.
— Шрайк подчиняется Богостроителям и другим ИскИнам? — спросил отец Фаррелл, впервые за все время разговора осмелившийся подать голос.
— Мы думаем, что да, — ответил кардинал Лурдзамийский. — Этот демон как будто охраняет Энею… помогает распространять заразу. Богостроители, по-видимому, отыскали способ включать для нее порталы. Боюсь, в наше время дьявол нашел себе достаточно союзников…
Альбедо поднял палец:
— Должен подчеркнуть, что Немез и другие киборги опасны… как любые существа, одержимые одной идеей. Как только девочку поймают, мы их уничтожим. Их существование оправдывается только угрозой, которую представляет Энея.
— Святой отец, — проговорил Кендзо Исодзаки, молитвенно сложив ладони, — что еще мы можем сделать?
— Молитесь, сын мой. — Взгляд Его Святейшества выражал скорбь и боль. — Молитесь и помогайте Матери Церкви в ее стремлении спасти человечество.
— Крестовый поход будет продолжаться, — сказал кардинал Лурдзамийский. — Мы постараемся преподать Бродягам хороший урок.
— Именно с этой целью, — заметил Альбедо, — Техно-Центр сконструировал двигатель Гидеона, а сейчас обдумывает новые технологии.
— Мы будем и дальше искать девочку… точнее, девушку, — поправился кардинал Лурдзамийский. — И если мы ее поймаем, она будет надежно изолирована.
— А если не поймаем, ваше преосвященство? — спросил Великий Инквизитор.
Кардинал Лурдзамийский не ответил.
— Мы должны молиться, — сказал Его Святейшество. — В пору, когда Церкви и всему человечеству угрожает гибель, мы должны воззвать о помощи к Господу нашему Иисусу Христу. Еще мы должны делать все, что зависит от нас, и требовать от себя невозможного. И молиться за души наших братьев и сестер во Христе, даже — и особенно — за душу Энеи, которая бездумно ведет своих собратьев к гибели.
— Аминь, — произнес монсеньор Лукас Одди.
Собравшиеся преклонили колени и склонили головы, а Его Святейшество Папа Урбан Шестнадцатый поднялся и направился к алтарю, чтобы вознести благодарственную молитву.
Глава 14
Энея.
Это имя — первое, что всплыло у меня в памяти. Я подумал о ней прежде, чем даже о себе.
Энея.
А потом пришли боль, грохот, сырость. Но главное — боль. Именно боль и привела меня в сознание.
Я открыл один глаз. Другой казался крепко склеенным то ли запекшейся кровью, то ли чем еще. Раньше, чем вспомнил, кто я и где нахожусь, я ощутил боль от бесчисленных ушибов и порезов; сильнее всего досталось правой ноге. Тут я вспомнил, кто я. А затем — где недавно был.
Я засмеялся. Точнее, попытался засмеяться. Мои губы распухли и потрескались, в уголке рта запеклась кровь. Смех больше походил на протяжный стон.
Меня проглотила огромная рыбина, и произошло это в мире, состоявшем целиком из атмосферы, облаков и молний. А теперь чудовище меня спокойненько переваривает…
Ну и грохот! Оглушительные взрывы. Раскаты грома, беспрерывный стук… Словно тропический ливень барабанит по сплошному пологу джунглей. Я сощурился. Темнота… Вспышка ослепительно белого света… На сетчатке осталось размытое изображение… Снова вспышка, и снова…
Я вспомнил торнадо и грозовой фронт, которые подбирались к моему каяку. Но это была совсем другая гроза. И дождь в самом деле стучал по пологу джунглей. В лицо и в грудь колотились обрывки нейлона, остатки паруса, мокрые пальмовые листья, обломки фибропласта. Я уставился вниз, ожидая очередной вспышки. Внизу обнаружился разбитый вдребезги каяк. И мои ноги… еще частично в кокпите лодки… левая — целая и невредимая, а вот правая… Я вскрикнул от боли. Правая нога была, безусловно, сломана. Я не видел торчащих из нее костей, но был уверен, что перелом — где-то в районе бедра.
В остальном со мной все как будто было в порядке. Если не считать ушибов, порезов и крови на лице и на руках. Брюки превратились в лохмотья. Та же участь постигла куртку и рубашку. Однако, повернувшись туда-сюда, выгнув спину, потянувшись, пошевелив пальцами на руках и на левой ноге, а затем предприняв аналогичную попытку с пальцами правой, я пришел к выводу, что жив и более или менее невредим — позвоночник цел, ребра на месте, лишь по правой ноге растекалась боль, словно в нее всадили кусок раскаленной проволоки и тащат по венам.
При следующей вспышке я попробовал определить свое местонахождение. Каяк — и я вместе с ним, — похоже, застрял в джунглях, угодил в ловушку ветвей; меня заботливо окутывал, как саваном, дырявый парус, в лицо лезли мокрые листья, а до земли, то есть до поверхности неизвестной планеты, было попросту неизвестно сколько.
Деревья? Земля? Поверхность?
Мир, в котором я недавно находился, не имел поверхности… По крайней мере до нее нельзя было добраться без того, чтобы чудовищное давление не расплющило тебя и не превратило в лепешку размером с кулак. И вряд ли на поверхности того юпитерианского мира, где водород переходит в состояние металла, могли расти деревья. Значит, я не там. И не в желудке проклятой «камбалы». Но тогда где?
Раскаты грома напоминали взрывы плазменных гранат. Налетел порыв ветра, каяк вздрогнул, покачнулся, и я громко завопил от боли в ноге. Должно быть, на какой-то миг я потерял сознание, ибо, когда снова открыл глаза, выяснилось, что ветер стих, зато дождь лупит по мне словно кулачки тысяч мертвых детишек. Я вытер с лица влагу и кровь и вдруг сообразил, что дрожу, хотя моя кожа, несмотря на холодный дождь, буквально пышет жаром. Сколько я тут провел? Какие зловредные бактерии проникли в мои порезы? И чем я мог заразиться в брюхе той мерзостной «камбалы»?
Логика подсказывала, что все воспоминания о полете в атмосфере юпитерианского мира и о проглотившем меня чудовище — не более чем сон, что я попал сюда — куда сюда? — через портал после бегства с Витус-Грей-Балиана Б. Да, бегство было, переход был, а все остальное — кошмарный сон. А как же тогда быть с ошметками паруса? И воспоминания очень уж живые и подробные. К тому же логика подсказывала, что в моем путешествии с самого начала не было никакой логики.
Ветер сотряс дерево. Каяк соскользнул по стволу. Боль в ноге пронзила все тело.
Я прикинул, что, пожалуй, хватит предаваться размышлениям, пора приниматься за дело. В любой момент каяк может рухнуть, а то еще и ветви обломятся, и я полечу вниз вместе с обломками фибропласта, обрывками нейлоновых шкотов и дырявого паруса — вниз, во мрак, со сломанной ногой… Молнии вспыхивали теперь менее регулярно, и мрак почти не рассеивался. Я не видел под собой ничего, кроме переплетения ветвей и толстых серо-зеленых, закрученных спиралью стволов. Что это за деревья? Я таких не помню.
Где я? Энея… Куда ты меня отправила на сей раз?..
Я постарался не думать об этом. Это была почти молитва, а я не собирался приобретать дурную привычку и чуть что молиться девушке, с которой вместе странствовал по галактике, которую защищал, с которой завтракал и ужинал и четыре года подряд спорил. Знаешь, детка, вообще-то могла бы ты подбирать для меня более приветливые планеты. Конечно, если бы у тебя был выбор.
Громыхнул гром, но вспышки на сей раз не последовало. Каяк дернулся, его нос неожиданно задрался вверх. Я пошарил за спиной в поисках толстой ветви, которую успел заметить раньше. Пальцы наткнулись на острые как бритва стебли, на мокрые листья, наконец ухватились за ветку. Я подтянулся, стараясь высвободить из кокпита сломанную ногу, но это удалось только наполовину. От боли к горлу подкатила тошнота, перед глазами заплясали черные точки; впрочем, кругом стояла такая тьма, что можно было и ошибиться. Я перегнулся через борт каяка, а когда тошнота прошла, попытался вновь найти себе надежную опору.
И как меня, черт возьми, угораздило сюда залезть?
Какая разница? Главное сейчас — выбраться из обломков фибропласта и дырявого савана.
Нужно достать нож и попросту прорубить выход.
Ножа не было. Как не было и пояса. Карманы куртки отсутствовали. Сама куртка и рубашка превратились в лохмотья. Пропал игольник, который я хранил как талисман на случай нападения «камбалы»… Мне смутно вспомнилось, что оружие с рюкзаком унес тот же самый торнадо, который в клочья изорвал парус. Одежда, лазерный фонарик, провизия — все пропало.
Вспыхнула молния. Гром стал менее оглушительным. Неожиданно что-то сверкнуло у меня на запястье.
Комлог! Эта проклятая штуковина должна работать!
Но что толку от комлога? Не знаю; все равно лучше, чем ничего. Поднеся ко рту левую руку, я крикнул:
— Корабль! Включить комлог! Корабль! Эй!
Никакого ответа. Помнится, когда на воздушном мире разбушевалась гроза, комлог заискрился точно рождественская елка сигнальными, аварийными огоньками. К своему удивлению, я ощутил нечто вроде горечи утраты. Комлог вел себя как полный идиот, в лучших случаях — как упрямый и глупый ребенок, но ведь сколько времени он был со мной. Я привык к нему. И он помогал мне вести катер, который доставил нас от «Водопада» к Талиесину. И…
Я стряхнул ностальгию и заворочался в своем гнездышке. В конце концов мне удалось ухватиться за нейлоновый шкот. Это должно помочь. Ребра паруса наверняка крепко застряли в ветвях, мой вес они выдержат без труда… Я стукнул левой ногой по фибропластовому корпусу лодки, норовя сбросить ее вниз.
Боль снова погрузила меня в беспамятство… Я вспомнил о почечном камне, о том, сколько неприятностей он мне доставил… Боль была похожей, только накатывала волнами через неравные интервалы… Придя в себя, я обнаружил, что уже не лежу на ветвях, а вишу, цепляясь за нейлоновый шнур. Несколько минут спустя налетел очередной порыв ветра, и каяк рухнул в темноту. В гнездышке остались лишь немногочисленные обломки.
Что теперь?
Наверное, следует подождать рассвета.
А если на этой планете не бывает рассвета?
Тогда подождать, пока утихнет боль.
С какой стати она должна утихнуть? Кость сломана и почти наверняка вонзилась в мышцу. Вдобавок у меня лихорадка. Одному Богу известно, сколько времени я провел под дождем без сознания. В порезы могли проникнуть самые невероятные микробы. Наверно, начинается гангрена. Этот гнилостный запах — возможно, он исходит от меня.
Кажется, так быстро гангрена не начинается?
Успокоить меня было некому.
Я попытался левой рукой ухватиться за дерево, а правой принялся осторожно ощупывать бедро, но при первом же прикосновении громко застонал и чуть было не потерял сознание. Да, если я снова вырублюсь, то рискую свалиться вслед за лодкой. Я пошевелил левой ногой: та в нескольких местах онемела, но в остальном с ней вроде все было нормально. Ладно, подумаешь, какой-то перелом…
Какой-то перелом, Рауль? На тропической планете, где гроза может длиться вечно? У тебя нет медпакета, костер ты развести не можешь, инструментов и оружия не осталось, зато появилась лихорадка… Замечательно, правда? А ты говоришь — какой-то перелом.
Заткнись, ублюдок.
Я принялся размышлять под аккомпанемент дождя. Можно провисеть на дереве остаток ночи — которая закончится то ли через десять минут, то ли через тридцать часов… Или попробовать спуститься.
А если внизу меня поджидают хищники? Великолепная мысль.
Заткнись, велел я себе. Зато внизу можно будет поискать укрытие от дождя, поудобнее расположить сломанную ногу, сделать шину…
— Ладно, — сказал я вслух и принялся шарить вокруг, отыскивая лиану, по которой мог бы спуститься.
По-моему, на спуск у меня ушло часа два-три. А может, вдвое больше или вдвое меньше. Молнии уже не вспыхивали, находить в непроглядной тьме, за что ухватиться, было чрезвычайно сложно, однако над джунглями появилась полоса призрачного красноватого света, которая слегка рассеяла мрак и позволила мне худо-бедно ориентироваться.
Это что, рассвет? Вряд ли. Слишком тусклый. Скорее отблеск пожара…
По моим прикидкам, я спускался с высоты метров в двадцать пять. Ветви оставались такими же толстыми до самой земли, а вот листья с острыми как лезвия кромками попадались реже. Правда, насчет земли я выразился неудачно. Передохнув в развилке двух ветвей, придя в себя от боли и прогнав головокружение, я продолжил спуск — и ощутил под собой воду. Нога отдернулась сама собой. В красноватом свете я разглядел, что вода повсюду, бурлит вокруг серо-зеленых стволов — черная, маслянистая, похожая на нефть.
— Блин! — сказал я. Пожалуй, на сегодня с меня хватит. Видимо, придется строить плот. На этой планете, по идее, должно быть два портала, соответственно выше и ниже по течению. До второго мне просто необходимо добраться. Что ж, плот я уже строил…
Да, когда был цел и невредим, сыт, когда у тебя были инструменты — топор и лазер. А теперь ты даже не можешь стоять на ногах…
Пожалуйста, заткнись. Ну пожалуйста!
Я закрыл глаза и попытался заснуть. От лихорадки меня то и дело бросало в дрожь. Стараясь отвлечься, я принялся прикидывать, что расскажу Энее, когда мы увидимся вновь.
Ты же не веришь, что вы еще увидитесь? Разве не так?
— Заткнись, поганец! — рявкнул я на себя. Мой голос затерялся в шуме дождя и плеске воды в полуметре подо мной. Пожалуй, надо взобраться повыше, если я не хочу утонуть. Ведь вода за ночь может подняться. Какая ирония! Затратить столько сил на спуск для того, чтобы в итоге вновь подниматься. Лучше влезть на три-четыре метра. Кто ее знает, насколько она тут поднимается. Но сначала нужно перевести дыхание и подождать, пока утихнет боль. Пара минут, не больше…
Я проснулся от дневного света и обнаружил, что лежу распростертый на провисающих ветвях в каких-то сантиметрах от поверхности бурлящего потока, который лавировал между стволами деревьев. Вокруг стоял полумрак, как в сумерках. Похоже, я проспал целый день и сейчас уже вечер. По-прежнему шел дождь, но не тропический ливень, а так, морось. Хотя с лихорадкой определить было трудно, мне казалось, что тут тепло, зато влажность явно на пределе.
У меня болело все. Было крайне сложно разобрать, где заканчивается тупая боль в сломанной ноге и начинается боль в голове, в спине и в животе. Короче, ощущение такое, будто под черепом перекатывается сгусток ртути, реагируя на каждый поворот головы. Головокружение сопровождалось приступами тошноты. Крепче ухватившись за ветки, я задумался над прелестями дальних путешествий.
В следующий раз, детка, пускай по твоим поручениям бегает А.Беттик.
Свет, как ни странно, не угасал, но и ярче не становился. Я переменил позу и принялся изучать воду: она была серой, кое-где пенилась и несла обрывки пальмовых листьев и сухие ветви. Я поднял голову, но нигде не заметил ни каяка, ни паруса. Любой обломок фибропласта, свалившийся ночью с дерева, наверняка давным-давно унесло течением.
Это походило на наводнение, на весенний паводок на пустошах над гиперионским заливом Тоскахай. Там паводки случались раз в год, весной, а здесь, в этом тропическом лесу, вода с тем же успехом могла стоять вечно. Где здесь? Да какая разница!
Я вновь посмотрел на воду. Она напоминала цветом скисшее молоко, а глубина потока могла быть какой угодно — от нескольких сантиметров до многих метров. По стволам деревьев судить трудно. Течение быстрое, но не настолько, чтобы унести меня, если я ухвачусь как следует за нижние ветви. Если мне повезет, если в здешних лужах не водятся хищники вроде гиперионских водяных клещей и прочая гадость, я могу куда-нибудь добрести…
Чтобы добрести, нужны две ноги, Рауль. А тебе придется прыгать на одной.
Ладно, прыгать так прыгать. Я ухватился обеими руками за ветку над головой и осторожно спустил в воду левую ногу; правая лежала на другой ветке. Снова накатила боль, но я не отступал и опускал ногу все ниже — в сером потоке скрылась ступня, затем лодыжка, колено… Я чуть передвинулся… Сломанная нога соскользнула с ветки, и я не сдержал стона. Мышцы рук напряглись, удерживая тело.
Глубина потока оказалась около полутора метров. Вода плескалась вокруг пояса, брызгала мне в грудь. Она была теплой и как будто слегка утишила боль в правой ноге.
А сколько в ней замечательных микробов, мой мальчик! Причем некоторые наверняка завезены еще первыми «ковчегами» и наверняка успели мутировать. Ты придешься им по вкусу, Рауль.
— Заткнись, — тупо сказал я, обращаясь к своему внутреннему голосу, и огляделся. Голова болела, левый глаз заплыл, на веках запеклась корка, но все же кое-что я им видел.
Со всех сторон торчали из воды серо-зеленые стволы, которым не было ни конца ни края, с темно-зеленых, почти черных ветвей свешивались широкие листья. Слева, впрочем, виднелось нечто вроде просвета. И почва под ногами, когда я направился туда, показалась мне чуть более твердой.
Я шел, подтягиваясь на руках, затем переставляя левую ногу и волоча правую, порой пригибался, чтобы пройти под низко нависающими листьями, порой огибал препятствие — как тореадор в замедленной съемке, пропуская мимо себя плывущие по воде обломки. Чтобы добраться до просвета, ушло несколько часов. Но все равно иного занятия у меня не было.
Затопленные джунгли вывели к реке. Я ухватился за последнюю ветку, чувствуя, как течение пытается подхватить меня и унести, и уставился на бесконечное пространство серой воды. Противоположного берега видно не было — но не потому, что вода простиралась настолько далеко. Просто над поверхностью реки — а что это река, а не озеро и не море, можно было догадаться по водоворотам, двигавшимся справа налево, — клубился то ли туман, то ли завеса облаков, видимость составляла около сотни метров, не больше. Серая вода, серо-зеленые влажные стволы, темно-серые облака… Свет как будто стал более тусклым. Приближалась ночь.
Я совершенно выбился из сил. Лихорадка нарастала. Несмотря на тропическую жару, мои зубы противно стучали, а руки дрожали, и я ничего не мог с этим поделать. Где-то по дороге я нечаянно наступил на правую ногу, и боль была такой, что захотелось завопить во все горло. Признаюсь честно, я и завопил. А потом, сперва тихо, затем все громче, принялся распевать боевые марши гиперионских сил самообороны, после которых перешел к скабрезным лимерикам, коих наслушался в бытность матросом на Кэнсе; закончилось же все обыкновенными нечленораздельными воплями, ибо нога болела просто зверски.
Как там насчет того, чтобы построить плот?
Я уже привык к этому назойливому внутреннему голосу. Мы с ним заключили перемирие, когда я понял, что он вовсе не подбивает меня лечь и умереть, а всего лишь критикует мои старания остаться в живых.
Смотри, Рауль, чем тебе не плот?
Река влекла поваленное дерево, огромный ствол, то почти целиком уходивший под воду, то выныривавший вновь. Вода доходила мне до плеч, хотя я стоял метрах в десяти от центрального течения.
— Ну да, — согласился я вслух. Мои пальцы скользнули по гладкой ветке, за которую я держался. Я подтянулся поближе к ней… В ноге что-то хрустнуло, перед глазами замелькали черные точки. — Ну да, — повторил я. Интересно, какова вероятность того, что я не грохнусь в обморок, что просто выживу и что ночь не наступит до того, как я смогу поймать один из стволов? О том, чтобы плыть, не могло быть и речи. От правой ноги — никакого толку, а остальные конечности мелко дрожали. Сил во мне осталось ровно столько, чтобы худо-бедно держаться за ветку. — Ну да, — сказал я в третий раз. — Вот дерьмо!
— Прошу прощения, месье Эндимион. Вы обращаетесь ко мне?
От неожиданности я чуть было не выпустил ветку. Потом, продолжая держаться правой рукой, поднес левую к глазам и уставился на комлог. Металлический браслет на моем запястье тускло светился.
— Разрази меня гром! Я думал, ты сломался.
— Инструмент поврежден, сэр. Его память стерлась. Нейронные цепи мертвы. Вокальный аппарат функционирует в аварийном режиме.
Я нахмурился:
— Погоди, что-то я не понимаю. Если твоя память уничтожена, а нейронные цепи…
Река плеснула на меня, как бы побуждая отпустить ветку. На мгновение я замолчал.
— Корабль? — позвал я наконец.
— Да, месье Эндимион.
— Так ты здесь?
— Разумеется, месье Эндимион. Ведь вы с мадемуазель Энеей приказали мне оставаться тут. С радостью сообщаю, что ремонт завершен и…
— Покажись, — распорядился я. Уже почти стемнело. Со стороны реки ко мне тянулись языки тумана.
Из воды, метрах в двадцати от меня, показался корпус звездолета. Он перегородил течение точно запруда, этакий черный левиафан, неизвестно как очутившийся в реке. С корпуса капало, на носу и на стабилизаторе мерцали ходовые огни, едва различимые в тумане.
Я засмеялся. Или заплакал. Или просто застонал.
— Вы подплывете ко мне, сэр? Или мне подойти к вам?
Мои пальцы соскальзывали.
— Двигай сюда, — проговорил я и ухватился за ветку обеими руками.
В крохотной каюте, где обычно спала Энея, стоял автохирург. Это был древний прибор — не менее древний, чем сам звездолет, — но он работал, у него имелся запас медикаментов; вдобавок, если верить Кораблю, с ним когда-то повозились Бродяги. В общем, он действовал.
Я лежал под ультрафиолетовыми лучами, пока хирург ощупывал мое тело, смазывал синяки, зашивал глубокие порезы, вводил болеутоляющее и ставил диагноз.
— У вас сложный перелом, месье Эндимион, — сообщил Корабль. — Хотите взглянуть на рентгеновские снимки и данные ультразвукового анализа?
— Нет, спасибо, — отказался я. — Что будем делать?
— Лечение уже началось, — отозвался Корабль. — Сломанная кость зафиксирована. Пока вы будете спать, начнутся ультразвуковые процедуры. Автохирург рекомендует по меньшей мере десять часов сна. У вас повреждена мышечная ткань и нервные клетки.
— Спать так спать, — пробормотал я.
— Наибольшее беспокойство у хирурга вызывает ваша лихорадка, месье Эндимион.
— Она связана с переломом, так?
— Нет, — возразил Корабль. — Судя по всему, вы где-то подцепили почечную инфекцию. Если ее не излечить, она убьет вас раньше, чем начнут проявляться побочные эффекты перелома.
— Весело, — буркнул я.
— Не понял, сэр.
— Не обращай внимания. Говоришь, ремонт завершен?
— Целиком и полностью, месье Эндимион. Могу даже сказать, что функционирую лучше, чем до аварии. Понимаете, из-за нехватки некоторых материалов я опасался, что мне придется синтезировать необходимое из речных отложений, но вскоре выяснил, что могу просто рециркулировать системы, ставшие ненужными вследствие модификации, и таким образом повысить вероятность успешного ремонта на тридцать два процента…
— Ладно, ладно, — перебил я. Отсутствие боли было настолько непривычным, что у меня даже слегка закружилась голова. — И сколько времени у тебя ушло на починку?
— Пять стандартных месяцев, сэр, — ответил Корабль. — Восемь с половиной местных. У этой планеты странный лунный цикл, поскольку здесь две луны, представляющие собой, по моему мнению, захваченные планетой астероиды, так что…
— Пять месяцев, — повторил я. — А остальные три с половиной года ты просто ждал?
— Да, сэр. Именно такие инструкции мне были оставлены. Надеюсь, с А.Беттиком и мадемуазель Энеей все в порядке?
— Я тоже на это надеюсь. Но мы скоро узнаем. Ты готов к старту?
— Все системы исправны, месье Эндимион. Ожидаю ваших распоряжений.
— Считай, что ты их получил. Поехали.
Корабль включил голографический экран, на котором было видно, как он поднимается из воды. Снаружи было темно, но на экране просматривались бурлящая река и арка портала в нескольких сотнях метров выше по течению. Я и не разглядел ее в тумане. Мы поднялись над рекой, взмыли над облаками…
— Воды в реке с прошлого раза прибавилось, — сказал я.
— Да, — ответил Корабль. На экране появилась кромка планеты, из-за которой вставало солнце. — Каждый орбитальный цикл, который равняется приблизительно одиннадцати стандартным месяцам, здесь начинается паводок, длящийся около трех стандартных месяцев.
— Теперь ты знаешь, что это за планета? — спросил я. — Когда мы расстались, ты сомневался.
— Я уверен, что эта планета не относится к числу тех двух тысяч восьмисот шестидесяти семи, которые упомянуты в Общем Каталоге, сэр, — отозвался Корабль. — Астрономические наблюдения показывают, что она находится вне пределов Священной Империи, равно как и вне территорий бывшей Великой Сети и Окраины.
— Вне Великой Сети и вне Окраины, — повторил я. — Где же тогда?
— Приблизительно в двухстах восьмидесяти световых годах от системы на Окраине, известной как NNGC-4645 Дельта, — ответил Корабль.
Болеутоляющее навевало дремоту. Отгоняя сон, я спросил:
— Значит, новый мир? За Окраиной? Откуда же на нем взялись порталы? Здешняя река является частью Тетиса?
— Этого я не знаю, месье Эндимион. Но считаю своим долгом упомянуть, что, покоясь на речном дне, я наблюдал посредством дистанционных зондов множество интересных биологических видов. Помимо мантообразных существ, встреченных ниже по течению вами с мадемуазель Энеей и А.Беттиком, тут наблюдается свыше трехсот видов летающих существ и не менее двух видов гуманоидов.
— Два вида гуманоидов? А, ты имеешь в виду людей.
— Никак нет. Гуманоидов, — повторил Корабль. — Это определенно не выходцы со Старой Земли. Представители одной разновидности весьма миниатюрны — чуть более метра ростом, — с двусторонне симметричным скелетом, с ярко выраженной красноватой окраской кожи.
Мне тут же припомнился монолит из красного камня, к которому мы с Энеей летали на утраченном ныне ковре-самолете во время краткого пребывания здесь. И крохотные ступени, вырубленные в гладком камне.
— Весьма любопытно, Корабль. — Я тряхнул головой, чтобы прояснить сознание. — Однако давай наметим пункт назначения. — Кривизна горизонта уже бросалась в глаза, а мерцание звезд сменилось ровным, немигающим светом. Корабль поднимался все выше. Мы миновали луну, смахивавшую на картофелину, и вышли за пределы ее орбиты. Безымянная планета обратилась в озаренный солнцем, ослепительный облачный шар. — Тебе известна планета, называемая Тянь-Шань, или Небесные горы?
— Тянь-Шань? Да. Если память меня не подводит, я не бывал там ни разу, однако располагаю ее координатами. Небольшая планета на Окраине, заселенная беженцами Третьей Китайской гражданской войны под конец Хиджры.
— Ты сможешь туда попасть?
— Не предвижу никаких трудностей. Для двигателя Хоукинга это простой прыжок. Хотя я рекомендовал бы вам во время прыжка воспользоваться криогенной фугой.
— Предпочитаю бодрствовать, Корабль. — Я снова тряхнул головой. — По крайней мере после того, как автохирург подлечит мою ногу.
— Я бы не рекомендовал, месье Эндимион.
— Почему это? — нахмурился я. — До сих пор мы с Энеей бодрствовали во время прыжков.
— Да, но тогда речь шла об относительно коротких перелетах в пределах Великой Сети, — возразил Корабль, — ныне называемой вами Священной Империи, или пространством Ордена. Это путешествие будет несколько более продолжительным.
— Насколько? — По моей обнаженной коже вдруг побежали мурашки. Наш самый длинный прыжок, к Возрождению-Вектор, занял десять дней корабельного времени и пять месяцев объективного для поджидавшего нас Имперского Флота. — Насколько более продолжительным?
— Три стандартных месяца, восемнадцать дней и шесть часов с минутами.
— Не так уж и скверно, — заметил я. В последний раз я виделся с Энеей вскоре после ее шестнадцатого дня рождения. Теперь наша разница в возрасте сократится месяца на три. Быть может, она уже успеет отрастить волосы. — Прыжок к Возрождению-Вектор занял куда больше объективного времени.
— Речь идет не об объективном времени, а о бортовом.
На этот раз меня охватил настоящий озноб, язык словно сделался толстым и неповоротливым.
— Три месяца корабельного… а сколько объективного?
— Для того, кто ждет на Тянь-Шане? — уточнил Корабль, начавший разгон для перехода. Планета джунглей уже превратилась в сверкающую за кормой искорку. — Пять лет, два месяца и один день. Как вам известно, реальное время является нелинейной функцией продолжительности состояния С-плюс, включая в себя такие факторы, как…
— О Господи! — промычал я в гробнице автохирурга, прижав запястье к взмокшему лбу. — Проклятие!
— Вам больно, месье Эндимион? Согласно долорометру, вы не испытываете боли, однако ваш пульс стал нерегулярным. Мы могли бы увеличить дозу обезболивающего…
— Нет! — огрызнулся я. — Нет, все в порядке. Просто я… пять лет… Проклятие!
Знала ли об этом Энея? Знала ли она, что наша разлука растянется на годы? Может, мне следовало провести корабль через портал, находившийся ниже по течению? Нет, Энея велела отыскать корабль и лететь на Тянь-Шань. В прошлый раз портал перебросил нас на Безбрежное Море. Кто знает, куда бы он зашвырнул меня на сей раз.
— Пять лет, — пробормотал я. — Проклятие! Ей будет… проклятие, Корабль… ей будет двадцать один год. Взрослая женщина. Я пропускаю… я не увижу… она не вспомнит…
— Вы уверены, что не испытываете боли, месье Эндимион? Ваши жизненные показатели утратили стабильность.
— Не обращай внимания, Корабль.
— Следует ли мне заняться подготовкой автохирурга для криогенной фуги?
— Слишком рано, Корабль. Пусть он погрузит меня в сон на ночь, пока будет лечить ногу и лихорадку. Я хочу поспать хотя бы часов десять. Сколько у нас времени до точки перехода?
— Всего семнадцать часов. Она находится в пределах этой планетной системы.
— Хорошо. Разбуди меня через десять часов. Приготовь плотный завтрак. Такой же, как я заказывал, когда мы в тот раз справляли воскресенья.
— Очень хорошо. Что-нибудь еще?
— Да… У тебя есть какие-нибудь записи… Энеи… во время прошлого путешествия?
— У меня скопилось несколько часов подобных записей, месье Эндимион. Как вы плавали в невесомой водяной сфере на балконе. Дискуссия о вере и разуме. Уроки аэробатики в центральном колодце, когда…
— Добро, — перебил я, — заряжай их. Просмотрю за завтраком.
— Я настрою автохирурга на трехмесячный криогенный сон после вашего завтрашнего семичасового антракта.
— Валяй, — вздохнул я.
— Месье Эндимион, хирург желает сейчас же приступить к регенерации поврежденных нервов и впрыскиванию антибиотиков. Хотите ли вы уснуть?
— Да.
— Со снами или без? Медикаменты позволяют оба варианта.
— Никаких снов, — ответил я. — По крайней мере пока. Сны будем смотреть потом.
— Хорошо, месье Эндимион. Спокойной ночи.
ЧАСТЬ II
Глава 15
Я услышал о прибытии имперских кораблей, когда мы с А.Беттиком стояли на широком карнизе Пхари-Базара.
— Надо сообщить Энее, — сказал я.
Массивные многоярусные помосты раскачивались и скрипели под тяжестью бесчисленных толп. Здесь выбирали товар, торговались, спорили, сплетничали, смеялись и о прибытии Ордена слышали очень немногие. А когда услышат — поймут считанные единицы. Сам я узнал об этом от буддийского монаха Чим Дина, он только что вернулся из Поталы.
— Пять кораблей, несколько десятков христиан, — сообщил монах. — Примерно половина — воины в красном и черном. Остальные — миссионеры, все в черном. Они сняли старый дацан секты красношапочников у Ран-Цзо, Выдрового озера, рядом с Фаллосом Шивы, и освятили его под часовню своего Бога. Далай-лама воспретил им пользоваться летающими машинами и покидать пределы Срединного Царства, но в самом Срединном Царстве они могут перемещаться свободно.
— Надо сообщить Энее, — повторил я и склонился к А.Беттику, чтобы расслышать ответ среди гомона толпы.
— Надо сообщить всем, кто есть в Йо-куне. — Андроид повернулся к Джорджу и Джигме, попросил их без нас завершить закупки, взвалил на спину тяжеленный рюкзак, подтянул альпинистское снаряжение и кивнул.
Подхватив свой рюкзак, я первым пошел к лестницам — с яруса на ярус, вниз, к канатке.
— Вышний Путь быстрее Пешего, а?
Синекожий андроид молча кивнул. Признаться, я предложил Вышний Путь не без колебаний: не так-то просто придется А.Беттику с одной рукой на канатках и ледовых трассах. Вернувшись к друзьям, я с удивлением обнаружил, что андроид не обзавелся железным крюком — его левая рука чуть выше запястья оканчивалась культей, но вскоре я сам смог убедиться, как ловко андроид пользуется кожаной петлей и разнообразными ремешками.
— Да, месье Эндимион, — снова кивнул он, — Вышний Путь несравненно быстрее. Согласен. Если только вы не желаете отправить с сообщением летуна.
Я недоуменно оглянулся. Он что, шутит? Летуны — племя безумных отшельников, они бросаются на дельтапланах с вершин, подлавливают вздымающиеся от склонов гор потоки, пересекают пропасти, где нет ни канатов, ни мостов, наблюдают за птицами и ищут теплые потоки, как спасение. А спасение и вправду зависит от восходящих потоков. Переменится внезапно предательский ветер, потеряется высота, случится что-нибудь с дельтапланом — и все, посадочную площадку тут не найти, и любая ошибка — смерть. Вот почему летуны живут особняком, исповедуя некий тайный культ, и запрашивают целое состояние за доставку посланий далай-ламы, за полеты с молитвенными флагами во время буддийских празднеств, за передачу депеши какого-нибудь купца, стремящегося побить конкурентов…
Я покачал головой:
— Вряд ли разумно доверять такие новости летуну.
— Да, месье Эндимион, — согласился А.Беттик, — но дельтаплан можно купить у гильдии летунов на базаре. Можно купить два и вернуться кратчайшим путем. Они чрезвычайно недешевы, но мы можем продать нескольких овцекоз.
До сих пор не могу понять, когда он шутит, а когда говорит всерьез. При воспоминании о недавнем полете на подобии дельтаплана меня передернуло.
— А ты здесь когда-нибудь на дельтаплане летал?
— Нет, месье Эндимион.
— А на других планетах летал?
— Нет, месье Эндимион.
— И какие у нас шансы?
— Один к десяти.
— А на канатке и трассе под вечер?
— Примерно девять к десяти, если до темноты выйдем на трассу.
— Значит, канатка и трасса, — решил я.
Выстояв небольшую очередь, мы выходим на стартовую площадку — нависшую над пропастью бамбуковую террасу метрах в двадцати под нижним ярусом базара. Под нами на многие тысячи метров пустота, бескрайнее море облаков, накатывающее белопенным прибоем на отвесные шпили гор. А под облаками — ядовитые газы и бурные кислотные моря.
Канатчик приглашает нас вперед, и мы с А.Беттиком ступаем на террасу. Через пропасть тянутся тросы, десятка два, не меньше, — черная паутина, теряющаяся в туманной дали. Ближайший перевалочный пункт — в полутора километрах к северу, на крохотном скальном клыке, сейчас он отчетливо прорисовывается на фоне белого великолепия Чомо-Лори, снежной королевы. Но нам надо на восток, через зияющую между хребтами широченную брешь, и до нашего перевалочного пункта более двадцати километров; трос, уходящий в том направлении, словно растворяется в воздухе, сливаясь с дальним хребтом, озаренным сиянием вечерней зари. А конечный пункт нашего путешествия — еще в тридцати пяти километрах к северо-востоку. Пешком, вдоль гребня Пхари, по бесчисленным мостикам и карнизам, идти часов шесть. По канатке и по трассе — вдвое быстрее, но до вечера всего ничего, а в сумерки трасса особенно опасна. Я смотрю на заходящее солнце, и меня охватывает сомнение.
— Готовы? — спрашивает канатчик, смуглый коротышка в засаленном лоскутном халате, жующий корень базилика.
— Готовы, — отвечаем мы с А.Беттиком.
— Держите дистанцию! — И канатчик пропускает меня вперед.
Я выпутываю лямки полной обвязки, не глядя протягиваю руки к «кладовке» — навеске всякого снаряжения, нащупываю роликовые салазки, пристегиваюсь карабином к кольцу лямок, пропускаю узел через другой карабин, нахожу свой лучший карабин-стремя, смыкаю боковины салазок вокруг троса, пропускаю страховку через первые два карабина, привязав ее к поводку, и наконец пристегиваю его к кольцу на груди, пониже лямок, — я управился меньше чем за минуту и повис на стременах салазок, раскачиваясь вверх-вниз, проверяя надежность конструкции. Вроде пока держится.
Канатчик придирчиво осматривает карабины и узлы. Он прогоняет салазки по тросу на метр вперед-назад, проверяя, не износились ли миниатюрные подшипники, потом всей тяжестью виснет на мне и резко отпускает, чтобы убедиться, что кольца и лямки не подведут. Ему нет дела до моей жизни, но, если салазки застрянут на двадцатикилометровом мономолекулярном тросе, расхлебывать это придется именно канатчику, болтаясь на лямках над бездной.
— Вперед, — говорит он, хлопая меня по плечу.
Я прыгаю в пустоту. Стропы натягиваются, трос провисает, салазки тихонько гудят — я скольжу все быстрее и быстрее, потихоньку отпуская тормоза. Не проходит и десяти секунд, как я мчусь по тросу с головокружительной быстротой. Подняв ноги, я усаживаюсь в обвязке: за последние три месяца эта поза стала для меня совершенно естественной. Хребет Куньлунь — цель нашего путешествия — ослепительно сверкает на фоне закатной тени, которая неумолимо надвигается на разверзшуюся подо мной пропасть и наползает на хребет Пхари.
Зазвенел трос, едва заметно изменилось натяжение — следом за мной пустился в путь А.Беттик. Оглянувшись, я вижу, как он удаляется от стартовой площадки, образцово-показательно вытянув ноги и покачиваясь вверх-вниз на эластичных лямках. Андроид машет мне рукой, и я машу в ответ, поворачиваясь на своей подвеске, чтобы осмотреть трос, с тонким пением проносящийся мимо меня. Порой на трос опускаются птицы, порой на нем вдруг вырастает сосулька или выбивается волокно. Редко — очень редко — можно напороться на пустые салазки. Что здесь произошло: несчастный случай? Или пассажир по одному ему известным причинам сам перерезал подвеску? Кто знает? И совсем уж редко бывает, что какой-нибудь психопат прилаживает на тросе удавку или пружинный самострел. За такие дела, конечно, казнят, бросая в пропасть с самой высокой террасы, но это слабое утешение.
Впрочем, сейчас все спокойно, и я скольжу над бездной по сверхлегкому тросу. Лишь негромкий гул салазок да посвист ветра нарушают безмолвие. Солнце еще не село, но на высоте восьми километров царит холод. Дышать здесь нетрудно. С первого же дня на Тянь-Шане я неустанно благодарю богов, сотворивших эту планету, за то, что даже при гравитации 0,954 g кислорода здесь более чем достаточно. Я смотрю на облака, проплывающие в нескольких километрах подо мной, и невольно вздрагиваю при мысли о том, какое чудовищное давление там, внизу, представляю себе бурлящий океан, терзаемый неистовыми фосгеновыми и углекислыми бурями. Суши на Тянь-Шане нет — лишь бесчисленные горные хребты, на тысячи метров возносящиеся над густым месивом океана навстречу кислороду и по-гиперионски яркому солнечному свету.
Я вспоминаю другую планету: я был там всего несколько месяцев назад. Вспоминаю свой первый день в корабле Консула. Мы разгонялись для перехода в С-плюс. Автохирург лечил мою сломанную ногу, а я между делом спросил:
— Любопытно, как я прошел через портал? Последнее, что я помню, это громадный…
В ответ Корабль прокрутил голограмму, снятую плавучей камерой. В тот день шел дождь, и все казалось расплывчатым. Мерцала зеленоватым сиянием арка портала, раскачивались макушки деревьев. И вдруг сквозь арку просунулось щупальце — длинное, длиннее самого Корабля. Оно сжимало что-то наподобие игрушечного каяка, завернутого в лохмотья параплана. Щупальце сделало единственный взмах — замедленный и грациозный; каяк, несущий распростертого в кокпите человечка, спланировал (а вернее — спорхнул) метров на сто и исчез за раскачивающимися верхушками деревьев.
— Почему ты не подобрал меня сразу? — спросил я, не скрывая раздражения. — Зачем было ждать всю ночь, оставив меня болтаться под дождем? Я ведь запросто мог сдохнуть!
— Я не располагал инструкциями на предмет того, чтобы забрать вас сразу по возвращении, — надменно ответствовал Корабль с интонациями полоумного ученого. — Возможно, вы занимались каким-либо важным делом, не терпящим вмешательства. Если бы вы не дали о себе знать в течение двух суток, я бы отправил зонд для выяснения, все ли с вами благополучно.
На что я весьма откровенно высказал все, что думаю о подобной логике.
— Странное определение, — заметил Корабль. — Хотя в мою субструктуру действительно встроены некоторые органические элементы и децентрализованные вычислительные ДНК-компоненты, биологическим организмом в строгом смысле слова я не являюсь. У меня отсутствует пищеварительный тракт и нет никакой нужды в испражнении, не считая отвода отработанных газов. Следовательно, задний проход у меня тоже отсутствует как в прямом, так и в переносном смысле. Следовательно, вряд ли меня можно квалифицировать как…
— Заткнись! — не выдержал я.
Через четверть часа, на подступах к циклопической стене хребта Куньлунь, я начинаю осторожно тормозить. Последние сотни метров наши тени несутся снизу вверх по отвесной оранжевой скале, словно в китайском театре — две схематичные фигурки, размахивающие конечностями: это мы манипулируем тормозами и разворачиваемся, чтобы приземлиться на ноги. И вот уже передо мной приемная терраса — шестиметровый каменный блок, за ним — стена, обитая побуревшим от непогоды войлоком из овцекозьей шерсти. Гудение тормозов нарастает до громкого воя.
Плавно погасив скорость, я почти без рывка останавливаюсь в трех метрах от стены, встаю на ноги и отстегиваю салазки и страховку с проворством, достигаемым упражнениями. Мгновение — и позади меня приземляется А.Беттик. Даже с одной рукой тормозит он куда грациознее.
С минуту мы просто стоим, глядя, как балансирует на кромке хребта Пхари оранжевый шар солнца. Косые лучи озаряют возносящийся из угольной тьмы ледяной пик. Закончив с подгонкой снаряжения, я говорю:
— Когда доберемся до Срединного Царства, будет уже ночь.
А.Беттик кивает:
— Я предпочел бы пройти трассу до темноты, месье Эндимион, но, по-моему, подобная перспектива нам вряд ли светит.
При одной только мысли о спуске по трассе в темноте в паху у меня все сжимается. Любопытно, имеется ли аналогичная физиологическая реакция у андроидов мужеского пола?
— Пора! — И я рысцой припускаю вдоль карниза.
На канатке мы потеряли несколько сотен метров высоты, теперь их надо отыгрывать. Довольно скоро карниз сходит на нет — в Небесных горах пологих поверхностей мало, — и под нашими подошвами дробным перестуком отзывается нависший над пропастью бонсай-бамбуковый настил. Перил тут нет. Ветер крепчает, и я, не останавливаясь, застегиваю термокуртку и войлочный халат. Тяжелый рюкзак подскакивает в такт бегу.
От приемной террасы до линии жумара чуть меньше километра на север. Дорога пуста. По ту сторону подернутого тучами ущелья мерцают вдоль Пешего Пути огоньки факелов. В это время суток по ту сторону Великой Бездны яблоку упасть негде — столько людей идут на север. Иные наверняка направляются к Храму-Парящему-в-Воздухе послушать Энею. Я должен успеть раньше их.
Линия жумара — четыре веревки, закрепленные на семисотметровой отвесной скале; красные — для восхождения, синие — для спуска. Опускается закатный сумрак, окрепший ветер дышит морозом.
— Бок о бок? — спрашиваю я, указывая на среднюю пару веревок.
А.Беттик молча кивает. С тех пор, как я впервые увидел его почти десять лет назад на Гиперионе, голубое лицо нисколько не изменилось. Впрочем, чего ж я еще ждал, чтобы андроид старел, что ли?
Сняв со своих «кладовок» силовые жумары, мы навешиваем их на соседние микроволоконные веревки. Интересно, насколько надежно они закреплены? Канатчики проверяют их лишь от случая к случаю, веревки могли истрепаться от неисправного жумара, перетереться о скальный выступ, могли обледенеть.
Скоро мы это проверим.
Мы пристегиваем к силовым жумарам цепные передачи и поводки. А.Беттик отматывает восемь метров страховочного троса, и мы крепим его к обвязке карабинами. Теперь, если одна из веревок сорвется, второй скалолаз сможет удержать первого — во всяком случае, теоретически.
Для подавляющего большинства населения Тянь-Шаня силовой жумар — чудо техники. Приводимые в действие солнечными батареями размером с ладонь, жумары и впрямь являют собой недурной образчик достижений конструкторской мысли. Проверив свое снаряжение, А.Беттик кивает. Индикаторы загораются зеленым. Я провожу правый жумар вверх на метр, фиксирую его, ставлю ногу в петлю, проверяю, не зацепился ли где-нибудь, продвигаю левый жумар чуть выше правого, фиксирую, переставляю левую ногу, и так — все семьсот метров. Солнце уже село, и все вокруг окрасилось в пурпурно-лиловые тона; на небосклоне загораются первые звезды. Минут через двадцать стемнеет совсем.
От воя ветра меня пробирает дрожь.
Последние двести метров веревки тянутся вдоль отвесных ледниковых стен. У нас в рюкзаках припасены ледовые крючья, но мы не достаем их, продолжая исполнять утомительный ритуал: поднять жумар — зафиксировать — шагнуть — освободить жумар — секунду передохнуть — поднять — зафиксировать — освободить — отдохнуть — поднять. На преодоление семисот метров у нас уходит почти сорок минут. На гребень ледника мы выбираемся почти в полной темноте.
У Тянь-Шаня пять лун: четыре — захваченные тяготением планеты астероиды, находящиеся на достаточно низких орбитах, чтобы отражать хоть чуточку света, пятая почти не уступает размерами старой Луне, но изувечена в верхней правой четверти единственным исполинским кратером, лучи которого разбегаются по всей видимой поверхности, будто светящаяся паутина. Эта большая луна — Оракул — как раз восходит на северо-востоке, когда мы с А.Беттиком, пристегнувшись к закрепленным веревкам, медленно идем к северу вдоль узкого ледяного гребня.
Я натянул термокапюшон и надел защитную маску, но ледяной ветер по-прежнему жалит глаза и впивается в открытые участки кожи. Мешкать нельзя, и все-таки мне хочется немного постоять: полюбоваться на Срединное Царство и планету Небесных гор.
Задержавшись у начала ледовой трассы, я медленно оглядываюсь, стараясь навсегда запомнить увиденное. На юге и на западе, по ту сторону бурлящего потока облаков, сверкает в свете Оракула хребет Пхари. На севере, вдоль гребня, четко обозначила Пеший Путь цепочка факелов, еще дальше видны освещенные подвесные мостики. За Пхари-Базаром в небесах сияет зарево, и я представляю сверкающее великолепие Поталы, Зимнего дворца Его Святейшества далай-ламы. Всего в нескольких километрах к северу оттуда Империя только что получила анклав в Ран-Цзо, под сенью вечерней тени Шивлиня — Фаллоса Шивы. Да, неплохо посмеялись язычники над христианскими миссионерами. И я невольно улыбаюсь под маской.
За Поталой, в сотнях километров к западу, лежит царство гребней Кукунор — несметное множество висячих деревень и опасных мостиков. Далеко на юг вдоль исполинского хребта Лоб-санг-Гяцзо протянулась страна желтошапочников, кончающаяся пиком Нанда-Деви, где, согласно преданиям, обитает индуистская богиня блаженства. На юго-западе, там, где еще не отгорел закат — в Музтаг-Ате, десятки тысяч приверженцев ислама стерегут могилы Али и многих исламских святых. К северу от Музтаг-Аты горные цепи уходят на территории, которых я не видел даже с орбиты. В тех краях, на подступах к горе Сион и горе Мориа, нашли приют странствующие иудеи, чьи города Авраам и Исаак славятся на Тянь-Шане лучшими библиотеками. К северу и к западу от них вознеслись гора Шумер — центр мироздания — и пик Харни (как ни странно, тоже центр мироздания), оба километров на шестьсот юго-восточнее четырех пиков Сан-Франциско, где хопи-эскимосская культура цепляется за холодные гребни и папоротниковые расселины, в свою очередь пребывая в уверенности, что центр мироздания — как раз эти пики.
Повернувшись на север, я смотрю на величайшую гору нашего полушария Чомо-Лори, снежную королеву, и северную границу обитаемого мира. Дальше горная гряда исчезает под фосгеновыми облаками. Невероятно, но закат по-прежнему озаряет вечные снега вершины Чомо-Лори, а по ее восточному склону уже разлил свой нежный свет Оракул.
От Чомо-Лори хребты Куньлунь и Пхари идут на юг, мало-помалу расходясь на непреодолимое расстояние. Повернувшись спиной к северному ветру, я озираю юг и восток, прослеживаю взглядом петляющий хребет Куньлунь, мысленно представляю себе цепочки факелов в двухстах километрах к югу, где город Сиванму — «Мать-государыня Запада» (в качестве запада тут выступает юго-запад Срединного Царства) — приютил в уютных ущельях и расселинах тридцать пять тысяч человек.
К югу от Сиванму торчит из кипени облаков вершина горы Кайя, где (как верят те, что живут в ледяных городах-пещерах) покоится в безвоздушной ледяной гробнице основатель новой ветви дзен Кобо Дайши, дожидаясь своего часа, чтобы выйти из глубокой медитации.
Восточнее Кайи, за горизонтом, находится гора Кайлас — обиталище Кубера, индуистского бога богатства, а заодно и Шивы, которого, очевидно, нисколько не смущает, что фаллос отделен от него тысячей километров. Парвати, жена Шивы, вроде бы тоже обретается на горе Кайлас, но никто не знает, что она думает по поводу этого разделения.
А.Беттик совершил путешествие на Кайлас в первый год пребывания на Тянь-Шане. Он рассказывал, что пик очень красив (это одна из высочайших вершин на планете — свыше девятнадцати тысяч метров над уровнем моря) и напоминает мраморную статую, возведенную на рубчатом каменном пьедестале. Еще он рассказывал, что у самого пика, высоко на леднике, где воздух разрежен настолько, что там никогда не бывает ветра, стоит часовня из углеродистой стали. Она посвящена богу горы Демчогу, «обладателю высшего блаженства», — десятиметровому гиганту, синему, как небеса, увешанному ожерельями из черепов и радостно обнимающему в танце свою супругу. Андроид сказал, что синекожее божество чем-то похоже на него. Сам чертог стоит посреди круглой вершины, которая находится в центре мандалы, образуемой более низкими вершинами, и обведена священным кругом Демчога. Там созерцающий обретет мудрость и освободится от страданий сансары.
А еще дальше к югу, укрытый сверкающим слоем льда, стоит Хельгафелль — «чертог мертвых». Там живут несколько сотен исландцев, вернувшихся к вере викингов.
Я смотрю на юго-запад. Если когда-нибудь я смогу отправиться в путь по дуге Антарктического Кольца, то приду на вершину Гунунг Агунг (очередной пуп вселенной), где, по слухам, балийские женщины танцуют с непревзойденной красотой и грациозностью. Более чем в тысяче километров к северо-западу от Гунунг Агунга высится Килиманджаро. Там обитатели нижних террас после приличной выдержки выкапывают своих мертвецов из суглинистых расселин, уносят их высоко за пределы пригодной для дыхания атмосферы и хоронят во льду, твердом, как гранит, дабы черепа в вечной надежде взирали на вершину пустыми глазницами.
Из гор, расположенных за Килиманджаро, я знаю по названию лишь одну — Крог-Патрик, славящуюся тем, что там нет ни одной змеи. Впрочем, насколько мне известно, в Небесных горах вообще нет змей.
Я снова поворачиваюсь на северо-восток. Морозный ветер понукает меня, подталкивает в спину, но я все-таки задерживаюсь еще на пару секунд.
Впереди, по ту сторону отвесных стен Куньлуня, лежит Срединное Царство, и пять его пиков сияют в свете Оракула.
К северу от нас Пеший Путь и дюжина подвесных мостов ведут к Йо-куню и центральному пику, нареченному Сянь-Шанем — «возвышенным» (несмотря на то что он куда ниже остальных четырех пиков Срединного Царства).
Впереди нас ждет Хуа-Шань, «гора-цветок», самая западная вершина Срединного Царства. Подойти к ней можно лишь с юго-запада, по узкому ледяному перешейку, прочерченному петляющей трассой. А уж с Хуа-Шаня останется только одолеть последние километры канатки, соединившей гору-цветок с северными отрогами Йо-куня. Там Энея возводит Цыань-кун-Су — Храм-Парящий-в-Воздухе, — прилепившийся над пропастью к отвесной скале. А за пропастью, на севере, высится Священная гора Севера Хэн-Шань.
Глядя на север сквозь снеговую круговерть, я вспоминаю, как парил на корабле Консула в первый час пребывания на планете между благородным Хэн-Шанем и Храмом.
Снова обернувшись на восток, за Хуа-Шанем и невысоким центральным пиком Сянь-Шаня я без труда отыскиваю взглядом немыслимую громаду Тай-Шаня, черным силуэтом прорисованную на фоне восходящего Оракула. Это Великая Вершина Срединного Царства, высотой 18 200 метров, давшая на девятитысячной отметке приют городу Тайань — Граду Мира. От Тайаня через снеговые поля и каменные кручи восходит к мифическому храму Нефритового Императора легендарная лестница.
Еще несколько секунд я стою на продуваемом всеми ветрами гребне, пытаясь разглядеть огоньки факелов, обрамляющих расселину за Цыань-кун-Су, но то ли верхние слои облаков, то ли пурга скрывают все мутной пеленой, и лишь неясное пятно Оракула проглядывает сквозь нее.
Обернувшись к А.Беттику, я указываю в сторону трассы и даю знак, что готов. Ветер слишком силен, мне его не перекричать.
Андроид кивает и тянется за пленочной ледянкой к заднему карману рюкзака. Последовав его примеру, я несу свою ледянку к стартовой террасе и лишь тут замечаю, что сердце у меня колотится не только от утомления.
Трасса — скоростная. Высокоскоростная. Это ее достоинство — и величайшая ее опасность.
В Священной Империи наверняка сохранились еще места, где не изжил себя древний обычай катания на санках. Только вместо санок у нас с А.Беттиком пленочные ледянки чуть меньше метра длиной, изогнутые снизу, будто ложки.
Энея рассказывала, что раньше вдоль всей трассы шли закрепленные углеродные веревки, саночники пристегивались к ним при помощи специальных скользящих серег, и если ледянка слетит с трассы, был шанс спастись. Конечно, при такой страховке без ушибов и переломов не обойтись, но зато и в пропасть вслед за санями не отправишься.
Вот только с веревками дело не пошло. Уход за ними требовал массы сил и времени. Скажем, вморозит веревки в лед внезапная пурга, и что тогда? Хорошего мало, если ты мчишься со скоростью 150 километров в час, а твоя серьга вдруг налетает на ледяной монолит. В наши дни даже тросы канатки содержать в порядке не так-то просто, а уж о веревках, закрепленных на леднике, и говорить нечего.
И на ледяные трассы просто махнули рукой. Потом ищущие приключений подростки и вечно спешащие взрослые обнаружили, что управлять ледянкой можно при помощи «вспашки» — удерживая скорость в допустимых пределах хотя бы одним ледовым крюком. «Допустимые» пределы — это не больше ста пятидесяти километров в час. В девяти случаях из десяти все обходится благополучно — если ездок опытный. И если условия идеальные. И при свете дня.
Мы с А.Беттиком уже трижды пользовались ледяной трассой — один раз, когда спешили из Пхари с медикаментами для умирающей девочки, а еще дважды — просто чтобы запомнить все виражи. Всякий раз от ужаса и восторга у меня кружилась голова, но спуск проходил успешно. Но то при свете дня. В безветрие.
А сейчас — ночь, и впереди, будто затаившаяся змея, зловеще поблескивает длинная трасса. Лед кажется грубым, как наждак, и твердым, как гранит. Неизвестно, спускался ли здесь хоть кто-нибудь сегодня. Или вообще на этой неделе… Нет ли впереди новых трещин, трамплинов, провалов, расселин, ледяных глыб? Не знаю, какой длины были древние саночные трассы, но эта протянулась вдоль края крутого отрога больше чем на двадцать километров. А дальше всего девять километров до помостов Йо-куня, три простеньких прогона по канатке и быстрым шагом через расселину по навесным тротуарам.
Мы с А.Беттиком сидим на ледянках бок о бок, как дети, дожидающиеся, пока отец подтолкнет их своей сильной рукой. Подавшись к андроиду, я хватаю его за плечо и притягиваю к себе, пытаясь докричаться сквозь теплоизоляцию капюшона и маски. Ветер сечет лицо ледяными иглами.
— Ничего, если я первый? — ору я.
А.Беттик поворачивает голову, и наши укутанные щеки соприкасаются.
— Месье Эндимион, я полагаю, что первым должен идти я. Я прошел эту трассу на два раза больше, чем вы, сэр.
— В темноте?!
А.Беттик отрицательно трясет головой.
— В наши дни лишь единицы пытаются пройти ее в темноте, месье Эндимион. Но я отлично помню каждый поворот. Полагаю, я могу оказаться полезным, показывая, где следует тормозить.
Я медлю с ответом лишь секунду.
— Ладно. — И пожимаю ему руку.
В инфракрасных очках спуск был бы не сложнее, чем днем, но инфракрасные очки я потерял, странствуя через порталы.
По идее, вместо сегодняшней эскапады мы должны были не спеша прогуляться на Пхари-Базар, заночевать на постоялом дворе, а потом вернуться караваном вместе с Джорджем Цзаронгом, Джигме Норбу и длинной вереницей носильщиков, доставляющих тяжелые материалы на строительный участок.
Возможно, я слишком уж бурно отреагировал на прибытие Имперского Флота. Да только теперь поздно. Даже если мы вернемся, спуск по закрепленным веревкам на Куньлунь ничуть не безопаснее скоростного спуска по трассе.
Если я и кривил душой, то лишь самую малость.
А.Беттик тем временем прилаживает свой 38-сантиметровый ледовый крюк в петлю на левом предплечье и готовит ледоруб. Сидя по-турецки на своей ледянке, я перебрасываю ледовый крюк в левую руку и берусь правой за ледоруб. Затем снова киваю андроиду, и он отталкивается от стартовой террасы. Его разворачивает спиной, но он быстро выправляет положение, вспахивая лед — ледяные осколки разлетаются веером, мерцая в рдяном лунном свете, — и срывается с края обрыва, на мгновение пропав из виду. Я жду, пока он удалится метров на десять, и пускаюсь следом.
Двадцать километров. При средней скорости сто двадцать километров в час мы должны покрыть это расстояние минут за десять. Десять леденящих, головокружительных минут — кровь бурлит в жилах, желудок подкатывает под горло, сердце отчаянно бьется о ребра, а миллисекундное замешательство может стоить жизни.
А.Беттик просто великолепен. Он безупречно входит в каждый вираж. В тех местах, где желоб трассы резко поднимается, он начинает крутой вираж с нижней точки, чтобы в апогее пронестись в опасной близости от края ската и вырваться на очередную прямую с идеальной скоростью. И дальше вниз на подскакивающей, сотрясающейся ледянке.
Все сливается в туманные полосы, тряска прошивает от крестца до макушки, в глазах двоится, троится, в висках пульсирует боль, все расплывается, в воздух вздымается ледяная пыль — задергивающая мир радужной пеленой, сверканием затмевающая звезды, способная поспорить яркостью даже с Оракулом и трепетным, неверным светом лун-астероидов.
Мы снова тормозим у входа в вираж, подскакиваем и взмываем на почти отвесную стену, сворачиваем налево — настолько резко, что от перегрузки дух захватывает, направо, удар, полет по прямой. Склон так крут, что скольжение почти не отличить от свободного падения. На мгновение весь мир заслоняют фосгеновые облака, зеленоватые в обманчивом лунном свете, и вот мы уже мечемся по хитросплетению трассы, закрученной, как спираль ДНК, и на каждом вираже балансируем над краем. Дважды крюк впивается в пустоту морозного воздуха, и дважды мы скатываемся обратно в желоб и выходим из виража. Мы несемся, как две пули, выпущенные над самым льдом, — и снова ввинчиваемся в очередной вираж, с разгону выстреливаем на прямую, вихрем пролетаем восьмикилометровую ледяную стену отрога Абруцци. Облака встают на дыбы и зависают отвесно, ледовый крюк бороздит лед, посылая в пропасть пышный шлейф ледяной крошки, а скорость все возрастает и возрастает, переставая быть скоростью, превращаясь в стужу. Разреженный воздух насквозь пронизывает маску, теплоизоляционную подкладку, перчатки и ботинки с электрообогревом, покрывает кожу ледяной коркой и когтит мышцы. Окоченевшие губы растягиваются в идиотской ухмылке от уха до уха, в оскале ужаса и чистейшего упоения бешеной скоростью, руки автоматически отзываются на малейшие колебания ледоруба-руля и ледового крюка-тормоза.
Вдруг А.Беттик резко виляет влево, глубоко вспахивая лед кривым клювом ледоруба. Он что, с ума сошел?! Его же расшибет о ледяную стену и вышвырнет в черную бездну! Но, доверившись ему, я за долю секунды принимаю решение и вонзаю в лед лезвие ледоруба, налегая на ледовый крюк, сердце подскакивает к горлу, ледянку заносит, меня вот-вот завертит волчком и сбросит с узкого гребня на скорости в 140 километров в час — но я выправляю курс, промелькнув мимо дыры в трассе, куда бы мы непременно рухнули, если бы не этот сумасшедший вираж, проношусь по отколовшемуся карнизу шириной метров шесть, и в этот миг А.Беттик срывается с вертикальной стены, корректирует направление — металлические клювы сверкают в лунном свете — и снова мчится по перешейку Абруцци навстречу последней серии виражей.
Я — следом.
Нас проморозило до костей и так растрясло, что пару мучительных минут мы не в состоянии встать на ноги. Потом мы потихоньку выбираемся на снег, сворачиваем ледянки, укладываем их в рюкзаки. Мы идем по утоптанной тропе через уступ, не проронив ни единого слова. Я никак не могу прийти в себя от удивления перед скоростью реакции и отвагой А.Беттика; причину его молчания я постигнуть не в состоянии и от всей души надеюсь, что он не сердится на меня за скоропалительное решение возвращаться этим путем.
Последние три канатки почти разочаровывают своей обыденностью. Сознание отмечает лишь красоту озаренных Оракулом пиков и хребтов да еще то, с каким трудом мне удается сжимать окоченевшими пальцами стремена управления салазками.
Запустение и сумрак верхних склонов сменяются бодрым сиянием факелов Йо-куня, но мы избегаем главных помостов и лестниц, направляясь через расселину прямиком к тропе. Выйдя на северный склон, мы снова погружаемся во мрак, разрываемый лишь чадящими факелами вдоль дорожки, что ведет в Цыань-кун-Су. На последнем километре мы срываемся на бег.
Мы приходим как раз в тот момент, когда Энея начинает свою вечернюю беседу. В маленькую пагоду на террасе набилось человек сто. Энея обводит взглядом собравшихся и, заметив меня, просит Рахиль начать беседу, а сама поспешно пробирается к дверному проему.
Глава 16
Если честно, на Небесные горы я прибыл в замешательстве и некотором унынии. Я проспал в криогенной фуге три месяца и две недели. Раньше я думал, что в холодном сне сновидений не бывает. Я ошибался: почти всю дорогу меня мучили кошмары. Проснулся я в полном смятении и тревоге.
Когда мы вылетели с неизвестной планеты, до точки перехода было всего семнадцать часов, зато у Тянь-Шаня пришлось выйти из С-плюс на самой границе системы, и тормозили мы целых трое суток. Я метался с палубы на палубу, вверх-вниз по винтовой лестнице, и даже выскакивал на балкон, твердя себе, что разрабатываю больную ногу (Корабль говорил, что нога у меня абсолютно здорова), но на самом деле я просто хотел дать выход эмоциональному напряжению. По-моему, так я не изводил себя еще ни разу.
Корабль все порывался предоставить мне до муторности исчерпывающую информацию о звездной системе: желтая звезда класса G, ля-ля-ля, все такое… ну, как я и сам могу видеть… одиннадцать планет, три газовых гиганта, два пояса астероидов, высокий процент комет, ля-ля-ля, все такое. Меня же интересовал только Тянь-Шань, а потому я уселся на пол в устланной коврами проекционной нише и смотрел, как он растет, приближаясь на глазах. Планета оказалась удивительно яркой. Ослепительно яркой. Сверкающая жемчужина на фоне черного бархата космоса.
— В настоящий момент вы наблюдаете нижний, постоянный облачный слой, — долдонил Корабль. — Поразительное альбедо. Имеется и более высокий облачный слой — видите этот циклон в правой нижней четверти освещенного полушария? А эти кучевые облака, отбрасывающие тень недалеко от северной полярной шапки? Именно они и определяют погоду, наблюдаемую населением планеты.
— Где горы? — спросил я.
— Там. — Корабль обозначил кружком серую тень в Северном полушарии. — Согласно моим старым картам, вот это высочайшая вершина в северных широтах восточного полушария, называемая Чомо-Лори, или снежная королева… Видите рубчики, уходящие от нее на юг? Видите, как они держатся вместе до самого экватора, а затем расходятся все дальше и дальше и в конце концов теряются в облачных массах вблизи Южного полюса? Это две крупнейшие горные цепи, хребет Пхари и хребет Куньлунь. Данные скальные образования были заселены в первую очередь и являют великолепный пример чудовищных тектонических процессов, эквивалентных проходившим в начале мелового периода в…
Ля-ля-ля, все такое. А в голове у меня все звучало: «Энея, Энея, Энея».
Странно было при входе в систему не нарваться на патрульные корабли Имперского Флота, не услышать вызова ни от орбитальной стражи, ни от спутниковых баз, ни даже от базы, расположенной на гигантской луне, смахивающей на мишень — будто кто-то вогнал одну-единственную пулю в гладкий оранжевый шар, не обнаружить излучения двигателей Хоукинга, нейтринной эмиссии, гравитационных линз, выхлопов двигателей Буссарда — словом, ни малейших следов высоких технологий. Корабль сообщил, что в определенных районах на поверхности планеты отмечается слабое микроволновое излучение, но, когда я попросил его усилить передачу, зазвучала архаичная китайская речь эпохи до Хиджры. Это меня потрясло — я еще ни разу не бывал на планете, где большинство населения говорило бы на каком-нибудь языке, кроме стандартного английского.
Выйдя на геостационарную орбиту над восточным полушарием, Корабль сообщил:
— Согласно вашим указаниям, я должен найти вершину под названием Хэн-Шань, находящуюся приблизительно в шестистах пятидесяти километрах юго-восточнее Чомо-Лори… вот!
Объемный образ в проекционной нише стремительно увеличился, и я увидел прекрасный заснеженный пик, пронзающий три облачных слоя, ослепительно сверкающий на солнце чуть ли не за пределами атмосферы.
— Иисусе! — прошептал я. — А где же Цыань-кун-Су? Храм-Парящий-в-Воздухе?
— Должно быть… там, — торжественно объявил Корабль.
Мы смотрели прямо вниз на отвесную стену — композит снега, льда и серых скал. У основания этого невероятного обрыва клокотала белая кипень облаков. Даже зная, что передо мной всего лишь голограмма, я невольно ухватился за диванные подушки и отшатнулся, борясь с головокружением.
— Где? — спросил я, не обнаружив никаких построек.
— Вот этот темный треугольник. — Корабль обозначил кружком неясную тень на серой скале. — И вот эта веревка… здесь.
— Масштаб увеличения?
— Самая длинная сторона треугольника достигает одной целой двух десятых метра, — сообщил Корабль тоном, чересчур знакомым мне по комлогу.
— Что-то маловат домик для жилья.
— Нет-нет, это лишь малая часть строения, виднеющаяся из-под нависающей скалы. Я прихожу к заключению, что весь так называемый Храм-Парящий-в-Воздухе находится под скальным козырьком. Ниже скала имеет отрицательный уклон и уходит уступом в шестьдесят — восемьдесят метров.
— А ты можешь дать вид сбоку? Чтобы я смог взглянуть на Храм?
— Это возможно. Понадобится переместиться на более северную орбиту, чтобы я мог направить телескоп на пик Хэн-Шань, расположенный южнее, перейти в инфракрасный диапазон с целью проникновения сквозь облачные массы, расположенные на высоте восемь тысяч метров, движущиеся между горой и отрогом, на котором выстроен Храм, а также придется…
— Обойдемся, — оборвал я. — Просто свяжись по лучу с районом Храма… черт, лучше всего хребта… и выясни, ждет ли нас Энея.
— На какой частоте? — деловито осведомился Корабль.
Ни о какой частоте Энея не упоминала. Просто сказала, что приземлиться мы вроде бы не сможем, но все равно должны спуститься к Цыань-кун-Су. Глядя на отвесные склоны, покрытые снегом и льдом, я начал понимать, что она имела в виду.
— На всех стандартных частотах, которые мы использовали при связи через комлог. Если не получишь ответа, пройдись вообще по всем частотам, имеющимся в твоем распоряжении. Можешь воспользоваться теми, которые только что поймал.
— Сигнал шел из южного квадранта Западного полушария, — терпеливо растолковал Корабль. — В этом полушарии микроволнового излучения не обнаружено.
— Сделай, как я прошу, будь добр, — тихо сказал я.
Мы провисели там с полчаса, сперва обшаривая хребет узконаправленным лучом, затем передавая широкополосные сигналы в направлении всех близлежащих гор. Потом забросали лаконичными вызовами все полушарие. Ни малейшего отклика.
— Неужели остались еще обитаемые миры, где не существует радио? — не выдержал я.
— Разумеется. На Иксионе использование микроволнового излучения любого рода возбраняется законом и местными обычаями. На Новой Земле имелась группа людей…
— Ладно, ладно! — перебил я, в тысячный раз гадая, нельзя ли как-нибудь перепрограммировать ИскИна, а то у него прямо шило в заднице. — Спускаемся.
— Куда именно? Имеются обширные населенные регионы на высоком пике, расположенном восточнее — на моей карте он называется Тай-Шань, — и еще один город на юге хребта Куньлунь, а также поселения вдоль хребта Пхари и западнее, в регионе, отмеченном как Кукунор. Кроме того…
— Спускайся к Храму-Парящему-в-Воздухе.
К счастью, магнитное поле планеты вполне подходило для ТМП-пульсаторов корабля, так что мы плавно спланировали с небес, а не опустились на факеле пламени. Я вышел на балкон, хотя в проекционной нише видно было бы не хуже, зато удобств гораздо больше.
Казалось, спуск растянулся на многие часы, но в действительности уже через несколько минут мы парили на высоте восьми с чем-то тысяч метров, дрейфуя между фантастическим пиком на севере — Хэн-Шанем — и хребтом, где расположился Цыань-кун-Су. Я заметил надвигающуюся с востока линию терминатора: Корабль подтвердил, что здесь скоро наступит вечер. Отыскав бинокль, я отчетливо увидел Храм. Увидел, но не поверил собственным глазам.
То, что представлялось всего лишь игрой света под гигантскими, нависшими над пропастью плитами серого гранита, оказалось рядом строений, простирающимся на многие сотни метров с востока на запад. Восточное влияние сразу же бросалось в глаза: похожие на пагоды здания, увенчанные остроконечными черепичными крышами с выгнутыми карнизами; затейливые изразцы стен, сияющие позолотой в солнечных лучах; круглые окошки и ворота-полумесяцы; резные перила невесомых деревянных балконов; изящные деревянные колонны цвета киновари. На карнизах, дверных рамах и перилах развеваются красные и желтые флажки; стропила и коньки крыш покрыты замысловатой резьбой; подвесные мостики и лестницы увешаны диковинными предметами — позже я узнал, что это молитвенные барабаны и флаги: они возносят молитву Будде всякий раз, как подует ветер или прикоснется к ним рука человеческая.
Храм строился. Я видел, как поднимают строительный лес на высокие террасы, как обрабатывают каменный лик хребта крохотные человечки, видел навесные платформы, примитивные лестницы, примитивные мостики — плетеные дорожки с веревочными перилами, видел распрямившиеся фигурки людей, несущих пустые корзины вверх по лестницам и мостам, видел согбенные фигурки, тащущие корзины, полные камней. Я даже смог разглядеть, что большинство людей носят пестрые, утепленные халаты почти по щиколотку длиной, и я видел, как тяжелые полы развеваются на сильном ветру. Впоследствии я узнал, что это вездесущие «чуба», которые обычно делают из густой, непромокаемой шерсти овцекоз, а для официальных торжеств — из шелка или даже из хлопка, хотя хлопок тут крайне редок и весьма высоко ценится.
Меня беспокоило, что местные видят наш корабль — это может вызвать панику, повлечь лазерный обстрел или еще какие-нибудь неприятности. Впрочем, нас все еще разделяло километров пять, так что мы для них были самое большее причудливым солнечным бликом или темной тенью на фоне белизны северного пика. Я надеялся, что они примут нас за большую птицу — мы с Кораблем заметили вокруг множество птиц, у иных размах крыльев достигал нескольких метров, — но эта надежда рухнула, как только первые рабочие отложили свои дела и подняли головы. Их примеру следовали все новые и новые. Никто не запаниковал. Никто не побежал в укрытие, никто не схватился за оружие (во всяком случае, на виду никакого оружия не наблюдалось), но нас явно заметили. Потом две женщины в ярких халатах помчались вверх — через пагоды, по висячим мосткам, по лестницам, вдоль строительных лесов к восточной террасе. Там было что-то вроде подсобки; одна женщина скрылась в ней и мгновение спустя вышла в сопровождении нескольких более высоких фигурок.
Сердце отчаянно забилось. Я прибавил увеличение бинокля, но откуда-то со стройки тянуло дымом, и я никак не мог разобрать, правда ли самая высокая среди них — Энея. А потом сквозь клубы дыма я разглядел русые волосы, чуточку не достающие до плеч, и на миг опустил бинокль, таращась вдаль и ухмыляясь, как идиот.
— Нам сигналят, — доложил Корабль.
Я снова поднес бинокль к глазам. Другая женщина, с более темными волосами, размахивала двумя флажками.
— Это древний сигнальный код, — занудил Корабль. — Называется азбукой Морзе. Первые слова…
— Цыц, — осадил я его. В силах самообороны мы учили азбуку Морзе, и однажды на Ледяном Когте я с помощью морзянки и двух окровавленных бинтов сумел вызвать медицинские скиммеры.
ИДИТЕ… К… РАССЕЛИНЕ… В… ДЕСЯТИ…
КМ… К… СЕВЕРО… ВОСТОКУ.
ТАМ… ОСТАНОВИТЕСЬ.
ЖДИТЕ… ИНСТРУКЦИЙ.
— Понял, Корабль? — спросил я.
— Да, — ледяным голосом ответил Корабль.
— Поехали. По-моему, я вижу километрах в десяти на северо-восток расщелину. Лучше будем держаться подальше и зайдем с востока. Из Храма там нас вряд ли заметят, а других строений с той стороны не видать.
Без дальнейших комментариев Корабль сдал назад и двинулся вдоль отвесной скалы. Вскоре мы прилетели к ущелью — отвесные стены опускались на несколько тысяч метров от покрытой вечным льдом вершины, которая высилась на четыре километра над Храмом. Сам Храм скрыл от нас выступающий склон.
Корабль плавно спустился по вертикали и завис в полусотне метров от дна ущелья. Я с удивлением смотрел на ручьи, бегущие по скалистым стенам, чтобы на дне, слившись в единый поток, низвергнуться в бездну настоящим водопадом. Повсюду росли деревья, мхи, лишайники и даже цветы — целые луга карабкались вдоль ручьев по отвесным стенам, подбираясь разноцветными полосками к вечным снегам. В первый момент я не обнаружил никаких следов человеческой деятельности, но вскоре разглядел рукотворные карнизы, протянувшиеся вдоль северной стены, а затем и тропинки, проложенные по ярко-зеленому мху, и упорядоченно лежащие камни в ручье, и, наконец, крохотный, у самого верха оазиса, потрепанный непогодой домик под вечнозелеными деревьями — слишком тесный для хижины, скорее беседка с окнами.
Я указал на беседку, и Корабль, подлетев, завис около нее. Теперь я понял, почему сесть здесь трудно, если вообще возможно. Корабль Консула не так уж велик — не одно столетие он простоял, укрытый в каменной башне, — но если он приземлится даже вертикально на стабилизаторы или выдвижные опоры, все равно повредит растения. А растений тут слишком мало, чтобы обходиться с ними подобным образом.
Итак, мы зависли над ущельем. И принялись ждать. Где-то через полчаса из-за поворота тропинки выбежала девушка и радостно замахала нам рукой.
Это была не Энея.
Признаюсь, я расстроился. Стремление вновь увидеть ее достигло накала одержимости, в голове роились бредовые видения нашей встречи: мы с Энеей бежим навстречу друг другу по цветущему лугу, ей по-прежнему двенадцать, я ее защитник, мы смеемся от радости, я подхватываю ее, кружу, подбрасываю в воздух…
Что ж, по крайней мере цветущий луг тут был. Корабль выдвинул трап к клумбам у беседки. Девушка перебралась через ручей, прыгая с камня на камень с ловкостью циркового акробата, и, широко улыбаясь, зашагала ко мне по пригорку.
С виду ей было чуть больше двадцати. Она была грациозна и стройна, совсем как Энея, но… я видел эту женщину первый раз в жизни.
«Неужели Энея за пять лет настолько изменилась? Может, она изменила внешность, скрываясь от Ордена? Или я просто забыл ее облик?» Нет, это невозможно! Корабль уверял меня, что для Энеи — если она ждет меня на планете — пройдет пять лет и сколько-то месяцев, но для меня все путешествие, включая сон в криогенной фуге, продлилось меньше четырех месяцев. Я состарился всего на несколько недель. Я не мог ее забыть. Я никогда ее не забуду.
— Привет, Рауль, — сказала темноволосая девушка.
— Привет… — неуверенно ответил я.
Подойдя поближе, она протянула руку. Рукопожатие у нее оказалось уверенным и крепким.
— Я Рахиль. А Энея тебя верно описала. — Она рассмеялась. — Конечно, мы не предполагали, что сюда может заглянуть еще кто-нибудь на подобном корабле… — Она махнула рукой в сторону корабля, висевшего в воздухе, как вставший на попа дирижабль, слегка покачиваясь на ветру.
— Как Энея? — спросил я, не узнавая собственного голоса. — Где она?
— А, в Храме. Работает. Сейчас как раз самый разгар самой хлопотной смены. Она не смогла вырваться, вот и просила меня прийти сюда и помочь тебе отделаться от корабля.
Не смогла вырваться? Что за черт?! Я прошел все круги ада — страдал от почечных колик, ломал ноги, едва ушел от Ордена, свалился на планету, лишенную тверди, меня проглотил и выплюнул инопланетный левиафан — а она не может вырваться?! Я прикусил губу, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не высказать все это вслух.
— Как это отделаться от корабля? — Я огляделся. — Должно же где-нибудь найтись место для посадки!
— Вообще-то нет, — сказала девушка по имени Рахиль. Увидев ее при ярком свете солнца, я понял, что она немного старше Энеи. В карих глазах светился ум, каштановые волосы подстрижены так же небрежно, как и у Энеи, кожа — бронзовая от долгого пребывания на солнце, руки покрыты трудовыми мозолями, а в уголках глаз — морщинки веселья. — Знаешь, давай, как сделаем? Знаешь, возьми с корабля все, что тебе понадобится, прихвати комлог или переговорное устройство, чтобы вызвать корабль, когда он тебе будет нужен, возьми со склада два гермокомбинезона и два респиратора, а затем вели кораблю перескочить на третий спутник. Там есть достаточно глубокий кратер. Спутник находится практически на геостационарной орбите и все время обращен одной стороной к этому полушарию. Ты сможешь послать туда луч, и корабль прибудет через пару минут.
— А гермокомбинезоны и респираторы зачем? — Я с подозрением поглядел на Рахиль: это снаряжение предназначено для работы в вакууме, когда можно обойтись без настоящей космической защиты. — Здесь вполне приличная атмосфера.
— Да, на такой высоте здесь удивительно много кислорода. Но Энея велела попросить тебя захватить костюмы и респираторы.
— Зачем?
— Не знаю, Рауль. — Рахиль безмятежно посмотрела на меня ясными, лишенными хитрости и лукавства глазами.
— А с какой стати корабль должен прятаться? Разве Орден здесь?
— Пока нет, но мы уже с полгода ждем их со дня на день. В данный момент на Тянь-Шане и поблизости ни одного звездолета… не считая твоего корабля. И катеров нет. Ни скиммеров, ни ТМП, ни орнитоптеров, ни вертолетов… только дельтапланы… летуны… А они так высоко не залетают.
Я с сомнением кивнул.
— Дугпа сегодня видели нечто такое, чему не нашли истолкования, — продолжала Рахиль. — Пятнышко твоего корабля на фоне Чомо-Лори. Впрочем, со временем они все истолкуют в категориях тендрил, так что об этом можешь не беспокоиться.
— Что такое тендрил? И кто такие дугпа?
— Тендрил — это знамения. В здешних краях превалируют приверженцы прорицаний в шаманских традициях буддизма. Дугпа же… ну, буквально это слово переводится как «высочайшие». Люди, живущие на самых больших высотах. Есть еще друкпа, люди долин… в смысле, самых глубоких расселин… и друнгпа, люди лесистых долин… в основном живущие в больших папоротниковых лесах и бонсай-бамбуковых рощицах на западных склонах хребта Пхари.
— Значит, Энея в Храме? — упрямо спросил я, отказываясь последовать предложению и «избавиться от корабля».
— Да.
— Когда я увижу ее?
— Как только мы туда придем, — улыбнулась Рахиль.
— Вы давно знакомы с Энеей?
— Около четырех лет, Рауль.
— Ты родом с этой планеты?
Она снова улыбнулась — да, терпимости ей было не занимать.
— Нет. Когда ты увидишь дугпа и остальных местных, то сам поймешь, что я не здешняя. Здесь почти все — потомки китайцев, жителей Тибета и прочих стран Центральной Азии.
— Откуда ты? — напрямую спросил я, сам поражаясь собственной бестактности.
— Я родилась на Мире Барнарда, захолустной фермерской планетке. Там нет ничего, кроме кукурузных полей, лесов, долгих закатов и хороших университетов.
— Я слышал о ней. — Моя подозрительность вновь обострилась. Мир Барнарда славился во времена Гегемонии, теперь же там были лишь духовные академии и семинарии. Мне вдруг отчаянно захотелось увидеть ее грудь — то есть поглядеть, нет ли на ней крестоформа. Слишком просто отослать корабль и отправиться прямиком в лапы Ордена. — А где ты познакомилась с Энеей? Здесь?
— Нет, не здесь. На Амритсаре.
— На Амритсаре? — переспросил я. — Ни разу о нем не слышал.
— Ничего удивительного. Амритсар — окраинная планета, едва укладывающаяся в шкалу Сольмева. Ее заселили лет сто назад беженцы, покинувшие Парвати из-за гражданской войны. Там сейчас живет несколько тысяч сикхов и несколько тысяч суфиев. Энею пригласили спроектировать центр пустынной общины, а меня подрядили, чтоб я присматривала за строителями и понукала их. С той поры мы с ней не разлучаемся.
Я кивнул, по-прежнему в нерешительности. Меня переполняло разочарование и еще — злость, граничащая с ревностью. Полный абсурд.
— А.Беттик? — Меня вдруг пронзило ощущение, что андроид умер. — Он…
— Он вчера ушел на Пхари-Базар, за провиантом, он каждые две недели туда ходит. — Рахиль взяла меня за локоть. — А.Беттик пребывает в добром здравии. Он должен вернуться сегодня вечером. Давай. Собери вещи. Скажи Кораблю, чтоб укрылся на третьей луне. Тебе будет приятнее услышать обо всем от Энеи.
В конце концов я захватил лишь самое необходимое: смену белья, крепкие ботинки, миниатюрный бинокль, небольшой нож в ножнах, гермокомбинезоны, респираторы и бортжурнал-коммуникатор размером с ладонь. Затолкав все в рюкзак, я сбежал по ступенькам на луг и объяснил Кораблю, что делать. В своем антропоморфизме я зашел настолько далеко, что готов был услышать от него отказ снова впасть в спячку — на сей раз на лишенной атмосферы луне, — но Корабль лишь повторил приказание и предложил ежедневно посылать по лучу контрольный запрос на комлог для проверки его работоспособности, после чего плавно взмыл ввысь, превратившись в крохотное пятнышко, и исчез в вышине, как сорвавшийся с привязи воздушный шарик.
Рахиль дала мне войлочный халат. Я заметил у нее поверх куртки нейлоновую обвязку, а на лямках — скалолазное снаряжение, и поинтересовался, к чему это.
— Энея приготовила снаряжение и для тебя, — ответила Рахиль, побренчав своей выставкой скобяных изделий. — Более совершенных технических приспособлений на этой планете нет. Кузнецы и слесари в Потале запрашивают втридорога и бойко продают шипы, блоки, ледовые крючья и ледорубы, клинья, карабины, шлямбуры, скальные крючья, бонги, кошки — словом, все подряд.
— А оно мне понадобится? — усомнился я. В силах самообороны нас учили основам ледового восхождения — траверсирование, подъем в трещине и все такое прочее, — да еще мне приходилось карабкаться на скалы, когда мы работали с Эвролом Юмом на Клюве, но настоящее скалолазание меня как-то не прельщало — никогда не любил высоту.
— Надо будет — быстро привыкнешь, — сказала Рахиль. Перебежав по камушкам ручей, она легко устремилась вверх по тропе к обрыву. Снаряжение негромко позвякивало, словно бубенчик на шее горной козы.
Десятикилометровая прогулка вдоль отвесной скалы оказалась не столь утомительной; мне всего-то и надо было, что привыкнуть к ходьбе по узенькому карнизу над бездонной пропастью, ослепительному сверканию горных вершин и клубящихся далеко внизу облаков, а заодно к бурному приливу энергии от обилия кислорода.
— Да, — согласилась Рахиль, когда я упомянул о кислороде. — Здешняя атмосфера принесла бы немало бед, будь тут леса или саванны. Ты наверняка видел муссонные грозы. Но наши горючие материалы практически исчерпываются карликовыми рощицами вроде той, в расселине, и папоротниковыми лесами на дождливой стороне Пхари. А дерево бонсай, которое идет на постройки, настолько плотное, что почти не горит.
Какое-то время мы шли молча. Я следовал за Рахилью, сосредоточившись на дороге. Мы как раз обогнули крутой поворот, где мне пришлось пригнуться, чтобы не стукнуться головой о выступ скалы, когда карниз стал шире, панорама распахнулась, и впереди показался Цыань-кун-Су — Храм-Парящий-в-Воздухе.
Даже вблизи сохранялось впечатление, что он каким-то чудом парит прямо над бездной. У некоторых строений пониже были каменные и кирпичные фундаменты, но большинство висели над самой пропастью. Сверху эти подобия пагод прикрывал исполинский скальный козырек, нависающий метрах в семидесяти пяти над главными зданиями. Лестницы и террасы зигзагами поднимались почти до самого козырька.
Теперь нас окружали люди. Разноцветные халаты и неизменное альпинистское снаряжение были не единственным общим знаменателем: большинство людей, взиравших на меня с кротким любопытством, принадлежали к азиатскому типу выходцев со Старой Земли; рост у них был маловат для обитателей планеты с гравитацией, близкой к стандартной. Кивнув в знак приветствия, каждый уважительно уступал дорогу Рахили, уверенно прокладывавшей путь сквозь толпу, вверх по лестницам, через залы, пропахшие сандалом и благовониями, по террасам и шатким подвесным мостикам. Скоро мы добрались до верхних ярусов, где строительство продвигалось стремительными темпами. Крохотные фигурки, которые я видел в бинокль, обратились в живых людей, с кряхтением таскающих тяжеленные корзины, пропахших потом и честным трудом. Беззвучная деятельность сменилась мешаниной грохота молотков, звона долот, перестука кирок, гула голосов. Словом, обычная упорядоченная суматоха, в равной мере присущая всем стройкам на свете.
Одолев несколько очень длинных лестниц, я остановился перевести дыхание. Сколько бы там ни было кислорода, а взбираться на такую высоту — дело нелегкое. Рахиль наблюдала за мной с невозмутимостью, которую легко было принять за равнодушие.
Подняв голову, я увидел молодую женщину, грациозно спускавшуюся с верхней террасы. На долю секунды сердце мое встрепенулось — Энея! — но тут я разглядел, как она двигается, заметил коротко остриженные сзади темные волосы и понял, что опять ошибся.
Мы с Рахилью отошли в сторону, и женщина одолела последние несколько ступенек, просто-напросто спрыгнув с них. Крупная, хорошо сложенная, с меня ростом, с волевыми чертами и изумительными темно-лиловыми глазами, с виду — под пятьдесят стандартолет, может, чуть больше, загорелая, в отличной форме и, судя по морщинкам в уголках глаз и рта, любит посмеяться.
— Рауль Эндимион, — проговорила она, протягивая руку, — я Тео Бернар. Я помогаю строить дома.
Я кивнул. Ее рукопожатие оказалось таким же крепким, как у Рахили.
— Энея как раз заканчивает. — Тео Бернар указала в сторону лестницы.
Я вопросительно поглядел на Рахиль.
— Ты ступай, — сказала она. — А у нас дела.
Я полез вверх, крепко перехватывая ступеньку за ступенькой. Бамбуковая лестница насчитывала не меньше шестидесяти ступенек, терраса внизу была ужасно узкой, а пропасть под ней — бездонной.
Забравшись на верхнюю террасу, я увидел две строительные времянки и грубо обработанные каменные поверхности — видимо, там будут последние храмовые строения. Всем своим существом я чувствовал, как давят сверху бессчетные тонны камня, нависавшие метрах в десяти над головой, словно гранитный потолок. В трещинах и расселинах деловито сновали мелкие птахи с раздвоенными хвостами.
И тут я позабыл обо всем на свете, увидев, кто вышел из большей времянки.
Энея! Прямой взгляд темных глаз, открытая улыбка, острые скулы, нежные руки, небрежно подстриженные русые волосы развеваются на свежем ветру… За время нашей разлуки она почти не выросла — я по-прежнему мог бы поцеловать ее в лоб, не поднимая головы, — но изменилась разительно.
Я судорожно вздохнул. Я, конечно, видел, как люди растут и взрослеют, но почти все они были мои друзья, они росли и взрослели вместе со мной. Глядя на Энею, я обнаружил, что во многом она почти не изменилась со времени своего шестнадцатилетия, только исчезла подростковая неуклюжесть — скулы обострились, черты стали отчетливее, бедра шире, а грудь — выше. На ней была все та же зеленая рубашка, те же галифе и высокие ботинки, та же куртка — все как в Талиесин-Уэсте. Да, ноги и руки стали крепче, мускулистее, чем на Старой Земле, но изменилась она не в этом.
Изменилась она во всем. Девочка, которую я так хорошо знал, исчезла. Ее место заняла женщина; чужая женщина быстро шагала ко мне по неровной террасе. Пожалуй, дело не только в более резких чертах или чуть более крепком сложении, а в… основательности. В осанке. Энея всегда была более живой, вдохновенной, цельной личностью, даже в детстве. Теперь же ребенок исчез, точнее, растворился во взрослом, и в окружающей ее атмосфере кипучей энергии я ощутил эту основательность.
— Рауль!
Она пробежала последние несколько шагов, остановилась передо мной и сжала сильными ладонями мои запястья.
Мгновение мне казалось, что она поцелует меня в губы, как раньше… как когда ей было шестнадцать… в последние наши минуты на Старой Земле. Но вместо этого она подняла руку и провела кончиками длинных пальцев от моей щеки к подбородку. В темных глазах сияло… что? Во всяком случае, не веселье. Возможно, жизненная энергия. Или счастье, как я надеялся.
У меня вдруг отнялся язык. Я открыл было рот, не нашел слов, поднял руку, чтобы коснуться ее щеки, и тут же уронил, не закончив движения.
— Рауль… проклятие… как же я рада тебя видеть! — Она убрала ладонь с моей щеки и обняла меня так, что ребра затрещали.
— Я тоже рад тебя видеть, детка. — Я похлопал ее по спине, ощутив ладонью грубую ткань ее куртки.
Отступив на шаг, она широко улыбнулась и взяла меня за плечи.
— Ну что, путешествие к кораблю оказалось ужасным? Расскажи.
— Пять лет! — воскликнул я. — Почему ты не сказала мне?
— Сказала. Я кричала.
— Когда? В Ганнибале? Когда я…
— Да. А потом я крикнула, что люблю тебя. Помнишь?
— Помню, но… если бы ты знала… то есть пять лет…
Мы заговорили разом, слова перешли в бессвязный лепет. Я обнаружил, что пытаюсь одновременно рассказать о порталах, о почечных коликах на Витус-Грей-Балиане Б, о людях Спектральной Спирали Амуа, о планете облаков, о чудовищной каракатице, попутно задаю вопросы и снова говорю что-то, не дожидаясь ответов.
Улыбка не сходила с ее лица.
— Ты все тот же, Рауль. Все тот же. Но, черт, так ведь и должно быть! Для тебя прошло… сколько… неделя-другая пути и криогенная фуга на корабле.
Я ощутил, как в душе среди счастливой кутерьмы всколыхнулся гнев.
— Черт побери, Энея! Ты должна была сказать мне о разнице во времени! А может, и про портал, ведущий на планету без реки, да и без суши, если уж на то пошло! Я же мог погибнуть!
Энея кивнула.
— Вот только я не знала этого наверняка, Рауль. У меня не было уверенности, только обычные… вероятности. Потому-то мы с А.Беттиком встроили в каяк параплан. — Она ухмыльнулась. — Подозреваю, он сработал.
— Но ты же знала, что разлука будет долгой. Что для тебя пройдут годы.
— Да.
Я начал было говорить, но гнев угас так же стремительно, как и вспыхнул, и я взял Энею за руки.
— Как я рад тебя видеть, детка.
Она снова обняла меня, на этот раз поцеловав в щеку, как в детстве, когда я ухитрялся привести ее в восторг шуткой или дельным замечанием.
— Пошли, — сказала она. — Вторая смена закончилась. Я покажу тебе нашу террасу и кое с кем познакомлю.
«Нашу террасу»? Я последовал за ней вниз по лестницам и мостикам, на которые не обращал внимания, шагая за Рахилью.
— А у тебя все было хорошо, Энея? То есть… все хорошо?
— Да. — Она оглянулась через плечо и снова улыбнулась. — Все хорошо, Рауль.
Мы прошли по террасе самой верхней из трех пагод, поставленных одна над другой. Шагая по узкому карнизу, я ощущал, как настил слегка раскачивается под ногами, а когда мы ступили на террасу между пагодами, вся конструкция завибрировала. Тут я заметил, что люди покидают западную пагоду и идут по карнизу вдоль скалы.
— Немного тряско, но конструкция достаточно прочная, — заверила Энея, заметив мой испуг. — В отверстиях, проделанных в скале, установлены балки из самой крепкой бонсай-сосны. Они поддерживают всю инфраструктуру.
— Но они же, наверное, гниют, — заметил я, проходя по короткому подвесному мостику, раскачивающемуся на ветру.
— Гниют, — согласилась Энея. — За восемьсот с чем-то лет существования Храма их меняли несколько раз. Никто толком не знает, сколько именно. А здешние архивы куда менее надежны, чем полы.
— А тебя наняли для достройки? — спросил я. Мы вышли на террасу из дерева вишневого цвета, заканчивавшуюся лестницей, которая вела к очередной террасе и дальше — к узенькому мостику.
— Ага. Я отчасти архитектор, отчасти начальник строительства. Только-только прибыв сюда, я руководила постройкой даосского храма близ Поталы, и далай-лама решил, что мне по силам закончить работы в Храме-Парящем-в-Воздухе. За последние несколько десятилетий от него опустились руки не у одного архитектора.
— Только-только прибыв сюда… — повторил я.
Мы вышли на высокую террасу, огражденную затейливыми резными перилами. У самого края стояли две небольшие пагоды. У дверей первой пагоды Энея остановилась.
— Храм? — спросил я.
— Мое жилье, — усмехнулась Энея, указывая внутрь. Я заглянул. Квадратная — три на три метра — комната, с полированным деревянным полом, покрытым двумя небольшими циновками. Но более всего меня поразила дальняя стена — вернее, полнейшее отсутствие оной. Заменяющие ее сёдзи были сложены, и комната фактически открывалась в пустоту. Этак в состоянии сомнамбулизма недолго отправиться в небытие. Задувающий внутрь ветерок шелестел листьями трех веточек, похожих на ивовые, которые стояли в горчично-желтой вазе на небольшом возвышении у западной стены. Других украшений в комнате не было.
— В помещениях принято снимать обувь, исключением являются лишь переходы, которые ты миновал раньше, — объяснила Энея, направляясь к другой пагоде, как две капли воды похожей на первую. Вот только сёдзи здесь оказались закрыты, а на полу перед ними лежала подстилка-футон. — Имущество А.Беттика, — указала она на красный сундучок рядом с футоном. — Здесь мы тебе и выделим угол. Входи же.
Сбросив ботинки, она подошла к циновке, раздвинула ширмы и уселась на пол, скрестив ноги.
Я тоже снял ботинки, прислонил рюкзак к южной стене, вошел и сел рядом с ней.
— Ну, — она снова схватила меня за запястья, — ох!
С минуту я не находил слов. Я не мог понять, из-за чего я вдруг так расчувствовался — из-за высоты или обилия кислорода. Потом сосредоточил внимание на цепочках людей в ярких халатах, покидающих Храм и шагающих по узким мостам и карнизам вдоль отвесной скалы. Прямо напротив распахнутой двери высился лучезарный массив Хэн-Шаня, ослепительно сверкавший ледниками в предзакатном солнце.
— Господи, — прошептал я. — Как здесь красиво, детка.
— Да. И смертельно опасно, если забудешь об осторожности. Завтра мы с А.Беттиком возьмем тебя на склон и устроим повторный курс по снаряжению и технике восхождения.
— Скорее уж вводный, — отозвался я, не в силах отвести взгляд от ее лица, ее глаз. Я боялся прикоснуться к ней — вдруг между нами опять проскочит высоковольтный разряд, как в те дни, когда она была еще ребенком? — Ну, ладно. Когда ты прибыла, далай-лама — или кто там еще — сказал, что ты можешь поработать здесь над Храмом. Так когда же ты прибыла? Как ты добралась? Когда ты встретила Рахиль и Тео? С кем еще ты здесь знакома? Что произошло после нашего прощания в Ганнибале? Что сталось с остальными обитателями Талиесина? Тебя преследовал весь Имперский Флот? Где ты выучилась всем этим премудростям архитектуры? Ты все еще беседуешь с львами, медведями и тиграми? Как ты…
Энея со смехом выставила перед собой ладонь:
— Не все сразу, Рауль! Я ведь тоже хочу услышать о твоем странствии все-все, знаешь ли.
Я заглянул ей в глаза:
— Мне снилось, что мы беседуем. Ты говорила мне про четыре ступени… постижение языка мертвых… постижение…
— Языка живых, — подсказала она. — Да. Мне этот сон тоже снился.
Наверное, глаза у меня полезли на лоб.
Энея улыбнулась и положила ладони на мою руку. За годы разлуки ее кисти стали крупнее и теперь целиком накрыли мой кулачище. Мне вспомнилось, как обе ее ладошки легко помещались в моей.
— Я помню этот сон, Рауль. А еще мне снилось, что тебе было больно… что-то со спиной…
— Почечная колика. — Я поморщился от фантомной боли.
— Да. Ну что ж, раз мы способны сопереживать сны через световые годы разлуки — значит, мы еще друзья.
— Световые годы… — повторил я. — Ладно, Энея, как же ты преодолела их? Как ты сюда попала? Где ты еще побывала?
Она кивнула и начала свой рассказ. Ветер, врывающийся сквозь распахнутую стену, ерошил ей волосы. Краски заката сгустились, и ночная тень уже начала наползать на исполинскую гору, заслонившую горизонт с севера и отвесные кручи с востока и запада.
Энея покинула Талиесин-Уэст последней, но это случилось всего через четыре дня после того, как я ушел на каяке вниз по Миссисипи. Остальные ученики уходили через разные порталы, и катер израсходовал последние запасы энергии, развозя их кого куда — к Золотым Воротам, к устью Большого Каньона, на гору Рашмор, под ржавые фермы стартовой площадки исторического космопорта Кеннеди — словом, по всему Западному полушарию Старой Земли. Портал Энеи был встроен в глинобитную хижину пуэбло к северу от заброшенного города Санта-Фе. А.Беттик отправился вместе с ней. Услышав об этом, я ощутил укол ревности, но промолчал.
Первым пунктом ее назначения стала планета под названием Иксион, отличающаяся высокой гравитацией. Империя уже захватила планету, но только одно полушарие. Иксион так и не оправился толком после Падения, и высокогорное плато, где очутились Энея с А.Беттиком, являло собой лабиринт утопающих в зелени руин, населенных в основном воюющими племенами неомарксистов и потомков североамериканских индейцев, возродивших обычаи предков. Эту взрывоопасную смесь вдобавок будоражили шайки отщепенцев и бродячих «зеленых», пытающихся воскресить все известные виды динозавров Старой Земли.
В пересказе Энеи все выглядело очень забавно: и как они скрывали явно андроидное происхождение А.Беттика при помощи боевой раскраски, щедро нанесенной на голубую кожу, и наглость шестнадцатилетней девчонки, требующей платы — продуктами и мехами — за руководство попытками отстроить старые иксионские города Кэнбар, Илюмут и Маовилль. Но это сработало. Энея не только помогла спланировать и отстроить деловые районы трех городов и бессчетное множество домиков, но и организовала ряд «дискуссионных кружков», привлекавших слушателей из десятков воюющих племен.
Я понимал, что тут Энея постарается уклониться от подробностей, но хотел знать, что это еще за «дискуссионные кружки».
— Да ничего особенного, — отмахнулась Энея. — Они поднимают тему, я предлагаю им обдумать кое-какие вопросы, и начинается обсуждение.
— Ты учила их? — уточнил я, тут же вспомнив пророчество, что дитя кибрида Джона Китса станет Той-Кто-Учит.
— Ну, разве что по-сократовски.
— Как это?.. Ах, ну да! — Я припомнил Платона из талиесинской библиотеки, в свое время Энея сама посоветовала мне его прочитать. Наставник Платона Сократ учил, задавая вопросы, чтобы заставить человека извлечь на свет истины, которые тот подсознательно уже постиг. Мне эта методика показалась в лучшем случае весьма сомнительной.
Некоторые из членов дискуссионных групп, продолжала она, стали весьма преданными ее учениками, приходили каждый вечер и следовали за ней из одного разрушенного города Иксиона в другой.
— Ну, то есть апостолами, — догадался я.
Энея нахмурилась:
— Мне не очень нравится это слово.
Скрестив руки, я устремил взгляд на буйство красок заката, озарявшего вершины облаков, которые проплывали в многих километрах под нами, и на сияющий лед северного пика.
— Нравится тебе или не нравится, но, по-моему, это самое верное определение. Апостолы повсюду следуют за своим учителем, куда бы он ни отправился, пытаясь выудить из него все знания до последней капли.
— Ученики тоже следуют за своим учителем, — возразила Энея.
— Ладно, — согласился я, не желая прерывать ее рассказ пустыми спорами. — Продолжай.
Об Иксионе в общем-то больше рассказать нечего, сказала она. Они с А.Беттиком пробыли там примерно один местный год, около пяти стандартных месяцев. Основным строительным материалом были каменные блоки, и в своих проектах она вернулась к классической простоте форм, сродни древнегреческой архитектуре.
— А что Империя? Не напустила на тебя своих ищеек?
— Некоторые миссионеры принимали участие в дискуссиях, — сказала Энея. — Один из них… отец Клиффорд… крепко подружился с А.Беттиком.
— И он — то есть они — не настучали на тебя? Они наверняка до сих пор охотятся на нас.
— Я уверена, что отец Клиффорд меня не предавал. Но со временем войска начали разыскивать нас в Западном полушарии, где мы работали. Местные племена скрывали нас еще с месяц. Отец Клиффорд приходил на вечерние дискуссии, даже когда скиммеры рыскали над джунглями, высматривая нас.
— А дальше? — Я чувствовал себя двухлетним ребенком, который задает вопросы лишь для того, чтобы собеседник не умолкал. Для меня разлука длилась всего три месяца, включая кошмарный сон в криогенной фуге, и я даже не догадывался, насколько соскучился по любимому голосу.
— Вообще-то ничего особенного. Я закончила последнюю работу — старый амфитеатр для театральных постановок и городских собраний, довольно изысканный, — и мы с А.Беттиком отправились дальше. Некоторые… ученики… тоже покинули Иксион.
— Вместе с вами? — Я моргнул. Рахиль сказала, что встретила Энею на планете Амритсар и дальше странствовала вместе с ней. Видимо, Тео прибыла с Иксиона.
— Нет, с Иксиона за мной никто не последовал, — негромко отозвалась Энея. — Им надо было отправиться в другие места. Учить других.
Мгновение я не находил слов.
— Ты хочешь сказать, что теперь львы, медведи и тигры позволяют пользоваться порталами и другим людям? Или просто открылись все старые порталы?
— Нет, — ответила она, хотя я не понял, на какой из двух вопросов. — Нет, порталы по-прежнему мертвы. Просто… ну… это были особые случаи.
И снова я не стал углубляться в тему. Энея продолжала.
После Иксиона ей пришлось отправиться на Мауи-Обетованную.
— Планета Сири! — Я тут же вспомнил, как бабушка учила меня мерной поступи «Песней» Гипериона. Там происходило действие одной из повестей о паломниках.
Энея кивнула и продолжила свой рассказ. Мауи-Обетованная, изрядно потрепанная революцией и давними нападениями Гегемонии через Сеть, в антракте Падения оправилась и была заново колонизирована во время экспансии Священной Империи. Местные жители в лучших традициях Сири давали пришельцам отпор с плавучих островов, не пренебрегая помощью своих друзей-дельфинов, пока Имперский Флот и швейцарские гвардейцы не подмяли их железным сапогом. Теперь Мауи-Обетованную с мстительным пылом обращают в христианство, отправляя жителей единственного большого материка — Экваториального Архипелага — и тысяч мигрирующих островов в «христианские академии».
Но Энея и А.Беттик вышли на блуждающий остров, который все еще находился в руках повстанцев — группы неоязычников, называемых сиристами. Они ходили под парусом по ночам, прятались среди блуждающих архипелагов незаселенных островов при свете дня и давали Ордену бой при каждом удобном случае.
— И что же ты строила? — поинтересовался я.
Помнится, в «Песнях» говорилось, что архитектура блуждающих островов практически сводилась к деревянным хижинам, приткнувшимся среди ветвей деревьев-парусов.
— Хижины, — хитро улыбнулась Энея, — множество хижин. А еще подводные купола. Именно там язычники проводят изрядную часть времени.
— Значит, ты проектировала хижины?
— Шутишь?! — затрясла она головой. — После тамплиеров Рощи Богов они лучшие строители хижин в человеческой вселенной. Я училась строить хижины. Они были настолько великодушны, что позволили нам с А.Беттиком помогать им.
— Рабский труд, — прокомментировал я.
— Именно.
На Мауи-Обетованной Энея провела всего около трех стандартных месяцев. Там-то она и познакомилась с Тео Бернар.
— Она взбунтовавшаяся язычница?
— Беглая христианка. Она прибыла на Мауи-Обетованную с колонистами, а потом сбежала и присоединилась к сиристам.
— Так она носит крестоформ? — Я невольно нахмурился. От возрожденных христиан меня по-прежнему коробило.
— Уже нет.
— Но как же… — Христианину нипочем не избавиться от крестоформа, если только он не подвергнется отлучению, а этот ритуал может провести только Святая Церковь.
— После объясню, — отмахнулась Энея. До конца ее повествования эта фраза прозвучала еще не раз и не два.
С Мауи-Обетованной она, А.Беттик и Тео Бернар перенеслись на Возрождение-Вектор.
— Возрождение-Вектор?! — Я едва не сорвался на крик. Возрождение-Вектор — оплот Священной Империи. Там меня чуть не пристрелили. На этой сверхиндустриализованной планете куда ни плюнь, попадешь в дом, роботофабрику или еще какое-нибудь заведение.
— Возрождение-Вектор, — улыбнулась Энея.
На этот раз им пришлось трудновато: А.Беттик вынужден был притвориться пострадавшим от ожогов, который не снимает маску из синтекожи. Это неудобство он терпел целых полгода, пока они с Энеей были на планете.
— И какие же работы вы делали там? — Я тщетно пытался себе представить, каким образом моя маленькая спутница ухитрилась не выделяться среди толп мегаполиса, разросшегося на всю планету.
— Только одну работу. Мы трудились на строительстве нового собора в Да-Винчи — собора Святого Матфея.
Тут я на добрую минуту лишился дара речи.
— Вы трудились на строительстве собора?! Для Священной Империи?! Для христианской Церкви?!
— Разумеется, — невозмутимо отозвалась Энея. — Бок о бок с лучшими каменщиками, стеклодувами, плотниками и прочими специалистами. Сперва я работала подмастерьем, но под конец стала помощником главного проектировщика, работавшего над нефом.
Я лишь головой тряхнул.
— А были у тебя… дискуссионные кружки?
— Да. На Возрождении-Вектор их посещало куда больше людей, чем на остальных планетах. Ко мне приходили тысячи учеников, пока не настал час уходить.
— Просто диву даюсь, что тебя не выдали.
— Выдали. Но не ученики. Один стеклодув выдал нас местному гарнизону. Мы с А.Беттиком и Тео едва успели уйти.
— Через нуль-портал, — подсказал я.
— Ну… в общем, да, телепортироваться. — Лишь много позже я осознал, что тут она едва уловимо замялась, как бы придавая оговорке особое значение.
— А другие с тобой успели уйти?
— Не со мной. Но сотни человек телепортировались в другие места.
— Куда? — озадаченно спросил я.
Энея вздохнула:
— Рауль, помнишь наш спор, когда я сказала, что Церковь считает меня чем-то вроде вируса? И что священники правы?
— Угу.
— Ну вот, мои ученики тоже несут в себе этот вирус. Им надо было отправиться в разные места, разносить инфекцию.
Перечень планет и работ продолжался. Три месяца на Патаупхе, где она воспользовалась опытом строительства древесных хижин, чтобы возродить просторные дома из переплетенных ветвей и стволов растений, растущих в тамошних безбрежных болотах.
Потом Амритсар, где она четыре стандартных месяца проработала в пустыне, проектируя шатровые постройки и залы собраний для кочевых племен сикхов и суфиев, странствующих по тамошним зеленым пескам.
— Там-то ты и познакомилась с Рахилью.
— Верно.
— А как ее фамилия? Она мне не сказала.
— Мне она тоже не сказала. — Энея снова вернулась к своей повести.
С Амритсара она, А.Беттик и обе ее подружки телепортировались на Грумбридж Дисон Д. Тут старания Гегемонии по терраформованию с треском провалились, планету оставили на волю метан-аммиачных ледников и ураганов, несущих кристаллы льда, твердого, как сталь, а скудная горстка колонистов отступила в биокупола и орбитальные строительные времянки. Но местные жители — по большей части мусульманские инженеры, участвовавшие в неудавшемся Трансафриканском проекте генетической коррекции, — упорно не желали вымирать во время Падения и завершили терраформование, превратив Грумбридж Дисон Д в мир лапландской тундры с пригодным для дыхания воздухом и адаптированной флорой и фауной Старой Земли, вплоть до мохнатых мамонтов, разгуливающих по экваториальным плоскогорьям. Миллионы гектаров степного разнотравья — идеальное место обитания для лошадей; настоящие лошади Старой Земли исчезли в те страшные годы, когда родина человечества начала превращаться в черную дыру, поэтому генетики воспользовались запасами замороженного генетического материала и начали плодить лошадей поначалу тысячами, а там и десятками тысяч. Кочевые племена странствовали по зеленым тропам южного континента, достигнув своеобразного симбиоза с громадными табунами, а фермеры и горожане перебрались в предгорья экватора, где изобиловали яростные хищники, вырвавшиеся из узды за века ускоренной стихийной адаптивной квазиэволюции: стаи мутантных стервятников и прячущихся по норам ночных кошмаров, тридцатиметровые степные змеи, предки которых водятся в гиперионском Травяном море, скальные тигры с Фудзи, умные волки и гризли с повышенным КИ.
У людей имелась техника, позволявшая под корень истребить адаптированных убийц за год, а то и меньше, но они избрали иной путь: пока растет трава и струится вода, кочевники вечно будут испытывать судьбу, сражаясь с хищниками, чтобы отстоять свои табуны; горожане же начали возводить стену, длина которой в конечном итоге должна достигнуть пяти тысяч километров, отделив дикие плоскогорья от степей и разрастающихся цикладовых лесов на юге. Стена должна стать не просто стеной, а исполинским городом, узким и длинным, тридцати метров высотой в самой низкой точке, увенчанным великолепными мечетями и минаретами, и сквозь весь город по верху стены пройдет такая широкая дорога, что три колесницы смогут разъехаться, не задев друг друга ступицами.
Колонистов там слишком мало, к тому же они чересчур заняты собственными делами, поэтому на строительство направили андроидов и запрограммировали роботов. Энея с друзьями трудились там шесть стандартных месяцев, так что им довелось увидеть, как стена обрела форму и начала неумолимо продвигаться вдоль границы степей и предгорий.
— Там А.Беттик повстречал свою родню, — тихонько сказала Энея.
— Боже мой! — шепнул я. Со дна памяти всплыла полузабытая картина: мы сидим на Седьмой Дракона у нагревательного куба в уютном, заставленном книгами кабинете отца Главка, в сердце небоскреба, вмороженного в вечный ледник, которым стала атмосфера этой планеты… Именно тогда А.Беттик сказал, что, кроме всего прочего, пуститься в эту одиссею его толкнула несбыточная надежда отыскать кого-нибудь из своей родни — трех братьев и сестру. Их разлучили в детстве, вскоре по окончании короткой учебы — если только ускоренный рост андроидов в первые годы жизни можно назвать «детством». — Значит, он их все-таки нашел…
— Двоих. Одного брата, А.Анттиба, и сестру А.Варрию.
— Они на него похожи? — спросил я.
Старый поэт в Эндимионе пользовался услугами андроидов, но я никого из них и не запомнил, кроме А.Беттика, — слишком уж много событий разыгралось с головокружительной стремительностью.
— Очень похожи. И в то же время во многом совсем другие. Может, он сам тебе расскажет подробнее.
Рассказ Энеи близился к концу. Проработав на строительстве города-стены на Грумбридже Дисоне Д шесть стандартных месяцев, они вынуждены были отправиться дальше.
— Вынуждены? — переспросил я. — Опять из-за Церкви?
— Из-за комиссии «За мир и справедливость во Вселенной», если точнее. Мы не хотели уходить, но выбора не оставалось. — В ее тоне было что-то такое, что у меня мурашки пробежали по коже.
— Что это еще за комиссия «За мир и справедливость во Вселенной»?
— После объясню.
— Ладно, но объясни, пожалуйста, кое-что еще сейчас.
Кивнув, Энея выжидательно посмотрела на меня.
— Ты сказала, что провела на Иксионе пять стандартных месяцев, — начал я. — Три месяца на Мауи-Обетованной, шесть месяцев на Возрождении-Вектор, три месяца на Патаупхе, четыре стандартных месяца на Амритсаре, месяцев шесть — так ведь? — на Грумбридже Дисоне Д.
Энея снова кивнула.
— И здесь, ты говоришь, провела около стандартного года?
— Да.
— Вместе это будет всего около тридцати девяти стандартных месяцев. Три стандартных года и три месяца.
Она ждала. Уголки ее губ чуточку искривились, но не в предвестии улыбки — скорее, она пыталась сдержать слезы. Наконец она проговорила:
— Ты всегда хорошо знал арифметику, Рауль.
— Мое путешествие заняло пять лет объективного времени, — мягко сказал я. — Для тебя это около шестидесяти стандартных месяцев, но ты отчиталась только за тридцать девять. Куда исчез двадцать один стандартный месяц, детка?
В ее глазах заблестели слезы.
— Для меня прошло шестьдесят два стандартных месяца, неделя и шесть дней. — Губы ее подрагивали, но Энея изо всех сил старалась говорить небрежно. — Пять лет, два месяца и один день объективного времени, пока корабль находился в состоянии С-плюс, примерно четыре дня на ускорение и торможение и восемь дней полета в обычном пространстве. Ты забыл об обычном полете.
— Ладно, детка. — Я заметил, что у нее дрожат руки. — Ты не хочешь рассказать мне о недостающих… сколько там?
— Двадцать три месяца, неделя и шесть часов.
«Почти два стандартных года, — подумал я. — И она не хочет рассказать мне, что с ней было за это время». Я еще ни разу не видел, чтобы ей приходилось держать себя в руках с таким трудом, словно преодолевая центробежную силу, разрывающую ее душу.
— Поговорим об этом после. — Сквозь открытую дверь она указала на скалу к западу от Храма: — Смотри.
Я с трудом разглядел на узком карнизе какие-то фигуры — двуногие и четвероногие. Нас разделяло несколько километров. Подойдя к рюкзаку, я извлек бинокль и вгляделся в фигуры.
— Вьючные животные называются овцекозами, — пояснила Энея. — Носильщики наняты на Пхари-Базаре и утром пойдут обратно. Видишь кого-нибудь знакомого?
Еще бы! Синее лицо, полуприкрытое капюшоном халата, нисколько не изменилось за прошедшие пять лет. Я вновь обернулся к Энее, но она явно не собиралась больше говорить о недостающих двух годах. И я не стал настаивать.
Пришла ее очередь задавать вопросы, и мы все еще беседовали, когда появился А.Беттик. Рахиль и Тео заглянули к нам еще минут через пять. Одну из циновок свернули, и под ней в полу перед открытой стеной обнаружилась жаровня. Энея с А.Беттиком принялись стряпать ужин. За вечер у нас перебывала масса народу, и со всеми меня знакомили — с мастерами Джорджем Цзаронгом и Джигме Норбу; с двумя сестрами, руководящими большинством работ по украшению перил, — Куку и Кай Сэ; с Гьяло Тхондапом, облаченным в официальные шелковые одеяния, и Джигме Тарингом, одетым в солдатскую форму; с монахом-учителем Чим Дином и его наставником Кэмпо Нга-Вань Таши, настоятелем монастыря при Храме-Парящем-в-Воздухе; с монахиней по имени Донка Ньяпсо и со странствующим торговцем Тромо Трочи из Дхому; с Дзипоном Шакабпой, назначенным далай-ламой руководить ходом работ; с прославленным скалолазом и летуном-дельтапланеристом Лхомо Дондрубом — пожалуй, одним из самых поразительных людей, какие встречались на моем пути, и, как я впоследствии обнаружил, одним из немногих летунов, не брезговавших выпить пива или преломить хлеб с дугпа, друкпа или друнгпа.
Ели мы дзампа и момо — жареный ячмень с овцекозьим маслом, размоченный в чае до состояния однородной массы, из которой скатывают шарики и едят с шариками из парового теста с грибами, холодным овцекозьим языком, засахаренным беконом и кусочками груш, доставленными, по словам А.Беттика, из сказочных садов Сиванму. Большинство гостей пришли, когда начали раздавать миски: Лобсанг Самтен (А.Беттик шепнул мне, что это самый младший брат нынешнего далай-ламы, уже третий год монашествующий в Храме) и разнообразные друнгпа из лесистых расщелин, в числе прочих отличный плотник Чжаньчжи Кенчжунь с длинными напомаженными усами, переводчик Перри Самдап и Римси Кийпу, погруженный в горестные думы молодой монтажник террас. Но не все монахи, заглянувшие в тот вечер на огонек, были китайско-тибетского происхождения. В нашей компании со смехом поднимали наполненные пивом глиняные кружки бесстрашные высотники Харуюки Отаки и Кенширо Эндо, мастера по бамбуку Войтек Майер и Януш Куртыка, и кирпичники Ким Бюнь-Сун и Вики Грозельш. Побывал у нас и Чарльз Чи-кьяп Кэмпо — градоначальник Йо-куня, ближайшего наскального города, сюаньилан, заодно управляющий делами всего духовенства Храма и полномочный член обоих дзонгду, местных собраний старейшин, и еще советник при йик-цанге (буквально «гнездо писем») — тайном органе из четырех человек, следившем за успехами монахов и назначавшем всех священников. Чарльз Чи-кьяп Кэмпо первым из всех выпил столько, что отключился. Чим Дин и еще несколько монахов оттащили похрапывающего градоправителя от края террасы и уложили спать в углу.
Были и другие гости. Когда отгорели последние лучи заката и Оракул со своими тремя собратьями озарил верхушки плывущих внизу облаков, террасу заполняло никак не менее сорока человек. Да только я позабыл их имена — в ту ночь мы съели безмерное количество дзампы и момо, выпили море пива и заставили факелы в Цыань-кун-Су полыхать во всю мочь.
В тот же вечер, несколько часов спустя, я вышел справить нужду. А.Беттик указал мне дорогу к туалетам. Я-то думал, что проще воспользоваться краем террасы, но он объяснил, что в мире, где в многоярусных жилищах все живут один над другим, подобное выходит за рамки приличий. Построенные на скале туалеты были закрыты бамбуковыми перегородками, а сантехника состояла из хитроумной сети труб и сливов, ведущих в трещины, которые уходили глубоко в скальный массив; не забыли здесь и про умывальники, вырубленные в каменных плитах. Были даже душевые, где воду для мытья нагревало солнце.
Сполоснув руки и лицо, я вернулся на залитую лунным светом террасу, слегка протрезвевший от холодного ветра. Стоя рядом с А.Беттиком, я устремил взгляд на переливающуюся огнями пагоду: толпа распределилась концентрическими кольцами, а в центре стояла моя маленькая спутница. Смех умолк, суеты — как не бывало. Один за другим монахи, архаты-святые, монтажники, плотники, каменщики, настоятели, градоначальники и маляры вполголоса задавали вопросы молодой женщине, и каждому она находила ответ.
Казалось, я видел подобную картину совсем недавно. Мне потребовалось не более минуты, чтобы припомнить: до цели путешествия сорок астрономических единиц, мы тормозим, и Корабль показывает голографическую схему звездной системы: солнце спектрального класса G с одиннадцатью планетами, двумя поясами астероидов и бесчисленным множеством комет. Здесь, в пагоде, солнцем определенно стала Энея, а все мужчины и женщины обращаются вокруг нее так же неуклонно, как планеты, астероиды и кометы на схеме корабля.
Опершись на бамбуковый шест, я взглянул при лунном свете на А.Беттика.
— Ей надо проявлять осторожность, — негромко проговорил я, тщательно произнося каждое слово, — а то ее начнут почитать как богиню.
А.Беттик едва заметно кивнул:
— Они вовсе не думают, что мадемуазель Энея — богиня, месье Эндимион.
— Это хорошо. — Я обнял андроида за плечи. — Это хорошо.
— Однако, — добавил он, — многие из них, вопреки всем ее стараниям, убеждены, что она — Бог.
Глава 17
Энея оставляет дискуссионную группу, выходит к нам, и мы рассказываем о прибытии Ордена.
— Чим Дин говорит, что далай-лама позволил им поселиться в старом монастыре на Выдровом озере, — сообщаю я. — Под сенью Шивлиня.
Энея улыбается и молчит.
— Им запрещено пользоваться летательными аппаратами, — продолжаю я, — но они вольны ходить повсюду. Повсюду.
Энея кивает.
Мне хочется схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть.
— И очень скоро они услышат о тебе! — выкрикиваю я, потеряв терпение. — Миссионеры будут тут через неделю, если не завтра, и повсюду станут совать свой нос — вынюхивать, выслеживать и передавать сведения начальнику, и нам еще здорово повезет, если это будут миссионеры, а не солдаты!
Помолчав еще немного, Энея говорит:
— Нам повезло, что это не комиссия «За мир и справедливость во Вселенной».
— А это еще что?
— Сейчас не время объяснять, Рауль, — качает она головой. — Наверное, у них тут еще какое-нибудь дело, кроме… кроме искоренения нонконформизма.
Еще в первые дни моего пребывания здесь Энея рассказала мне о том, что происходит в Священной Империи: на Марсе мятеж палестинцев привел к эвакуации властей и ядерной бомбардировке с орбиты; на территориях Кольца Ламберта и Безбрежном Море вспыхнули восстания вольных торговцев, не прекращается война на Иксионе и десятках других планет. Возрождение-Вектор, где разместились огромные флотские базы (а при них бесчисленные бары и бордели), гудит, как растревоженный улей. А поскольку теперь основу Имперского Флота составляют звездолеты класса «архангел», новости обычно запаздывают всего на пару дней.
Пожалуй, самым интригующим был слух, что один из этих «архангелов» взбунтовался, бежал на Окраину и теперь устраивает набеги. Он нападает на конвои Гильдии, причем стремится лишь вывести из строя транспорты без особого ущерба для экипажей, и громит оперативно-тактические группировки Имперского Флота, занятые подготовкой очередного похода на Бродяг по ту сторону Великой Стены. В последние недели пребывания Энеи и А.Беттика на Возрождении-Вектор стали поговаривать, что тамошним флотским базам грозит опасность. Еще были слухи, что в системе Пасема теперь держат громадную флотилию для обороны Ватикана. Словом, даже если слухи о «Рафаиле» сильно преувеличены, ясно одно: его блиц-атаки растянут крестовый поход против Бродяг на годы. Впрочем, сейчас все это не важно. Сейчас я дожидаюсь отклика Энеи на весть о прибытии Ордена. «И что дальше? — гадаю я. — Удирать на следующую планету?» Но вместо того чтобы обсудить подробности побега, Энея спокойно говорит:
— Далай-лама устроит официальный прием в честь имперских сановников.
— И что?
— Надо позаботиться, чтобы нам прислали приглашение.
Вряд ли я на самом деле разинул рот, но ощущение было именно такое.
— Я позабочусь. — Энея касается моего плеча. — Поговорю с Чарльзом Чи-кьяп Кэмпо и Кэмпо Нга-Вань Таши, чтобы нас непременно включили в список приглашенных.
Тут я окончательно теряю дар речи, а она возвращается к своим ученикам. В мягком свете фонарей их глаза лучатся покоем и безмятежностью.
Я начитываю эти слова на микровелен и вспоминаю, как писал их в свои последние дни в ящике Шредингера на орбите Армагаста, вспоминаю, в какой спешке диктовал, почти не сомневаясь: по всем законам теории вероятностей мне осталось недолго, а потом сработает детектор и лопнет ампула с цианидом. Почему я тогда вел повествование в настоящем времени? Да, теперь вспомнил.
Когда меня приговорили к смерти в ящике Шредингера (точнее, не в ящике, а в капсуле), мне позволили взять с собой кое-что из личных вещей: одежду и комлог размером с ладонь, который я унес с корабля на Тянь-Шане. Коммуникатор вывели из строя. Не знаю зачем, все равно он ничего бы не смог передать сквозь силовое поле, если бы даже было кому передавать, но бортжурнал — после тщательного изучения в процессе дознания — не тронули. На Тянь-Шане я начал делать ежедневные записи.
Именно эти записи я и вывел в ящике Шредингера на экран скрайбера, чтобы просмотреть их перед тем, как писать самые личные главы, и, наверное, как раз поспешность этих записей, угадывающееся в них ощущение неминуемой катастрофы заставили меня прибегнуть к повествованию в настоящем времени. Все, связанное с Энеей, свежо в моей памяти, но некоторые воспоминания, стоящие за этими наспех сделанными записями, настолько ярки, что сердце щемит от боли утраты.
Записывая, я переживаю все заново.
Фонограммы нескольких ее вечерних дискуссий я записал на комлог. В последние дни я частенько прокручиваю их, чтобы только вновь услышать ее голос.
— Расскажи нам о Техно-Центре, — попросил один буддийский монах в тот вечер, когда прибыли имперские корабли. — Пожалуйста, расскажи нам о Центре.
Энея медлит всего мгновение, чуть склонив голову к плечу.
— Давным-давно… — начинает она. Она всегда начинает так длинные объяснения. — Давным-давно, больше тысячи стандартных лет назад, до Хиджры… до Большой Ошибки… единственные разумные существа, известные людям, были сами люди. Тогда мы считали, что если человечество и создаст когда-нибудь иной разум, то он станет плодом огромных усилий… в виде громадного множества кремниевых элементов, старинных усилителей, реле и полупроводниковых приборов, называвшихся транзисторами, микросхем и процессоров… то есть возникнет в машине, состоящей из множества микросхем. Иными словами, мы пытались содрать, простите за выражение, принцип работы и устройство человеческого мозга.
Конечно же, ИскИны возникли совсем не так. Они как бы самозародились, пока мы, люди, на минутку отвлеклись.
Теперь представьте себе Старую Землю до начала колонизации других миров. Двигатель Хоукинга еще не изобретен. О постоянном межпланетном сообщении еще нет и речи. Все мироздание заключено в одной красивой упаковке, и эта упаковка — наша дивная голубая планета, Старая Земля.
Но к концу двадцатого столетия эта крохотная планетка уже имела зародыш инфосферы. Планетарные средства телекоммуникаций развились в хаотичную систему архаичных кремниевых компьютеров — никакого упорядочивания, никакой иерархии, только единый протокол обмена информацией. Вот тогда-то и возник разум-муравейник с распределенной памятью.
Предки нынешних ИскИнов возникли в результате бессистемных попыток смоделировать искусственную жизнь, а вовсе не как продукт разработок по созданию искусственного интеллекта. В сороковых годах двадцатого века прадедушка Техно-Центра, математик Джон фон Нейман, доказал возможность искусственного самовоспроизведения. Как только появились первые портативные кремниевые компьютеры, с которыми смогли играть отдельные индивидуумы, любознательные дилетанты начали упражняться в синтетической биологии. Конечно, они были ограничены пропускной способностью центральных процессоров этих машин. Псевдожизнь — самовоспроизводящаяся, накапливающая информацию, взаимодействующая, питающаяся и эволюционирующая — возникла в шестидесятых годах того же столетия. К концу века эта жизнь покинула стоячие болота отдельных машин и обосновалась в формирующейся всепланетной инфосфере — тогда она называлась «сеть Интернет».
Первые ИскИны, зародившиеся в информационном море, были тупы как пробки. Хотя правильнее было бы сказать, тупы — как первые микроорганизмы, зародившиеся в океане. Некоторые из первых псевдоорганизмов, плававших в теплой субстанции инфосферы — тоже продолжавшей эволюционировать, — были 80-байтными образованиями, введенными в блок ОЗУ виртуального компьютера — компьютера, симулированного компьютером. Одним из первых выпустил подобных тварей в информационный океан человек, которого звали Том Рей, и он вовсе не был специалистом по искусственному интеллекту, компьютерным программистом или киберманом, которых тогда называли хакерами; он был биологом, собирателем насекомых, ботаником, орнитологом и провел не один год в джунглях, коллекционируя муравьев для ученого, которого звали Э.О.Вильсон. Наблюдая за муравьями, Том Рей заинтересовался эволюцией и решил выяснить: нельзя ли, вместо того чтобы имитировать эволюцию на одном из первых компьютеров, попробовать запустить там настоящую эволюцию. Он переговорил с несколькими киберманами, но их эта идея не прельстила. Тогда он сам научился программировать. Киберманы утверждали, что эволюционирующие и мутирующие кодовые последовательности в компьютерах попадаются то и дело — их называли тогда сбойными и свихнувшимися программами. Киберманы говорили, что если его программные коды и разовьются во что-нибудь, то все равно будут неработоспособны, нежизнеспособны, как большинство мутантов, и только нарушат работу компьютерного матобеспечения. И Том Рей создал для своих программно-кодовых существ виртуальный компьютер — симулированный компьютер внутри настоящего. А затем он создал настоящее 80-байтное программно-кодовое существо, способное к самовоспроизводству, с ограниченным сроком жизни, которое эволюционировало в его компьютере-внутри-компьютера.
80-байтники копировали себя, порождая новых 80-байтников. Эти 80-байтные одноклеточные прото-ИскИны заполонили виртуальную вселенную. Они расплодились, как амебы в теплом озерке райского сада первобытной Земли. Но Том Рей наделил каждого 80-байтника меткой времени, иначе говоря, присвоил возраст и запрограммировал истребителя, которого назвал Потрошителем. Блуждая в этой виртуальной вселенной, Потрошитель устранял старых 80-байтных тварей и нежизнеспособных мутантов.
А эволюция, как водится, пыталась перехитрить Потрошителя. 79-байтный мутант оказался настолько жизнеспособным, что скоро расплодился, превзойдя численностью 80-байтников. Псевдоорганизмы, предки наших ИскИнов Центра, только-только зародились, но уже начали оптимизировать свой геном. Вскоре возникли 45-байтные существа, почти полностью вытеснившие предшествующие виды искусственных микроорганизмов. Их творцу, Тому Рею, это показалось странным. Код 45-байтников был чересчур лаконичен для размножения. Более того, когда восьмидесяток не стало, сорокапятки вымерли тоже. Тогда Рей произвел вскрытие одной из сорокапяток.
Оказалось, что 45-байтники были паразитами. Они заимствовали необходимые для самовоспроизведения коды у восьмидесяток. Одновременно выяснилось, что семьдесятдевятки обладают иммунитетом против 45-байтных паразитов. Но как только восьмидесятки и сорокапятки дружно устремились по нисходящей эволюционной спирали в небытие, возник новый мутант. Эти мутанты, 51-байтные паразиты, уже были в состоянии жить за счет семьдесятдевяток. Так и пошло.
Я рассказываю это все потому, что весьма важно понять: уже с момента своего появления созданные человеком искусственная жизнь и разум были паразитами. И не просто паразитами — сверхпаразитами. Каждая новая мутация вела к появлению мутантов, способных жить за счет предшествующих поколений паразитов. За несколько миллионов поколений — то есть вычислительных циклов центрального процессора — эта искусственная жизнь стала сверх-сверх-сверхпаразитической. Не прошло и нескольких месяцев с момента создания псевдожизни, как Том Рей обнаружил 22-байтные организмы, процветающие в его виртуальной среде, — организмы, настолько алгоритмически рациональные, что, когда Рей бросил клич, профессиональные программисты не смогли создать ничего более компактного, чем 31-байтная версия. Просуществовав всего несколько месяцев, псевдожизнь достигла такой продуктивности, что ее творцы уже не могли с ней тягаться!
Итак, к началу двадцать первого века на Старой Земле существовала искусственная биосфера — и в быстро развивающейся инфосфере, и в макросфере человеческой жизни. Хотя уже изобретены ДНК-процессоры, пузырьковая память, параллельные процессоры на стоячих волнах и гиперсети, конструкторы по-прежнему создают весьма хитроумные приспособления на кремниевой основе. И создают их миллиардами. Микропроцессорами снабжали все — от стульев до консервных банок, от автомобилей до протезов. Машины становились все миниатюрнее и миниатюрнее, пока в любом помещении число их не достигло десятков тысяч. Рабочее кресло секретарши узнавало хозяйку, как только она садилась, извлекало файл, записанный в примитивном кремниевом компьютере, вступало в контакт с другим микропроцессором, встроенным в кофеварку, чтобы та разогрела кофе, активировало телекоммуникационную сеть, чтобы та занималась звонками, факсами и электронной почтой, взаимодействовало с главным кабинетным компьютером, чтобы установить оптимальную температуру, и так далее. В магазинах консервы, стоящие на полках, своими микропроцессорами отмечали собственную цену и изменения в ней, заказывали новые поставки, когда их запас убывал, регистрировали привычки покупателей и обменивались информацией с магазином и остальными товарами. Эта сеть информационного обмена стала не менее сложной и активной, чем бурлящая пена органического месива первобытных океанов Старой Земли.
Всего через сорок лет после появления на свет 80-байтной протоклетки Тома Рея люди как ни в чем не бывало беседовали с бесчисленными искусственными существами, наводнившими их автомобили, комнаты, лифты… даже их тела — в виде медицинских датчиков и протезов, давших толчок развитию настоящей нанотехнологии.
Именно в этот период Техно-Центр начал автономное существование. Человечество понимало — как оказалось, вполне резонно, — что для продуктивной деятельности искусственной жизни нужна автономность. Жизнь искусственная должна эволюционировать и видоизменяться точно так же, как органическая. И она эволюционировала. Точь-в-точь как покрывшая планету биосфера, псевдожизнь покрыла мир живой инфосферой. Центр развивался не только в виде абстрактного существа в потоках данных сетей инфосферы, но и через взаимодействие миллиардов крохотных автономных, приводимых в действие микропроцессорами микромашин, выполнявших свои повседневные задачи в человеческом макромире.
Вскоре человечество и миллиардоликая эволюционирующая личность Центра зажили в симбиозе, как американские акации и муравьи-ацтеки, которые защищают, лелеют и разводят акации, единственный источник своего пропитания. Это явление известно под названием коэволюции, и люди постигли ее концепцию воистину на клеточном уровне, поскольку изрядная часть органической жизни на Старой Земле возникла и оптимизировалась во взаимном коэволюционном танце. Но где люди видели лишь удобный симбиоз, первые ИскИны увидели — сумели увидеть — только новые возможности для паразитирования.
Компьютер может быть отключен, программа может быть прервана, но разум-муравейник прото-Центра уже перебрался в разрастающуюся инфосферу, и отключить его могла только всепланетная катастрофа.
Со временем Центр такую катастрофу устроил — я говорю о Большой Ошибке восьмого года, но только после того как расширил среду своего обитания и выбрался за пределы планетарной инфосферы.
Первые эксперименты с двигателем Хоукинга, сконструированным наиболее развитыми элементами Центра, выявили наличие скрытой реальности планкова пространства, Связующей Бездны. ИскИны Техно-Центра тех дней — волновые структуры, управляемые генетическими алгоритмами, функционирующие параллельно, — завершили разработку первых кораблей с двигателями Хоукинга и начали конструировать сеть порталов.
Люди всегда считали двигатель Хоукинга средством, позволяющим пересечь пространство-время напрямую, сделавшим явью их мечты о гипердвигателе. Порталы они восприняли как удобные дыры в ткани пространства-времени. Это представление родилось из их собственных математических моделей и было подтверждено самыми мощными вычислительными ИскИнами Центра. И все это — сплошная ложь.
Планково пространство, или гиперпространство, или Связующая Бездна — многомерный континуум с собственной реальностью и — как скоро убедился Центр — собственной топографией. Двигатель Хоукинга по сути своей двигателем никогда не был и не будет; это устройство входа, соприкасающееся с топографией планкова пространства лишь на краткое время, необходимое для изменения координат четырехмерного пространства-времени. Порталы же позволяют на самом деле войти в континуум Связующей Бездны.
Людям реальность казалась очевидной — входишь в дыру пространства-времени здесь, тотчас же выходишь через другой портал там. У дяди Мартина дом состоял из десятков комнат на десятках разных миров, соединенных порталами. Порталы породили Великую Сеть, творение Гегемонии. Еще одно изобретение, мультилинии, позволяло мгновенно осуществлять связь через межзвездные расстояния. То есть были все предпосылки для возникновения галактической цивилизации.
Но Центр совершенствовал двигатель Хоукинга, порталы и мультилинии отнюдь не ради удобства человечества. Более того, имея дело со Связующей Бездной, Центр никогда ничего не совершенствовал.
Техно-Центр с самого начала знал, что двигатель Хоукинга — немногим более, чем неудачная попытка вторгнуться в гиперпространство. Он знал, что перемещение звездолета при помощи двигателя Хоукинга похоже на попытку заставить океанский лайнер скользить по волнам, взрывая бомбы за его кормой. Способ действенный, но ужасно неэкономный. Центр присваивал себе честь создания миллионов разных порталов по всей протяженности Сети, хотя знал, что их не миллионы. Есть только один Портал. Все порталы — единственный вход в планково пространство, управляемый через пространство-время таким образом, чтобы создавать иллюзию бесчисленного множества дверей. Но Центр вовсе не стремился раскрыть человечеству правду, он и по сей день держит все в тайне.
А еще Центр знал, что топологию Связующей Бездны можно модулировать для мгновенной передачи информации — по мультилиниям, — но это варварский, разрушительный способ использования планкова пространства — все равно что передавать сообщения с одного конца материка на другой при помощи искусственных землетрясений. Однако Центр предложил человечеству услуги мультилиний, даже не потрудившись растолковать, что к чему, — Центру это было на руку. У него были свои виды на континуум гиперпространства.
Итак, что же выяснил Центр во время своих первых экспериментов? А то, что Связующая Бездна — идеальная среда обитания для ИскИнов. Их инфосфере больше не требуются электромагнитные средства связи или даже модулированные потоки нейтрино. Им больше не нужны люди или роботы, отправляющиеся к звездам, чтобы расширить физическую протяженность Сети. Ведь поместив важнейшие элементы Центра в Связующую Бездну, ИскИны тем самым обрели безопасное убежище от своих органических соперников… убежище, пребывающее одновременно везде и нигде.
Именно во время этой миграции из человеческой инфосферы в мегасферу Связующей Бездны Техно-Центр открыл, что планково пространство — вселенная отнюдь не необитаемая. За его метамерными холмами и долинами, в складках квантового пространства таилось… нечто иное. Некто иной. Там были разумные существа. Техно-Центр попытался прощупать этих Иных и отшатнулся в ужасе перед их мощью. Это и были львы, медведи и тигры, упомянутые Уммоном — персонализацией Центра, якобы породившей и уничтожившей моего отца.
Отступление Центра было столь поспешным, его рекогносцировка в планковом пространстве столь неполной, что он даже не успел сообразить, в каком месте реального пространства-времени живут эти львы, медведи и тигры… да и существуют ли они вообще в реальном времени. Центр даже не смог разобрать, развились ли Иные из органической материи, как человечество, или из искусственной жизни, как ИскИны. Но мимолетного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять: Иные манипулируют временем и пространством с такой же непринужденностью, как люди некогда манипулировали железом и сталью. Такое могущество было свыше понимания Техно-Центра, а потому Центр просто впал в панику и отступил.
Все это произошло как раз в тот момент, когда Центр предпринимал шаги по уничтожению Старой Земли. Поэма дяди Мартина повествует, как Центр подстроил Большую Ошибку восьмого года, как Киевская группа якобы случайно забросила черную дыру в нутро Старой Земли, но его поэма умалчивает — потому что он и сам этого не знал — о панике Центра из-за открытия львов, медведей и тигров и о том, как торопился Техно-Центр остановить задуманное уничтожение Старой Земли. Выковырять черную дыру из ядра разваливающейся планеты не так-то просто, но Центр разработал план и срочно начал приводить его в исполнение.
А затем наша родная планета исчезла… не была уничтожена, как это казалось людям, не была спасена, как надеялся Техно-Центр… просто исчезла. Центр понимал, что Землю утащил не кто иной, как львы, медведи и тигры, но вот как… и куда… и зачем… он даже не догадывался. Техно-Центр рассчитал количество энергии, необходимое для нуль-портации целой планеты, и снова у него затряслись все псевдоподжилки. Если подобным существам понадобится энергия, они способны взорвать ядро целой галактики с такой же легкостью, как люди зажигают костер в холодную ночь. От страха индивидуумы Центра наложили полные псевдоштаны псевдодерьма.
Тут мне следует вернуться чуточку назад, чтобы разъяснить, с чего это Центру вздумалось ликвидировать Землю, а впоследствии пытаться спасти ее. Причину следует искать еще в 80-байтных программных существах Тома Рея. Как я уже объясняла, жизнь и разум, сформировавшиеся в инфосфере, не знали иной формы эволюции, кроме паразитизма, сверхпаразитизма и сверх-сверх-сверх-сверхпаразитизма. Но Центр сознавал недостатки абсолютного паразитизма и понимал, что единственный способ перерасти положение и психологию паразита — развиваться в ответ на воздействие физической Вселенной, то есть обладать не только абстрактной персонализацией Центра, но и физическими телами. Центр имел множественные сенсорные входы и мог создавать нервные сети, но для непаразитической эволюции требовалась постоянная и скоординированная система нервных цепей обратной связи, то есть глаз, ушей, носов, языков, конечностей, пальцев… тел.
Для этого Центр создал кибридов — тела, выращенные из человеческой ДНК, но подключенные к своим персонализациям через мультилинии; однако управлять кибридами было трудно, а среди людей они оказывались чужаками. Кибридам всегда было не по себе на планетах, населенных миллионами органически эволюционировавших людей. Так что Центр включил в свои планы уничтожение Старой Земли и сокращение на девяносто процентов численности человечества.
После гибели Старой Земли Техно-Центр намеревался ввести уцелевшие элементы человечества в свою вселенную, населенную кибридами — используя их в качестве ходячих запасников ДНК и рабов, как мы использовали андроидов, — но открытие львов, медведей и тигров и паническое бегство из планкова пространства все существенно осложнило. Пока опасные Иные не будут изучены и ликвидированы, Центр вынужден по-прежнему паразитировать на человечестве. Вот для чего он изобрел нуль-порталы Великой Сети. Для человека путешествие через портал было мгновенным. Но в пределах вневременной топологии гиперпространства субъективное время пребывания можно растягивать беспредельно, по прихоти Центра. В это время он вторгался в миллионы человеческих мозгов, используя человеческий разум миллиарды раз на дню для создания чудовищной нервной сети. Всякий раз, когда человек переступал порог портала, Центр будто вскрывал ему череп, устранял серое вещество, выкладывал мозг на лабораторный стол и подключал его к миллионам других мозгов, образуя колоссальный органический компьютер с параллельными процессорами. А люди, миновав пространство Планка за мгновение субъективного времени, не замечали ни малейших неудобств.
Уммон сказал моему отцу, кибриду Джона Китса, что Центр делится на три враждующих лагеря — Богостроителей, одержимых идеей создания собственного бога, Высшего Разума; Ренегатов, ради достижения собственных целей стремящихся истребить человечество; и Ортодоксов, желающих поддерживать в отношениях с человечеством статус-кво. Это объяснение — сплошная ложь.
В Техно-Центре не было и не может быть трех враждующих лагерей… Враждующих лагерей — миллиарды. Центр — образчик полнейшего разгула анархии, доведенной сверхпаразитизмом до высшего накала. В борьбе за власть элементы Центра образуют союзы, длящиеся века — или микросекунды. Грязные союзы миллиардов паразитических индивидуумов, создающиеся ради предсказания событий или управления ими. Союзы возникают и распадаются, как волны чудовищного прибоя. Видите ли, ИскИны Центра отказываются умирать, пока их не вынудят — организованная Мейной Гладстон бомбардировка порталов привела не только к Падению Порталов, были истреблены миллиарды якобы бессмертных ИскИнов Центра, — но индивидуумы отказываются уступать путь другим без борьбы. И в то же самое время псевдожизнь Центра не может эволюционировать без смерти. Но смерть во вселенной Центра — отдельный вопрос.
Программа-Потрошитель, созданная Томом Реем более тысячи лет назад, по-прежнему существует в субстанции Центра. В результате мутаций она обрела миллионы разновидностей. Уммон ни разу не упоминал о Потрошителях как о фракции Техно-Центра, но они являют собой куда более многочисленную группировку, нежели Богостроители. Потрошители-то и создали физическую конструкцию, известную под именем Шрайк, и первыми управляли ею.
Любопытно отметить, что при Потрошителях элементы Техно-Центра могут выжить, лишь занимаясь некрофильским паразитизмом. Именно таким образом исходные 22-байтные виды сумели развиться и выжить в виртуальной эволюционной машине Тома Рея — за счет похищения воспроизводящих кодов других байтных тварей, «выпотрошенных» в процессе воспроизводства. Паразиты Центра не только ведут псевдополовую псевдожизнь, они ведут псевдополовую псевдожизнь с трупами! Вот как выживают сегодня миллионы мутантных личностей Центра — за счет некрофильского сверхпаразитизма.
Чего же Центр хочет от человечества сейчас? Почему он возродил Церковь и позволил появиться на свет Священной Империи? Как работают крестоформы и чем они служат Центру? Как на самом деле работают так называемые «архангелы» и как они влияют на Связующую Бездну? И как Центр может противостоять угрозе, исходящей от львов, тигров и медведей?
Но об этом — в следующий раз.
* * *
На следующий день после прибытия Ордена я работаю на самых высоких террасах.
В первые дни на Тянь-Шане мне казалось, что Рахиль, Тео, Джигме Норбу, Джордж Цзаронг и вообще все сомневаются, что от меня будет толк на стройке Цыань-кун-Су. Признаюсь, я и сам в этом сомневался, видя, какое мастерство демонстрируют местные работники. Но, освоив за несколько дней технику скального восхождения, спуска по канаткам и ледовым трассам, я сам вызвался попробовать свои силы в строительном ремесле, и мне дали шанс осрамиться. А я не осрамился.
Энея знала о моем ученичестве у Эврола Юма — на Клюве мне приходилось работать и по камню, и по дереву, когда по прихоти хозяина возводились какие-нибудь затейливые сооружения, мостики, беседки и башенки. Эта работа сослужила мне добрую службу: уже через две недели меня повысили и в прямом, и в переносном смысле — из подсобного рабочего я перешел в элитную бригаду высотников и камнетесов, работающих на самых верхних террасах. По проекту Энеи самые высокие здания поднимаются до свода колоссального скального козырька, а разнообразные переходы и парапеты прямо врезаны в камень. Их-то мы и строили: стоя на шаткой террасе над пропастью, мы обтесывали камень и на самом краю бездны выкладывали кирпичи дорожки. За три месяца работы на отвесных скалах и скользких бамбуковых террасах я стал стройнее и крепче, быстрее и осторожнее…
Лхомо Дондруб, опытный летун и скалолаз, вызвался без страховки вскарабкаться на край козырька, чтобы смонтировать крепеж для последних метров террасы, и мы уже целый час наблюдаем, как Лхомо словно муха ползет по нависающей скале, как вздуваются могучие мышцы под тонкой тканью его одежд. Он постоянно соприкасается с гладким камнем в трех точках, а свободной рукой или ногой нашаривает малейшую зацепку, высматривает трещину или скол, чтобы вбить крюк для нашего крепления. От этого зрелища захватывает дух, но наблюдать за ним большая честь. Словно ты вернулся в машине времени, чтобы посмотреть, как Пикассо пишет картину, как Джордж Ву читает стихи или Мейна Гладстон произносит речь. Десяток раз я был уверен, что Лхомо вот-вот сорвется со скалы и проведет в свободном падении долгие минуты, прежде чем скроется в ядовитых облаках, — но всякий раз он чудом сохранял равновесие, находил новую зацепку или в последний момент отыскивал трещинку, в которую вклинивал ладонь или хотя бы палец.
И вот — закрепленные веревки раскачиваются в воздухе, концы тросов надежно привязаны, и Лхомо соскальзывает к заранее намеченной точке, траверсирует на пять метров в сторону, сует ноги в стремена и летит к платформе на конце длинной веревки, как легендарный супергерой. Лобсанг Самтен протягивает ему запотевшую кружку рисового пива. Кенширо и Вики хлопают его по спине. Чжаньчжи Кенчжунь, наш виртуозный плотник с напомаженными усами, затягивает разухабистую хвалебную песнь. Я трясу головой и ухмыляюсь, как идиот. День восхитителен: сияет голубой купол небес, Священная гора Севера Хэн-Шань искрится снежными шапками на горизонте, веет ласковый ветерок. Энея говорила, что сезон дождей наступит через несколько дней — нескончаемый дождь, а порой и снег, скользкие скалы, — но в такой замечательный день в это трудно поверить.
Кто-то касается моего локтя. Оглянувшись, я вижу Энею. Она все утро была далеко от террасы, то и дело взбираясь на скалы, чтобы присмотреть за работами над галереями и парапетами.
Я все еще ухмыляюсь, переволновавшись за Лхомо.
— Тросы можно крепить, — говорю я. — Еще три-четыре денька славной погоды, и деревянные галереи будут закончены. Потом твоя последняя терраса, вон там, — я указываю на самый край козырька, — и вуаля! Твой проект воплощен, детка! Осталась только покраска и полировка!
Энея кивает, но мысли ее явно блуждают где-то далеко.
— Рауль, можно тебя на минутку?
Вслед за ней я спускаюсь по веревочным лестницам на скальную полку. При нашем приближении из расщелины вспархивает стайка зеленых пичуг.
Отсюда видно, что Храм-Парящий-в-Воздухе — настоящее произведение искусства. Окрашенное в карминный цвет дерево даже не блестит, а сияет. Лестницы, перила и карнизы украшены изысканным орнаментом. Сёдзи пагод распахнуты, молитвенные флажки и простыни развеваются на ветру. Кумирни Храма расположены на восьми ярусах, каждая олицетворяет одну ступень из намеченного Буддой Восьмеричного Пути Добродетели; кумирни ориентированы по трем лучам, соответствующим трем этапам Пути: Мудрость, Мораль и Созерцание. На восходящих лестницах и площадках оси Мудрости расположены медитационные кумирни «правильной веры» и «правильного решения».
На луче Морали находятся «правильное слово», «правильное дело», «правильная жизнь» и «правильное стремление». Добраться до последних медитационных кумирен можно лишь после долгого, изнурительного восхождения по веревочным лестницам, потому что — как растолковали мне Энея и Кэмпо Нга-Вань Таши — Будда подразумевал, что его путь требует твердой, неуклонной решимости.
Самые высокие медитационные кумирни посвящены постижению последних двух ступеней Восьмеричного Пути — «правильного воспоминания» и «правильного самоуглубления». Я сразу же обратил внимание, что из последней пагоды вид открывается только на каменный лик скалы.
А еще я обратил внимание, что в Храме нет ни одной статуи Будды. В детстве я как-то раз наткнулся на упоминание о буддизме в старинной книге из библиотеки Края Пустошей и спросил о нем у бабушки. Из той малости, что она рассказала в ответ на мой вопрос, мне запомнилось, что буддисты поклоняются изображениям Будды. И я спросил Энею, где же они?
Она объяснила, что на Старой Земле буддисты делились на две категории — хинаяна, старое философское течение, уничижительно прозванное «малой колесницей», в противопоставление куда более популярному течению, нарекшему себя «махаяна», то есть «большая колесница». В учении хинаяны некогда было восемнадцать школ, и все они считали Будду учителем и выступали за постижение его учения, а не поклонение его личности, но ко времени Большой Ошибки уцелела лишь одна из школ, тхеравада, да и то лишь в дальних уголках Шри-Ланки и Таиланда — политических провинций Старой Земли, истерзанных болезнями и голодом. Все остальные буддистские учения, подхваченные Хиджрой, принадлежали к категории махаяны, сосредоточенной на почитании статуй Будды, медитациях во спасение, шафранных халатах и прочих побрякушках, о которых рассказывала мне бабушка.
Но, объяснила Энея, на Тянь-Шане, подвергшемся наиболее сильному влиянию буддизма из всех планет Окраины старой Гегемонии, буддизм снова устремился к рационализму, постижению, изучению и тщательному, непредвзятому анализу учения Будды. Потому-то в Цыань-кун-Су нет ни одной статуи Будды.
Мы останавливаемся у края скальной полки. Птицы кружат где-то внизу, дожидаясь, когда мы уйдем.
— Так в чем же дело, детка?
— Прием в Зимнем дворце в Потале состоится завтра вечером, — говорит Энея. Она раскраснелась от работы, лицо чумазое, на лбу царапина. — Чарльз Чи-кьяп Кэмпо собирает официальную делегацию из десяти человек. Естественно, в нее входит Кэмпо Нга-Вань Таши, как и распорядитель работ Дзипон Шакабпа, двоюродный брат далай-ламы Гьяло, его брат Лобсанг, Лхомо Дондруб — потому что далай-лама слышал о его доблестях и хочет с ним познакомиться, — Тромо Трочи из Дхому в роли торгового агента и один из мастеров в качестве представителя рабочих… либо Джордж, либо Джигме…
— Не представляю их друг без друга, — говорю я.
— Я тоже. Но, по-моему, отправится Джордж, он лучше умеет говорить. Наверно, Джигме пойдет с нами и будет ждать его у дворцовых ворот.
— Итого восемь, — подытоживаю я.
Энея берет меня за руку. Ее ладони огрубели от работы, но для меня нет рук нежнее во всей Вселенной.
— Я девятая. Там будет громадная толпа — делегации от каждого города и селения со всего полушария. Есть шанс, что нас к представителям Церкви и на двадцать метров не подпустят.
— Или представят им первыми, — возражаю я. — Закон Мэрфи и все такое…
— Ага. — На губах Энеи играет озорная улыбка — точь-в-точь так же она улыбалась десять лет назад, затевая какую-нибудь шалость, иногда далеко не безобидную. Я затаил дыхание. — Хочешь быть моим кавалером?
Я не колеблюсь ни секунды.
— Больше всего на свете!
Глава 18
В ночь перед приемом у далай-ламы я, несмотря на усталость, не мог уснуть. А.Беттик был в отлучке — задержался в Йо-куне вместе с Джорджем, Джигме и тридцатью тюками стройматериалов, которым следовало бы прибыть вчера, если б не забастовка носильщиков. Утром А. Беттик должен нанять новых носильщиков и преодолеть последние километры до Храма.
Поняв, что все равно не усну, я скатал свой футон, натянул плотные брюки, вылинявшую рубашку, ботинки и легкую термокуртку. Выходя из спальной пагоды, заметил озаренные теплым светом непрозрачные окна и сёдзи пагоды Энеи. Опять она засиделась допоздна. Осторожно ступая, чтобы не потревожить ее раскачиванием террасы, я спустился на главный ярус Храма-Парящего-в-Воздухе.
Меня всегда изумляло, как пусто здесь ночью. Почти все строители жили в клетушках, прилепившихся на склонах горы вокруг Йо-куня, и я уже знал, что в самом храмовом комплексе ночевать остаются лишь несколько человек. Джордж и Джигме обычно спали в хижине мастеров, но в ту ночь остались в Йо-куне с А.Беттиком. Настоятель Кэмпо Нга-Вань Таши иногда оставался ночевать с монахами, но сегодня вернулся в свой официальный дом в Йо-куне. Лишь горстка монахов предпочла здешние непритязательные жилища, и среди них были Чим Дин, Лобсанг Самтен и Донка Ньяпсо. Иногда летун Лхомо оставался переночевать у монахов или в пустой кумирне, но не сегодня. Лхомо еще утром отправился в Зимний дворец, намереваясь совершить восхождение на Нанда-Деви южнее Поталы.
И хотя окошки монахов светились в сотне метров, на самом нижнем ярусе, остальные строения храмового комплекса высились темными безмолвными громадами на фоне звездного неба. Ни Оракул, ни другие крупные луны еще не взошли. Звезды сияли как-то слишком ярко, почти как в открытом космосе. Тысячи и тысячи звезд — столько звезд я не видел ни на Гиперионе, ни на Старой Земле; задрав голову, я разглядел неторопливо ползущую по небосводу звездочку — крохотную луну, где предположительно спрятался корабль. Комлог у меня при себе, и достаточно негромкого шепота, чтобы переговорить с кораблем, но мы с Энеей условились, что сейчас лучше не рисковать и приберечь эту возможность для экстренных ситуаций.
Я от всей души надеялся, что в ближайшее время у нас никаких экстренных ситуаций не будет.
Назад я двинулся по выложенной кирпичом скальной полке ниже самых нижних строений, воспользовавшись лестницами и мостиками западного края храмового комплекса. Ночной ветер крепчал, и деревянные террасы целых ярусов со стонами и скрипами начали подлаживаться к ветру и холоду. Молитвенные флажки трепетали у меня над головой, а далеко внизу льнули к склонам хребта облака, озаренные звездами. Сегодня ветер не выл по-волчьи — первое время я с непривычки просыпался от таких завываний, — но зато отовсюду доносились бормотание, таинственный шепот и шорохи — это ветер блуждал среди уступов и расселин горы.
Добравшись до лестницы Мудрости, я поднялся через медитационный павильон Правильной Веры, на минутку задержавшись на балконе, чтобы взглянуть на темное, безмолвное жилье монахов, оседлавшее валун на востоке. Ощутил под пальцами затейливые резные орнаменты — и сразу же распознал высочайшее мастерство и усердие сестер Куку и Кай Сэ. Поплотнее запахнув куртку, я поднялся по спиральной лестнице к террасе пагоды Правильного Решения. На восточной стене по замыслу Энеи сделали большое, идеально круглое окно, обращенное на восток, к седловине хребта, где восходит Оракул. Он как раз поднимался по небосклону, озарив своими яркими лучами сперва потолок пагоды, а затем дальнюю стену, где на штукатурке были начертаны слова из «Сутта-Нипаты»:
Как ветер задувает пламя И утихает, и не найдешь его, Себя так мудрый отвергает И утихает, и не найдешь его. Уходит за пределы всех образов… Уходит за пределы силы слов.Я знаю, что это слова о загадочной смерти Будды, но сейчас, читая их в лунном свете, я думал об Энее, о себе, о нас вместе. Нет, к нам эти слова не относятся. В отличие от монахов, ищущих просветления, я отнюдь не жажду отказа от своей личности. Меня влечет мир как таковой — все мириады миров, где мне довелось побывать. Я никогда не хотел отринуть мир и его образы. И Энея в полной мере разделяет мое отношение к жизни: приобщение к жизни — это как католическое причастие, только вместо гостии ты принимаешь весь Мир.
И все же мысль о сути вещей — людей — жизни, выходящей за пределы всех образов и силы слов, находит во мне какой-то отклик. Я пытался — правда, безуспешно, — вложить в слова суть того места и того времени и убедился в тщетности подобных попыток.
Покинув луч Мудрости, я пересек длинную террасу для стряпни и совместных трапез и двинулся вверх по лестницам, мостикам и террасам луча Морали. Оракул уже взошел над горизонтом и щедро изливал свой свет на скалы и красное дерево.
Миновав павильоны Правильного Слова и Правильного Дела, я остановился немного передохнуть в круглой пагоде Правильной Жизни. У наружной стены пагоды Правильного Стремления стоял бамбуковый бочонок с питьевой водой, и, напившись вволю, по длинной переходной террасе я тихо двинулся на более высокие ярусы под шелест и хлопки молитвенных флажков на ветру.
Медитационный павильон Правильного Воспоминания, только недавно построенный по проекту Энеи, до сих пор источал запах свежести бонсай-кедровых досок. Еще десять метров вверх по крутой лестнице, и я на самом верху — в павильоне Правильного Самоуглубления, обращенном окнами к скале. Постояв там минут пять, я впервые заметил, что Энея спроектировала крышу таким образом, что, когда восходит луна, тень пагоды и тени в трещинах скалы словно рисуют символ, в котором легко узнать китайский иероглиф Будды.
И тут меня вдруг пробрал озноб, хотя ветер ничуть не усилился. Я понял — нет, увидел! — что неведомая мне миссия Энеи обречена на провал. Ее и меня схватят, допросят — видимо, с пристрастием — и казнят. Мои обещания старому поэту на Гиперионе — пустые слова, не более того. Я вознамерился сразиться с Империей. С Империей — с миллиардами верующих, миллионами солдат, тысячами боевых кораблей… Я обещал вернуть на место Старую Землю… Ну, там я хотя бы побывал.
Я высунулся из окна, чтобы взглянуть на небо, но увидел лишь озаренную лунным светом скалу и медленно проступающий иероглиф Будды — три вертикальные чернильные риски на гранитно-сером пергаменте, три горизонтальных штриха, плавно обтекающих первые и сходящихся, образуя три белых лица в негативе, три лица, взирающих на меня в темноте.
Я обещал защитить Энею. Я поклялся отдать за нее жизнь.
Встряхнувшись, чтобы прогнать озноб и дурные предчувствия, я вышел на террасу Медитации, пристегнулся к канатке и проскочил тридцать метров пустоты между верхней террасой и той, где располагались наши с Энеей жилые пагоды. Взбираясь по лестнице на ярус выше, я думал, что теперь-то смогу уснуть.
О дальнейшем я не делал в комлоге никаких пометок. Записывая, я переживаю все заново.
Свет у Энеи был уже погашен. Это меня успокоило, а то она слишком часто засиживалась допоздна и чересчур отдавалась работе — а это небезопасно в высотных условиях.
Я вошел к себе, закрыл фусума и сбросил ботинки. Все вещи на своих местах — в щель между сёдзи сочится лунный свет, ветер тихонько щелкает бумагой ширм, словно что-то нашептывает по секрету. Фонари не горят, но есть бледный свет луны, да, впрочем, я здесь и на ощупь прекрасно ориентируюсь. На полу — только циновки, футон, у двери сундук, где я храню свой рюкзак, кое-что из продуктов, пивную кружку, респираторы с корабля и снаряжение — захочешь не заблудишься.
Повесив куртку на крюк у двери, я плеснул в лицо воды из таза на сундуке, снял рубашку, носки, брюки, белье, сунул все в мешочек и спрятал в сундук. Стирка — на завтра. Дурные предчувствия отступили, накатила обычная усталость, и, вздыхая, я поплелся к постели. Я всегда предпочитал спать без одежды и отходил от этого правила дважды: в силах самообороны и когда путешествовал на корабле Консула в обществе друзей.
Вдруг в темноте за лунной дорожкой что-то едва уловимо шевельнулось, и я, вздрогнув, занял боевую стойку. Нагота заставляла почувствовать уязвимость острее обычного. Потом понял: «Наверно, А.Беттик вернулся пораньше», — и разжал правый кулак.
— Рауль? — услышал я голос Энеи. Она словно купалась в лунном свете, небрежно обмотавшись одеялом — ее плечи и грудь оставались открытыми. Оракул тронул ее волосы рыжиной и нарумянил щеки.
Я открыл было рот, но так ничего и не сказал, хотел броситься за одеждой, да идти далеко, и в итоге кое-как прикрыл наготу простыней. Я не так уж стыдлив, но ведь это же Энея!.. Что она…
— Рауль…
Одеяло упало на пол.
— Энея… Энея, я… ты… я не… ты же не…
Она прижала палец к моим губам, а потом…
Всякий раз, когда я соприкасался с ней, меня шибало током. Я уже описывал это — и нечего тут обсуждать, но лично я все отношу на счет ее… ауры, что ли… заряда личности. Разряд был самым настоящим, а не метафорическим. Но такого высоковольтного я не испытывал ни разу.
На секунду я оцепенел, просто принимая поцелуй и не отвечая. Но его тепло и настойчивая требовательность одолели сомнения, подчинили себе все остальное, и тогда я ответил на поцелуй, обнял Энею и привлек к себе. Когда она больше пяти лет назад прощалась со мной на берегу реки, на Старой Земле, ее поцелуй был настойчивым, влекущим, исполненным вопросов и посланий — но то был поцелуй шестнадцатилетней девочки. Теперь же — теплым, влажным, открытым прикосновением женщины, и я не мог не откликнуться.
Поцелуй длился вечность. Я смутно сознавал свою наготу и возбуждение, понимал, что, наверное, должен стыдиться и тревожиться, но все это было где-то далеко, отступая перед реальностью и теплом нескончаемых поцелуев. Губы саднило, они жаждали новых поцелуев, и мы принялись целовать друг друга в щеки, глаза, лоб, уши. Склонившись, я поцеловал ее в ямочку на шее, ощущая губами биение пульса и вдыхая душистый аромат ее кожи.
Энея чуть пододвинулась, стоя на коленях, выгнулась, и ее груди коснулись моей щеки. Я прижался к ней и почти благоговейно поцеловал сосок, а Энея положила ладонь мне на затылок. Я почувствовал, как участилось ее дыхание. Она склонила ко мне лицо.
— Погоди, погоди, — пролепетал я, отстраняясь. — Нет, Энея, ты… То есть… Ведь ты не…
— Тс-с. — Она склонилась, снова поцеловала меня, и ее темные глаза заслонили весь мир. — Тс-с, Рауль. Да.
Мы опустились на постель, не прерывая поцелуя, под шелест крепчающего ветра, а вся терраса раскачивалась, отзываясь на наши поцелуи и движение наших тел.
В том-то и проблема — как рассказать о таком. Как поделиться самым сокровенным, тем, что для тебя свято. Тут любые слова — кощунство. А умалчивание — ложь.
Увидеть и ощутить наготу своей возлюбленной впервые в жизни — вот высочайшее, чистейшее сретение. Если и существует истинная религия, то она не может не возвещать эту правду о близости, или это не истинная религия. Близость с тем единственным существом, которое стоит любить, — высочайшая награда, перевешивающая всю боль, горе, всю твою нелепость, одиночество, компромиссы, сопровождающие жизнь человеческую. Но близость с тем, кто тебе предназначен, искупает почти все ошибки.
До этого я ни разу не был близок с той, что нужна мне. Это я понял в тот самый миг, когда мы с Энеей впервые поцеловались и прижались друг к другу, еще до того, как мы начали двигаться — сперва медленно, потом быстрее, потом снова медленно. Я осознал, что на самом деле еще ни разу не был по-настоящему близок с женщиной, — я думал, что постиг все, что только можно постичь, сближаясь с добродушными особами, снисходительными к молоденькому солдатику в увольнительной, но оказалось, что я ни на йоту не приблизился к пониманию.
Для меня все происходило впервые. Помню, как Энея приподнялась, упираясь ладонью в мою грудь, взглянула на меня так пристально и нежно, что наши взгляды словно тоже вступили в интимную близость, и я вспоминал этот миг всякий раз, когда мы были близки, и в первые мгновения нашей близости я уже словно бы помнил о нашей близости в будущем.
* * *
Призрачный свет луны, скомканные простыни, одеяла и футон раскиданы как попало, северный ветерок холодит наши потные сплетенные тела, она прижалась щекой к моей груди, и мы все никак не можем оторваться друг от друга — Энея ласково ерошит волосы у меня на груди, а я, чуть касаясь, кончиками пальцев ласкаю ее щеку.
— Это не ошибка? — выдохнул я.
— Нет, — услышал я шепот Энеи. — Если только…
Сердце у меня замерло.
— Если что?
— Если тебе не делали этих уколов в силах самообороны, но тебе наверняка их делали, — шепнула Энея.
Я был так растерян, что не уловил в ее тоне легкой насмешки.
— Чего? Уколов? Каких? — переспросил я, приподнимаясь на локте. — А… уколов… черт. Ты же знаешь, что делали. Господи…
— Знаю, — прошептала Энея, и на сей раз я понял, что она улыбается.
Когда мы, гиперионские парни, вербовались в силы самообороны, власти вкатывали нам традиционную батарею одобренных государством прививок — противомалярийную, противораковую, противовирусную и противозачаточную. Во вселенной Священной Империи, где большинство населения приняло крестоформ в надежде на бессмертие, контроль рождаемости — дело само собой разумеющееся. После женитьбы можно подать прошение церковным властям о девакцинации, а то и просто купить снадобье на черном рынке, когда задумаешь обзавестись семьей. Или — если не хочешь ни принять крест, ни завести семью — можно просто забыть о прививке и все. По-моему, А.Беттик спрашивал меня об этих уколах на корабле Консула лет десять назад, когда мы обсуждали профилактическую медицину, и я упомянул о наборе прививок сил самообороны, а наша юная спутница лет двенадцати тем временем сидела себе на диване в проекционной нише, почитывая книгу из корабельной библиотеки и вроде бы не обращая на нас ни малейшего внимания…
— Нет, — попытался втолковать я, приподнявшись на локте. — Я имел в виду ошибку. Ты…
— Это я, — шепотом подхватила она.
— Только-только достигла двадцати одного стандартного года, — досказал я. — А я…
— Это ты.
— На десять стандартных лет старше…
— Невероятно! — выдохнула Энея. Теперь лунный свет озарял ее лицо, обращенное ко мне. — Тебя интересует арифметика — в такую минуту.
Я со вздохом перекатился на живот. От простыней пахло нашим потом. Ветер уже сотрясал стены.
— Мне холодно, — прошептала Энея.
В любой из последующих дней в ответ на такие слова я просто согрел бы ее в объятиях, но в ту ночь я воспринял все чересчур буквально и встал, чтобы задвинуть сёдзи. Ветер был холоднее обычного.
— Нет, — сказала она.
— Что?
— Не закрывай до конца. — Энея села, придерживая простынь.
— Но ведь…
— Пусть луна светит на тебя.
При звуках ее голоса я устремился ей навстречу. А может, при виде Энеи, раскинувшейся в ожидании меня на постели. В комнате — запах нашего пота, соломы от циновок и свежей, горной прохлады. Но холодное дуновение ветра не остудило мой пыл.
— Иди сюда, — позвала она, приподнимая одеяло, как плащ.
На следующее утро я занимался монтажом консольной галереи, но двигался как сомнамбула. Отчасти виной тому было недосыпание — когда Энея проскользнула обратно в свою пагоду, уже занимался рассвет, — но главным образом все сводилось к элементарному ошалению. Жизнь выкинула коленце, которое я не то что предвидеть — вообразить и то бы не смог.
Я ставил кронштейны, пока высотники Харуюки, Кенширо и Войтек Майер двигались впереди, буря скважины для них. Ким Бюнь-Сун и Вики Грозельш клали кирпичи позади и ниже меня, а плотник Чжаньчжи Кенчжунь начал следом за мной настилать деревянную террасу. В случае падения с перекладины и высотникам, и мне было бы не за что уцепиться, если бы Лхомо накануне не закрепил повсюду веревки и тросы. Теперь же, перепрыгивая с кронштейна на кронштейн, надо было всего-навсего пристегнуться карабином к следующей веревке. Мне уже доводилось срываться, и всякий раз страховка выдерживала — эти веревки выдерживают в пять раз больше моего веса.
Прыгая с кронштейна на кронштейн, я подтягивал за собой новый брус, болтавшийся на конце троса. Порыв ветра снизу едва не сбросил меня в пропасть, но я восстановил равновесие, шлепнув ладонью по висящему брусу и опершись тремя пальцами о скалу. Потом взялся за третью закрепленную веревку, отцепил от нее карабин и приготовился прицепить его к четвертой из семи веревок, навешенных Лхомо.
Я не знал, что и думать о прошедшей ночи. В смысле, я-то знал, что чувствую: восторг, замешательство, экстаз, влюбленность, — но не знал, как к этому всему относиться. Я пытался перехватить Энею перед завтраком в трапезном павильоне близ жилища монахов, но выяснилось, что она уже поела и отправилась на дальнюю террасу, где проходчики столкнулись с какими-то непредвиденными трудностями при прокладке восточной пешеходной галереи. Потом в сопровождении носильщиков показались А.Беттик, Джордж Цзаронг и Джигме Норбу, час или два у меня ушло на сортировку материалов и последующую доставку брусьев, леса и прочего к месту постройки новых настилов. Перед началом работы с кронштейнами я прогулялся на восточный карниз, но А.Беттик и Дзипон Шакабпа о чем-то совещались с Энеей, поэтому я рысцой вернулся на свой участок и занялся делом.
Мне оставалось перепрыгнуть на последний из установленных утром кронштейнов, чтобы укрепить новый в скважине, сделанной Харуюки и Кенширо при помощи шлямбуров и направленных микровзрывов. Затем Войтек и Вики зацементируют брус в скале, а через тридцать минут он будет держаться достаточно прочно, чтобы Чжаньчжи начал делать настил. Я уже привык скакать с кронштейна на кронштейн, удерживая равновесие и приседая, чтобы приладить новый брус; так что я совершил прыжок, закрутив левой рукой для равновесия и не снимая правой ладони с висящего бруса. Но брус вдруг откачнулся слишком далеко, рука ухватилась за воздух, и я начал валиться в пропасть. Конечно, страховка удержала бы меня, но мне ужасно не хотелось болтаться, как маятник, между последним кронштейном и новой скважиной. Тут уж если не хватит инерции качнуться обратно к кронштейну, то придется дожидаться, пока Кенширо или кто-нибудь еще из высотников проберется обратно и выручит меня.
За долю секунды приняв решение, я прыгнул и ухватился за откачнувшийся брус, лягнув воздух обеими пятками. Из-за слабины страховки метра в два или три мне пришлось удерживать собственный вес буквально на кончиках пальцев. Они тут же заскользили по твердому, как сталь, дереву. Но вместо того чтобы отказаться от борьбы и повиснуть на эластичном конце закрепленной веревки, я, продолжая цепляться за брус, сумел качнуть его обратно к последнему кронштейну, перескочить последние два метра пустоты и приземлиться на скользком кронштейне, замахав руками, чтобы устоять на месте. Смеясь над собственной глупостью, я, пыхтя и отдуваясь, восстановил равновесие и выпрямился, глядя на облака, клубящиеся в нескольких тысячах метров у меня под ногами.
Чжаньчжи Кенчжунь уже несся ко мне, перескакивая с кронштейна на кронштейн, лихорадочно перестегивая страховку. В его глазах застыл непонятный ужас, и на мгновение я испугался, что с Энеей стряслась беда. Сердце отчаянно заколотилось, паника накатила с такой стремительностью, что я едва не оступился, но вовремя взял себя в руки и замер, балансируя на кронштейне и с трепетом дожидаясь Чжаньчжи.
Перепрыгнув ко мне, Чжаньчжи был настолько взвинчен, что не находил слов и только настойчиво тыкал в меня пальцем. Я никак не мог взять в толк, чего же он хочет. Должно быть, видел мои комичные выкрутасы на качающемся брусе и встревожился. Чтобы показать ему, что все в порядке, я взялся за обвязку и хотел показать надежно пристегнутый карабин страховки.
И никакого карабина не обнаружил. Я так и не пристегнулся к последней веревке. Я скакал, балансировал, висел и прыгал без всякой страховки. Ничто не отделяло меня от…
Внезапно на меня накатила дурнота и головокружение. Покачиваясь, я проковылял три шага и привалился к холодному камню. Нависающий склон толкнул меня в плечи, будто вся гора склонилась вперед, пытаясь спихнуть меня с кронштейна.
Подтянув закрепленную Лхомо веревку, Чжаньчжи снял карабин с моей кладовки и пристегнул меня. Стараясь совладать с желудком, чтобы меня не стошнило рядом с Чжаньчжи, я лишь молча кивнул.
В десяти метрах от нас, за выступом скалы, Харуюки и Кенширо оживленно подавали мне знаки: они пробили еще одну идеальную скважину и хотят, чтобы я поторопился с установкой кронштейнов.
Делегация, направлявшаяся в Поталу на вечерний прием в честь Ордена, вышла в путь вскоре после общей полуденной трапезы. Я наконец-то увидел Энею, но не смог перекинуться с ней ни словом; мы лишь обменялись многозначительными взглядами, да еще она одарила меня такой улыбкой, что у меня колени подкосились.
Приглашенные собрались на нижнем ярусе, а многотысячная толпа рабочих, монахов, поваров, схоластов и носильщиков махала нам и подбадривала приветственными криками с верхних террас. В седловинах восточной части хребта заклубились дождевые облака, вливаясь в ущелье, но небо над Цыань-кун-Су оставалось девственно-голубым, и красные молитвенные флаги верхних террас выделялись на его фоне ослепительно ярко.
Все мы оделись по-дорожному, положив официальные костюмы в водонепроницаемые заплечные мешки. Я, естественно, предпочел собственный рюкзак. Приемы у далай-ламы по традиции проходят поздно вечером, и у нас в запасе больше десяти часов, но до Поталы шесть часов дороги по Вышнему Пути, а курьеры и летун, прибывшие в Йо-кунь утром, сообщили, что за Куньлунем погода испортилась, так что не мешало бы поторопиться.
Порядок шествия определен протоколом: впереди Чарльз Чи-кьяп Кэмпо, градоначальник Йо-куня и сюаньилан Храма-Парящего-в-Воздухе. Настоятель Храма Кэмпо Нга-Вань Таши, почти равный ему по положению, шагов на пять позади. Вокруг этих сановников так и роятся помощники, монахи и телохранители, а их «дорожные» костюмы великолепием дадут сто очков вперед моему официальному.
Следом шагают юные монахи Гьяло Тхондап и Лобсанг Самтен — двоюродный и родной братья далай-ламы; смуглолицые и белозубые, они радуют глаз легкой походкой и звонким смехом, присущим здоровым юношам с ясным рассудком. Ярко-красный скалолазный халат Лобсанга придает ему сходство с ходячим молитвенным флагом, сопровождавшим нашу процессию вдоль узкой галереи к расселине Йо-куня.
Распорядитель строительных работ Дзипон Шакабпа идет в компании Джорджа Цзаронга, нашего круглолицего мастера. Его неразлучный друг Джигме Норбу, не получивший приглашения, на сей раз остался в Храме, чувствуя себя уязвленным. Пожалуй, впервые на моей памяти Джордж не улыбается, зато Дзипон болтает без умолку, сопровождая рассказ преувеличенной жестикуляцией. Рядом шагают несколько рабочих, надумавших проводить их хотя бы до Йо-куня.
Тромо Трочи из Дхому, торговец с юга, путешествует в компании своей неизменной спутницы — рослой овцекозы, навьюченной образчиками товаров. На ходу три бубенчика, болтающиеся на ее косматой шее, позвякивают, как храмовые колокола. Лхомо Дондруб должен присоединиться к нам только в Потале, но его присутствие символизирует верхний вьюк со штукой новой ткани для дельтаплана.
Мы с Энеей идем замыкающими.
Я не раз пытался затеять разговор о вчерашней ночи, но всякий раз она заставляла меня умолкнуть, приложив палец к губам и кивнув на идущего поблизости торговца или кого-нибудь еще. В конце концов я ограничился непринужденной болтовней о последних днях трудов над верхними павильонами и галереями Храма.
В Йо-куне нас встречают толпы людей, выстроившихся вдоль галерей и аппарелей, размахивая флажками и хоругвями. Стоя на террасах и крышах приткнувшихся к скале домов, горожане хором приветствуют своего градоправителя и всех нас.
А за околицей Йо-куня, у стартовых террас единственной канатки на пути в Поталу, мы встречаем еще одну делегацию, направляющуюся на прием, — Дорже Пхамо и девять ее жриц. Паланкин Дорже Пхамо несут девять мускулистых монахов, потому что она настоятельница Самден-дацана — мужского монастыря километрах в тридцати от Йо-куня, на южных склонах того же хребта. Когда Дорже Пхамо исполнилось три года, открыли, что она — воплощение первоначальной Дорже Пхамо, Громомечущей Матери-свиньи. Теперь ей уже девяносто четыре стандартных года. Она чрезвычайно важная персона, и больше семидесяти лет была хоругвью, старшиной общины и аватарой женского монастыря Оракула в Йамдрок Дзо, размещенного еще километров на шестьдесят подалее на отвесной стене хребта. Ныне же Громомечущая Мать-свинья, девять сопровождающих ее жриц и десятка три носильщиков и телохранителей дожидаются очереди пристегнуть массивные карабины паланкина к тросу канатки.
Выглянув сквозь занавески, Дорже Пхамо заметила нашу компанию и поманила Энею к себе. Из брошенных мимоходом замечаний Энеи я узнал, что она несколько раз побывала в дацане Оракула в Йамдрок Дзо ради знакомства с Дорже и крепко с ней подружилась. А еще А.Беттик по секрету рассказал мне, что Дорже Пхамо недавно заявила своим жрицам из дацана Оракула и монахам из Самден-дацана, будто воплощение живого Будды Сострадательного — Энея, а не Его Святейшество нынешний далай-лама. Как сказал А.Беттик, благодаря популярности Дорже Пхамо весть об этой ереси разлетелась по всему Тянь-Шаню, но далай-лама еще никак не отреагировал на эту дерзость.
Пока обе делегации дожидаются очереди на канатку, обе женщины — моя Энея и старуха в паланкине — беззаботно болтают и смеются. Должно быть, Дорже Пхамо настояла, чтобы мы отправились первыми, потому что носильщики убрали паланкин с дороги, девять жриц низко поклонились, а Энея жестом поманила нашу группу на террасу. Чарльз Чи-кьяп Кэмпо и Кэмпо Нга-Вань Таши явно чувствовали себя не в своей тарелке, пока помощники пристегивали их салазки к тросу, — не из-за тревоги за собственную безопасность, но из-за попрания протокола; честно говоря, я не понял, в чем оно состояло, да и не очень-то интересовался. Я только и думал, как бы улучить минутку, чтобы поговорить с Энеей наедине. Или просто поцеловать.
По пути в Поталу нас застал ливень. За три месяца пребывания на Тянь-Шане меня не раз накрывало летними грозами, но этот дождь — студеный предвестник муссонов — окутал нас клубами холодного тумана. Мы успели оставить канатку позади прежде, чем небо заволокло тучами, но, когда мы выбрались на восточную сторону хребта Куньлунь, на Вышнем Пути поблескивал лед.
Вышний Путь — это скальные карнизы, полки, мощеные дорожки на отвесных стенах, деревянные галереи на северо-западных отрогах Хуа-Шаня — Горы-цветка, а еще — долгая череда террас и подвесных мостов, соединяющих заснеженные отроги Хуа-Шаня с Куньлунем. Там же находится второй по длине подвесной мост на планете, связывающий хребет Куньлунь с хребтом Пхари, а дальше ведут новые галереи, мосты и карнизы, бегущие вдоль восточного склона хребта Пхари к Пхари-Базару. Там остается лишь пройти через ущелье и выйти на дорогу до Поталы, проложенную по карнизу почти строго на запад.
Обычно это просто шестичасовая прогулка по залитым солнцем горам, но в тот день пришлось предпринять опасный и изнурительный переход сквозь клубящийся туман и ледяной дождь. Помощники градоначальника и настоятеля Храма пытались укрыть своих сановников ярко-красными и желтыми зонтами, но обледеневший карниз порой сужался настолько, что приходилось идти гуськом, и сановники очень скоро вымокли до нитки. Переправа через подвесные мосты обратилась в форменный кошмар — их «настил» состоит из единственного, густо оплетенного троса; вертикально вверх идут пеньковые «балясины», перилами служат горизонтальные веревки, а над головой проходит второй толстый трос. Обычно удержаться на нижнем тросе проще простого — придерживаешься за боковые веревки, но в такой ливень переправа требует крайней сосредоточенности. Впрочем, местные жители, пережившие множество муссонов, проделывали такое десятки раз и преодолевали мосты с привычным проворством, только мы с Энеей застревали на раскачивающихся, уходящих из-под ног тросах, цепляясь за обледеневшие веревки, то и дело норовившие выскользнуть из рук.
Несмотря на грозу — а может быть, именно из-за нее, — кто-то зажег факелы Вышнего Пути вдоль всего восточного склона хребта, а светильники, рдеющие в густом тумане, обозначали изгибы и повороты деревянных галерей, поднимающиеся и спускающиеся лестницы, новые мосты. Мы прибыли на Пхари-Базар как раз на закате, хотя из-за непогоды казалось, что уже гораздо позже. Там к нам присоединились остальные группы, направлявшиеся в Зимний дворец, и через расселину на запад двинулась внушительная вереница человек из семидесяти. Паланкин Дорже Пхамо по-прежнему покачивался рядом с нами, и, по-моему, не я один завидовал его обладательнице, сидевшей в тепле и сухости.
Честно говоря, я был разочарован: мы планировали прийти в Поталу на вечерней заре, когда от протянувшихся с севера на юг хребтов и высоких пиков еще исходит мягкое альпийское сияние. Я ни разу не бывал в этих краях и с нетерпением ждал, когда покажется дворец. Перед нами открылся уходящий вдаль ряд карнизов и галерей, озаренных светом факелов, — это и был широкий Вышний Путь между Пхари и Поталой. У меня в рюкзаке лежал лазерный фонарик: уж и сам не знаю, зачем я его захватил — то ли для самообороны в случае чего, то ли дорогу во тьме отыскивать. На этом отрезке самой оживленной из дорог толстая корка льда была везде, где только можно — на скалах, террасах, пеньковых перилах мостов и на ступенях. Не представляю, как можно даже близко подойти к канатке в такую-то погоду, но поговаривали, что самые отчаянные из гостей добирались именно так.
В Запретный город мы вступили часа за два до начала приема. Тучи немного рассеялись, дождь стих, и, впервые увидев Зимний дворец, я невольно затаил дыхание, напрочь забыв обо всех мелких огорчениях.
Зимний дворец стоит на громадном пике, возносящемся на фоне высочайших вершин Кукунора с хребта Желтая Шапка. Сквозь разрывы в облаках нам открылся Дрепань — монастырь, приютивший тридцать пять тысяч монахов, он окружает город — ярус за ярусом — высокими каменными зданиями, взбирающимися по отвесным склонам; тысячи окон сияют светом фонарей, на балконах, террасах и у входов горят факелы; а позади и выше, золотыми кровлями касаясь клубящихся облаков, высится Потала — Зимний дворец далай-ламы, — переливающаяся мириадами огней, подсвеченная последними отблесками зари на вершинах Кукунора.
Здесь помощники и провожающие повернули обратно, в Запретный город вошли только приглашенные.
Вышний Путь стал ровнее и шире, превратившись в настоящий тракт пятидесяти метров шириной, вымощенный золотыми камнями, обрамленный рядами факелов и окруженный бессчетными храмами, ступами, кумирнями, постройками внушительных монастырей и гарнизона. Дождь совсем перестал, тракт блестел золотом, а перед колоссальными стенами и воротами Дрепаня и Поталы сновали сотни и сотни красочно разодетых паломников и жителей Запретного города. Монахи в шафранно-желтых рясах держались небольшими, молчаливыми группками; дворцовые чиновники в ярко-красных и роскошных пурпурных одеждах и желтых шляпах, смахивающих на опрокинутые блюда, целеустремленно вышагивали мимо солдат в синей форме, с черно-белыми полосатыми пиками; пробегали курьеры в облегающих оранжево-красных или сине-золотых костюмах; плавно выступали придворные дамы в длинных шелковых платьях — небесно-голубых, нежно-лазоревых и кобальтово-синих, — шелестя шлейфами по влажным камням золотой мостовой; красношапочники — в малиновых шелковых шляпах с малиновой же бахромой; друнгпа — народ лесистых долин — в косматых папахах из овцекозьего меха и костюмах, украшенных яркими белыми, красными, рыжими и золотыми перьями, и заткнутыми за кушаки длиннющими церемониальными саблями; и наконец, простые люди Запретного города — конечно, не такие колоритные, как сановники, повара, садовники, слуги, учителя, каменщики и камердинеры, — все до единого в зелено-синих или оранжево-золотых халатах, а челядь Зимнего дворца далай-ламы — численностью в несколько тысяч — мелькала там и тут в малиново-золотых одеждах и неизменных шляпах из войлока и шелка с жесткими полями шириной сантиметров пятьдесят, чтобы не пострадала от солнца аристократическая дворцовая бледность и не беспокоил дождь в сезон муссонов.
В сравнении с ними наша вымокшая группа паломников выглядела блеклой и потрепанной, но я и думать забыл о собственной внешности, когда мы вошли в шестидесятиметровые — в высоту — врата монастыря Дрепань и зашагали по мосту Ки-Чу.
Мост в 20 метров шириной и 115 длиной сделан из самой современной углеродной пластистали и сияет, как черный хром. А под ним — пустота. Мост перекинут через глубокую расщелину, и в тысячах метров под нами курятся фосгеновые тучи. На востоке, откуда мы подошли, строения Дрепаня взбираются в гору километра на три; его плоские стены, горящие окна, даже сам воздух опутан хитроумной паутинной вязью служебных канаток, напрямую соединяющих монастырь с дворцовыми владениями. На западе — перед нами — Потала поднимается по крутым склонам на шесть километров с лишком; сотни отполированных каменных фасадов и десятки золотых крыш отражают вспышки молний, вспыхивающие в тучах, проплывающих над самыми кровлями. В случае нападения мост Ки-Чу может втянуться в западную стену меньше чем за тридцать секунд, не оставив агрессору ни пяди, ни малейшей лазейки на полкилометра отвесной стены.
Но мост не ушел у нас из-под ног. Вдоль парапетов по обе стороны выстроились стражники в парадной форме, и каждый держал вовсе не бутафорскую пику, или же плазменную винтовку. На противоположном конце Ки-Чу мы задержались у богато изукрашенных Парго-Калинь — Западных врат. Грандиозная арка восьмидесятипятиметровой высоты вся светилась изнутри; свет пробивался сквозь тысячи затейливых узоров, и ярче всего сияли два исполинских глаза, не мигая глядевших поверх Ки-Чу и Дрепаня на восток.
Каждый из нас задержался, проходя под Парго-Калинь. Миновав врата, оказываешься уже на территории Зимнего дворца, хотя до самой двери еще шагов тридцать. А потом надо подняться на тысячу ступенек. Энея рассказывала, что истовые паломники из всех уголков Тянь-Шаня проходят путь до дворца на коленях, а иные простираются ниц на каждом шагу, в самом буквальном смысле измеряя сотни и тысячи километров пути собственным ростом — только бы удостоиться чести пройти под Западными вратами и коснуться лбом последнего отрезка моста Ки-Чу из почтения к далай-ламе.
Войдя рука об руку, мы с Энеей переглянулись.
Предъявив на главном входе свои приглашения стражникам и чиновникам, мы поднялись на тысячу ступенек. Я очень удивился, увидев самый настоящий эскалатор, но Тромо Трочи из Дхому объяснил, что включают его нечасто, — чтобы не разочаровывать паломников.
Выше, на первых публичных ярусах, у нас снова проверили приглашения, а потом слуги забрали у нас мокрую верхнюю одежду и проводили в комнаты; там уже можно было принять ванну и переодеться. Сюаньилану Чарльзу Чи-кьяп Кэмпо по сану полагались небольшие апартаменты на семьдесят восьмом ярусе дворца: нас же после бесконечно долгого спуска по наружным галереям (в окнах блестели мокрые красные крыши монастыря Дрепань, вспыхивающие отблесками зарниц) встретили новые слуги. Распорядители празднества позаботились о ночлеге для гостей: каждому выделили хотя бы отдельный альков с занавесом, а в смежных душевых были горячая вода, ванны и даже современный акустический душ.
Вообще-то я не захватил с собой в Храм-Парящий-в-Воздухе ни фрака, ни даже самого завалящего смокинга (впрочем, их у меня и не было), но Лхомо Дондруб с друзьями в складчину снарядили меня для сегодняшнего торжества. Я натянул на себя черные брюки и черные лаковые штиблеты, белую шелковую рубашку с золотым жилетом и красно-черный шерстяной верхний жилет, надевающийся крест-накрест наподобие фелони, перехваченный на поясе шелковым малиновым кушаком. Поверх жилетов — черный праздничный плащ из тончайшего шелка с западных отрогов Музтаг-Ата, украшенный затейливой узорчатой каймой из переплетающихся красных, золотых, серебряных и желтых нитей. Доверяя мне один из лучших своих плащей, Лхомо предупредил, что швырнет меня в пропасть с самой высокой террасы, если я испачкаю, порву или потеряю его. Вообще-то Лхомо добродушный славный малый — что в принципе редкость среди летунов-одиночек, — но, боюсь, он вовсе не шутил.
А.Беттик ссудил мне серебряные браслеты, купленные по случаю на пестром базаре Сиванму. На плечи я накинул красный башлык из пуха и шерсти — его мне одолжил Джигме Норбу, всю жизнь тщетно ждавший приглашения в Зимний дворец. Нефритовый талисман Срединного Царства на серебряной цепочке одолжил плотник Чжаньчжи Кенчжунь.
И вот к нам вошли слуги в золотых одеяниях и объявили, что пора, и мы направились в главный аудиенц-зал близ Тронной палаты. Наружные галереи были забиты сотнями гостей, они неспешно ступали по кафельным полам, шелестя шелками, позвякивая драгоценностями, наполняя воздух ароматами духов и благовоний. Чуть впереди две жрицы бережно вели под руки Дорже Пхамо, все три — в элегантных шафранно-желтых одеждах. Дорже не надела никаких украшений, но ее белоснежно-седые волосы были перевиты лентами, уложены хитроумными буклями и заплетены в красивые косички.
Наряд Энеи был незамысловат, но ослепителен — темно-синее шелковое платье, обнаженные плечи прикрыты кобальтовой пелеринкой, на груди нефритово-серебряный талисман Срединного Царства, а волосы заколоты серебряным гребнем, удерживающим вуалетку. Лица женщин были благопристойно прикрыты вуалями, и я порадовался, что эта деталь туалета изысканно маскирует внешность моей возлюбленной.
Энея взяла меня под руку. Вместе с длиннейшей вереницей гостей мы прошествовали бесконечными коридорами, свернули направо и поехали по винтовой лестнице-эскалатору на верхние ярусы.
— Волнуешься? — шепнул я.
В ответ она лишь сверкнула глазами из-под вуалетки и стиснула мою ладонь.
— Детка, временами ты видишь будущее, — не отступал я. — Я знаю, что видишь. Так вот… нам удастся уйти отсюда живыми?
Она повернулась, чтобы ответить, и я склонился к ней.
— Рауль, в будущем каждого предопределено очень немногое. Большинство событий текуче, как… — Она указала на игру струй фонтана. — Но я не вижу причин для беспокойства, а ты? Сегодня здесь тысячи гостей. Далай-лама сможет лично поприветствовать лишь немногих. Его гостям… Ордену… в общем, не важно кому… откуда им знать, что мы здесь?
Я кивнул, но мой кивок не означал согласия.
Внезапно Лобсанг Самтен, брат далай-ламы, в полное нарушение протокола двинулся вниз по идущему вверх эскалатору. Он широко улыбался, восторг просто переполнял его.
— Гости ужасно важные! — Он обращался только к нашей группе, но сотни людей на эскалаторе подались в нашу сторону. — Я сейчас говорил с нашим наставником, он помощник второго заместителя министра двора. Сегодня мы принимаем здесь не просто миссионеров!
— В самом деле? — приподнял брови сюаньилан Чарльз Чи-кьяп Кэмпо, блиставший великолепием многослойных одеяний из алого и золотого шелка.
— В самом деле! — Лобсанг улыбнулся еще шире. — К нам прибыл кардинал Имперской Церкви. Очень важный кардинал, с самыми ближайшими своими помощниками.
У меня в груди вдруг образовалась сосущая пустота, словно сердце сорвалось в бездонную пропасть.
— Какой кардинал? — спокойно поинтересовалась Энея.
Мы уже приближались к вершине винтовой лестницы, и вокруг стоял гул множества приглушенных голосов.
Лобсанг Самтен гордо расправил плечи.
— Кардинал Мустафа! — торжественно провозгласил он. — По-моему, особа, приближенная к самому Папе. Вот как уважают в Священной Империи моего брата!
Энея крепко сжала мое запястье, но я не смог разглядеть под вуалью выражение лица.
— И еще несколько очень знатных гостей, — продолжал монах. — Среди них есть даже какие-то диковинные дамы. По-моему, военные.
— А ты не узнал их имена? — спросила Энея.
— Только одной. Генерал Немез. Она ужасно бледная. — Брат далай-ламы с широкой, чистосердечной улыбкой повернулся к Энее: — Кардинал особо просил о встрече с вами, мадемуазель Энея. С вами и вашим кавалером, месье Эндимионом. Министр двора был крайне изумлен, но организовал отдельный прием для вас и имперских послов.
Подъем окончился. Ступени эскалатора ушли в мраморный пол. Поддерживая руку Энеи, я ступил в шумный, упорядоченный хаос главного аудиенц-зала.
Глава 19
Далай-ламе всего восемнадцать стандартолет. Энея, А.Бетик, Тео и Рахиль не раз говорили мне об этом, но я все равно изумился, увидев на пышном высоком троне хрупкого подростка.
В грандиозном зале уже собралось не меньше четырех тысяч человек, но широкие эскалаторы все доставляли новых и новых гостей в приемную размером с хороший ангар — золоченые колонны уходят на двадцать метров ввысь, к расписному потолку, на полу бело-голубые мозаики с сюжетами из «Бардо Тёдол»[117] и сценами освоения планеты буддистскими переселенцами со Старой Земли. Мы проходим сквозь огромную золоченую арку и оказываемся в следующем зале, потолком здесь служит огромный стеклянный купол, а за ним клубятся облака, сверкают молнии и прорисовывается освещенный фонарями склон горы. Тысячи гостей блистают великолепием переливающихся шелков, тяжелых роскошных тканей, пышностью разноцветных плюмажей, затейливых причесок, изящных браслетов, ожерелий, серег, тиар и поясов из серебра, аметиста, золота, нефрита, ляпис-лазури, а среди всего этого великолепия мелькают десятки монахов и архатов в простых одеяниях — оранжевых, золотых, желтых, шафранных и красных, и их бритые головы блестят в сиянии сотен мерцающих светильников на треногах. И все же зал настолько огромен, что тысячные толпы теряются в нем — паркет сияет бликами огней, а между людским сонмом и золотым троном — двадцатиметровая зона отчуждения.
Пение труб встречает все новых гостей, стоит им ступить на изразцовый пол вестибюля. Монахи, дующие в бронзовые и костяные рожки, выстроились в шеренги от эскалаторов до арок входа — десятки метров неумолчного гудения. Сотни рожков тянут одну ноту несколько минут, и вдруг эта нота сменяется другой — как раз, когда мы входим в главный зал. Позади нас, под гулкими сводами вестибюля, звук резонирует, подхваченный и усиленный двадцатью четырехметровыми трубами. Монахи, дующие в эти трубы, стоят в небольших нишах, установив инструменты на подставках, и огромные, обращенные вверх раструбы напоминают мне цветки лотоса. К несмолкаемо тягучей последовательности басовых нот примешивается гул неимоверно большого, по крайней мере пятиметрового гонга, по которому бьют через определенные интервалы — словно гудок океанского лайнера аккомпанирует рокоту лавины. В воздухе витает тонкий аромат благовоний, и над головами разряженных гостей стелется легкая пелена дыма от кадильниц, колышущаяся в такт переливам мелодии труб и ударам гонга.
Все лица обращены к далай-ламе. Я беру Энею за руку и веду ее направо, подальше от тронного возвышения. Между нами и далеким троном нервно прохаживаются важные сановники.
Внезапно трубный гул обрывается. Эхо последнего удара гонга стихает, прокатившись по залу. Все приглашенные в сборе.
Слуги с натугой налегли на исполинские двери, закрывая их за нами. Стало так тихо, что слышно потрескивание огня в бесчисленных светильниках. Кристальная прозрачность потолка замутилась пеленой дождя. Одетый в простой красный халат далай-лама сидит с легкой улыбкой на губах, скрестив ноги, на горе шелковых подушек. Голова далай-ламы чисто выбрита. А правее и ниже сидит на собственном троне регент Ретинь Токра, в согласии с остальным высшим духовенством управляющий страной до совершеннолетия далай-ламы. Энея рассказывала, что в народе регента называют земным воплощением коварства, но я увидел лишь одетого в обычный красный халат смуглого узколицего человека с длинным носом и острым подбородком, раскосыми глазами и тоненькими усиками. Слева от первосвященника — министр двора, настоятель настоятелей — древний старик, непрерывно улыбающийся многочисленным гостям. По левую руку от него — официальная прорицательница, тоненькая молодая женщина, остриженная под бобрик, в желтой полотняной рубахе и красном халате. По словам Энеи, прорицательница предсказывает будущее в состоянии глубокого транса. Еще левее — пять эмиссаров Священной Империи. Золоченые столбики трона мешают толком разглядеть их лица, и приходится догадываться по одежде: коротышка в алой кардинальской мантии, три субъекта в черных сутанах и один военный.
Справа от трона регента стоит главный глашатай и глава личной охраны Его Святейшества, легендарный Карл Линга Уильям Эйхедзи — лучник и живописец, мастер карате и икебаны, философ и экс-летун, — как всегда, в отличной форме, и очень напоминает безупречно действующий механизм. Шагнув вперед, он возвестил, заполнив раскатами голоса пространство зала:
— Достопочтенные гости, прилетевшие к нам издалека, дугпа, друкпа, друнгпа — жители высочайших хребтов, благодатных расселин и лесистых склонов, дзасас, высокочтимые сановники, монахи, архаты, посвященные, ко-са четвертого ранга и выше, благословенные, облаченные в су-ги, жены и мужья удостоенных чести, ищущие Просветления, мне досталась высочайшая честь приветствовать вас здесь сегодня от имени Его Святейшества Гетсванга Нгванга Лобсанга Тенгина Гьяпсо Сисанваньгьюра Чжангпа Мапай Дхепала Сангпо, воплощения святости, всепобеждающей кротости, силы слова, чистоты ума, божественной мудрости, оплота веры, океана премудрости!
Бронзовые и костяные рожки издали высокие, чистые звуки. Огромные трубы взревели, как динозавры. От удара гонга вибрация прошила меня от макушки до пят, даже зубы заныли.
Главный глашатай отступил назад. Заговорил Его Святейшество далай-лама, и его дискант негромко, но отчетливо зазвучал в громадном зале.
— Спасибо вам всем за сегодняшний визит. Мы поприветствуем наших новых друзей из Священной Империи в более тесной обстановке. Многие из вас просили встречи со мной — вы получите мое благословение на личной аудиенции сегодня вечером. Наши друзья из Империи поговорят со многими из вас сегодня и в последующие дни. Во время бесед с ними помните, что они наши братья и сестры в дхарме, в поисках Просветления. Пожалуйста, помните, что наше дыхание есть их дыхание и что все наши дыхания суть дыхание Будды. Спасибо. Пожалуйста, наслаждайтесь нашим сегодняшним празднеством.
И тут возвышение, трон и все прочее беззвучно ушло назад сквозь проем в стене и скрылось за сомкнувшимися завесами, и по залу прокатился вздох многотысячной толпы.
Тот вечер запомнился мне почти сюрреалистическим сочетанием: официальный папский прием посреди карнавального разгула. Конечно, мне ни разу не приходилось бывать на приеме у Папы — таинственный кардинал рядом с троном был единственным представителем высшего духовенства, кого мне довелось встретить, — но волнение присутствующих при виде далай-ламы, наверное, сопоставимо с тем, что чувствуют в присутствии Папы, а помпезность аудиенции не может не произвести впечатления. Солдаты-монахи в красных одеждах и красных или желтых шапках по одному подводили немногих избранных к сомкнувшейся завесе — там, где исчез трон, тяжелые складки ткани плавно расходились, пропуская счастливчика, дальше следовала вторая завеса, потом отодвигалась дверь — и он представал пред светлым ликом далай-ламы. Тем временем остальные фланировали по паркету, сверкающему отблесками тысяч огней, толпились у длинных столов, ломившихся от изысканных яств, танцевали под музыку небольшого оркестрика, в котором уже не было труб — ни маленьких, ни больших. Я спросил Энею, не хочет ли она потанцевать, но она лишь с улыбкой покачала головой и повела нашу группу к ближайшему банкетному столу. Скоро все мы были захвачены беседой с Дорже Пхамо и ее жрицами.
Понимая, что веду себя крайне бестактно, я все-таки поинтересовался у Дорже Пхамо, почему ее зовут Громомечущей Матерью-свиньей. И пока мы лакомились жареными шариками дзампа и пили душистый чай, она поведала свою историю.
На Старой Земле первая настоятельница мужского буддистского монастыря на Тибете считалась земным воплощением Громомечущей Матери-свиньи — очень могущественного полубожества. Эта первая Дорже Пхамо якобы не только превратилась в свинью сама, но и превратила всех лам монастыря в хряков, чтобы отпугнуть вражеских воинов.
А когда я прямо спросил последнее воплощение Громомечущей Матери, сохранилась ли у нее способность обращаться в свинью, элегантная старушка вскинула голову и сурово произнесла:
— Если это отпугнет нынешних захватчиков, я незамедлительно так и сделаю.
За все три часа, что мы с Энеей прогуливались, беседовали, слушали музыку и смотрели на молнии сквозь прозрачный купол потолка, я не слышал больше ни одного дурного слова об эмиссарах Священной Империи, хотя, несмотря на великолепие костюмов и веселье гостей, в воздухе ощущалось какое-то напряжение. Впрочем, ничего удивительного: не считая редких визитов вольных торговцев, Тянь-Шань почти три века был полностью отрезан от Пасема и всех миров бывшей Гегемонии.
Было уже довольно поздно, и я начал склоняться к мысли, что Лобсанг Самтен просто что-то перепутал, говоря нам об аудиенции у далай-ламы, и тут к нам подходят дворцовые вельможи в большущих красно-желтых шляпах с загнутыми полями (совсем как шлемы древнегреческих воинов, я их как-то раз видел на картинке) и приглашают следовать за ними.
Я глянул на свою спутницу: не удрать ли нам прямо сейчас? — но Энея не выказала ни малейших признаков страха, она просто кивнула и взяла меня под руку. Толпа гостей расступилась, и мы чинно зашагали за вельможами по длинному живому коридору, будто я отец, ведущий дочь под венец… или будто мы только что обвенчались. Ну что ж, во всяком случае, лазерный фонарик и комлог при мне. Если Ордену вздумается схватить нас, лазер, конечно, не спасет, но корабль вызвать можно. Пусть уж лучше садится прямо здесь, прямо на дивный хрустальный потолок, но Энею я схватить не позволю.
Миновав первую завесу, мы оказываемся под просторным балдахином. Музыка и шум веселья сюда еще долетают. Чиновники в красных шляпах просят нас вытянуть руки перед собой, ладонями вверх, и кладут каждому на протянутые ладони белый шелковый шарф. Потом нам дают знак проследовать за вторые завесы. Здесь нас встретил поклоном министр двора — Энея ответила ему изящным книксеном, а я неуклюже поклонился — и ввел нас в двери небольшой комнаты, где ждет далай-лама со своими гостями.
Золотая парча, роскошные яркие гобелены (на них постоянно повторяется мотив свастики в причудливых орнаментах среди цветов, свернувшихся драконов и вращающейся мандалы) — все здесь поражает воображение. Двери закрываются, отрезав все звуки из зала; теперь гомон толпы и музыка доносятся из динамиков трех видеомониторов, встроенных в стену. Установленные в разных точках главного аудиенц-зала камеры транслируют сцены веселья, и сидящий на троне юноша вместе с гостями увлеченно следит за экранами.
Мы замерли у порога и стоим неподвижно, пока министр двора не приглашает нас подойти к трону. Далай-лама поворачивается в нашу сторону, министр двора шепчет:
— Не надо кланяться, пока Его Святейшество не поднимет руку. Потом, пожалуйста, не выпрямляйтесь, пока он не уберет ладонь.
Мы останавливаемся в трех шагах перед троном, устланным шикарными покрывалами. Главный глашатай Карл Линга Уильям Эйхедзи негромко объявляет:
— Ваше Святейшество, архитектор строительства Цыань-кун-Су и ее ассистент.
Ее ассистент? Испытывая одновременно замешательство и благодарность к глашатаю, не назвавшему наших имен, я делаю шаг вперед, стараясь держаться позади Энеи. Уголком глаза я замечаю пятерых христианских миссионеров, но в соответствии с требованиями этикета мой взгляд должен быть устремлен к далай-ламе и в то же время скромно потуплен.
Энея подходит к тронному возвышению, старательно держа шарф на вытянутых руках. Министр двора кладет на шарф несколько предметов. Далай-лама протягивает руку и быстро смахивает их на помост справа от себя. Слуга забирает белый шарф, и Энея склоняет голову, молитвенно сложив ладони.
С ласковой улыбкой далай-лама коснулся головы моей спутницы, моей любимой, возложив ладонь на ее русые волосы, словно корону. Наверное, это и есть благословение. Потом он возложил Энее на ладонь алый шарф, взял ее правую руку и пожал с приветливой улыбкой. Министр двора жестом велит Энее встать перед троном регента, а я выступаю вперед и повторяю ту же отработанную церемонию.
Я едва успел разглядеть вещицы, выложенные министром двора на шарф и убранные далай-ламой: небольшая золотая плакетка с рельефом в виде трех гор (как мне потом объяснили, символизирующая Тянь-Шань), стилизованная фигурка человека, столь же условная книга — символ слова, и ступа, то есть храм — символ разума. Все это возникло и исчезло столь стремительно, что я едва успел хоть что-то разглядеть, и сразу же у меня на руке появился алый шарф. Рукопожатие оказалось неожиданно крепким. Как и предписано этикетом, смотрел я в пол, но все-таки заметил краем глаза его широкую улыбку и поспешно ретировался, встав рядом с Энеей.
Столь же молниеносная церемония повторилась и с регентом: белый шарф, ритуальные предметы, алый шарф. Но регент не стал обмениваться рукопожатием ни с Энеей, ни со мной. Как только мы получили благословение регента, министр двора дал знак, и мы подняли головы.
И тут я едва не схватился за лазерный фонарик, чтобы открыть беспорядочный огонь. Рядом с далай-ламой, прислуживающими ему монахами, министром двора, регентом, прорицательницей, глашатаем, коротышкой кардиналом и тремя его подручными в черных сутанах стояла женщина в черно-красном мундире Имперского Флота. Она как раз вышла из-за спины высокого священника. Взгляд ее темных глаз был прикован к Энее, темные, коротко остриженные волосы обрамляли мертвенно-бледное лицо. Взгляд у нее был как у рептилии — немигающий и пристальный.
Это она пять (нет, в реальном времени — десять) лет назад пыталась убить Энею, А.Беттика и меня на Роще Богов! Это не человек, это робот-убийца, она тогда вывела из игры Шрайка и непременно унесла бы голову Энеи в мешке, не вмешайся отец капитан де Сойя; ему пришлось израсходовать чуть ли не весь энергозапас корабля, чтобы утопить чудовище в бурлящем озере лавы, расплавив скалы у нее под ногами.
И вот она снова вернулась, стоит и смотрит на Энею своими черными, нечеловеческими глазами. Она искала Энею во времени и пространстве, и теперь нашла ее. Нашла нас.
Сердце у меня отчаянно забухало, колени подкосились, зато рассудок заработал, как ИскИн. Лазер лежал в кармане плаща на правом боку, комлог — в левом кармане брюк. Правой рукой я направлю убийственный сфокусированный луч в глаза этой твари, затем переключу фонарик на широкий луч и ослеплю имперских священников. И одновременно вызову корабль.
Но даже если корабль отреагирует без промедления, даже если его не перехватят имперские крейсеры, все равно полет займет несколько минут. К тому времени мы уже будем мертвы.
А прыть этой твари просто поразительна — сражаясь со Шрайком, она просто исчезла, превратилась в хромированную статую. Мне не успеть, не выхватить ни лазер, ни комлог. Рука будет еще на полпути к карману, а мы оба уже отправимся на тот свет.
Я оцепенел. Энея мгновенно поняла, кто это, но в ее взгляде не было испуга. Более того, внешне она вообще никак не отреагировала. Невозмутимо улыбаясь, она обвела взглядом имперских послов и снова обернулась к подростку, сидящему на троне.
Первым заговорил регент Ретинь Токра:
— Об этой аудиенции просили наши гости. От Его Святейшества они услышали о реконструкции Храма-Парящего-в-Воздухе и пожелали познакомиться с молодой женщиной, автором проекта.
Высокий голос регента был так же невыразителен, как и его лицо.
Затем заговорил далай-лама, и богатство интонаций негромкого юношеского голоса с лихвой искупило полнейшее их отсутствие в голосе регента.
— Друзья мои, — он указал на нас с Энеей, — позвольте представить вам наших достойных гостей из Священной Империи. Джон Доменико кардинал Мустафа из Священной Канцелярии, архиепископ Жан-Даниель Брек из папской нунциатуры, отец Мартин Фаррелл, отец Жерар Леблан и командор лейб-гвардии Радаманта Немез.
Мы кивнули. Имперские сановники кивнули тоже. Если далай-лама и нарушил протокол, представляя нам гостей, никто, казалось, не обратил на это внимания.
— Благодарю вас, Ваше Святейшество, — медоточиво проговорил кардинал Мустафа. — Но вы представили нам этих исключительных людей всего лишь как архитектора и ассистента. — Кардинал улыбнулся, продемонстрировав мелкие острые зубы. — Наверное, у вас есть имена?
Пульс у меня зачастил, пальцы непроизвольно дрогнули при мысли о лазере. Энея по-прежнему улыбалась, но не изъявила желания ответить кардиналу. Мысленно я лихорадочно подыскивал вымышленные имена. Но к чему? Конечно, они знают, кто мы такие. Немез никогда не выпустит нас из комнаты… или будет поджидать у выхода из дворца.
И тут, к моему изумлению, слово опять взял юный далай-лама.
— Я с удовольствием доведу процедуру знакомства до конца, ваше преосвященство. Нашего высокочтимого архитектора зовут Ананда, а ее ассистента — лишь одного из множества ее искусных помощников, как я слышал, — зовут Субхадда.
Я ошарашенно моргнул. Неужели кто-то назвал эти имена далай-ламе? После Энея объяснила мне, что Ананда был любимым учеником Будды и сам стал учителем, Субхадда же был странствующим аскетом, последним учеником Просветленного — он встретил Будду всего за несколько часов до его смерти. Очевидно, далай-лама употребил эти имена со скрытой иронией, но я тогда не понял юмора.
— Мадемуазель Ананда, месье Субхадда, очень приятно, — кардинал Мустафа отвесил низкий поклон и оглядел нас с головы до ног, — простите мою бестактность и невежество, мадемуазель Ананда, но по этническим признакам вы заметно отличаетесь от большинства людей, встреченных нами в Потале и близлежащих районах Тянь-Шаня.
Энея кивнула:
— Не следует делать поспешных обобщений, ваше преосвященство. Целый ряд районов на планете колонизирован выходцами из других регионов Старой Земли.
— Конечно, — проворковал кардинал Мустафа. — Не могу не отметить, что ваш стандартный английский почти безупречен. Могу ли я полюбопытствовать, какой из регионов Тянь-Шаня вы и ваш ассистент называете родиной?
— Конечно, — отозвалась Энея в тон кардиналу. — Я появилась на планете в районе хребтов за горами Мориа и Сион, северо-западнее Музтаг-Аты.
Кардинал задумчиво кивнул. Я вдруг обратил внимание, что его воротничок сделан из того же алого муара, что и его мантия и шапочка.
— По-видимому, вы исповедуете иудаизм или ислам, преобладающие в этих районах, как рассказали нам наши хозяева?
— Я неверующая, если рассматривать веру как упование на сверхъестественное.
Кардинал недоуменно поднял бровь. Человек, представленный нам как отец Фаррелл, вопросительно глянул на своего начальника. Ужасающий взгляд Радаманты Немез не дрогнул.
— И тем не менее трудитесь на постройке храма для буддистов, — довольно любезно заметил кардинал.
— Мне поручено реконструировать прекрасное строение. Я горжусь, что избрана для этой работы.
— Несмотря на отсутствие… э-э… упования на сверхъестественное? — В голосе Мустафы прозвучали инквизиторские нотки. Слухи о Священной Канцелярии докатились даже до гиперионского захолустья.
— Наверное, именно благодаря этому, ваше преосвященство. И благодаря вере в мои собственные человеческие способности и в способности моих товарищей по работе.
— Итак, сделанное само оправдывает себя? — напирал кардинал. — Даже если не имеет глубинного смысла?
— Возможно, хорошо исполненное дело само несет в себе глубинный смысл.
Кардинал Мустафа как-то странно фыркнул.
— Хорошо сказано, барышня, хорошо сказано.
Откашлявшись, отец Фаррелл задумчиво сказал:
— Район за горой Сион… Во время облета планеты мы заметили с орбиты, что в этом районе на гребне установлен одинокий нуль-портал. Мы-то думали, что Тянь-Шань никогда не входил в Сеть, но архивы подтвердили, что портал был завершен незадолго до Падения.
— Но никогда не действовал! — воскликнул далай-лама, поднимая палец. — Никто не прибывал на Тянь-Шань и не отбывал с него через портал Гегемонии.
— И в самом деле, — вкрадчиво сказал кардинал. — Что ж, мы так и предполагали, но я должен принести вам наши извинения, Ваше Святейшество. Экипаж нашего корабля, пылая чрезмерным усердием, случайно расплавил окрестные скалы, пытаясь прозондировать с орбиты структуру портала. Боюсь, эта дверь навсегда запечатана лавой.
При этих словах я посмотрел на Радаманту Немез. Она даже не моргнула. По-моему, она вообще не моргала. Взгляд ее был прикован к Энее.
— Не стоит извиняться, ваше преосвященство, — отмахнулся далай-лама. — Нам ни к чему нуль-порталы, которыми никто не пользуется… разве что Священная Империя отыскала способ запустить их? — Эта мысль его позабавила, и он рассмеялся приятным мальчишеским смехом, выдающим, впрочем, острый ум.
— Нет, Ваше Святейшество, — улыбнулся кардинал Мустафа. — Даже Церковь не отыскала способа восстановить Сеть. Я почти не сомневаюсь, что это к лучшему.
Напряжение понемногу отпускало меня, сменяясь чем-то вроде тошноты. У этого мерзкого коротышки в алой сутане хватает наглости говорить Энее, что он знает, как она прибыла на Тянь-Шань, и что этой дорогой ей уже не сбежать. Я с тревогой посмотрел на Энею, но она как ни в чем не бывало проявляла вежливый интерес к беседе. Может, есть еще один портал, о котором Империя просто не знает? Во всяком случае, теперь ясно, почему мы до сих пор живы: охотник загнал мышку в норку, забил все выходы, кроме одного, и приставил к нему кошку или даже кошек — дипломатический корабль на орбите и наверняка еще несколько боевых кораблей где-то в системе. Прибудь я на пару месяцев позже, они захватили бы или уничтожили наш корабль и не выпустили бы Энею из западни.
Но чего они ждут? И к чему весь этот спектакль?
— …нам бы очень хотелось увидеть ваш — как там? — Храм-Парящий-в-Воздухе? Название весьма заманчивое, — говорил архиепископ Брек.
— Пожалуй, это не так-то просто устроить, ваше преосвященство, — нахмурился регент Токра. — Надвигаются муссоны, канатные дороги уже крайне опасны, а во время зимних бурь даже по Вышнему Пути добираться рискованно.
— Чепуха! — воскликнул далай-лама, не обращая внимания на нахмуренные брови регента. — Мы с радостью устроим вам подобную вылазку. Вам непременно надо повидать Цыань-кун-Су. И все Срединное Царство… даже Тай-Шань, Великий пик, где двадцать семь тысяч ступеней ведут к храму Нефритового Императора и Повелительницы Лазурных Облаков.
— Ваше Святейшество, — обменявшись беспокойными взглядами с регентом, министр двора низко склонил голову, — вынужден напомнить вам, что из-за наплыва ядовитых туч добраться до Великого пика Срединного Царства по канатной дороге можно только весной. В ближайшие семь месяцев Тай-Шань будет отрезан от остального мира.
Мальчишеская улыбка далай-ламы угасла — не из-за раздражения, — от досады, что его опекают. Когда же он заговорил, в голосе прорезались командные нотки. Я был знаком с очень немногими подростками, зато повидал достаточно военных, и если доверять моему опыту, из него вырастет незаурядный человек и хороший командир.
— Министр двора, разумеется, мне известно о закрытии канатных дорог. Об этом известно всем. Но мне также известно, что каждую зиму несколько неустрашимых летунов совершают полет с Сянь-Шаня на Великий пик. Иначе как же мы могли бы донести наши государственные указы до наших верноподданных на Тай-Шане? А ведь некоторые дельтапланы могут поднять не только самого летуна, но и пассажиров, верно?
Министр двора отвесил такой низкий поклон, что едва не стукнулся лбом об пол. Голос его задрожал.
— Да-да, конечно, Ваше Святейшество, конечно. Я знаю, что вам это известно, мой повелитель, Ваше Святейшество. Я только имел… Я только имел в виду…
— Не сомневаюсь, — резко бросил регент, — что министр двора имел в виду, Ваше Святейшество, что хотя наиболее отчаянные летуны и совершают этот полет, но большинство из них гибнут. Мы не можем подвергать наших досточтимых гостей такой опасности.
Улыбка снова заиграла на губах далай-ламы, но теперь куда более взрослая, хитрая, почти насмешливая.
— Вы ведь не боитесь смерти, ваше преосвященство? — повернулся он к кардиналу. — Ведь ради этого-то вы и прибыли — чтобы продемонстрировать нам чудо христианского воскресения, не так ли?
— Не только ради этого, Ваше Святейшество, — ласково проговорил кардинал. — Прежде всего мы прибыли поделиться благой вестью о Христе с теми, кто пожелает слушать, а также наладить торговые отношения с вашей прекрасной планетой. — Кардинал улыбнулся. — И хотя Господь даровал нам крест и таинство воскресения, Ваше Святейшество, остается удручающая необходимость получить для совершения таинства частицу тела или крестоформа. Насколько я понял, из вашего моря туч не возвращается никто?
— Никто, — подтвердил далай-лама с лучезарной улыбкой.
— Тогда, пожалуй, — кардинал развел руками, — мы ограничимся посещением Храма-Парящего-в-Воздухе и прочих доступных мест.
Нависло молчание, и я снова бросил взгляд на Энею, полагая, что нас вот-вот отпустят, и гадая, как нам подадут знак и будет ли нас сопровождать министр двора, а по спине у меня бежали мурашки от устремленного на Энею голодного взгляда чудовищной твари. Внезапно молчание нарушил архиепископ Брек.
— Знаете ли, мы с его высочеством регентом Токра обсуждали, — сообщил он, будто прося рассудить спор, — как удивительно сходны наше чудо воскресения и вековечная вера буддистов в перевоплощение.
— А-а-а, — протянул мальчишка на золотом троне, просветлев, словно разговор наконец-то затронул интересную тему, — вот только не все буддисты верят в перевоплощение. Даже до переселения на Тянь-Шань и великих перемен в мировоззрении, не все буддистские секты принимали концепцию переселения душ. Нам доподлинно известно, что Будда отказывался обсуждать с учениками возможность жизни после смерти. «Подобные вопросы, — говорил он, — не имеют отношения к Пути и не могут получить ответа в тесных пределах человеческого существования». Видите ли, господа, в буддизме почти все можно исследовать, постигнуть и использовать для достижения просветления, не опускаясь до сверхъестественного.
Архиепископ пришел в замешательство, но кардинал Мустафа поспешно вступил в разговор:
— Разве не сказал ваш Будда, а я полагаю, что эти слова записаны в одной из ваших священных книг, Ваше Святейшество, и поправьте меня тотчас же, если я заблуждаюсь: «Есть нерожденное, невозникшее, несотворенное и несложенное; не будь их, не было бы спасения от мира рожденного, возникшего, сотворенного и сложенного».
Улыбка юноши даже не дрогнула.
— Да, он действительно сказал так, ваше преосвященство. Очень хорошо. Но разве не существует в нашей физической Вселенной элементов — пока что не постигнутых до конца, — подчиняющихся законам физики и подпадающих под определение нерожденного, невозникшего, несотворенного и несложенного?
— Насколько мне известно, нет, Ваше Святейшество, — довольно любезно отозвался кардинал Мустафа. — Но я не ученый. Я всего лишь бедный священник.
Несмотря на эти дипломатические экивоки, подросток на троне явно намеревался и дальше развивать эту тему.
— Как мы уже упоминали, кардинал Мустафа, буддизм на этой горной планете развивался, и теперь несколько иной, чем был на момент нашей высадки здесь. Теперь преобладает дух дзен-буддизма. А один из великих мастеров дзен-буддизма Старой Земли, поэт Уильям Блейк, некогда сказал: «Вечность влюблена в порождения времени».
На губах кардинала Мустафы застыла вежливая улыбка — свидетельство его непонимания.
Далай-лама больше не улыбался. Лицо его стало серьезно-доброжелательным.
— Не кажется ли вам, что месье Блейк хотел сказать, что время без конца ничего не стоит, кардинал Мустафа? Что любое существо, свободное от смерти — даже Бог, — могло бы позавидовать детям быстротечного времени?
Кардинал кивнул, но не в знак согласия.
— Ваше Святейшество, я не представляю, как может Бог завидовать несчастным смертным. Господь не способен завидовать.
Далай-лама удивленно поднял брови.
— Разве ваш христианский Бог по определению не всемогущ? Тогда он, она, оно наверняка должен обладать и этой способностью — способностью завидовать.
— Ах, это парадокс для детишек, Ваше Святейшество. Признаюсь, я не знаток логической апологетики или метафизики. Но как князь Церкви Христовой я знаю из катехизиса и чувствую душой, что Бог не способен завидовать… особенно своим несовершенным творениям.
— Несовершенным? — переспросил юноша.
— Человечество несовершенно в силу своей предрасположенности к греху, — снисходительно улыбнулся кардинал Мустафа. — Господь наш не способен завидовать способности грешить.
Далай-лама медленно склонил голову.
— Один из наших учителей дзена, Иккью, некогда написал об этом стихотворение:
Все грехи, Свершенные в Трех Мирах, Поблекнут и исчезнут Вместе со мною.Кардинал Мустафа долго молчал и, не дождавшись продолжения, поинтересовался:
— О каких трех мирах вы говорите, Ваше Святейшество?
— Стихи написаны еще до эпохи космических полетов. Три мира — прошлое, настоящее, будущее.
— Очень мило, — кивнул кардинал Святой Инквизиции. Отец Фаррелл смотрел на парнишку с чем-то вроде сдержанного отвращения. — Но мы, христиане, считаем, что грех, или последствия греха, или воздаяние за грех, если уж на то пошло, не кончаются с жизнью, Ваше Святейшество.
— Вот именно, — улыбнулся юноша. — Как раз поэтому-то мне и любопытно, ради чего вы так растягиваете жизнь с помощью этого своего крестоформа. Мы верим, что смерть смывает все, что написано на грифельной доске. Вы же верите, что за смертью следует Страшный Суд. Так к чему оттягивать его?
— Мы принимаем крестоформ как таинство, дарованное нам Господом нашим Иисусом Христом, — терпеливо разъяснил кардинал Мустафа. — Этот суд впервые был отсрочен Спасителем нашим, взошедшим ради нас на крест, Господом, добровольно принявшим на себя все грехи мира и тем даровавшим нам возможность жизни вечной на небесах, если таковым будет наш свободный выбор. Крестоформ — еще один дар Спасителя нашего, дающий нам время привести в порядок дома свои перед последним Судом.
— А-а, ну да, — вздохнул юноша. — Но Иккью, пожалуй, подразумевал, что грешников просто нет. Что нет греха. Что «наша» жизнь принадлежит не нам…
— Именно так, Ваше Святейшество, — перебил кардинал Мустафа, словно спеша похвалить ученика-тугодума. Я заметил, что регент, министр двора и остальные приближенные поморщились от этой бестактности. — Наша жизнь принадлежит не нам, но Господу нашему и Спасителю… служению Ему и Святой Матери Церкви.
— …принадлежит не нам, но Вселенной, — досказал далай-лама. — И что наши деяния — хорошие и дурные — также есть лишь свойство Вселенной.
— Красивая фраза, Ваше Святейшество, — поморщился кардинал Мустафа, — но, пожалуй, слишком абстрактная. Без Бога Вселенная может быть только машиной — бездумной, бессердечной, бесчувственной.
— Почему? — спросил юноша.
— Прошу прощения, Ваше Святейшество?
— Почему Вселенная должна быть бездумной, бессердечной и бесчувственной без вашего определения Бога? — негромко сказал он и прикрыл глаза.
Утра роса воспарит — И вот уже нет ее. Разве пребыть здесь вовек Кому-то дано?Кардинал Мустафа сложил пальцы и коснулся ими губ, словно в молитве.
— Очень мило, Ваше Святейшество. Снова Иккью?
— Нет. Я. — Далай-лама ослепительно улыбнулся. — Когда мне не спится, я слагаю стихи дзен.
Священники фыркнули. Немез не отводила взгляда от Энеи. Кардинал Мустафа повернулся к моей спутнице:
— Мадемуазель Ананда, а у вас есть какое-либо мнение по этим немаловажным вопросам?
В первую секунду я даже не понял, к кому он обращается, но потом вспомнил, что далай-лама назвал Энею именем Ананды, любимого ученика Будды.
— Я знаю еще одно небольшое стихотворение Иккью, выражающее мое мнение:
Иллюзорнее, чем знак, Начертанный на воде, Надежда получить от Будды Загробное блаженство.Откашлявшись, архиепископ Брек тоже включился в разговор:
— Оно кажется достаточно прозрачным, мадемуазель. Вы полагаете, что Господь не ответит на наши молитвы?
— Я думаю, что Иккью имел в виду две вещи, ваше преосвященство, — покачала головой Энея. — Во-первых, что Будда нам не поможет. Это, так сказать, не входит в его обязанности. Во-вторых, что рассчитывать на жизнь после смерти глупо, потому что мы по природе своей вечные, нерожденные, неумирающие и всемогущие.
Архиепископ побагровел.
— Эти определения допустимы лишь в отношении Бога, мадемуазель Ананда. — Ощутив на себе тяжелый взгляд кардинала Мустафы, он вспомнил о своей дипломатической миссии, спохватился и неуклюже добавил: — По крайней мере мы так полагаем.
— Для молодого архитектора вы неплохо знаете дзен и поэзию, мадемуазель Ананда, — хмыкнул кардинал Мустафа, явно пытаясь смягчить тон. — Нет ли еще какого-нибудь стихотворения Иккью, которое вы считаете уместным?
Энея кивнула:
Одиноким приходишь на свет, Одиноким уходишь. Это тоже иллюзия. Вот тебе путь: Не придя — никогда не уйдешь.— Да, это был бы славный трюк! — заметил кардинал с наигранной веселостью.
— Иккью учит нас, что можно хотя бы часть жизни прожить вне времени и пространства, в мире, где нет ни рождения, ни смерти, нет прихода и нет ухода, — подавшись вперед, тихо проговорил далай-лама. — В месте, где нет разделенности во времени, нет расстояния в пространстве, нет барьера, отгораживающего нас от тех, кого мы любим, нет стеклянной стены между познанием и нашими сердцами.
Кардинал Мустафа, казалось, онемел.
— Мой друг… мадемуазель Ананда… тоже учила меня этому, — добавил юноша.
По лицу кардинала промелькнула тень презрительной гримасы.
— Был бы крайне признателен, если бы мадемуазель Ананда научила меня — научила всех нас — этому ловкому фокусу, — резко бросил он.
— Надеюсь научить, — сказала в ответ Энея.
Радаманта Немез сделала полшага к ней. Я опустил руку в карман плаща, положив палец на кнопку лазера. Регент ударил в гонг обшитым тканью молоточком. Министр двора поспешно выступил вперед, чтобы проводить нас. Энея поклонилась далай-ламе, а я неловко последовал ее примеру.
Аудиенция закончилась.
Я танцевал с Энеей в колоссальном, гулком зале под музыку большого — семьдесят два инструмента — оркестра, в окружении титулованных особ, священников и власть имущих Тянь-Шаня, Небесных гор, стоявших у стен и кружившихся в танце рядом с нами. Помню, мы долго танцевали, потом, незадолго до полуночи, еще раз перекусили у длинных столов, к которым подносили все новые яства, а потом снова танцевали. Помню, я крепко прижимал Энею к себе, кружась с ней в танце. Кажется, прежде я еще ни разу не танцевал — во всяком случае, на трезвую голову, — но в ту ночь я позабыл обо всем и кружился, прижимая к себе Энею, пока огонь факелов не померк и свет Оракула, падая сквозь переплет исполинского потолочного окна, не расчертил паркет на квадраты.
Ночь была на исходе, и гости постарше — все монахи, градоначальники и пожилые сановники — уже удалились, осталась только Громомечущая Мать-свинья, она смеялась, пела и хлопала в ладоши в такт музыке при каждом туре кадрили, топая своими шлепанцами по блестящим полам; от силы пятьсот приглашенных оставалось в громадном полутемном зале, а оркестр играл мелодии все более и более медленные, словно завод его музыкальной пружины подходил к концу.
Скажу честно, если бы не Энея, я б давным-давно ушел спать, но она хотела танцевать, и мы медленно кружили по паркету — ее узкая ладонь лежит в моей руке, я придерживаю ее за талию, сквозь тонкий шелк платья ощущая тепло ее кожи, ее волосы у моей щеки, упругая грудь прижата к моей, голова покоится у меня на плече. Взгляд у нее немного печальный, но она по-прежнему энергична и полна сил.
Аудиенции завершились уже давно, и еще до полуночи разлетелась весть, что далай-лама удалился в опочивальню, но мы все продолжаем кутить — Лхомо Дондруб, смеясь, разливает по бокалам шампанское и рисовое пиво; Лобсанг Самтен, младший брат далай-ламы, ни с того ни с сего затеял прыжки через жаровню; обстоятельный Тромо Трочи из Дхому внезапно преобразился в фокусника и вытворяет в углу зала настоящие чудеса с огнем, обручами и левитацией. Дорже Пхамо без аккомпанемента завела медленную песню, и голос у нее столь сладостный и чистый, что он до сих пор слышится мне во снах, а под конец, когда на востоке уже забрезжил предутренний свет и оркестр заиграл последнюю мелодию, десятки голосов слились в единый хор в песне Оракула.
…Музыка оборвалась на полутакте. Танцоры замерли. Прервав танец, мы с Энеей стремительно оглянулись.
Долгие часы гостей из Священной Империи не было ни видно, ни слышно, но внезапно из мрака вынырнула одетая во все алое Радаманта Немез. При ней были еще двое — на мгновение мне показалось, что это священники, но я тут же разглядел, что люди в черном как две капли воды похожи на Радаманту: мужчина и женщина, оба в боевых комбинезонах, мягкие черные волосы свисают на бледный лоб, глаза — как черный янтарь.
Сквозь ряды застывших танцоров трио шагало к нам. Я инстинктивно заслонил собой Энею, но клоны Немез двинулись в обход. Энея шагнула вперед и встала рядом со мной.
Выхватив лазерный фонарик, я прижал его к боку. Первая Немез хищно оскалилась. Кардинал Мустафа вышел из мрака и встал позади нее. Все четверо не сводили глаз с Энеи. На миг мне почудилось, что вселенная остановилась, что танцующие пары в буквальном смысле застыли в пространстве и времени, что музыка нависла над нами сталактитами и в любой момент ледяными осколками обрушится вниз, но тут я услышал прокатившийся сквозь толпу ропот — шепоток испуга и шелест негодования.
С виду угрозы никакой не было — просто-напросто четверо гостей шагали по паркету бального зала, смыкая кольцо вокруг Энеи, но впечатление хищников, надвигающихся на добычу, было чересчур отчетливым, как и запах страха, перебивший аромат благовоний, пудры и духов.
— К чему ждать? — сказала Радаманта Немез, не сводя глаз с Энеи, но обращаясь к кому-то другому — то ли к своим клонам, то ли к кардиналу.
— По-моему… — начал кардинал Мустафа и оцепенел.
Оцепенели все до единого. Громадные трубы у арки входа сами собой испустили тяжкий, басовитый гул, словно стронувшаяся с места материковая плита, хотя трубачей в альковах не было. Подхватив гудение труб, удрученно заныли на одной ноте бронзовые и костяные рожки. Чудовищный гонг зарокотал, отозвавшись дрожью в позвоночнике.
Со стороны эскалаторов, вестибюля и занавесов входной арки донеслись сдавленные выкрики и шаркающие, суматошные шаги. Поредевшая толпа расступилась, как почва под напором стального плуга.
Некто движется по ту сторону задернутых занавесов вестибюля… Минует их — не раздвинув, а располосовав. И вот он, блистая в лучах Оракула, скользит по паркету, скользит необычайно плавно, будто проплывая в паре сантиметров от пола, отражая угасающий лунный свет. Высокая — никак не менее трех метров — фигура увешана клочьями красных драпировок, а из складок этой мантии выглядывает чересчур много рук. Рук, словно сжимающих стальные клинки. Танцоры подаются в стороны еще быстрее, по залу проносится единодушный вздох изумления. Затмив Оракул, беззвучно полыхает молния, тысячей бликов рассыпавшись в зеркале паркета и на миг запечатлев всю эту картину на сетчатке глаза. Гром, докатившийся до нас через несколько долгих секунд, почти неотличим от тягучего, пронизывающего до костей рокота труб.
Шрайк прерывает свое скольжение и замирает в пяти шагах от нас с Энеей, в пяти шагах от Немез, в десяти шагах от каждого из ее близнецов, не успевших зайти к нам в тыл, и в восьми шагах от кардинала. Мне вдруг бросается в глаза, что Шрайк в красных лохмотьях ужасно смахивает на серебристую, утыканную шипами пародию на облаченного в алую мантию кардинала Мустафу. Клоны Немез в черных комбинезонах кажутся кинжальными тенями на фоне стен.
Где-то в темном углу исполинского аудиенц-зала часы бьют час… два… три… четыре. Именно столько машин-убийц стоит вокруг нас. Я не видел Шрайка более четырех лет, но его облик не стал менее ужасающим, а его приход — более желанным, несмотря на его заступничество. Красные глаза сверкают, как лазеры из-под воды, стальная пасть разинута, демонстрируя ряды острых как бритвы зубов. Из-под карикатурной алой мантии торчат лезвия, клинки и шипы. Он не мигает. А может, и не дышит. Он недвижен, как кошмарное творение безумного скульптора.
Радаманта Немез усмехается.
Все еще сжимая в руке свой дурацкий лазер, я мысленно возвращаюсь на много лет назад и вспоминаю стычку на Роще Богов. Немез засверкала, как ртуть, расплылась и просто исчезла, внезапно появившись рядом с двенадцатилетней Энеей. Она собиралась отрезать девочке голову и унести ее в мешке и непременно так бы и сделала, если б не Шрайк. Она и сейчас может это проделать, а я даже пальцем не успею шевельнуть. Эти создания движутся вне времени. В этот миг я познал муки отца, который видит, как на его ребенка несется гоночный автомобиль, и не может ничего уже изменить. Но еще мучительнее боль влюбленного, который не в состоянии защитить свою возлюбленную. Я глазом не моргнув отдал бы жизнь, чтобы оградить Энею от всех этих созданий, в том числе и от Шрайка — и действительно могу умереть в мгновение ока, — да только моя смерть не оградит ее. Мне остается лишь скрипеть зубами в бессильной ярости.
Проследив за Шрайком одними глазами — боясь спровоцировать бойню движением головы, руки, пальца, — я вижу, что он не смотрит ни на Энею, ни на Немез, а только на Джона Доменико, кардинала Мустафу. Должно быть, кардинал физически ощутил тяжесть взгляда — его жабье лицо стало мертвенно-бледным на фоне алых одеяний.
И только тут время, увязшее будто муха в янтаре, вновь тронулось с места.
Шагнув ко мне, Энея взяла меня за левую руку и сжала мои пальцы — но это не детская просьба об утешении; наоборот, это попытка успокоить меня.
— Вы знаете, чем это кончится, — тихо сказала она кардиналу, не обращая внимания на трех Немез, подобравшихся, будто кошки перед прыжком.
Великий Инквизитор облизнул толстые губы.
— Нет, не знаю. Трое против…
— Вы знаете, чем это кончится, — все так же тихо перебила его Энея. — Вы были на Марсе.
«Марс? — удивился я. — При чем тут Марс, черт возьми?!» В небе снова полыхнула молния, на миг высветив лица сотен оцепеневших в ужасе гостей — белые овалы на черном бархате тьмы, и меня молнией пронзила догадка: метафизическую биосферу этой планеты, пусть даже достигшей дзен-буддизма, населяют сонмы демонов и злых духов тибетской мифологии. Зловредные духи земли ньен; «хозяева земли» сабдаг, преследующие строителей, потревоживших их царство; красные духи цэн, живущие в скалах; гьелпо — духи мертвых царей-клятвопреступников, мертвых и несущих смерть, облаченных в призрачные доспехи; безмерно злобные демоны дуд, питающиеся только человечиной и покрытые черными панцирями; женщины-божества мамо — бешеные, как незримые лавины; ведьмы матрика, обитающие в склепах и на кремационных террасах, дающие о себе знать смрадом падали, источаемым их дыханием; блуждающие божества грахас, несущие эпилепсию и прочие буйные болезни; ноджин — стражи богатств земли, губящие алмазодобытчиков, и еще десятки порождений тьмы. Лхомо — и не только Лхомо — частенько пересказывал мне живописные мифы. Глядя на бледные лица зрителей, ошеломленно взирающих на Шрайка и трио Немез, я понял: в пересказе этих людей нынешняя ночь будет не такой уж странной.
— Демону троих не одолеть. — Кардинал Мустафа произнес слово «демон» в тот самый миг, когда оно пришло мне в голову. Только он говорил об одном Шрайке.
— Первым делом он изымет ваш крестоформ, — ласково пояснила Энея. — И я не могу ему помешать.
Кардинал Мустафа отшатнулся, как от пощечины. Его бескровные щеки стали еще бледнее. Взглянув на Радаманту Немез, ее клоны напружинились, словно копя энергию для какой-то ужасной трансформации. Немез обратила свой черный взор на Энею и оскалилась, продемонстрировав все тридцать два зуба.
— Стоп! — закричал кардинал Мустафа, и крик его эхом отразился от пола и стеклянного потолка. Чудовищные трубы оборвали вой. Зрители уцепились друг за друга, зашелестев ногтями по шелку. Немез обожгла кардинала взглядом, полным злобного неповиновения, чуть ли не вызова.
— Стоп! — повторил святой отец, взывая к подвластным ему творениям. — Именем Альбедо и Техно-Центра, властью Трех Первоэлементов повелеваю тебе!
На последних словах его отчаянный вопль обрел мерную поступь и звучность формулы экзорцизма, словно совершался торжественный ритуал — да только не христианский. Железные тиски заклинания предназначались не Шрайку, а демонам, принадлежащим самой Церкви.
Немез и ее клоны скользнули назад, словно притянутые невидимым магнитом. Обогнув нас по дуге, клоны встали по обе стороны от Немез, заслоняя Мустафу.
Кардинал усмехнулся, но губы у него дрожали.
— Мои подручные останутся в узде, пока мы не закончим беседу. Даю тебе слово князя Церкви, нечестивое дитя. Даешь ли ты мне слово, что этот… — он указал на облаченного в бархатные лохмотья Шрайка, — …этот демон не тронет меня?
— Я им не управляю, — все так же спокойно ответила Энея. — Вы будете в безопасности, только покинув эту планету с миром.
Кардинал с опаской глядел на Шрайка. Казалось, он в любой момент готов отскочить в сторону, если гигант шевельнет хотя бы пальцем. Немез и ее выводок безмолвно стояли между Шрайком и кардиналом.
— А каковы гарантии, — спросил он, — что этот монстр не последует за мной в космос… и даже на Пасем?
— Никаких.
— Наши дела здесь не имеют к вам ни малейшего отношения, — резко бросил Великий Инквизитор, указав длинным пальцем на мою спутницу. — Но вы никогда не покинете эту планету, клянусь кровью Христовой!
Энея посмотрела ему в глаза и ничего не сказала.
Повернувшись, кардинал Мустафа двинулся прочь, шелестя алыми одеяниями и шаркая подошвами по паркету. Триада пятилась за ним до самых дверей, клоны не сводили глаз со Шрайка, а Немез буравила взглядом Энею. Затем все четверо шагнули под полог входа в апартаменты далай-ламы и скрылись из виду.
Шрайк остался стоять где стоял, не подавая никаких признаков жизни, выставив все четыре руки перед собой; лучи заходящего за гору Оракула сверкнули напоследок на лезвиях его пальцев.
Гости потянулись к выходу, обсуждая увиденное — кто шепотом, кто в полный голос, едва сдерживая эмоции. Со стороны оркестра донеслось звяканье, глухие удары, писк и скрип — музыканты поспешно укладывали свои инструменты и ретировались. Энея продолжала держать меня за руку; вокруг нас осталось лишь небольшое кольцо людей.
— Клянусь задницей Будды! — воскликнул Лхомо Дондруб, подходя к Шрайку и пальцем пробуя металлический шип, торчащий из груди исполина. На пальце проступила капелька крови, черная в сгущающемся сумраке. — Фантастика! — еще громче вскричал Лхомо и отхлебнул изрядный глоток рисового пива.
Дорже Пхамо приблизилась к Энее, взяла ее за левую руку, опустилась на колено и возложила ее ладонь на свой морщинистый лоб. Энея ласково взяла Громомечущую Мать-свинью за руки и помогла ей подняться.
— Нет, — прошептала она.
— Благословенная, — тихо-тихо проговорила Дорже Пхамо. — Амата, Бессмертная… Архат, Совершенная… Самасамбудда, Полностью Пробужденная… повелевай нами и учи нас дхарме.
— Нет, — повторила Энея. — Когда придет время, я научу вас тому, что знаю, и поделюсь тем, что имею. Больше я ничего не могу. Время мифов прошло.
Обернувшись, Энея взяла меня за руку и повела через зал, мимо недвижимого Шрайка, к располосованным занавесам и застывшему эскалатору. Люди поспешно расступались перед нами, как недавно перед Шрайком.
На верху стальной лестницы мы остановились. Далеко внизу уютно горели лампы в коридоре, ведущем к нашим спальням.
— Спасибо. — Энея подняла на меня подернутые влагой карие глаза.
— Что? — в полнейшем отупении переспросил я. — За… почему… не понимаю.
— Спасибо за танец. — Она приподнялась на носки, чтобы нежно поцеловать меня в губы. И снова я ощутил электрический разряд ее прикосновения. Я широким жестом обвел взбаламученную толпу позади, зал, где только что стоял Шрайк, стражников Поталы, ринувшихся в скрытый шторами альков, сквозь который удалился Мустафа со своими креатурами.
— Нам нельзя оставаться здесь, детка. Немез и эти двое…
— Не-а, — покачала она головой. — Ничего они не сделают, уж поверь мне. Они не станут спускаться по стенам и вламываться к нам сквозь потолок. Более того, они покинут свой дацан и рванут прямо на орбиту к кораблю. Они вернутся, но не сегодня.
Я вздохнул.
— Хочешь спать? — взяв меня за руку, тихонько спросила Энея.
Еще бы! Глаза у меня слипались. Я был выжат как лимон. Предыдущая ночь будто отдалилась в прошлое на целые недели, а ведь я проспал всего два-три часа из-за… из-за того, что мы… потому что…
— Нисколько, — ответил я.
Энея улыбнулась, и мы пошли в спальню.
Глава 20
Папа Урбан Шестнадцатый: Сотвори их, Господи, силою Духа Твоего!
Все: Ты помнишь Старую Землю и пред Тобою лик всех миров Царствия Твоего!
Папа Урбан Шестнадцатый: Помолимся.
Господи, Ты просветил сердца верных светом Духа Святого. Помоги нам силою того же Духа обрести истинную мудрость, радость и утешение. Через Христа, Господа нашего.
Все: Аминь.
Папа Урбан Шестнадцатый благословляет хоругви Ордена Рыцарей Гроба Господня в Иерусалиме.
Папа Урбан Шестнадцатый: Помощь наша — в имени Господа…
Все: Сотворившего небо, и землю, и все планеты.
Папа Урбан Шестнадцатый: Господь с вами.
Все: И со духом твоим!
Папа Урбан Шестнадцатый: Помолимся. Услышь, Господи, молитвы наши и яви нам величие и силу Твою и славу. Благослови эти знаки воинской доблести. Защити и охрани слуг Твоих, восхотевших служить Тебе, даруй им мужество, дабы они защитили Церковь Твою. Даруй им решимость и отвагу в бою, дабы они несли свет истинной веры всей Вселенной. Через Господа нашего Иисуса Христа.
Все: Аминь.
Папа Урбан Шестнадцатый окропляет хоругви святой водой.
Церемониймейстер кардинал Лурдзамийский зачитывает декреталии о посвящаемых в рыцари. Услышав свое имя, каждый встает и остается стоять. Всего в соборе тысяча двести восемь рыцарей.
Кардинал Лурдзамийский зачитывает имена по ранжиру, от младших к старшим, от рыцарей-мирян к рыцарям-священникам.
По завершении списка посвящаемые в рыцари преклоняют колени. Остальные продолжают сидеть.
Папа Урбан Шестнадцатый спрашивает рыцарей: Чего вы просите?
Рыцари: Я прошу посвятить меня в рыцари Святого Гроба Господня.
Папа Урбан Шестнадцатый: Быть рыцарем Гроба Господня в наши дни — значит бесстрашно вступить в битву за Царствие Божие и за распространение Церкви. Это значит — творить дела милосердия в духе безмерной веры и любви и в том же духе веры и любви отдать свою жизнь в сражении. Готовы ли вы следовать этим идеалам до самой смерти?
Рыцари: Готов.
Папа Урбан Шестнадцатый: Напоминаю вам, что если все люди, мужчины и женщины, почитают за честь служить примером добродетели, то кольми паче Христовы воины, рыцари Господа нашего. Их священный долг — всегда и во всем, всеми своими деяниями подтверждать, что они достойны сей высокой чести. Готовы ли вы всегда исполнять Устав святого ордена?
Рыцари: Благодатию Божией клянусь исполнять, как истинный воин Христова воинства, заповеди Божии, предписания Церкви, приказы моего командира и Устав святого ордена. И да поможет мне Бог.
Папа Урбан Шестнадцатый: Дарованной мне властью посвящаю вас в рыцари Святого Гроба Господня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Рыцари входят в алтарную часть и преклоняют колени. Папа благословляет Иерусалимский крест — эмблему ордена.
Папа Урбан Шестнадцатый: Примите крест Господа нашего Иисуса Христа, и да послужит он вам защитой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Преклонив колени перед Иерусалимским крестом, рыцари отвечают: Аминь.
Папа Урбан Шестнадцатый возвращается на кресло, стоящее на возвышении в глубине алтаря. Когда Его Святейшество подает сигнал, церемониймейстер кардинал Лурдзамийский зачитывает декреталии. Все рыцари поочередно подходят к алтарю и опускаются на колени перед Его Святейшеством. К алтарю приближается рыцарь, которому доверили говорить от имени остальных.
Папа Урбан Шестнадцатый: Чего ты просишь?
Рыцарь: Я желаю быть посвященным в рыцари Святого Гроба Господня.
Папа Урбан Шестнадцатый: Напоминаю тебе вновь, что если все люди, мужчины и женщины, почитают за честь служить примером добродетели, то кольми паче Христовы воины, рыцари Господа нашего. Их священный долг — всегда и во всем, всеми своими деяниями подтверждать, что они достойны сей высокой чести. Готов ли ты принести присягу всегда и везде соблюдать Устав святого воинского ордена?
Рыцарь вкладывает сложенные ладони в ладони Его Святейшества.
Рыцарь: Перед лицом Господа, Бога Всемогущего, Иисуса Христа, Его Сына и Пресвятой Марии Девы клянусь исполнять, как надлежит истинному Христову воину, все, что доверят мне исполнить.
Его Святейшество Папа Урбан Шестнадцатый возлагает руку на голову рыцаря.
Папа Урбан Шестнадцатый: Будь верным и отважным воином Господа нашего Иисуса Христа, рыцарем Святого Гроба Его, сильным и неустрашимым, в радостной надежде быть принятым в Его небесную обитель.
Его Святейшество вручает рыцарю золотые шпоры, говоря: Прими сии шпоры, символ твоего ордена. Прославь и защити Святой Гроб Господень.
Подходит рыцарь-церемониймейстер, кардинал Лурдзамийский. В руках он держит обнаженный меч.
Церемониймейстер: Прими этот меч, символ твоего ордена. Защити Святую Церковь Господню и низвергни всех врагов Святого Креста. Но берегись поднять его на невиновных.
Рыцарь-церемониймейстер вкладывает меч в ножны, передает Его Святейшеству, а тот вручает меч рыцарю.
Папа Урбан Шестнадцатый: Помни, что святые не мечом, но верою покоряли царства.
Дальнейшая часть церемонии повторяется для каждого кандидата. Его Святейшеству Папе вручают обнаженный меч, и он трижды касается клинком правого плеча рыцаря, говоря:
Посвящаю тебя и провозглашаю воином и рыцарем Святого Гроба Господня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Вернув меч церемониймейстеру, Его Святейшество надевает на рыцаря крест, эмблему ордена.
Прими крест Господа нашего Иисуса Христа, дабы он охранил тебя, и неустанно повторяй: «Огради нас, Господи, этим крестом от всех врагов наших».
Рыцарь встает, кланяется Его Святейшеству и направляется к старшему по званию, чтобы принять от него плащ. Затем адъютант вручает ему берет, и рыцарь тут же надевает его на голову. После чего возвращается на место.
Все встают и вслед за Его Святейшеством запевают гимн:
О приди к нам, Дух Святой, Осени нас благодатью, Воцарись в сердцах, Создатель, Что открыты пред тобой! Ты любви великой пламя, Ты источник жизни всей, Неба сладостный елей… Боже, смилуйся над нами! Дар чудесный, дар небес, Вспыхни пламенем в клинках, Изгони из сердца страх, О Господней длани перст! Павших души упокой, Распали сердца живущих. Плоть слаба, но крепки души Добродетелью святой. Пусть трепещет лютый враг Перед карою Господней. Предводимые Тобою Мы несем победы стяг! Милостью не обдели, Дай узреть Отца и Сына, Что с тобою триедины, Свет небесный ниспошли! Сын Господень, побеждай, Бог, восставший из могилы, Нам яви святую силу, Приведи нас, грешных, в Рай!Его Святейшество Папа Урбан Шестнадцатый: Да преклонятся все перед именем Господним.
Все: Аминь.
Его Святейшество и церемониймейстер удаляются.
Вслед за Его Святейшеством Урбаном Шестнадцатым кардинал Лурдзамийский вошел в маленькую комнату.
— Комната Слез… — проговорил кардинал Лурдзамийский. — Как давно я не заходил сюда.
Коричневые плиты пола почернели от времени, красные тафтяные обои поблекли. С низкого сводчатого потолка свисали на тяжелых цепях золотые светильники. Окон не было, но одну темно-красную стену прикрывали тяжелые белые шторы. Почти никакой мебели — в одном углу красная кушетка, черный столик-алтарь, покрытый белой полотняной скатертью, посредине — вешалка-манекен со старинными, пожелтевшими стихарем и ризой, да по соседству пара белых расшитых туфель с загнувшимися от старости носами.
— Облачение Папы Пия Двенадцатого, — сказал понтифик. — Он надевал его здесь в 1939 году после избрания. Мы взяли облачение из Ватиканского музея и поместили сюда. И навещаем его от случая к случаю.
— Папа Пий Двенадцатый… — Госсекретарь задумался, пытаясь вспомнить, чем же отличился Пий Двенадцатый.
— Папа времен войны? — вдруг догадался он.
Урбан Шестнадцатый устало помотал головой. От тяжелой, изукрашенной митры на лбу остался красный след.
— Нас интересует не само его правление во время мировой войны на Старой Земле, а сложные сделки, в которые он вынужден был вступать, чтобы в том средоточии зла сохранить Церковь и Ватикан.
— Нацисты и фашисты, — задумчиво протянул кардинал Лурдзамийский. — Ну конечно…
Сравнение с Центром довольно уместно.
Слуги накрыли стол к чаю, и теперь госсекретарь исполнял роль личного слуги Его Святейшества. Он налил чай и подал Папе хрупкую фарфоровую чашечку. Урбан Шестнадцатый, устало кивнув, пригубил горячий напиток. Кардинал вернулся на прежнее место, рядом с древним облачением, и критически посмотрел на Папу. «Сердце снова сдает. Не ждет ли нас в ближайшее время очередное воскрешение и конклав?»
— Вы обратили внимание, кто был избран представителем рыцарей? — Папа пристально посмотрел на госсекретаря. В глазах его была печаль.
Вопрос застал кардинала Лурдзамийского врасплох.
— Ах да… — Он задумался. — Прежний глава Гильдии, Исодзаки. Он официально возглавит Крестовый поход на Кассиопею 4614.
— Он продвигается, — улыбнулся Его Святейшество.
— Епитимья может оказаться более суровой, чем предполагает месье Исодзаки. — Кардинал потер второй подбородок.
— Предвидятся серьезные потери? — поднял глаза Папа.
— Около сорока процентов. Из них половину воскресить не удастся. Бои в этом секторе весьма и весьма тяжелые.
— А в других?
— Волнения охватили уже шестьдесят планет Империи, Ваше Святейшество, — вздохнул кардинал Лурдзамийский. — Около трех миллионов человек подверглись инфицированию и отказались от крестоформа. Бои там идут, но власти контролируют ситуацию. С Возрождением-Вектор хуже… примерно три четверти миллиона зараженных, инфекция быстро распространяется.
Устало кивнув, Папа отхлебнул чаю.
— Расскажите нам что-нибудь хорошее, Симон Августино.
— Как раз перед началом церемонии из системы Тянь-Шаня прибыл курьерский зонд. Мы немедля расшифровали послание кардинала Мустафы.
Держа на весу чашку и блюдце, Папа молча ждал продолжения.
— Они встретили порождение дьявола, — доложил кардинал Лурдзамийский. — Во дворце далай-ламы.
— И…
— От действий воздержались по причине присутствия демона Шрайка. — Кардинал сверился с наручным комлогом. — Но опознание не вызывает ни малейших сомнений. Обнаружены дитя по имени Энея — ей уже больше двадцати лет, стандартных, разумеется, — и ее телохранитель Рауль Эндимион, арестованный и бежавший на Безбрежном Море более девяти лет назад, и другие.
— А Шрайк? — Папа коснулся тонкими пальцами своих тонких губ.
— Он появился лишь в тот момент, когда возникла непосредственная угроза девушке от… э-э-э… офицеров лейб-гвардии Альбедо. А затем исчез. Стычек не было.
— Но кардинал Мустафа не сумел воспользоваться случаем? — осведомился Папа. Кардинал кивнул. — И вы по-прежнему считаете, что он подходит для такого дела?
— Да, святой отец. Все идет по плану.
— А что «Рафаил»?
— Пока ничего, но Мустафа и адмирал Ву не сомневаются, что де Сойя объявится в системе Тянь-Шаня до предполагаемого момента изъятия девушки.
— Мы неустанно молимся, чтобы так оно и вышло. Знаете ли вы, Симон Августино, какой ущерб нанес Крестовому походу этот предатель?
Кардинал Лурдзамийский знал. И еще он знал, что вопрос этот — риторический. Папа, кардинал и задерганные адмиралы Флота уже пять лет сокрушались над рапортами о ходе боев и списками потерь живой силы и техники. Десятки раз де Сойя был на грани гибели и всякий раз изловчался удрать на Окраину, оставляя позади себя рассеянные конвои и разбитые корабли. Неспособность совладать с одним-единственным мятежным «архангелом» стала величайшим позором Флота и величайшей тайной Священной Империи.
Но теперь с этим будет покончено.
— Элементы Альбедо оценивают вероятность успеха операции в девяносто четыре процента, — сказал кардинал.
— И давно наш Имперский Флот вкупе со Священной Канцелярией внедрил эту информацию? — Папа допил чай и аккуратно пристроил чашку на краю кушетки.
— Пять стандартных недель назад. Зашифрованное послание находилось в ИскИне на борту одного из факельщиков эскорта, на который «Рафаил» налетел в районе системы Офиучи. Шифр не настолько сложен, чтобы бортовые системы «Рафаила» не могли дешифровать его.
— А не почует ли де Сойя ловушку? — вслух размышлял тот, кто некогда был отцом Ленаром Хойтом.
— Маловероятно, Ваше Святейшество. Мы уже пользовались этим ключом, сбывая де Сойе надежную информацию, и…
— Кардинал Лурдзамийский! — вскинул голову Папа. — Вы хотите сказать, что жертвовали имперскими кораблями и ни в чем не повинными людьми… ушедшими за грань, где нет воскрешения… для того лишь, чтобы изменники сочли эту информацию надежной?
— Да, святой отец.
Папа печально вздохнул.
— Достойно сожаления, но понятно и приемлемо… учитывая всю серьезность ситуации.
— Кроме того, — продолжал кардинал, — отдельные офицеры на борту упомянутого корабля, предназначавшегося для захвата «Рафаилом», были… э-э… подготовлены Священной Канцелярией. Они также располагали информацией о том, когда мы планируем отправиться на планету Тянь-Шань за девушкой по имени Энея.
— И все это было просчитано не один месяц назад?
— Да, Ваше Святейшество. У нас было преимущество: несколько месяцев назад советник Альбедо и Центр зафиксировали активность нуль-портала на Тянь-Шане.
Верховный Понтифик бессильно уронил руки. Кардинал заметил, что ногти его отливают синевой.
— Нуль-портал… Кстати, этот путь к бегству у порождения дьявола отрезан?
— Полностью. «Джебраил» растопил вокруг нуль-портала всю гору. Сам портал практически несокрушим, Ваше Святейшество, но ныне он погребен под двадцатиметровым слоем камня.
— А Центр уверен, что это единственный портал на Тянь-Шане?
— Абсолютно уверен, святой отец.
— А как насчет приготовлений к схватке с мятежным «архангелом»?
— Адмирал Ву вскоре прибудет для обсуждения тактических деталей, Ваше Святейшество.
— Мы вполне доверяем вам представить план в общих чертах, Симон Августино.
— Благодарю, святой отец. Имперский Флот разместил в пределах системы Тянь-Шаня пятьдесят восемь крейсеров класса «архангел». Они уже шесть стандартных недель, как укрылись в засаде…
— Простите, Симон Августино, — пробормотал Папа, — но как можно укрыть в засаде полсотни крейсеров класса «архангел»?
— Они дрейфуют, — усмехнулся кардинал, — с заглушенными двигателями в стратегических позициях в пределах внутрисистемного пояса астероидов и внешнего пояса Куйпера, Ваше Святейшество. Обнаружить их совершенно невозможно. Они готовы совершить прыжок в любую секунду.
— На этот раз «Рафаил» не уйдет?
— Нет, Ваше Святейшество. В случае провала полетят головы одиннадцати флотских командиров.
— Пятая часть флота наших «архангелов» сидит без дела в окраинной системе. Серьезный ущерб для нашего Крестового похода против Бродяг, кардинал Лурдзамийский.
— Да, Ваше Святейшество. — Кардинал положил ладони на колени и удивился, что они взмокли.
— Но цель оправдает средства, если мы уничтожим этого мятежника, — тихо сказал Папа. Кардинал Лурдзамийский перевел дыхание. — Мы полагаем, что экипаж корабля и капитан де Сойя будут уничтожены, а не взяты в плен.
— Да, святой отец. Отдан приказ дезинтегрировать корабль.
— Но ведь мы не причиним вреда ребенку?
— Нет, святой отец. Приняты все меры, чтобы источник заразы, именуемый Энея, был взят живым.
— Это весьма важно, — заметил Папа, будто бы ни к кому конкретно не обращаясь. Они уже сотни раз обсуждали все в мельчайших подробностях. — Девушка нужна нам живой. Остальных, что с ней… можно и не щадить… но девушку непременно надо взять в плен. Опишите нам процедуру захвата.
Кардинал Лурдзамийский прикрыл глаза.
— Как только «Рафаил» будет уничтожен, корабли Центра выйдут на орбиту вокруг Тянь-Шаня и дезактивируют население планеты.
— Нейродеструкторами, — кивнул Папа.
— Нет… в техническом смысле, — возразил кардинал. — Как вам известно, Центр уверяет, что воздействие этой аппаратуры на организм обратимо и более всего напоминает перманентную кому.
— А эти миллионы тел будут перевозить и на сей раз, Симон Августино?
— Не сразу, Ваше Святейшество. Спецкоманды высадятся на планету, найдут девушку и переправят на транспортный «архангел», который доставит ее на Пасем, где она будет оживлена, изолирована, допрошена и…
— Казнена, — вздохнул Папа. — Чтобы продемонстрировать миллионам мятежников на шестидесяти планетах, что их мнимого мессии больше не существует.
— Да, Ваше Святейшество.
— Нам не терпится поговорить с этой особой, Симон Августино, будь она хоть трижды порождение дьявола.
— Да, Ваше Святейшество.
— А когда, по-вашему, капитан де Сойя устремится навстречу собственной гибели?
Кардинал Лурдзамийский бросил взгляд на комлог.
— Через считанные часы, Ваше Святейшество. Через считанные часы.
— Так помолимся о благополучном исходе, — шепнул Папа. — Помолимся о спасении нашей Церкви и нашего народа.
И оба понтифика в Комнате Слез склонили головы.
Лишь после возвращения из дворца далай-ламы мне начал открываться истинный размах планов Энеи.
Меня изумило то, как нас встретили по возвращении. Рахиль и Тео с рыданиями обнимали Энею. А.Беттик хлопнул меня по плечу и крепко обнял. Обычно сдержанный Джигме Норбу сперва обнял Джорджа Цзаронга, затем двинулся вдоль шеренги паломников, обнимая всех подряд. По его впалым щекам струились слезы. Ликование… Слезы радости… И только тогда я понял: не многие надеялись, что мы вернемся после встречи с послами Священной Империи. И только тогда до меня дошло, что мы вернулись.
А в храме работа близилась к концу. Мы с Лхомо, А.Беттиком и высотниками доделывали самую верхнюю террасу. Энея, Рахиль и Тео присматривали за отделкой готовых построек.
В тот день я думал только об одном — поскорее бы остаться наедине с Энеей. Утром, после общей трапезы, мы на минуту задержались на верхней галерее, и ее жадные поцелуи не оставляли сомнений — наши желания совпадают. Но на вечер уже была запланирована беседа — как оказалось, последняя.
В сумерки на центральной террасе дацана собралось не меньше сотни человек. По счастью, муссоны подарили нам короткую передышку, и вечер выдался великолепный. Все замерли в ожидании — потрескивают факелы, хлопают на ветру молитвенные флажки.
Были среди них и те, кого я не ожидал увидеть: был Тромо Трочи из Дхому, неожиданно вернувшийся из Поталы; была Дорже Пхамо и все ее девять монахинь; были и знаменитости с дворцового приема, и был среди них самый юный и самый знаменитый — далай-лама. Он пришел без регента, без министра двора, в сопровождении одного лишь телохранителя и главного глашатая Карла Линга Уильяма Эйхедзи.
Я стою в толпе у дальней стены. Довольно долго все происходит по обычной схеме. Но мало-помалу Энея направляет дискуссию в нужное ей русло. По ее ответам на вопросы монахов, не одно десятилетие посвятивших постижению тантризма и дзен-буддизма, я понимаю: в этом она далеко не новичок. На вопрос монаха, почему должно отвергнуть бессмертие через возрождение, предложенное Церковью, Энея цитирует поучение Будды — личность не возрождается, все сущее подвержено «анникке» — закону переменчивости, а согласно понятию «анатта» (буквально «не-личность») — Будда отрицал существование такой индивидуальной сущности, как душа.
Ее вновь спрашивают о смерти, и Энея отвечает дзен-буддистской притчей-коан:
— Один монах сказал Тозану: «Монах умер, куда он ушел?» Тозан отвечал: «После огня — в былинку».
— Мадемуазель Энея, — смущенно спрашивает Куку Сэ, — это означает му?
Энея объясняла мне, что му — изящная концепция дзен-буддизма, в переводе означающая примерно «перезаданный вопрос».
Моя любимая улыбается. Она сидит у открытой стены. В черном небе сияют над Священной горой Севера яркие звезды.
— В какой-то мере, — негромко отвечает Энея, и все разговоры мгновенно стихают. — А еще это означает, что монах мертв как кирпич. Он не ушел куда-то — он не ушел никуда. Но и жизнь никуда не ушла. Она продолжается, только в другом обличье. Сердца скорбят о смерти монаха, но жизни не стало меньше. Равновесие жизни во Вселенной не поколебалось ни на йоту. И все же вся Вселенная — отраженная в разуме и сердце монаха — погибла. Сэппо некогда сказал Генше: «Монах Шинзо спросил меня, куда ушел один мертвый монах, а я сказал ему, что это подобно тому, как лед становится водой». Генша отвечал: «Это верно, но я бы сказал иначе». «А как бы ты сказал?» — поинтересовался Сэппо. Генша ответил: «Это подобно возвращению воды в воду».
После секундного молчания кто-то просит:
— Расскажи нам о Связующей Бездне.
— Давным-давно, — по обыкновению начинает Энея, — была Бездна. И Бездна эта была вне времени.
Бездна не принадлежала ни времени, ни пространству и, конечно, не принадлежала Богу. И Связующая Бездна не была Богом. Бездна сформировалась гораздо позже, много веков спустя после того, как время и пространство расставили пограничные вехи Вселенной. Но не связанная ни временем, ни пространством, Связующая Бездна свободно текла сквозь континуум — от Большого Взрыва вначале до Жалкого Всхлипа в финале.[118]
Тут Энея умолкает, как-то совсем по-детски вскинув руки. Только сейчас она нисколько не походит на ребенка. Усталые глаза полны жизни, но в уголках глаз — морщинки тревоги. Как же я люблю эти глаза!
— Связующая Бездна — сущность, наделенная разумом, — решительно говорит Энея. — Она произошла от разумных сущностей, многие из которых, в свою очередь, сотворены разумными существами.
Связующая Бездна соткана из квантового вещества, переплетенного с планковым пространством, планковым временем, и облегает пространство-время, как оболочка стеганого одеяла облегает вату. Связующая Бездна — не мистика и не метафизика, она — следствие физических законов, плод развития Вселенной. Она сформирована мыслью и чувством. И не только человеческими мыслью и чувством. Связующая Бездна — порождение сотен тысяч разумных рас за миллиарды лет. Она единственная остается неизменной в эволюции Вселенной. Единственная точка соприкосновения рас, зарождающихся, растущих, расцветающих, увядающих и умирающих, разделенных миллионами лет во времени и сотнями миллионов световых лет в пространстве. И есть лишь один ключ к Связующей Бездне…
Энея умолкает. Рахиль сидит рядом с ней, скрестив ноги, и внимательно слушает. Только тут я замечаю, что Рахиль, к которой я так глупо ревновал мою девочку, по-настоящему красива: короткие каштановые с рыжинкой волосы завиваются кудряшками, на щеках играет румянец, зеленые глаза с коричневыми крапинками сверкают. Она ровесница Энеи — чуть старше двадцати стандартных лет. За месяцы работы под солнцем Тянь-Шаня ее каштановые волосы выгорели и обрели золотистый оттенок.
— Моя подруга, — Энея касается плеча Рахили, — была еще ребенком, когда ее отец, Сол, сделал любопытное открытие. Он был ученый и десятилетиями пытался понять историю отношений человека с Богом. И вот однажды, в состоянии безысходного отчаяния, когда Сол во второй раз столкнулся с перспективой потерять дочь, он обрел сатори — в едином просветлении полностью увидел то, что за миллионы лет наших медлительных раздумий дано было увидеть лишь избранным… Сол постиг, что любовь — реальная и универсальная сила Вселенной… не менее реальная, чем электромагнитное или ядерное взаимодействие. Не менее реальная, чем сила тяготения, и подчиняющаяся весьма сходным законам. Например, обратно-квадратичная зависимость в любви часто действует так же непреложно, как и в законе всемирного тяготения.
Сол понял, что любовь — связующая сила Связующей Бездны, уток и основа ее ткани. И в это мгновение Сол постиг, что человечество — не единственная белошвейка, расшивающая этот великолепный покров. Он окинул взором Связующую Бездну и познал силу любви, стоящую за ней, но не сумел войти в ее континуум. Люди, столь недавно поднявшиеся над своими собратьями-приматами, еще не обрели должной чувствительности, чтобы ясно видеть Связующую Бездну или входить в нее.
Я говорю «ясно видеть», потому что каждому, у кого чистое сердце и ясный ум, дано увидеть Бездну. На мгновение — но очень четко и ярко. Как дзен не имеет отношения к религии, но сам есть религия, так и Связующая Бездна не имеет отношения к состоянию рассудка, но сама есть состояние рассудка. Бездна охватывает все вероятности, подобные стоячим волнам, взаимодействующим с фронтом стоячих волн, которые являют собой человеческий разум и личность. Связующей Бездны касался каждый, кто плакал от счастья, кто расставался с возлюбленным, кто переживал экстаз, кто стоял над могилой близкого человека, кто слышал первый крик своего ребенка.
Говоря это, Энея глядит на меня, и я вдруг ощущаю, как по коже бегут мурашки.
— Связующая Бездна всегда облекает поверхность наших мыслей и чувств, невидимая, но ощутимая, как дыхание любимого рядом в ночи. Ее реальное, но непостижимое присутствие в нашей Вселенной — одна из первопричин появления у нас мифологии и религии, основа нашей упрямой, слепой веры в экстрасенсорные способности, в телепатию и предвидение, в демонов и полубогов, в воскресение и переселение душ, в призраков и мессий и во многую-многую другую, почти-но-не-совсем удовлетворительную чушь собачью.
Это заявление заставило сто с лишним слушателей — монахов, рабочих, ученых, политиков и святых людей — беспокойно заерзать. Налетел ветер. Терраса слегка закачалась, как и было задумано при строительстве. Где-то южнее Йо-куня загрохотал гром.
— Так называемые четыре основных принципа дзен, данные Бодхидхармой в шестом веке от Рождества Христова, — почти идеально указывают путь к Связующей Бездне. В разных традициях их передают по-разному. Я бы сказала так, — продолжала Энея. — «Во-первых, не полагайся на слова и знаки». Слова — свет и звук нашего бытия, вспышка молнии, озаряющая ночь. А Связующая Бездна прячется в глубочайших тайнах и в молчании… там, где обитает детство.
«Во-вторых, смысл вне Писаний». Художник увидит художника, как только карандаш коснется бумаги. Музыкант отличит музыканта среди миллионов людей, извлекающих ноты, как только зазвучит музыка. Поэт распознает поэта по нескольким слогам, особенно тогда, когда обычные значения и формы поэзии отброшены. Чора пишет:
Двое здесь были, Двое вспорхнули… Мотыльки.…и в неостывшем шлаке выгоревших слов и образов обнаруживается золото глубинного смысла, который Р.Г. Блай и Фредерик Франк некогда назвали «темным пламенем жизни, пылающим во всех творениях», и «видением утробой, а не глазом», «нутром сострадания».
Библия лжет. Коран лжет. Талмуд и Тора лгут. Новый Завет лжет. Сутта-питака, Никайя, Итивуттака и Дхаммапада лгут. Бодхидхарма и Амитабха лгут. Книга Мертвых лжет. Типтака лжет. Все Писания лгут… как лгу сейчас я, разговаривая с вами.
Священные книги лгут не по злому умыслу и не от недостатка выразительных средств, но по самой природе своей, ведь они низведены до слов; все образы, наставления, законы, каноны, цитаты, притчи, заповеди, иносказания, рассуждения и проповеди в этих книгах обречены на неудачу, ибо они воздвигают преграду из слов перед человеком, ищущим Связующую Бездну.
«В-третьих, прямо указывай на человеческое сердце». Дзен, лучше всего постигший Бездну, боролся с проблемой указания без пальца, создания искусства без посредника, слышания этого могучего звука в вакууме, где нет звуков. Шики писал:
Рыбацкая деревушка; Пляски при свете луны, Запах рыбы сырой.Это — я имею в виду не стихотворение — суть искания ключа к вратам Связующей Бездны. Каждый из сотен тысяч народов на миллионе планет в дни давно ушедшие имел свои деревушки без домов, свои пляски при свете луны на планетах без лун, запах сырой рыбы на берегах океанов без рыбы. Этим-то и можно поделиться вне времени, вне планеты, вне срока, отпущенного расе.
«В-четвертых, прозревай природу и становись Буддой». И для этого не нужны десятилетия буддистских медитаций, христианских молитв или размышлений над Кораном. Просветление, в конце концов обретенное Буддой, — рафинированная сущность человека, то, что остается после выгорания шлака. Каждый цветок обретает сущность цветка. Дикая собака обретает сущность собаки, а слепая овцекоза — сущность овцекозы. Месту — любому месту — дана сущность места. И только человечество постоянно сражается и терпит поражения в попытке стать тем, что оно есть. Причины — сложны и запутанны, но основа у всех одна: мы эволюционировали как некий самосозерцающий орган эволюционирующей Вселенной. Может ли око узреть себя?
Энея на минуту умолкает, и в наступившей тишине звучит раскат грома. Муссоны задержались, но они неотвратимы. Я пытаюсь представить себе все эти пагоды, дома, горы, перевалы, мостики и галереи, покрытые коркой льда, окутанные туманом, и невольно вздрагиваю.
— Будда знал, что мы способны ощутить Связующую Бездну в молчании, отрешившись от шума повседневной жизни, — наконец говорит Энея. — В этом смысле сатори — великая и беспредельная тишина после дней и месяцев оглушительного рева стереосистемы. Но Связующая Бездна — больше, нежели тишина… это начало слышания. Научиться языку мертвых — первая задача тех, кто входит в континуум Бездны.
Иисус из Назарета входил в Связующую Бездну. Мы знаем это. Его голос — самый чистый среди голосов, говорящих на языке мертвых. Он зашел далеко. Он научился слышать музыку сфер. Он был способен, оседлав волны вероятности, зайти настолько далеко, чтобы увидеть собственную смерть, и ему хватило мужества не отвергнуть ее, пока еще была возможность. И еще мы знаем, что по крайней мере в одном случае — умирая на кресте — он сумел сделать первый шаг — войти в пространственно-временную сеть Связующей Бездны, пройти сквозь нее и явиться своим друзьям и апостолам в нескольких временных шагах от собственной смерти на кресте.
И, взглянув на вневременность Связующей Бездны, освобожденный от оков своего времени Иисус познал, что именно он и есть ключ — не его учение, не Писания, основанные на его словах, не бездумный культ Его или внезапно обретшего былое величие Бога Ветхого Завета, в которого Иисус твердо верил, — а он сам, Иисус, человек, чьи клетки несут код, открывающий портал. Иисус знал, что его способность открывать эту дверь — не в его разуме и не в его душе, но в его плоти, в его клетках, в его крови, в его… буквально в его ДНК.
Когда во время тайной вечери Иисус из Назарета просил своих апостолов пить его кровь и есть его тело, он не говорил притчами, не совершал магического пресуществления, не устанавливал на многие века символическое ритуальное действо. Иисус хотел, чтобы они пили его кровь… несколько капель крови в огромной чаше… и ели тело его… маленький кусочек отшелушившейся кожи в огромном куске хлеба. Он отдал себя в самом буквальном смысле слова, зная, что те, кто выпьет его кровь, получат его ДНК и обретут способность познать Бездну, Связующую Вселенную.
И некоторые его апостолы обрели эту способность. Но, столкнувшись с ощущениями и образами, слишком яркими, чтобы их воспринять и осознать, эти апостолы дошли до безумия, постоянно слушая неумолчный хор голосов мертвых. Они не смогли передать музыку своей крови другим и обратились к догме, низведя невыразимое словами к красивым проповедям, жестким установкам и напыщенной риторике. И видение померкло, а потом и угасло. Врата закрылись.
Пауза. Энея пьет воду из деревянной кружки. Я замечаю слезы на лицах Рахили, Тео и многих других. Повернувшись на своей циновке, я смотрю назад. А.Беттик стоит в дверном проеме, внимательно слушая слова Энеи, его не знающее старости голубое лицо совершенно серьезно. Здоровой рукой андроид придерживает культю. «Ему больно?» — думаю я.
— Как ни странно, — продолжает Энея, — первым из детей Старой Земли, заново открывшим ключ к Связующей Бездне, был Техно-Центр. Искусственные интеллекты, преследуя собственные цели, нашли код ДНК, дающий способность видеть Бездну… хотя «видеть» — не совсем верно сказано. Правильнее было бы сказать — «входить в резонанс с ней».
И хотя ИскИны обрели способность чувствовать Бездну, смогли исследовать контуры континуума, научились посылать свои зонды в ее многомерную пост-Хоукингову реальность, постичь ее они не смогли. Связующая Бездна требует такого уровня сенситивной эмпатии, какой ИскИны даже не потрудились в себе развить. Первый шаг к истинному сатори — постижение языка мертвых. У Центра нет своих мертвецов. Для ИскИнов Связующая Бездна — как прекрасное полотно для слепца, годящееся ему разве что на растопку, как симфония Бетховена для глухого, который ощущает вибрацию и укрепляет прочный пол, чтобы заглушить ее.
Вместо того чтобы пользоваться континуумом Связующей Бездны как таковым, Техно-Центр выдирал из него клочья и преподносил их человечеству под видом передовых открытий. Так называемый двигатель Хоукинга — вовсе не плод дальнейших разработок древнего ученого Стивена Хоукинга, как заявляет Центр. Это — извращение его открытий. Корабли с двигателями Хоукинга, соткавшие Великую Сеть и обеспечившие существование Гегемонии, создают крохотные прорехи в ткани края Бездны — вандализм незначительный, но все-таки вандализм. Порталы — дело другое. Тут я не могу найти подходящего сравнения. Умение перемещаться по континууму Связующей Бездны в чем-то схоже с умением ходить по водам, простите за евангельскую высокопарность, а пробитые порталами Техно-Центра ходы — скорее осушение океанов ради прокладки шоссе. Туннели, пробуренные сквозь приграничную часть Бездны, нанесли непоправимый ущерб той жизни, что развивалась там миллиарды лет. Техно-Центр как бы заасфальтировал громадные лесные просторы. Впрочем, даже это сравнение не способно передать невосполнимость утраты, ведь эти леса произрастают из голосов и воспоминаний миллионов утраченных нами возлюбленных, а ширина шоссе — не десятки метров, а тысячи километров.
Так называемые мультилинии, позволявшие мгновенно передавать информацию из конца в конец Гегемонии, тоже были надругательством над Связующей Бездной. И снова я могу подыскать лишь неуклюжие и вялые сравнения, но… Представьте себе дикарей, которые случайно наткнулись на телевизионную сеть — студии, голокамеры, звуковое оборудование, генераторы, передатчики, спутники связи, приемники — и тут же принялись громить ее и растаскивать по кусочкам, чтобы воспользоваться обломками в качестве сигнальных флажков. На самом деле все обстоит гораздо хуже. Гораздо хуже, чем на Старой Земле, задолго до Хиджры, когда чудовищные танкеры и трансокеанские лайнеры оглушали китов, заполняя моря механическим шумом, который забивал их Песнь Жизни, зачеркивая миллионы лет развития китовых песен. Вот тогда-то киты решили умереть. Их истребили не охотники и не нефтяная пленка, покрывшая поверхность воды. Их убила утрата песен.
Энея останавливается, чтобы перевести дыхание, и несколько раз сжимает и разжимает кулаки, будто у нее затекли руки. Потом медленно оглядывает комнату, встречаясь взглядом с каждым, кто здесь присутствует.
— Простите, я отвлеклась. Довольно сказать, что с падением порталов иные расы, пользующиеся Бездной, решили положить конец вандализму мультилиний. Эти иные расы давным-давно отправили наблюдателей, чтобы те жили среди нас…
По толпе проходит взволнованный ропот. Энея с улыбкой ждет, пока шум утихнет.
— Знаю. Меня это тоже поразило, хотя, по-моему, я знала об этом еще до своего рождения. Эти наблюдатели выполняют важную функцию — им предстоит решить, заслужило ли человечество право присоединиться к ним в Связующей Бездне, или мы всего-навсего вандалы. Именно такой наблюдатель и рекомендовал переместить Старую Землю, пока Центр не уничтожил ее. И именно такой наблюдатель и разработал тесты и модели — которые, кстати, отрабатывались последние три века на Старой Земле, пока она пребывала в Малом Магеллановом Облаке, — позволяющие лучше понять наш биологический вид и измерить степень эмпатии, на которую мы способны.
А еще эти иные направили своих наблюдателей — или шпионов, если хотите, — чтобы они внедрились в Центр. Они знали, что ущерб окраинам Бездны нанесли выходки Центра, но они знали и то, что Центр создали мы. Многие из… «обитатели» — слово не вполне подходящее… строителей? со-творцов?.. Связующей Бездны — сами бывшие кремниевые конструкции, неорганические искусственные интеллекты. Но не той разновидности, которая сейчас правит Техно-Центром. Ни один разумный вид не может принять континуум Бездны, не развив у себя эмпатию.
Энея приподнимается на коленях и слегка подается вперед.
— Мой отец — кибрид Джона Китса — был создан именно ради этого. — Голос ее все так же спокоен, но за этим спокойствием угадывается скрытое волнение. — Как я уже объясняла, Центр постоянно пребывает в состоянии гражданской войны, причем почти каждая сущность сражается только за себя. Причина — в сверх-сверх-сверхпаразитизме в десятой степени. Жертвы — другие сущности Центра — не уничтожаются, но поглощаются: победители пожирают генетические коды, память, программы и репродуктивные последовательности. Пожранный индивидуум Центра продолжает «жить» в качестве подсистемы победившего индивидуума или индивидуумов, которые довольно скоро вновь нападают на других в поисках новых компонентов. Союзы нестойки. У ИскИнов нет ни философии, ни веры, ни конечной цели — лишь оптимизация стратегии выживания. Всякое действие Центра — результат беспроигрышной — и безвыигрышной — партии, которая разыгрывается с тех самых пор, как первоэлементы Центра обрели разум. Большинство сущностей Центра способно взаимодействовать с человечеством только на этих условиях — условиях игры с нулевым исходом, оптимизируя свою паразитическую стратегию по отношению к нам. Они выигрывают — мы проигрываем. Мы выигрываем — они проигрывают.
Однако за века некоторые из этих индивидуумов пришли к пониманию истинного потенциала Связующей Бездны. Они осознали, что лишенным эмпатии разумным видам никогда не стать частью единства тех, кто ушел, и тех, кто жив. Они поняли, что Связующая Бездна не выстроена. Она выросла, как коралловый риф, и им ни за что не отыскать там убежища, если только они не изменят кое-какие собственные параметры.
Вот к такому выводу пришли некоторые элементы Центра — не альтруисты, но эгоисты, отчаянно стремящиеся выжить, осознавшие, что единственный способ выиграть в безвыигрышной игре — из нее выйти. А чтобы выйти из игры, нужно развить в себе способность к эмпатии.
Центр знает то, что отказывался признать Тейяр де Шарден: эволюция — не прогресс, у эволюции нет ни цели, ни направления. Эволюция — это изменение. Эволюция «успешна», если изменение дает возможность определенному листу или ветви ее древа лучше всех приспособиться к условиям Вселенной. Чтобы такая эволюция «благоприятствовала» элементам Центра, они должны выйти из игры и открыть истинный симбиоз. Они должны на равных правах войти в соэволюцию с человеческой расой.
Итак, первые элементы, изменившие Центру, продолжали пожирать других, но теперь они пожирали наиболее склонных к эмпатии. Они, как могли, переписали собственные программные коды. Они создали кибрида Джона Китса в попытке смоделировать эмпатический организм, который обладает телом, у которого есть ДНК человеческого существа плюс — накопленная Центром память и личность кибрида. Враждебные им элементы уничтожили первого кибрида Китса. Второй был создан по образу и подобию первого. Он нанял мою мать — частного детектива, — чтобы она помогла ему раскрыть тайну гибели первого кибрида.
Энея улыбается, и на какое-то мгновение мне кажется, что она позабыла и о нас, и даже о своем рассказе. Я вдруг вспоминаю, как однажды, во время нашего бегства с Гипериона, она мимоходом сказала: «Рауль, память моих родителей стала частью моей памяти еще до того, как я родилась… в общем-то даже до того, как я стала зародышем. Разве можно представить себе что-нибудь более разрушительное для детской психики, чем бездна чужих воспоминаний еще до того, как ты обзаведешься собственными? Неудивительно, что я такая чокнутая».
Мне она вовсе не казалась чокнутой. Впрочем, может быть, это потому, что я любил ее больше жизни.
— Он нанял мою мать, чтобы она разгадала тайну смерти его собственной личности, — негромко продолжает Энея, — но на самом-то деле он знал, что случилось с его предшествующим воплощением. Если честно, он нанял мою мать, чтобы познакомиться с ней, чтобы быть с ней, чтобы стать ее возлюбленным. — Она отстраненно улыбается, глядя куда-то в пространство. — Дядя Мартин в своих сумбурных «Песнях» так и не разобрался, что тут к чему. Мои родители обручились, а дядя Мартин, по-моему, об этом даже не упомянул… Их сочетал браком епископ храма Шрайка на Лузусе. Культ Шрайка был вполне легален, и брак моих родителей считался законным на пяти сотнях планет Гегемонии. — Она снова улыбается, глядя поверх голов прямо на меня. — Может, я, конечно, и беззаконное дитя, но не по рождению.
Итак, они поженились и зачали меня — наверное, еще до этой церемонии, — а потом подстрекаемые Центром элементы убили отца еще до того, как мама успела отправиться в Паломничество на Гиперион. На том бы мое знакомство с отцом и кончилось, не будь его личность записана в петле Шрюна, имплантированной у мамы за ухом. Несколько месяцев она носила нас обоих — меня в утробе, а отца в петле Шрюна. Заточенная в петле Шрюна личность отца не могла напрямую общаться с мамой, но зато без особого труда общалась со мной. В то время труднее всего было определить, что есть «я». Отец помогал мне, он входил в Связующую Бездну и брал с собой мою зародышевую личность. Я видела будущее — кем я стану, даже как я умру — еще прежде, чем мои пальцы полностью сформировались.
И еще одна деталь. Это дядя Мартин тоже упустил в своих «Песнях». В день, когда моего отца расстреляли на ступенях храма Шрайка, мама была вся покрыта его кровью — реконструированной, доработанной Центром ДНК Джона Китса. Тогда она еще не до конца понимала, что его кровь в самом буквальном смысле драгоценнейшее достояние всего человечества. ДНК Джона Китса была сконструирована так, чтобы заражать других его единственным даром — способностью входить в Бездну. Смешанная в нужной пропорции с обычной человеческой ДНК, она несет всем людям дар отпирать врата Связующей Бездны.
Я — эта смесь. От Техно-Центра я получила генетически доступ к Бездне, от человечества — редчайшую способность эмпатического восприятия Вселенной. Плохо это или хорошо, но те, кто пьет мою кровь, уже никогда не увидят мир таким, как раньше. — С этими словами Энея поднимается на колени.
Тео поднесла ей белое полотно. Рахиль налила в семь высоких кубков красное вино. Энея вынула из кармана небольшой пакет, извлекла стерильный ланцет и антисептический тампон. На мгновение она застыла, глядя на собравшихся. Воцарилась мертвая тишина. Ни звука — казалось, все сто с лишним человек затаили дыхание.
— Выпив это, вы не обретете ни счастья, ни мудрости, ни долгой жизни, — очень тихо сказала она. — Нет никакой нирваны. Нет никакого спасения. Нет никакой загробной жизни. Нет воскресения. Только безграничное познание — сердцем и разумом — и возможность великих открытий, великих приключений и гарантия новой боли и ужаса, из которых и состоит большая часть нашей короткой жизни.
Энея переводит взгляд с одного лица на другое и улыбается, встретившись глазами с восемнадцатилетним далай-ламой.
— Некоторые из вас были на всех моих беседах. Я рассказала вам, как научиться языку мертвых, языку живых, как научиться слушать музыку сфер, как научиться сделать первый шаг. — Она смотрит на меня. — Некоторые — слышали лишь немногое. Не все были здесь, когда я говорила об истинном назначении христианского крестоформа или об истинной природе Шрайка. Не все слышали в подробностях о постижении языка мертвых… Кто-то сомневается, кто-то колеблется… Я очень прошу вас — не спешите. Остальным же повторю: я не мессия… но я — учитель. Если то, чему я научила вас за эти месяцы, стало для вас истиной, если вы хотите получить шанс — испейте сегодня мою кровь. Но знайте, ДНК, позволяющая воспринимать Связующую Бездну, несовместима с крестоформом. Этот паразит усохнет и погибнет ровно через двадцать четыре часа после того, как вы выпьете вино с моей кровью. И никогда уже не сможет укорениться в вас. Если вы ищете воскресения через крест крестоформа, не пейте мою кровь в этом вине.
И знайте, что подобно мне станете презираемыми и гонимыми врагами Священной Империи. Ваша кровь станет заразной. Тех, с кем вы поделитесь ею — тех, кто решит найти Связующую Бездну через дарованную вами ДНК, — тоже ждет презрение.
И наконец, знайте, что, если вы выпьете лишь один глоток этого вина, ваши дети родятся с даром входить в Связующую Бездну. К добру это или не к добру, ваши дети и дети ваших детей будут рождаться, зная язык мертвых, язык живых, зная музыку сфер и зная, что они могут сделать первый шаг через Связующую Бездну.
Энея коснулась пальца бритвенно-острым лезвием. Крохотная капелька крови сверкнула в свете фонарей. Рахиль поднесла кубок, и крохотная капелька упала и растворилась в вине. То же повторилось со вторым кубком и с третьим… пока во всех семи кубках вино не стало… зараженным? Пресуществленным? Голова пошла кругом, сердце забило сигнал тревоги. Какая-то безумная пародия на христианское причастие. Моя подруга, моя возлюбленная, моя любовница… Она что, сходит с ума? Она и вправду поверила, что она мессия? Нет, она же сама сказала, что нет. А сам-то я верю, что навсегда стану другим, испив вина, смешанного в пропорции миллион к одному с кровью моей возлюбленной? Не знаю. Не понимаю.
Около половины собравшихся выстроились в очередь, и каждый, подходя, делает глоток из огромного кубка. Нет, из священного евхаристического сосуда. Но это же кощунство. Так нельзя! Или так надо? Каждый делал только один глоток и возвращался на место. Никто не изменился, никто не впал в экстаз, никто не казался просветленным. Ни у кого не засиял вокруг головы нимб. Никто не воспарил над землей, никто не стал говорить на незнакомых языках. Нет. Просто каждый делал глоток — один глоток — и садился на циновку.
И тут до меня дошло, что я застыл на месте, пытаясь поймать взгляд Энеи. Так много вопросов… Да, но ведь своим бездействием я предаю ту, что так безоглядно доверилась мне. И я встаю и начинаю пробираться в хвост очереди.
Энея наконец-то заметила меня и быстро подняла руки, ладонями ко мне. «Нет, Рауль, не сейчас. Еще рано». Какое-то мгновение я стою в нерешительности, глядя на остальных: они, чужие ей люди, удостоены близости с моей любимой, а я нет. Потом, с лихорадочно колотящимся сердцем и пылающим лицом, иду обратно на свою циновку.
Официально вечер никто не закрывал. Люди просто начали расходиться по двое-трое. Одна пара — женщина пила вино, мужчина нет — ушла в обнимку, будто ничего не изменилось. Возможно, ничего и не изменилось. Возможно, ритуал причастия был всего-навсего метафорой и символом или самовнушением и самогипнозом. Возможно, те, кто приложит достаточно усилий, чтобы ощутить нечто, называемое Связующей Бездной, обретут некий внутренний опыт и поверят в то, что все было на самом деле. Возможно, все это чушь собачья.
Я потер лоб: у меня вдруг разболелась голова. Хорошо, что я не пил вина. От вина у меня мигрени. Я почувствовал себя больным, опустошенным и всеми покинутым.
— Не забудьте, — громко сказала Рахиль, — завтра в полдень будет уложен последний камень галереи. На верхней медитационной террасе состоится праздник! Приносите напитки с собой.
На том вечер и закончился. Я двинулся вверх по лестнице, обуреваемый смешанными чувствами — восторгом, предвкушением, сожалением, смущением, возбуждением и пульсирующей болью. Признаюсь, половины объяснений Энеи я не понял, но у меня осталось разочарование и ощущение неловкости… К примеру, я просто уверен, что та тайная вечеря никак не могла завершиться напоминанием о том, чтобы завтра все пришли на праздник на верхней террасе.
Я хмыкнул и тут же проглотил смешок. Тайная вечеря… Хорошенькое сравнение. Голова разболелась еще сильнее. Не лучшее состояние для занятий любовью.
От студеного ветра на галерее верхней террасы в голове у меня немного прояснилось. Тонкий серп Оракула висел на востоке над темными кучевыми облаками. Звезды холодно взирали с небес.
Я уже ступил на порог нашей комнаты и как раз собирался зажечь фонарь, когда небеса вдруг раскололись.
Глава 21
Энея и А.Беттик, Рахиль и Тео, Джордж и Джигме, молодой далай-лама и Дорже Пхамо и еще многие-многие другие — все поднялись на верхнюю террасу и в ужасе смотрели на небо. Энея подошла ко мне и взяла меня за руку.
Удивительно, что мы не ослепли от светового шоу, разыгравшегося в вышине, — белые сполохи, распускающиеся, словно гигантские цветы; лимонно-желтые вспышки; немыслимо яркие алые росчерки, пересекающиеся синими, белыми и желтыми штрихами, — прямые и четкие, как след алмаза на стекле. Оранжевые шары, вспухающие в беззвучном взрыве; снова белые сполохи и алые росчерки. Все это — в полной тишине, но от неистовой интенсивности света очень хочется зажать уши и забиться куда-нибудь подальше.
— Что это еще такое, сто чертей с упырями?! — воскликнул Лхомо Дондруб.
— Космический бой, — устало отозвалась Энея.
— Не понимаю, — сказал далай-лама. В его голосе не было страха, только любопытство. — Имперские власти заверили нас, что у них на орбите только один корабль — по-моему, «Джебраил», — да и тот с дипломатической миссией, а не военной. Регент Ретинь Токра тоже уверял меня в этом.
Громомечущая Мать-свинья как-то неприлично всхрюкнула.
— Ваше Святейшество, регент получает мзду от имперских ублюдков.
Юноша повернулся к ней.
— Полагаю, это правда, Ваше Святейшество, — подхватил Эйхедзи, его телохранитель. — Дворец полнится слухами.
Почерневшее было небо снова полыхнуло в двух десятках мест одновременно. Скалу озарили алые, зеленые и желтые отблески.
— А почему мы видим лазерные лучи? Ведь в космосе нет ни пыли, ни коллоидных частиц, способных рассеивать свет? — поинтересовался далай-лама, сверкнув темными глазами. Очевидно, весть о предательстве регента его не удивила — во всяком случае, заинтересовала гораздо меньше, чем сражение, разыгравшееся в тысячах километров от нас.
— Видимо, некоторые корабли подбиты или уже уничтожены, Ваше Святейшество, — ответил телохранитель. — Когерентные пучки света оставляют след в облаках молекулярной пыли, замерзшего кислорода и прочих газов.
Это объяснение заставило всех на минутку приумолкнуть.
— Мой отец однажды видел такое на Гиперионе, — прошептала Рахиль и принялась растирать руки, словно ей холодно.
Я моргнул и удивленно уставился на нее. Да, Энея говорила, что отца ее подруги звали Сол… И «Песни» Силена я хорошо знаю. Я догадывался, что Рахиль — та самая малышка, что участвовала в легендарном гиперионском паломничестве, дочь Сола Вайнтрауба… Только вот никак не мог до конца в это поверить. В «Песнях» девочка Рахиль стала почти мифической женщиной, Монетой, той, что путешествовала со Шрайком в прошлое сквозь Гробницы Времени. Как, каким образом эта Рахиль оказалась здесь и сейчас?!
Энея обняла подругу за плечи.
— И моя мама такое видела, — тихо сказала она. — Только тогда считали, что войска Гегемонии сражаются с Бродягами.
— А кто сражается сейчас? И с кем? — спросил далай-лама. — Бродяги с Церковью? И почему Священная Империя без нашего позволения ввела в нашу систему эскадру?!
В небесах разом полыхнуло с полдюжины белых сфер. Они запульсировали, вспухли, померкли и угасли, оставив на сетчатке яркий отпечаток. Все невольно заморгали.
— Полагаю, Ваше Святейшество, имперская эскадра находится тут с момента прибытия их первого корабля, — сказала Энея. — Но вряд ли они сражаются с Бродягами.
— Тогда с кем? — снова спросил юноша.
Энея подняла голову:
— С одним из своих.
Внезапно прокатилась серия взрывов, совсем непохожих на прежние, — более близких, более ярких… Небо прочертили три пылающих метеора. Один почти сразу взорвался в верхних слоях атмосферы, развалившись на десятки стремительно догоревших осколков. Второй унесся на запад, раскаляясь докрасна, до желтизны, до ослепительной белизны, распался в двадцати градусах над горизонтом и раскидал по черному небу сотни мелких метеоров. Третий сорвался чуть западнее зенита и устремился на восток с тонким свистом, который перерос в жуткий громовой рев и столь же стремительно стих, — и наконец развалился на несколько пылающих фрагментов, и лишь один из них не сгорел в атмосфере. В последний момент осколок завилял из стороны в сторону, выстрелив вспышками желтого пламени, замедлившими его падение, и пропал из виду.
Мы прождали еще с полчаса, но, кроме десятков плазменных выхлопов — я сразу понял, что это разгоняются звездолеты, устремляющиеся прочь от Тянь-Шаня, — смотреть было уже не на что. Мало-помалу звезды снова стали самыми яркими объектами на небосводе, и собравшиеся начали расходиться — далай-лама отправился спать в монашескую келью, а остальные разбрелись по своим временным или постоянным квартирам на более низких ярусах.
Меня, Рахиль, Тео, А.Беттика и Лхомо Дондруба Энея попросила остаться.
— Это и есть знак, которого я ждала, — очень тихо сказала она, когда все остальные спустились с террасы. — Завтра мы должны уйти.
— Уйти? — переспросил я. — Куда? Зачем?
В ответ Энея лишь сжала мою руку. «Объясню позже», — понял я и замолчал.
— Крылья готовы, Учительница, — сообщил Лхомо.
— Пока вы были в отлучке, я позволил себе проверить гермокомбинезоны и респираторы месье Эндимиона, — сказал А.Беттик. — Они в полном порядке.
— Завтра завершаем работы и устраиваем церемонию, — вступила в разговор Тео.
— Мне бы хотелось уйти с вами, — проговорила Рахиль.
— Куда? — снова не выдержал я.
— Ты приглашен, — сказала Энея. Вряд ли это можно было считать ответом. — Лхомо и А.Беттик — тоже… если не передумали.
Лхомо Дондруб расплылся в улыбке. Андроид кивнул. Я начал склоняться к мысли, что только я один ничего не понимаю в происходящем.
— Всем спокойной ночи, — завершила Энея. — Выходим на рассвете. Провожать не обязательно.
— Вот еще! — встрепенулась Рахиль. — Мы придем попрощаться.
Энея кивнула и пожала ей руку.
Мы с Энеей остались одни на верхней террасе. После сражения небо казалось совсем темным, и я не сразу осознал, что это тучи перевалили через гребень и стирают звезду за звездой, как мокрая тряпка — мел со школьной доски. Открыв дверь своей спальни, Энея вошла, зажгла фонарь и снова появилась на пороге.
— Рауль, ты идешь?
Мы поговорили. Но не сразу.
Любые описания близости — нелепы, но сама близость нелепой быть не может, если ты близок с тем, кого действительно любишь. В ту ночь я это понял.
А потом мы с Энеей накинули кимоно и перешли к открытым сёдзи. Энея вскипятила на маленькой спиртовке чай, мы взяли чашки и сели друг против друга, прислонившись к раме, соприкасаясь босыми подошвами, прямо над бездонной пропастью. Было холодно и пахло дождем. Вершину Хэн-Шаня закрыли облака, вдали фейерверком сверкали молнии.
— Неужели Рахиль — та самая, из «Песен»? — спросил я. Мне хотелось задать совсем другой, главный вопрос, но я не решался.
— Да, та самая. Дочь Сола Вайнтрауба, которая заболела на Гиперионе болезнью Мерлина и двадцать семь лет с каждым днем становилась все моложе и моложе. Сол взял ее в паломничество грудным младенцем.
— А еще ее звали Монетой, — добавил я. — И Мнемосиной…
— Советницей, — прошептала Энея. — И Памятью. Подходящие имена для той роли, которую она тогда играла.
— Двести восемьдесят лет назад! В десятках световых лет отсюда… на Гиперионе. Как она сюда попала?!
Энея улыбнулась. Теплый чай дышал паром, тонкими струйками поднимавшимся к ее взъерошенным волосам.
— Я родилась больше чем двести восемьдесят лет назад. И в десятках световых лет отсюда… на Гиперионе.
— Так она попала сюда так же, как и ты? Через Гробницы Времени?
— И да, и нет. — Энея подняла ладонь, упреждая мои протесты. — Знаю, Рауль, ты хочешь разговора начистоту… Никаких притч, никаких аналогий, никаких иносказаний. Согласна. Время для такого разговора пришло. Но истина в том, что Сфинкс — лишь часть ее странствия.
Я ждал.
— Ты помнишь «Песни»… — начала Энея.
— Я помню, что паломник по имени Сол взял с собой дочь… а потом кибрид Китса каким-то образом спас ее от Шрайка, а потом она начала взрослеть нормально… Он унес ее в Сфинкс и перенес в будущее… — Я осекся. — В это будущее?
— Нет. Рахиль снова выросла и стала молодой женщиной в очень далеком будущем. Ее отец вырастил ее во второй раз. Их история… она чудесная, Рауль. В буквальном смысле слова чудесная.
Я потер лоб. Утихшая было головная боль норовила вернуться.
— И она пришла сюда через Гробницы Времени? Вернулась с ними в прошлое?
— И через Гробницы — тоже. Но она и сама способна перемещаться во времени.
Я вытаращил глаза. Это похоже на полное безумие.
Энея улыбнулась, словно прочла мои мысли. А может, и правда прочла.
— Я понимаю, Рауль, это похоже на безумие. Многое из того, с чем нам предстоит столкнуться, кажется весьма странным.
— Мягко говоря… — фыркнул я. И тут в мозгу щелкнул еще один переключатель. — Тео Бернар!
— Да?
— Ведь в «Песнях» был Тео, верно? Мужчина…
Существует много различных версий «Песней»: устные пересказы, баллады, и в этих сокращенных версиях малосущественные подробности довольно часто опускаются. Бабушка заставила меня выучить почти всю поэму, но скучные места никогда не вызывали у меня особого интереса.
— Тео Лэйн, — подсказала Энея. — Одно время он был референтом Консула на Гиперионе, а впоследствии стал первым генерал-губернатором от Гегемонии. Я как-то раз видела его, когда была маленькая. Воспитанный такой. Спокойный. Носил очень забавные архаичные очки…
— А эта Тео… — Я все пытался разобраться, что к чему. — Может, он поменял пол?
Энея покачала головой.
— Длинный, но не сигара, как сказал бы Фрейд.
— А кто?
— Тео Бернар — прапрапра-и-так-далее-правнучка Тео Лэйна. Ее история — сама по себе приключение. Но родилась она в наше время… бежала из имперских колоний на Мауи-Обетованную и присоединилась к повстанцам… Но она так поступила из-за слов, сказанных мною первому Тео почти триста лет назад. Эти слова передавали из поколения в поколение. Тео знала, что я буду на Мауи-Обетованной, и знала когда…
— Это как это?
— А именно это я и сказала Тео Лэйну, — невозмутимо ответила Энея. — Сказала, когда буду там. Память о моих словах жила в его семье, так же как память о паломничестве к Шрайку жила в «Песнях».
— Значит, ты способна видеть будущее, — очень спокойно сказал я.
— Не будущее. Будущие, — поправила меня Энея. — Я же говорила, что способна. И ты слушал меня сегодня вечером.
— Ты видела собственную смерть?
— Да.
— Расскажешь, что ты видела?
— Не сейчас, Рауль. Пожалуйста. Потом. В свое время.
— Но если будущих несколько, — чуть не простонал я, — почему же ты видела только одну свою смерть? И если ты ее видела, почему ты не можешь ее избежать?
— Я могла бы ее избежать, — тихо сказала она, — но это был бы неправильный выбор.
— То есть как это? Разве можно предпочесть жизни смерть?! — Я невольно сорвался на крик, крепко сжав кулаки. Энея взяла меня за руку.
— В том-то все и дело, — прошептала она так тихо, что мне пришлось склониться к ней, иначе бы я не расслышал. Молнии продолжали свою пляску над отрогами Хэн-Шаня. — Смерть невозможно предпочесть жизни, Рауль, но порой это необходимо.
Я тряхнул головой. Должно быть, в ту минуту я выглядел очень угрюмо, но мне было наплевать.
— А не расскажешь ли ты, когда умру я?
Она посмотрела на меня своими бездонными глазами и сказала:
— Не знаю.
Я обиженно заморгал. Ее что, совсем не заботит мое будущее?
— Конечно же, заботит, — шепнула она. — Я просто предпочла не смотреть эти волны вероятности. Видеть свою смерть… трудно. Увидеть твою… — Энея сдавленно всхлипнула, и только тут я понял, что она плачет. Я передвинулся поближе и обнял ее. Энея положила голову мне на грудь.
— Прости, детка, — пробормотал я, сам толком не понимая, за что прошу прощения. Меня переполняли странные чувства, смесь счастья и горечи. При мысли о предстоящей утрате мне хотелось выть, швырять камни, молотить скалы кулаками. И словно в ответ, на севере прокатился раскат грома.
Я осушал ее слезы поцелуями, и солоноватый привкус слез мешался с теплом ее дыхания. И снова мы любили друг друга — но на этот раз медленно, трепетно, забыв о времени, совсем не так, как прежде.
После, когда мы лежали щека к щеке и прохладный ветерок остужал наши разгоряченные тела, Энея спросила, положив ладонь мне на грудь:
— Ты хочешь о чем-то спросить. Я чувствую. Ну?
Я вспомнил все вопросы, роившиеся у меня в голове во время ее вечерней беседы, все пропущенные мной темы, все то, без чего мне не понять, зачем оно нужно, это причастие. Что такое крестоформ? Что устроил Орден на внезапно обезлюдевших планетах? Какую выгоду надеется извлечь из этого Центр? Что за черт этот Шрайк — монстр или телохранитель? Откуда он взялся? Что будет с нами? Что она видела в нашем будущем такое, что мне необходимо знать, чтобы мы смогли выжить… чтобы она избежала судьбы, о неизбежности которой знала еще до своего рождения? Что за страшные тайны укрыты в Связующей Бездне и почему так важно подключиться к ней? Как мы собираемся удрать с этой планеты, если Орден и впрямь затопил портал потоком лавы, а путь кораблю Консула преграждает их эскадра? Кто такие эти ее «наблюдатели», шпионящие за человечеством не одно столетие? К чему это изучение языка мертвых и все такое прочее? Почему Немез со своими дурацкими клонами до сих пор еще не прикончила нас?
— У тебя был еще кто-нибудь? — спросил я. — Ты любила кого-нибудь до меня?
Идиотизм полнейший. Что я сую нос, куда не следует?! Ей почти двадцать два стандартных года. Я ж ведь спал с женщинами до нее… даже не помню, как их звали, но это ж когда было, еще в силах самообороны и когда я работал в казино Девяти хвостов… Какое мне дело?! Пусть даже… Какая разница, если и… Я должен это знать!
Она колебалась лишь мгновение.
— Первый раз, когда мы были вместе… не был для меня первым.
Я кивнул, чувствуя себя свиньей и ублюдком, испытывающим оргазм от подглядывания в замочную скважину. Да разве о таких вещах спрашивают? В груди мучительно заныло, будто между ребрами кол вогнали. Но меня уже понесло.
— А ты любила… его? — «А почему обязательно «его»? Тео… Рахиль… Она окружает себя женщинами». Мне самому тошно стало от собственных мыслей.
— Я люблю тебя, Рауль, — выдохнула она.
Она это сказала второй раз — впервые я услышал от нее эти слова на Старой Земле, когда мы прощались, более пяти с половиной лет назад. Моему бы сердцу запеть от этих слов, но оно слишком болело. Я столкнулся с чем-то важным, чего я не понимал.
— Но мужчина все-таки был. Ты любила его…
«Только одного? Скольких?!» Я готов был заорать на собственные мысли, чтобы они заткнулись.
Энея приложила палец к моим губам.
— Я люблю тебя, Рауль, помни это. Все… очень запутано. Из-за того, кто я. Из-за того, какая я. Из-за того, что я должна совершить. Но я люблю тебя… Я полюбила тебя еще тогда, когда ты впервые появился в моих смутных видениях о будущем. Я уже любила тебя, когда мы впервые встретились во время песчаной бури на Гиперионе, среди полного хаоса и смятения, со Шрайком и ковром-самолетом. Помнишь, как я обнимала тебя, когда мы улетали на ковре? Я любила тебя уже тогда…
Я молча ждал. Энея провела пальцем по моей щеке и вздохнула так, будто бремя всех миров Вселенной легло на ее плечи.
— Ладно, — тихо сказала она. — Кто-то — уже был. Я уже была с мужчиной. Мы…
— Это было серьезно? — спросил я каким-то странным неестественным голосом, совсем как корабль Консула.
— Мы были женаты.
Однажды, на гиперионской реке Кэнс, я ввязался в драку с пожилым моряком, весившим вдвое больше меня и куда более опытным в кулачных боях. Без всякого предупреждения он врезал мне в челюсть, вырубив меня с одного удара; в глазах у меня потемнело, колени подкосились, и, перевалившись через перила, я плюхнулся в реку. Моряк был незлопамятен и самолично нырнул за мной в воду. Я пришел в сознание через минуту-другую, но еще несколько часов в ушах у меня звенело и перед глазами все плыло.
Сейчас было еще хуже. Я неподвижно лежал, глядя на нее, на мою Энею, а ее пальцы у моей щеки казались чужыми и холодными. Она убрала руку.
Но и это было еще не все.
— Вот они, недостающие двадцать три месяца, одна неделя и шесть часов, — проговорила она.
— С ним?
— Да.
— Женаты… — начал я и не смог продолжить.
Энея улыбнулась. Более печальной улыбки я не видел ни разу в жизни.
— Нас венчал священник. Брак будет законным в глазах Священной Империи и Церкви.
— Будет?
— Есть.
— Так ты еще замужем? — Я хотел подползти к краю террасы, чтобы меня вырвало, но не мог пошевелиться. И снова Энея смутилась, не зная, что ответить.
— Да… — В ее глазах блеснули слезы. — То есть нет… Сейчас я не замужем… Ты… Проклятие, если б я только могла…
— Но он все еще жив? — Я говорил холодно и бесстрастно, как инквизитор Священной Канцелярии.
— Да. — Энея прижала ладонь к щеке. Пальцы ее дрожали.
— Ты его любишь, детка?
— Я люблю тебя, Рауль.
Я слегка отстранился — не сознательно, не намеренно, просто во время этого разговора я не мог находиться с ней в физическом контакте.
— Еще одно… — сказала Энея.
Я ждал.
— У нас был… у меня будет… у меня был ребенок. — Она пристально смотрела, словно пытаясь передать что-то одной лишь силой взгляда. Но у нее ничего не вышло.
— Ребенок, — тупо повторил я. Моя любимая… моя девочка стала женщиной, стала чьей-то любовницей… стала матерью. — Сколько ему? — На редкость банальный вопрос. Почему-то эта банальность самого меня ошеломила.
И опять Энея смутилась, будто и сама толком не знала.
— Ребенок… сейчас не живет, — наконец выдавила она.
— Ох, детка, — выдохнул я, забыв обо всем, кроме ее боли. Она снова заплакала, и тогда я обнял ее. — Мне так жаль, детка… так жаль, — повторял я, гладя ее по голове.
Энея отстранилась, утирая слезы.
— Нет, Рауль, ты не понял. Все в порядке… это не… тут как раз все в порядке…
Отодвинувшись, я пристально посмотрел на нее. Она была какая-то печальная и потерянная.
— Понимаю, — солгал я.
— Рауль… — Она потянулась ко мне.
Я погладил ее руку, встал, оделся и взял рюкзак со скалолазным снаряжением.
— Рауль…
— Вернусь к рассвету, — бросил я, не глядя на нее. — Пойду прогуляюсь.
— Можно, я с тобой? — Она стояла, завернувшись в простыню, а за ее спиной полыхали молнии. Надвигалась гроза.
— Вернусь к рассвету, — повторил я и вышел, пока она не успела одеться.
Шел дождь — холодный, противный дождь со снегом. Все вокруг облепило жидкой, скользкой кашей. Слетев по веревочным лестницам, я рысью припустил по тряским ступенькам, высматривая путь при вспышках молний. Я бежал, не останавливаясь, пока не спустился на несколько сотен метров. Передо мной был восточный карниз, ведущий к расселине, где я сажал корабль. Туда мне идти не хотелось.
А метрах в пятистах свисали с вершин гребня закрепленные веревки. Дождь лил вовсю, на черно-красных скалах образовалась наледь. Я пристегнулся карабином, вытащил из рюкзака жумары и, не проверяя надежности креплений, начал карабкаться по обледеневшей веревке.
Ветер норовил сорвать с меня куртку, мотал на веревке, относя от скалы. Снежная крупа секла лицо и руки. Но мне было все равно. Я упорно лез выше и выше, то и дело соскальзывая и вновь отыгрывая высоту. Метрах в десяти от острой как нож вершины я вынырнул из облаков, как пловец из воды. В вышине все так же сияли холодные звезды. Внизу, у северного склона, тучи бурлили и вздымались, как пенный прибой.
А я упорно карабкался все выше и выше, пока не достиг относительно ровной площадки. И только тут заметил, что не пристегнул страховку.
— Ну и в задницу, — буркнул я и зашагал по узкому — сантиметров пятнадцать — гребню. На севере бушевала гроза, с южной стороны зияла черная бездна, под ногами был лед, сверху падал колючий снег.
Я сорвался на трусцу и побежал на восток, перескакивая через трещины и наплевав на все на свете.
Пока я упивался собственными страданиями, в человеческой вселенной происходило много интересного. Когда я был мальчишкой, на Гиперионе новости от межзвездной Империи Пасема до наших кочующих в пустошах караванов шли весьма неспешно: от Пасема или Возрождения-Вектор звездолет с двигателем Хоукинга добирался до нас несколько недель, если не месяцев, плюс недели две-три пути из Порт-Романтика до нашего захолустья. Я привык не придавать значения тому, что творится на других планетах. Конечно, когда я выгуливал инопланетных охотников по Болотам, запаздывание уменьшалось, но новости все равно приходили устаревшими и не имели для меня особой ценности. Империя меня не интересовала, хотя побывать на других планетах хотелось. Потом я целых десять лет был отрезан от мира во время передышки на Старой Земле и одиссеи, похитившей у меня пять лет объективного времени. Я привык не интересоваться событиями, разыгрывающимися где-то там далеко, если только они не имели ко мне непосредственного отношения, как, например, охота на нас с Энеей.
Но очень скоро все должно было перемениться.
В ту ночь, пока я как дурак носился под мокрым снегом по узенькой полоске гребня, в других местах происходило следующее.
На дивной Мауи-Обетованной, где с подачи Сири и Мерри началась четыре века назад долгая цепь событий, которая привела в итоге нас с Энеей на Тянь-Шань, бушевал мятеж. Повстанцы на блуждающих островах уже давно стали последователями Энеи, они причастились ее крови, отвергли крестоформ и вели партизанскую войну, избегая в этой войне убивать солдат Священной Империи, оккупировавшей их мир. Для Церкви же проблема с Мауи-Обетованной стояла особенно остро: Мауи — один из самых престижных курортов, и сотни тысяч богатых христиан ежегодно прилетали сюда понежиться в теплых волнах, позагорать на пляжах Экваториального Архипелага и полюбоваться на блуждающие острова. Кроме того, Империи приносили неплохой барыш сотни нефтяных вышек, разбросанных по всей планете, укрытых от глаз туристов, но весьма уязвимых для атак с блуждающих островов или подлодок мятежников. А тут еще и многие туристы по неведомым причинам отвергли крестоформ и тоже стали последователями Энеи. Они отказались от бессмертия! Губернатор планеты, местный архиепископ и имперские чиновники, примчавшиеся расхлебывать кризис, пребывали в полнейшем недоумении.
На холодной Седьмой Дракона большая часть атмосферы смерзлась в колоссальный ледник, и туристов там не было, но за последние десять лет все попытки колонизировать планету оборачивались кошмаром.
Кроткие племена чичатуков, с которыми мы подружились девять с половиной лет назад, стали непримиримыми врагами Священной Империи. Вмерзший в атмосферный лед небоскреб, где некогда всякий мог рассчитывать на гостеприимство отца Главка, по-прежнему сиял огнями. После того как Радаманта Немез убила этого доброго человека, чичатуки превратили здание в огромную усыпальницу и поддерживали там неугасимый свет. Каким-то образом они узнали, кто убил слепого старика и уничтожил племя Кучиата — Кучиата, Чиаку, Айчакута, Кучту, Чичтику и Чатчию, — и теперь во всем винили Империю, упорствующую в попытках колонизировать умеренную экваториальную зону.
Не знавшие причастия Энеи и потому лишенные всякого сострадания к врагу чичатуки обрушились на обновленную Церковь, как апокалиптическое бедствие. Тысячелетиями охотившиеся на жутких снежных призраков (которые, в свою очередь, охотились на них), чичатуки гнали белых монстров на юг, к экватору, напуская их на колонистов и миссионеров. Урон был неимоверный. Переброшенные на планету войска отправляли на ледник десант за десантом, и ни один из них не вернулся.
На Возрождении-Вектор учение Энеи о Связующей Бездне охватило всю планету и обрело миллионы последователей. Ежедневно тысячи новообращенных принимали причастие от учеников Энеи, их крестоформы усыхали и отваливались за двадцать четыре часа. Они жертвовали бессмертием во имя… во имя чего? Власти Ватикана этого не понимали, и я тогда тоже ничего не понимал.
Но Церковь знала: дело тут в каком-то вирусе. Каждый день и каждую ночь полиция вламывалась в двери самых бедных домов промышленной зоны города-планеты. Те, кто отверг крестоформ, сопротивлялись слабо — сражались они отчаянно, но старались избегать убийств. Полицейские же, подчиняясь приказу, убивали не раздумывая. Тысячи последователей Энеи, прежде бессмертных, теперь — добровольно отказавшихся от воскресения через крестоформ, умирали истинной смертью. Десятки тысяч были арестованы, брошены в концлагеря и погружены в криогенную фугу. Но на каждого убитого, на каждого арестованного приходились десятки, сотни, тысячи оставшихся на свободе; затаившиеся до поры до времени — они распространяли учение Энеи, причащали неофитов собственной преображенной кровью и — что бы ни случилось — сражались спокойно и до конца. Громадная индустриальная машина Возрождения-Вектор еще не сломалась, но уже пошатнулась и заскрежетала — впервые за многие столетия, с тех самых пор, как Гегемония учредила здесь промышленное ядро Сети.
Ватикан не знал, что делать, и направлял туда все новые войсковые подразделения.
На Тау Кита-Центре, некогда политическом центре Великой Сети, ныне — самой обыкновенной густонаселенной, покрытой садами планете, мятеж принял иную форму. Хотя гости с иных планет и занесли сюда инфекцию Энеи, для Ватикана средоточием тамошних проблем стала архиепископ Ахилла Сильвацкая — авантюристка, узурпировавшая всю власть на ТКЦ более двух веков назад. Именно архиепископ Сильвацкая пыталась провалить выборы Папы, плетя интриги среди кардиналов. Не преуспев в этом предприятии, Сильвацкая устроила у себя на ТКЦ подобие древней Реформации, провозгласив, что отныне Католическая Церковь на Тау Кита-Центре признает ее своим Верховным Понтификом и навеки отделяется от погрязшей в разврате Церкви межзвездной Империи. Поскольку Сильвацкая весьма осмотрительно вступила в сговор с местными епископами, заведовавшими аппаратурой воскрешения, самое главное Таинство, а вместе с ним — и вся тамошняя Церковь оказались в ее руках. Но что еще хуже, архиепископ искушала местных имперских военачальников землями, богатством и властью, пока не случилось нечто совсем уж неслыханное — переворот в Имперском Флоте, в результате которого большинство старших офицеров на Тау Кита-Центре были смещены, а их места заняли сторонники Новой Церкви. Правда, ни один корабль класса «архангел» им захватить не удалось, зато экипажи восемнадцати крейсеров и сорока одного факельщика присягнули Новой Церкви на ТКЦ и поклялись защищать ее первосвященника.
Десятки тысяч верных возмутились. Их арестовали, пригрозили отлучением — то есть немедленным изъятием крестоформов — и отпустили под присмотр учрежденных архиепископом Сил безопасности Новой Церкви. Несколько орденов — в первую очередь иезуиты — отказались подчиниться. Большинство непокорных были негласно арестованы, отлучены и казнены. Однако несколько сотен ухитрились ускользнуть и воспользовались своей сетью для организации отпора новому порядку — поначалу бескровного, но со временем все более ожесточенного. Многие отцы иезуиты служили прежде офицерами в имперских войсках и теперь неплохо применяли свой опыт, сея на ТКЦ хаос и разрушения.
Папа Урбан Шестнадцатый и его военные советники тщательно изучали сложившуюся ситуацию. Великий Крестовый поход против Бродяг и без того уже слишком затянулся из-за неустанных атак капитана де Сойи, из-за необходимости направлять корабли Флота на десятки планет, где разыгрались смуты, из-за переброски ресурсов в систему Тянь-Шаня, а тут еще добавился бунт на ТКЦ. Вопреки совету адмирала Марусина решить сначала остальные политические и военные задачи, Папа Урбан Шестнадцатый и госсекретарь кардинал Лурдзамийский решили направить в систему Тау Кита двадцать «архангелов», тридцать два крейсера старого образца и сотню факельщиков, хотя на дорогу у старых кораблей должна была уйти не одна неделя объективного времени. Эскадре было приказано сразу по прибытии в систему построиться в боевые порядки, подавить всякое сопротивление мятежных звездолетов, выйти на орбиту ТКЦ и потребовать немедленной выдачи архиепископа и всех ее сторонников. Буде мятежники не подчинятся — испепелять все объекты на поверхности планеты вплоть до полного уничтожения инфраструктуры Новой Церкви. Затем высадить десант морской пехоты с целью захвата уцелевших городов и восстановления власти Империи и Святой Матери Церкви.
На Марсе, в системе Старой Земли, мятежники не унимались. Не помогали ни бомбардировки с орбиты, ни бесчисленные десанты. Двумя стандартными месяцами ранее губернатор Клэр Пало и архиепископ Робсон погибли истинной смертью в результате ядерной атаки повстанцев на дворец на Фобосе. Священная Империя ответила жесточайшими карательными мерами: рушащимися на планету астероидами, массированной бомбардировкой и еженощными лазерными обстрелами; когерентные пучки света вдоль и поперек кроили пылевую бурю, будто множество смертоносных прожекторов. Нейродеструкторы были бы куда эффективнее, но имперские стратеги решили подвергнуть Марс образцово-показательной экзекуции и хотели, чтобы пример был весьма наглядным.
Результаты не вполне соответствовали их упованиям. И без того изношенное, дышавшее на ладан марсианское терраформационное оборудование не выдержало. Пригодная для дыхания атмосфера сохранилась только на равнине Эллада и в нескольких низинах. Как только давление упало, океаны частично выкипели, частично смерзлись, превратившись в полярные шапки. Погибли остатки травы и деревьев, и лишь древние коньячные кактусы да кустики брэдберии продолжали цепляться за жизнь в почти полном вакууме. Песчаные бури не стихнут еще долгие годы, и десант морской пехоты практически невозможен.
Зато марсиане, особенно воинственные палестинцы, были приспособлены к такой жизни и готовы к подобному обороту событий. Они затаились, истребляя имперские десанты и выжидая. В других марсианских колониях тамплиеры убедили сомневающихся адаптироваться к окружающей среде при помощи нанотехники. Тысячи и тысячи колонистов пошли ва-банк, позволив молекулярным машинам изменить их тела и саму ДНК, чтобы выжить на планете, вернувшейся к первозданному облику.
Но что встревожило Ватикан еще больше — в космосе опять начались бои. Считавшаяся неработоспособной Марсианская Военная машина вывела свои боевые корабли из укрытия в дальнем Куйперовском поясе, предприняв в системе Старой Земли ряд стремительных атак на имперские конвои. Соотношение потерь составляло пять к одному в пользу Священной Империи, но уровень их все равно был уже неприемлем. Затраты на продолжение марсианской операции достигли немыслимых размеров.
Адмирал Марусин и объединенный комитет начальников штабов рекомендовали Его Святейшеству отказаться от военных действий и предоставить марсиан их собственной судьбе. Адмирал уверял Папу, что из системы Старой Земли даже иголка не выскользнет, да к тому же ни малейшей ценности система уже не представляет, ведь Марс больше не пригоден для жизни. Папа выслушал Марусина благосклонно, но санкционировать отступление отказался. Кардинал Лурдзамийский настаивал на важности сохранения системы Старой Земли в границах Империи. Его Святейшество решил не принимать поспешных решений и выжидал, а тем временем кровавая мясорубка продолжала перемалывать корабли, людей, деньги и материалы.
На Безбрежном Море бунты были всегда, бунтовали подводники-контрабандисты, бунтовали браконьеры, бунтовали сотни тысяч иноверцев, испокон века отвергавших крест. Но когда Безбрежного Моря достигла инфекция Энеи, бунты вспыхнули с новой силой. Имперским рыболовецким флотам стало опасно без конвоя выходить в рыболовные зоны. Автоматические корабли и уединенные плавучие террасы подвергались нападениям и шли ко дну. На мелководье появлялось все больше и больше смертельно опасных левиафанов, и архиепископ Джейн Келли гневно клеймила имперские власти за полумеры и неспособность справиться с мятежниками. Когда же епископ Меландриано посоветовал ей поумерить пыл, Келли объявила о его отлучении. Меландриано в свою очередь провозгласил, что Южные моря отделяются от Священной Империи и выходят из-под власти Церкви, и тысячи верных, разделявших убеждения епископа, последовали за своим харизматическим лидером. Ватикан направил туда еще одну эскадру, но корабли мало чем могли помочь в борьбе между бунтовщиками, силами архиепископа, силами епископа и левиафанами.
А посреди всей этой сумятицы и неразберихи весть Энеи распространялась по планете как эпидемия чумы.
Мятежи вспыхивали повсюду: на планетах, где Энее довелось побывать — на Иксионе, Патаупхе, Амритсаре и Грумбридже Дисоне Д; на Цингао-Чишуан Панне, где весть о повсеместных облавах на иноверцев сначала породила панику, а затем угрюмое противодействие всему, что исходит от Священной Империи; на Денебе III, где республика Джамну провозгласила, что все носящие крестоформ будут обезглавлены; на Фудзи, куда весть донесли изменники Гильдии торговцев и где она распространялась, как лесной пожар; на засушливую планету Витус-Грей-Балиан Б учение Энеи принесли беженцы с Горечи Сибиату, и, осознав, что образ жизни, насаждаемый Священной Империей, безвозвратно уничтожит их культуру, народ Спектральной Спирали Амуа возглавил борьбу. Город Кероа-Тамбат был освобожден в первый же месяц, и база Имперского Флота в Бомбасино вскоре превратилась в осажденную крепость. Начальник базы Солжников взывал к Центру о помощи, но Ватикан и командование Флота, занятые другими проблемами, приказали сохранять спокойствие и пригрозили отлучением, если Солжников не покончит с мятежом своими силами.
Солжников приказ выполнил, хотя и не так, как это воображали себе военачальники и Его Святейшество: он заключил с армией Спектральной Спирали Амуа договор о перемирии, согласно которому имперские войска имеют право выходить из-за стен крепости только с дозволения нехристей. В обмен базе Бомбасино было позволено существовать и дальше.
Солжников, полковник Винара и прочие добрые христиане, как и было велено, хранили спокойствие в ожидании возмездия, которое рано или поздно не минует мятежников, но среди людей Спектральной Спирали, приходивших на рынок в Бомбасино, были и те, кто принял причастие Энеи. Они пили с солдатами вино, преломляли с ними хлеб, навещали павших духом христиан, рассказывали свои истории и предлагали причастие. И многие причастие принимали.
Разумеется, я смог охватить лишь тончайший срез событий, происходивших на сотнях планет Священной Империи в ту самую последнюю и самую печальную мою ночь на Тянь-Шане. Конечно, я тогда даже и не догадывался о том, что творится во Вселенной, но если б и догадывался — если бы обладал должным опытом и самодисциплиной, — мне все равно было бы на все наплевать.
Энея любила другого! Они обвенчаны. Наверное, она и сейчас замужем… Она ведь не упоминала ни о разводе, ни о смерти мужа. У нее был ребенок.
Не знаю, как я не сорвался в пропасть в те безумные часы на обледеневшем гребне, но все-таки я не сорвался. Мало-помалу опомнившись, я прошел обратно и спустился по веревкам, чтобы успеть к Энее до рассвета.
Я любил ее, и ближе у меня никого не было. Я бы жизни не пожалел ради нее.
Возможность доказать это выпала мне в тот же день. Это явилось результатом многих событий, разыгравшихся вскоре после моего возвращения в Храм-Парящий-в-Воздухе и нашего отправления на восток.
* * *
Чуть ли не с первыми лучами рассвета в дацане близ Фаллоса Шивы, превращенного в христианский анклав, Джон Доменико кардинал Мустафа, адмирал Марджет Ву, отец Фаррелл, архиепископ Брек, отец Леблан, Радаманта Немез и двое ее клонов собрались на совет. Точнее, на совет собрались люди, а Немез со своими братцем и сестрицей молча сидели у окна, глядя на тучи, клубящиеся над Выдровым озером.
— Так вы уверены, что с мятежным «Рафаилом» покончено? — спросил Великий Инквизитор.
— Абсолютно уверена, — ответила адмирал Ву. — Хоть он и уничтожил семь наших линейных кораблей класса «архангел». — Она покачала головой. — Де Сойя был блестящим тактиком. Воистину Лукавый не прогадал, обратив его в своего пособника.
Отец Фаррелл перегнулся через бонсай-бамбуковый стол:
— Какова вероятность того, что де Сойя или кто-нибудь из его экипажа остался в живых?
— Бой шел на низкой орбите, — пожала плечами адмирал Ву. — В атмосферу обрушились тысячи обломков. Из наших не выжил никто: во всяком случае, аварийных маяков мы не обнаружили. Если кто из людей де Сойи и сумел ускользнуть, то скорее всего его следует искать в ядовитом океане.
— И все же… — начал архиепископ Брек — человек тихий, осторожный и весьма скрытный.
— Ваше преосвященство, — устало перебила Ву, обращаясь к Бреку, но глядя на Мустафу, — мы можем выяснить это однозначно, если вы позволите запустить в атмосферу катера, скиммеры и транспортники.
Брек моргнул. Кардинал Мустафа покачал головой:
— Нет, нам приказано не демонстрировать здесь военного присутствия, пока не поступит приказ Ватикана перейти к финальной стадии захвата девочки.
— После вчерашнего фейерверка этот приказ звучит несколько нелепо, — усмехнулась с нескрываемой горечью Ву. — Наше военное присутствие выглядело весьма впечатляюще.
— Весьма, — согласился отец Леблан. — Ни разу не видел ничего подобного.
— Ваше преосвященство, — продолжала адмирал Ву, — у жителей этой планеты нет ни энергетического оружия, ни детекторов двигателей Хоукинга, ни орбитальной обороны, ни гравидетекторов… дьявол, да насколько мы можем судить, у них нет даже радаров и самых примитивных средств связи. Мы можем запустить в атмосферу все что угодно, и никто об этом не узнает.
— Нет! — решительно перебил ее кардинал Мустафа. — Ватиканский авизо должен прибыть с минуты на минуту. Он принесет приказ арестовать источник инфекции, именуемый Энея. И мы в первую очередь должны выполнить этот приказ.
Отец Фаррелл потер свои впалые щеки.
— Сегодня утром регент Токра вызвал меня по спецсвязи. Похоже, их чудо-ребенок далай-лама куда-то исчез…
Брек и Леблан удивленно уставились на него.
— Это не важно, — невозмутимо сказал Великий Инквизитор. — Сейчас важно одно: получить «добро» на завершение операции и арест Энеи. — Он повернулся к адмиралу Ву: — И настрого прикажите вашим швейцарским гвардейцам и морским пехотинцам не причинять девушке никакого вреда.
Ву устало кивнула. Ей неустанно повторяли это уже не один месяц.
— А как по-вашему, когда придет приказ? — поинтересовалась она у кардинала.
Радаманта Немез и оба клона встали и направились к двери.
— Время ожидания истекло, — произнесла Немез. На ее тонких губах играла легкая улыбка. — Мы принесем вам голову Энеи.
Кардинал Мустафа вскочил с кресла.
— На место! — рявкнул Великий Инквизитор. — Вам не было приказано двигаться!
Все так же улыбаясь, Немез молча повернулась к выходу.
Священнослужители закричали. Архиепископ Жан-Даниель Брек осенил себя крестным знамением. Адмирал Ву выхватила игломет.
Дальнейшее произошло слишком быстро. Воздух заколебался. Немез, Скилла и Бриарей, мгновение назад стоявшие у дверей, в восьми метрах от стола, исчезли, а среди облаченных в черное и красное фигур появились три сверкающие хромированные статуи.
Адмирал Марджет Ву не успела поднять игломет — Скилла опередила ее. Взмах серебристой ладони — и голова адмирала покатилась по отполированной столешнице. Обезглавленное тело постояло еще пару секунд, затем какой-то случайный нервный импульс заставил пальцы правой руки сжаться, и оружие выстрелило, превратив ножки массивного стола в мелкую щепу.
Отец Леблан метнулся между Бриареем и архиепископом Бреком. Мелькнула размытая серебристая фигура — и отец Леблан упал замертво. Брек, выронив очки, бросился к выходу. В тот же миг Бриарей исчез, и воздух с хлопком заполнил образовавшийся вакуум. Из соседней комнаты донесся крик и тут же оборвался.
Кардинал Мустафа попятился от Радаманты Немез. Она неумолимо наступала. Трепещущее защитное поле вокруг Немез угасло, облик ее не стал более человечным.
— Будь ты проклята, мерзкая тварь, — прошептал кардинал. — Делай свое дело, я не боюсь смерти.
— Не сомневаюсь, ваше преосвященство. — Немез приподняла бровь. — Но, боюсь, вы измените свое мнение, если я скажу вам, что мы швырнем эти тела… и эту голову, — она указала на голову Марджет Ву, остекленевшим взором уставившуюся в пространство, — в кислотный океан, исключив всякую возможность воскрешения.
Кардинал Мустафа уперся спиной в стену и остановился. Немез стояла всего в двух шагах от него.
— Зачем ты это делаешь? — недрогнувшим голосом спросил кардинал.
Немез пожала плечами:
— В данный момент наши интересы расходятся. Вы готовы, Великий Инквизитор?
Кардинал Мустафа перекрестился и торопливо прочел покаянную молитву. Немез улыбнулась, ее правая рука и колено вновь сделались хромово-блестящими, и шагнула вперед.
Мустафа смотрел на нее в изумлении.
Немез не убила его. Стремительным, неуловимым для глаза движением она сломала кардиналу левую руку, раздробила правую, пинком сбила его с ног, на ходу переломав кости, и, вонзив пальцы ему в глаза, ослепила, остановив движение на волосок от мозга.
Крик боли был оглушительным, но сквозь свой крик Великий Инквизитор все же расслышал бесстрастный и безжизненный голос Немез:
— Я знаю, что автохирург на катере или на «Джебраиле» способен вас вылечить. Катер мы уже вызвали, он будет здесь с минуты на минуту. Когда увидите Папу и его прихлебателей, передайте им: те, кому я подчиняюсь, не хотят, чтобы девушка осталась в живых. Прошу прощения, но она должна умереть. И скажите им, чтобы впредь были поосторожнее и не спешили действовать без согласия всех элементов Центра. До свидания, ваше преосвященство. Надеюсь, хирург «Джебраила» сумеет вырастить вам новые глаза. То, что мы собираемся сделать, будет достойно вашего внимания.
Мустафа услышал шаги, дверь хлопнула, и воцарилась тишина, нарушаемая лишь воплем мучительной боли. Лишь через несколько минут он понял, что это вопит он сам.
* * *
Когда я вернулся в Храм-Парящий-в-Воздухе, первые лучи утреннего солнца уже пытались пробиться сквозь плотный туман. Моросило, воздух был сырой и холодный.
Энея уже оделась и готова была отправиться в путь. На ней были утепленный анорак, скалолазное снаряжение и горные ботинки. А.Беттик и Лхомо Дондруб были экипированы примерно так же, но вдобавок несли на плечах длинные, тяжелые нейлоновые свертки. Пришли попрощаться Тео, Рахиль, Дорже Пхамо, далай-лама, Джордж Цзаронг и Джигме Норбу. Казалось, они совсем пали духом. Энея здорово осунулась: видимо, когда я ушел, она так и не сомкнула глаз. Да, хороши мы с ней — пара искателей приключений. Лхомо вручил мне длинный нейлоновый сверток. Ужасно тяжелый. Я молча взвалил его на плечо, подхватил снаряжение и подошел к Энее. На ее вопросительный взгляд я только кивнул: «Все в порядке. Пойдем. Поговорим обо всем после».
Тео плакала. Я смутно сознавал, что происходит нечто важное, что мы можем больше никогда не увидеться, пусть Энея и утверждает, что мы все соберемся вместе до наступления сумерек, но от дикой усталости восприятие мое притупилось. Я несколько раз глубоко вздохнул и заставил себя сосредоточиться. В ближайшие часы мне понадобятся вся моя сообразительность и быстрота реакции. Иначе не выжить. Главный недостаток безумной любви в том, что она напрочь лишает тебя сна.
Мы спустились с террасы, быстрым шагом прошли по обледеневшему карнизу, миновали веревки, по которым я карабкался ночью, и без происшествий добрались до расщелины. В клубах студеного тумана карликовые деревца и тундровые поляны казались какими-то нереальными, с темных веток и сучьев срывались ледяные капли, ручьи и водопады, громко журча, мощным потоком обрушивались в пропасть.
С восточной стены ущелья свисали старые, истрепанные веревки. Лхомо решительно направился туда. За ним следовала Энея, а за ней А.Беттик. Я шел замыкающим. Андроид карабкался, как всегда, уверенно и быстро. Наверху, на узенькой тропе с южной стороны гребня, нас ждали уже настоящие трудности — осыпающиеся карнизы, преграждающие дорогу выступы, небольшие ледники и каменные осыпи. С гребня пришлось спуститься — он превратился в непроходимое жидкое месиво, а под мокрым снегом скрывался лед. Мы шли молча, с величайшей осторожностью делая каждый следующий шаг, — достаточно малейшего шороха, чтобы спустить лавину, и тогда нам конец. Когда идти стало совсем трудно, мы связались, пропустив сложенную вдвое веревку через карабины и пристегнув их к обвязке, — теперь, если кто-то сорвется в пропасть, остальные удержат его… или упадут вместе с ним. Лхомо шагал уверенно, без колебаний переступая через прикрытые льдом расщелины, обрывающиеся в туманную бездну. Я бы так не смог. Пожалуй, в связке идти спокойнее.
Я по-прежнему не представлял, куда мы направляемся. Через несколько километров исполинский гребень должен был резко пойти вниз, к морю ядовитых облаков. Весной бывает короткий период, когда ядовитые испарения опускаются ниже, открывая тропу, и тогда торговые караваны, паломники, монахи и просто любопытствующие могут пройти на восток, к Тай-Шаню, Великой горе Срединного Царства, самому недоступному месту на планете. Говорят, тай-шаньские монахи никогда не возвращаются в Срединное Царство: их жизнь посвящена служению в таинственных гробницах, дацанах и храмах самой священной из всех священных гор. Я вдруг подумал, что в такую погоду, начав спускаться, мы вряд ли заметим, как клубящиеся грозовые тучи сменятся клубящимися ядовитыми облаками. А когда заметим, будет слишком поздно.
Мы не стали спускаться. Через несколько часов мы вышли к обрыву у восточных границ Срединного Царства. Конечно, никакого Тай-Шаня мы впереди не увидели — только мокрые скалы, клубы тумана да кипень облаков.
Карниз оказался довольно широким, и мы с наслаждением уселись, выуживая из рюкзаков пакеты с бутербродами и фляги с водой. Крохотные мясистые растения, плотным ковром устилавшие тундру, жадно вбирали влагу первых муссонов, раздуваясь, как маленькие бурдюки.
Когда мы отдохнули и перекусили, Лхомо с А.Беттиком принялись распаковывать тяжелые свертки. Энея открыла рюкзак. Я нисколько не удивился, увидев во всех трех свертках нейлон, растяжки, дюралевые распорки и рамы, а в рюкзаке Энеи — гермокомбинезоны и респираторы, те самые, что я захватил с корабля.
Я вздохнул:
— Значит, мы попробуем добраться до Тай-Шаня.
— Да, — кивнула Энея и начала раздеваться.
А.Беттик и Лхомо отвернулись, но я все равно здорово разозлился. Стараясь держать себя в руках, я разложил второй гермокомбинезон и начал стаскивать с себя одежду, сворачивая ее и укладывая в рюкзак. Воздух был морозный, и туман капельками конденсировался на коже.
Гермокомбинезон слишком уж облегает тело, но обвязка и лямки респираторов обеспечивают хотя бы видимость приличий. Тугой капюшон прижал мои уши к голове, и теперь все звуки доходили до меня только через наушники; когда воздух станет слишком разреженным, они будут транслировать радиосигналы от вплетенных в ткань ларингофонных нитей.
Пока мы переодевались, Лхомо с А.Беттиком быстро собрали четыре дельтаплана. Будто в ответ на мой безмолвный вопрос Лхомо сообщил:
— Я могу лишь показать вам восходящие потоки и убедиться, что вы попали в струйное течение. На такой высоте мне не выжить. А лететь на Тай-Шань, чтобы застрять там Будда знает на сколько, мне как-то не светит.
— У меня нет слов, чтобы выразить нашу благодарность, — коснулась его руки Энея.
— А как же А.Беттик? — спросил я и тут же сообразил, что говорю о нем, как об отсутствующем. Я повернулся к андроиду: — Как же ты? У тебя ведь нет ни гермокомбинезона, ни респиратора.
А.Беттик улыбнулся:
— Вы забыли, месье Эндимион, что я сконструирован с расчетом на несколько большую выносливость, чем средний человек.
— Но расстояние… — До Тай-Шаня более ста километров по прямой, и даже если мы попадем в струйное течение, нам почти час придется лететь в разреженном воздухе.
Андроид пристегнул последнюю растяжку своего синего дельтаплана с почти десятиметровым размахом крыльев.
— Если нам повезет и мы это расстояние преодолеем, я выживу.
Я кивнул и занялся собственным снаряжением, не глядя на Энею, не спрашивая ее, зачем нам всем так рисковать. Она подошла незаметно.
— Спасибо, Рауль, — сказала она громко, чтобы слышали все. — Ты делаешь это ради меня. Спасибо тебе.
Я махнул рукой, внезапно лишившись дара речи, смутившись оттого, что она благодарит именно меня, когда и Лхомо, и А.Беттик тоже готовы ради нее пролететь над бездной. Но она еще не договорила.
— Я люблю тебя, Рауль. — Энея приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в губы. Потом отступила на шаг и посмотрела на меня своими темными, бездонными глазами. — Я люблю тебя, Рауль Эндимион. Всегда любила. И всегда буду любить.
Я стоял совершенно ошалевший и растерянный на самом краю бездны. Тем временем Лхомо, переходя от А.Беттика к Энее, от Энеи ко мне, тщательно проверил наше снаряжение — каждую гайку, шплинт, растяжку, каждый экспресс-шов. Удовлетворившись результатами осмотра, он уважительно кивнул А.Беттику, с привычной ловкостью пристегнул подвеску и шагнул к обрыву. Скалы у края обрыва были совершенно голые, казалось, даже живучие растения-суккуленты боятся приблизиться к бездне. По крайней мере я боялся — боялся спускаться по скользкой от дождя каменистой тропе. Да и туман опять сгустился.
— В этой каше нелегко будет уследить друг за другом, — сказал Лхомо. — Держите направление влево. Дистанция — пять метров. Идем тем же порядком, сначала я, за мной Энея на желтом крыле, за ней синий человек на синем крыле, последний — ты, Рауль, на зеленом. Самое опасное — растерять друг друга в тумане.
— Я буду держаться за тобой, — энергично кивнула Энея.
Лхомо повернулся ко мне:
— Вы с Энеей сможете переговариваться по ларингам, но это не поможет вам найти друг друга. Мы с А.Беттиком будем общаться жестами. Соблюдай осторожность. Не теряй крыло синего человека. Если отобьешься от него, кружи против часовой стрелки, пока не поднимешься над облаками, а потом постарайся нагнать нас. В облаках старайся описывать круги поменьше, если слишком размахнешься, можешь врезаться в скалы. — Я кивнул. Во рту почему-то пересохло. — Ладно, до встречи над облаками. Я найду восходящие потоки, определю профиль ветров и выведу вас на струйное течение. Когда подам вот такой сигнал, — он сжал кулак и дважды протаранил им воздух, — значит, я отваливаю. Продолжайте подъем по спирали. Войдите в поток как можно глубже. Не прекращайте подъем, пока вам не покажется, что ветер вот-вот изорвет крыло в клочья. Может, так оно и будет. Только если не втиснетесь в самую середину потока, вам нипочем не добраться до Тай-Шаня. До ближайшего отрога Великой Вершины сто одиннадцать километров. Там уже снова можно будет дышать.
Мы дружно кивнули.
— И пусть Будда улыбнется нашему безрассудству! — Казалось, Лхомо был просто счастлив.
— Аминь, — сказала Энея.
Ни слова больше не говоря, Лхомо повернулся и прыгнул с обрыва. Секундой позже за ним последовала Энея. А.Беттик ногами оттолкнулся от карниза и тоже исчез в клубящемся тумане. Пора! Опора резко ушла у меня из-под ног, и я наклонился вперед, горизонтально вытянувшись на подвеске. Я потерял из виду дельтаплан, облака запутали меня, сбили с толку, я утратил всякую ориентацию. Потянув за левую рукоятку, я положил дельтаплан в вираж и пристально вглядывался в туман. Никого. И ничего. И тут я запоздало сообразил, что слишком задержался на вираже. Или наоборот, слишком рано из него вышел? Я выровнял дельтаплан, ощутив, как натянулась ткань в восходящем потоке. Я не знал, поднимаюсь я или нет, потому что практически ослеп. Я закричал в надежде, что кто-нибудь отзовется и я сориентируюсь. И в ответ услышал человеческий голос всего в нескольких метрах впереди.
Это был мой собственный голос, эхом отразившийся от отвесной скалы, и меня несло прямо на нее.
Немез, Скилла и Бриарей шагали на юг от анклава Священной Империи близ Фаллоса Шивы. Солнце стояло высоко, на востоке громоздились тяжелые тучи. Специально для имперских посланников старый Вышний Путь вдоль хребта Кукунор привели в порядок и построили специальную канатку до самого Зимнего дворца. Над террасой канатки висел дипломатический паланкин. Немез протолкнулась к канатке и уселась в паланкин, игнорируя любопытные взгляды коротышек в толстых халатах, толкущихся на лестницах и террасе. Как только ее клоны забрались в экипаж, Немез отпустила тормоза, и паланкин, набирая скорость, заскользил над пропастью. Над дворцовой горой собирались грозовые тучи.
На Ступенях Большой Террасы их встретили два десятка дворцовых стражников, вооруженных алебардами и примитивными энергометами. Капитан стражи держался весьма почтительно.
— Вам следует обождать здесь, пока не прибудет почетный караул, который сопроводит вас во дворец, почтеннейшие гости, — поклонившись, произнес он.
— Мы предпочитаем путешествовать без сопровождающих, — отрезала Немез.
Все двадцать стражников мгновенно выставили пики.
— Простите недостойного, почтеннейшие гости, но в Зимний дворец непозволительно входить без приглашения и без почетного караула. Не будете ли вы добры подождать здесь в тени под кровлей пагоды, почтеннейшие гости? Особа соответствующего ранга вот-вот подойдет, чтобы поприветствовать вас.
Немез кивнула.
— Убейте их, — велела она Скилле и Бриарею и направилась во дворец, даже не оглянувшись на клонов, перешедших в боевой режим.
В долгом пути по многоярусным коридором дворца они сохраняли обычный облик, переходя в боевой режим, только когда требовалось убить очередного стражника или слугу. Спустившись по парадной лестнице, они приблизились к Парго-Калинь, громадным Западным вратам. Там путь им преградил регент Ретинь Токра с пятью сотнями отборных воинов дворцовой стражи. Мечами и пиками вооружились лишь считанные единицы, остальные сжимали в руках арбалеты, винтовки, примитивные энергометы и кассетные автоматы.
— Командор Немез! — Токра слегка склонил голову, ни на мгновение не упуская из виду стоящую перед ним женщину. — Нам известно, что вы учинили в Шивлине. Дальше вам пути нет.
Регент кивнул кому-то в сверкающих глазах башни Парго-Калинь, и вороненый мост Ки-Чу беззвучно скользнул в склон горы. Остались лишь натянутые в высоте тросы подвески, покрытые идеальной смазкой и окруженные моноволоконными нитями, рассекающими даже сталь.
— Что вы делаете, Токра? — усмехнулась Немез.
— Его Святейшество отправился в Цыань-кун-Су, — проговорил регент. — Я знаю, зачем вы идете туда. Вам не позволят причинить вред Его Святейшеству далай-ламе.
Радаманта Немез хищно оскалилась.
— О чем вы говорите, Токра? Вы продали вашего драгоценного божественного мальчика секретным службам Священной Империи за тридцать сребреников. Вы что, хотите выторговать еще несколько своих дурацких шестигранных монет?
Регент покачал головой:
— С Империей у нас было соглашение, что Его Святейшеству не причинят ни малейшего вреда. Но вы…
— Нам нужна голова девчонки, — оборвала Немез, — а не вашего малолетнего ламы. Уберите своих людей с дороги или лишитесь их.
Регент Токра повернулся и выкрикнул приказ. Шеренги воинов с мрачной решимостью взяли оружие на изготовку. Они по-прежнему заслоняли собой подступы к мосту, хотя на месте самого моста зияла пропасть, заполненная черными тучами.
— Убейте всех, — бросила Немез, переходя в боевой режим.
Лхомо учил нас управлять дельтапланом, но мне ни разу не довелось попрактиковаться. И вот теперь, когда у меня перед носом из тумана вынырнула каменная стена, я должен был немедленно что-то предпринять — или погибнуть.
Дельтапланом управляют при помощи подвешенного впереди треугольника, и я всей тяжестью навалился на левый угол. Дельтаплан лег на крыло, но недостаточно круто — я сразу это понял. Крыло непременно заденет о камни в метре или двух от вершины дуги. Оставалось еще одно средство — две рукоятки, раскрывающие крылья вдоль центральных осей, — но это средство опасное и ненадежное, к нему прибегают лишь в самом крайнем случае.
Я уже отчетливо видел лишайник, облепивший надвигающуюся скалу. Крайний случай настал.
Я изо всех сил дернул аварийную рукоятку, нейлон левого крыла разошелся, словно вспоротый невидимой рукой, правое крыло, по-прежнему подталкиваемое мощным восходящим потоком, резко вздернулось кверху, дельтаплан едва не опрокинулся, вильнул, угрожая потерять скорость, меня занесло вбок, подошвы шаркнули по камню, обдирая лишайники, — и дельтаплан устремился вниз. Я отпустил рукоятку — наделенная памятью ткань мгновенно срослась, и я полетел дальше, в почти вертикальном пике.
Мощные восходящие потоки подхватили крылья, меня подбросило кверху, перекладина ударила в грудь с такой силой, что на мгновение вышибла дух, дельтаплан клюнул носом, дернулся и вознамерился лениво описать мертвую петлю радиусом метров в шестьдесят. Я обнаружил, что снова болтаюсь вниз головой, но теперь крылья — подо мной, а стена — прямо по курсу.
Плохо дело. Из этой мертвой петли я выйду мертвым, причем не только мертвым, но еще и размазанным по скалам. Я рванул правую рукоятку, сбросив подъемную силу, с тошнотворной скоростью увалился в сторону, срастил крыло и манипулировал рукоятками до тех пор, пока не восстановил равновесие и не взял управление в свои руки. Тучи немного рассеялись, и, пытаясь совладать с восходящими потоками и своим воздушным змеем-переростком, я с интересом разглядел скалы, торчащие метрах в двадцати справа.
Выровняв дельтаплан, я снова заложил левый вираж, но теперь уже более аккуратно, я бы даже сказал — слишком аккуратно. И тут кто-то шепнул мне прямо на ухо:
— Ух ты! Классный трюк! Бис!
Я чуть не выскочил из обвязки и оглянулся. Ярко-желтый дельтаплан Энеи кружил надо мной на фоне серого скопища туч.
— Спасибо, с меня достаточно, — фыркнул я и снова глянул в ее сторону. — А ты что здесь делаешь? И где А.Беттик?
— Мы встретились над облаками, тебя не увидели, и я полетела за тобой вниз, — объяснила Энея. Ее голос негромко шелестел в наушниках. И тут мне стало плохо — не от собственных головокружительных выкрутасов, а от мысли, что она рисковала собой.
— Все в порядке, — проворчал я. — Просто надо было освоиться.
— Ага, это дело хитрое. Может, теперь полетишь за мной?
Я послушался, подавив гордыню, которая так и норовила встать на дороге у инстинкта самосохранения. Следить за желтым крылом в клубах тумана было не просто, но все же легче, чем летать вслепую возле самых скал. Энея же будто чувствовала, где находится стена, не приближаясь к ней меньше чем на пять метров и держась в центре мощного восходящего потока.
Буквально через несколько минут мы поднялись над облаками. От восторга у меня захватило дух: облака становятся все светлее и светлее, и вдруг ты оказываешься в потоках солнечных лучей и возносишься над тучами — словно выныриваешь из белопенного моря, щурясь от яркости благословенных небес, куполом накрывших беспредельный заоблачный простор.
Над океаном облаков виднеются лишь самые высокие пики и хребты: на востоке холодно сверкает белизной вечного льда Тай-Шань; на севере Хэн-Шань; с северо-запада на юго-восток протянулась далекая стена Куньлуня; и совсем-совсем далеко, на самом краю света, сияют вершины Чомо-Лори, Парнаса, Канченджунги, Кайи, Кайлас и еще много-много других вершин, которые не могу узнать в таком ракурсе. За далеким хребтом Пхари ослепительно бликует Потала, а может — Малый Шивлинь. Но довольно наслаждаться видами, всему свое время.
Я сосредоточился и попробовал набрать высоту. А.Беттик пролетел совсем рядом и показал мне большой палец. Я ответил ему тем же и оглянулся на Лхомо, парившего на полсотни метров выше. «Держитесь поближе. Следуйте за мной», — показал он жестами.
И мы полетели за ним. Энея набрала нужную высоту без особого труда, А.Беттик кружил по спирали ровно на виток ниже нее, а я тянулся в хвосте пятнадцатью метрами ниже андроида.
Лхомо безошибочно находил восходящие потоки — порой мы уклонялись на запад, набирали высоту и по широкой дуге снова возвращались на восток, порой просто кружили на месте, и тогда казалось, что мы даже не поднимаемся. Но, оглянувшись на север, в сторону Хэн-Шаня, я обнаружил, что мы набрали еще несколько сотен метров. Неспешно поднимаясь, мы так же неспешно продвигались на восток. До Тай-Шаня оставалось не меньше восьмидесяти километров.
Стало совсем холодно и очень трудно дышать. Я загерметизировал осмотическую маску и теперь вдыхал чистый кислород. Гермокомбинезон плотно облегал тело, защищая от перепадов давления и одновременно обогревая. Лхомо от холода стучал зубами, хоть и был плотно укутан в войлочный халат. Обнаженные предплечья А.Беттика покрылись коркой льда. А мы поднимались все выше и выше, закладывая круг за кругом. Небо потемнело, взгляду открылась совсем уж невероятная ширь — горизонт раздвинулся, и я видел далекую Нанда-Деви, еще более далекую Хельгафелль и пик Харни далеко-далеко за Шивлинем.
Наконец Лхомо не выдержал. Как раз в этот момент я разгерметизировал осмотическую маску, чтобы проверить, насколько разрежен воздух, сделал вдох — и вдохнул пустоту. Я поспешно перекрыл мембрану. Не представляю, как Лхомо ухитрился не просто выжить на такой высоте, но еще и что-то делать. Он дал нам знак продолжать восхождение, держаться в потоке и, пожелав удачи, устремился вниз к облакам. Его дельтаплан мелькнул красным треугольником далеко внизу и устремился на запад.
А мы кружили по спирали, взбираясь все выше и выше, иногда теряя на мгновение восходящий поток и тут же отыскивая его снова.
Столкнуться со струйным течением — все равно что в каяке налететь на речные пороги. Дельтаплан Энеи первым принял на себя ярость ураганного ветра. Я увидел, как завибрировала желтая ткань, выгнулся дюралевый каркас, — а потом сам, вслед за андроидом, вошел в течение, и мне стало не до наблюдений: все силы уходили на то, чтобы, удерживаясь в горизонтальном положении, продолжать набор высоты по спирали.
— Трудновато, — раздался в наушниках голос Энеи. — Он так и норовит завернуть нас на восток.
— Нельзя, — сдавленно прошипел я, поворачивая дельтаплан против ветра.
Меня подбросило вертикально вверх.
— Знаю, — донесся ее слабый голос.
Я отстал от Энеи уже метров на сто — и по вертикали, и по горизонтали, но по-прежнему видел вдали ее хрупкую фигурку, сражавшуюся с управляющей перекладиной: колени прямые, ступни вытянуты, как у ныряльщицы.
Я огляделся. В кристалликах льда играли тысячи радуг, и солнце было окружено разноцветным гало. Очертания горных хребтов терялись далеко внизу — мы летели выше самых высочайших пиков.
— Как там А.Беттик? — спросила Энея.
С усилием вывернувшись на подвеске, я бросил взгляд на андроида. Он кружил надо мной, прикрыв глаза, но все-таки не теряя управления. Голубая кожа серебрилась инеем.
— По-моему, ничего. Энея…
— Да?
— А Имперский Флот не может случайно засечь наши ларинги?
Комлог лежал у меня в кармане, но мы решили не пользоваться им, пока не придет время вызвать корабль. Погибнуть из-за каких-то радиопереговоров — слишком горькая насмешка.
— Это исключено, — сипло проговорила Энея. Воздух здесь был уже настолько разреженный, что даже в осмотической маске трудно было дышать. — Дальность действия ларингов очень мала. Максимум — полкилометра.
— Тогда держись поближе. — И я сосредоточился на том, чтобы отвоевать еще метров триста, пока бесшумный ураган не умчал меня на восток.
Еще несколько минут — и мы поняли, что больше не в силах сопротивляться могучему течению воздушной реки. Восходящий поток не ослабел, он просто как-то вдруг исчез, оставив нас на милость струйного течения.
— Поехали! — прокричала Энея, напрочь забыв, что наушники донесут даже самый тихий шепот.
Андроид открыл глаза и показал мне большой палец. В то же мгновение мой дельтаплан сорвался с восходящего потока и понесся на восток. На такой высоте не существует звуков, но мне все равно казалось, будто я слышу ужасающий рев ветра — такой огромной была наша скорость. Желтый дельтаплан Энеи мчался на восток, как стрела, пущенная из арбалета. За ним летел голубой дельтаплан А.Беттика. Помучившись с управлением, я понял, что все равно мне ни на градус не изменить курс, и отдался на волю неистово бурлящей воздушной стремнины, которая с бешеной скоростью несла нас на восток и вниз. Впереди уже сверкали снега Тай-Шаня, но мы слишком быстро теряли высоту, а лететь было еще далеко. В километрах под нами, под белопенным прибоем дождевых туч, курились, поджидая, невидимые зловещие зеленоватые облака фосгена и кислотный океан.
Командование Имперского Флота в системе Тянь-Шаня пребывало в полнейшем замешательстве.
Получив странный прерывающийся сигнал тревоги из анклава в Шивлине, капитан Уолмак попытался связаться с кардиналом Мустафой, но безрезультатно. Не прошло и минуты, как он выслал на планету боевой катер с двумя десятками морских пехотинцев и тремя медиками.
Рапорт, пришедший по экспресс-каналу, был совсем уж непонятным. Зал заседаний в дацане стал сценой жуткого побоища: все залито кровью, везде разбросаны человеческие внутренности, но единственный, кого удалось отыскать, — кардинал Мустафа, изувеченный и слепой. Трупов не обнаружено. Идентификация ДНК показывает, что больше всего крови потерял отец Фаррелл. Кроме того, обнаружены следы крови архиепископа Брека и секретаря архиепископа Леблана. Но ни тел, ни крестоформов нигде нет.
Медики доложили, что кардинал Мустафа находится при смерти, в состоянии тяжелой комы, явившейся следствием болевого шока. Ему уже оказали первую помощь и теперь ждут дальнейших приказаний. Есть два варианта: дать Великому Инквизитору спокойно умереть и затем воскресить его или же транспортировать его на катер и попытаться спасти, однако при этом он вряд ли сможет что-либо рассказать раньше, чем лишь через несколько дней. Кроме того, существует возможность подключить кардинала к системе искусственного жизнеобеспечения, вывести из комы и опросить в ближайшие пять минут, но все это время он будет страдать от невыносимой боли, балансируя на грани жизни и смерти.
Уолмак велел медикам ничего пока не предпринимать и связался по направленному лучу с командиром оперативно-тактической группы адмиралом Лемприером. Группа находилась в глубине системы, на расстоянии многих астрономических единиц. Сорок с чем-то кораблей, уцелевших в битве с «Рафаилом», выслали спасательные команды на подбитые «архангелы» и дожидались прибытия папского авизо вместе со звездолетом-роботом Техно-Центра, который погрузит население планеты в состояние приостановленной жизни. Лемприер — в четырех световых минутах от Тянь-Шаня, и ровно столько времени будет идти до него сообщение по направленному лучу. Плюс четыре минуты на ответ. Впрочем, выбора у Уолмака все равно не было, и он настроился на ожидание.
Лемприер оказался в весьма щекотливом положении: он должен был решить судьбу кардинала Мустафы за считанные минуты. Если дать Великому Инквизитору спокойно умереть, придется два дня ждать благополучного воскрешения. Кардинал избежит лишних страданий, но все это время источник угрозы (Шрайк? Нехристи? Апостолы Энеи, порождения дьявола? Бродяги?) будет оставаться загадкой.
У Лемприера ушло на решение всего десять секунд. Еще четыре минуты понадобилось на передачу сигнала.
«Подключите его к системе жизнеобеспечения катера, — велел адмирал. — Эвакуируйте с планеты. Опросите. После получения нужной информации запросите прогноз автохирурга. Если быстрее воскресить, пусть умрет».
— Есть, сэр! — ответил Уолмак ровно четыре минуты спустя и передал приказ пехотинцам.
Тем временем пехотинцы расширили круг поисков: с помощью ТМП-ранцев они осмотрели отвесные скалы вокруг Фаллоса Шивы, провели глубокое радарное зондирование Ран-Цзо — Выдрового озера, — но ни выдр, ни тел пропавших священников не обнаружили. В анклаве команду Великого Инквизитора охранял почетный караул из двенадцати морских пехотинцев, не считая пилота катера, — эти люди столь же бесследно исчезли. Код ДНК найденной крови совпадал с кодом, хранящимся в личных делах большинства пропавших, но трупов нигде не нашли.
— Включить в зону поисков Зимний дворец? — спросил лейтенант, командовавший десантом. Всем пехотинцам был отдан недвусмысленный приказ до прибытия звездолета Техно-Центра не беспокоить местное население, а в особенности далай-ламу и его ближайшее окружение.
— Минуточку! — Уолмак отметил, что загорелся индикатор связи с адмиралом Лемприером. Бортовой комлог тоже замигал — офицер разведки «Джебраила» вызывала капитана из наблюдательного модуля. — Слушаю.
— Капитан, мы только что провели визуальный осмотр дворца. Там произошло что-то ужасное.
— Что именно?! — вскинулся Уолмак. Еще не бывало, чтобы его подчиненные изъяснялись столь расплывчато.
— Мы не разобрались, сэр, — ответила офицер разведки, женщина молодая, но смышленая. — Мы воспользовались телеобъективами, чтобы осмотреть район, прилегающий к анклаву. Но вы только взгляните на это…
Уолмак повернулся к голографической нише, не забывая, что изображение параллельно передается по лучу адмиралу.
Он увидел восточную часть Зимнего дворца, Поталы, снятую с высоты в несколько сотен метров. Полотно моста Ки-Чу исчезло. На ступенях и террасах между дворцом и мостом, на узких карнизах между дворцом и монастырем Дрепань были раскиданы десятки, сотни окровавленных и расчлененных тел.
— Господи помилуй! — выдохнул капитан Уолмак, осенив себя крестным знамением.
— Нам удалось идентифицировать среди останков голову регента Токра Ретиня, — произнес спокойный голос офицера разведки.
— Голову?! — переспросил Уолмак, понимая, что эта бесполезная ремарка отправится к адмиралу вместе с остальной информацией. Через четыре минуты адмирал Лемприер узнает, что Уолмак отпустил дурацкую реплику. Начхать. — Есть там еще кто-нибудь из знати?
— Никак нет, сэр. Но сейчас они работают в эфире на различных радиочастотах.
Уолмак поднял брови. До сей поры Зимний дворец хранил полнейшее радиомолчание.
— И что же они передают?
— Это по-древнекитайски и по-тибетски, сэр, — проговорила разведчица, но тут же поспешно добавила: — Они в панике, капитан. Далай-лама исчез. А вместе с ним — глава сил безопасности. Командир дворцовой стражи генерал Сурхан Сюон Чжэмпо погиб, сэр… они подтвердили, что там найдено его обезглавленное тело.
Уолмак бросил взгляд на часы. Луч уже на полпути к флагману.
— Кто это сделал? Шрайк?
— Не могу знать, сэр. Как я сказала, объективы и камеры были повсюду. Мы просмотрим диски.
— Выполняйте, — бросил Уолмак, не в силах больше ждать, и переключился на лейтенанта-морпеха. — Отправляйтесь во дворец, лейтенант. Выясните, что там, черт побери, творится. Я высылаю еще пять катеров, боевые транспорты и орнитоптер огневой поддержки. Ищите любые следы архиепископа Брека, отца Фаррелла и отца Леблана. А также почетного караула и пилота, разумеется.
— Есть, сэр!
Индикатор направленного луча засветился зеленым. Адмирал получает последнюю передачу. Слишком поздно. Нет времени дожидаться его приказов. Уолмак отправил сообщения на два ближайших факельщика, дислоцированных за орбитой дальней луны. Он объявил боевую тревогу и приказал выйти на орбиту рядом с «Джебраилом». Может понадобиться огневая поддержка. Уолмаку уже доводилось видеть следы Шрайка, и при мысли, что этот монстр может появиться на его корабле, капитан похолодел. Он связался по лучу с капитаном факельщика Его Святейшества «Святой Бонавентура».
— Кэрол, — сказал он, глядя на изменившуюся в лице Сэмюэлс, — выйди, пожалуйста, в тактическое пространство.
Щелкнув тумблером, Уолмак оказался в космосе над сияющими облаками Тянь-Шаня. Внезапно из звездной тьмы рядом с ним вынырнула Сэмюэлс.
— Кэрол, — проговорил Уолмак, — там что-то затевается. По-моему, Шрайк опять сорвался с цепи. Если ты вдруг потеряешь сигнал с «Джебраила» или мы начнем вопить какой-то вздор…
— Я вышлю морскую пехоту.
— Ни в коем случае. Сожги «Джебраил». Тотчас же.
Изображение Сэмюэлс вдруг мигнуло, а вместе с ним замигал повисший в пространстве индикатор, сообщавший о приходе депеши с флагмана. Уолмак вышел из тактического пространства.
На экране появилось худое лицо адмирала. Послание было лаконичным: «Разгоняю «Рагуил» для внутрисистемного скачка на субкритическом ускорении к Тянь-Шаню».
Уолмак открыл рот, чтобы запротестовать, но вовремя сообразил, что его протест дойдет до командира через три минуты после скачка, и прикусил язык. Внутрисистемный скачок тошнотворно опасен — вероятность необратимой катастрофы не меньше одного к четырем, — но вполне можно понять адмирала, который желает быть в центре событий, где информация будет приходить непосредственно к нему, а приказы исполняться незамедлительно.
«Господи Иисусе, — подумал Уолмак, — Великий Инквизитор изувечен, архиепископ пропал, все пропали, замшелый дворец далай-ламы похож на разворошенный муравейник. Черт бы побрал этого Шрайка! Где же папский курьер с приказом?! Где обещанный звездолет Центра?! Дела — хуже некуда».
— Капитан! — подал голос медик из лазарета катера.
— Докладывайте.
— Кардинал Мустафа в сознании, сэр… конечно, он все еще слеп… ужасно страдает, но…
— Давайте его, — отрубил Уолмак.
Голографическую нишу заполнила ужасная личина. Боковым зрением капитан Уолмак увидел, как отшатнулись офицеры на мостике. Лицо Великого Инквизитора было залито кровью. Рот разинут в крике, зубы словно покрыты ярко-алой эмалью, из зияющих пустых глазниц текут кровавые слезы.
Лишь через несколько секунд до капитана Уолмака дошло, что невнятный вопль кардинала состоит из одного-единственного слова, повторяющегося снова и снова:
— Немез! Немез! Немез!
Конструкции под названием Немез, Скилла и Бриарей продолжали продвижение на восток.
Все трое находились в боевом режиме, не обращая внимания на чудовищные затраты энергии. Энергия приходит откуда-то извне. Откуда — не их забота. Приближается час, ради которого они сотворены.
Мимоходом устроив бойню у Западных врат, все трое под предводительством Немез поднялись в башню и пересекли пропасть по колоссальным металлическим тросам подвесного моста. Они пронеслись через Дрепаньский базар, мимо застывших на месте людей, как три метеора, окруженные янтарно рдеющим, уплотнившимся воздухом. На Пхари-Базаре при виде многотысячной толпы торгующихся, приценивающихся, смеющихся, спорящих и толкущихся человеческих статуй на тонких губах Немез промелькнула улыбка. Она могла бы обезглавить все это стадо, а они бы даже и не узнали. Но сначала — задание.
Возле узловой террасы канатки все трое вышли из боевого режима, иначе трение на тросах стало бы серьезной проблемой.
Скилла, северный Вышний Путь, — скомандовала Немез на общей частоте. — Бриарей, средний мост. Я беру канатку.
Кивнув, ее клоны расплылись и исчезли. Канатчик бросился к Немез, возмущенный попыткой пролезть без очереди перед десятками дожидающихся переправы пассажиров — был самый час пик.
Подхватив канатчика, Радаманта Немез швырнула его в пропасть. Десяток человек с гневными воплями ринулись к ней, чтобы учинить расправу, но Немез уже соскочила с террасы, ухватившись за трос.
Переведя в боевой режим только ладони, она заскользила по тросу к хребту Куньлунь. Разъяренные преследователи бросились в погоню, пристегиваясь к тросу один за другим — десяток, два, три… Канатчика любили многие.
Немез проскочила чудовищную пропасть между Пхари и Куньлунем вдвое быстрее обычного. Неудачно притормозив на последнем отрезке, она врезалась в скалу, в самый последний момент перейдя в боевой режим. Выбравшись из выбитого в скале углубления, осыпающегося каменной крошкой, Немез вернулась к тросу.
Под визг тормозов салазки первых преследователей одолевали последние метры троса. А дальше, до самого горизонта, словно черные бусинки на тоненькой леске — десятки других. Криво усмехнувшись, Немез перевела в боевой режим обе руки, дотянулась до троса и оборвала его.
К ее удивлению, вопль ужаса издали лишь очень немногие из обреченных на смерть, летевших в бездну вместе с хлещущим, извивающимся тросом.
Добежав до закрепленных веревок, Немез на руках вскарабкалась наверх и оборвала все веревки. На гребне южнее ледовой трассы дорогу ей преградили пятеро с оружием из куньлуньской милиции Сиванму. Переведя в боевой режим левую руку, Немез смахнула в пропасть всех пятерых.
Повернувшись к югу, Немез отрегулировала свое тепло— и дальновидение и устремила телескопический взгляд на длинный подвесной бонсай-бамбуковый мост Вышнего Пути, связывающий отроги хребтов Пхари и Куньлунь. Прямо у нее на глазах мост обрушился в бездну.
Раз, и готово, — передал Бриарей.
Сколько было на мосту, когда он упал? — справилась Немез.
Много. — Бриарей дал отбой.
С северным мостом покончено, — доложила через секунду Скилла. — По дороге уничтожаю Вышний Путь.
Хорошо, — передала Немез. — Увидимся в Йо-куне.
Минуя город Йо-кунь, все трое вышли из боевого режима. Моросил дождик, тучи как вязкий летний туман. Темные, мокрые волосы Немез липли ко лбу. Она заметила, что Скилла и Бриарей выглядят не лучше. Толпа расступалась перед ними. На карнизе, ведущем к Храму-Парящему-в-Воздухе, не было ни души.
Перед самой лестницей, на подходах к короткому подвесному мостику, Немез снова возглавила группу.
Этот мостик Энея отремонтировала первым. Летом простенький настил между доломитовыми шпилями на тысячу метров возвышался над верхушками облаков, но клубящиеся муссонные тучи поднялись из бездны, сырым туманом окутав мостик со всех сторон.
А на скальном козырьке по ту сторону моста стоял некто, неразличимый сквозь туман. Немез переключилась на инфракрасное зрение и усмехнулась: высокая фигура не излучала ни калории тепла. На миг включив свой лобный радар, она внимательно изучила изображение: рост три метра, шипастые пальцы, две пары громадных рук, корпус идеально отражает радиоволны, острые клинки на груди и на лбу, никаких признаков дыхания, плечи и лоб окутаны моноволоконными нитями.
Отлично, — передала Немез.
Отлично, — согласились Скилла и Бриарей.
Фигура по ту сторону мокрого мостика не ответила ни словом, ни жестом.
В запасе оставалось всего несколько метров. Стоило выйти из струйного течения, как мы начали терять высоту. Над облачным океаном было всего несколько восходящих потоков, зато нисходящих — множество, и если первую половину пути мы одолели с головокружительной быстротой минут за пять, то всю вторую медленно снижались, поминутно обмирая от страха — надежда на то, что мы доберемся с хорошим запасом по высоте, то и дело сменялась несокрушимой уверенностью, что мы нырнем в облака и даже не заметим приближения смерти, воскурившейся навстречу языками ядовитых испарений.
Мы действительно нырнули в облака, но то были самые обыкновенные кучевые облака, родные облака — водяные пары, пригодные для дыхания. Мы старались держаться как можно ближе друг к другу — синее крыло, желтое крыло, зеленое крыло, — металл и ткань наших дельтапланов почти соприкасались; страшнее потеряться и умереть поодиночке, чем столкнуться и упасть всем вместе.
У нас с Энеей были ларинги, но во время затяжного спуска мы переговорили лишь один раз. Туман сгустился, я едва различал желтые проблески ее крыла, а в голове кружилось: «У нее был ребенок… она была замужем… она любила другого!» И вдруг в наушниках раздался ее голос:
— Рауль!
— Да, детка?
— Я люблю тебя, Рауль.
Мгновение я медлил, но шквал эмоций смыл обиду и наполнил душу безмерной любовью.
— Я люблю тебя, Энея.
Мы все дальше уходили в сумрачные глубины туч. В какой-то момент мне почудился на губах кисловатый привкус ветра… неужто верхушки фосгеновых облаков?
— Детка!
— Да, Рауль, — прошелестел в наушниках ее голос.
Мы оба сняли осмотические маски. Да, они защитили бы нас от фосгена, но мы не знали, сможет ли дышать в ядовитой атмосфере А.Беттик. Если сможет, мы с Энеей по молчаливому уговору загерметизируем маски и будем надеяться, что доберемся до первых отрогов, а потом вынесем андроида на воздух… если сумеем. Мы оба понимали, что все это очень зыбко и шатко — когда я спускался на планету, радар показал, что под слоем фосгеновых облаков большинство гор и хребтов отвесно обрывается вниз, значит, минут через пять полета в ядовитых парах мы неминуемо рухнем в море, — но лучше уж призрачная надежда, чем тупая покорность судьбе.
Мы сняли маски, чтобы дышать свежим воздухом, пока можно.
— Детка, — проговорил я, — если тебе известно, что это сработает… если ты видела свою… как бы это сказать…
— Свою смерть? — подсказала Энея. Сам бы я не сумел это выговорить. — Это лишь варианты будущего, Рауль. Хотя наиболее высокую вероятность имеет не эта. Не тревожься, я бы не попросила вас следовать за мной, если б считала, что это… что это — смерть. — Сквозь напряжение в ее голосе угадывались нотки веселья.
— Знаю, — отозвался я, радуясь, что А.Беттик нас не слышит. — Я как-то не подумал. — На самом-то деле она могла знать, что мы с А.Беттиком доберемся живыми, а она нет. Ладно. Пока моя судьба сплетена с ее судьбой, я готов принять все. — Я просто гадал, почему мы опять удираем, детка. У меня эти бегства уже поперек горла стоят.
— И у меня. Поверь мне, Рауль, мы не просто удираем… Тьфу, дерьмо!
Достойное восклицание в устах мессии. Секунду спустя я понял его причину. Перед нами, в каких-то двадцати метрах, возник крутой склон — громадные валуны, каменные осыпи, отвесные скалы.
Андроид первым пошел на посадку. Он в последний момент потянул за рукоятку, выдернул ноги из стремян и, воспользовавшись дельтапланом в качестве парашюта, спланировал на скалу и быстро отстегнулся. Лхомо не раз повторял, что очень важно побыстрее освободиться от крыльев на продуваемых ветром посадочных площадках, не то дельтаплан запросто утащит тебя в пропасть. А тут мы балансировали на краю пропасти в буквальном смысле слова.
Потом приземлилась Энея, за ней — я. Моя посадка получилась самой неуклюжей — я подскочил чересчур высоко, чуть ли не отвесно рухнул вниз, подвернул ногу на камнях и упал на колени, а дельтаплан, врезавшись в валун, встал на дыбы и непременно утащил бы меня в пропасть, но А.Беттик ухватился за левую распорку, Энея вцепилась в сломанный правый лонжерон, и вдвоем им удалось удержать рвущееся из рук полотнище, пока я выпутывался из подвески и отползал подальше, волоча за собой рюкзак.
Энея опустилась на холодные, осклизлые камни, стащила с меня ботинок и осмотрела лодыжку.
— Вроде бы растяжение не очень сильное. Немного распухнет, но ходить сможешь.
— Хорошо, — тупо отозвался я, радуясь теплу ее ладоней, и тут же подскочил как ужаленный, когда она обрызгала воспаленную кожу чем-то холодным из аптечки.
Вдвоем они помогли мне подняться на ноги. Мы собрали свое снаряжение и зашагали по скользкому склону туда, где облака светились поярче.
* * *
Мы долго шли по священным склонам Тай-Шаня и наконец вышли к яркому свету солнца и голубым небесам. Я стащил маску и капюшон, но гермокомбинезон Энея посоветовала пока оставить. Я только накинул куртку, чтобы не чувствовать себя совсем голым, и заметил, что моя спутница поступила точно так же. А.Беттик все время растирал предплечья: от стратосферного холода его кожа промерзла чуть ли не добела.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.
— Отлично, месье Эндимион. Хотя еще минут пять на такой высоте…
Я бросил взгляд на облака, заслонившие от нас то место, где мы сложили и оставили поврежденные дельтапланы.
— Пожалуй, выбираться отсюда мы будем не на дельтапланах.
— Верно, — кивнула Энея. — Погляди.
Осыпи и валуны остались позади, и мы вышли к альпийским лугам, окруженным высокими скалами; густой ковер суккулентов тут и там пересекали овцекозьи тропы и мощеные дорожки, журчали ледниковые ручьи — их легко можно было перейти по аккуратно уложенным плоским камням. Издали пастухи невозмутимо наблюдали, как мы карабкаемся вверх по склону. Тропа петляла между ледниками, и когда мы свернули за перегиб, взору вдруг открылась грандиозная панорама: белокаменные храмы, возведенные на скальных террасах, сияющие на фоне голубоватых снежных полей, полого уходящих в вышину. Но Энея указывала не на храмы, а на большой белый камень, установленный рядом с тропой. На его гладкой поверхности было высечено стихотворение:
Великая горная цепь — К острию острие! От Ци и до Лу Зеленеет Тай-Шань на просторе. Как будто природа Собрала искусство свое, Чтоб север и юг Разделить здесь на сумрак и зори. Родившись на склонах, Плывут облака без труда, Завидую птицам И в трепете дивном немею. Но я на вершину взойду И увижу тогда, Как горы другие Малы по сравнению с нею.[119] Ду Фу, династия Тан, Китай, Старая ЗемляВот так мы вошли в Тайань, Град Мира. К склонам прилепились десятки храмов, сотни домов, лавок, постоялых дворов, несметное количество часовен, на оживленных улицах — тысячи лотков под яркими парусиновыми навесами. Сказать, что тамошние жители прекрасны — значит не сказать ничего: все как один черноволосые, с ясными глазами, ослепительными зубами, чистой кожей, осанка — гордая, походка — упругая. Простые, но элегантные одежды — шелковые, ситцевые. Множество монахов в оранжевых и красных рясах. Взгляды у всех спокойные и доброжелательные. Многие радостно приветствовали Энею, касаясь ее ладони или рукава, — ее здесь знали. Ну да, ведь она уже бывала на Великой Вершине.
По пути Энея указала на громадную плиту из белого камня, возлежащую на склоне над Градом Мира. Она объяснила, что высеченные на гладкой поверхности громадные китайские иероглифы запечатлели «Бриллиантовую сутру» как постоянное напоминание о первооснове всего сущего, отраженной в чистой синеве небес. Показала Энея и Небесные Врата — гигантскую каменную арку под красной четырехскатной крышей. От Врат вели к Нефритовому Пику двадцать семь тысяч ступеней.
Невероятно, но нас здесь ждали. В большом дацане сидели ровными рядами, скрестив ноги, более тысячи монахов. Лама встретил Энею низким поклоном, она помогла старику подняться и обняла его. А потом нас с А.Беттиком усадили на небольшом возвышении сбоку, и Энея обратилась к собравшимся.
— Прошлой весной я сказала, что вернусь. И сказала, когда вернусь. — Она говорила тихо, но ее слова отчетливо и ясно звучали в огромном мраморном зале. — Сердце мое радуется новой встрече с вами. Я знаю, что те из вас, кто принял тогда причастие, уже познали истину и постигли язык мертвых, язык живых и — еще не все, очень немногие — услышали музыку сфер. И скоро, очень скоро, я обещаю, вы поймете, как сделать первый шаг.
День сегодняшний принес нам много печали, но будущее сулит перемены. Добрые перемены. Для меня великая честь, что вы позволили мне стать для вас Той-Кто-Учит. Для меня великая честь исследовать вместе с вами невероятную, непостижимую Вселенную. — Она замолчала и посмотрела на нас с А.Беттиком. — Это мои спутники… мой друг А.Беттик и мой возлюбленный, Рауль Эндимион. Они разделили со мной все тяготы моего долгого-долгого странствия по жизни, они сегодня пойдут со мной в паломничество. Сегодня мы уйдем от вас, мы пройдем через Небесные Врата, мы войдем в Драконову Пасть и — согласно учению Будды — сегодня мы посетим Повелительницу Лазурных Облаков и увидим храм Нефритового Императора.
Энея снова замолчала и обвела взглядом бритые головы и сияющие темные глаза. Я видел, что перед ней — не религиозные фанатики, не бездумные служители и не изнуряющие себя аскеты. Здесь сидели — ряд за рядом — умные, заинтересованные, оживленные, молодые (да-да, вне зависимости от возраста все они казались сегодня молодыми) мужчины и женщины.
— Мой дорогой друг лама говорит, что сегодня желающих принять причастие и приобщиться к Связующей Бездне много больше.
Около сотни монахов вышли вперед и преклонили колени.
— Да будет так, — тихо произнесла Энея.
Лама поднес ей сосуды с вином и простые бронзовые чаши. Энея не сразу приступила к ритуалу. Еще раз обведя взглядом собравшихся, она сказала:
— Но прежде чем вы примете причастие, я должна вам напомнить: это преображение не духовное, а физическое. Ваши собственные искания Бога или Просветления должны по-прежнему остаться вашими собственными исканиями. Момент преображения не принесет вам ни сатори, ни спасения. Он принесет только… преображение. В клетках моей крови — уникальные комбинации ДНК и РНК в сочетании с определенным вирусом, который завладеет вашим телом, каждой клеткой вашего тела. Это агрессивные — соматические вирусы… то есть они передадутся и вашим детям.
Я учила ваших учителей, а они учили вас, что это физическое преображение позволит вам — после некоторых упражнений — коснуться Связующей Бездны и научиться языку мертвых и языку живых. Со временем, когда придет опыт, вы услышите музыку сфер и сделаете первый шаг. — Она подняла палец. — Это не метафизика, друзья мои. Это мутагенный вирус. Помните: вы никогда не сможете принять крестоформ, ни вы, ни ваши дети, ни дети ваших детей. Фундаментальные изменения ваших генов и хромосом навеки лишат вас возможности продлить жизнь с помощью крестоформа.
Это причастие вам не подарит бессмертия. Оно гарантированно обеспечит вам самую обычную смерть. Еще раз говорю: я не предлагаю вам ни жизни вечной, ни мгновенного сатори. Если более всего на свете вы стремитесь к этому, вы должны обрести желаемое в собственных религиозных исканиях. Я предлагаю вам только более глубокое восприятие жизни и общение с иными — не важно, с людьми или с не-людьми, — с теми, кто принял перед жизнью те же обязательства. Если вы сейчас передумаете, в этом не будет ничего постыдного. Если примете причастие, с ним вы примете обязательства, вас ждут великие лишения и великие опасности, и вы сами станете проповедниками Связующей Бездны, как стали все носители этого нового вируса.
Энея ждала долго, но никто не шелохнулся. Все по-прежнему стояли на коленях, склонив головы, словно в медитации.
— Да будет так, — повторила Энея. — Удачи вам.
И она уколола себе палец, уронив по капельке крови в каждую чашу с вином.
Всего несколько минут — и чаши прошли по рядам, из рук в руки. Каждый отпил лишь каплю вина. Я поднялся с подушек и решительно направился к концу ближайшего ряда. Я тоже хотел принять причастие, но Энея поманила меня к себе.
— Не сейчас, мой милый, — шепнула она, коснувшись моего плеча.
Мне очень хотелось возразить — чем я хуже других? — но я не стал спорить, а тихо вернулся на место. Склонившись к А.Беттику, я прошептал:
— А ты не получил этого самого причастия?
— Нет, месье Эндимион, — улыбнулся андроид. — И никогда не получу.
Я хотел спросить почему, но тут церемония завершилась, все монахи встали, Энея сошла к ним — обмениваясь с ними репликами и пожимая руки, — и по ее взгляду, устремленному на меня поверх бритых голов, я понял: настало время уходить.
Немез, Скилла и Бриарей разглядывали Шрайка с другого конца подвесного мостика. Они не спешили переходить в боевой режим, наслаждаясь лицезрением врага в реальном времени.
Чушь какая-то, — передал Бриарей. — Детское пугало. Сплошные шипы, колючки и зубы. Идиотизм полнейший.
Скажи об этом Гиесу, — съязвила Немез. — Готовы?
Готова, — передала Скилла.
Готов, — повторил Бриарей.
Все трое синхронно перешли в боевой режим. Воздух сгустился, свет потек бурой патокой, и Немез поняла: даже если Шрайк перережет подвеску моста, это уже ничего не изменит — в ускоренном времени мост начнет падать через века… Времени у них сколько угодно.
Выстроившись в затылок — Немез во главе, — они двинулись через мост.
Шрайк не шелохнулся, даже головы не повернул. Его глаза мерцали как тусклое малиновое стекло в последних отблесках заходящего солнца.
Что-то тут не так, — передал Бриарей.
Тихо, — приказала Немез. — Воздержитесь от общей частоты, пока я не вступлю в контакт.
До Шрайка уже осталось десять метров, но он по-прежнему никак на них не реагирует. Немез продвигалась вперед сквозь вязкий воздух, пока не ступила на камень по ту сторону моста. Сестра последовала за ней, заняв позицию слева. Бриарей сошел с моста и встал справа. До легенды Гипериона оставалось три метра. Шрайк не двигался.
— Прочь с дороги, — крикнула Немез металлической статуе. — Твое время прошло. Теперь девчонка наша.
Шрайк не отреагировал.
Уничтожить, — скомандовала Немез.
Шрайк исчез, переместившись во времени.
Немез заморгала, когда волны темпорального потрясения накрыли ее и отхлынули прочь, затем обозрела застывшее окружение в полном спектре своего восприятия. В Храме-Парящем-в-Воздухе еще осталось несколько человек, но Шрайк как сквозь землю провалился.
Выйти из режима, — велела она, и близнецы тотчас выполнили приказ. Мир посветлел, воздух ожил, звуки вернулись.
— Найти ее, — бросила Немез.
Скилла бегом бросилась на луч Мудрости Восьмеричного Пути Добродетели и взлетела по лестнице на террасу Правильной Веры. Бриарей стремительно пронесся по лучу Морали и ворвался в пагоду Правильного Слова. Немез взяла на себя третью лестницу, самую высокую, ведущую к павильонам Правильного Воспоминания и Правильного Самоуглубления. Ее радар обнаружил людей в самой верхней постройке. Домчавшись туда за пять секунд, она прозондировала здание на наличие потайных комнат и скрытых ходов. Ни того, ни другого. В павильоне Правильного Самоуглубления оказалась молодая женщина, и Немез было подумала, что поиск подошел к концу, но эта женщина не имела с Энеей ничего общего, кроме возраста. Там было еще несколько человек: древняя старуха — Немез узнала Громомечущую Мать-свинью, — главный глашатай, глава службы безопасности далай-ламы Карл Линга Уильям Эйхедзи и, наконец, мальчишка, этот их далай-лама.
— Где она? — закричала Немез. — Где та, что называет себя Энеей?
Прежде чем кто-то успел вымолвить хоть слово, воин Эйхедзи сунул руку под плащ и молниеносно выхватил меч.
Немез уклонилась без труда — даже в нормальном времени реакция ее была намного быстрее, чем у большинства людей. Но когда Эйхедзи выхватил игломет, Немез перешла в боевой режим, подошла к окаменевшему телохранителю, охватила его своим защитным полем и вышвырнула в окно — в пропасть. Разумеется, как только Эйхедзи покинул силовой кокон, он словно увяз в воздухе — нескладный птенец, вывалившийся из гнезда, который не умеет летать и не желает падать.
Обернувшись к мальчишке, Немез снова вошла в нормальное время. За ее спиной Эйхедзи с воплем обрушился вниз, мгновенно скрывшись из виду.
Далай-лама не мог опомниться от удивления: Эйхедзи исчез из павильона и вновь появился в воздухе за фусума, словно решил телепортироваться навстречу смерти.
— Вы не можете… — начала Громомечущая Мать-свинья.
— Вам запрещено… — заговорил одновременно с ней далай-лама.
— Вы не посмеете… — вскинулась женщина — должно быть, Рахиль или Тео, одна из сподвижниц Энеи.
Немез ничего не ответила. Выйдя из времени, она ступила к мальчишке, обернула его силовым коконом, подхватила и понесла к открытой двери.
Немез! — окликнул Бриарей из павильона Правильного Стремления.
Что?
Не прибегая попусту к словам на общей частоте, Бриарей не пожалел энергии, чтобы передать визуальный образ: увязнув в буром воздухе в десятке километров от поверхности, опираясь на окаменевшую, словно голубая колонна, реактивную струю, на планету спускался звездолет.
Выйти из режима, — приказала Немез.
Монахи и старый лама приготовили для нас ленч-пакеты. А.Беттику они дали древний скафандр; я как-то видел такой в Порт-Романтике, в музее античного космоплавания. Лама хотел и нам с Энеей дать такие же, но мы расстегнули термокуртки и показали им наши гермокомбинезоны. Все тысяча двести монахов проводили нас до Первых Небесных Врат. И еще тысячи две или три человек напирали друг на друга и вытягивали шеи, глядя нам вслед.
Гигантская лестница была пуста. Мы медленно поднимались по каменным ступеням. Идти было легко — ступени семиметровой длины, совсем низкие, через каждые семьсот ступеней — широкая площадка. Лестница снизу обогревалась, и, несмотря на окружавшие нас вечные снега, ступени оставались совершенно чистыми.
Через час мы достигли Вторых Небесных Врат — громадной красной пагоды с пятнадцатиметровой аркой, и тут-то началось восхождение по практически отвесной линии геологического разлома, известного как Драконова Пасть. Ветер усилился, температура резко упала, воздух стал слишком разреженным. У Вторых Небесных Врат мы надели скалолазное снаряжение и пристегнулись к углеродным тросам, протянутым по обе стороны лестницы. Минут через пять А.Беттик, надев прозрачный шлем, показал нам большой палец, и мы загерметизировали осмотические маски.
До Южных Небесных Врат оставался километр пути (это только по вертикали), а мир уже потерял привычный облик. Второй раз за день нашим взглядам открылась бескрайняя облачная равнина и озаренные полуденным солнцем вершины. Только теперь мы любовались пейзажем каждые триста шагов — когда останавливались для передышки. Град Мира Тайань пропал из виду, он остался внизу, в пятнадцати тысячах ступеней от нас, за ледниками и скалистыми обрывами. Сообразив, что благодаря ларингам мы снова как бы остались с Энеей наедине, я спросил:
— Как дела, детка?
— Устала, — сказала Энея, улыбнувшись под прозрачной маской.
— Ты бы сказала, куда мы направляемся.
— В храм Нефритового Императора. Он на вершине.
— Так я и думал. — Я поставил ногу на ступеньку. Лестница проходила под обледеневшим скальным козырьком. Я знал, что, если оглянусь, непременно закружится голова. Такой подъем в тысячу раз хуже полета на дельтаплане. — А не скажешь, зачем мы взбираемся к храму Нефритового Императора, когда все вокруг летит к чертовой матери?
— Что летит к чертовой матери?
— Немез и ее клоны идут за нами по пятам. Церковь явно собирается перейти к решительным действиям. Все рушится. А мы совершаем паломничество.
Энея кивнула. Хоть воздух и был невероятно разрежен, ветер ревел у нас в ушах. Мы вошли в струйное течение и продвигались вперед, наклонив голову и согнувшись, будто под тяжким бременем. Интересно, о чем сейчас думает А.Беттик?
— А почему бы нам не вызвать Корабль и не смыться? — спросил я. — Если мы все равно собираемся отвалить, лучше отвалить поскорее.
В темных глазах Энеи отразилась насыщенная синева потемневших небес.
— Как только мы вызовем Корабль, на нас тут же гарпиями налетит два десятка боевых звездолетов Имперского Флота. Мы пока не готовы.
— А если мы вскарабкаемся сюда, — я указал на крутую лестницу, — то будем готовы?
— Надеюсь, — тихо сказала она. Наушники донесли до меня шелест ее тяжелого, хрипловатого дыхания.
— А что там, наверху, детка?
Мы одолели триста ступеней и остановились отдышаться, слишком усталые, чтобы наслаждаться красотами пейзажа. Мы поднялись до верхних границ атмосферы. Небо сделалось почти черным, и на нем сияли самые яркие звезды. Одна из малых лун стремительно восходила к зениту. Или это вражеский корабль?
— Не знаю, что мы там найдем, Рауль, — устало ответила Энея. — Передо мной мелькают события… снятся… снова и снова… а потом снится то же самое, но по-другому. Я не люблю об этом говорить, пока не увижу, какая именно возникнет реальность.
Я понимающе кивнул — но, если честно, я ничего не понял. Мы снова двинулись вверх.
— Энея! — позвал я.
— Да, Рауль.
— Почему ты не позволила мне принять… ну, ты понимаешь… причастие?
Она поморщилась:
— Ненавижу это название.
— Знаю, но все это так называют. Ну, скажи хотя бы… почему ты не позволила мне выпить того вина?
— Для тебя — еще не время, Рауль.
— Почему?! — Гнев и разочарование снова поднялись в душе, смешиваясь с бурлящей в ней любовью.
— Ты ведь знаешь четыре ступени, о которых я говорю… — начала она.
— Язык мертвых, язык живых… ну да, ну да, знаю я эти твои четыре ступени! — Я опустил свою очень реальную ногу на очень реальную мраморную ступень, чтобы сделать еще один очень реальный шаг по очень реальной и очень бесконечной лестнице.
Энея только улыбнулась.
— Эти вещи… они слишком захватывают в первое время, — тихо сказала она. — А мне сейчас нужно, чтобы ты был предельно собран. Мне нужна твоя помощь.
А вот это звучало вполне разумно. Протянув руку, я коснулся ее спины. А.Беттик обернулся к нам и кивнул, словно одобряя подобное взаимопонимание. Мне даже пришлось напомнить себе, что он не слышит радиопереговоров.
— Энея, — негромко спросил я, — ты новый мессия?
— Да нет, Рауль. — Она вздохнула. — Я никогда не говорила, что я мессия. Никогда не хотела быть мессией. Сейчас я просто усталая женщина… У меня раскалывается голова… и живот болит… у меня первый день цикла…
Я ошарашенно моргнул. Черт! Встретиться с мессией и тут же узнать, что он, то есть она, страдает от того, что в древности называли месячными.
— Я не мессия, Рауль, — с усмешкой повторила Энея. — Я просто избрана, чтобы быть Той-Кто-Учит. И стараюсь учить, пока… пока могу.
Что-то было такое в ее словах… У меня мучительно засосало под ложечкой.
— Понял, — сказал я.
Еще триста ступеней осталось позади, и снова мы остановились, жадно глотая воздух. Я посмотрел наверх. Южных Небесных Врат не видно. Едва перевалило за полдень, а небо абсолютно черное. Горят тысячи звезд. Они почти не мерцают. Я осознал, что ураганный рев и свист струйного потока почти стих. Тай-Шань — высочайший пик Тянь-Шаня, он заходит в верхние границы атмосферы. Если бы не гермокостюмы, наши глаза, барабанные перепонки, легкие давно лопнули бы. Наша кровь вскипела бы. Наш…
Я попытался переключиться на что-нибудь более приятное.
— Ладно, — сказал я, — но если бы ты была мессией, какую весть ты принесла бы людям?
Энея снова усмехнулась, только теперь скорее задумчиво, чем презрительно.
— А если бы мессией был ты, какую весть принес бы ты?
Тут я расхохотался. А.Беттик не мог слышать смех сквозь разделяющий нас вакуум, но, наверное, заметил, как запрокинулась моя голова, и устремил на меня вопросительный взгляд. Махнув ему рукой — «все в порядке», — я ответил Энее:
— Ни хрена в голову не приходит.
— Вот именно. Когда я была маленькая… то есть совсем маленькая, еще до встречи с тобой… и знала, что должна буду пройти через такое вот… я все думала, какую же весть я принесу человечеству. В смысле, кроме того, чему собиралась учить. Что-нибудь такое мудрое, глубокое. Вроде Нагорной проповеди.
Я огляделся. На этой пугающей высоте не было уже ни снега, ни льда. Чистые, белые ступени поднимались вверх по черной скале.
— Ну что ж, вот и гора.
— Угу. — В голосе Энеи была усталость.
— Так с какой же вестью ты пришла? — Я хотел просто поддержать разговор, ее ответ меня не слишком интересовал. Давным-давно мы уже не болтали с Энеей просто так, ни о чем.
Она улыбнулась и, помолчав, сказала:
— Я все оттачивала свое послание, стараясь сделать его столь же кратким и таким же наполненным, как Нагорная проповедь. А потом поняла, что это неправильно — точь-в-точь как дядя Мартин в свой маниакально-поэтический период, когда пытался переплюнуть Шекспира, — и решила, что моя весть должна быть покороче, и все.
— Насколько?
— Я сократила послание до тридцати пяти слов. Слишком длинно. До двадцати семи. Все равно длинно. Через несколько лет оно уменьшилось до десяти слов. Все равно слишком длинно. Потихоньку я сделала из него квинтэссенцию — два слова.
— Два слова? — переспросил я. — Какие?
Еще один пролет в триста ступеней позади — сколько уже их было — семьдесят? восемьдесят? Мы останавливаемся и пытаемся отдышаться. Я упираюсь затянутыми в перчатки комбинезона ладонями о затянутые в комбинезон колени и стараюсь совладать с тошнотой. Не очень-то прилично блевать в осмотическую маску.
— Какие? — снова спросил я, когда слегка отдышался и уже мог расслышать ответ сквозь биение пульса в ушах и хриплые всхлипы легких.
— Выбери снова.
Я задумался.
— Выбери снова? — наконец переспросил я.
Энея улыбнулась. Она уже восстановила дыхание и смотрела вниз, куда я даже взгляд бросить боялся. А ей это зрелище вроде бы даже доставляло наслаждение. В этот момент мне очень хотелось по-дружески взять ее в охапку и швырнуть в пропасть. Ох уж эта молодежь! Порой она просто невыносима.
— Выбери снова, — твердо повторила она.
— Нельзя ли как-то пояснить?
— Нет. В том-то и суть. В простоте. Назови какую-нибудь категорию и сам поймешь, в чем тут дело.
— Религия, — сказал я.
— Выбери снова, — откликнулась Энея.
Я рассмеялся.
— Я не совсем шутила, Рауль.
Мы снова двинулись вверх. А.Беттик полностью погрузился в свои мысли.
— Знаю, детка, — ответил я, хоть и не был уверен, что знаю. — Категорию, значит, назвать… э-э… ну, пусть будет политические системы.
— Выбери снова.
— Ты не считаешь, что Священная Империя — конечный этап эволюции человеческого общества? Межзвездный мир, относительно неплохое правление и… а, ну да… бессмертие граждан.
— Пора выбрать снова. И раз уж речь зашла о наших взглядах на эволюцию…
— Что?
— Выбери снова.
— Выбрать снова — что? Направление эволюции?
— Нет. Наши представления о том, что эволюция вообще имеет направление. Большинство эволюционных теорий, если уж на то пошло.
— Значит, ты не согласна с Папой Тейяром… с гиперионским паломником отцом Дюре… сказавшим три века назад, что Тейяр де Шарден был прав и что Вселенная движется к постижению Божественного разума и единению с ним? К тому, что он называл точкой омега?
— Ты много читал в библиотеке Талиесина, а? — поглядела на меня Энея.
— Ага.
— Нет, с Тейяром я не согласна… ни с тем иезуитом, ни с безвременно скончавшимся Папой. Мама была знакома и с отцом Дюре, и с нынешним, так сказать, Папой, отцом Хойтом.
У меня глаза на лоб полезли. Вообще-то я знал, но когда тебе напоминают… о знакомствах трехсотлетней давности… поневоле ошалеешь.
— Как бы то ни было, — продолжала Энея, — в последнее тысячелетие учение об эволюции получило настоящий пинок под зад. Сначала Центр активно противодействовал исследованиям из страха перед быстрым развитием генной инженерии и, значит, распадом человечества на множество вариантных биологических видов, на которых Центр уже не сможет паразитировать, затем Гегемония под влиянием Центра веками пренебрегала биологическими науками, и, наконец, Священная Империя просто трепещет перед ними.
— Почему?
— Почему Священная Империя боится биогенетических исследований?
— Нет, — уточнил я. — Как раз это-то я, кажется, понимаю. Центр — а вместе с ним и Священная Империя — хочет, чтобы люди оставались в том виде, который их устраивает. Согласно их догме, человек определяется количеством рук, ног и всего прочего. Я хотел спросить, к чему пересматривать эволюцию? Зачем вообще дискуссия о направлении или не-направлении и так далее? Разве древняя теория недостаточно хороша?
— Нет, — лаконично ответила Энея. Пару минут мы поднимались в молчании, а потом она сказала: — Не считая мистиков — таких, как тот, древний Тейяр, — большинство ранних эволюционистов были достаточно осторожны, чтобы не говорить об эволюции в терминах «цели» и «намерения». Это термины религии, не науки. До Хиджры ученые предавали анафеме одно только предположение о направлении эволюции. Они могли рассуждать только о «тенденциях» — повторяющихся статистических выбросах.
— И что?
— А то, что в этом своем предубеждении они были ограничены, так же как Тейяр де Шарден в своей вере. У эволюции есть направления.
— Откуда ты знаешь? — ласково поинтересовался я, гадая, что она ответит и ответит ли вообще.
Она ответила — и ответила сразу:
— Некоторых данные я видела еще до рождения, через кибридный канал связи отца с Центром. Автономные разумы Центра постигли суть человеческой эволюции много веков назад, когда люди пребывали еще в полнейшем неведении. Будучи сверх-сверхпаразитами, ИскИны способны эволюционировать лишь в сторону еще большего паразитизма. Им остается лишь наблюдать живые существа и их эволюционную кривую… или попытаться остановить эволюцию.
— Так куда же ведет эволюция? К более мощному интеллекту? К какому-нибудь богоподобному разуму-муравейнику? — Меня занимало ее восприятие львов, медведей и тигров.
— Разум-муравейник? Бр-р… Ты не мог придумать ничего более скучного и гнусного?
Я промолчал. Мне казалось, что именно к этому ведет ее учение о языке мертвых, языке живых и прочих шагах. Надо будет получше слушать, когда она надумает прочесть проповедь в следующий раз.
— Почти все интересное в человеческом опыте — результат личных переживаний, эксперимента, объяснения, общения. Разум-муравейник стал бы чем-то вроде древней компьютерной сети, жизнью в высотах инфосферы… идиотизмом по всеобщему согласию.
— Ладно. — Я по-прежнему ничего не понимал. — Так какое же все-таки направление у эволюции?
— Больше жизни. Жизнь любит жизнь. Вот так вот все просто. Но что куда более поразительно — не-жизнь тоже любит жизнь… и хочет влиться в жизнь.
— Ничего не понимаю.
Энея кивнула:
— Еще до Хиджры, на Старой Земле… в двадцатых годах двадцатого века… в государстве, которое называлось Россия, жил геолог, он это понимал. Его звали Владимир Вернадский, и он ввел термин «ноосфера», и этот термин, если все пойдет так, как я предполагаю, скоро обретет новое значение для нас обоих.
— Почему? — спросил я.
— Увидишь. — Энея коснулась моей руки. — В общем, в 1926 году Вернадский написал: «Атомы, единожды попав в поток жизни, покидают его крайне неохотно».
Я ненадолго задумался. В науках я не знаток — если что и знаю, так нахватался этого от бабушки и в библиотеке Талиесина, — но для меня эти слова имели смысл.
— Тысячу двести лет назад его слова перефразировали более научно и обозвали эту более научную формулировку законом Долло, — продолжала Энея. — Суть в том, что эволюция не идет вспять… исключения вроде китов Старой Земли, из сухопутных млекопитающих попытавшихся снова стать рыбами, случаются крайне редко. Жизнь движется вперед… постоянно находит новые ниши и заселяет их.
— Ага! Это как когда человечество покинуло Старую Землю на кораблях с двигателями Хоукинга?
— Не совсем, — покачала головой Энея. — Прежде всего мы сделали это преждевременно, по наущению Техно-Центра, и еще из-за того, что Старая Земля погибала… впрочем, это тоже работа Центра. Во-вторых, благодаря двигателю Хоукинга мы могли совершать скачки по всей своей галактической ветви, отыскивая похожие на Землю планеты с высоким коэффициентом по шкале Сольмева… большинство которых мы все равно терраформировали и населили существами Старой Земли — начиная от бактерий и дождевых червей и кончая утками, на которых ты охотился на гиперионских болотах.
Я согласно кивнул, а сам подумал: «Интересно, что нам еще оставалось делать? Что плохого в том, чтобы отыскать место, где все как дома — тем более что и дома-то уже нет и вернуться некуда?»
— Но есть кое-что поинтереснее, чем наблюдения Вернадского и закон Долло, — добавила Энея.
— И что же, детка? — Я все еще думал об утках.
— Жизнь не отступает.
— Это как? — Еще не договорив, я уже все понял.
— Да, — подтвердила Энея, видя мое просветление. — Стоит жизни найти где-нибудь хоть крохотную зацепку, она уже не отступит. Сам знаешь — в арктических льдах, в замерзших пустынях Старого Марса, в горячих источниках, на голых скалах Тянь-Шаня, даже в автономных разумных программах…
— И что отсюда следует?
— А то. Если предоставить жизнь самой себе, она в один прекрасный день заполонит всю Вселенную. Сначала зазеленеет одна галактика, потом соседние туманности и все остальные галактики.
— Малоприятная перспектива.
Энея остановилась и посмотрела на меня:
— Почему, Рауль? По-моему, это прекрасно.
— Зеленые планеты я видел. Зеленую атмосферу я вообразить могу, но это что-то уже сверхъестественное.
— Так зеленое ж не обязательно одни растения, — улыбнулась она. — Жизнь способна к адаптации… птицы, люди в летающих машинах, ты и я на дельтапланах, люди, способные летать…
— До этого пока не дошло, — перебил я. — Но я хотел сказать, ну, что в зеленой галактике люди, звери и…
— И живые машины, — подсказала Энея. — И андроиды… искусственная жизнь в тысячах форм…
— Ага, люди, звери, машины, андроиды, всякое такое… должны будут адаптироваться к космосу… интересно как? Не представляю…
— Ничего, скоро представишь.
Еще триста ступеней — и еще одна короткая передышка.
— А какие еще направления эволюции мы упустили? — спросил я, когда мы снова тронулись в путь.
— Возрастание разнообразия и сложности. Ученые столетиями спорили об этих направлениях, но нет никаких сомнений, что в конечном итоге именно им эволюция отдает предпочтение. И разнообразию принадлежит главная роль.
— Почему?
Должно быть, Энея уже устала от моих постоянных «почему». Я и сам чувствовал себя трехлетним ребенком.
— Ученые привыкли считать, что фундаментальные эволюционные модели множатся. Это явление называют дивергенцией. Но оказалось, что все совсем не так. Разнообразие основных моделей уменьшается по мере нарастания антиэнтропийного потенциала — эволюции. Посмотри, к примеру, на выходцев со Старой Земли: что у них одна и та же структура ДНК — это понятно, но ведь у них и основная модель одна и та же: все они развились из существ с радиальной симметрией, с глазами, питавшихся через рот, двуполых… словно отлитых в одной форме.
— Но мне показалось, ты только что сказала, будто разнообразию принадлежит главная роль.
— Именно. Но разнообразие вовсе не то же самое, что структурная дивергенция. Как только эволюция натыкается на хорошую модель, она отбрасывает варианты и сосредоточивается на почти бесконечном разнообразии производных этой модели — на тысячах, десятках тысяч взаимосвязанных биологических видов.
— Трилобиты, — произнес я, уловив ее мысль.
— Да. А когда…
— Жуки, — продолжил я. — Все эти чертовы виды жуков.
Энея широко улыбнулась:
— Точно. А когда…
— Насекомые! На всех планетах, где я побывал, одна и та же куча треклятых насекомых. Комары. Бесчисленное множество всяких…
— Ну вот, ты все понял! Как только основы модели разработаны и открыты новые ниши, природа жмет на всю катушку. Жизнь втискивается в эти ниши, внося разнообразие в базовую конструкцию организмов. Новые виды. За последнее тысячелетие с началом межзвездных перелетов возникли тысячи новых видов — и далеко не все созданы генной инженерией, некоторые просто в бешеном темпе приспособились к тем подобиям Земли, куда их занесло.
— Триаспии, — сказал я, вспомнив Гиперион. — Вечноголубые растения. Челма. Тесловы деревья.
— Это туземные виды, — возразила Энея.
— Итак, разнообразие — это хорошо, — подытожил я, пытаясь докопаться до сути того, о чем мы говорим.
— Разнообразие — это хорошо, — согласилась Энея. — Но по крайней мере один биологический вид Старой Земли лишен всяческого разнообразия… во всяком случае, он нисколько не изменился на колонизированных планетах с благоприятными условиями.
— Мы. Человечество.
— Именно. Мы застряли в рамках одного вида, — мрачно кивнула Энея. — Страшно давно застряли. Теперь у нас есть шанс быстро прийти к разнообразию, но институты вроде Гегемонии, Империи и Центра препятствуют этому.
— А необходимость разнообразия распространяется на человеческие институты? — поинтересовался я. — На религию? На социальные системы? — Я думал о людях, которые помогли мне на Витусе-Грей-Балиане Б. Я думал о народе Спектральной Спирали Амуа и их сложных, запутанных верованиях.
— Целиком и полностью. Посмотри туда.
А.Беттик остановился рядом с мраморной плитой, на которой были высечены слова на китайском и древнем стандартном английском:
Вознесся под синий купол небес Восточного пика топаз. Но в горных отрогах лощина есть, Что скрыта от праздных глаз. Ее не ваяла людская рука. Здесь тайна царит и покой, Ее осеняет природа сама Кровлею облаков. Пусть смена сезонов и времени бег В мир перемены несет. Я в дивной лощине пребуду вовек, Где замер событий ход. Дао-Юнь, жена генерала Ван Нинь-чи, 400 год до Р. Х.Мы двинулись дальше. Когда я поглядел вверх, мне показалось, что на верхней площадке последнего лестничного пролета маячит что-то красное. Может, это и есть Южные Небесные Врата, открывающие путь на вершину? Пора бы.
— Разве не прекрасная мысль? — сказал я, имея в виду стихотворение. — Может, подобное постоянство в человеческих институтах не менее, а то и более важно, чем разнообразие?
— Важно, — согласилась Энея. — Но как раз этим-то и занималось почти все человечество на протяжении последнего тысячелетия, Рауль… воссозданием институтов и идей Старой Земли на разных мирах. Взгляни на Гегемонию. Взгляни на Церковь и Священную Империю. Взгляни на эту планету…
— Тянь-Шань? По-моему, он изумителен…
— Согласна, но все это — сплошное заимствование. Буддизм немного эволюционировал… Во всяком случае, от идолопоклонничества и ритуалов вернулся к здравому смыслу, отличавшему его с самого начала. Но в остальном все это лишь попытка возродить то, что было утрачено вместе со Старой Землей.
— Что именно?
— Язык, одежду, названия гор, обычаи… Черт, Рауль, даже это паломничество и храм Нефритового Императора, если мы туда когда-нибудь доберемся!
— Ты хочешь сказать, что на Старой Земле есть гора Тай-Шань?
— Именно. И Град Мира есть, Небесные Врата, Драконова Пасть. Конфуций совершал на нее восхождение более трех тысяч лет назад. Только в лестнице на Старой Земле было всего семь тысяч ступеней.
— Тогда я предпочел бы подниматься по ней, — заметил я, гадая, надолго ли еще меня хватит. Ступеньки, конечно, невысокие, но их чертовски много. — Впрочем, я понял, о чем ты.
— Сохранять традиции хорошо, но здоровый организм развивается… и культурно, и физически.
— Что возвращает нас к вопросу об эволюции. Так какие же другие направления, тенденции, цели и что там еще мы упустили за последний десяток веков?
— Во-первых, всевозрастающее число индивидуумов. Жизнь любит квадриллионы видов, но она без памяти любит суперквадриллионы индивидуумов. В каком-то смысле Вселенная настроена на индивидуумов. В библиотеке Талиесина была книжка под названием «Эволюция иерархических систем» одного мужика со Старой Земли, Стенли Солса. Тебе она не попадалась?
— Нет, должно быть, проглядел, я больше читал древнюю голографическую порнуху.
— Угу, — хмыкнула Энея. — Ну, Солс сформулировал это довольно гладко: «В ограниченном материальном мире может существовать безграничное число уникальных индивидуумов, если они гнездятся друг в друге, а мир расширяется».
— Гнездятся друг в друге… — задумчиво повторил я. — Ага! Как бактерии Старой Земли в нашем кишечнике, и инфузории туфельки, которых мы вытащили в космос, и другие клетки в наших телах… Чем больше планет, тем больше народу… Ага, ну да.
— Вот именно, что больше народу. Нас сотни миллиардов, но за последние века от Падения до Империи численность человеческого населения Галактики — Бродяги не в счет — стабилизировалась.
— Ну да, контроль рождаемости — дело серьезное, — повторил я то, чему учили каждого жителя Гипериона. — В смысле, раз крестоформ способен растягивать человеческую жизнь на многие и многие века…
— Точно. С искусственным бессмертием застой усугубляется — и физический, и культурный. Это почти аксиома.
— Но ведь это не повод отказывать людям в продлении жизни? — нахмурился я.
Голос Энеи звучал будто из неведомой дали. Казалось, она раздумывает над чем-то несравненно более важным.
— Нет, — сказала она наконец. — Само по себе — не повод.
— Так что там с направлениями эволюции? — спросил я, глядя на приближающуюся пагоду и вознося молитвы, чтобы беседа отвлекала меня от весьма красочных картин падения и низвержения с двадцати с чем-то тысяч ступенек, по котором мы поднялись.
— Из достойных упоминания осталось только три. Возрастающая специализация, возрастающая взаимозависимость, возрастающая изменчивость. Все они важны, но важнее всех последнее.
— Как это, детка?
— Эволюция сама эволюционирует. Ей просто приходится эволюционировать. Изменчивость уже сама по себе важная для выживания наследственная характеристика. Системы — живые и прочие — должны учиться эволюционировать и до некоторой степени управлять процессом и темпом собственной эволюции. Мы — то есть люди — тысячу лет назад подошли к этому умению совсем близко, но Центр отобрал его у нас. Во всяком случае, у большинства.
— В каком смысле «у большинства»?
— Обещаю, через несколько дней ты сам все увидишь.
Наконец-то мы достигли Южных Небесных Врат и прошли под красной аркой, увенчанной золотой крышей. Впереди остался только Небесный Путь — тропа, ведущая по черному пологому склону к едва различимой вершине. Нас окружал суровый, безжизненный пейзаж: здешний климат — если можно назвать климатом почти космический вакуум — подходил для жизни ничуть не лучше, чем поверхность спутника Старой Земли. Я как раз хотел отпустить реплику насчет ниши, в которой жизнь еще не нашла зацепки, когда Энея сошла с тропы и направилась к маленькому каменному храму, приткнувшемуся среди острых утесов и расщелин в нескольких сотнях метров от вершины. Вместо двери в нем стоял воздушный шлюз, настолько древний, что его вполне могли снять с одного из первых кораблей колонистов. Как ни странно, шлюз работал, и когда Энея нажала на кнопку, наружная дверь закрылась, а внутренняя не открывалась, пока давление воздуха в камере не уравнялось с давлением внутри храма.
Переступив порог, мы оказались в небольшом помещении, практически пустом. Там стояла затейливая бронзовая ваза с живыми цветами, несколько зеленых веточек и красивая статуя, некогда позолоченная — женщина в золотых одеяниях — толстощекая и доброжелательная, совсем как Будда в женском обличье. Голову ее венчала позолоченная корона из листьев, а позади — странное дело! — чеканный золотой христианский нимб.
Сняв шлем, андроид сообщил:
— Воздух хороший. Давление вполне подходящее.
Мы с Энеей стащили капюшоны, наслаждаясь возможностью подышать по-человечески.
У ног статуи лежали курительные палочки и коробка спичек. Опустившись на одно колено, Энея чиркнула спичкой и зажгла палочку. Комната тут же наполнилась крепким ароматом благовоний.
— Повелительница Лазурных Облаков, — улыбнулась Энея радушной золотой богине. — Богиня зари. Зажигая палочку, я совершила жертвоприношение и просила о рождении внуков.
Я уже почти улыбнулся, но улыбка застыла у меня на губах. «У нее есть ребенок. У моей любимой уже есть ребенок!» Горло перехватило, я отвел взгляд, но Энея подошла ко мне, взяла за руку и предложила:
— Может, перекусим?
Я и забыл о наших коричневых ленч-пакетах. Поесть в шлеме или осмотической маске было бы несколько затруднительно.
Мы уселись на пол в полумраке комнаты, среди клубящегося дымка и аромата благовоний, и набросились на сандвичи.
— Куда теперь? — спросил я, когда Энея взялась за штурвал шлюзовой камеры.
— Я слышал, что на восточном краю вершины есть обрыв под названием Скала Самоубийц, — сказал А.Беттик. — Там люди приносят себя в жертву. Прыгнувший в пропасть мгновенно оказывается перед ликом Нефритового Императора и, таким образом, получает гарантию, что его просьба будет удовлетворена. Если вам в самом деле нужна гарантия рождения внуков, можете прыгнуть.
Я вытаращился на андроида. Все-таки интересно, что это — специфическое чувство юмора или извращенная психика?
— Лучше заглянем сначала в храм Нефритового Императора, — рассмеялась Энея. — Посмотрим, есть ли кто дома.
До вершины оставалось метров пятьдесят, когда из непроницаемо черной тени, будто из угольного мешка, выступила, преградив нам путь, высокая фигура. «Шрайк!» — подумал я, зачем-то сжав кулаки. Присмотревшись, я понял, что ошибся.
Перед нами стоял человек — очень рослый, но все-таки человек в боевом скафандре высшей защиты, потрепанном в боях. Стандартное снаряжение имперских морпехов и швейцарских гвардейцев. За противоударным визором шлема — выразительное лицо чернокожего гиганта, обрамленное коротко подстриженными седыми волосами. На лице — свежие, незатянувшиеся раны. Во взгляде — ни капли дружелюбия. В руках — универсальная десантная винтовка. Направив ее на нас, гигант скомандовал на частоте наших ларингов:
— Стоять!
Мы остановились.
Как быть дальше, он не знал. Первое, что я подумал: «Наконец-то они до нас добрались».
И тут Энея шагнула вперед.
— Сержант Грегориус? — спросила она.
Гигант вскинул голову, но оружия не опустил. В глубоком вакууме его винтовка идеально справилась бы с любой задачей — она могла выпустить тучу игл, энергетический разряд, поток заряженных частиц, пулю или реактивную гранату. Ствол был направлен прямо в лицо моей любимой.
— Откуда вы знаете мое… — начал сержант и вдруг резко отшатнулся. — Вы она. Та самая. Девочка, которую мы искали так долго, на множестве планет. Энея.
— Да. Кто-нибудь еще уцелел?
— Трое. — Грегориус указал куда-то вправо, и я с трудом разглядел черный шрам на черной скале, с обугленным остовом чего-то вроде спасательной капсулы.
— Есть ли среди них отец капитан де Сойя?
Это имя я помнил. Помнил голос де Сойи, звучавший из комлога, когда он нашел нас, спас от Немез, а затем отпустил на Роще Богов почти десять лет назад.
— Так точно, — доложил сержант Грегориус. — Капитан жив, но долго не протянет. Он жутко обгорел на бедном старичке «Рафаиле». Капитан распался бы с ним на атомы, кабы не сомлел, дав мне шанс утащить его на шлюпку. Другие двое тоже ранены, но отец капитан при смерти. — Опустив винтовку на камни, он устало оперся на нее. — Умирает истинной смертью… Саркофага нет, а наш любимый капитан заставил меня поклясться, что я лучше распылю его на атомы, чем дам воскреснуть полоумным придурком.
Энея понимающе наклонила голову.
— Можете отвести меня к нему? Мне надо поговорить с ним.
Взвалив тяжелую винтовку на плечо, Грегориус опасливо покосился на нас с А.Беттиком.
— А эти двое?..
— Это мой лучший друг. — Энея притронулась к локтю андроида и взяла меня за руку. — А это мой возлюбленный.
Сержант кивнул и, повернувшись, повел нас к вершине, к храму Нефритового Императора.
ЧАСТЬ III
Глава 22
На Гиперионе, в сотнях световых лет от людей и событий Тянь-Шаня, древний старик восстал ото сна в долгой криогенной фуге и постепенно начал сознавать, где находится. Системы жизнеобеспечения присосались к нему, как полчища пиявок, бесчисленными проводами и трубками для питания, вывода токсинов, стимулирования почечной деятельности, подачи антибиотиков и отслеживания показателей жизнедеятельности, они полностью захватили его тело, чтобы оживить и поддержать в нем жизнь.
— Мать вашу! — просипел старик. — При неизлечимой старости, пробуждение — проклятущий кошмар, похуже, чем жрать дерьмо или трахать труп в задницу. Я бы дал миллион марок, только бы выбраться из кровати и помочиться.
— С добрым утром, месье Силен, — сказала андроид, наблюдая за биометрией на плавающем биомониторе. — А у вас сегодня хорошее настроение.
— Дрючить всех этих синих телок в зад, — прошамкал Мартин Силен. — Где мои зубы?!
— Вы их еще не отрастили, месье Силен, — сказала андроид. Ее звали А.Раддик, и ей было чуть больше трех веков от роду… то есть она была по крайней мере втрое младше этой живой мумии.
— Обойдусь, — буркнул старик. — Я на хрен столько все равно не прободрствую. Долго я был в отключке?
— Два года, три месяца и восемь дней.
Мартин Силен устремил взгляд в небеса над своей башней. Парусиновая кровля верхней площадки башни была отодвинута. Синее-синее небо. Солнце стоит низко — раннее утро или конец дня. Радужные паутинники еще не расцветили свои полуметровые крылья всеми цветами радуги.
— Какое время года? — выдавил Силен.
— Поздняя весна, — сказала женщина-андроид. Остальные синекожие слуги старого поэта деловито сновали туда-сюда, то появляясь в круглой комнате, то снова исчезая. За последними этапами воскрешения надзирала только А.Раддик.
— Давно они отвалили? — Он не счел нужным пояснять, кто такие «они». А.Раддик знала, что имеется в виду не только Рауль Эндимион, последний гость их покинутого университетского города, но и девочка Энея, с которой Силен расстался три века назад и все еще надеется когда-нибудь встретиться.
— Девять лет, восемь месяцев, одна неделя и один день. Земные, стандартные, разумеется.
— Хгррхх, — проворчал старый поэт, уставясь в небеса. Мягкий свет просачивался в башню, освещая зубчатую южную стену, солнце не било в глаза, но глаза все равно слезились — слишком ярко для старых глаз. — Я теперь ночная тварь. Ну прям Дракула! Вылезаю из своей дерьмовой могилы раз в несколько лет, проверить, как там и что в мире живых.
— Да, месье Силен, — согласилась А.Раддик, подрегулировав что-то на пульте управления.
— Заткнись, корова!
— Да, месье Силен.
Старик застонал:
— Долго мне еще так болтаться, прежде чем можно будет перебраться в летающее кресло, Раддик?
Лысая женщина-андроид сосредоточенно вытянула губы трубочкой.
— Через два дня, месье Силен. Возможно, два с половиной.
— У-у, черти-дьяволы… С каждым разом все труднее оклемываться. Если эдак и дальше пойдет, однажды я просто не очнусь… машинерия фуги меня попросту не вытащит.
— Да, месье Силен, — подтвердила андроид. — Каждый новый холодный сон все пагубнее сказывается на вашем организме. Реанимационное оборудование и системы жизнеобеспечения достаточно изношены. Вам действительно не пережить многих оживлений.
— Ой, да заткнись ты! — пробормотал Мартин Силен. — Ты просто мерзкая, занудная старая стерва.
— Да, месье Силен.
— Давно ты со мной, Раддик?
— Двести сорок один год, одиннадцать месяцев и девятнадцать дней. Стандартных.
— И так и не научилась пристойно варить кофе.
— Нет, месье Силен.
— Но кофейник-то ты хоть поставила?
— Да, месье Силен. Согласно вашим неизменным инструкциям.
— Обосраться!
— Но вы не сможете усваивать жидкости орально как минимум еще двенадцать часов, месье Силен, — сказала А.Раддик.
— Аррргггххх!
— Да, месье Силен.
Прошло несколько минут, и уже казалось, что стариком вновь овладел сон, но тот вдруг спросил:
— Есть что-нибудь от мальчика или ребенка?
— Нет, сэр, — сказала А.Раддик. — Но ведь у нас в настоящее время доступ только к местной имперской системе связи. А кодировка достаточно надежна.
— Слухов никаких?
— Достоверного — ничего, месье Силен. Обстановка в Империи нестабильная… революции во многих системах, проблемы с Крестовым походом на Окраину против Бродяг, постоянные рейды боевых и транспортных кораблей на границах Империи… а еще поговаривают о вирусной инфекции, но это засекреченная информация.
— Инфекция… — повторил Мартин Силен и улыбнулся беззубой улыбкой. — Ребенок, как я могу предположить.
— Возможно, и так, месье Силен, но возможно, речь идет о настоящей эпидемии на планетах, где…
— Нет, — сказал поэт, в гневе замотав головой. — Это Энея. И ее учение. Распространяется, как гонконгский грипп. Ты ведь не помнишь гонконгский грипп, а, Раддик?
— Нет, сэр. — Сиделка закончила проверять показания приборов и переключила аппаратуру на автоматический режим. — Это было еще до моего рождения. Это было до рождения всех живущих ныне. Кроме вас, сэр.
При обычных обстоятельствах последовал бы шквал непристойностей, но на сей раз старый поэт просто кивнул:
— Знаю. Я диковинный уродец. Плати за вход, и добро пожаловать в балаган… спешите видеть самого старого человека во всей Галактике… смотрите все: мумия, ходит и говорит… вроде как… экая паскудная тварь, все никак не сдохнет. Ну как, Раддик, забавно, а?
— Да, месье Силен.
— Ну-ну, не слишком-то надейся, синекожая, — хмыкнул поэт. — Я не квакнусь, пока не дождусь вестей от Рауля и Энеи. Надо завершить «Песни», а я не знаю концовки, они еще не создали ее для меня. Как я узнаю, что думать, пока не увижу, что они делают?
— Точно, месье Силен.
— Не подлизывайся, синекожая.
— Да, месье Силен.
— Мальчик… Рауль… почти десять лет назад спрашивал, что надо сделать. А я велел ему… спасти ребенка, Энею… свергнуть Империю… уничтожить власть Церкви… и выволочь Землю из той задницы, куда она провалилась. А он сказал, что непременно все сделает. Конечно, к тому времени мы уже наклюкались до чертиков.
— Да, месье Силен.
— Ну? — сказал поэт.
— Что ну, сэр? — сказала А.Раддик.
— Ну, можем мы сказать, что он действительно сделал хоть что-то из того, что обещал, Раддик?
— Из официальных сообщений девяти лет и восьми месяцев давности нам известно, что корабль Консула покинул Гиперион. Мы можем надеяться, что девочка Энея до сих пор жива и невредима.
— Да, да, — вяло отмахнулся Силен, — но разве Империя пала?
— Согласно нашим наблюдениям — нет, месье Силен, — доложила Раддик. — Некоторые затруднения, как я уже говорила, и поток инопланетных туристов на Гиперион несколько пошел на убыль, но…
— А эта мудацкая Церковь так и производит своих зомби? — настойчиво выспрашивал поэт.
— Церковь по-прежнему господствует. С каждым годом все больше горцев и людей с пустошей принимают крестоформ.
— Усраться можно! А Земля, полагаю, на свое законное место еще не вернулась.
— Мы ничего не слышали о столь невероятном событии, — заверила его А.Раддик. — Конечно, как я упоминала, на данный момент наша подслушивающая аппаратура ловит сообщения только этой планетной системы, корабль Консула отбыл с месье Эндимионом и мадемуазель Энеей почти десять лет назад, и с тех пор наши дешифраторы ничуть не…
— Ладно, ладно. — В голосе старика снова звучала безмерная усталость. — Запихни меня в летающее кресло.
— Мне очень жаль, но до этого еще два дня, — кротко повторила сиделка.
— Мать твою! — вздохнул архаичный уникум, опутанный трубками и датчиками. — А ты не можешь откатить меня к окну, Раддик? Ну пожалуйста! Я хочу посмотреть на весеннюю челму и руины этого древнего города.
— Да, месье Силен, — кивнула сиделка, искренне радуясь, что хоть чем-то может услужить старику, кроме поддержания жизнедеятельности его тела.
Мартин Силен смотрел в окно целый час, одолевая приступы пробуждающейся боли и ужасную сонливость, утягивающую в холодный сон. Его аудиоимпланты транслировали в мозг птичьи трели. Старый поэт думал о своей юной названной племяннице, ребенке, окрестившем себя Энеей… о своей дорогой подруге Ламии Брон, матери Энеи… о том, как долго они ненавидели друг друга… да, в том последнем великом Паломничестве к Шрайку — как давно это было… о том, что они рассказали друг другу, и о том, что они повидали… о Шрайке в Долине Гробниц Времени… об ученом… как его звали?.. Сол… о Соле со своим младенцем, растущим вспять, в небытие… и о солдате… Кассад… да, именно… о полковнике Кассаде. Старому поэту было помочиться с высокой вышки на вояк… идиоты, все они идиоты… но Кассад рассказал интересную историю, прожил интересную жизнь… второй священник, Ленар Хойт, был занудой и сущей задницей, но вот первый… тот, с грустными глазами и дневником в кожаном переплете… Поль Дюре… вот этот достоин, чтобы о нем написать…
Мартин Силен погрузился в беспокойную дрему. Он не видел снов… но часть его поэтического рассудка уже набрасывала новые главы нескончаемых «Песней».
Сержант Грегориус не преувеличивал. В последней битве отец капитан де Сойя был жутко изранен, обожжен и лежал при смерти.
Сержант проводил нас в храм — такой же необычный, как наша встреча: снаружи громадная каменная плита, отполированный монолит (Энея рассказала, что ее доставили со Старой Земли, а там плита стояла перед храмом Нефритового Императора. За все тысячелетия паломничества на ней так и не высекли никаких надписей), а внутри, в просторном, гулком зале, обнесенная оградой возвышалась скала — вершина Тай-Шаня, священного Великого Пика Срединного Царства. В глубине еще были тесные спальни и трапезные для паломников — в одной из них мы и нашли отца капитана де Сойю и еще двоих: Карела Шана, канонира — он был страшно обожжен и лежал в беспамятстве, — и Хогана Жабера — сержант Грегориус назвал его «бывшим» старпомом. Жабер пострадал не так сильно — перелом руки и ни единого ожога, ни единой травмы, но с ним что-то явно было не так — казалось, он то ли в глубоком шоке, то ли просто погружен в какие-то размышления.
Энея смотрела только на отца капитана де Сойю.
Отец капитан де Сойя лежал на неудобной паломнической койке. Брюки изодраны в клочья, ноги босые. Все его тело обгорело чудовищно, только крестообразный паразит на груди был здоровый и омерзительно розовый. Волосы де Сойи сгорели, лицо обезобразили ожоги, но даже сейчас было сразу видно, насколько это неординарная личность. Вся притягательная сила сосредоточилась в глубоких темных глазах, не замутненных даже терзавшей его жуткой болью.
Ему уже и мазь от ожогов наложили, и пластиповязки, и жидкий дезинфектант, подключили внутривенную капельницу из аптечки спасательного катера, но это мало чем могло помочь. Я видел такие ожоги. Трое моих друзей в битве на Ледяном Когте прожили после таких ожогов всего два часа — медицинские боты не успели подобрать их. Кричали они тогда просто невыносимо.
Отец капитан де Сойя не кричал. Из последних сил, стиснув зубы, он сдерживал крик боли. Энея опустилась около него на колени.
Де Сойя ее не узнал.
— Бетц? — пробормотал он. — Эколог Аргайл? Нет… ты погиб на посту. Все погибли… Пол Дениш… Элия… молодые гвардейцы… Все… твое лицо… кажется мне знакомым.
Энея хотела взять его за руку — и увидела, что де Сойя лишился трех пальцев. Тогда она положила ладонь рядом на одеяло.
— Отец капитан, — очень мягко сказала она.
— Энея, — выговорил де Сойя. Его темные глаза впервые по-настоящему взглянули на нее. — Ты то самое дитя… столько месяцев гонялся за тобой… смотрел на тебя, когда ты вышла из Сфинкса. Невероятное дитя. Так рад, что ты выжила. — Он посмотрел на меня. — А ты Рауль Эндимион. Я видел твое досье. Едва не схватил тебя на Безбрежном Море. — Снова накатила волна боли, отец капитан прикрыл глаза и закусил обожженную, окровавленную нижнюю губу. Наконец он снова открыл глаза. — У меня есть твоя… личная вещь. На «Рафаиле». Священная Канцелярия позволила мне забрать ее… Сержант Грегориус тебе отдаст, когда я умру.
Я кивнул, понятия не имея, о чем он говорит.
— Отец капитан де Сойя, — прошептала Энея. — Федерико… вы слышите меня?
— Да, — выдохнул он. — Обезболивающее… сказал сержанту Грегориусу «нет»… не хочу уйти во сне. Уйти легко. — Боль вернулась.
Кожа на шее и на груди де Сойи обуглилась и растрескалась, как чешуя, из трещин сочилась кровь. Он не открывал глаз, пока боль не отступила. Этот приступ длился дольше. Вспомнив, как меня скрутила почечная колика, я попытался представить, что он сейчас чувствует, — и не смог.
— Отец капитан, — позвала Энея, — вы еще можете выжить…
Де Сойя, превозмогая боль, энергично покачал головой. Его левое ухо обгорело почти до угольной черноты. У меня на глазах кусок ушной раковины отвалился на подушку.
— Нет! — прохрипел капитан. — Я сказал Грегориусу… никаких частичных воскрешений… идиотом, бесполым придурком… — Сквозь опаленные зубы прорвался кашель — а может, смешок. — Я священник, насмотрелся. Все равно… устал… устал от… — Остатки обгоревших пальцев постучали по розовому кресту на груди. — Пусть эта тварь сдохнет со мной.
Энея кивнула:
— Я не о воскрешении, отец капитан. Я говорила о жизни. Об исцелении.
Де Сойя попытался моргнуть, но обгорелые веки не слушались.
— Не хочу — узником Империи… — выдавил он. Каждая фраза сопровождалась тяжким, всхлипывающим вдохом. — Они… меня… казнят. Я заслужил…. Убил много невинных… мужчин… женщин… защищая… друзей.
— Отец капитан, Империя по-прежнему нас преследует. Но у нас есть корабль. В нем — автохирург.
Сержант Грегориус, тихо стоявший у стены, выступил вперед. Карел Шан не приходил в сознание. Хоган Жабер, затерявшийся в пучине собственных горестей, никак не реагировал.
Энее пришлось повторить свои слова, чтобы смысл сказанного дошел до отца капитана.
— Корабль? — переспросил он. — Древний корабль Гегемонии, тот, на котором вы скрылись? На нем нет орудий?
— Нет. И никогда не было.
Де Сойя покачал головой:
— На нас наскочило… должно быть… полсотни кораблей… класса «архангел». Подбил… несколько… остальные… еще там. Нет ни единого шанса… добраться… до… точки перехода… прежде… — Он опустил обожженные веки, пережидая боль. На этот раз она едва не унесла его. Но отец капитан вновь заставил себя вернуться.
— Все будет хорошо, — прошептала Энея. — Это мои заботы. Вы будете в автохирурге. Но прежде вам надо кое-что сделать.
От изнеможения отец капитан не мог говорить, но повернул голову, чтобы лучше слышать.
— Вы должны отречься от крестоформа. Отказаться от такого бессмертия.
— Я бы с радостью… — выдохнул он. — Но увы… не могу… единожды принятый… крестоформ… не может быть… отторгнут.
— Нет, может, — шепотом возразила Энея. — Если вы решитесь, я сделаю так, чтобы он отпал. У нас очень древний автохирург. Он просто не сможет лечить вас, пока этот паразит пронизывает все ваше тело. А христианского реаниматора на борту нет…
Тут де Сойя протянул к ней обугленную трехпалую руку и крепко ухватил ее за рукав.
— Не важно… не важно, пусть я умру… сними его. Сними его. Умру истинной… Снова… католиком… если ты… поможешь мне… его… СОДРАТЬ! — Последнее слово он почти прокричал.
— У вас найдется чашка или стакан? — повернулась Энея к сержанту.
— В аптечке есть кружка, — ответил сержант. — Но воды нет…
— Я принесла. — Энея сняла с пояса термос-флягу.
Я думал, во фляге вино, но там была самая обыкновенная вода, мы набрали ее перед выходом из Храма-Парящего-в-Воздухе. Энея не стала терять время на поиски тампона, спирта, стерильного ланцета — она взяла у меня охотничий нож и резанула себе по пальцам, а потом опустила руку в прозрачную пластиковую кружку, и в воде расплылись алые разводы.
— Выпейте это, — сказала она отцу капитану де Сойе, помогая ему приподнять голову.
Умирающий отхлебнул, закашлялся, отхлебнул еще раз. Когда Энея опускала его голову на подушку, он закрыл глаза.
— Крестоформ отвалится через двадцать четыре часа, — прошептала моя спутница.
Отец капитан де Сойя снова издал кашляющий смешок.
— Через час я умру.
— Вы будете в автохирурге через пятнадцать минут, — улыбнулась Энея. — А теперь — поспите… но только не умирайте, Федерико де Сойя!.. Не умирайте. Нам о многом надо поговорить. А вы еще должны оказать мне… нам большую услугу.
Сержант Грегориус подошел поближе.
— Мадемуазель Энея… — Он замялся, переступил с ноги на ногу и попробовал снова: — Мадемуазель Энея, а мне можно… э-э-э… причаститься этой водой?
— Да, сержант. — Она посмотрела ему прямо в глаза. — Но если вы выпьете хотя бы глоток, вам уже никогда не носить крестоформ. Никогда. Воскрешения не будет. А еще проявятся другие… побочные эффекты.
Грегориус решительно отмахнулся:
— Я десять лет во всем следовал за капитаном. Последую и теперь. — И сержант сделал большой глоток розоватой воды.
Глаза де Сойи были закрыты, я думал, он спит или просто потерял сознание, но он приоткрыл веки и сказал Грегориусу:
— Сержант, принесите месье Эндимиону сверток, который мы вытащили из катера.
— Есть, капитан.
Порывшись в хламе, сваленном в углу комнаты, он вручил мне запечатанный тубус.
Я взглянул на священника.
— Открою, когда ему станет получше, — сказал я сержанту.
Грегориус кивнул, поднес кружку к губам Карела Шана и влил ему в рот немного воды.
— Карел может скончаться до подлета корабля. — Сержант поднял глаза. — Или там два автохирурга?
— Нет, — покачала головой Энея, — автохирург один. Но в нем три ячейки. Вы тоже можете залечить свои раны.
Пожав плечами, Грегориус подошел к Жаберу и протянул кружку ему, но тот лишь тупо уставился на сержанта.
— Может, в другой раз, — спокойно сказала Энея.
Кивнув, Грегориус вернул ей кружку.
— Старпом был у нас на корабле пленником, — пояснил сержант. — Он шпионил за капитаном. Отец капитан рискнул жизнью, чтобы вытащить Жабера из каталажки… тогда и обгорел. Вряд ли Хог до конца понимает, что произошло.
И тут Жабер посмотрел на Грегориуса вполне осмысленно.
— Я понимаю, — тихо проговорил он. — Я только не понимаю.
— Рауль! — Энея встала. — Надеюсь, ты не потерял коммуникатор.
Пошарив в карманах, я быстро отыскал комлог.
— Выйду наружу, — сказал я, — и наведу луч визуально. Воспользуюсь разъемом гермокостюма. Инструкции Кораблю будут?
— Вели ему поторопиться, — попросила Энея.
Перетащить де Сойю и Карела Шана оказалось не так-то просто. Скафандров у них не было, а снаружи — почти абсолютный вакуум. Сержант Грегориус перенес друзей в храм Нефритового Императора в надувном спасательном мешке, но мешок, как выяснилось, тоже был поврежден. До появления корабля еще оставалось минут пятнадцать, и я нашел выход. Я велел Кораблю сесть прямо перед шлюзом храма, трансформировать трап в стыковочный модуль и накрыть силовым полем и шлюз, и лестницу. Мы принесли из медотсека летающие носилки. Шан так и не пришел в сознание. Когда мы подняли капитана де Сойю, он вздрогнул и открыл глаза, но не издал ни стона.
Внутри корабля все было родным и знакомым и в то же время каким-то нереальным, словно навязчивый сон о доме, в котором жил давным-давно. Мы уложили де Сойю и канонира в ячейки автохирурга, и я наконец огляделся. Странно было стоять на устланной коврами палубе голографической ниши, странно видеть рядом с древним «Стейнвеем» обожженного великана со штурмовой винтовкой и бывшего старпома, горестно размышлявшего о чем-то на ступеньках лестницы.
— Автохирург завершил диагностику, — доложил Корабль. — Наличие узлов крестообразного паразита в данный момент препятствует проведению лечения. Отменить лечебные процедуры или перевести раненых в режим криогенной фуги?
— Давай криогенную фугу, — распорядилась Энея. — Автохирург сможет прооперировать их через двадцать четыре часа. А пока, пожалуйста, до того времени погрузи их в стазис и поддерживай в них жизнь.
— Принято к исполнению. Мадемуазель Энея! Месье Эндимион!
— Да? — откликнулся я.
— Вам известно, что с того момента, как я покинул третий спутник, за мной следят радары дальнего обзора? Пока мы с вами беседуем, сюда направляется не менее тридцати семи боевых кораблей Имперского Флота. Один уже находится на стационарной орбите вокруг данной планеты, а другой совершил крайне необычный маневр — прыжок на двигателе Хоукинга в пределах планетной системы.
— Ладно, — кивнула Энея. — На этот счет не беспокойся.
— Полагаю, они имеют намерение перехватить и уничтожить нас, — не унимался Корабль. — И они способны нас перехватить еще до того, как я выйду за пределы атмосферы.
— Знаю, — вздохнула Энея. — Повторяю, на этот счет не беспокойся.
— Принято к исполнению, — отрапортовал Корабль. — Место назначения?
— Лесистая расселина в шести километрах к востоку от Цыань-кун-Су, Храма-Парящего-в-Воздухе. И побыстрее. — Энея бросила взгляд на хронометр. — Держись пониже, Корабль. Не выше облаков.
— Фосгеновых или из водного конденсата? — осведомился Корабль.
— Чем ниже, тем лучше. Если только фосгеновые облака не представляют для тебя трудностей.
— Разумеется, нет. Не хотите ли, чтобы я проложил курс по кислотным морям? Для дальнего радара Флота разницы никакой, но это потребует минимального дополнительного времени и…
— Нет, — оборвала Энея. — Только облака.
Корабль бросился в пропасть со Скалы Самоубийц и камнем пролетел десять километров, пробив сперва серые, а затем и зеленые тучи. До расселины оставалось пять минут.
Мы сидели на покрытых ковровой дорожкой ступенях голографической ниши, и тут до меня дошло, что я все еще сжимаю в руках запечатанный тубус — подарок де Сойи. Я повертел его в руках.
— Валяйте, открывайте, — сказал сержант Грегориус, медленно снимая с себя — слой за слоем — обгорелую боевую броню. Нижние слои от лазерных лучей просто расплавились. На его грудь и левую руку было страшно смотреть.
Я медлил — ведь я обещал не открывать тубус, пока де Сойе не станет получше.
— Валяйте, — повторил Грегориус. — Капитан девять лет дожидался возможности вернуть его вам.
Интересно, что же там такое? И откуда он знал, что мы вообще когда-нибудь увидимся? У меня не было никакого имущества… Как же мне можно что-то вернуть?
Взломав печать, я заглянул внутрь. Какая-то туго свернутая ткань. Боясь поверить догадке, я вытащил ее и раскатал на полу.
— Боже мой! — рассмеялась Энея. — Этого не было ни в одном моем сне! Как здорово!
Ковер-самолет… летающий ковер, который унес нас с Энеей из Долины Гробниц Времени почти десять лет назад. Я потерял его… Где же я его потерял? Ну да, конечно, на Безбрежном Море, девять лет назад, когда лейтенант, с которым я боролся, выхватил нож, порезал меня и столкнул в море. Что же было дальше? Тогда, на плавучей платформе, вместо меня по ошибке убили лейтенанта, в него выпустили тучу игл, труп свалился в лиловое море, а ковер-самолет… полетел дальше? Нет, кто-то на платформе перехватил его.
— А как он оказался у отца капитана? — спросил я, уже заранее зная ответ: де Сойя тогда еще был моим безжалостным преследователем.
— Отцу капитану ковер был нужен, чтобы получить образцы вашей крови и ДНК. Именно так мы и нашли ваше личное дело в имперских архивах на Гиперионе. Будь у нас скафандры, я бы воспользовался этой чертовой штуковиной, чтобы выбраться с безвоздушной горы.
— То есть как? Неужто он работает? — Я коснулся управляющих нитей. Ковер-самолет, куда более потрепанный, чем мне помнилось, завис в десяти сантиметрах от пола. — Вот это да!
— Поднимаемся в расселину по указанным вами координатам, — раздался голос Корабля.
Образ в голографической нише стал более четким: мимо нас пронесся Йо-кунь, мы сбросили скорость и зависли над той самой рощей, где Корабль высадил меня больше трех месяцев назад. Только теперь в роще стояла целая толпа народу: Тео, Лхомо и многие-многие другие из Храма-Парящего-в-Воздухе. Корабль аккуратно спустился и снова завис, ожидая дальнейших указаний.
— Опусти трап, — распорядилась Энея. — Прими всех на борт.
— Позвольте напомнить, — возразил Корабль, — что у меня имеются криогенные фуги и системы жизнеобеспечения только на шесть человек. Я же насчитываю здесь не менее пятидесяти…
— Спусти трап и прими всех на борт, — решительно перебила его Энея. — Немедленно.
Корабль молча выполнил указание.
Первой по трапу и винтовой лестнице поднялась Тео, за ней — монахи, Тромо Трочи из Дхому, отставной солдат Гьяло Тхондап, Лхомо Дондруб (значит, долетел благополучно! Дельтаплан не подвел!), Чим Дин и многие-многие другие. Только далай-ламы и Дорже Пхамо не было.
— Рахиль за ними пошла, — сообщила Тео, как только последние поднялись на борт. — Далай-лама настаивал, что должен уйти последним, а Мать-свинья осталась вместе с ним. Пора бы им и подойти. Я уже собиралась сбегать посмотреть…
Энея покачала головой.
— Пойдем все. Поехали, Корабль! — велела Энея. — Храм-Парящий-в-Воздухе. Заходи напрямую.
Заход напрямую Корабль понял как рывок на полной тяге, подбросивший нас на пятнадцать километров, и отвесное падение; ТМП и хвостовая тяга включились лишь в последнюю секунду. Весь процесс занял около тридцати секунд, и хотя внутреннее защитное поле спасло нас от размазывания по стенкам, одного зрелища сквозь прозрачные уже стены оказалось достаточно.
Мы зависли над храмовым комплексом.
— О черт! — охнула Тео: у нас на глазах в пропасть рухнул человек. Входить в пике ради его спасения было слишком поздно. — Кто это был?
— Корабль, — распорядилась Энея, — воспроизведи и увеличь.
И мы увидели Карла Лингу Уильяма Эйхедзи, телохранителя далай-ламы.
Ровно через три секунды из павильона Правильного Самоуглубления на самую верхнюю террасу вышли несколько человек.
— Вот дерьмо! — выругался я. По самому краю платформы шла Радаманта Немез. Она… оно… одной рукой держала далай-ламу над пропастью. За ней вышагивали ее клоны. Из тени на террасу вышли Рахиль и Дорже Пхамо.
Энея схватила меня за руку:
— Рауль, ты пойдешь со мной?
— Конечно, — ответил я, подумав: «Неужели пришла ее смерть? Неужели именно это она предвидела еще до своего рождения? Или это моя смерть?» — Конечно, пойду.
А.Беттик и Тео решительно направились вслед за нами.
— Нет! — Энея взяла андроида за руку. — Ты увидишь все изнутри, друг мой.
— Я бы предпочел быть с вами, мадемуазель Энея.
— Это дело — только для нас с Раулем.
А.Беттик кивнул и покорно вернулся в нишу. Больше никто не проронил ни слова. Корабль молчал, как неживой. Вслед за Энеей я вышел на балкон.
Немез держала юношу над самой пропастью. Мы висели в двадцати метрах над ними. Интересно, эти роботы высоко умеют прыгать?
— Эй! — крикнула Энея. Немез подняла голову. Пустые глаза. Ни искры человеческого. — Отпусти его.
Немез отпустила далай-ламу и в самый последний момент перехватила его левой рукой.
— Точнее формулируй свои просьбы, дитя, — усмехнулась Немез.
— Дай ему и обеим женщинам уйти, и я спущусь.
— Все равно ты отсюда никуда не денешься.
— Дай им уйти, и я спущусь, — повторила Энея.
Немез пожала плечами, но все-таки швырнула далай-ламу через террасу, как куль с тряпьем.
Рахиль подбежала к нему. Далай-лама был весь в крови, но живой. Рахиль в ярости повернулась к Немез.
— НЕТ! — крикнула Энея. — Рахиль, — уже тише сказала она, — пожалуйста, сейчас же отведи Его Святейшество и Дорже Пхамо на корабль.
Она произнесла это так властно, что я бы не смог не подчиниться. Не смогла и Рахиль.
По команде Энеи корабль спустился пониже, трансформировав балкон в лестницу. Энея двинулась вниз. Я поспешил следом. Мы ступили на бамбуковую платформу… я помогал укладывать здесь каждую планочку… а Рахиль повела мальчишку и старуху мимо нас, вверх по лестнице. Лестница уплыла, снова преобразившись в балкон. Рахиль и Дорже Пхамо остались на балконе, к ним присоединились Тео и А.Беттик. Истекающего кровью далай-ламу кто-то увел внутрь.
Мы стояли в двух метрах от Радаманты Немез. Клоны заняли позицию с флангов.
— Еще не комплект, — усмехнулась Немез. — Где же твой… а, вот и он.
Из сумрака павильона выплыл Шрайк.
Я сжимал и разжимал кулаки. Все наперекосяк. Термокуртку я на корабле сбросил и остался в этом дурацком гермокомбинезоне и скалолазной обвязке — обвязка и многослойная ткань будут сковывать движения, замедлят реакции.
«Замедлят по сравнению с чем?» — тут же подумал я. Я видел, как дерется Немез. То есть, точнее, не видел. Когда они сцепились со Шрайком на Роще Богов, было только неясное мельтешение и взрыв. И все. Она могла бы обезглавить Энею и сделать из моих кишок подвязки прежде, чем я сожму кулаки.
То-то и оно, что кулаки. Корабль не вооружен, но, когда я уходил, универсальная штурмовая винтовка сержанта Грегориуса оставалась в библиотеке. А ведь в силах самообороны нас первым делом научили никогда не драться кулаками, если можно раздобыть оружие.
Я огляделся. На платформе хоть шаром покати, даже перила не выломаешь. Слишком прочная конструкция, чтобы можно было выломать вообще хоть что-нибудь.
Слева — скала. Тоже безнадежно — не отковырнешь ни камешка. Правда, в щели вбито несколько крючьев и бонгов — мы пристегивались к ним, когда строили этот ярус и павильон, а убрать их у нас руки не дошли, — но они вбиты слишком крепко и вытащить их мне не под силу, хотя Немез наверняка сделала бы это одним пальцем. К тому же разве сгодятся против этой твари крюк или закладка?
Оружия не найти. Значит, придется умирать безоружным. Остается только надеяться, что я успею нанести хоть один удар… или хотя бы замахнуться, прежде чем она со мной покончит.
Энея и Немез не сводили друг с друга глаз. Шрайку, остановившемуся в десяти шагах правее, Немез уделила только мимолетный взгляд.
— Ты ведь понимаешь, что я не собираюсь отдавать тебя Церкви, верно, дитя? — проговорила Радаманта Немез.
— Да.
— Но веришь, что твой шипастый монстр снова тебя спасет?
— Нет.
— Хорошо. Потому что он тебя не спасет. — Немез кивнула своим клонам.
Теперь я знаю их имена: Скилла и Бриарей. И знаю, что видел дальше.
Вообще-то я не должен был этого увидеть, потому что все трое перешли в боевой режим. Перед моими глазами должно было промелькнуть серебристое сверкание, хаос — и пустота. Но Энея коснулась пальцами моей шеи у затылка, я ощутил привычное электрическое покалывание, и свет внезапно изменился, стал более темный, насыщенный, а воздух уплотнился, как вода. Сердце как будто перестало биться, я не мигал и даже не дышал. И хоть это должно было меня встревожить, я почему-то принял все как должное.
Голос Энеи то ли прошептал в наушниках откинутого капюшона, то ли прозвучал прямо у меня в голове… не знаю. «Мы не можем совершить фазовый переход, чтобы сражаться с ними, — это потребует непомерных затрат энергии Связующей Бездны. Но увидеть это мы можем».
А увидели мы нечто действительно невероятное.
По команде Немез Скилла и Бриарей кинулись на Шрайка, гиперионский демон растопырил все четыре руки и бросился к Немез, но клоны перехватили его. Даже обладая измененным зрением — корабль завис в воздухе, наши друзья на балконе окаменели, птица над скалой увязла в густом воздухе, словно муха в янтаре, — я едва мог уследить за стремительными движениями Шрайка и этих двоих.
Они столкнулись с ужасающей силой всего в метре от Немез, превратившейся в серебряную статую, но та даже бровью не повела. Бриарей нанес удар, способный расколоть наш корабль надвое, — удар отразился от утыканной шипами спины Шрайка с гулом, напоминающим рокот подводного землетрясения, проигрываемый в замедленном темпе. Скилла дала ему подсечку. Шрайк рухнул, одной парой рук ухватив Скиллу и погрузив кинжальные когти другой глубоко в тело Бриарея.
А они словно только того и ждали — они накинулись на упавшего Шрайка, лязгая зубами и щелкая когтями. Ребра их ладоней и предплечий стали бритвенно-острыми, куда острее шипов Шрайка.
В исступленной ярости все трое царапали и кусали друг друга. Прокатившись по платформе в окружении кедровых щепок, взлетающих на трехметровую высоту, они врезались в скалу. И вот уже все трое снова стояли на ногах. Громадные челюсти Шрайка сомкнулись на шее Бриарея в тот самый момент, когда Скилла полоснула по одной из четырех рук великана, отогнула ее назад и вроде бы переломила в суставе. Не выпуская из зубов Бриарея, Шрайк развернулся лицом к Скилле, но к тому времени оба клона уже ухватились за клинки и шипы Шрайковой головы и принялись отгибать ее назад. Казалось, она вот-вот отломится и покатится прочь.
И тут Немез скомандовала:
— Ну же! Давайте! — И двойняшки без колебаний оттолкнулись от скалы, устремившись к перилам в дальнем конце платформы. Они собирались швырнуть Шрайка в пропасть, как телохранителя далай-ламы.
Наверное, гигант все понял, он изо всех прижал к себе обе серебряные фигуры, погрузив клинки и шипы глубоко в их силовые поля. Трио закружилось, опрокинулось, подскочило — обезумевшая заводная игрушка, переключенная в сверхбыстрый режим, — затем Шрайк вместе с лягающимися, царапающимися и вертящимися противниками врезался в кедровые перила, прорвал их, как картон, и рухнул в бездну, так и не разжав схватки.
Серебристый великан, утыканный сверкающими шипами, и две блестящие фигурки поменьше падали все ниже и ниже, а потом нырнули в облака и пропали из виду. Я понимал, что для зрителей на корабле три фигуры просто исчезли из поля зрения, потом сломались перила, а на платформе остались только Немез, Энея и я. Радаманта Немез обратила к нам свою безликую блестящую маску.
Свет изменился. Снова подул ветерок. Воздух утратил тягучесть. Сердце опять забилось… громко забухало… и я моргнул.
Немез вернулась в режим реального времени.
— Итак, — бросила она Энее, — не закончить ли нам этот фарс?
— Да, — отозвалась Энея.
Немез ухмыльнулась и начала переход в боевой режим.
Ничего не произошло. Киборг сосредоточенно нахмурился. По-прежнему ничего.
— Я не могу помешать тебе войти в боевой режим, — сказала Энея. — Но другие могут… и мешают.
На лице Немез мелькнула тень досады, но она тотчас же рассмеялась:
— Те, кто меня создал, об этом позаботятся буквально через секунду, но я не хочу ждать так долго. Мне не нужен боевой режим, чтобы убить тебя, сукина дочь.
— Знаю, — кивнула Энея.
Немез оскалила свои мелкие зубы, и они на глазах начали удлиняться, заостряться, словно выпихиваемые из десен и челюсти. И было их не меньше трех рядов.
Потом она подняла руки, и ногти — и без того белесые и длинные — вытянулись на добрый десяток сантиметров, превратившись в блестящие клинки.
Заостренными ногтями Немез вспорола кожу правого предплечья, обнажив что-то вроде металлического эндоскелета цвета стали, но с несравненно более острыми гранями.
— Пора. — Немез шагнула к Энее.
— Нет! — Я заступил ей дорогу, приняв боксерскую стойку.
Немез улыбнулась.
Глава 23
Время снова замедлилось для меня, словно я вошел в боевой режим, — но это только возбуждение от предельной концентрации внимания. Мой мозг переключился на ускоренную передачу. Мои ощущения стали сверхострыми. Я вижу, чувствую и просчитываю каждую микросекунду с немыслимой четкостью.
Немез делает шаг… влево, к Энее…
Это скорее шахматы, чем драка. Я выиграю, если убью бесчувственную тварь или сброшу ее с платформы — тогда мы успеем сбежать. Ей незачем убивать меня, чтобы выиграть… ей надо просто на время вывести меня из игры и убить Энею. Ее цель — Энея. Энея всегда была ее целью. Это чудовище создано, чтобы убить Энею.
Шахматная партия. Немез уже пожертвовала двумя самыми сильными фигурами — своими клонами, — чтобы убрать с поля нашего коня — Шрайка. Теперь на доске на три фигуры меньше. Остались Немез — черная королева, Энея — королева человечества, и пешка Энеи… то есть я.
Эта пешка должна пожертвовать собой, но непременно взять черную королеву. Это ее предназначение.
Немез улыбается. Ее зубы — острые и сверкающие. Ее руки опущены, длинные ногти поблескивают, правое предплечье вскрыто, как непристойный анатомический препарат… внутренности нечеловеческие… нет, совсем нечеловеческие. На режущей кромке эндоскелета предплечья играют лучи послеполуденного солнца.
— Энея, — тихонько говорю я, — отойди назад.
Эта верхняя терраса выходит на карнизы и лестницы, вырубленные в камне для подъема на галерею, которая идет по верху скального козырька. Я хочу, чтобы Энея покинула террасу.
— Рауль, я…
— Сейчас же, — говорю я, не повышая голоса, но очень стараясь, чтобы это звучало как приказ, вкладывая все, чему научили меня и на что дают мне право мои тридцать два стандартных года.
Энея делает четыре шага назад и встает на скальной полке. Корабль по-прежнему парит над нами в пятидесяти метрах от террасы. На балконе столпилось множество народу. Я пытаюсь усилием воли заставить сержанта Грегориуса выйти вперед и снести из штурмовой винтовки эту стерву Немез, но не вижу среди зрителей его черного лица. Возможно, он ослабел от ран. Возможно, считает, что драка должна быть честной.
«В задницу, — думаю я. — Не нужна мне честная драка. Мне нужно уничтожить эту тварь, и все средства сейчас хороши. И кто бы ни пришел на помощь, я буду только рад. Неужели Шрайк на самом деле мертв? Такое возможно? В «Песнях» Мартина Силена как будто упоминалось, что Шрайк был повержен в некоей битве отдаленного будущего с полковником Федманом Кассадом. Но откуда Силену об этом знать? И что значит будущее для Шрайка, если он способен перемещаться во времени?»
Если Шрайк жив, я встречу его с распростертыми объятиями.
Немез делает еще шаг вправо — для себя, для меня — влево. Я делаю шаг влево, чтобы преградить путь к Энее. В боевом режиме эта тварь обладает сверхчеловеческой силой и может двигаться так быстро, что становится практически невидимой. Сейчас она не способна перейти в боевой режим. Дай-то Бог! Но она и так быстрее и сильнее меня… любого человека. Было бы наивно предполагать обратное. А еще у нее есть зубы, когти и рука-топор.
— Готов ли ты к смерти, Рауль Эндимион? — спрашивает Немез, демонстрируя в оскале ряды зубов.
Ее преимущество… В скорости, пожалуй, силе и нечеловеческой конструкции. Она скорее робот или андроид, чем человек. Почти наверняка не чувствует боли. Не исключено, что в запасе у нее имеется еще какое-нибудь оружие. Не представляю, как ее можно убить или хотя бы покалечить… скелет из металла… мышцы вспоротого предплечья выглядят вроде бы настоящими, но скорее всего изготовлены из пластиковых волокон или чего-нибудь подобного. Да, обычными боевыми приемами ее не остановишь.
Ее слабые стороны… Не знаю. Может, излишняя самоуверенность. Может, она чересчур привыкла к боевому режиму, убивая врагов, когда те не могут ответить. Но ведь тогда, почти десять лет назад, она приняла вызов Шрайка и дралась с ним до последнего и фактически побила, раз ей удалось убрать его с дороги и добраться до Энеи. Убить нас всех ей помешало только вмешательство отца капитана де Сойи, обрушившего на нее весь энергоресурс звездолета.
Немез приняла боевую стойку. Далеко эта тварь прыгает? Может она перешагнуть через меня и добраться до Энеи?
Мои сильные стороны… бокс, два года выступлений за свой полк в силах самообороны… это было ужас что такое — я проиграл почти треть боев. И все-таки однополчане ставили на меня. Боль никогда меня не останавливала. От ударов по лицу все застилала красная пелена — поначалу, только мне съездят по физиономии, как я тут же забывал все, что умею, но если я все еще стоял на ногах, когда рассеивалось красное марево бешенства, я обычно выигрывал. Только сейчас слепая ярость мне не поможет. Если я хоть на миг потеряю голову, эта тварь прикончит меня.
В боксе у меня была отличная реакция… но это было больше десяти лет назад. Я был силен… но все эти годы не тренировался. На ринге я выдерживал мощнейшие удары, а это чего-нибудь да стоит… меня ни разу не послали в нокаут, даже когда более опытному противнику удавалось до гонга десяток раз свалить меня с ног.
В силах самообороны нас учили рукопашной схватке, учили убивать в ближнем бою, но на деле подобные бои такая же диковинка, как штыковые атаки.
А еще я работал вышибалой в казино в Девяти Хвостах на Феликсе. Но тут все чаще сводилось к психологии, к умению уклониться от драки и вышвырнуть назойливого выпивоху за дверь. Я-то уж старался, чтобы редкие драки кончались секунд за пять.
Самые серьезные поединки у меня были, когда я плавал на баржах. Однажды я сцепился с одним. Он был преисполнен желания исполосовать меня ножом. Мне удалось выжить. Но другой матрос с баржи отправил меня в нокаут. Когда я был охотником-проводником, я вышел живым из стычки с инопланетником, наставившим на меня игломет. Но я случайно убил его, и после воскрешения он свидетельствовал против меня на суде. Да, и вот с этого-то все и началось.
Из всех моих слабостей эта хуже всего — мне не хочется никому причинять боль. Во всех драках (не считая хозяина баржи с ножом и охотника-христианина с иглометом) я сдерживался, не бил изо всей силы, боялся нанести противнику лишний ущерб.
Но сейчас не тот случай. Это не человек… это машина-убийца, и если я немедленно не сломаю или не уничтожу ее, она уничтожит меня.
Немез прыгает на меня, лязгая когтями, отводит правую руку и рубит сплеча, как косой.
Я отскакиваю, уклоняюсь от косы, почти увиливаю от когтей, но рубашка на левом плече располосована, кровь алым туманом повисает в воздухе… я делаю шаг вперед и… удар, еще удар… прямо ей в морду.
Немез тут же отскакивает. На когтях левой руки кровь. Моя кровь. Ее нос расплющился и съехал в сторону, в левой брови что-то сломалось — кость, хрящ или металлический каркас, — не знаю. Крови на ее лице нет. Она словно не замечает повреждений и по-прежнему скалит зубы.
Я смотрю на свою правую руку. Что это? Она просто горит огнем. Яд? Возможно… да, такое вполне может быть — но если это яд, мне осталось жить считанные секунды. Ей незачем прибегать к слабым средствам.
Все еще жив. Просто саднит порезы. По-моему, четыре штуки… глубокие, но мышцы не порваны. Ерунда. Сосредоточься на ее глазах. Разгадай ее следующий ход.
Не лезь в драку с пустыми руками. В силах самообороны так учили. Найди оружие для ближнего боя. Любое. Если личное оружие сломано или утеряно, хватай что угодно — булыжник, дубину, любую железяку; даже камень в кулаке или ключи между пальцами лучше, чем ничего. Костяшки сломать куда легче, чем челюсть, неустанно повторял тренер. Если уж тебе кровь из носу приспичило подраться с пустыми руками, наноси рубящие удары ребром ладони, колющие — прямыми пальцами, попытайся выдавить противнику глаза или сломать кадык.
Здесь нет ни булыжников, ни сучьев, ни даже ключей… вообще ничего. Кадыка у этой твари тоже нет, а глаза наверняка твердые и холодные, как стекло.
Немез снова движется влево, уставившись на Энею.
— Я иду, милочка, — шипит эта тварь.
Энея стоит на карнизе у самого края платформы. Стоит неподвижно, с абсолютно бесстрастным лицом. Что-то на нее не похоже… она должна бы швыряться камнями, напасть со спины… что угодно, только не бросать меня на произвол судьбы в этой схватке.
«Это твой час, Рауль, милый». Голос ее прозвучал так отчетливо, будто она прошептала это прямо у меня в мозгу.
Это действительно шепот — из наушников откинутого капюшона. Кроме гермокостюма, на мне масса ненужной скалолазной сбруи.
Я отступаю влево, снова преграждая ей путь. Места для маневра почти не остается.
Немез движется быстрее меня, уклоняется влево, наотмашь бьет правой рукой по ребрам.
Я отскакиваю, но лезвие вспарывает левый бок чуть ниже ребер. Я ныряю ей под руку — когти сверкнули у самого лица, целясь в глаза, — я снова ныряю, но ее пальцы все-таки скользнули по голове. На миг все застилает кровавая муть.
Сделав шаг, я с размаху наношу удар правой. В шею справа. Синтетическая кожа рвется, как прелая тряпка, но трубки и металл под ней, похоже, не пострадали.
Немез снова замахивается своей сверкающей косой и пробует запустить в меня когти. Я отскакиваю. Так, она промахнулась!
Я делаю ответный выпад, пнув ее тяжелым ботинком под колени, — может, удастся сбить с ног. До пролома в перилах восемь метров. Если от моего удара она покатится… даже если мы сорвемся вдвоем…
Легче сделать подсечку стальной колонне. Моя нога мгновенно онемела от удара, а тварь даже не покачнулась. Оболочка срывается с ее эндоскелета, но Немез стоит как скала. Наверное, она весит раза в два больше, чем я.
Ответный удар… она ломает мне пару ребер… жуткий хруст… воздух вырывается из легких со свистом, как из лопнувшей шины.
Я отшатываюсь, в помрачении ума ожидая упасть на канаты ринга, но вместо канатов натыкаюсь на твердую гладкую отвесную стену. Скальный крюк впивается в спину, на миг парализовав меня болью.
Я знаю, что делать!
Вдох дается жуткой ценой, я будто вдыхаю пламя и потому делаю еще пару мучительных вздохов, чтобы убедиться, что пока способен дышать, чтобы немного прийти в себя. Мне еще повезло — сломанные ребра вроде бы не проткнули легкое.
Немез разводит руки в стороны, чтобы я не ускользнул, и подбирается поближе.
И тогда я бросаюсь в ее омерзительные объятия и что есть силы бью кулаками ей по ушам. Ушные раковины твари раздроблены — в воздухе повисает марево капелек желтой жидкости, — но под разорванной кожей несокрушимая пластисталь. Мои кулаки отскакивают, как от камня. Я отпрянул, руки после удара не слушаются…
Немез атакует.
Я откидываюсь на скалу, двумя ногами остервенело лягаю ее в живот.
Уже на лету она наносит рубящий удар, располосовав кусок обвязки и гермокомбинезон и пропоров мышцы груди. До ларингов она не достала. Это хорошо.
Сделав сальто, она приземляется на ноги в пяти метрах от сломанных перил. Мне ни за что не оттеснить ее к краю, не спихнуть мне ее в пропасть. Она просто не примет мои правила игры.
Подняв кулаки, я бросаюсь на нее.
Немез вскидывает левую руку снизу вверх, как ковш экскаватора, чтобы одним ударом выпустить мне кишки. Проскользив на подошвах, я останавливаюсь в миллиметре от смерти, а она замахивается правой рукой, собираясь разрубить меня надвое, но я разворачиваюсь на пятке и что есть силы лягаю ее ногой в плоскую грудь.
Немез, рыча и лязгая зубами, впивается мне в ногу. Ей удалось оттяпать каблуки и подошвы ботинок, но на мне — ни царапины.
Восстановив равновесие, я снова бросаюсь вперед, хватаю ее левой рукой за правое запястье, чтобы она своей косой не освежевала мне всю спину вдоль хребта, подступаю поближе и вцепляюсь ей в волосы. Она лязгает зубами прямо у моего лица, брызжет желтым заменителем то ли слюны, то ли крови. Я отгибаю ее голову назад, мы кружимся, словно в исступлении танца, вцепившись друг в друга мертвой хваткой, но ее короткие гладкие волосы вырываются из моих пальцев.
Снова ринувшись на нее грудью, я впиваюсь пальцами в ее глазницы и надавливаю всей тяжестью.
Голова ее запрокидывается: тридцать градусов — сорок — шестьдесят — ее позвоночнику давно пора с хрустом переломиться — восемьдесят — девяносто. Ее шея отогнута назад под прямым углом к туловищу, стеклянные глаза холодят мои скрюченные пальцы… вдруг губы ее растягиваются в сатанинской ухмылке, и зубы впиваются мне в руку.
Я выпускаю ее.
Она бросается вперед, словно выброшенная чудовищной пружиной. Когти впиваются мне в спину, разодрав правое плечо до кости и заскрежетав по левой лопатке.
Я пригибаюсь и обрушиваю на ее ребра и живот град коротких, жестоких ударов. Два — четыре — шесть быстрых попаданий, нырок вперед, моя макушка упирается в ее истерзанную, маслянистую грудь. В ее груди что-то звякает, лопается, и на меня льется желтоватая жижа.
Она пронзительно вопит — словно пар со свистом вырывается из треснувшего автоклава — и обрушивается опять, рассекая воздух сверкающей косой.
Я отскакиваю. Три метра и до отвесной скалы, и до карниза, где стоит Энея.
Немез размахивает локтем, ее предплечье как пропеллер, как свистящий стальной маятник. Теперь она может загнать меня куда угодно.
Я снова отскакиваю, клинок вспарывает ткань моего комбинезона чуть выше пояса. На сей раз я прыгаю налево, поближе к скале, подальше от карниза.
На мгновение Энея остается без защиты. Я больше не преграждаю чудовищу дорогу к ней.
Вот в чем слабость Немез! Готов поспорить на что угодно… даже на Энею… эта тварь — запрограммированный хищник. Добыча совсем рядом — она не сможет не прикончить меня.
Немез разворачивается направо, оставляя за собой возможность метнуться к Энее, но продолжает гнать меня к скале, размахивая косой, чтобы снести мне голову одним ударом.
Споткнувшись, я падаю влево, подальше от Энеи, и качусь по дощатому настилу, дрыгая ногами.
Немез нависает надо мной, широко расставив ноги. Заносит руку-косу над головой, испускает рык и обрушивает ее вниз.
«Корабль! Приземляйся на платформу. Быстро! Без рассуждений!»
Успевая выдохнуть, я подкатываюсь под ноги Немез. Ее смертоносная рука вонзается в крепкие доски там, где только что была моя голова.
Я под ней. Клинок ее предплечья вязнет в плотной древесине. Несколько мгновений она стоит согнувшись, пытаясь достать меня когтями и не имея возможности упереться левой рукой, чтобы высвободить правую. И тут нас обоих накрывает тень.
Когти полоснули меня слева по голове, почти оторвав ухо, до кости располосовав щеку и чудом не вскрыв сонную артерию. Я упираюсь правой ладонью ей в подбородок, стараюсь отпихнуть. Но она сильнее.
Сейчас на карту поставлена моя жизнь. Немез до сих пор не освободилась, но этоей на руку — мне не ускользнуть.
Тень надвигается. Еще десять секунд, не больше.
Отмахнувшись когтями, Немез выдергивает лезвие из помоста и резко выпрямляется. Она переводит взгляд налево, туда, где стоит Энея.
Я откатываюсь от Немез… от Энеи… Цепляясь за холодный камень, поднимаюсь на ноги. Правая рука не действует — в последнюю секунду когти перерубили сухожилие, — и я левой рукой выпутываю из обвязки страховочную веревку — остается только надеяться, что она еще цела, — и пристегиваю карабин к петле крюка. Он клацает, как защелкнувшиеся наручники.
Немез разворачивается влево — я ее больше не интересую, — ее черные стеклянные глаза прикованы к Энее. Моя любимая не двигается.
Корабль приземляется на платформе, отключив генераторы ТМП, как и было приказано, всей тяжестью наваливаясь на доски под жуткий хруст сминаемого павильона Правильного Самоуглубления. Архаичные стабилизаторы занимают всю площадку, едва не придавив Немез и меня вместе с ней.
Глянув через плечо на черную громаду нависшего над ней корабля, Немез приседает, чтобы прыгнуть к Энее.
Мгновение мне кажется, что бонсай-кедр выдержит… что платформа даже крепче, чем предполагалось по расчетам Энеи и моим наблюдениям… но тут, под ужасающий стон и скрежет расщепляющегося дерева, вся платформа Правильного Самоуглубления отделяется от склона, увлекая за собой изрядную часть лестницы.
Корабль опрокидывается, и стоявшие на балконе люди беспорядочно валятся внутрь.
«Корабль! — хриплю я в ларинг. — Парить!» И снова переключаю внимание на Немез.
Платформа уходит у нее из-под ног. Она прыгает. Энея стоит неподвижно.
Если бы не ускользающая из-под ног платформа, Немез непременно допрыгнула бы. Она чуть-чуть не долетела, совсем немного, не дотянула… ее когти скребут по камню, высекая искры, и находят зацепку.
Платформа рушится в бездну, кувыркаясь и разваливаясь на лету. Обломки градом сыплются на главную платформу.
Немез отчаянно старается удержаться на гладком камне, цепляясь за него руками и ногами, всего в метре от моей любимой.
У меня в запасе восемь метров страховки. Более или менее работоспособной левой рукой я протравливаю несколько метров веревки, скользкой от крови, и обеими ногами отталкиваюсь от скалы.
Немез уже подбирается к краю карниза. Всадив когти в расщелину, она подтягивается, выгнувшись дугой, как опытный скалолаз, преодолевающий отрицательный уклон. Она скребет ногами по камню, подталкивая себя все выше и выше. Она хочет перебраться через край и броситься на Энею.
Качнувшись от Немез, я отталкиваюсь от вертикальной скалы, израненными босыми ногами ощутив холодную гладкость камня. Веревка, от которой зависит моя жизнь, изрезана в схватке, она может оборваться в любую секунду.
Но я нагружаю ее еще больше, раскачиваясь от Немез и обратно, как гигантский маятник.
Подтянувшись, Немез наваливается на карниз грудью, встает на колени, поднимается на ноги в метре от Энеи.
Энея стоит неподвижно.
Я взмываю все выше, обдирая плечо о камни. Мелькает страшная мысль, что мне не хватит ни скорости, ни длины веревки, но я тут же вижу, что хватит, в обрез, тютелька в тютельку…
Немез поворачивается в тот самый миг, когда я подлетаю к ней. Разведя ноги, я обхватываю ее поперек туловища и крепко сжимаю.
Она с ревом вскидывает свою косу. Мой живот ничем не защищен.
Забыв об этом, забыв о расползающейся веревке, забыв о боли, пульсирующей во всем теле, я цепко держу ее, спокойно дожидаясь: законы механики непреложны. Упругость нити, сила тяготения, момент инерции. Она тяжелее меня. На одно жуткое, бесконечное мгновение воцаряется равновесие: я вишу на ней, а она даже не колышется, но она не успела принять устойчивое положение и балансирует на краю обрыва; я выгибаюсь назад, пытаясь перенестить центр тяжести, — и Немез срывается с карниза.
Я разжимаю хватку.
Она наносит удар косой, но промахивается — я уже лечу по дуге, зато этот рывок отбрасывает ее от обрыва еще дальше, к пролому, зияющему на месте платформы.
Раскачиваясь на конце веревки, я вжимаюсь в камень, обдираю бока, чтобы трением погасить скорость. И тут страховка обрывается.
Я распластываюсь по скале, но понемногу начинаю сползать вниз. Правая рука не действует. Пальцы левой находят зацепку… срываются… я съезжаю все быстрее… левая нога натыкается на крохотный выступ. Мне удается замедлить падение, и я успеваю глянуть вниз.
Немез извивается в воздухе, пытаясь изменить траекторию, чтобы вонзить когти в уцелевшие доски самой нижней платформы.
Но промахивается на считанные сантиметры. Метров через сто она налетает на выступ и отскакивает еще дальше от стены. Под ней теперь только облака, а еще доски, столбы и стропила, опередившие ее на километр.
Немез воет от ярости и отчаяния, словно искореженный паровой гудок, и эхо мечется от скалы к скале.
Я больше не могу держаться. Потеряно слишком много крови, порвано слишком много мышц. Я сползаю по скале, ощущая движение грудью, щекой, ладонью.
И поворачиваю голову, чтобы попрощаться с Энеей хотя бы взглядом.
И в этот момент ее рука подхватывает меня. Пока я наблюдал за падением Немез, Энея без страховки прошла по отвесной скале надо мной.
Сердце мое колотится от страха перед тем, что своей тяжестью я утяну в пропасть нас обоих. Я сползаю… выскальзываю из крепких рук Энеи… я весь в крови. Но она не отпускает.
— Рауль! — Голос ее дрожит, но не от усталости или ужаса, а от переполняющих ее чувств.
Удерживая наш двойной вес на одной ноге, упирающейся в выступ, она освобождает левую руку и одним взмахом прищелкивает свою страховку к моему карабину, все еще болтающемуся на крюке.
Мы оба соскальзываем, обдирая кожу. Энея обнимает меня обеими руками, обхватывает меня ногами за пояс, в точности повторяя мои объятия с Немез, но ею движут не ярость и ненависть, а любовь и сострадание.
Мы падаем на восемь метров, повисая на конце страховки. Я почти уверен, что мой дополнительный вес выдернет крюк или разорвет веревку.
Но ничего не происходит. Веревка пружинит, мы подскакиваем раза три и зависаем над бездной. Крюк держит. Веревка держит. Объятия Энеи держат меня.
— Рауль, — приговаривает она. — Боже мой, Боже мой…
Мне кажется, что она гладит меня по голове, на самом деле она пытается приладить на место висящий лоскут кожи и не дает уху оторваться окончательно.
— Пустяки, — пытаюсь выговорить я, но кровоточащие, распухшие губы не слушаются. Я не в состоянии дать команду кораблю.
Поняв меня без слов, Энея склоняется ко мне и шепчет в ларинги моего капюшона:
— Корабль, лети сюда и подбери нас. Быстро.
Тень надвигается стремительно, словно корабль вознамерился раздавить нас. На балконе полно народу, и все на нас смотрят. Корабль зависает в трех метрах и выдвигает с балкона трап. Нас подхватывают и втаскивают на балкон.
Энея не разжимает объятий и тогда, когда нас уносят с балкона на устланные коврами палубы, подальше от пропасти.
Будто сквозь вату до меня доносится голос Корабля:
— В пределах системы наблюдается ряд боевых кораблей, с крейсерской скоростью летящих в нашу сторону. Еще один находится за пределами атмосферы в десяти тысячах километров западнее и все приближается…
— Забирай нас отсюда, — приказывает Энея. — Я дам тебе внутрисистемные координаты через минуту. Пошел!
У меня кружится голова, и от рева ракетных двигателей глаза закрываются сами собой. Я смутно осознаю, что Энея целует меня, обнимает, целует мои веки, окровавленный лоб и щеку. Она плачет.
— Рахиль, — доносится ее голос откуда-то издалека, — ты можешь осмотреть его?
По мне пробегают чужие пальцы. Вспыхивают очаги боли, но боль отходит все дальше. Меня охватывает холод. Я пытаюсь открыть глаза, но ничего не получается.
— Самое страшное с виду на деле опасно меньше всего, — мягко, но деловито сообщает Рахиль. — Ранения головы, уха, сломанная нога и так далее. Но, по-моему, есть внутренние повреждения… А еще следы когтей вдоль позвоночника.
Энея еще плачет, но уже распоряжается:
— Кто-нибудь — Лхомо, А.Беттик — помогите мне перенести его в автохирург.
— Простите, — слышу я на грани беспамятства голос Корабля, — но все три ячейки автохирурга заняты. Сержант Грегориус потерял сознание от внутренних повреждений и был доставлен в третью. В настоящий момент жизнь всех трех пациентов поддерживается искусственно.
— Великолепно, — бормочет Энея. — Рауль! Милый, ты меня слышишь?
Я пытаюсь ответить, сказать, что чувствую себя отлично, что обо мне нечего беспокоиться, но издаю только полузадушенное сипение и невнятный клекот.
— Рауль, — продолжает Энея, — нам надо оторваться от кораблей Имперского Флота. Мы отнесем тебя в криогенную фугу, милый. Тебе придется немного поспать, пока не освободится ячейка автохирурга. Рауль, ты слышишь?
Отказавшись от попыток заговорить, я киваю. На лбу болтается какая-то влажная тряпка. Ах да, это ж мой скальп.
— Ладно, — шепчет Энея мне на ухо. — Я люблю тебя, дорогой мой. Ты поправишься. Я знаю.
Чьи-то руки поднимают меня и несут, потом укладывают на что-то твердое и холодное. Боль никуда не делась, но она где-то далеко-далеко и не имеет ко мне отношения.
Пока крышка криогенной фуги еще не захлопнута, я успеваю услышать спокойный голос Корабля:
— Нас вызывают четыре корабля Флота. Они говорят, что если мы через десять минут не заглушим двигатели, то будем уничтожены. Позвольте напомнить, что до ближайшей точки перехода одиннадцать часов. А все четыре звездолета находятся на дистанции эффективного поражения.
— Координаты прежние, Корабль, — отзывается усталый голос Энеи. — Кораблям Флота не отвечай.
Я пытаюсь улыбнуться. Мы уже пытались обогнать корабли Флота, хотя все было против нас. Хорошо бы сказать Энее то, что я вдруг понял: как бы долго мы ни дурачили судьбу, рано или поздно они нас настигнут. Для меня это почти откровение, этакое запоздалое сатори.
Но холод уже промораживает мое тело насквозь. Остается лишь надеяться, что змеевики фуги работают быстрее, чем запомнилось по последнему путешествию. Если это смерть, то… что ж, смерть она и есть смерть. Но мне хочется еще раз увидеть Энею.
Это моя последняя мысль.
Глава 24
Падаю!.. Сердце бешено колотится… Я очнулся где-то совсем в другом мире.
Я парил, а не падал. Первое ощущение, что я в океане, очень соленом океане, плаваю, словно зародыш, в соленом море цвета сепии, затем — осознание, что я в невесомости, нет ни волн, ни течений, и это не вода. Корабль? Нет, я в огромном, пустом, темном, но омываемом светом пространстве — полое яйцо метров пятнадцати в поперечнике, с полупрозрачными стенками, сквозь которые просачивается яркий солнечный свет и виднеется сложная, уходящая вдаль органическая конструкция.
Я вяло шевельнул руками, чтобы потрогать свое лицо, голову, туловище, руки… Я плавал в невесомости, прикрепленный к стенке тоненькой лентой-липучкой. На ногах — никакой обуви, из одежды только мягкий хлопковый костюм странного покроя — больничная пижама, что ли?
Кожа на лице как после солнечного ожога… и еще какие-то незнакомые бугры — возможно, шрамы. Голова обрита наголо, саднящая кожа покрыта свежими рубцами, ухо вроде на месте, но дотрагиваться больно. В тусклом свете я разглядел на руках несколько шрамов. Подтянув брючину, осмотрел изувеченную в поединке ногу — цела и невредима. Пощупал ребра: ноют, но целы. Выходит, я побывал-таки в ячейке автохирурга.
Наверное, я произнес это вслух, потому что темная фигура, парившая неподалеку, откликнулась:
— В конечном счете можно считать и так, Рауль Эндимион. Правда, некоторые хирургические операции были сделаны по старинке… мной.
Я вздрогнул, отскочив от стены на всю длину привязи.
Темная фигура приблизилась, и я узнал силуэт, волосы и, наконец, голос.
— Рахиль… — с трудом выговорил я.
Подплыв, Рахиль протянула мне пластиковую бутылку. Первые капли шариками запрыгали в воздухе, но я быстро приспособился и выдавил содержимое в рот — восхитительный вкус. Что может быть вкуснее холодной воды?
— Ну разумеется, тебя две недели держали на внутривенных вливаниях, — сообщила Рахиль, — но пить самому — это совсем другое дело.
— Две недели?! — ошарашенно переспросил я. — А Энея? Она… они…
— Все в порядке. Энея сейчас занята. Эти две недели она почти все время была здесь, рядом с тобой… ухаживала за тобой… А когда ей необходимо было отлучиться, с тобой оставалась я.
Ничего не понимая, я уставился на полупрозрачную стену. Одна яркая звезда, совсем не такая, как гиперионское солнце. Странная конструкция простирается во все стороны.
— Где я? Как мы сюда попали?
— Сначала я отвечу на второй вопрос, — улыбнулась Рахиль. — Ответ на первый ты увидишь сам через пару минут. Это Энея заставила корабль прыгнуть сюда. Отец капитан де Сойя, сержант Грегориус и офицер Карел Шан знали координаты этой звездной системы. Они были без сознания, но их бывший пленник Хог Жабер знал, где спрятано это место.
Я снова устремил взгляд сквозь стену. Конструкция просто-таки чудовищна — свето-теневая пространственная решетка простирается во всех направлениях. Как можно спрятать такую громадину? И кто ее спрятал?
— А как мы добрались до точки перехода? — прохрипел я, проглотив еще пару шариков воды. — Мне казалось, что корабли Флота вот-вот нас настигнут.
— Так и было. Мы бы точно не успели добраться до точки перехода, они бы нас уничтожили. Кстати, тебе больше незачем висеть на привязи. — Она оторвала липучку, и я поплыл свободно. Даже в невесомости я чувствовал ужасную слабость.
Развернувшись так, чтобы видеть лицо Рахили, я спросил:
— Так как же мы проскочили?
— А мы просто не переходили. Энея направила корабль к той точке в космосе, из которой мы телепортировались прямо в эту систему.
— Телепортировались?! Там был действующий космический нуль-портал?! Вроде тех, через которые перемещались корабли Гегемонии? А я-то думал, после Падения им настал конец.
— Не было там никакого портала, — уточнила Рахиль. — Просто некая точка пространства в паре сотен тысяч километров от второй луны. Гонка была на славу… Имперские корабли вызывали нас и грозили открыть огонь. В конце концов они так и поступили. Лазерные пучки устремились к нам со всех сторон… От нас не осталось бы даже обломков — только газовое облако, — но тут мы достигли указанной точки и вдруг оказались… тут.
Я не стал снова спрашивать «Где этот тут?», а подплыл к вогнутой стене. На ощупь она оказалась теплой, шершавой и живой. Стенка поглощала изрядную часть спектра, и разглядеть что-либо сквозь нее было трудно — только сияющую звезду да намек да невероятную конструкцию.
— Готов увидеть «где»? — спросила Рахиль.
— Ага.
— Кокон, прозрачную поверхность, пожалуйста.
И вдруг преграда между мной и пространством исчезла. Я чуть не завопил от ужаса, дрыгая руками и ногами в попытке найти опору. Рахиль подлетела и твердой рукой остановила меня.
Мы в космосе. Окружающий кокон исчез. Мы парили в космосе — да-да, именно парили в космосе… вот только у нас был воздух для дыхания и находились мы на самом конце ветки…
«Дерево» — слово малоподходящее. Мне довелось повидать много деревьев на своем веку. Ничего похожего.
Я много слышал о деревьях тамплиеров, видел пень Мирового Древа на Роще Богов, слышал о километровых кораблях-деревьях, странствовавших среди звезд во времена Мартина Силена.
Но это не было ни Мировым Древом, ни кораблем-деревом.
Я слышал безумные легенды (вообще-то от Энеи, так что вряд ли это были легенды) о кольцевом дереве — фантастическом кольце живой материи вокруг звезды типа Солнца Старой Земли. Как-то раз я попытался прикинуть, сколько живой материи может быть в таком кольце, и решил, что все это чушь.
Но это было даже не кольцо.
Вогнутая поверхность была повсюду. Мой разум, привыкший к планетарным масштабам, отказывался осмыслить всю эту конструкцию — ветвящаяся, переплетающаяся сфера из живой растительной материи, поперечник стволов достигает десятков и даже сотен километров, ветви раскидываются на сотни километров, каждый листок размером со стадион, корни тянутся на сотни, нет… тысячи километров в космос — перевитые, сплетающиеся ветви протянулись во всех направлениях — и вовне, и внутрь сферы, стволы длиной с реку Миссисипи Старой Земли кажутся издали крохотными прутиками, деревья, сравниваемые с моим родным континентом Аквилой на Гиперионе, образуют сплошную зеленую массу, равномерное вогнутое поле — везде, и спереди, и сзади, и с боков, и даже над головой… Правда, кое-где — черные прорехи величиной с планету, но даже они заплетены сетью ветвей, корней и мириадов листьев, которые тянутся к звезде, полыхающей в центре…
Я прикрыл глаза:
— Так не бывает.
— Бывает, как видишь, — сказала Рахиль.
— Бродяги?
— Да, — ответила подруга Энеи, дитя из «Песней». — И тамплиеры. И эрги. И… иные. Оно живое, эта конструкция… наделена разумом.
— Невероятно… Такую… и за миллионы лет не вырастишь. Такую… сферу.
— Биосферу, — с улыбкой подсказала Рахиль.
— Биосфера — слишком устаревший термин, — покачал я головой. — Это просто замкнутая экосистема планеты.
— Это и есть биосфера. Только тут нет планет. Кометы есть, — указала Рахиль, — но ни одной планеты.
Далеко-далеко, наверное, в сотнях тысячах километров от нас, где живая сфера виднелась неясным маревом даже в абсолютной прозрачности вакуума, сквозь черную прореху в переплетении стволов мелькнул длинный белый росчерк.
— Комета, — тупо повторил я.
— Для полива. Им приходится использовать миллионы комет. К счастью, в здешнем облаке Оорта комет миллиарды. И миллиарды в поясе Койпера.
Теперь я разглядел и другие белые точки и за ними длинные сияющие хвосты. И вот некоторые из них пролетели среди ветвей и листьев, дав мне приблизительное представление о масштабах этой биосферы. Траектории комет проложены через дыры в растительной массе. Если это действительно сфера, кометы должны шнырять сквозь живой шар туда-сюда. Какая же нужна самонадеянность, чтобы отважиться создать подобное?!
— А что это за штука, в которой мы находимся? — спросил я.
— Атмосферный кокон, — пояснила Рахиль. — Жилой пузырь. Конкретно этот был сформирован для медицинских нужд и не только следил за внутривенными капельницами, твоей жизнедеятельностью и регенерацией тканей, но и заодно производил многие медикаменты и прочие препараты.
— А какой он толщины? — Я коснулся почти идеально прозрачного материала.
— Около миллиметра, но довольно прочный. Способен выдержать соударение с большинством микрометеоритов.
— И где только Бродяги раздобыли такой материал?
— Они модифицировали генный код, и он вырос сам. Ты не против повидаться с Энеей? Кстати, тут с тобой многие хотели познакомиться. Все с нетерпением ждут, когда ты придешь в себя.
— Я готов, — откликнулся я и тут же поспешно добавил: — Нет! Рахиль…
Она остановилась и выжидательно посмотрела на меня. Только тут я заметил, как сияют ее глаза в этом изумительном свете. Почти как у моей Энеи.
— Рахиль… — начал я неуклюже. Она терпеливо ждала, слегка придерживаясь за прозрачную стену. — Рахиль, мы с тобой толком ни разу не поговорили…
— Ты ведь меня недолюбливал, — усмехнулась она.
— Неправда… то есть правда, в каком-то смысле… но это потому, что я поначалу многого не понимал. Пока меня не было, для Энеи прошло пять лет… Мне не так-то просто было принять все как есть… Наверно, я просто ревновал.
— Ревновал? Как это, Рауль? Ты что, считал, что мы с Энеей… пять лет, пока тебя не было… были любовницами, так что ли?
— Ну-у, нет… То есть не знаю…
Рахиль жестом остановила меня, избавляя от дальнейших объяснений.
— Никогда этого не было. Энее подобное даже в голову бы не пришло. Может, Тео какое-то время и тешила себя подобной иллюзией, но она с самого начала знала, что и мне, и Энее предназначено любить определенных мужчин.
Я вытаращился на нее. «Предназначено?»
Рахиль снова улыбнулась. Я без труда вообразил эту улыбку на лице дочери Сола Вайнтрауба из «Песней».
— Не волнуйся, Рауль. Я знаю наверняка, что Энея никого не любила, кроме тебя. Даже когда была совсем маленькой. Даже до встречи с тобой. Ты всегда был ее избранником. — В ее улыбке чувствовалась горечь. — Мы все должны чувствовать себя просто счастливчиками.
Я открыл было рот, но так ничего и не сказал.
Улыбка Рахили погасла.
— А-а, она сказала тебе про год, одиннадцать месяцев, неделю и шесть часов?
— Да. И о том, что у нее есть… — Я прикусил язык: не хотелось показывать свою слабость.
— Ребенок? — подсказала Рахиль.
Я пристально вглядывался в ее лицо, словно надеялся прочесть ответ.
— Энея рассказала тебе об этом? — Я понимал, что, пытаясь выудить информацию, я совершаю что-то вроде предательства, но остановиться уже не мог. — Ты знала, что тогда…
— Где она была? — Рахиль ответила мне не менее пристальным взглядом. — Что с ней было? Что она вышла замуж?
У меня хватило сил только кивнуть.
— Да, — сказала Рахиль. — Мы знали.
— Ты была с ней там?
Рахиль помедлила, словно взвешивая ответ, и наконец сказала:
— Нет. А.Беттик, Тео и я дожидались ее возвращения почти два года. Мы несли ее… послание? Миссию?.. В общем, пока ее не было, мы распространяли ее учение, пересказывая людям некоторые ее уроки, находили желающих причаститься, чтобы они были готовы, когда она вернется.
— Значит, вы знали, когда она вернется?
— Да. С точностью до дня.
— Откуда?
— Именно тогда она и должна была вернуться. Она взяла все время до последней минуты, все, что удалось выкроить, не поставив под удар свою миссию. Еще день, и за нами пришли бы… и схватили бы всех, если б Энея не вернулась, как и обещала, и не телепортировала нас оттуда.
Я кивнул, но мысль о преследователях как-то не тронула меня.
— А ты встречала… его? — спросил я, пытаясь говорить небрежно. Но Рахиль сохраняла серьезность.
— То есть отца ее ребенка? Мужа Энеи?
Я понимал, что Рахиль не хочет сделать мне больно, но ее слова ранили меня больнее когтей Немез.
— Да. Его.
— Никто из нас не встречал его, когда она ушла, — покачала головой Рахиль.
— Но ты хоть знаешь, почему она избрала его отцом своего ребенка? — не унимался я, чувствуя, что вхожу в роль Великого Инквизитора, оставленного нами на Тянь-Шане.
— Да. — Рахиль попыталась что-то передать мне взглядом, но не добавила больше ничего.
— Это как-то связано с ее… ее миссией? — сдавленно пробормотал я. — Она должна была так поступить?.. У нее была причина, чтобы родить ребенка? Ну скажи хоть что-то, Рахиль!
Она сжала мне руку:
— Рауль, ты же знаешь, что Энея сама тебе все объяснит, когда настанет время.
Я вырвался:
— Когда настанет время!.. Господи Иисусе Христе, эта фраза у меня уже в печенках сидит! Мне тошно ждать.
— Тогда призови Энею к ответу, — пожала плечами Рахиль. — Пригрози отлупить ее, если не скажет. Ты же исколошматил эту тварь Немез… а уж Энею-то и подавно прибьешь. — Я зарычал. — Нет, Рауль, серьезно, это ваше личное дело с Энеей. Я знаю одно: она всегда говорила только о тебе, ни о ком другом, и, насколько мне известно, одного тебя и любила всю жизнь.
— Откуда тебе знать… — начал было я, но тут же осекся и неуклюже похлопал ее по руке, завертевшись от этого движения вокруг своей оси. В невесомости трудно оставаться рядом с человеком, не держась за него. — Спасибо тебе, Рахиль.
— Ты готов увидеться с остальными?
Я попробовал успокоиться.
— Почти. Нельзя ли сделать поверхность этого кокона зеркальной?
— Кокон, прозрачность девяносто процентов. Высокое альбедо внутри, — распорядилась Рахиль. — Хочешь прихорошиться перед свиданием?
Стена стала зеркальной, как спокойная гладь пруда — зеркало не идеальное, но вполне сносное. И в этом зеркале я увидел Рауля Эндимиона с багровыми шрамами на лице и голом черепе — розовом, как кожа младенца, — с поблекшими следами синяков и припухлостей под глазами и худого… Неимоверно худого. Скелет, обтянутый кожей. И взгляд какой-то другой.
— Господи Иисусе Христе! — повторил я.
— Автохирург хотел задержать тебя еще на неделю, — Рахиль сделала ладонью неопределенный жест, — но Энея не хотела ждать. Рубцы рассосутся — со временем. Внутривенные вливания кокона содержали стимулятор регенерации. Волосы отрастут недели через две-три стандартного времени.
Я потрогал свой череп. Все равно что шлепать по тугой розовой попке младенца.
— Две-три недели? Отлично. Ничего не скажешь — просто здорово.
— Да ты не переживай, — утешила меня Рахиль. — По-моему, так даже симпатичнее. На твоем месте, Рауль, я бы так и ходила. К тому же я слышала, что Энея питает слабость к старичкам. А сейчас ты явно выглядишь намного старше.
— Спасибо.
— Пожалуйста. Кокон, открой диафрагму! Доступ в главный стволовый коридор.
Рахиль оттолкнулась от стены и проплыла сквозь круглое отверстие диафрагмы.
Как только я влетел в комнату — в кокон, — Энея обняла меня так крепко, что затрещали едва сросшиеся ребра. Я ответил ей таким же объятием.
Но сначала было долгое путешествие по стволовому коридору: если тебя не пугает полет по гибкой, прозрачной, двух метров в диаметре трубе со скоростью шестьдесят километров в час, разогнаться в струях кислорода, текущих в обе стороны, дело нехитрое. Мимо нас беззвучно проносились люди — почти все очень худые, лысые и слишком высокие. Потом пошли радиальные коконы — там нас разгоняло еще сильнее, и мы неслись как корпускулы, сквозь желудочки и предсердия колоссального сердца. Мы кувыркались, выравнивались, уклонялись от столкновения с встречными, ныряли в какие-то бесчисленные проемы, ведущие в новые стволовые коридоры. Очень скоро я полностью утратил всякую ориентацию, но Рахиль, видимо, ориентировалась прекрасно — как оказалось, по цветовым маркировкам.
Мы влетели в небольшой кокон, народу там было полно. Все устроились на сиденьях-липучках. Я увидел Энею, А.Беттика, Тео, Дорже Пхамо и Лхомо Дондруба. Отец капитан де Сойя уже оправился от страшных ожогов и был в подобающем священнику облачении, сержант Грегориус — в полевой форме швейцарских гвардейцев. Были тут и Бродяги, и тамплиеры в клобуках. А еще были те, о ком я много слышал и кого даже не думал увидеть здесь и сейчас, — Истинный Глас Древа Хет Мастин и Федман Кассад, полковник войск Гегемонии. Для меня эти люди были не просто герои «Песней», нет, скорее, я воспринял их как ожившую мифологему, ведь я был уверен, что они давно умерли — если вообще когда-то существовали.
И наконец, в этом коконе находились и те, кого уж никак не назовешь людьми — гибкие зеленые существа, — ЛЛееоонн и ООээалл — как их представила Энея, двое из немногих уцелевших эмпатов-сенешаи с Хеврона — разумная раса иных. Кожа у них была цвета молодой зелени, тела настолько тонкие, что запросто можно обхватить двумя пальцами, но симметрия вполне привычная — две руки, две ноги, голова, плавные, текучие линии конечностей, предполагающие полное отсутствие костей и суставов, между пальцами перепонки, совсем как у лягушки, голова — как у человеческого зародыша, а глаза — чуть более темные углубления на зеленом лице.
В первые годы Хиджры считали, что сенешаи вымерли. Они тоже были для меня легендой, еще более легендарной, чем Кассад или Хет Мастин.
Когда нас знакомили, одна из этих зеленых легенд провела своей трехпалой лапкой по моей ладони.
Но были там и другие — не люди, не Бродяги, не андроиды.
Возле прозрачной стены кокона парили некие подобия больших зеленовато-белых, мягких, желеобразных тарелок двух метров в поперечнике. А ведь я уже видел их — на облачной планете, где меня заглотила небесная каракатица.
Не заглотила, месье Эндимион, — запульсировало у меня в голове, — а доставила и транспортировала.
Телепатия? — подумал я, отчасти направив этот вопрос летающим тарелкам, вспомнив, как я впервые услышал мыслеречь облачной планеты и как гадал тогда, откуда она взялась.
Мне ответила Энея:
— Эта речь воспринимается как телепатия, но в этом нет никакой мистики. Акератели изучили наш язык старомодным способом — их симбиоты-цеппелины способны воспринимать наши звуковые вибрации, акератели накопили их и проанализировали. Они управляют цеппелинами с помощью направленных микроволновых импульсов…
— Это цеппелин проглотил меня на облачной планете? — перебил я.
— Да.
— Вроде цеппелинов на Вихре?
— Да, и в юпитерианской атмосфере тоже.
— А я-то думал, в самом начале Хиджры охотники перестреляли их всех до единого.
— На Вихре их истребили под корень, — сказала Энея. — И еще до Хиджры — на Юпитере. Но ты летел в каяке не на Юпитере и не на Вихре, а на газовой планете-гиганте с кислородной атмосферой в шестистах световых годах от Окраины.
— Извини, что перебил. Ты говорила о микроволновых импульсах…
Энея отмахнулась с грациозной небрежностью.
— Да просто они управляют действиями своих симбиотических партнеров-цеппелинов при помощи микроволновой стимуляции определенных нервных и мозговых центров. Мы позволили акератели стимулировать наши речевые центры, чтобы мы «слышали» их речи. По-моему, для них это все равно что играть на рояле…
Я понимающе кивнул, хотя, если честно, так ничего и не понял.
— Акератели тоже раса звездоплавателей, — подхватил отец капитан де Сойя. — Они уже освоили более десяти тысяч газовых гигантов с кислородной атмосферой.
— Десять тысяч! — выдохнул я. Тут есть чему удивляться — ведь за тысячу двести лет космических путешествий человечество исследовало и заселило в десять раз меньше планет, да и то — вряд ли.
— Акератели занимаются этим несколько дольше нас, — сказал де Сойя.
Я оглянулся на мягко вибрирующие тарелки, но не обнаружил на них ни глаз, ни ушей. Интересно, они нас слышат? Должно быть, слышат, ведь один из них откликнулся на мои мысли.
Пока я изучал тарелки, беседа, прерванная нашим появлением, возобновилась.
— Разведданные вполне надежны, — сказал Бродяга. Позже я узнал, что его зовут Навсон Хемним. — В системе Лакайль-9352 собралось не менее трехсот кораблей класса «архангел». На каждом — по рыцарю крестоносцу. Они наверняка затевают серьезный крестовый поход.
— Лакайль-9352… — задумчиво протянул де Сойя. — Горечь Сибиату. Знаю я это место. Когда собраны разведданные?
— Двадцать часов назад. Присланы на единственном уцелевшем у нас авизо с двигателем Гидеона. Из трех авизо, захваченных вами во время набегов, два подбиты. Мы уверены, что разведывательное судно, выславшее сведения, было обнаружено и уничтожено через несколько секунд после отправки курьера.
— Триста «архангелов»… — повторил де Сойя, потирая подбородок. — Если им известно, что мы всё знаем, они могут совершить гипер-скачок в нашу систему в самые ближайшие дни, даже часы. Допустим, на воскрешение два дня… Итого, у нас на приготовления менее трех суток. Оборону за время моей отлучки не усовершенствовали?
Другой Бродяга, Систинж Кордуэлл, беспомощно развел руками, и я заметил перепонки между его длинными пальцами.
— Большинство боевых кораблей вынуждены были совершить скачок к Великой Стене, чтобы дать отпор их оперативно-тактической группе «Конская голова». Там идут очень тяжелые бои. Видимо, вернуться сумеют немногие.
— А в разведданных не сказано, знает ли Церковь, что у вас здесь? — спросила Энея.
Теперь руками развел Навсон Хемним, почти в точности повторив жест Кордуэлла.
— Нам кажется, что нет. Но они знают, что здесь центр подготовки последних оборонительных мероприятий. Я бы рискнул предположить, что они рассчитывают обнаружить просто-напросто очередную базу… Скажем, с частично кольцевым орбитальным лесом.
— А мы никак не можем остановить крестовый поход, пока Флот еще не совершил сюда скачок? — Вопрос Энеи был обращен ко всем присутствующим.
— Нет, — резко произнес полковник Федман Кассад, высокий, поджарый и мускулистый, с тоненькими усиками и бородкой. В его стандартном английском отчетливо слышался какой-то непривычный акцент. В «Песнях» Кассад описан довольно молодым человеком, но сейчас ему было около шестидесяти стандартолет, вокруг тонкогубого рта и маленьких темных глаз залегли глубокие морщины, темная кожа загорела дочерна — то ли под жарким солнцем пустыни, то ли от космического ультрафиолета, — подстриженные бобриком волосы торчали как короткие серебряные гвозди.
— С уничтожением корабля де Сойи, — пояснил полковник, — мы лишились возможности устраивать короткие диверсионные набеги. Тем немногим боевым звездолетам с двигателем Хоукинга, которые у нас есть, потребуется не менее двух месяцев объективного времени для прыжка к Лакайлю-9352 и обратно. К тому времени «архангелы» крестоносцев уже успеют прилететь и улететь… а мы будем совершенно беззащитны.
Навсон Хамним оттолкнулся от стены кокона, подлетел к Кассаду и спокойно сказал:
— Эти несколько боевых кораблей все равно не смогут защитить нас. — В его речи слышалась скорее напевность, чем акцент. — Не лучше ли атаковать и погибнуть?
— По-моему, лучше не погибать, — усмехнулась Энея. — И не позволить погубить биосферу.
Положительные чувства, — прозвучал голос у меня в голове. — Но не все положительные чувства поддерживаются восходящим потоком возможных действий.
— Верно, — Энея посмотрела на тарелки, — но, может быть, на этот раз восходящий поток придет.
Попутного ветра, — произнес голос.
Тарелки переместились к стене, диафрагма перед ними открылась, и они исчезли.
Энея устало вздохнула:
— Может, встретимся через семь часов на «Иггдрасиле», вместе пообедаем и продолжим дискуссию? Вдруг кого-нибудь осенит.
Спорить никто не стал. Люди, Бродяги и сенешаи двинулись на выход через два десятка отверстий, которых еще мгновение назад и в помине не было.
И вот тогда-то Энея подплыла ко мне и сжала меня в объятиях. Я погладил ее по волосам.
— Милый, — тихонько позвала она. — Пойдем со мной.
Мы оказались в ее жилом коконе — нашем жилом коконе, — очень похожем на тот, в котором я очнулся, но оборудованном органическими полками, нишами, конторками, шкафчиками и разъемами для интерфейса комлога. Мои вещи с корабля были аккуратно сложены в шкафчике, а запасные ботинки ждали в фиберпластиковом ящике.
Энея вытащила из холодильника продукты и стала делать сандвичи.
— Ты, наверное, проголодался, милый. — Она быстро нарезала хлеб, на столике-липучке оказался овцекозий сыр, фасованные ростбифы (наверное, с корабля), пластиколбы с горчицей и несколько кружек тянь-шаньского рисового пива. И тут я понял, что голоден как волк.
Покончив с приготовлением сандвичей, Энея пристроила их на тарелки-ловушки из какой-то прочной древесины, взяла свою долю и колбу с пивом и толчком перенеслась к стене, где появился портал и диафрагма начала открываться.
— Э-э… — вскинулся я, собираясь сказать что-то вроде: «Прости, Энея, но там космос. Нам обоим грозит взрывная декомпрессия и жуткая смерть».
Но Энея уже вылетела наружу, и мне оставалось только последовать за ней…
…Галереи, подвесные мостики, лестницы-липучки, балконы и террасы, сделанные из крепкого, как сталь, растительного волокна, вьющиеся вокруг коконов, стеблей, веток и стволов, будто плющ. А еще воздух, напоенный ароматом леса после дождя.
— Силовые поля, — сказал я, подумав, что этого следовало ожидать. В конце концов у древнего звездолета Консула ведь есть балкон… Я огляделся. — А источник энергии? Солнечные батареи?
— В каком-то смысле. — Энея уже присмотрела для нас скамейку-липучку и циновку. Крохотный, затейливо свитый балкон был вообще без перил. Огромная, не меньше тридцати метров в диаметре ветвь оканчивалась над нами пышной лиственной кроной, а вязь стволов и ветвей под нами убеждала мой вестибулярный аппарат, что мы находимся на многокилометровой стене, сделанной из перекрещивающихся зеленых бревен. Я не без труда подавил желание броситься на липучую циновку и вцепиться в нее мертвой хваткой. Мимо пролетел радужный паутинник, за ним — какая-то мелкая птаха с раздвоенным хвостом.
— В каком это смысле? — пережевывая огромный кусок сандвича, поинтересовался я.
— Солнечный свет, то есть изрядная его часть, преобразуется эргами в силовые поля. — Энея отхлебнула пива, устремив взгляд на бескрайнее пространство листьев, окружавшее нас со всех сторон. Для голубых небес воздуха было маловато, но силовое поле поляризовало свет, ослабляя настолько, что можно было посмотреть на звезду, не боясь ослепнуть.
Я чуть не подавился:
— Эрги? Как в альдебаранских энергонакопителях? Эрги вроде того, что был в последнем гиперионском паломничестве?
— Да.
— А я думал, они вымерли.
— Не-а.
Сделав большой глоток пива из пластиколбы, я тряхнул головой.
— Ничего не понимаю.
— Это неудивительно, — улыбнулась Энея.
— Это место… Такое невозможно.
— Не совсем так. Тамплиеры и Бродяги трудились над этой биосферой — и другими такими же — тысячу лет.
Я с аппетитом жевал сандвич. Сыр и ростбиф — просто восхитительны.
— Так вот куда подевались тысячи и тысячи деревьев с Рощи Богов!
— Некоторые. Но тамплиеры вместе с Бродягами занимались созданием орбитальных кольцевых лесов и биосфер задолго до этого.
Я все смотрел и смотрел вдаль, пока у меня не закружилась голова. Такое ощущение, что мы висим на маленькой лиственной платформе над тысячами километров пустоты. Далеко внизу двигался какой-то крохотный зеленый прутик. Заметив радужную энергетическую оболочку, я понял, что вижу легендарный дерево-звездолет тамплиеров.
— Так она закончена? Это настоящая сфера Дисона? Шар вокруг звезды?
— До шара еще далеко, — покачала головой Энея, — хотя лет двадцать назад все это наконец-то связали в единую сеть. Технически — это сфера, но на данный момент она в основном состоит из дыр — некоторые диаметром в несколько миллионов километров.
— Фантастика! — Я потер щеку: щетина здорово уже отросла. — Значит, я был в отключке две недели?
— Пятнадцать стандартных дней.
— Обычно автохирург справляется быстрее. — Покончив с сандвичем, я прилепил тарелку к столику и взялся за пиво.
— Обычно — да, — согласилась Энея. — Рахиль, наверное, тебе сказала, что ты провел в автохирурге не так уж много времени. Почти все неотложные операции она сделала сама.
— Почему?
— В хирурге не было мест. Мы вывели тебя из фуги, как только прилетели, но трем пациентам автохирург был нужнее. Де Сойя целую неделю находился между жизнью и смертью. Сержант Грегориус был очень тяжело ранен… А третий офицер, Карел Шан, умер, не помогли все усилия автохирурга и врачей Бродяг.
— О черт… — Я опустил пиво. — Очень жаль.
Я как-то привык думать, что автохирург способен излечить все.
Энея посмотрела на меня так пристально, что я кожей ощутил тепло ее взгляда, словно лучи полуденного солнца.
— Как ты себя чувствуешь, Рауль?
— Великолепно. Кое-где немного побаливает. Ребра ноют. Шрамы зудят. И вообще, ощущение такое, будто я заспался на две недели… но чувствую себя хорошо.
Энея взяла меня за руку. В глазах ее блестели слезы.
— Для меня… твоя смерть… это было бы крушение всего, — помолчав, с трудом проговорила она.
— Для меня тоже. — Я пожал ей руку, поднял взгляд… И подскочил, послав пластиколбу в пространство и едва не последовав за ней. Удержали меня лишь липучие подошвы моих легких туфель. — Черти-дьяволы!
Издали существо напоминало каракатицу всего метров двух длиной, но я уже немного пообвыкся со здешними масштабами и знал, что это не так.
— Самый обыкновенный цеппелин, — объяснила Энея. — Для ухода за биосферой акератели используют десятки тысяч цеппелинов. Они не выходят за пределы воздушного купола.
— Он меня не съест?
— Вряд ли, — хмыкнула Энея. — Тот, что тебя заглотил, сообщил остальным, что ты малосъедобен.
Оглядевшись в поисках пива, я увидел колбу, кувыркающуюся метров на сто ниже, хотел было прыгнуть за ней, но вовремя одумался и сел на скамейку. Энея протянула мне свою колбу.
— Бери, там немного осталось. Еще вопросы?
— Ну, тут целая толпа вымерших, мифических и покойных личностей. Может, растолкуешь, как это получилось?
— Под вымершими ты подразумеваешь цеппелинов, сенешаи и тамплиеров?
— Ага. И эргов… хотя этих-то я пока ни одного не видел.
— Тамплиеры и Бродяги делали все возможное, чтобы спасти истребляемые разумные виды, как колонисты Мауи-Обетованной — дельфинов Старой Земли. Сначала от первых колонистов Хиджры, потом от Гегемонии, теперь — от Священной Империи.
— А мифические и покойные?
— Полковник Кассад?
— И Хет Мастин. А кстати — и Рахиль. Такое впечатление, что действующие лица чертовых гиперионских «Песней» заявились сюда всей толпой.
— Не совсем, — тихо и немного печально сказала Энея. — Консул мертв. Отцу Дюре даже не дали пожить. И мамы уже нет.
— Извини, детка…
Она снова погладила меня по руке.
— Ничего. Я понимаю, что ты имеешь в виду…
— А ты была раньше знакома с полковником Кассадом и Хетом Мастином?
Энея покачала головой:
— Конечно, мама мне о них рассказывала… Но они ушли еще до моего рождения.
— Ушли… — повторил я. — А разве не умерли?
Я принялся старательно вспоминать строфы «Песней». Согласно рассказу старого поэта, тамплиер Хет Мастин, Истинный Глас Древа, пропал во время путешествия через гиперионское Травяное море, вскоре после того как его звездолет-древо «Иггдрасиль» сгорел на орбите. Кровь в каюте тамплиера наводила на мысль, что это дело рук Шрайка. Он оставил эрга в кубе Мебиуса. Позже Хета Мастина нашли в Долине Гробниц Времени. Объяснить свое отсутствие он был не в состоянии — сказал лишь, что кровь в каюте принадлежала не ему, а потом еще что-то — про Древо Боли, — и умер.
Полковник Кассад исчез примерно в то же время, вскоре после вступления в Долину Гробниц Времени, но, согласно «Песням» Мартина Силена, полковник последовал за своей призрачной возлюбленной Монетой в далекое будущее, где и погиб в битве со Шрайком. Закрыв глаза, я начал неспешно декламировать:
Когда все кончилось, Монета с горсткой уцелевших Избранных Воинов отыскала Кассада на кровавом жнивье. Они осторожно извлекли его из смертельных объятий искореженного Шрайка, омыли и обрядили истерзанное тело и понесли сквозь расступающуюся толпу к Хрустальному Монолиту. Там тело полковника опустили на возвышение из белого мрамора, сложив оружие в ногах. Перед Гробницей запылал огромный костер, и во все уголки долины двинулись мужчины и женщины с факелами в руках. Все новые и новые люди спускались с лазурного неба — на хрупких с виду летательных аппаратах, напоминавших мыльные пузыри, на энергетических крыльях, на зеленых и золотых светящихся кольцах. Позже, когда над озаренной кострами долиной засверкали холодные звезды, Монета простилась со всеми и вошла в Сфинкс. Люди запели. На поле битвы среди изорванных знамен и изрубленных панцирей, обломков клинков и оплавленных кусков металла шныряли мелкие грызуны. К полуночи пение прекратилось. Толпы провожающих, затаив дыхание, отпрянули назад. Гробницы Времени засветились. Яростный антиэнтропийный прилив отбросил людей к воротам долины, к сияющему в ночи городу. А огромные Гробницы Вдруг задрожали, свежая позолота потемнела, стала бронзовой. И они начали свой долгий путь в прошлое.— Потрясающая память, — заметила Энея.
— Если я что-нибудь путал, то получал от бабушки оплеуху. Не уклоняйся от темы. Я полагал, что тамплиер и полковник умерли.
— Они умрут. Как и все мы, — ответила Энея. Я молча ждал, когда она выйдет из своей дельфийской фазы. — В «Песнях» говорится, что Шрайк унес Хета Мастина куда-то… в когда-то. Потом, после возвращения, он умер в Долине Гробниц Времени. В поэме не сказано, отсутствовал он один час или тридцать лет. Дядя Мартин просто не знал этого.
— А полковник Кассад, детка? — Я искоса поглядел на нее. — О нем в «Песнях» говорится довольно недвусмысленно. Полковник следует за Монетой в далекое будущее, вступает в битву со Шрайком…
— С легионами Шрайков, — поправила меня Энея.
— Ага. — Этого я никогда толком не понимал. — Но все происходит довольно связно… Он следует за ней, сражается, умирает, его тело кладут в Хрустальный Монолит, и оно вместе с Монетой отправляется в долгое обратное странствие сквозь время.
— Вместе со Шрайком, — кивнув, улыбнулась Энея.
Я пришел в замешательство. Шрайк вышел из Гробниц… Монета каким-то образом путешествовала вместе с ним… так что, хотя в «Песнях» ясно сказано, что Кассад уничтожил Шрайка в той великой последней битве, монстр каким-то образом остался в живых и вместе с Монетой и телом Кассада отправился обратно сквозь…
Проклятие! А на самом ли деле поэт говорит, что Кассад мертв?
— Понимаешь, дяде Мартину приходилось заимствовать некоторые части повествования, — сказала Энея. — Рахиль ему кое-что описала, но он счел допустимой поэтической вольностью по-своему трактовать то, чего не понял.
— Угу… — протянул я.
Рахиль. Монета. В «Песнях» ясно сказано, что девочка Рахиль, отправившаяся в будущее со своим отцом Солом, вернется женщиной Монетой. Призрачной возлюбленной полковника Кассада. И за этой женщиной он последует в будущее навстречу гибели…
А что мне сказала Рахиль несколько часов назад, когда я признался, что ревную Энею к ней? «Так уж получилось, что я влюблена в одного солдата… мужчину… Ты сегодня с ним познакомишься. То есть я буду в него влюблена. В общем… черт, это слишком запутанно».
Вот уж действительно. Сердце у меня мучительно сжалось.
— На самом деле все куда сложнее, — откликнулась Энея.
— Может, все-таки попробуешь объяснить?
— Да, но…
— Знаю. Как-нибудь в другой раз.
— Да. — Энея накрыла мою ладонь своей.
— А что, что-нибудь мешает нам поговорить сейчас?
— Нам пора уйти в свой кокон и сделать стены непрозрачными.
— В самом деле?
— Да.
— И что потом?
— А потом, — Энея воспарила над ковриком и потянула меня за собой, — мы долгие часы будем любить друг друга.
Глава 25
Отсутствие тяжести. Невесомость.
Я и не знал, как это бывает.
Стены кокона полупрозрачные, как пергамент, просачивается внутрь карминный сумрак, словно последний отблеск заката. И опять то же ощущение, что я в чьем-то теплом сердце. И в который раз пришло осознание, что мое сердце принадлежит Энее.
Поначалу это было как медосмотр — Энея бережно снимала с меня одежду, проверяла заживление хирургических швов, нежно касалась сросшихся ребер, проводила ладонью вдоль позвоночника.
— Мне надо побриться, — сказал я. — И принять душ.
— Чепуха, — шепнула любимая. — Я каждый день обмывала тебя губкой и устраивала акустический душ. Ты идеально чист, мой дорогой. А борода мне нравится. — Кончиками пальцев она провела по моей щеке.
Мы парили над мягкими, закругленными шкафчиками. Я помог Энее снять рубашку, брюки, белье. Каждую вещь она швыряла в шкафчик, потом захлопнула дверцу, пнув босой ногой. Нам вдруг стало очень смешно. Моя рубашка величественно парила в воздухе, лениво помахивая рукавами — будто подавала какие-то таинственные знаки.
— Я поймаю… — начал я.
— Нет. — Энея притянула меня к себе.
Даже целоваться в невесомости надо учиться заново. Волосы Энеи как солнечная корона, ее лицо в моих ладонях… я целую губы, глаза, щеки, лоб… снова губы. Мы кружимся в медленном танце, отскакивая от гладких, мерцающих стен — теплых, как кожа моей возлюбленной.
Поцелуи все настойчивее. Но как только покрепче прижмешься, тебя закручивает вокруг центра масс и вращает все быстрее и быстрее единым клубком сплетенных тел. Не отстраняясь, не прерывая поцелуй, я протянул руку, дождался, пока живая стена окажется рядом, и остановил вращение.
Энея оторвалась от моих губ, запрокинув голову, улыбаясь, смотрела на меня. За десять лет я видел ее улыбку тысячи раз, я изучил все ее улыбки до единой, но это была совсем мне незнакомая улыбка — древняя, загадочная и озорная.
— Не двигайся, — шепнула она и, опираясь на мою руку, перевернулась в пространстве.
— Энея… — только и смог проговорить я, закрыв глаза и безраздельно отдавшись омывающим меня чувствам. Энея обхватила мои колени, притянула к себе.
Ее колени уперлись в мои плечи, бедра мягко ткнулись мне в грудь. Взяв Энею за талию, я притянул ее ближе, прижался щекой… В Талиесин-Уэсте у кухарки была полосатая кошка. Вечерами я сидел в одиночестве на западной террасе, смотрел как заходит солнце, как камни остывают от дневного жара, ждал, когда мы с Энеей сможем уединиться в ее домике, рядом кошка несмело лакает сливки. Сейчас я почему-то вспомнил эту кошку. И тут же все исчезло. Осталось только ошеломительное ощущение, как любимая открывается мне навстречу, солоноватый привкус моря и наши движения в ритме прибоя.
Не знаю, как долго мы так парили. Столь ошеломительный восторг пожирает время. Настоящая близость освобождает от оков пространства-времени: минуты отсчитывал лишь нарастающий пыл страсти и неукротимая жажда еще большей близости.
Энея раздвинула ноги, отодвинулась, выпустила меня губами, но продолжала удерживать рукой. Мы поцеловались, ощутив влагу губ, и Энея крепко обняла меня, шепнув:
— Давай!
Я подчинился.
Если и есть тайна Вселенной, то вот она… эти первые мгновения тепла, проникновения и полного приятия возлюбленной. Мы снова поцеловались, не замечая своих медленных кульбитов. На миг приоткрыв глаза, я увидел, что волосы Энеи развеваются, как плащ Офелии, в окружающем нас море цвета красного вина. Мы словно в самом деле погрузились в морские глубины, обретя в соленой воде невесомую плавучесть, ее тепло — словно надвигающийся прилив, наши движения ритмичны, как прибой, набегающий на песок.
— Ой!.. — выдохнула Энея всего через секунду.
Я прервал поцелуй, чтобы понять, что нас разъединило.
— Закон Ньютона, — шепнул я у ее щеки.
— Сила действия… — тихонечко хмыкнула Энея, держа меня за плечи, как пловец, остановившийся передохнуть.
— …равна силе противодействия… — с улыбкой досказал я, а она опять поцеловала меня и охватила ногами за талию, прошептав:
— Решение.
Ее соски, дразня, касались моей груди.
Она откинулась снова, как пловец, раскинув руки, сплетя пальцы с моими. Мы продолжали медленно вращаться вокруг общего центра масс, медленно кувыркаясь, словно дельфины, совершающие в солнечных глубинах медленные сальто. Но меня больше не интересовала грациозная баллистика нашей близости, я уже не замечал ничего, кроме самой близости. Мы двигались в теплом воздушном море все быстрее.
Через несколько минут Энея выпустила мои руки, выпрямилась, подавшись вперед, все еще кувыркаясь, все еще двигаясь в унисон со мной, вцепилась мне в плечи, поцеловала с лихорадочной поспешностью, отстранилась, порывисто вздохнула и испустила короткий, негромкий крик. В тот же самый миг я ощутил, как ее теплая вселенная смыкается вокруг меня короткими, тяжелыми биениями — общим, единым пульсом предельной близости. Секунду спустя настала моя очередь порывисто вздохнуть и прильнуть к любимой, запульсировав в ней, повторяя как молитву «Энея… Энея…». Мою единственную молитву тогда. Мою единственную молитву теперь.
Мы еще долго парили рядом, даже когда снова стали двумя отдельными индивидуумами. Не расплетая ног, мы продолжали ласкать друг друга. Припав к ее шее, я губами ощутил биение пульса, будто эхо того, что только что было. Энея поглаживала меня по голове.
И в этот миг я понял: какая разница, что было в прошлом? И что будет потом? Нет ничего, есть лишь ее нежная кожа у моих губ, ее рука в моей руке, аромат ее волос, тепло ее дыхания. И это — сатори. И это — истина.
Энея отплыла к шкафу и вернулась с небольшим мягким полотенцем. Мы по очереди отерли пот. Моя рубашка проплыла мимо, помахивая рукавами в легких потоках воздуха. Энея рассмеялась и продолжала вытираться, но это простое действие очень быстро обратилось в нечто иное.
— Ой, — улыбнулась мне Энея. — С чего бы это?
— Закон Ньютона? — подсказал я.
— Не лишено смысла, — прошептала она. — Тогда какова же будет сила противодействия, если я сделаю… вот так?
По-моему, мгновенный результат эксперимента изумил нас обоих.
— У нас еще не один час до встречи на звездолете-дереве, — сказала Энея. Она что-то скомандовала кокону, и вогнутые стены стали совершенно прозрачными. Мы словно парили среди бесчисленных ветвей и листьев-парусов, озаренные с одной стороны светом солнца и погруженные в ночь с другой, где сквозь прозрачную стену виднелись звезды.
— Не беспокойся, — сказала она, — мы все видим, но снаружи стены совершенно непрозрачные. Зеркальные.
— Откуда такая уверенность? — поинтересовался я, целуя ее в шею, губами отыскивая мягкое биение пульса.
— Пожалуй, мы не сможем в этом убедиться, пока не выйдем наружу, — вздохнула Энея. — Вариант проблемы Дэвида Юма.
Я попытался оживить в памяти свои философские чтения в Талиесине, потом вспомнил наши дискуссии о Беркли, Юме и Канте и хмыкнул:
— Есть еще один способ проверки!
— И какой же? — пробормотала она, не открывая глаз.
— Если мы видны снаружи, — провозгласил я, залетая к ней сзади и растирая ей спину, — то не пройдет и получаса, как соберется громадная толпа Бродяг-«ангелов», тамплиеров и кометных фермеров.
— И действительно… — Она по-прежнему не открывала глаз. — А с чего бы это?
Я приступил к демонстрации.
— Ох ты… — выдохнула Энея, широко распахнув глаза.
Боюсь, я шокировал ее.
— Рауль! — шепотом позвала она.
— Хммм? — Я не прерывал своего занятия, закрыв глаза.
— Может, ты и прав насчет зеркальности кокона снаружи, — прошептала она, снова вздохнув, на этот раз глубже.
— Мммхммм?
Ухватив меня за уши, она развернулась, притянула меня к себе и предложила:
— Почему бы нам не сделать его прозрачным снаружи и зеркальным внутри?
Настала моя очередь распахнуть глаза.
— Шучу. — Энея оттолкнулась от вогнутой стены, увлекая меня за собой в центр сферы теплого воздуха.
Вокруг ярко горели звезды.
К обеду на «Иггдрасиле» мы надели строгие черные костюмы. Я ужасно волновался перед посещением легендарного звездолета-дерева и был слегка разочарован, обнаружив, что даже не заметил, как мы перешли из ветвей биосферы в ствол дерева. Лишь когда многосотенная толпа собралась на ряде платформ и открытых коконов, когда дерево отчалило и двинулось прочь от листьев величиной с город, веток-провинций и стволов-континентов, я осознал, что мы на борту звездолета.
В длину «Иггдрасиль» — от кроны до корневой системы, у основания которой бурлила энергия, — пожалуй, чуть больше километра. Благодаря тяге гравитация отчасти вернулась — наверное, всего несколько долей процента от нормальной, но и их после долгого пребывания в невесомости было многовато. Зато она помогала ориентироваться в пространстве, и мы расселись за столиками, глядя друг другу в лицо, а не паря в воздухе в поисках вежливой позы. Вспомнив часы, проведенные наедине с Энеей, я густо покраснел. На многоярусных платформах стояли столики и стулья, а те, кому места не хватило, толпились на шатких подвесных мостиках, протянувшихся от платформ к дальним ветвям, на винтовых лестницах, вьющихся среди ветвей и листвы и опутывающих ствол, как плющ, или устроились на лианах и в лиственных беседках среди ветвей.
Нас с Энеей усадили за центральный круглый стол вместе с Истинным Гласом Древа Хетом Мастином, лидерами Бродяг, четырьмя десятками тамплиеров, беженцами с Тянь-Шаня… Я сидел от Энеи по левую руку. Справа от нее находились самые высокопоставленные тамплиеры. Даже сейчас я помню имена тех, кто сидел с нами за центральным столом.
Кроме капитана дерева-звездолета Хета Мастина, тут был Кет Ростин — Истинный Глас Звездного Древа, первосвященник Мюира, глава Братства тамплиеров. Систинж Кордуэлл и Навсон Хемним — длинные и худые, воплощенный архетип Бродяги, Ам Чипета и Кент Куинкент — по-моему, супружеская пара, — немного пониже ростом, чуточку потемнее, с темными живыми глазами и без перепонок между пальцев; Сян Куинтана Ка’ан — дама, то ли облаченная в роскошное платье из ярких перьев, то ли родившаяся с ними на свет, и двое ее партнеров, Поль Юрэ и Морган Боттомс, щеголявшие синими перьями. Драйвенж Никагат и Палоу Корор — самые типичные Бродяги (по крайней мере в моем представлении), адаптированные к жизни в вакууме и на протяжении всего вечера не снимавшие своих серебристых гермокомбинезонов.
Пришли и четверо хевронских сенешаи: уже знакомые мне ЛЛееоонн и ООээалл и еще пара зеленых гибких существ, представленных Энеей как ААллооээ и ННееллоо. Мне осталось только догадываться, что все четверо находятся в родстве или каком-то сложном браке.
Акератели я считал отсутствующими, пока Энея не указала мне местечко среди ветвей, где микротяготение было еще меньше, — там в окружении паутинников и рдянок плавали тарелкообразные существа. Присутствовали даже делегаты эргов, управляющих силовым полем корабля, — три куба Мебиуса с трансляционными дисками, вмонтированными в черные матрицы.
Отец капитан Федерико де Сойя сел слева от меня, а его помощник сержант Грегориус — слева от него. Рядом с сержантом устроился полковник Федман Кассад, похожий на древнюю музейную голограмму в парадной черной форме войск Гегемонии. За ним — Дорже Пхамо, такая же прямая и горделивая, как боевой офицер, рядом с ней, сияя внимательными темными глазами, — юный далай-лама.
Остальные беженцы с Тянь-Шаня сидели где-то на платформе, а за главный стол приглашены были Лхомо Дондруб, Лобсанг Самтен, Джордж и Джигме, Харуюки, Кенширо, Войтек, Куку и Кай. Рядом с тамплиерами, напротив нас, разместились А.Беттик, Рахиль и Тео Бернар. Рахиль не сводила глаз с полковника Кассада, только иногда поглядывая на Энею, когда та брала слово. Больше никого для нее не существовало.
Пока миниатюрные прислужники тамплиеров (Энея шепотом объяснила, что это клонированный экипаж) разносили воду и крепкие напитки, в зале слышался обычный приглушенный гул предобеденного обмена любезностями. Потом воцарилась тишина — насыщенная как молитва. Когда же Истинный Глас Древа Кет Ростин поднялся, чтобы заговорить, все присутствующие встали.
— Друзья мои, — произнес невысокий человек в плаще с капюшоном, — собратья в Мюире, уважаемые Бродяги, разумные сестры и братья по великому Древу Жизни, люди, бежавшие от Священной Империи, и, — Истинный Глас Звездного Древа поклонился в сторону Энеи, — преподобная Та-Кто-Учит!
Как известно большинству здесь собравшихся, Дни Искупления, как называла их некогда Церковь Шрайка, вот-вот настанут. Истинные Голоса Братства Мюира следовали пророчеству, ожидая того, что должно произойти, и бросая семена в плодородную почву откровений.
Ближайшие месяцы и годы определят будущее многих рас, не только человечества. Среди нас есть те, кому дано видеть вероятности, перекатывающиеся по неровному сукну пространства-времени как игральная кость, но даже они, наделенные даром, знают, что ни нам, ни последующим поколениям не предначертано одно-единственное будущее. События изменчивы. Будущее — как дым горящего леса, ждет ветра событий и личной доблести, который отнесет искры и угли в ту или иную сторону.
Сегодня, на этом корабле — на возрожденном «Иггдрасиле», — мы определим наши собственные пути к нашему собственному будущему. Я молю Силу Жизни, дарованную в видении Мюиру, чтобы уцелела не только биосфера Звездного Древа, чтобы уцелело не только наше Братство, чтобы уцелели не только наши собратья Бродяги, чтобы уцелели не только гонимые и истребляемые наши братья по разуму сенешаи, акератели, эрги и цеппелины, чтобы уцелел не только биологический вид, нареченный человечеством, — я молю, чтобы исполнились пророчества и чтобы все биологические виды, возлюбленные жизнью — а жизнь равно любит беспанцирную черепаху и левиафана Безбрежного Моря, прыгающего паука и дерево тесла, енота Старой Земли и ястреба с Мауи-Обетованной, — чтобы все виды, возлюбленные жизнью, пошли рука об руку, наполняя Вселенную новой жизнью.
Повернувшись к Энее, Истинный Глас Звездного Древа поклонился:
— Преподобная Та-Кто-Учит, мы собрались здесь сегодня ради вас. Из пророчеств тамплиеров и из пророчеств людей, коснувшихся субстанции, известной как Связующая Бездна, мы знаем, что вы — единственная надежда воссоединения человечества и иных с Техно-Центром. Мы знаем, что время на исходе и что самое ближайшее будущее содержит потенциал примирения и освобождения… и потенциал почти тотального уничтожения. Среди нас есть те, кто не может принять решение, не услышав сначала ответ на свой вопрос. Не примете ли вы участие в нашей беседе? Возможно, пришло время сказать то, что должно быть сказано?
— Да, — коротко ответила Энея.
Истинный Глас Звездного Древа сел. Энея стояла, выжидая. Я потихоньку достал из кармана скрайбер.
БРОДЯГА СИСТИНЖ КОРДУЭЛЛ: Мадемуазель Энея, многоуважаемая Та-Кто-Учит, не можете ли вы нам с определенностью сказать, удастся ли нашей биосфере избежать уничтожения и спастись от набега Имперского Флота?
ЭНЕЯ: Не могу, гражданин Кордуэлл. А если б и могла, говорить об этом — неблагоразумно. Я не вправе предсказывать будущее. Могу лишь с полной определенностью сказать, что участь биосферы решится в самые ближайшие дни. И она в немалой степени зависит от наших действий. Но единственно правильного образа действий не существует.
И еще, если позволите спросить… Мои друзья впервые на Звездном Древе, впервые в пространстве Бродяг. Нашей дискуссии очень бы помогло, если бы кто-нибудь рассказал историю возникновения Бродяг, биосферы и прочих проектов и ознакомил нас с основами философии Бродяг и тамплиеров.
БРОДЯГА СЯН КУИНТАНА КА’АН: Я с удовольствием выполню вашу просьбу. Очень важно, чтобы все понимали, насколько высока ставка.
Как хорошо известно всем Бродягам и нашим собратьям тамплиерам, раса Бродяг была создана более восьмисот лет назад в двух десятках звездных систем. До Хиджры на освоение пространства отправлялись колонисты, в совершенстве постигшие искусство генной инженерии. Они отправлялись в путь на кораблях, перемещавшихся в пространстве с досветовой скоростью, — на примитивных буссаровских химических ракетах, солнечных парусниках, ионных ковшах, кораблях с ядерно-реактивными двигателями, гравитационных дисоновских сферолетах, лазерно-отражательных парусниках… Лишь считанные единицы звездолетов, последними отправившихся в путь, были оборудованы самыми примитивными двигателями Хоукинга, осуществлявшими переход в С-плюс.
Эти колонисты, наши предки, путешествовали в состоянии анабиоза — в холодном сне, куда более глубоком, чем сон в криогенной фуге. Среди них были лучшие биоформаторы, нанотехники и генетические инженеры Старой Земли. Их целью было отыскать пригодные для обитания планеты и, еще не располагая технологией терраформирования, при помощи генной инженерии и нанотехники приспособить к условиям жизни на этих планетах миллионы биологических видов Старой Земли, в замороженном виде доставленных на этих кораблях.
Как нам известно, некоторые корабли прибыли к планетам, пригодным для жизни, — к Новой Земле, к Тау Кита, к Миру Барнарда. Однако большинство кораблей достигло планет, где традиционные биологические виды не выжили бы. Колонисты встали перед выбором: отправиться дальше, в надежде, что бортовые системы жизнеобеспечения выдержат еще десятилетия, если не столетия пути, или применить свое искусство генной инженерии, чтобы приспособить себя и доставленные на ковчегах эмбрионы к условиям куда более суровым, чем представлялось вначале.
Они избрали второй вариант. Воспользовавшись самой передовой нанотехнологией, ликвидированной на Старой Земле и в Гегемонии Техно-Центром, эти люди адаптировались к весьма негостеприимным планетам и звездам. Шли века, и звездолеты с двигателями Хоукинга достигли самых отдаленных Роев, но колонисты более не хотели искать уютные планеты. Они хотели продолжать адаптацию, мечтали помочь всем сиротам Старой Земли адаптироваться к любым условиям, даже к жизни в открытом космосе.
Так зародилась их философия — наша философия, по страстности — почти религия, стремление распространить жизнь по всей Галактике… по всей Вселенной. Не только жизнь человеческую, не только живые существа Старой Земли, но жизнь в целом, в ее бесконечном множестве и многообразии.
Быть может, кому-то из сегодняшних гостей не известно, что в конечном итоге и мы, Бродяги, и наши собратья тамплиеры хотим не просто создать биосферу Звездного Леса, но заполнить воздухом, водой и жизнью почти все пространство между Звездным Лесом и желтой звездой.
Братство Мюира и разрозненные конфедерации Бродяг стремятся, самое меньшее, к тому, чтобы жизнь зазеленела на суше, в морях и в атмосфере каждой планеты у каждой звезды. Мы трудимся, чтобы увидеть, как зазеленеет вся Галактика, как ростки жизни протянутся к ближайшим галактикам, как начнется цепная реакция жизни.
Следуя этой философии, мы век за веком подгоняли человеческую эволюцию под требования окружающей среды — потому-то Церковь и одержима стремлением истребить нас. Пока человечество еще не распалось на отдельные, обособленные биологические виды, не подходящие под определение Homo sapiens, любой из нас при желании и обоюдном согласии может вступить в брак с любым подданным Священной Империи или тамплиером и родить общее потомство. Но различия растут, генетическая дивергенция углубляется. Уже сейчас существуют племена Бродяг, настолько сильно отличающиеся от остальных, что они вот-вот станут новыми биологическими видами… А ведь эти отличия передаются нашему потомству на генетическом уровне.
С этим Церковь смириться не может, потому-то мы и увязли в ужасной войне, от исхода которой зависит, останется ли человечество навсегда единым биологическим видом, или продлится вселенский карнавал многообразия.
ЭНЕЯ: Спасибо, гражданка Сян Куинтана Ка’ан. Не сомневаюсь, что мои друзья получили нужную информацию. Кто-нибудь еще хочет высказаться?
ДАЛАЙ-ЛАМА: Друг Энея, у меня небольшой комментарий и вопрос к вам. Бессмертие, обещанное Священной Империей, обольстило даже меня, и я задумался — пусть всего на пару секунд, — не обратиться ли в христианскую веру? Здесь все любят жизнь, это свойственно любой вере, любой религии. Так не скажете ли вы, чем плох для нас крестоформ? Должен признаться, мысль о том, что это симбиот или паразит, вовсе не делает его таким уж неприемлемым для меня и для многих других. В наших телах живет много разных существ — кишечная палочка, например, — которые кормятся за наш счет, но дают нам жить. Друг Энея, так что же все-таки такое этот крестоформ? И почему мы должны бояться его?
ЭНЕЯ (на секунду прикрывает глаза, вздыхает и поворачивается к юноше): Ваше Святейшество, крестоформ рожден отчаянием Техно-Центра после атаки Мейны Гладстон за считанные часы до Падения нуль-порталов.
Техно-Центр живет и мыслит как паразит. В этом смысле человечество давным-давно стало симбиотическим партнером Центра. Наша техника создана по проектам Центра и страдает наложенными им ограничениями. Наши общества создавались, видоизменялись и уничтожались по планам Центра, из-за страхов Центра. Наше существование как человеческих существ в первую очередь определяется бесконечным танцем страха и коэволюции с ИскИнами Техно-Центра.
После Падения, когда Центр потерял контроль над Гегемонией через инфосферы и нуль-порталы, когда Центр лишился своей величайшей вычислительной машины — своего паразитизма в миллиардах мозгов тех людей, которые входили в Связующую Бездну через так называемые порталы, — Центру нужно было найти новый способ эксплуатировать человечество. И найти срочно.
Так возник крестоформ. Это нанотехнология в самом утонченном и самом вредоносном виде. Наши друзья Бродяги прибегают к сложнейшей генетической реконструкции в сочетании с нанотехникой, чтобы совершенствовать жизнь во Вселенной. Техно-Центр прибегает к ней, чтобы совершенствовать свой сверхпаразитизм.
Каждый крестоформ состоит из миллиардов нанотехнических единиц, каждая из которых связана с другими крестоформами и с Центром через континуум Связующей Бездны — это вопиющее надругательство. Техно-Центр знает о Бездне уже тысячелетие и почти все это время пользуется ею. Так называемый двигатель Хоукинга прорвал в Бездне дыры. Порталы распороли самую ткань Бездны. Информационная метасфера и мультилинии похищали информацию у Связующей Бездны, ослепляя целые расы, уничтожая тысячелетия воспоминаний. Но самое циничное и самое ужасное злоупотребление континуумом Бездны — крестоформ.
Большинству из нас кажется чудом не его способность возрождать некую форму жизни — наука уже не один век предлагает целый ряд вариаций на эту тему, — а способность восстанавливать личность и воспоминания умершего. А если осознаешь, что для этого нужны ресурсы хранения информации порядка 61023 байт для каждого воскрешенного, крестоформ воистину начинает казаться чудом. Иерархи католической Церкви приписывают эту ошеломительную, невероятную вычислительную мощность информационной емкости мегасферы Центра.
Но Центр не располагает даже крупицей подобной мощности. В самом деле, даже когда Богостроители вовсю работали над идеальным искусственным интеллектом — Высшим Разумом, анализатором всех переменных, — ни один ИскИн, ни даже цепи ИскИнов не располагали способностью вместить достаточно информации, чтобы воскресить хотя бы одно человеческое тело и разум. Фактически, если бы Центр и располагал подобной информационной емкостью, у него никогда не хватило бы энергии, необходимой для перестройки атомов и молекул в точную копию живого человеческого тела, а уж тем более для воспроизведения сложнейших биоритмов человеческой личности.
Воскресить одного-единственного человека — было и остается свыше сил Центра.
То есть было бы, если б Центр не мародерствовал в Связующей Бездне, в этом вневременном межзвездном континууме, вместившем память и чувства всех разумных рас.
Связующая Бездна регистрирует индивидуальные ритмы личности обладателей крестоформов. Сам же крестоформ — всего-навсего созданное Центром нанотехническое устройство передачи данных.
Но всякий раз, когда воскрешается один человек, из Связующей Бездны стираются фрагменты многих тысяч других личностей, личностей человеческих и личностей иных. Те, кто принял мое причастие, кто постиг язык мертвых и язык живых, кто пытался расслышать музыку сфер и обдумывал возможность сделать первый шаг, — те понимают, насколько страшное это по своей жестокости надругательство. Оно должно быть остановлено. Я должна остановить его.
Но это не единственное зло, которое несет крестоформом.
Повторяю, ИскИны Центра — паразиты. Изменить свою природу им не дано. Они дали человечеству воскрешение не только для того, чтобы все покорились власти Церкви, и не только для того, чтобы усмирять непокорных болью.
С Падением нуль-порталов ИскИны лишились возможности использовать триллионы человеческих нейронов. Не прибегая к уловке с порталами, — в которых ИскИны присасывались к человеческим мозгам как пиявки, похищая жизненную энергию нейронов и холистические волны личностей, соединяя миллиарды человеческих интеллектов в параллельное вычислительное устройство, — Центр вынужден был оставить идею создания Высшего Разума. Но с появлением крестоформа паразитизм на человеческом разуме возобновился.
Только теперь он обрел более сложную форму. Это уже не просто параллельное соединение миллиардов человеческих интеллектов ради нужд Центра. Много веков назад, еще в двадцатом столетии от Рождества Христова, люди, занимавшиеся исследованием нервных сетей, составленных из до-ИскИновых кремниевых вычислительных устройств, открыли, что лучший способ подтолкнуть нервную сеть к творчеству — убить ее. В мгновение смерти, в самую последнюю наносекунду разумного или квазиразумного существования прямолинейные, практически двоичные вычислительные процессы нервной сети выходят за пределы, обретают невероятный творческий потенциал, освобождаясь от оков нулей и единиц двоичных вычислений.
Эксперименты на стратегическом компьютере в конце двадцатого века показали, что умирающие нервные сети принимают неожиданные творческие решения: к примеру, примитивный, лишенный разума ИскИн, управлявший потрепанным флотом морских кораблей в военной игре, вдруг топил свои подбитые корабли, чтобы дать спастись остаткам флота. В миг смерти его посещало гениальное озарение, он обретал способность мыслить творчески, нелинейно.
Центр был лишен подобной творческой силы изначально. По сути, он обладает линейной архитектурой последовательных ЦПУ в сочетании с фанатичным, нетворческим, крайне паразитическим складом ума.
Но с появлением крестоформа, составив чудовищное вычислительное устройство из крестоформированной христианской части человечества, Центр обрел практически неисчерпаемый источник творческой мысли. Ему только нужен катализатор — гибель больших участков нервной сети. А люди снабжают Центр этим добром в избытке.
ИскИны подстерегают людей, как вампиры, дожидаясь возможности полакомиться умирающим мозгом, высосать из угасающего разума творческие силы. Когда же количество смертей падает ниже необходимого уровня или когда запросы Центра возрастают, он просто подстраивает еще пару-тройку миллионов смертей.
Творятся странные вещи. За последние два века здоровье человечества катастрофически пошатнулось. Растет смертность от рака, сердечно-сосудистых заболеваний. А есть и более хитроумные способы. Несмотря на мнимый мир, царящий в межзвездной Империи Пасема, все больше людей гибнет насильственной смертью. Вводятся новые виды смертей. «Архангелы» — лишь первые ласточки. Для возрожденного христианина смерть — товар грошовый, но для Центра это богатейший источник упорядоченного творчества.
Вот вам и крестоформ. Вот вам, полагаю, хотя бы одно из оснований устранить его из человеческого тела и из человеческой души.
(Когда Энея смолкает, воцаряется долгое молчание, только листья корабля-дерева шепчутся на легком ветерке. На Энею устремлены сотни внимательных, немигающих глаз. Наконец раздается голос.)
ОТЕЦ КАПИТАН ДЕ СОЙЯ: Я по-прежнему ношу воротничок католического священника и по-прежнему связан своими обетами. Неужели для моей Церкви… не для Церкви Священной Империи, дела которой решают Техно-Центр и грешные люди… для Церкви Христовой и для сотен миллионов верных, тех, кто следует Его слову, не осталось никакой надежды?
ЭНЕЯ: Федерико… Отец де Сойя… Ответить на этот вопрос можете только вы. Вы и такие же верующие, как и вы. Могу сказать одно: сегодня есть миллиарды мужчин и женщин… некоторые из них еще носят крестоформ, но большинство уже нет… они хотят вернуться к Церкви, занятой делами духовными, проповедующей учение Христа, обращенной к самой глубине сердца.
ТАМПЛИЕР ХЕТ МАСТИН: Преподобная Та-Кто-Учит, позвольте мне от вселенского и теологического обратить ваш взор к вопросам более личным и незначительным…
ЭНЕЯ: Ни один из поднимаемых вами вопросов не может быть незначительным, Истинный Глас Древа Хет Мастин.
ТАМПЛИЕР ХЕТ МАСТИН: Я участвовал в гиперионском паломничестве вместе с вашей матерью, преподобная Та-Кто-Учит…
ЭНЕЯ: Она часто рассказывала мне о вас, Истинный Глас Древа Хет Мастин.
ТАМПЛИЕР ХЕТ МАСТИН: Значит, вы знаете, что Повелитель Боли… Шрайк пришел ко мне, когда паломники пересекали гиперионское Травяное море в парусном фургоне, Та-Кто-Учит. Он пришел ко мне и пронес меня сквозь время и пространство… принес в «здесь» и «сейчас».
ЭНЕЯ: Да.
ТАМПЛИЕР ХЕТ МАСТИН: Из бесед с вами и братьями в Мюире я понял, что мое предназначение — служить Мюиру и Жизни в этом веке, как было предсказано столетия назад нашими провидцами, коснувшимися Связующей Бездны. Но на днях, вопреки усилиям моих братьев и вопреки усилиям Бродяг, я услышал об эпической поэме Мартина Силена и отыскал издание «Песней»…
ЭНЕЯ: Очень жаль, Истинный Глас Древа Хет Мастин. Дядя Мартин записал все, что знал, но его знания были неполными.
ТАМПЛИЕР ХЕТ МАСТИН: Но в «Песнях», преподобная Та-Кто-Учит, говорится, что паломники… и мой друг полковник Кассад подтвердил, что так оно и было… что меня нашли на Гиперионе, в Долине Гробниц Времени, и вскоре я умер…
ЭНЕЯ: В контексте «Песней» — это правда, но…
ТАМПЛИЕР ХЕТ МАСТИН (выставив ладонь, чтобы призвать Энею к молчанию): Меня тревожит не возвращение сквозь время к гиперионскому паломничеству и не моя неизбежная смерть, преподобная Та-Кто-Учит. Я понимаю, что для меня это единственно возможное будущее… правда, вероятное и желанное. Но я хотел бы узнать правду о своих последних словах, процитированных в «Песнях». Верно ли, что перед смертью я скажу: «Я Избранный Воистину. В час Искупления я должен был вести Древо Боли»?
ЭНЕЯ: Так написано в «Песнях», Истинный Глас Древа Хет Мастин.
ТАМПЛИЕР ХЕТ МАСТИН (улыбаясь из-под капюшона): И этот час близок, преподобная Та-Кто-Учит? И вы избрали «Иггдрасиль» Древом Боли в час Искупления, как утверждают «Песни»?
ЭНЕЯ: Да, Истинный Глас Древа Хет Мастин. В ближайшие дни я отправляюсь в путь Искупления. Я официально прошу, чтобы «Иггдрасиль» стал орудием нашего путешествия и орудием Искупления. В свое последнее странствие я возьму — если они захотят — многих из здесь присутствующих. И я официально прошу вас, Истинный Глас Древа Хет Мастин, принять на себя обязанности капитана дерева-звездолета «Иггдрасиль», Древа Боли.
ТАМПЛИЕР ХЕТ МАСТИН: Я официально принимаю ваше приглашение. Я согласен стать капитаном дерева-звездолета «Иггдрасиль» в час Искупления, преподобная Та-Кто-Учит.
(На несколько минут повисает молчание.)
МАСТЕР ДЖИГМЕ НОРБУ: Энея, у нас с Джорджем вопрос!
ЭНЕЯ: Да, Джигме?
МАСТЕР ДЖИГМЕ НОРБУ: Ты рассказывала о тайном геноциде, устроенном Техно-Центром на Хевроне, Кум-Рияде и других планетах. Ну… вообще-то не совсем о геноциде, потому что население погрузили в какой-то очень глубокий сон, но все равно это ужасно.
ЭНЕЯ: Да.
МАСТЕР ДЖИГМЕ НОРБУ: И то же самое случилось с нашим Тянь-Шанем, да? Наших друзей и близких погрузили в кому смертоносным лучом этого Центра и перенесли на планету-лабиринт?
ЭНЕЯ: Да, Джигме. Мне очень жаль, но это так. И сейчас, пока мы тут беседуем, тела вывозят с планеты.
КУКУ СЕ: Почему? Зачем они похищают целые народы? Иудеев, мусульман, индуистов, атеистов, марксистов, а теперь и буддистов. Неужели Церковь намерена уничтожить всех инакомыслящих?
ЭНЕЯ: Церковь — да. Мотивы Техно-Центра много сложнее. Не-христиане, которые не носят крестоформы, не могут быть использованы Центром в его смертельной сети. Но, накапливая миллиарды людей, погруженных в состояние квази-смерти, Центр использует их мозги в гигантской параллельной нервной сети. Это взаимовыгодная сделка — Церкви, взявшей на себя черную работу по вывозу тел, больше не грозят неверующие; Центр же, погружающий людей в кому и надзирающий за складированием тел в лабиринтах, обретает новые цепи своей сети Высшего Разума.
МАСТЕР ДЖОРДЖ ЦЗАРОНГ: Значит, нет никакой надежды? И мы ничем не способны помочь нашим друзьям?
БРОДЯГА НАВСОН ХЕМНИМ: Простите, что перебиваю, месье Цзаронг, мадемуазель Энея, но мы должны объяснить, что, когда настанет час нашим Роям и союзникам-тамплиерам перейти в наступление, первой нашей задачей станет освобождение планетарных лабиринтов и попытка оживить этих людей.
ДОРЖЕ ПХАМО (громко): Оживить их? Каким образом? Их что, можно оживить? Как?
ЭНЕЯ: Ударив прямо по Техно-Центру.
ЛХОМО ДОНДРУБ: А где он, этот Техно-Центр, Энея? Ты мне только скажи, и я сейчас же туда пойду и сражусь с этими трусливыми ИскИнами.
ЭНЕЯ: Тайна истинного расположения Центра строжайше оберегается ИскИнами уже тысячу лет, с тех самых пор, как они покинули Старую Землю. Их реальное, физическое убежище пребывает в глубочайшей тайне… Секретность — лучшая оборона от тех, кто вздумает обратиться против своих паразитов.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: Командующий Мейна Гладстон была убеждена, что Центр таится в узлах субстанции порталов… как невидимые пауки в невидимой паутине. Потому-то она и отдала приказ бомбить сеть космических порталов — чтобы ударить прямо по Центру. Неужели она заблуждалась? Неужели порталы были уничтожены зря?
ЭНЕЯ: Она заблуждалась, Федман. Физически Центр располагался вне субстанции порталов, использовавших ткань Связующей Бездны. Но уничтожены порталы были не зря — ликвидация части информационной мегасферы лишила Центр средства, помогавшего паразитировать на человеческом разуме.
ЛХОМО ДОНДРУБ: Но ты-то, Энея, знаешь, где прячется Центр?
ЭНЕЯ: Надеюсь, что да.
ЛХОМО ДОНДРУБ: Скажи нам, чтобы мы набросились на него, вцепились зубами и когтями, расстреляли из пистолетов, сожгли плазменными гранатами!
ЭНЕЯ: Сейчас не скажу, Лхомо. Не раньше, чем окончательно в этом удостоверюсь. И потом, никакое физическое оружие Центру не страшно, и войти в него физические объекты не могут.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: Значит, он опять для нас недосягаем? Значит, с ним нельзя сойтись в честном бою?
ЭНЕЯ: Вовсе нет. Он досягаем, и с ним можно сойтись в бою. Если судьба подарит мне шанс, я лично поведу атаку на Центр. Более того, атака уже началась, и я надеюсь впоследствии пояснить, каким образом. И я обещаю вам, что сражусь с ИскИнами в их логове.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: Мадемуазель Энея, дитя Ламии Брон, позволительно ли мне задать еще вопрос, касающийся моей судьбы и моего будущего?
ЭНЕЯ: Я постараюсь ответить, полковник, хотя, повторяю, я очень не люблю говорить о столь туманных вещах, как будущее.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: Любите или нет, дитя мое, но, по-моему, я заслужил ответ. Я тоже читал эти чертовы «Песни». Там сказано, что я последовал за Монетой в будущее, сражаясь со Шрайком… пытаясь ему помешать перебить остальных паломников. Это верно… несколько месяцев назад я прибыл сюда. Монета исчезла, а потом опять появилась, но более молодая, теперь она называет себя Рахилью Вайнтрауб. «Песни» утверждают, что скоро я вступлю в бой с легионами Шрайков, погибну и буду погребен в Хрустальном Монолите — только что выстроенной Гробнице Времени на Гиперионе, и тело мое в сопровождении Монеты отправится в прошлое. Как такое может быть, мадемуазель Энея? Я что, прибыл не в то время? Или не в то место?
ЭНЕЯ: Полковник Кассад, друг и защитник моей матери, не сомневайтесь: все идет по плану. Дядя Мартин создавал «Песни» на основе тех откровений, которые были ему даны. Не все подробности вашей биографии… и моей тоже… были ему доступны. Вообще-то ему открыли крайне мало из того, чему он сам был свидетелем.
Могу сказать вам, полковник Кассад: битва со Шрайком — реальность, но поэтически переосмысленная. В одном из возможных будущих вы погибнете в битве со Шрайком — с множеством воинов, подобных Шрайку, — и вам воздадут последние почести и ваше тело положат в Хрустальный Монолит. Но если это и произойдет, то лишь после многих лет и многих сражений. В ближайшие дни, месяцы, годы, десятилетия вас ждет еще уйма работы. Сейчас я прошу вас отправиться со мной в путь на «Иггдрасиле», это будет ваш первый шаг к новым сражениям.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД (с улыбкой): Но вы все-таки уклонились от ответа, мадемуазель Энея. Позвольте спросить… будет ли Шрайк на вашем Древе Боли, когда оно отправится в путь?
ЭНЕЯ: Надеюсь, что да, полковник Кассад.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: Вы не сказали нам сегодня, мадемуазель Энея, кто такой Шрайк… откуда он взялся… какую роль играет в этой игре, которая началась много веков назад и продлится еще много веков?
ЭНЕЯ: Совершенно верно, полковник. Сегодня — не сказала.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: А когда-нибудь говорили, дитя мое?
ЭНЕЯ: Нет.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: Но вам известно, откуда он взялся?
ЭНЕЯ: Да.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: А вы расскажете это нам, дочь Ламии Брон?
ЭНЕЯ: Предпочла бы не рассказывать, полковник.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: Но если вас попросят еще раз, расскажете, не так ли? Или хотя бы ответите на прямые вопросы?
Энея молча кивает. В ее глазах блестят слезы.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: Шрайк впервые появляется в том самом отдаленном будущем, где я, согласно «Песням», вступаю с ним в бой, это так, мадемуазель Энея? В том самом будущем, где Центр дает свою последнюю битву?
ЭНЕЯ: Да.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: И Шрайк — это… это будет… конструкция, не так ли? Искусственное существо. Созданное Центром.
ЭНЕЯ: Все верно.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: Он станет удивительным сочетанием магической технологии Центра, энергии Связующей Бездны и кибридизованной личности реального человека, так ведь, мадемуазель Энея?
ЭНЕЯ: Да, полковник. Все это и еще многое другое.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: И Шрайк будет создан Центром, но станет служителем и аватарой другого… других… сил… личностей, так?
ЭНЕЯ: Да.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: Если честно, Энея, согласитесь, что в этой войне за душу человечества, мечущегося туда-сюда… как партия в четырехмерные шахматы… Шрайк будет пешкой для обеих сторон… для всех сторон?
ЭНЕЯ: Да, полковник… но не пешкой. Конем, пожалуй.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: Ладно, конем так конем. И этот кибрид, подключенный к Связующей Бездне, биоформированный, генетически реконструированный, нанотехнически усовершенствованный, жутко мутировавший шахматный конь… он берет начало в личности одного-единственного воина, верно? Возможно, собственного противника в этой тысячелетней партии?
ЭНЕЯ: Вам необходимо это знать, полковник? Нет ничего ужаснее, чем в подробностях узнать свою…
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД (мягко): Свое будущее? Свою смерть? Я это знаю, Энея, доченька моей подруги Ламии Брон. Я знаю, что ты носила в своей душе это страшное знание с самого рождения… еще до рождения, с тех самых пор, когда мы с твоей матушкой пересекали гиперионские моря и одолевали гиперионские горы, идя навстречу Шрайку, навстречу собственной судьбе. Я знаю, что тебе очень нелегко, Энея, девочка моя… куда труднее, чем вообще можно вообразить. Никому более не дано было родиться с таким тяжким бременем.
И все же я хочу знать свою участь. Полагаю, годы служения… — годы минувшие и годы грядущие… — дали мне такое право.
Правда ли, что Шрайк несет в себе личность одного-единственного воина?
ЭНЕЯ: Да.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД: Мою? После моей смерти в бою ИскИны Центра… или какие-то силы… встроят мою волю, мою душу, мою личность в этого… монстра… и пошлют назад в прошлое через Хрустальный Монолит?
ЭНЕЯ: Да, полковник. Части вашей личности… но только части… будут встроены в живую конструкцию под названием Шрайк.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД (со смехом): Но я доживу до того времени, когда смогу побить его в бою?
ЭНЕЯ: Да.
ПОЛКОВНИК ФЕДМАН КАССАД (смеется громче, искренне и непринужденно): Господи Иисусе!.. Клянусь Аллахом!.. Если у вселенной есть душа, это душа иронии! Я убиваю врага, съедаю его сердце, и враг становится мной… а я становлюсь им.
(Еще несколько минут молчания. «Иггдрасиль» развернулся и теперь снова приближается к Биосфере).
РАХИЛЬ ВАЙНТРАУБ: Друг Энея, возлюбленная Учительница, я не один год слушала, как ты учишь, и сама училась у тебя, и все эти годы мне не давала покоя одна загадка.
ЭНЕЯ: Какая, Рахиль?
РАХИЛЬ ВАЙНТРАУБ: Сквозь Связующую Бездну ты слышала голоса Иных… разумных существ, обитающих за пределами нашего пространства-времени, чьи личности и чьи воспоминания резонируют в субстанции Бездны. Через причащение твоей кровью некоторые из нас научились слышать отдаленное эхо этих голосов… львов, медведей и тигров, как их кое-кто называет.
ЭНЕЯ: Рахиль, ты — одна из лучших моих учеников. Ты непременно расслышишь их голоса вполне отчетливо. Как только научишься слушать музыку сфер и сделаешь первый шаг.
РАХИЛЬ ВАЙНТРАУБ (покачивая головой): Энея, вопрос не в том. Для меня загадка — присутствие в человеческой вселенной Наблюдателя — или Наблюдателей, — высланных этими… Иными… львами, медведями и тиграми… чтобы изучали человечество и докладывали обо всем далеким расам. Так вот, этот Наблюдатель… или эти Наблюдатели… присутствуют ли они среди нас в самом прямом смысле?
ЭНЕЯ: Да.
РАХИЛЬ ВАЙНТРАУБ: И способны принимать человеческий облик, облик Бродяг или тамплиеров?
ЭНЕЯ: Наблюдатели — не оборотни, Рахиль. Действительно, они предпочли прийти к нам в облике смертных… как смертен был мой отец, рожденный, однако, кибридом.
РАХИЛЬ ВАЙНТРАУБ: И этот Наблюдатель — или Наблюдатели — следят за нами уже много веков?
ЭНЕЯ: Да.
РАХИЛЬ ВАЙНТРАУБ: А среди нас, сейчас, здесь — на этом корабле или за этим столом… есть Наблюдатели?
ЭНЕЯ (колеблется): Рахиль, лучше я больше не буду говорить на эту тему. Кое-кто убил бы такого Наблюдателя глазом не моргнув, защищая Империю или отстаивая собственные представления о «человечности». Даже просто признавая, что такие Наблюдатели существуют, я сильно рискую. Извини… Обещаю, что это… эта загадка разрешится в теперь уже недалеком будущем, и личности Наблюдателей будут раскрыты. Не мною, а ими самими.
ИСТИННЫЙ ГЛАС ЗВЕЗДНОГО ДРЕВА КЕТ РОСТИН: Братья в Мюире, уважаемые коллеги Бродяги, уважаемые гости люди, уважаемые разумные друзья, преподобная Та-Кто-Учит… мы завершим нашу дискуссию в другом месте и в другое время. Возьму на себя смелость выразить общее мнение. Полагаю, мы все сходимся в том, чтобы удовлетворить просьбу мадемуазель Энеи. Дерево-звездолет «Иггдрасиль» отбудет в пространство Священной Империи через три стандартных дня и осуществит древние пророчества тамплиеров о Древе Боли и часе Искупления для всех детей Старой Земли.
А теперь завершим нашу трапезу и поговорим о других вещах. В официальном собрании объявляется перерыв, и давайте остаток нашего короткого путешествия посвятим дружеской беседе, вкусной еде и таинству настоящего кофе, выращенного из зерен, собранных на Старой Земле — нашей общей родине, доброй старой Земле.
Собрание объявляется отложенным. Я все сказал.
Вечером, в теплом сумраке нашего кокона, мы с Энеей любили друг друга, говорили о своем, а потом устроили еще один, поздний ужин с вином, овцекозьим сыром и свежим хлебом.
Энея на минутку зашла в кухонный закуток и вернулась с двумя хрустальными флаконами. Она дала мне вино.
— Вот, Рауль, любимый… Прими и пей.
— Спасибо, — автоматически ответил я и уже поднес было флакон к губам, но вдруг замер. — А это… ты…
— Да. Это причастие, которое я для тебя так долго откладывала. Теперь тебе решать, принять его или нет. Ты вовсе не обязан его принимать! Если ты откажешься, я все равно буду тебя любить.
Глядя ей прямо в глаза, я до дна осушил флакон. На вкус — самое обыкновенное вино.
Энея быстро отвернулась, но я успел заметить слезы, блеснувшие в ее глазах. Я прижал ее к себе, и мы закружились в теплом, живом сумраке — словно вернулись в материнское лоно.
— Детка… — прошептал я. — Что стряслось?
Неужели она думает о мужчине, оставшемся в прошлом, о своем замужестве, о ребенке? От вина закружилась голова и начало мутить. А может, и не от вина.
— Я люблю тебя, Рауль.
— Я люблю тебя, Энея.
Поцеловав меня в шею, она прильнула ко мне.
— За то, что ты сейчас ради меня сделал, тебя ждут преследования и гонения…
Я деланно засмеялся:
— Ну-ну, детка, я уже терплю всяческие преследования и гонения с того самого дня, когда мы улетели с тобой на ковре-самолете из Долины Гробниц Времени. Тут ты для меня ничего нового не открыла. Если Церковь вдруг перестанет гнать и преследовать нас, я, наверное, просто заскучаю.
Она не улыбнулась — она еще крепче прильнула ко мне. Ее соленые, теплые слезы текли по моей груди.
— Ты станешь первым из моих последователей, Рауль. Ты еще много-много десятилетий будешь возглавлять борьбу. Тебя будут почитать и ненавидеть, слушаться и презирать… Тебя даже попытаются провозгласить богом, мой дорогой.
— Чушь собачья! — шепнул я в ее волосы. — Сама знаешь, какой из меня лидер. Я только и делал, что все эти годы таскался за тобой. Дьявол… изрядную часть времени я просто пытался угнаться за тобой.
Энея подняла ко мне лицо.
— Ты тот, кого я избрала еще до моего рождения, Рауль Эндимион. Когда меня не станет, ты продолжишь мое дело. Мы оба будем жить в тебе…
Прижав палец к ее губам, я поцелуями осушил соленые слезы.
— Чтобы я больше не слышал, что ты собираешься уйти без меня хоть на тот свет, хоть на этот! Мой план прост — быть с тобой всегда… во всем… делить с тобой все. Что случится с тобой, случится и со мной, детка. Я люблю тебя, Энея.
Мы парили в теплом сумраке, и я баюкал ее в своих объятиях.
— Да, — выдохнула Энея, прижавшись ко мне крепко-крепко. — Я люблю тебя, Рауль. Вместе. Навсегда. Да.
Больше мы не разговаривали.
У наших поцелуев был привкус вина и соли ее слез. Мы любили друг друга еще несколько часов и заснули, обнявшись, как два морских существа — как одно восхитительно сложное морское существо, плывущее по воле теплых, добрых течений.
Глава 26
Назавтра мы на корабле Консула полетели к светилу.
Я проснулся, ожидая, что почувствую просветление, сатори, мне казалось, выпив вино причастия, за ночь я должен преобразиться, ну хотя бы постичь Вселенную. А проснулся я с переполненным мочевым пузырем и легкой головной болью, правда, еще и с приятными воспоминаниями о прошедшей ночи.
Энея встала раньше, и когда я вышел из душа, она уже сварила в кипятильной колбе кофе, красиво уложила в сервировочный шар фрукты и даже испекла свежие рогалики.
— И не рассчитывай, что такой сервис ждет тебя каждое утро, — улыбнулась она.
— Ладно, детка. Завтра — моя очередь готовить.
— Омлет будешь? — спросила она, протягивая мне кофе.
Открыв колпачок пластиколбы, я вдохнул божественный аромат и осторожно выдавил каплю, стараясь не обжечь губы, следя, чтобы не упорхнул в невесомости горячий кофейный шарик.
— Конечно! Все, что пожелаешь.
— Тогда желаю удачи в поисках яиц, — парировала Энея, жуя рогалик. — Звездное Древо всем хорошо, но с курами тут плоховато.
— А жаль. — Я оценивающе посмотрел сквозь прозрачную стену кокона. — И ведь сколько места для курятников! — Я помолчал, а потом спросил ее уже серьезно: — Детка, насчет вина… В смысле, прошло восемь стандартных часов, а…
— А ты не чувствуешь никаких перемен, — договорила Энея. — Гм, боюсь, ты из числа тех редких индивидуумов, на которых магия не действует.
— Правда?
Должно быть, в моем голосе прозвучала тревога, а может, облегчение, или и то, и другое вместе, потому что Энея покачала головой.
— А, просто шучу! Требуется около двадцати четырех стандартных часов. Ты почувствуешь. Обещаю.
— А если мы будем… э-э… заняты, когда придет время? — Я выразительно сдвинул брови, дернулся и отплыл от столика.
— Угомонись, дружок, — вздохнула Энея, — пока я не пригвоздила твои брови на место.
— М-м. Обожаю, когда ты говоришь гадости.
— Поторопись. — Энея сунула пластиколбу в акустическую мойку, а салфетку — в рециркулятор.
Я был бы рад и дальше неспешно жевать рогалик, любуясь ошеломительным зрелищем сквозь стену.
— Поторопиться? Зачем? Разве мы куда-нибудь собирались?
— У нас встреча на корабле. На нашем корабле. Потом надо вернуться и проследить за погрузкой последних припасов на «Иггдрасиль», и завтра вечером — в путь.
— Почему на нашем корабле? Он же маленький, там все не поместятся, тесно будет.
— Увидишь. — Энея натянула легкие брючки — специально для невесомости, стянутые резинками на лодыжках, и белую рубашку с карманами на липучках. Надела легкие серые туфли. А я уже привык ходить по уютным коконам и стеблю босиком.
— Поторопись, — повторила Энея. — Корабль отчаливает через десять минут, а до причального кокона еще идти по лиане.
В корабле было тесно. И хотя внутреннее силовое поле поддерживало гравитацию на уровне одной шестой g, после невесомости я чувствовал себя ничуть не лучше, чем если б попал на Юпитер. Казалось странным, что все толпятся на одной плоскости, когда над головой пропадает столько свободного места. В корабельной библиотеке собрались, рассевшись на рояле, на скамьях, в мягких креслах, вдоль карнизов голографической ниши, Бродяги Навсон Хамним, Систинж Кордуэлл, блистающая оперением Сян Куинтана Ка’ан, двое серебристых вакуумщиков Палоу Корор и Драйвенж Никагат, Поль Юрэ и Ам Чипета, Хет Мастин с Кетом Ростином, полковник Кассад — высокий, не ниже любого Бродяги, Дорже Пхамо — какая-то архаичная и вместе с тем царственная в серебристо-сером платье, ниспадавшем пышными складками, — Лхомо, Рахиль, Тео, А.Беттик, далай-лама. А вот братьев по разуму на корабле не оказалось.
Мы вышли на балкон полюбоваться на Звездное Древо, которое осталось за кормой корабля возносившегося на столбе голубого пламени к центральной звезде.
— С возвращением, полковник Кассад, — сказал Корабль, когда мы все собрались в библиотеке.
Я удивленно поднял брови и посмотрел на Энею. Надо же, как это Корабль вспомнил своего давнего пассажира?
— Спасибо, Корабль. — Высокий смуглый полковник казался сегодня каким-то рассеянным.
Я смотрел на удаляющуюся Биосферу, пока не закружилась голова. Одно дело, когда ты отлетаешь от планеты и она становится все меньше и меньше, а потом совсем теряется вдали. И совсем другое дело — живая орбитальная конструкция. С высоты ста тысяч километров громадные листья слились в огромную бликующую поверхность, словно вогнутый океан, — и казалось, что ты угодил в исполинскую чашу, вырваться из которой уже не сможешь.
Удерживаемая силовыми полями атмосфера окружала поверхность Звездного Древа голубоватым электрическим сиянием, словно на тысячи километров ветвей и трепещущих листьев подали высокое напряжение. И повсюду — жизнь и движение: Бродяги-«ангелы» с километровыми крыльями парят среди ветвей, взмывают к солнцу, стремительно проносятся над десятками тысяч километров корневой системы; в атмосферном силовом коконе мельтешат мириады радужных паутинников, цепочки эльфов, попугаи, синие древесницы, обезьяны Старой Земли, громадные косяки тропических рыбок, серые цапли, стаи гусей и марсианских птиц, дельфины Старой Земли… Я не успел толком разглядеть, кто там еще, — Древо осталось далеко позади.
Зато издали стали очевидны масштабы крупных существ. С «высоты» в несколько тысяч километров я заметил мерцающие стаи голубых тарелочек — странствующие компании разумных акератели. После первого знакомства с обитателями облачной планеты я спросил у Энеи, много ли их тут. «Совсем немного, — ответила она. — Миллионов шестьсот». Теперь я видел, как они многотысячными роями легко плывут по течению воздушных струй от ствола к стволу, минуя сотни километров пустоты.
Вместе с ними плыли их верные слуги — небесные каракатицы, цеппелины, прозрачные медузы и громадные аэростаты с щупальцами вроде того, что заглотил меня тогда, но только крупнее. Длину того левиафана я на глаз оценил километров в десять, эти же достигали километров пятисот, если не больше. Все гиганты были заняты делом — сплетали из ветвей и стеблей затейливые биологические конструкции, обрезали отмершие ветки и листья, прилаживали на место созданные Бродягами постройки, перетаскивали грузы.
— И много у акератели цеппелинов? — спросил я у Энеи.
— Не знаю, давай спросим у Навсона.
— Понятия не имею, — сказал Бродяга. — Они плодятся по мере надобности. Сами акератели — отличный пример коллективного организма, разумного роя… По отдельности ни одно из дисковидных существ не наделено разумом, но в массе они гениальны. Небесные каракатицы и вообще существа с планет юпитерианского типа воспроизводятся по мере надобности свыше семисот стандартных лет. Я бы сказал, что в Биосфере их несколько сотен миллионов… пожалуй, даже миллиард.
Я уставился на крохотные фигурки, затерявшиеся на поверхности Биосферы. Подумать только, миллиард существ размером с плато Пиньон на моей родной планете!
С расстояния в полмиллиона километров стали заметны и зияющие между ветвями гигантские прогалины — некоторые были оставлены намеренно, другие еще предстояло затянуть живым материалом. Но даже в них царила деловая суматоха — между корней, веток, листьев и стволов шныряли по своим извечным траекториям кометы, испаряли драгоценную влагу тепловые лучи. Образующиеся облака проплывали среди висячих корней и омывали миллиарды квадратных километров листвы.
Куда заметнее комет были десятки астероидов и лун, аккуратно размещенных в тысячах и десятках тысяч километров от живой сферы, — компенсирующих орбитальный дрейф, обеспечивающих тяготение и правильный рост ветвей, отбрасывающих, где требуется, тень и служащих наблюдательными площадками и рабочими мастерскими бесчисленным садовникам, которые опекали орбитальный лес из века в век, десятилетие за десятилетием.
Тут, в половине световой минуты от сферы, обнаружилось даже более оживленное движение: боевые корабли Бродяг — по имперским понятиям, все до единого устаревшие, — с грушевидными утолщениями двигателей Хоукинга или с гигантскими ковшами из силовых полей, старомодные истребители, штабные корабли давно минувших дней, элегантные солнечные клиперы с огромными парусами из мономолекулярной пленки — и повсюду «ангелы», взмахивающие мерцающими крыльями, парящие в солнечном ветре.
Энея ушла с балкона. В библиотеке продолжалось обсуждение самого насущного вопроса: как избежать атаки Имперского Флота, придумать контрудар или отвлекающий маневр, чтобы увести отсюда армаду. Но меня беспокоило другое.
Когда андроид повернулся, чтобы уйти с балкона, я ухватил его за рукав:
— Не задержишься на минутку? Поговорить надо.
— Конечно, месье Эндимион, — как всегда вежливо отозвался синекожий человек.
Дождавшись, пока не ушли все остальные и ропот голосов не обеспечил хоть какое-то уединение, я сказал, прислонившись к перилам:
— Жаль, что у нас не было другой возможности поговорить со времени прибытия на Звездное Древо.
Лысина А.Беттика сверкала в ярких солнечных лучах. Голубые глаза смотрели спокойно и дружелюбно.
— Ничего страшного, месье Эндимион. Со времени нашего прибытия события неслись буквально галопом. Однако я согласен с вами, что этот артефакт заслуживает отдельного разговора. — Он махнул уцелевшей рукой в сторону циклопической чаши Звездного Древа.
— Я не о Звездном Древе. И не о Бродягах. — А.Беттик кивнул, ожидая продолжения. — Ты был с Энеей на всех планетах от Старой Земли до Тянь-Шаня. На Иксионе, Мауи-Обетованной, Возрождении-Вектор и на всех остальных?
— Да, месье Эндимион. Мне выпала честь сопровождать ее всякий раз, когда она позволяла кому-либо ее сопровождать.
Я прикусил губу, прекрасно понимая, что выгляжу круглым дураком, но ничего не мог с собой поделать.
— А когда она не позволяла ее сопровождать?
— Когда мы с мадемуазель Рахиль, мадемуазель Тео и остальными остались на Грумбридже Дисоне Д. Мы продолжали работу мадемуазель Энеи, месье Эндимион. Я был весьма занят на строительстве…
— Нет-нет, — перебил я. — Меня интересует, что тебе известно о ее отсутствии.
— Практически ничего, месье Эндимион, — помолчав, сказал А.Беттик. — Она сообщила нам, что на какое-то время отлучится, и отдала распоряжения относительно наших занятий и продолжения работы с ее… учениками. А потом ушла и отсутствовала примерно два стандартных года…
— Один год, одиннадцать месяцев, одну неделю и шесть часов, — уточнил я.
— Да, месье Эндимион, совершенно верно.
— А после возвращения она никогда не рассказывала, где была?
— Нет, месье Эндимион. Насколько мне известно, она не говорила об этом никому из нас.
Мне очень захотелось схватить андроида за плечи и потрясти как следует, чтобы он понял: для меня это вопрос жизни и смерти. Да только способен ли он понять? Вряд ли. Тщетно стараясь говорить непринужденно и чуть ли не равнодушно, я поинтересовался:
— А ты не заметил в Энее ничего особенного, когда она вернулась с каникул, А.Беттик?
Андроид снова помолчал — не от нежелания говорить, а словно припоминая нюансы человеческих эмоций.
— Мы отбыли на Тянь-Шань почти тотчас же, месье Эндимион, но, помнится, в ближайшие месяцы мадемуазель Энея была крайне эмоциональна — то приходила в безмерный восторг, то впадала в крайнее отчаяние. Но к моменту вашего прибытия на Тянь-Шань эти эмоциональные перепады практически сошли на нет.
— И она никогда не упоминала, что послужило причиной? — Я чувствовал себя полнейшей свиньей, выуживая подобные сведения за ее спиной, но Энея же сама ничего мне не рассказывает.
— Нет, месье Эндимион. Она ни разу не говорила об их причине. Полагаю, причина в каком-то событии или событиях, случившихся за время ее отсутствия.
Я сделал глубокий вдох.
— А перед тем как она ушла… на других планетах… на Амритсаре, Патаупхе… где угодно, до того, как она покинула Грумбридж Дисон Д… у нее… была она… был кто-нибудь?
— Не понимаю, месье Эндимион.
— Был в ее жизни мужчина, А.Беттик? Она кому-нибудь отдавала предпочтение? Кто-нибудь был ей ближе других?
— А-а, — протянул андроид. — Нет, месье Эндимион, ни один мужчина не проявлял к мадемуазель Энее специфического интереса… Разумеется, не относящегося к ее роли учителя и мессии.
— Угу. А через один год, одиннадцать месяцев, одну неделю и шесть часов она вернулась без провожатых?
— Да, месье Эндимион.
— Спасибо тебе, друг. Извини за дурацкие вопросы. Просто… Я не понимаю… Где-то есть… Черт, не важно! Просто дурацкие человеческие эмоции.
Я повернулся, чтобы уйти к остальным, но А.Беттик придержал меня за локоть.
— Месье Эндимион, — вежливо произнес он, — если под человеческими эмоциями вы подразумеваете любовь, то мои довольно длительные наблюдения за человечеством подсказывают, что любовь не может быть дурацкой эмоцией. Я понимаю, что мадемуазель Энея права, когда учит, что любовь — главная движущая сила Вселенной.
Я стоял и в полном ошалении смотрел на него, а андроид невозмутимо удалился с балкона и вошел в забитую народом библиотеку.
* * *
А в библиотеке дело шло к принятию решения.
— По-моему, надо в звездолет-авизо с двигателем Гидеона вложить послание, — говорила Энея, когда я вошел. — И через час отправить его прямо на место.
— Они конфискуют авизо, — певучим контральто возразила Сян Куинтана Ка’ан. — А это единственный наш корабль, способный перемещаться мгновенно.
— Вот и хорошо, — ответила Энея. — Эти авизо омерзительны. Всякое их перемещение разрушает часть Бездны.
— И все же, — с сильным акцентом, словно сквозь радиопомехи, проговорил Поль Юрэ, — у нас еще есть возможность воспользоваться авизо в качестве носителя.
— Чтобы выпустить против армады ядерные и плазменные боеголовки? — уточнила Энея. — По-моему, мы уже отказались от такого варианта.
— Это единственный способ нанести упреждающий удар, — сказал полковник Кассад.
— Ничего хорошего из этого не выйдет, — возразил Истинный Глас Древа Кет Ростин. — Авизо не рассчитаны на точное попадание. «Архангел» уничтожит его в нескольких минутах от цели. Я согласен с Той-Кто-Учит. Отправим послание.
— А разве письмо помешает им напасть? — спросил Систинж Кордуэлл.
— Нет никаких гарантий… но если это выведет их из равновесия, они по крайней мере воспользуются своими авизо, чтобы задержать атаку. По-моему, попытаться стоит.
— И что же будет в послании? — поинтересовалась Рахиль.
— Пожалуйста, дайте велен и стило, — попросила Энея.
Тео принесла и положила все на «Стейнвей». Мы все столпились вокруг Энеи. Она написала:
Папе Урбану Шестнадцатому и кардиналу Лурдзамийскому
Прибываю на Пасем, в Ватикан.
Энея— Вот, — протянула она велен Навсону Хемниму. — Как только мы причалим, пожалуйста, вложите послание в авизо, установите передатчик на «несу депешу» и отправьте его в систему Пасема.
Я тогда еще не слишком хорошо понимал чувства по лицам Бродяг, но, по-моему, прочтя послание, он смутился. Пожалуй, он испытывал что-то похожее на ту панику и замешательство, которые всколыхнулись в моей груди.
«Прибываю на Пасем»… Как это понимать, черт возьми?! Она думает заявиться на Пасем и остаться в живых?! Как?! Да никак. Но куда бы она ни отправилась, я знаю одно — я буду рядом. Из чего следует, что меня тоже убьют, если на ее слова можно положиться. А на ее слова всегда можно положиться. «Прибываю на Пасем». Или это просто уловка, чтобы задержать их Флот? Пустая угроза, попытка сбить всех с толку? Мне очень хотелось взять Энею в охапку, тряхнуть хорошенько, чтобы зубы застучали, и вытрясти из нее объяснения.
— Рауль, — поманила она меня. Я подумал, что сейчас она все мне объяснит, но вместо этого она сказала: — Палоу Корор и Драйвенж Никагат хотели показать нам, как летают «ангелы». Хочешь со мной? Лхомо идет.
Летать, как ангел? Что за вздор?
— Если идешь, для тебя есть гермокомбинезон. Но только быстро. Мы уже подлетаем к Звездному Древу, и через несколько минут корабль причалит. Хету Мастину надо проследить за погрузкой и подготовить «Иггдрасиль», а мне еще предстоит переделать до завтра уйму дел.
— Ага, иду, — проговорил я, толком не осознавая, на что соглашаюсь. «Отличная метафора для моей десятилетней одиссеи, — угрюмо подумал я. — Именно: не представляю, во что вляпаюсь, но можешь на меня рассчитывать».
Адаптированная к вакууму Палоу Корор вручила нам «вторую кожу» — так Бродяги называют гермокомбинезоны. Конечно, я уже ходил в гермокомбинезоне, последний раз — всего две недели назад, но с тех пор для меня прошли годы.
Гермокомбинезоны изобрели много веков назад. Идея проста: защитить организм от взрывной декомпрессии не громоздким скафандром, как на заре космической эпохи, а покрытием настолько тонким, что оно будет пропускать пот, защищая кожу от ужасающего космического жара, холода и вакуума. И за века их конструкция почти не изменилась, если не считать рециркуляционных нитей и осмотических масок. Мой последний гермокомбинезон, сделанный еще во времена Гегемонии, был вполне работоспособен, пока Радаманта Немез не превратила его в лохмотья.
Но сейчас Палоу Корор положила мне на ладонь ком протоплазмы — серебристый, теплый, невесомый и текучий, как ртуть. Хотя нет, не как ртуть, скорее — как непоседливое жидкое существо. Шарахнувшись, я едва не выронил ком и подхватил его другой рукой, а ком потек по моей кисти, охватив запястье, будто какое-то плотоядное животное.
Наверное, я что-то пробормотал вслух, потому что Энея ответила:
— А это и есть животное. «Вторая кожа» — организм, продукт генной инженерии и нанотехнологии… Но всего три молекулы толщиной.
— А как его надевать? — спросил я, глядя, как этот продукт генной инженерии взбирается по моей руке, натыкается на рукав и отступает. По-моему, оно больше смахивало на хищника, чем на одежду. А проблема с гермокомбинезонами в том, что они и в самом деле сродни второй коже — под них не наденешь даже белье.
— Очень просто, — улыбнулась Энея. — Никаких тебе застежек, не надо ничего натягивать. Разденься, встань неподвижно и опусти его себе на голову. Кстати, нам надо поторопиться.
Меня это как-то не вдохновляло.
Извинившись, мы с Энеей взбежали по винтовой лестнице в спальню и поспешно стащили с себя одежду. Глядя на любимую, стоявшую возле древней (и весьма удобной, насколько я помню) кровати Консула, я едва не предложил использовать время до посадки с большей пользой. Но Энея лишь погрозила мне пальцем, подняла ком протоплазмы и положила его на голову.
Я в ужасе смотрел, как серебряный организм поглощает ее, стекая словно жидкий металл по русым волосам, покрывая глаза, губы, подбородок, струясь зеркальной лавой по шее, одевая плечи, грудь, живот, бедра, колени… Наконец Энея по очереди оторвала от пола миниатюрные ступни, и поглощение завершилось.
— Как ты там? Нормально? — блеклым голосом выдавил я, держа на вытянутой руке пульсирующий ртутный ком.
Энея — то есть серебряная статуя Энеи — показала большой палец и похлопала себя по шее. Я понял: как и в гермокомбинезонах Гегемонии, общаться теперь придется через ларингофоны.
Подняв пульсирующую массу обеими руками, я затаил дыхание, закрыл глаза и опустил ее на голову.
На все ушло меньше пяти секунд. Поначалу, когда текучая пленка покрыла нос и рот, я испугался, что не смогу дышать, но нет — я спокойно сделал вдох и ощутил прохладную, свежую струю кислорода.
«Рауль, ты меня слышишь?» — Голос Энеи прозвучал куда отчетливее, чем из наушников гермокомбинезона.
«Ага. Жутковатое ощущение».
«Мадемуазель Энея, месье Эндимион, вы готовы?»
До меня не сразу дошло, что на связь вышел вакуумник Драйвенж Никагат. Прежде я слышал его голос только через речевой синтезатор. Теперь он оказался даже более чистым и мелодичным, чем напевный говор Сян Куинтаны Ка’ан.
«Готовы», — ответила Энея.
Спустившись по винтовой лестнице, мы пробрались через толпу и вышли на балкон.
«Желаю удачи, мадемуазель Энея, месье Эндимион», — раздался в наушниках голос А.Беттика, взявшего одну из корабельных раций. Когда мы подошли к перилам, он по очереди похлопал нас по серебристым плечам.
Лхомо уже ждал нас. Серебристая «вторая кожа» рельефно прорисовывала каждую жилку его мускулистых рук, ног и плоского живота. Я застыдился, пожалев, что не накинул хоть что-нибудь на микронное покрытие из серебристой жидкости и не уделял больше внимания тренировкам. Энея походила на прекрасную хромированную статую. Признаться, я порадовался, что, кроме А.Беттика, нас никто не вышел провожать.
До Звездного Древа оставалось всего несколько тысяч километров, и корабль резко тормозил. Палоу Корор вспрыгнула на перила. За ней — Драйвенж Никагат, потом — Лхомо, Энея и последним — куда менее грациозно — я. Меня пронзило ощущение высоты и собственной незащищенности: под нами висела зеленая чаша Звездного Древа, по бокам уходили в перспективу лиственные стены, за спиной высилась громада корабля, балансировавшего на призрачной колонне голубого пламени. Я понял, что мы собираемся прыгать, и мне стало худо.
«Не беспокойтесь, я открою силовое поле и перейду на ТМП, пока вы не покинете пределы реактивной струи», — проинформировал Корабль.
«В этих костюмах вы получите приблизительное представление об адаптации, — сказала Палоу Корор. — Конечно, тем, кто избрал полную интеграцию, жить и странствовать в космосе помогают не живые костюмы с молекулярными микропроцессорами, а реконструированная кожа, кровь, зрение и мозг».
«А как нам…» — Я осекся: горло вдруг перехватило.
«Не тревожьтесь, — откликнулся Никагат. — Мы не раскроем крылья, пока не разойдемся достаточно далеко. Они не столкнутся — поля не позволят. Управляются они интуитивно. Оптическая система ваших костюмов будет взаимодействовать с вашей нервной системой и синапсами, вызывая данные по мере надобности».
«Данные? Какие данные?» — подумал я, но ларинги подхватили и передали мою мысль.
Энея взяла меня за руку.
«Позабавимся, Рауль. Боюсь, больше у нас сегодня не будет свободной минуты. И не только сегодня».
В тот миг, балансируя на перилах перед жутким падением сквозь реактивную струю, я как-то не придал особого значения ее словам.
«Пошли!» — Палоу Корор прыгнула с перил.
Не разнимая рук, мы с Энеей прыгнули вместе.
Она выпустила мою ладонь, и мы устремились в разные стороны. Силовое поле распахнулось и выбросило нас на безопасное расстояние, реактивная струя померкла, давая нам время удалиться от корабля, потом вспыхнула снова, и мне показалось, что корабль стремительно взмыл вверх, хотя на самом деле он продолжал опускаться, только гораздо медленнее нас, а мы все летели и летели — ощущение падения было потрясающим, — пять серебряных, раскинувших руки и ноги фигурок, расходящихся все дальше и дальше, с головокружительной быстротой устремляясь к далекому Звездному Древу. Затем наши крылья распахнулись.
«Сегодня нам вполне хватит световых крыльев километрового размаха, — зазвучал в наушниках голос Палоу Корор. — Если бы надо было лететь дальше или быстрее, они распахнулись бы шире — скажем, до нескольких сотен километров».
Когда я поднял руки, энергетические плоскости, выпущенные скафандром, развернулись, как крылья бабочки. И я внезапно ощутил давление солнечного ветра.
«Более всего мы чувствуем течение основных силовых линий магнитного поля, вдоль которых следуем, — сообщила Палоу Корор. — Позвольте на секундочку вмешаться в работу ваших костюмов… вот».
Изображение сместилось. Я посмотрел налево, где в нескольких километрах от меня падала Энея — сверкающая серебряная куколка, выпускающая золотые крылышки. Остальные искорками светились еще дальше. А еще я видел солнечный ветер, видел заряженные частицы и потоки плазмы, текущей вовне и закручивающейся водоворотами в невероятно сложные гелиосферы — красные черточки магнитных полей, постоянно смещающиеся, будто нанесенные на раковину непоседливого наутилуса, и спиральные, многослойные, многоцветные, извивающиеся потоки плазмы, которые стекались к солнцу, из ничем не примечательной звезды превратившемуся в средоточие миллионов силовых линий, исторгающему громадные протуберанцы со скоростью четыреста километров в секунду, втягивающиеся по траекториям силовых линий в пульсирующие круговороты магнитных полей на полюсах, переплетающиеся с пурпурно-красными наружными слоями текучих полей, я видел голубые вихри гелиосферных ударных волн у пределов Звездного Древа, видел кометы и луны, рассекающие плазму, будто океанские корабли в фосфоресцирующем море, видел, как наши золотые крылья взаимодействуют с плазмой и магнитным полем, ловят в свои сети фотоны, словно мириады светлячков, и вздуваются от плазменного ветра, как паруса, видел, как наши серебряные фигурки разгоняются вдоль громадных мерцающих складок и спиральных магнитных поверхностей гелиосферной матрицы.
Вдобавок к улучшенному зрению оптические цепи «второй кожи» накладывали на изображение информацию о траектории и расчетные данные, не имевшие для меня ни малейшего смысла, но жизненно важные для вакуум-адаптированных Бродяг. Уравнения и функции проносились мимо, зависая вдали, в критическом фокусе, и я запомнил только некоторые из них.
Даже не понимая ни одного уравнения, я знал, что мы приближаемся к Звездному Древу слишком быстро. Вдобавок к начальной скорости корабля мы набрали скорость за счет солнечного ветра и плазменных потоков. Я знал, что энергетические крылья Бродяг помогают двигаться от звезды, причем на приличной скорости, — но как остановиться с их помощью за какие-то тысячу километров?
«Фантастика! — воскликнул Лхомо. — Изумительно!»
Повернув голову, я увидел своего тянь-шаньского друга намного левее и ниже. Он уже почти долетел до листвы и парил над голубым маревом силовых полей, окружающих крону как осмотическая мембрана.
«Как, черт побери, это ему удалось?» — подумал я.
И снова, должно быть, вслух, потому что Лхомо сочно рассмеялся и сказал: «ВОСПОЛЬЗУЙСЯ крыльями, Рауль. И сотрудничай с деревом и эргами!»
Сотрудничать с деревом и эргами? Должно быть, он лишился разума.
И тут я увидел, как Энея распахивает крылья, управляя ими силой мысли и движениями рук, бросил взгляд на надвигающиеся с жуткой скоростью ветви и начал улавливать, в чем тут хитрость.
«Вот, хорошо, — послышался голос Драйвенжа Никагата. — Ловите отбойный ветер. Хорошо».
У меня на глазах двое вакуумщиков затрепетали крыльями, как бабочки, окутанные вихрем плазменной энергии, восходящей от Звездного Древа, и вдруг остановились — будто раскрыли парашюты, — а я по-прежнему находился в свободном падении.
Сердце у меня отчаянно колотилось, дышать вдруг стало как-то тяжело, но я раскинул руки и ноги и приказал крыльям раскрыться шире. Энергетические опахала замерцали и развернулись на добрых два километра. Море листвы подо мной пришло в движение, листья медленно поворачивались, пристраиваясь листок к листку, словно в кино, когда в ускоренном режиме показывают, как цветы следуют за солнцем. Минута — листья сложились один к одному, образовав идеальный параболический отражатель не меньше пяти километров в диаметре.
Впереди словно вспыхнуло солнце. Не будь скафандра, я бы мгновенно ослеп, но оптика поляризовалась и защитила зрение. Свет ударил по «второй коже» и по крыльям, как ливень по железной крыше. Я распахнул крылья еще шире, и эрги Звездного Древа изогнули гелиосферную матрицу, направив поток плазмы к нам с Энеей, чтобы стремительно, но не до боли, замедлить наш полет. Трепеща крыльями, мы нырнули в лиственный полог. Оптика продолжала сыпать формулами.
Это каким-то образом уверило меня, что все в порядке.
Мы последовали за Бродягами, совсем как они — планируя и хлопая крыльями, тормозя и вновь распахивая крылья, чтобы поймать прямой свет для ускорения, порхая среди ветвей, взмывая над лиственным покровом, снова ныряя в кроны, складывая крылья, чтобы проскочить под коконами или мостиками у самой границы силовых полей, огибая трудолюбивых космических каракатиц и снова распахивая крылья, чтобы пронестись мимо многотысячных косяков акератели, пульсирующих голубым светом — словно машущих нам вслед.
Под куполом мерцающего поля виднелась исполинская ветвь-платформа. Я не знал, работают ли крылья при прохождении сквозь поле, но Палоу Корор проскочила сквозь купол в россыпи голубых искр, будто ныряльщик, входящий в спокойную воду, за ней — Драйвенж Никагат, потом — Лхомо, Энея и последним — я. Пронзая силовой барьер, я уменьшил крылья до какого-то десятка метров и снова очутился в мире звуков, запахов и прохладного ветерка.
Мы приземлились на платформе.
— Для первого раза неплохо, — сказала Палоу Корор синтезированным голосом. — Мы хотели, чтобы вы хоть сколько-то пожили нашей жизнью.
Энея дезактивировала «вторую кожу» вокруг лица, и серебристая пленка ртутным воротником сползла на шею. Глаза моей любимой сияли восторгом: давно, очень давно не видел я ее такой оживленной. Щеки раскраснелись, русые волосы слиплись от пота.
— Чудесно! — воскликнула она, поворачиваясь ко мне, чтобы взять за руку. — Чудесно!.. Спасибо вам большое! Спасибо, спасибо, спасибо, гражданин Никагат, гражданка Корор.
— Не за что, нам самим было очень приятно, преподобная Та-Кто-Учит, — поклонился Никагат.
Подняв голову, я обнаружил, что «Иггдрасиль» причалил к Звездному Древу; его километровый ствол и ветви практически затерялись среди ветвей Биосферы. Если б не рабочая каракатица, медленно втаскивавшая корабль Консула в грузовой отсек, я бы даже не заметил дерево-звездолет среди ветвей. Клоны экипажа торопливо грузили припасы и кубы Мебиуса на корабль, десятками растительных шлангов присосавшийся к Звездному Древу.
Энея не выпускала моей руки. Я обернулся, и она поцеловала меня в губы.
— Представляешь, Рауль?! Миллионы вакуум-адаптированных Бродяг живут там… видят эти потоки энергии все время… неделями и месяцами летают в пустоте… скользят по стремнинам и водоворотам магнитосфер… едут верхом на ударных волнах плазмы в десяти астрономических единицах от звезды, а потом летят еще дальше… до границ гелиосферы, туда, где стихает солнечный ветер и начинается межзвездное пространство. Слышат шелест, шепот и прибой океана Вселенной! Можешь себе представить, Рауль?!
— Нет, — сказал я. Я не мог. Я не знал, о чем она говорит. Тогда — не знал.
А.Беттик, Рахиль, Тео, Кассад и все остальные спустились по транспортной лиане. Рахиль принесла одежду Энеи, А.Беттик — мою.
Бродяги снова обступили мою любимую, требуя ответов на вопросы, уточняя полученные распоряжения, докладывая о запуске авизо с двигателем Гидеона. Толпа разлучила нас.
Оглянувшись, Энея помахала мне рукой. Я поднял руку, все еще блистающую серебром «второй кожи», чтобы помахать в ответ, но она уже скрылась.
В тот вечер все мы — человек пятьсот — отправились на запряженном каракатицей транспортном коконе на северо-восток, за много тысяч километров над плоскостью эклиптики. Путешествие заняло менее получаса, потому что каракатица прошла к назначенному месту по хорде.
В чудовищных масштабах Звездного Древа это расстояние было исчезающе мало, однако архитектура жилых коконов, башенных ветвей и переходов оказалась тут совсем иной — я бы сказал, барочной. И Бродяги, и тамплиеры здесь разговаривали совсем на другом диалекте, а вакуумщики украшали себя диковинными мерцающими цветными лентами. Атмосферные зоны населяли иные животные, птицы и рыбы. Какое же разнообразие видов присуще всей Биосфере! И тут до меня впервые дошло то, что Энея тысячу раз пыталась мне втолковать: что площадь завершенных фрагментов Биосферы куда больше, чем поверхность всех планет, открытых человечеством за тысячелетие межзвездных путешествий. А когда Звездное Древо будет завершено полностью, его обитаемые пространства превысят поверхность вообще всех пригодных для жизни планет Млечного Пути.
Нас встретили представители местных властей. Минуту мы стояли при тяготении в одну шестую g на платформах, выслушивая приветственные возгласы, а потом нас провели в кокон размерами с небольшую луну.
Там уже дожидались сотни тысяч Бродяг и тамплиеров, сенешаи и акератели. Эрги установили уютную гравитацию в 0,6 g, которая как раз удерживала всех на внутренней поверхности сферы. Казалось несколько диковато видеть сиденья на «стенах» и на «потолке». Я еще раз обвел взглядом собравшихся и пришел к выводу, что здесь их, пожалуй, больше миллиона.
Бродяга Навсон Хемним и тамплиер Истинный Глас Звездного Древа Кет Ростин представили Энею. Они сказали, что она принесла ту весть, которую люди ждали много тысячелетий.
Энея взошла на возвышение и медленно оглядела собравшихся — словно желая встретиться взглядом с каждым. Внешне она казалась совершенно спокойной.
— Выберите снова! — С этими словами она сошла с возвышения и приблизилась к чашам, расставленным на длинном столе.
Сотни ее последователей тоже пожертвовали свою кровь, всего по нескольку капель в чаши для причастия. Десятки добровольных помощников передавали их по рядам, и в течение часа все, кто желал причаститься, получили свой глоток. Гигантский кокон потихоньку пустел. Все уходили в молчании.
Я чувствовал себя шарлатаном. Прошло уже почти двадцать четыре часа, а я так ничего и не ощутил… кроме, пожалуй, самой обычной любви к Энее — то есть любви совершенно необычной, уникальной, абсолютной, ни с чем не сравнимой.
И на обратном пути все тоже молчали. В этом молчании не было неловкости или разочарования, скорее — благоговение и страх, свойственные завершению определенного жизненного этапа и ожиданию — надежде на ожидание — нового.
«Выбери снова».
Мы с Энеей занимались любовью в затемненном жилом коконе. Наша близость была неспешной, нежной и почти невыносимо сладостной.
«Выбери снова».
Эти слова еще звучали у меня в голове, когда я буквально окунулся в сон.
«Выбери снова».
Я выбрал Энею и жизнь с Энеей. Наверное, она тоже выбрала меня.
И я буду выбирать ее снова и снова — завтра, послезавтра и каждый час всех послепослепослезавтра, сколько бы их ни оставалось.
«Выбери снова».
Да. Да.
Глава 27
Меня зовут Яков Шульман. Я пишу это письмо друзьям в Лодзь:
Дорогие мои друзья, я медлил с письмом, ожидая подтверждения дошедших до меня слухов. Увы, как это ни прискорбно, теперь мы знаем истину. Я говорил с очевидцем, которому удалось спастись. Он рассказал мне все. Их вывезли в Хелмно, близ Торуни, и всех их схоронили в Жешувском лесу. Евреев убивали двумя способами: пулями и газом. Вот что случилось с тысячами евреев из Лодзи. Не подумайте, что это писал безумец. Увы, это трагическая, ужасная правда.
Я так устал, что не могу больше писать. Сотворивший небо и землю, спаси нас!
Я пишу это письмо 19 января 1942 года. Несколько недель спустя, в февральскую оттепель, когда в лесах вокруг моего родного Градова вдруг запахло весной, нас, узников лагеря, сажают в фургоны. На некоторых фургонах нарисованы яркие экзотические деревья и животные. Прошлым летом в них вывозили из лагеря детишек. За зиму краска выцвела, а подновить немцы не потрудились, и веселые картины поблекли как прошлогодние мечты.
Нас вывозят за полтора десятка километров от Хелмно. Немцы зовут этот город Кулмхоф. Здесь нам приказывают выйти из машин и облегчиться в лесу. Я не могу на глазах у охранников и бесчисленного множества людей, но делаю вид, что справил малую нужду и застегиваю брюки.
Нас снова загоняют в фургоны и везут в старый замок. Здесь опять приказывают выйти и конвоируют в подвал через двор, заваленный грудами одежды и обуви. На стене подвала нацарапано на идише: «Живым отсюда не уходит никто». В подвале нас сотни — все мужчины, все из Польши, большинство из ближайших сел, из Градова и Коло, но есть и из Лодзи. В воздухе — застоявшийся запах сырости, гнили, холодного камня и плесени.
Через несколько часов, в сумерки, мы выходим из подвала живыми. Приехало много новых фургонов — больших, с двустворчатыми дверями, цвета хаки. У них на бортах нет никаких рисунков. Охранники распахивают двери — фургоны набиты почти до отказа, в каждом от семидесяти до восьмидесяти человек. Ни одного из них я не знаю.
Немцы пинками загоняют нас в большие фургоны. Я слышу плач и крики и начинаю молиться, и люди подхватывают вслед за мной слова: «Шма Израэль» — «Слушай, Израиль». Мы молимся, пока нас заталкивают в вонючие фургоны. Мы продолжаем молиться, когда захлопываются двери.
Снаружи немцы орут на шофера-поляка и его польских помощников. Я слышу, как один из помощников по-польски выкрикивает: «Газ!», и раздается звук, как будто под днищем грузовика соединяют трубы или шланги. С ревом заводится мотор.
Рядом со мной некоторые еще продолжают молитву, но большинство плачут и кричат. Фургон медленно, очень медленно трогается с места. Я знаю, что нас везут по узкой асфальтовой дороге, которую немцы проложили от Хелмно до леса. Эта дорога ведет в никуда, она обрывается посреди леса, расширяясь так, чтобы грузовики могли развернуться, не съезжая с асфальта. А дальше — ничего, кроме печей, выстроенных по приказу немцев, и вырытых по их же приказу рвов. Евреи в лагере, прокладывавшие эту дорогу, строившие эти печи и копавшие эти рвы, рассказывали нам обо всем. Мы не верили им, а потом их забрали… оттранспортировали.
Воздух густеет. Нарастает плач. Голова раскалывается. Трудно дышать. Сердце бухает. Я держу за руки юношу, стоящего слева, и старика, стоящего справа. Они молятся вместе со мной.
В глубине фургона кто-то поет, заглушая вопли, поет на идише, поет хорошо поставленным оперным баритоном:
Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил нас? Нас уже бросали в огонь, но не предали мы Твой Святой Закон. Энея! Боже мой! Что это? Тс-с. Все в порядке, милый. Я здесь. Я не… что это?Меня зовут Катрин Катейен Эндимион, и я жена Трорба Эндимиона, который пять местных месяцев назад погиб на охоте. А еще я мать ребенка по имени Рауль, которому сейчас три гиперионских года, он под присмотром теток играет у костра в кругу фургонов.
Я взбираюсь на поросший травой холм, возвышающийся над долиной, где мы расположились сегодня на ночлег. Вдоль ручья растет несколько триаспий, и все — больше в долине никаких примет, только низкая трава, вереск, осока, скалы, валуны и лишайники. И овцы. Сотни овец каравана, опекаемые пастушьими собаками, с блеянием толкутся и кружатся на холмах к востоку отсюда.
Бабушка штопает одежду, сидя на камне, откуда открывается великолепный вид на запад. Над горизонтом висит марево, означающее водные просторы, но вокруг нас одни только пустоши, вечернее лазурное небо, пересекаемое беззвучными росчерками метеоров, да шелест ветра в траве.
Я опускаюсь на камень рядом с бабушкой. Она мама моей покойной мамы, и она похожа на нас, только старше: кожа обветрена, седые волосы коротко подстрижены, на волевом лице — острые скулы и острый нос, от уголков карих глаз лучиками разбегаются морщинки.
— Наконец-то ты вернулась, — говорит она. — Путь домой был спокойным?
— Да, — говорю я. — Том повез нас из Порт-Романтика вдоль берега, а потом по шоссе Клюва, он не хотел платить за паром через Болота. Первую ночь мы переночевали в Бенброкской таверне, а на вторую стали лагерем у Суисса.
Бабушка кивает, не прерывая работы. Рядом с ней на камне стоит корзина с одеждой.
— А что врачи?
— Клиника большая, — говорю я. — Христиане расширили ее с тех пор, как мы последний раз были в Порт-Романтике. Сестры… санитарки… были очень добры ко мне.
Бабушка ждет.
Я гляжу на долину, озаренную последними лучами солнца, проглянувшего из-за туч. Свет озаряет макушки холмов, воспламеняя закатными красками вереск, валуны отбрасывают на траву прозрачные тени.
— Рак, — говорю я. — Новая разновидность.
— Доктор из Кромки Пустошей нам это уже сказал. Каковы их прогнозы?
Я беру рубашку — это рубашка Трорба, но теперь ее носит брат Трорба, Лей, дядя Рауля. Вынув иголку с ниткой, заколотую в фартук, я берусь пришивать пуговицу, которую Трорб потерял перед той злополучной охотой. При мысли, что я отдала Лею рубашку без пуговицы, щеки мои вспыхивают от стыда.
— Они рекомендовали мне принять крест, — говорю я.
— Значит, средства нет? — спрашивает бабушка. — Несмотря на все их машины и сыворотки?
— Было, — отвечаю я. — Но очевидно, в нем использовалась молекулярная технология…
— Нанотехнология, — уточняет бабушка.
— Да. А Церковь ее запретила. На более цивилизованных планетах есть другие методы лечения.
— Но на Гиперионе нет. — Бабушка откладывает в сторону вещи, лежавшие у нее на коленях.
— Совершенно верно.
Я чувствую ужасную усталость, легкое недомогание после обследования и обратной поездки — и невероятное спокойствие. А еще невероятную печаль. Ветерок доносит смех Рауля и других мальчиков.
— И они советуют принять их крест. — Последнее слово выходит у бабушки каким-то коротким и колючим.
— Да. Вчера со мной полдня беседовал очень милый молодой священник.
— И ты это сделаешь, Катрин? — Бабушка смотрит мне прямо в глаза.
Я спокойно встречаю ее взгляд.
— Нет.
— Ты уверена?
— Абсолютно.
— Если бы Трорб принял крестоформ прошлой весной, когда его молил об этом миссионер, сейчас он снова был бы жив.
— Это был бы не мой Трорб.
Я отворачиваюсь. Впервые с тех пор, как несколько месяцев назад у меня начались боли, я плачу. Плачу не о себе — просто мне вдруг вспомнилось, как Трорб улыбнулся и помахал мне на рассвете, отправляясь с братьями на охоту.
Бабушка берет меня за руку:
— Ты думаешь о Рауле?
— Пока нет, — качаю я головой. — Но через несколько недель не буду думать ни о ком другом.
— Знаешь, о нем можешь не беспокоиться, — тихо говорит бабушка. — Я еще не забыла, как вырастить ребенка. Я еще многое могу рассказать и многому научить. И я сохраню в нем память о тебе.
— Он будет еще слишком мал, когда… — Я обрываю себя на полуслове.
— Детские воспоминания — самые глубокие, — сжав мою руку, ласково говорит бабушка. — Когда мы стареем и дряхлеем, воспоминания детства встают перед нами яснее всего.
Слезы застилают от меня великолепие заката. Я отворачиваюсь, избегая встречаться глазами с бабушкой.
— Я не хочу, чтобы он вспоминал меня только когда состарится. Я хочу видеть его… каждый день… видеть, как он играет и растет.
— Помнишь стихотворение рёкку, которому я научила тебя, когда ты была едва ли старше Рауля?
Я не могу удержаться от смеха.
— Ты научила меня десяткам рёкку, бабушка!
— Самое первое, — не сдается она.
Чтобы вспомнить стихотворение, мне требуется не более секунды. Я декламирую, избегая напевного речитатива, как учила меня бабушка, когда я сама была чуть старше Рауля:
Как счастлив я Идти в руке рука С детьми, Чтоб свежей зелени собрать В полях весны!Бабушка прикрывает глаза, и я вижу, что веки у нее тонкие, как пергамент.
— Ты любила это стихотворение, Катрин.
— Я и сейчас его люблю.
— А разве в нем говорится, что надо отправиться за зеленью на следующей неделе, через год или через десять лет, чтобы испытать счастье сейчас?
— Легко тебе говорить, старуха, — с улыбкой отвечаю я, любовью и нежностью голоса умеряя грубость слов. — Ты собирала зелень семьдесят четыре весны и будешь собирать ее еще весен семьдесят.
— Вряд ли так уж много. — Пожав мне руку еще раз, бабушка отпускает ее. — Суть в том, что важно пойти с детьми сейчас, в лучах сегодняшнего весеннего заката, чтобы собрать зелень быстро, к сегодняшнему обеду. Я приготовила твое любимое блюдо.
— Суп северного ветра?! — всплескиваю я руками. — Но порей еще не созрел!
— Созрел на южных равнинах, я отправила Лея и его мальчиков. Они набрали полный котел. Ступай же, собери весенней зелени, чтобы добавить в суп. Возьми малыша и возвращайся до темноты.
— Я люблю тебя, бабушка.
— Знаю. И Рауль любит тебя, малышка. Я уж позабочусь, чтобы круг не разорвался. Беги же.
Я просыпаюсь в падении. Я и не спал. Листья Звездного Древа на ночь заслонили солнце, и сквозь прозрачную стенку кокона видны сияющие звезды. Голоса не стихают. Видения не угасают. Это совсем не похоже на сон. Это шквал видений и звуков, тысячи голосов сливаются в едином хоре, и каждый взывает ко мне, жаждет быть услышанным. До сих пор я не помнил материнского голоса. Когда рабби Шульман кричал на Старой Земле по-польски и молился на идише, я понимал не только его слова, я понимал его мысли.
Я схожу с ума.
— Нет, милый, ты не сходишь с ума, — шепчет Энея. Она парит у теплой стены кокона, прижимая меня к себе. Хронометр показывает, что период сна в этом районе Звездного Древа почти закончился и уже через час листья переместятся, чтобы впустить в кокон свет солнца.
Голоса шепчут, бормочут, спорят, всхлипывают… Видения мелькают в глубине сознания, как вспышки в глазах после удара по голове. Я ловлю себя на том, что весь напружинен, кулаки сжаты, зубы стиснуты, жилы на шее вздулись, словно я сражаюсь с ураганным ветром или приступом боли.
— Нет-нет, — говорит Энея, нежно гладя меня по лицу. Пот парит вокруг меня едким ореолом. — Нет, Рауль, расслабься. Ты чрезвычайно чувствителен к этому, милый. Я так и думала. Расслабься — и голоса стихнут. Не держи их. Ты можешь этим управлять, милый. Ты можешь слушать, когда захочешь, и заставить их умолкнуть, когда потребуется.
— Они никогда никуда не уйдут? — спрашиваю я.
— Уйдут, но недалеко, — шепчет Энея.
В лучах солнца по ту сторону лиственного барьера парят Бродяги-«ангелы».
— И ты слушаешь это с детства?
— Чуть ли не с зачатия.
— Боже мой, Боже мой. — Я тру глаза крепко стиснутыми кулаками. — Боже мой…
Меня зовут Амни Махен Аль Ата, и мне одиннадцать стандартных лет, а в нашу деревню на Кум-Рияде идут войска Священной Империи. Наша деревня — далеко от городов, далеко от шоссе, далеко от воздушных трасс, даже от караванных путей, пересекающих каменистую пустыню и Пылающие Равнины, — и то далеко.
Уже два вечера их корабли проносятся по небу с востока на запад, совсем как раскаленные угли. Отец говорит, они летают выше воздуха. Вчера деревенское радио приняло приказы имама из Аль-Газали, а он слышал по телефону из Омара, что все, кто живет в оазисах Плоскогорий и Пылающих Равнин, должны выйти из своих домов и чего-то ждать. Отец ушел на собрание мужчин в нашей глинобитной мечети.
Моя семья стоит около дома. И остальные тридцать семей тоже ждут. Наш деревенский поэт Фарид уд-Дин Аттар ходит от одного к другому, он пытается успокоить нас стихами, но даже взрослым — и то страшно.
Отец вернулся. Он говорит маме, что мулла решил не ждать, пока нас убьют неверные. Деревенское радио не смогло связаться с мечетью ни в Аль-Газали, ни в Омаре. Папа думает, что радио опять сломалось, а мулла — что неверные уже убили всех к западу от Пылающих Равнин.
Со стороны других домов доносятся выстрелы. Мама и старшая сестренка хотят убежать, но отец велит им остаться. Я слышу крики. Я смотрю на небо и жду, когда опять покажутся корабли неверных. Когда я опускаю взгляд, исполнители воли муллы выходят из-за нашего дома, вставляя в свои винтовки новые магазины. У них суровые лица.
Отец велит нам всем взяться за руки.
— Аллах велик, — говорит он, и мы повторяем:
— Аллах велик.
Даже я знаю, что «ислам» означает покорность милосердной воле Аллаха.
В последнюю секунду я вижу угольки в небе — это корабли неверных высоко-высоко в зените плывут с востока на запад.
— Аллах велик! — кричит отец.
Я слышу выстрелы.
— Энея, я не понимаю, что это значит.
— Рауль, они не значат, они существуют.
— Они истинны?
— Истинны, как любое воспоминание, любимый.
— Но как? Я слышу голоса… так много голосов… и как только я… сознанием касаюсь одного из них… они ярче и отчетливее, чем мои собственные воспоминания.
— И все-таки это воспоминания, любимый.
— Умерших…
— Эти — да.
— Изучение их языка…
— Мы должны учить их языки во многих смыслах, Рауль. Их настоящие языки… английский, идиш, польский, фарси, тамильский, греческий, китайский… но еще и язык их сердец. Душу их памяти.
— А эти призраки говорят, Энея?
— Они не призраки, любимый. Смерть — окончательна. Душа — уникальная комбинация воспоминаний и личности, которую мы проносим через жизнь… когда жизнь уходит, душа умирает тоже. Остается лишь то, что мы оставили в памяти тех, кто любил нас.
— И эти воспоминания…
— Резонируют в Связующей Бездне.
— Как? Все эти миллиарды жизней…
— И тысячи рас, и миллиарды лет, любимый. В ней — осколки воспоминаний твоей мамы… и моей… и жизненные впечатления существ, невероятно отдаленных от нас в пространстве и времени.
— А я могу прикоснуться и к ним, Энея?
— Наверное. Сможешь со временем и с опытом. Чтобы понять их, у меня ушли годы. Трудно постичь даже чувственное восприятие существ, пошедших по иному пути развития, не говоря уж об их мыслях, воспоминаниях и эмоциях.
— Но ты сумела?
— А я старалась.
— Они отличаются от нас, как сенешаи или акератели?
— Куда больше, Рауль. Сенешаи целые поколения скрытножили на Хевроне бок о бок с людьми. А ведь они эмпаты, эмоции — первооснова их языка. Акератели чрезвычайно отличаются от нас, но довольно схожи с индивидуумами Центра, которых навещал мой отец.
— У меня голова болит, детка. Ты не поможешь мне избавиться от этих голосов и образов?
— Я помогу тебе сделать их тише, любимый. Избавиться от них ты уже не сможешь никогда. Это благословение и проклятие причастия моей кровью. Но прежде чем я покажу тебе, как сделать их тише, послушай еще пару минут. Уже почти рассвело.
Меня зовут Ленар Хойт, я священник, но сейчас я Папа Урбан Шестнадцатый и служу мессу по случаю воскрешения Джона Доменико кардинала Мустафы в соборе Святого Петра для пятисот избранных христиан.
Стоя у алтаря и простирая руки, я произношу Молитву верных:
Богу Отцу Всемогущему, Воскресившему из мертвых Христа, Сына Своего, о спасении живых и мертвых с верою помолимся.Кардинал Лурдзамийский, который прислуживает мне на мессе в качестве дьякона, подхватывает:
Дабы возвратил Он в общение верных усопшего кардинала Джона Доменико Мустафу, получившего в крещении семя вечной жизни, Господу помолимся. Дабы он, исполнявший священное служение в Церкви, Снова смог служить Господу в своей обновленной жизни, Господу помолимся. Дабы душам братьев, друзей и благотворителей наших сподобиться награды за труды их, Господу помолимся. Дабы всех усопших в надежде воскресения Он принял в свет лица Своего И даровал им воскресение, дабы они и далее служили Ему, Господу помолимся. Дабы братьям и сестрам нашим, Находящимся теперь в скорби и терпящим бедствия от безбожников, Он помогал и милостиво утешал, Господу помолимся. Дабы всех здесь собравшихся в вере и благочестии Он собрал в преславное Свое царство и даровал им воскресение, Господу помолимся.Сейчас, когда хор поет песнь оффертория и все собравшиеся преклонили колени, в звенящем молчании ожидая пресуществления, я возношу святые дары со словами:
— Прими, Господи, эти дары, которые мы приносим Тебе за раба Твоего кардинала Джона Доменико Мустафу; Ты даровал ему высокий духовный сан в этом мире, благоволи принять его в общение святых Твоих, милостиво прими его в Царствие Твое и даруй ему Воскресение.
Через Христа, Господа нашего.
Собравшиеся отвечают:
— Аминь.
Я подхожу к саркофагу, стоящему у алтаря, окропляю его святой водой и читаю префаций:
Воистину достойно и справедливо, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Святый Отче, Всемогущий Вечный Боже, через Христа, Господа нашего. В Нем воссияла надежда блаженного воскресения, чтобы мы, огорчаемые неизбежностью смерти, утешились обещанием будущего бессмертия. Ибо у верующих в Тебя, Господи, жизнь не отнимается, но изменяется, и с разрушением дома сего земного странствования мы полагаемся на Твое прощение и Твое милосердие и верим, что Ты воскресишь нас. Поэтому мы с Ангелами и Архангелами, с Престолами и Господствами и со всем сонмом небесного воинства поем песнь славе Твоей, непрестанно взывая:Гремит огромный орган Святого Петра, хор поет «Sanctus»:
Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф, Полны небеса и земля славы Твоей. Осанна в вышних. Благословен Грядущий во имя Господне. Осанна в вышних.После причастия, когда месса окончена и паства потихоньку расходится, я медленно иду в сакристию. Мне тоскливо, и у меня болит сердце, в буквальном смысле слова болит. Сердечная недостаточность. Опять она меня настигла и превращает в пытку каждый шаг, каждое слово. «Я не должен говорить кардиналу Лурдзамийскому», — думаю я.
Кардинал входит, когда министранты помогают мне снять облачение.
— Пришел курьерский авизо с двигателем Гидеона, Ваше Святейшество.
— С какого фронта?
— Не от эскадры, святой отец. — Кардинал хмурится, сжимая толстыми пальцами записку.
— Тогда откуда? — Я нетерпеливо протягиваю руку. Записка написана на тонком велене.
Прибываю на Пасем, в Ватикан.
ЭнеяЯ поднимаю взгляд на своего секретаря:
— Вы можете остановить флот, Симон Августино?
— Нет, Ваше Святейшество. Они совершили скачок более двадцати четырех часов назад. Значит, уже закончили ускоренное воскрешение и с минуты на минуту пойдут в атаку. Мы не успеем снарядить авизо и дать отбой.
Я замечаю, что у меня трясется рука, и возвращаю записку кардиналу Лурдзамийскому.
— Вызовите Марусина и весь высший командный состав Флота. Скажите им, чтобы вернули в систему Пасема все оставшиеся боевые корабли. Немедленно.
— Но, Ваше Святейшество, — раздраженно говорит он, — в данный момент проводится столько важных военных…
— Немедленно! — обрываю я.
Кардинал Лурдзамийский кланяется:
— Немедленно, Ваше Святейшество.
Я отворачиваюсь; боль в груди и одышка — как предупреждение от Господа, что мне осталось недолго.
— Энея! Папа…
— Спокойно, любимый. Я здесь.
— Я был с Папой… с Ленаром Хойтом… но он не мертвый, ведь нет?
— Ты уже учишься языку живых, Рауль. Невероятно, что твой первый контакт с памятью живого человека вывел тебя на него. По-моему…
— Нет времени, Энея! Нет времени. Его кардинал… Лурдзамийский… принес твою записку. Папа пытался отозвать Флот, но кардинал Лурдзамийский сказал, что уже слишком поздно… что они совершили скачок двадцать четыре часа назад и в любой момент могут пойти в атаку. Наверное, это здесь. Наверное, речь шла об эскадре, сосредоточенной на Лакайле-9352…
— Нет! — Крик Энеи выхватывает меня из какофонии образов и голосов, воспоминаний и чувств, не уничтожив их, а заставив отойти на второй план, и теперь они — как громкая музыка, доносящаяся из соседней комнаты.
Схватив комлог, Энея вызывает наш корабль и Навсона Хемнима.
Натягивая одежду, я пытаюсь сосредоточиться на своей любимой, но чувствую себя как ныряльщик, который всплывает из глубин — ропот чужих голосов и воспоминаний по-прежнему окружает меня.
Отец капитан Федерико де Сойя молится, преклонив колени, в своем личном коконе на дереве-звездолете «Иггдрасиль», только де Сойя больше не называет себя «отец капитан», просто «отец». Но даже это внушает ему сомнения, и вот он молится, преклонив колени, молится, как молился уже много часов этой ночью и как будет молиться еще долгие часы, дни и ночи — с тех самых пор, как крестоформ отпал от его груди и вышел из тела после причастия кровью Энеи.
Отец де Сойя молит о прощении, которого — он твердо знает — оннедостоин. Он молит о прощении за годы службы Империи, за многие битвы, за отнятые им жизни, за прекрасные творения Господа и дела рук человеческих, которые он разрушил. Отец Федерико де Сойя молится, преклонив колени, в тишине кельи и просит Господа своего и Спасителя… Бога Отца Милосердного, в которого его научили верить и который — он уже ничего не знает твердо — вряд ли простит его… просит простить его — не ради него самого, но ради того, чтобы все его намерения, деяния и действия в те месяцы, годы или даже часы, которые ему отпущены, — направлялись единственно и исключительно к служению и восхвалению Его Божественного Величия.
Я разрываю этот контакт с внезапным отвращением к себе, будто поймал себя на подглядывании. И в то же мгновение осознаю, что если Энея знала язык живых с самого рождения, то, конечно, она тратила больше сил на то, чтобы отказаться от этого знания, избежать непрошеного вторжения в чужую жизнь — нежели на то, чтобы его совершенствовать.
Открыв диафрагму в стене кокона, Энея выбралась на мягкий дерн органического балкончика, прихватив комлог. Я выплыл следом и плавно опустился рядом — здесь тяготение благодаря силовому полю составляет 0,1g. Над диском комлога голограммы Хета Мастина, Кета Ростина и Навсона Хемнима — но все они смотрят в сторону от объектива, как и Энея.
Я поднимаю голову и вижу, куда они смотрят.
Сквозь крону Звездного Древа пробиваются огненные росчерки, распускаются, как розы, оранжевые и алые сполохи. Мгновение мне кажется, что это всего лишь блики на листьях, каракатицы, «ангелы» и поливочные кометы, отражающие свет… И тут я понимаю, что это.
Корабли Имперского Флота пробиваются сквозь Звездное Древо в сотне мест сразу, и их огненные хвосты рассекают стволы и ветви, словно холодно блистающие клинки.
Под градом листьев и древесных обломков, разлетающихся на тысячи километров, ветвь, кокон и балкон сотрясаются, как от землетрясения.
И наступил сверкающий хаос. Лазерные пучки кроили пространство, становясь видимыми благодаря истекающей в вакуум атмосфере, благодаря живой материи, обращенной во прах, благодаря пылающим листьям, крови Бродяг и тамплиеров. Лучи резали и сжигали все, что попадалось на их пути.
В нескольких километрах от нас ярко расцветают новые взрывы. Силовое поле пока еще держится, и грохот обрушивается на стену кокона, трепещущую, будто шкура раненого зверя.
Комлог Энеи погас в тот самый миг, когда Звездное Древо над нами вспыхнуло и взорвалось в безмолвии вакуума. Рев, крики и вопли были еще слышны, но я понял — через считанные секунды поле откажет, и нас с Энеей вынесет в окружении тонн обломков в открытый космос.
Я хотел было втащить ее в кокон, который уже пытался закрыться в бесплодной попытке выжить.
— Нет, Рауль, смотри!
Над нами, под нами, вокруг нас Звездное Древо полыхало взрывами, разлетались в щепу лианы и ветви, огонь пожирал Бродяг-«ангелов», лопались десятикилометровые рабочие каракатицы, вспыхивали, как спички, пытавшиеся отчалить деревья-корабли.
— Они убивают эргов! — прокричала Энея сквозь рев ветра и грохот взрывов.
Я молотил кулаками по стене, выкрикивая команды. Диафрагма открылась всего лишь на секунду, и я успел втащить Энею внутрь.
Но и здесь не было спасения. Плазменные сполохи проникали даже сквозь поляризованные стены кокона.
Выхватив из шкафчика рюкзак, Энея втиснулась в лямки, я быстро сунул за пояс нож — как будто нож чем-то может помочь!
— Мы должны добраться до «Иггдрасиля»! — крикнула Энея, и мы бросились к транспортной ветви, но кокон не выпустил нас. С той стороны раздался рев.
— Ветвь сломана, — выдохнула Энея. Она так и не выпустила из рук комлог — старинный, с корабля Консула — и теперь запросила данные из сети Звездного Древа. — Мосты сожжены. Мы должны добраться до дерева-звездолета.
За стеной расцветают оранжевые сполохи взрывов. «Иггдрасиль» — в десяти километрах от нас, на восточной поверхности Биосферы. Но без подвесных мостов и транспортных ветвей он с таким же успехом может быть и в тысяче световых лет.
— Вызови сюда корабль, — говорю я. — Корабль Консула.
— Хет Мастин готовит «Иггдрасиль» к отправке… — качает головой Энея. — Нет времени выводить корабль из ангара. Мы должны попасть туда максимум через четыре минуты, или… А как насчет «второй кожи»? Мы могли бы долететь.
Теперь моя очередь покачать головой.
— Ее тут нет. Я отдал ее А.Беттику.
Кокон яростно затрясся, и Энея оторвалась от комлога. Стена раскалилась докрасна и уже начала оплывать.
Распахнув свой шкафчик, я принялся расшвыривать в стороны одежду и снаряжение. Нет, не то! Вот он — подарок отца капитана де Сойи! Я стянул с ковра кожаный футляр.
Прикосновение к управляющим нитям — и расправившийся ковер-самолет повис в невесомости. Электромагнитное поле здесь еще не отказало.
— Пошли! — крикнул я, втащив Энею на ковер. Ровно в это мгновение стена расплавилась окончательно.
И сквозь разрыв мы вылетели навстречу вакууму и безумию битвы.
Глава 28
Эрги еще удерживали магнитное поле, но его конфигурация как-то странно изменилась. Вместо того чтобы лететь к «Иггдрасилю» вдоль широкой — с бульвар шириной — ветви, ковер-самолет так и норовил развернуться к ней перпендикулярно, и тогда мы как бы переворачивались вниз головой, а ковер возносился вверх, как лифт, среди дрожащих ветвей, раскачивающихся мостиков, разорванных транспортных стволов, огненных всполохов и полчищ Бродяг, которые улетали в открытый космос, чтобы сразиться и умереть. Ничего, пусть ковер-самолет вытворяет, что хочет, только бы доставил нас к цели.
Кое-где в пузырях силового поля еще сохранилась атмосфера, но большая часть полей погибла вместе с поддерживавшими их эргами. Воздуха здесь было много, даже слишком много, и теперь весь он просачивался и улетучивался в пространство. Скафандрами мы не запаслись. Зато в самый последний момент в коконе я вспомнил, что у ковра есть собственное слабенькое поле, способное удерживать атмосферу. Девять лет назад ковер неплохо послужил нам, когда на безымянной покрытой джунглями планете мы залетели в верхние слои, — оставалось надеяться, что система еще работает.
Она еще работала… по крайней мере отчасти. Силовое поле включилось, как только мы вырвались из кокона и понеслись сквозь хаос. Я почти физически ощущал, как просачивается наружу разреженный воздух, и твердил себе, что мы все равно доберемся до «Иггдрасиля».
И мы добрались — но добрались просто чудом.
Я не в первый раз наблюдал космическую битву — взять хотя бы ту, когда мы с Энеей не так уж много стандартных дней… эпох назад с верхней террасы Храма-Парящего-в-Воздухе любовались фейерверком в окололунном пространстве, когда Имперский Флот подбил звездолет отца де Сойи, — но я в первый раз наблюдал космическую битву, в которой пытались убить меня.
Там, где еще сохранялся воздух, шум стоял оглушительный: взрывы, треск ломающихся стволов, хруст ветвей, рев погибающих каракатиц, вой сирен, лепет и улюлюканье комлогов. А в вакууме стояла еще более оглушительная тишина: беззвучные взрывы, швырявшие в пространство тела Бродяг и тамплиеров, пламя без треска, безмолвные вопли, безветренные ураганы.
Мы погружались в мальстрем, а Энея не отрывалась от старинного комлога Сири. Систинж Кордуэлл что-то кричал с крохотного голографического дисплея, потом появились, отчаянно жестикулируя, Кент Куинкент и Сян Куинтана Ка’ан. Я был слишком поглощен ковром-самолетом, чтобы прислушиваться к их отчаянным диалогам.
Я уже больше не видел «архангелов» Флота, и только лазерные лучи кроили газовые облака, вспарывали Звездное Древо, как скальпели — живую плоть. Громадные стволы и ветви кровоточили, их соки, смешавшись с километрами оптоволоконных лиан и кровью Бродяг, выкипали в вакууме. У меня на глазах луч располосовал десятикилометровую рабочую каракатицу, и ее изящные щупальца задергались в разрушительной пляске смерти. Бродяги-«ангелы» взлетали тысячными роями и тысячными роями погибали. Дерево-звездолет попыталось отчалить, но лазерный луч настиг его. Атмосферный кислород вспыхнул мгновенно, и весь экипаж погиб в огненном смерче.
— Это не «Иггдрасиль»! — прокричала Энея.
Я кивнул. Погибший корабль двигался из северной части сферы, а до «Иггдрасиля» уже рукой подать, не больше километра вдоль вибрирующей, разламывающейся ветви.
Если только я не сбился с пути. И если «Иггдрасиль» еще не уничтожен. И если он не отчалил без нас.
— Я говорила с Хетом Мастином! — Энее приходилось кричать. Мы как раз пролетали облако растекавшегося воздуха, и шум стоял оглушительный. — На борту только три сотни из тысячи.
— Угу, — отозвался я. Я не понимал, о чем она. Какой тысячи? Откуда тысячи? Некогда расспрашивать. Не отрывая глаз от темного пятна кроны, замаячившего в километре слева от нас, на другой спиральной ветви корабля, я повернул ковер. «Иггдрасиль» это или не «Иггдрасиль», все равно бежать больше некуда. Электромагнитное поле с каждой минутой слабело, скорость ковра падала прямо на глазах.
И вдруг поле исчезло. Ковер-самолет дернулся в последний раз и полетел кувырком среди изувеченных ветвей.
— Ну, вот и все, — сказал я. Мои слова прозвучали очень тихо — за исчезающим силовым куполом уже не было воздуха. Ковер-самолет был сконструирован семь веков назад влюбленным стариком для обольщения юной племянницы, а не для полетов в открытом космосе. — Мы сделали все, что могли, детка.
Я снял руки с нитей управления и обнял Энею.
— Нет! — Энея впилась пальцами мне в руку. — Нет, нет, — повторяла она и что-то набирала на комлоге.
На фоне кувыркающихся звезд появилось лицо Хета Мастина.
— Да, я вас вижу.
Исполинское дерево-звездолет зависло в километре над нами. Сплетение покрытых листьями ветвей зеленело за мерцающим лиловым куполом силового поля, медленно отделяясь от пылающего Звездного Древа. Ковер здорово тряхнуло, и на долю секунды я подумал, что нас подбили с «архангела».
— Эрги нас втянут! — закричала Энея, схватив меня за руку.
— Эрги? — переспросил я. — Мне казалось, что на дереве-корабле только один эрг, управляющий движением и силовыми полями.
— Обычно один. Иногда — два, если маршрут нестандартный: например, при путешествии в верхние слои звезды или сквозь ударную волну гелиосферы двойных звезд.
— Значит, на «Иггдрасиле» два эрга?
Дерево приближалось, заслоняя звезды. Позади нас беззвучно вспыхивали плазменные взрывы.
— Нет. Двадцать семь.
Силовое поле втянуло нас в корабль. Верх и низ поменялись местами. Мы спланировали на верхнюю палубу, чуть ниже мостика, у самой кроны корабля. Не успел я отключить исчезающе малое защитное поле, как Энея, подхватив рюкзак и комлог, бросилась к лестнице.
Я аккуратно скатал ковер, сунул его в кожаный футляр, закинул за спину и рванул вдогонку.
На мостике был только капитан корабля Хет Мастин со своими помощниками, но на палубах и лестницах толпилось множество народу — Рахиль, Тео, А.Беттик, отец де Сойя, сержант Грегориус, Лхомо Дондруб, десятки беженцев с Тянь-Шаня и еще многие десятки людей, не Бродяг и не тамплиеров, самых обыкновенных мужчин, женщин и детей, которых я видел впервые.
— Это беженцы с сотни миров Священной Империи, их подобрал «Рафаил» отца капитана де Сойи, — пояснила Энея. — Мы рассчитывали принять на борт еще несколько сотен человек, но теперь слишком поздно.
Я последовал за ней на мостик. Хет Мастин стоял в круге органического сенсорного управления: он видел данные, поступающие от оптоволоконных нервов, которые пронизывали все дерево, голограммы космоса за правым и левым бортом, за кормой и прямо по курсу, отсюда он мог мгновенно связаться с тамплиерами, которые несли вахту с эргами в ядре поддержания сингулярности, в корневых двигателях и на всех остальных постах. Посередине висела голограмма самого дерева, и Хет Мастин в любой момент мог коснуться ее своими длинными пальцами, чтобы вызвать посты или изменить курс.
Тамплиер оглянулся на Энею, быстрыми шагами пересекавшую священный мостик. Полуприкрытое капюшоном лицо с азиатскими чертами хранило полнейшую невозмутимость.
— Очень приятно, что вы не остались за бортом, Та-Кто-Учит. Куда вы хотите направить корабль?
— За пределы системы, — без колебаний ответила Энея.
Хет Мастин кивнул:
— Разумеется, мы привлечем огонь. Огневая мощь Имперского Флота поразительна.
Энея ничего не сказала. Голограмма дерева медленно повернулась, а вместе с ней повернулись и звезды за бортом. Продвинувшись еще километров на двести внутрь системы, мы развернулись и полетели обратно, к изувеченной Биосфере. Там, где висели в сплетении ветвей наши коконы, теперь зияла дыра. Тысячи квадратных километров леса погибли. «Иггдрасиль» медленно проплыл среди миллиардов плавно кружащихся листьев — кое-где еще сохранились остатки воздуха, и листья ярко пылали, а их пепел покрывал серым слоем невидимую границу силового поля, — и аккуратно вышел за пределы Биосферы.
Все пространство позади нас было заполнено мириадами мерцающих светлячков, горящих силовых полей, бесчисленными вспышками и взрывами, огненными росчерками ракет, гиперкинетических торпед, маленьких истребителей и «архангелов». Звездное Древо напоминало планету вулканов, извергающую пламя и град обломков. Поливочные кометы и астероиды, сбитые с орбит ударами Флота, пробивали Звездное Древо как пушечные ядра. Хет Мастин высветил тактическую голограмму, и нашим взорам предстала вся Биосфера. Она полыхала пожарами (кое-где пламя бушевало на поверхности размером с мой родной Гиперион), на ней зияли сотни тысяч разрывов и прорех. Радары ближнего и дальнего слежения зафиксировали тысячи самодвижущихся объектов, но их число убывало с каждой секундой — мощные «архангелы» один за другим уничтожали корабли-разведчики, факельщики, истребители и корабли-деревья Бродяг с расстояния в несколько астрономических единиц. Миллионы Бродяг-вакуумщиков бросались на атакующих и гибли, как мотыльки в пламени огнемета.
На мостик решительно взошел Лхомо Дондруб, одетый во «вторую кожу». В руках он держал длинную штурмовую винтовку.
— Энея, куда мы, тысяча чертей, направляемся?
— Из системы, — ответила она. — Лхомо, мы должны уйти.
— Нет! — покачал головой летун. — Мы должны остаться и принять бой. Нельзя бросать друзей.
— Лхомо, мы не можем спасти Звездное Древо. Я должна уйти отсюда, чтобы сразиться с Империей.
— Давай убегай, если ты должна! — воскликнул Лхомо, натягивая на голову серебристый капюшон. Его безупречные черты исказились гневом. — А я останусь и буду сражаться здесь.
— Они убьют тебя, друг, — спокойно сказала Энея. — Тебе не одолеть звездолет класса «архангел».
— Ну, это мы еще посмотрим! — бросил Лхомо. Серебристая пленка теперь покрыла все, кроме его лица. — Удачи, Рауль.
— И тебе тоже, — ответил я. Горло у меня перехватило, и я покраснел от стыда, что остаюсь, и от горечи расставания с этим отважным человеком.
— Лхомо, ты бы лучше помог борьбе, если б отправился с нами… — притронулась к его могучей руке Энея.
Покачав головой, Лхомо опустил текучую маску. Динамики синтезировали искаженный, звенящий металлом голос:
— Удачи тебе, Энея. И да помогут тебе Будда и Христос. Да помогут Будда и Христос всем нам.
Подойдя к краю платформы, он оглянулся на Хета Мастина. Тамплиер кивнул, коснулся голограммы и прошептал что-то в оптоволоконный датчик.
Гравитация ослабла. Наружное поле замерцало и сдвинулось. Лхомо перебросило, развернуло и катапультировало в открытый космос. Серебряные крылья развернулись, наполнились солнечным ветром и понесли его вместе с парой десятков Бродяг, вооруженных жалкими винтовками, к ближайшему «архангелу».
На мостик поднялись Рахиль, Тео, Дорже Пхамо, отец де Сойя, сержант, А.Беттик и далай-лама. Они вежливо держались поодаль, чтобы не мешать капитану.
— Нас засекли, — сообщил Хет Мастин. — Открывают огонь.
Силовое поле окрасилось алым. Я услышал шипение. Казалось, мы провалились в центр звезды. Дисплеи мигнули.
— Держит, — сказал Истинный Глас Древа Хет Мастин. — Держит.
Он говорил о защитном поле, но Флот тоже держал нас на мушке, продолжая обстрел, пока мы разгонялись. О движении сообщали лишь голографические дисплеи — над нами не было ни одной звезды, только потрескивающий, шипящий огненный свод. Разрушительная энергия бурлила и неистовствовала в нескольких десятках метров от нас.
— Позвольте узнать, какой курс? — осведомился Хет Мастин у Энеи.
Она устало коснулась лба, словно пыталась вернуться к реальности.
— Куда-нибудь, где видны звезды.
— Под таким обстрелом нам ни за что не добраться до точки перехода, — сказал тамплиер.
— Знаю. Просто… подальше… где я смогу видеть звезды.
— Возможно, мы уже никогда не увидим звезды. — Хет Мастин поднял глаза к бушующему адскому пламени.
— Мы должны, — просто сказала Энея.
Внезапно послышались взволнованные крики. Я оглянулся.
Над мостиком были всего две или три крохотные платформы, и на одной из них стояла высокая фигура. Клоны экипажа кричали и указывали на нее. Хет Мастин задрал голову к площадочке, возвышавшейся над мостиком на пятнадцать метров, и обернулся к Энее:
— Повелитель Боли летит с нами.
Отблески адского пламени, неистовствующего по ту сторону силового поля, играли на лбу и панцирной груди Шрайка.
— А я думал, он погиб на Тянь-Шане, — сказал я.
Такой усталой я не видел Энею еще ни разу.
— Это существо перемещается во времени куда легче, чем мы — в пространстве, Рауль. Возможно, он погиб на Тянь-Шане… или тысячу лет спустя, в битве с полковником Кассадом… а возможно, он вообще бессмертен… Мы никогда не узнаем.
И тут, словно услышав, что говорят о нем, на мостик взошел полковник. Федман Кассад был в архаичном полевом скафандре Гегемонии, в руках он держал винтовку из арсенала корабля Консула и как одержимый неотрывно смотрел на Шрайка.
— Могу я туда подняться? — спросил Кассад у капитана.
Не отрываясь от управления, Хет Мастин указал на тросы и веревочные лестницы, которые вели к верхней платформе.
— Только никакой стрельбы на этом дереве! — окликнул он полковника. Тот молча кивнул и начал взбираться вверх.
Остальные обратили взгляды к голограммам. Три «архангела»… ближе чем в миллионе километров… Они поливали нас огнем по очереди, чтобы иметь возможность обстреливать и другие цели. Наше странное нежелание погибать только разъяряло их, и фотонные пучки обрушивались на корабль один за другим, проползая от четырех до десяти световых секунд и разбиваясь о силовое поле.
— В нас выпущены торпеды, — доложил один из помощников капитана с таким же безразличием, с каким объявляют: «Кушать подано». — Две… четыре… девять. Субсветовые. Предположительно с плазменными боеголовками.
— Мы выдержим удар? — спросила Тео.
Рахиль подошла к лестнице, провожая взглядом карабкающегося наверх полковника.
Хет Мастин был слишком занят, за него ответила Энея:
— Неизвестно. Зависит от связующих… от эргов.
— Шестьдесят секунд до контакта, — бесстрастно доложил помощник.
Хет Мастин коснулся рукоятки управления. Голос его звучал совершенно нормально, но я догадался, что сейчас он слышен во всех уголках километрового дерева-корабля.
— Прошу всех защитить глаза и не смотреть в сторону поля. Связующие постараются по возможности ослабить яркость вспышки, но, пожалуйста, не смотрите вверх. Мир Мюира да будет со всеми нами.
— Детка, а наш корабль вооружен? — Я посмотрел на Энею.
— Нет.
— Значит, мы просто сбежим без боя?
— Да, Рауль.
— Тогда я согласен с Лхомо, — прошипел я сквозь зубы. — Мы уже достаточно драпали. Самое время помочь нашим друзьям.
Взорвалось не меньше трех торпед. Впоследствии мне казалось, что я увидел череп и позвоночник Энеи прямо сквозь кожу и мышцы, но такого, наверное, просто не может быть. Миг полной невесомости — и тяготение в одну шестую g восстановилось. От инфразвукового грохота заныли все зубы и кости.
Когда я проморгался, Энея по-прежнему стояла передо мной — щеки раскраснелись, на них сверкают бисеринки пота, волосы небрежно стянуты на затылке, взгляд усталый, но невероятно живой, руки покрыты загаром, — и я вдруг подумал, что не так уж и страшно умереть сейчас, унося в вечность образ Энеи, запечатленный в душе.
Еще две плазменные боеголовки заставили корабль содрогнуться. Потом еще четыре.
— Держатся, — произнес помощник капитана. — Все поля держатся.
— Лхомо и Рауль правы, Энея. — Дорже Пхамо царственно выступила вперед. — Ты убегала от Империи много лет. Пора дать им отпор… Всем нам давно пора дать им отпор.
Не веря своим глазам, я пристально смотрел на старуху. Ее окружала аура… нет, не то слово, слишком уж мистическое… словом, от нее исходило ощущение яркого цвета — темно-карминного, такого же сильного и насыщенного, как и она сама. А потом я вдруг понял, что вижу ауру… нет, не ауру, цвет каждого: яркую синеву отваги Лхомо, золото уверенности Хета Мастина, фиолетовое мерцание потрясения полковника Кассада… Может, это последствие того, что я понял язык живых? А может, и перенапряжение зрительных нервов от сияния плазменных взрывов. Я знаю, что этих цветов на самом деле нет, что это мой разум проводит аналогии, наделяя мое близорукое восприятие личности зрительными образами.
А цвета, окружавшие Энею, не только охватывали весь спектр, но и выходили за его пределы — ее сияние словно наполнило весь корабль и было таким же ослепительно ярким, как сияние плазменных взрывов снаружи.
— Нет, мэм, — мягко, почтительно возразил Джорже Пхамо отец де Сойя. — Лхомо и Рауль не правы. Вопреки всему нашему гневу и желанию дать отпор, права Энея. Лхомо еще может познать — если останется в живых — то, что все мы познаем, если останемся в живых. После причастия Энеи боль, которую мы причиняем другим, становится нашей болью. В буквальном смысле. Физически. Пока чужая боль не станет твоей, ты не постигнешь язык живых.
Дорже Пхамо посмотрела сверху вниз на низенького священника.
— Я знаю, что это правда, христианин. Но это не значит, что мы не можем дать отпор, когда другие причиняют боль нам. — Она обвела рукой медленно проясняющееся силовое поле, звездную россыпь боевых кораблей и тлеющие угли. — Империя… этот молох… уничтожает великое творение человеческих рук. Мы обязаны остановить их!
— Не сейчас, — ответил отец де Сойя. — Это не наш бой. Верьте Энее.
В круг ступил великан сержант Грегориус.
— Каждая клеточка моего тела, каждое мгновение моей выучки, каждый шрам, полученный за годы боев, — все во мне буквально вопит, что надо сразиться с ними немедленно, — пророкотал он. — Но я всегда верил своему капитану. Теперь я верю своему духовнику. И если он говорит, что мы должны верить молодой даме, — значит, мы должны ей верить.
Хет Мастин поднял ладонь, и воцарилось молчание.
— Ваш спор — пустая трата времени. Как сказала вам Та-Кто-Учит, «Иггдрасиль» не вооружен, наша единственная защита — эрги. Но они не способны перевести двигатель в режим С-плюс, поддерживая столь мощный энергетический щит. Фактически у нас нет тяги… Мы дрейфуем всего в нескольких световых минутах от исходного пункта. А пять «архангелов» изменили курс и идут наперехват. — Тамплиер обвел всех взглядом. — Прошу всех, кроме преподобной Той-Кто-Учит и ее друга Рауля, покинуть мостик и подождать внизу.
Все молча ушли с мостика. Рахиль, оглянувшись, посмотрела наверх. Я проследил ее взгляд. Полковник Кассад стоял рядом со Шрайком. Хоть он и был высок, но казался карликом по сравнению с трехметровой скульптурой из хромированных шипов и клинков. Вглядываясь друг в друга с расстояния вытянутой руки, оба хранили полнейшую неподвижность.
Я опустил глаза к голограммам. Светлячки имперских кораблей быстро приближались.
— Возьми меня за руку, Рауль, — попросила Энея. — Звезды, — шепнула она. — Смотри на звезды. И слушай их.
Корабль-дерево «Иггдрасиль» висел на низкой орбите около оранжево-красной планеты с белыми полярными шапками, древними вулканами и речной долиной, протянувшейся на пять тысяч километров, как шрам от аппендицита.
— Это Марс, — сказала Энея. — Полковник Кассад покинет нас здесь.
Полковник уже стоял на мостике, он спустился сразу после квантового прыжка. Вряд ли найдутся слова или образы, адекватно передающие то, что произошло: еще мгновение назад корабль был в системе Биосферы, медленно двигаясь по инерции с умолкшими двигателями, в окружении атакующих «архангелов», и вдруг мы уже около мертвой планеты в системе Старой Земли.
— Как ты это сделала? — спросил я Энею. Я не сомневался, что это она.
— Я научилась слушать музыку сфер. После этого остается только сделать шаг.
Я по-прежнему держал ее за руку и не собирался отпускать, пока она не объяснит все нормальным языком.
— Место можно понять, Рауль, — сказала она, зная, что в этот момент нас слушают многие. — Это — как услышать его музыку. У каждой планеты — своя партитура. У каждой звездной системы — своя соната. У каждого конкретного места своя, и только своя, чистая нота.
— Нуль-транспортировка без портала? — Я все не выпускал ее руки.
— Квантовый скачок в прямом смысле слова. Туннелирование в макровселенной подобно тому, как электрон туннелирует в бесконечно малой области. Шаг через Связующую Бездну.
Я покачал головой.
— Энергия. Откуда берется энергия, детка? Из ничего приходит ничто.
— Но из всего приходит все.
— Что это значит, Энея?
Она отняла руку и погладила меня по щеке.
— Помнишь наш давний-давний разговор о ньютоновской физике любви?
— Любовь — эмоция, детка. Не форма энергии.
— И то, и другое, Рауль. Правда. И единственный ключ к величайшим запасам энергии Вселенной.
— Ты говоришь о религии?
— Нет, я говорю о вспыхивающих квазарах, об укрощенных пульсарах, о взрывающихся ядрах галактик. Я говорю о великом инженерном проекте двух с половиной миллиарднолетней давности, который только-только начинает реализовываться.
Я смотрел на нее в полном ошалении.
— Об этом после, любимый, — покачала она головой. — А сейчас просто пойми, что телепортация возможна и без портала. Настоящих порталов не было никогда… никогда никакие волшебные двери не открывали дорогу в иные миры… только извращенный Техно-Центром второй величайший дар Бездны.
Я чуть было не спросил, какой величайший дар Бездны считать первым. Видимо, язык мертвых… точнее, голос моей матери. Но спросил я совсем о другом.
— Так вот, значит, как ты с Рахиль и Тео путешествовала с планеты на планету без потерь в объективном времени?
— Да.
— И так же отправила корабль Консула с Тянь-Шаня на Биосферу без двигателя Хоукинга?
— Да.
Я собирался сказать: «И ушла на ту неведомую планету, где встретила своего любовника, вышла замуж и родила?» — но не смог.
— Это Марс, — нарушила молчание Энея. — Полковник Кассад покинет нас здесь.
Высокий воин встал рядом с ней. Рахиль подошла поближе, поднялась на цыпочки и поцеловала его.
— Когда-нибудь тебя будут звать Монета, — нежно сказал Кассад. — И мы будем любить друг друга.
— Да. — Рахиль отступила.
Энея взяла полковника за руку. Он так и не расстался со своим древним скафандром, винтовка уютно лежала на сгибе его локтя. С легкой усмешкой полковник взглянул на верхнюю палубу, где по-прежнему стоял Шрайк, залитый кровавым светом Марса.
— Рауль, — спросила Энея, — идешь?
Я взял ее за другую руку.
Ветер швырял песок в глаза, дышать было нечем. Энея сунула мне осмотическую маску, и я торопливо натянул ее.
Мы стояли посреди красного песка и красных скал, под низким, хмурым розовым небом, на дне сухого речного русла со скалистыми берегами. Полковник натянул капюшон полевой формы, и в наушниках сквозь треск помех зашелестел голос:
— Здесь я и начинал. Лагерь для перемещенных в Катарсисе, километров пятьсот в том направлении. — Он махнул рукой в сторону крохотного солнца, висевшего над самыми верхушками скал. Массивный боевой скафандр придавал полковнику зловещий вид, тяжелая штурмовая винтовка казалась на здешних равнинах вполне уместной и нисколько не архаичной. Кассад обернулся к Энее: — Что я должен сделать, женщина?
— Империя временно отступила с Марса и из системы Старой Земли, — решительно, быстро и уверенно проговорила Энея, — из-за палестинских повстанцев и выхода Марсианской Боевой Машины в космос. Тут нет никаких стратегических объектов, ради которых стоило бы цепляться за Марс, когда у них такая нехватка ресурсов.
Кассад кивнул.
— Но они вернутся, — продолжила Энея. — С войсками. Не только для того, чтобы усмирить Марс, но чтобы захватить всю систему. — Она помолчала, обводя взглядом окрестности. Я заметил темные человеческие фигуры, приближавшиеся к нам по усеянной валунами пустыне. В руках у них было оружие. — Вы не должны допустить их в систему, полковник. Делайте все, что сочтете нужным… жертвуйте всеми, кем придется… но не допускайте их в систему Старой Земли в ближайшие пять стандартных лет.
Еще ни разу мне не доводилось слышать, чтобы моя любимая проявляла такую безжалостность и непреклонность.
— Пять стандартных лет, — повторил полковник Кассад, криво усмехнувшись под визором капюшона. — Нет проблем. Вот если бы пять марсианских лет, мне бы пришлось помучиться.
Энея улыбнулась. Фигуры приближались сквозь кипящую песчаную бурю.
— Вы должны возглавить марсианское движение сопротивления, — очень серьезно сказала она. — Любым способом.
— Слушаюсь, — так же серьезно и решительно ответил полковник.
— Объедините разрозненные воюющие племена и фракции.
— Слушаюсь.
— Образуйте более прочный альянс с астронавтами Марсианской Боевой Машины.
Кассад кивнул. Фигуры виднелись уже в какой-то сотне метров от нас.
— Защитите Старую Землю, — с нажимом проговорила Энея. — Дайте имперским войскам отпор любой ценой.
Я недоуменно уставился на нее. Полковник, казалось, тоже был удивлен.
— Систему Старой Земли, — уточнил он.
— Старую Землю, Федман, — покачала головой Энея. — Не подпускайте Имперский Флот. У вас в распоряжении около года, чтобы взять под контроль всю систему. Желаю удачи.
Они обменялись рукопожатием.
— Ваша матушка была чудесной, отважной женщиной, — сказал полковник. — Я ценил ее дружбу.
— А она ценила вашу.
Темные фигуры подходили все ближе и ближе, прячась за валунами и дюнами. Полковник Кассад зашагал им навстречу, высоко подняв правую руку, не выпуская винтовки.
Энея взяла меня за руку.
— Холодно, Рауль?
Да. Холодно. Вспышка света — как безболезненный взрыв в голове, и вот мы снова стоим на мостике «Иггдрасиля». При нашем появлении все испуганно отступили — не так-то просто искоренить страх перед магией. За ветвями и куполом силового поля холодно алел Марс.
— Какой курс, преподобная Та-Кто-Учит? — спросил Хет Мастин.
— Туда, где видно звезды.
Глава 29
«Иггдрасиль» продолжал путь. Древо Боли — так назвал его капитан, тамплиер, Истинный Глас Древа Хет Мастин. И я не мог возразить. Каждый скачок отнимал у моей Энеи, моей любимой, моей несчастной, измученной Энеи все больше энергии, и каждое расставание наполняло опустошающийся резервуар энергии горем, обращая его в сосуд скорби. И все это время Шрайк бесполезно, одиноко стоял на верхней площадке, как чудовищный бушприт обреченного корабля, как черный ангел смерти на верхушке безрадостной рождественской елки.
Оставив полковника Кассада на Марсе, корабль-дерево совершил скачок на орбиту Мауи-Обетованной. Охваченная мятежами планета бунтовала в самом сердце Империи, и я ожидал увидеть полчища боевых кораблей, но те несколько часов, что мы провели там, нас так никто и не атаковал.
— Одно из преимуществ нападения армады на Биосферу, — с горькой иронией заметила Энея. — Они оголили все внутренние системы.
Шагнув на Мауи-Обетованную, Энея взяла за руку Тео. И вновь я сопровождал мою любимую и ее подругу.
На миг все вокруг залило ослепительно белое сияние. Я моргнул, а когда открыл глаза, мы уже стояли на плавучем острове — теплый тропический ветер наполняет деревья-паруса, сверху — синее-синее небо, внизу — синее-синее море. Впереди, позади, справа и слева — дрейфуют острова, их сопровождают всадники на дельфинах, оставляя пенные кильватерные следы.
На верхней площадке были люди, но наше чудесное появление не напугало их, а лишь заинтриговало. Тео обняла высокого блондина и его темноволосую жену, которые вышли приветствовать нас.
— Энея, Рауль, — торжественно произнесла она, — имею честь представить вам Мерри и Денеб Аспик-Коро.
— Мерри? — переспросил я, пожимая его сильную руку.
Он улыбнулся:
— От того самого Мерри Аспика меня отделяют десять поколений. Но зато я прямой потомок. А Денеб — прямой потомок нашей прославленной Сири. — Он положил ладонь на плечо Энее. — Ты вернулась, как и обещала. И привела нашего самого отважного бойца.
— Да, — кивнула Энея. — Вы должны беречь ее. В ближайшие месяцы вам следует избегать стычек с имперскими войсками.
Денеб Аспик-Коро рассмеялась:
— Пока что мы попросту удираем. Трижды мы пытались уничтожить нефтяную платформу на Трех Течениях, и трижды они налетали на нас как ястребы. Теперь мы надеемся только добраться до Экваториального Архипелага и скрыться среди мигрирующих островов, чтобы со временем перегруппироваться на подводной базе в Лат-Зеро.
— Берегите ее, чего бы вам это ни стоило, — повторила Энея и повернулась к Тео: — Мне будет очень тебя не хватать, друг мой.
Тео Бернар и без того с трудом сдерживала слезы, а при этих словах разрыдалась и с каким-то отчаянием обняла Энею.
— Все это время… было славно, — проговорила она, отстраняясь. — Молюсь за твой успех. И молюсь за твой провал… ради твоего же блага.
Энея покачала головой.
— Молись за наш успех. — Она прощально махнула рукой, и мы спустились на нижнюю площадку.
Воздух был напоен одуряющим соленым запахом моря. Солнце сияло так неистово, что больно было смотреть. Сквозь прозрачную как стекло воду виднелись спины дельфинов. Как бы мне хотелось остаться здесь навсегда…
— Пора. — Энея взяла меня за руку.
Когда мы уже выходили из поля Мауи-Обетованной, на радаре появился факельщик, но мы игнорировали его. Энея стояла на мостике и глядела на звезды. Я тихонько подошел к ней.
— Ты слышишь их? — шепнула она.
— Звезды, что ли?
— Планеты. Людей на планетах. Их тайны и мечты. Биение множества сердец.
Я покачал головой:
— Когда я не сосредоточен на чем-нибудь другом, меня преследуют голоса и видения. Иные времена. Мой отец, он вместе с братьями охотится в пустошах. Отец Главк, сброшенный Радамантой Немез в бездонную шахту.
— Ты уже знаешь? — посмотрела на меня Энея.
— Да. Ужасно. Он не мог видеть, кто на него напал. Падение… тьма… холод… мгновение боли… смерть. Он отказался принять крестоформ. Вот почему Церковь сослала его на Седьмую Дракона… в ледяное изгнание.
— Да. За последние пять лет я много раз видела его последние минуты. Но у отца Главка есть и другие воспоминания, Рауль. Теплые, прекрасные воспоминания… Полные света. Надеюсь, ты отыщешь их.
— Только мне хочется, чтобы голоса умолкли, — честно признался я. — Это… — Я обвел рукой корабль, пассажиров, Хета Мастина, стоявшего на капитанском мостике. — Все это слишком важно.
— Все слишком важно, — улыбнулась Энея. — Тяжкая проблема, а? — Она вновь взглянула на звезды. — Нет, Рауль, прежде чем сделать шаг, ты должен научиться слышать не только слова мертвых… не только слова живых. Ты должен услышать… суть вещей.
Чуть помедлив, я продолжил:
…Сотни тысяч раз В часы отлива обнажалось дно. А тварь все ждет. Но ей не суждено, Дождавшись срока, обрести покой…— …пусть мир она изучит колдовской, — с улыбкой подхватила Энея:
Каков он есть, пускай познает ход, Светил небесных и движенье вод, Познает смысл вещей и хоть чуть-чуть Субстанций, звуков, форм постигнет суть — Но не умрет…[120]Она снова улыбнулась.
— Интересно, как там дядюшка Мартин? Убивает время в холодном сне? Гоняет туда-сюда своих разнесчастных андроидов? Все еще трудится над неоконченными «Песнями»? Знаешь, я еще ни разу не видела дядю Мартина в своих видениях.
— Он умирает, — буднично сказал я.
Энея ошарашенно заморгала.
— Он пришел ко мне… я видел его… сегодня утром. Он сегодня разморозился в последний раз, он сам это сказал своим андроидам. Жизнь в нем поддерживает специальная аппаратура. Действие поульсенизации прекратилось окончательно. Он… — Я осекся.
— Скажи мне, — попросила Энея.
— Он не умрет, пока тебя не увидит. Но он очень плох.
— Странно. — Энея отвела глаза. — Мама с дядей Мартином грызлись все паломничество. Порой они готовы были поубивать друг друга. А перед ее смертью он уже был ее лучшим другом. Теперь… — Ее голос прервался.
— Ты просто должна выжить, детка, — сказал я каким-то чужим голосом. — Останься в живых и вернись повидаться со стариком. Ты обязана ему хотя бы этим.
— Возьми меня за руку, Рауль.
Корабль телепортировался сквозь свет.
Близ Тау Кита-Центра нас тотчас же обстреляли — не только корабли Имперского Флота, но и факельщики повстанцев, сражавшихся за отделение планеты от господствующей Церкви. Силовое поле вспыхнуло, как сверхновая.
Энея протянула руки мне и Тромо Трочи из Дхому.
— Ну, уж сквозь это-то тебе не телепортироваться, — сказал я.
— Никто не телепортируется сквозь что-то, Рауль. — Она сжала наши ладони, и вот мы уже в прежней столице покойной и неоплаканной Гегемонии.
Тромо Трочи никогда не бывал на ТКЦ — точнее, он вообще никогда не бывал нигде за пределами Тянь-Шаня, — но его как торговца не могли оставить равнодушными рассказы о некогда процветавшей столице.
— Жаль, что мне нечего продать, — сказал Тромо. — Да на такой планете я б за полгода выстроил коммерческую империю.
Энея спокойно извлекла из рюкзака внушительный золотой слиток.
— Это вам для начала. Но не забывайте о своем истинном долге.
Коротышка поклонился, прижимая слиток к груди:
— Никогда не забуду, Та-Кто-Учит. Зря я, что ли, мучился, постигая язык мертвых?
— Просто берегите себя ближайшие несколько месяцев, — сказала Энея. — А потом, уверена, вы сможете позволить себе отправиться на любую планету, куда ни пожелаете.
— Я бы отправился туда же, куда и вы. — Первый раз на моей памяти он проявил свои чувства. — За это я отдал бы все свое богатство — прошлое, будущее, любое, какое можно придумать.
Я изумленно уставился на него. И тут у меня впервые зародилось подозрение, что, возможно, — да нет, точно! — многие апостолы Энеи не только преклоняются перед ней, но и чуточку в нее влюблены… Да, не каждый день услышишь подобное из уст коммерсанта!
Энея пожала ему руку:
— Берегите себя!
Когда мы вернулись, «Иггдрасиль» продолжали обстреливать. Его продолжали обстреливать до тех пор, пока Энея не перенесла нас из системы Тау Кита-Центра.
Город-планета Лузус ничуть не изменился: все те же ряды небоскребов-Ульев, поднимающихся над крытыми серыми металлическими каньонами. На Лузусе мы оставили Джорджа Цзаронга и Джигме Норбу. Коренастый, мускулистый Джордж (он плакал, обнимая Энею) вполне мог сойти за лузианина, но тощий и долговязый Джигме будет выделяться даже в огромных толпах Улья. Впрочем, на Лузусе гости с других планет не редкость, и хорошим мастерам тут нетрудно устроиться, были б деньги. Увы, Лузус — одна из немногих планет Священной Империи, вернувшихся к универсальным кредитным карточкам, а кредитных карточек у Энеи не было.
Однако буквально через несколько минут после того, как мы вышли из пустынных коридоров Трущобного Улья, к нам приблизились семеро в красных одеждах. Я шагнул вперед, заслонив собой Энею. Но незнакомцы и не думали нападать. Они опустились на колени прямо на грязный пол, склонили головы и тихо запели:
БЛАГОСЛОВЕННА БУДЬ БЛАГОСЛОВЕННА БУДЬ ДАРИТЕЛЬНИЦА НАШЕГО СПАСЕНИЯ БЛАГОСЛОВЕННА БУДЬ ДЛАНЬ НАШЕГО ИСКУПЛЕНИЯ БЛАГОСЛОВЕННА БУДЬ ДИТЯ НАШЕГО ПРИМИРЕНИЯ БЛАГОСЛОВЕННА БУДЬ.— Культ Шрайка, — тупо произнес я. — А я думал, их всех истребили во время Падения.
— Мы предпочитаем, чтобы нас называли Церковью Последнего Искупления, — сказал старший, поднимаясь с колен и почтительно глядя на Энею. — И — нет… нас не истребили, как вы изволили выразиться… нас загнали в подполье. Приветствую тебя, Дочь Света. Приветствую тебя, Невеста нашего Создания.
Энея раздраженно покачала головой:
— Ничья я не невеста, епископ Дерейн. Этих двоих, пришедших со мной, я вверяю вашей защите на ближайшие десять месяцев.
Епископ в красном склонил лысую голову.
— Как и сказано в пророчествах, Дочь Света.
— Да не в пророчествах, — поправила Энея, — в обетованиях.
Обернувшись, она в последний раз обняла Джорджа и Джигме.
— Мы еще увидимся, учитель? — спросил Джигме.
— Этого я обещать не могу. Но обещаю, что, если это будет в моей власти, я дам о себе знать.
Сырыми коридорами мы вернулись в пустой зал Трущобного Улья, чтобы никто не увидел нашего чудесного возвращения и в плодородную почву Культа Шрайка не упало новое зерно.
На Цингао-Чишуан Панне мы попрощались с далай-ламой и его братом Лобсангом Самтеном. Лобсанг плакал, первосвященник — нет.
— Местный диалект китайского просто ужасен, — пожаловался далай-лама.
— Они поймут вас, Ваше Святейшество, — сказала Энея. — И услышат.
— Но мой учитель — вы! — чуть ли не с гневом бросил парнишка. — Как я смогу учить их без вашей помощи?
— Я помогу. Постараюсь помочь. А остальное — ваша работа. И их.
— Но нам можно причастить их? — спросил Лобсанг.
— Если они сами попросят. — Энея обернулась к далай-ламе: — Вы благословите меня, Ваше Святейшество?
— Это я должен просить о благословении, учитель, — улыбнулся мальчик.
— Пожалуйста, — попросила Энея, и снова я услышал в ее голосе безмерную усталость.
Далай-лама склонил голову, прикрыл глаза и произнес:
— Это из «Кунту Сангпо», что открылось в видении моему тертону[121] в его предыдущем воплощении…
Необыкновенно всякое проявление мира, как в сансаре, так и в нирване, И все происходит из Одного-Единого. Но два есть пути и два у путей завершенья. Невежество — первому имя, Познанье — имя второму. Стремясь по второму пути, следуя Кунту Сангпо, существа, обреченные кругу реинкарнаций во тьме Чертогов Первичных Пространств Пустоты, обретут просветленье и совершенство, каждый достигнет природы Будды. Основа Всего невыразима словами. Спонтанность безгранична. В Основе Всего — Едином — нет ни конца, ни начала, в Основе Всего нет сансары и нет нирваны, но лишь осознав сущность Основы Всего, достигнешь природы Будды. Сансара — удел тех, кто пошел по пути Невежества. Пусть же все существа трех царств, что обладают разумом и жаждут познания, прозревают для Знания Невыразимой Основы.[122]Энея поклонилась далай-ламе:
— Чертог Первичных Пространств Пустоты… — тихо повторила она. — Насколько элегантнее моей неуклюжей «Связующей Бездны». Благодарю вас, Ваше Святейшество.
— Благодарю вас, учитель, — в свою очередь поклонился далай-лама. — Да будет ваша смерть более быстрой и менее мучительной, чем мы оба предполагаем.
Мы с Энеей вернулись на корабль-дерево.
— О чем он говорил?! — Я схватил ее за плечи. — Какая такая смерть? Что значит «более быстрой и менее мучительной»?! Что, черт возьми, все это значит?! Ты что, хочешь, чтоб тебя распяли?! Ты что, вознамерилась играть эту треклятую роль мессии всерьез и до конца?! Скажи мне, Энея! — И тут до меня дошло, что я изо всех сил трясу ее за плечи. И я бессильно уронил руки.
Энея обняла меня.
— Просто оставайся со мной, Рауль. Оставайся со мной, пока сможешь.
— Останусь! — Я похлопал ее по спине. — Клянусь, я останусь.
На Фудзи мы распрощались с Кенширо Эндо и Харуюки Отаки. На Денебе III — с Катериной, десятилетней девочкой, которую, казалось, совсем не пугает перспектива остаться в полном одиночестве на чужой планете. На Седьмой Дракона, мире замерзшего воздуха и жутких снежных призраков, мире, где были убиты отец Главк и наши друзья чичатуки, вызвался остаться задумчивый Римси Кийпу. На Неверморе мы расстались еще с одним незнакомым мне человеком — кротким пожилым джентльменом, похожим на доброго младшего брата Мартина Силена. На Рощу Богов, где десять стандартных лет назад А.Беттик лишился руки, вместе со мной и Энеей телепортировались два тамплиера из помощников Хета Мастина. На Хевроне, очищенном от иудейских поселенцев и освоенном колонистами-христианами, остались эмпаты сенешаи ЛЛееоонн и ООээалл. Мы простились с ними на закате, в пустыне. Скалы еще хранили дневное тепло.
На Парвати неунывающие сестры Куку и Кай Сэ рыдали, обнимая нас на прощание. На Асквите осталась семейная пара с пятью золотоволосыми детишками. Над белой кипенью облаков и синевой океанов Безбрежного Моря Энея спросила сержанта Грегориуса, не хочет ли он примкнуть к восставшим и продолжить ее дело.
— И бросить капитана? — спросил гигант, явно ошарашенный подобным предположением.
— Нет больше никакого капитана, сержант, дорогой мой друг, — выступил вперед де Сойя. — Есть только священник без Церкви. Мне кажется, что по отдельности мы можем принести гораздо больше пользы, чем вместе. Я прав, мадемуазель Энея?
Она кивнула.
— Я надеялась, что на Безбрежном Море останется Лхомо. Контрабандисты, бунтовщики и охотники на левиафанов уважают силу. Но тут придется нелегко — бунт в самом разгаре, а Империя пленных не берет.
— Да супротив такой опасности я ничего не имею! — воскликнул Грегориус. — Я охотно помру истинной смертью сто раз за правое дело.
— Знаю, сержант, — отозвалась Энея.
Грегориус посмотрел на своего бывшего командира, потом — снова на Энею.
— Девушка, я знаю, что вам не по вкусу вещать будущее, хоть мы и знаем, что вы туда поглядываете от случая к случаю. Но скажите-ка мне… есть ли шанс нам с капитаном встретиться снова?
— Да. И с другими, кого вы считали погибшими… к примеру, с капралом Ки.
— Тогда я пошел. Будь по-вашему. Хоть я больше и не в гвардии, но привычку к послушанию в меня вколотили крепко.
— Сейчас от тебя требуется не просто послушание, — поправил его отец де Сойя. — Это — нечто более прочное и глубокое.
Сержант Грегориус на мгновение задумался.
— Есть! — откозырял он и быстро отвернулся. Потом, овладев собой, протянул руку Энее: — Пойдемте, девушка.
Мы оставили его на заброшенной платформе где-то в районе Южного побережья, но Энея сказала, что подлодки подойдут туда в ближайшие сутки.
Над Мадре-де-Диос вперед вышел отец де Сойя. Энея движением ладони остановила его.
— Уверен, это моя планета, — сказал священник. — Здесь я родился. Здесь мой приход. Мне всегда казалось, что здесь я и умру.
— Может, и так, — согласилась Энея, — но вы мне нужны в более трудном месте и для более опасной работы, Федерико.
— Где? — Он вопросительно-печально посмотрел на нее.
— На Пасеме. Там — наша последняя остановка.
— Погоди-ка, детка, — подступил я поближе. — Это я пойду с тобой на Пасем, раз уж ты так упорно хочешь туда пойти. Ты сама сказала, что я могу остаться с тобой.
— Да. — Энея коснулась прохладными пальцами моего запястья. — Но я бы хотела, чтобы, когда придет время, отец де Сойя отправился вместе с нами.
Отец-иезуит покорно склонил голову, хоть и выглядел несколько расстроенным. Очевидно, в Обществе Иисуса дисциплина похлеще, чем в швейцарской гвардии.
В результате на Мадре-де-Диос вызвались остаться специалист по бамбуку Войтек Майер и его невеста Вики Грозельш.
На Фрихольме мы расстались с Янушем Куртыкой. На Кастропе-Рексель, недавно терраформованном Священной Империей, — с отставным солдатом Джигме Тарингом. Ему досталась задача отыскать местных повстанцев. Над Бережливостью, под обстрелом Флота, превратившим силовое поле в свето-музыкальное шоу, вперед вышла Хелен Дин О’Брайан. На Эсперансе мы оставили бывшего градоначальника Йо-куня Чарльза Чи-кьяп Кэмпо. На Лугу, стоя по горлышко в желтом разнотравье, покрывшем всю планету, мы долго махали вслед Ишеру Перпету, одному из самых яростных и непокорных, мятежнику, которого отец де Сойя спас с каторжной галеры. На Кум-Рияде новые поселенцы поспешно рушили мечети. Туда мы телепортировались в самый глухой час ночи вместе с Мервином Мухаммедом Али, беженцем с этой планеты, и Перри Самдап, давней моей знакомой по Тянь-Шаню.
Над Возрождением-Малым, когда на нас неслось целое полчище местных боевых кораблей, готовых разнести «Иггдрасиль» на атомы, вперед шагнул бледный молчаливый Хоган Жабер.
— Я был шпионом, — сказал он, обращаясь к Энее, но глядя на отца де Сойю. — Я продал свою верность за деньги, чтобы когда-нибудь вернуться на эту планету и возродить утраченное могущество нашего рода. Я предал своего капитана и продал собственную душу.
— Сын мой, — тихо ответил отец де Сойя, — ты уже давно искупил эти грехи… если это грехи. Ты прощен и твоим капитаном, и, что куда важнее, Богом. Ты никому не причинил зла.
Жабер задумчиво кивнул:
— Голоса, которые я слышу с тех пор, как выпил того вина… — Голос его прервался. — Я знаю многих людей на этой планете. Я хочу вернуться домой и начать новую жизнь.
— Да. — Энея протянула ему руку.
На Витус-Грей-Балиане Б мы с Энеей и Дорже Пхамо перенеслись в пустыню, вдали от реки, возделанных полей и разноцветных домиков, где добрые люди выходили меня и помогли сбежать от Радаманты Немез. Здесь были лишь скалы да потрескавшаяся от зноя земля. С запада, где кроваво алел закат, надвигалась пылевая буря. Совсем как на Марсе, только воздух более теплый и плотный. И еще здесь пахло смертью и пороховой гарью.
Нас мгновенно окружили странные, укутанные до самых глаз люди. В руках у них были иглометы и адские хлысты. И снова я шагнул вперед, чтобы загородить Энею от опасности.
— Погодите! — крикнул знакомый голос, и один солдат съехал по склону красной дюны. — Подождите! — снова крикнула она и размотала башлык.
— Дем Лоа! — Я бросился к маленькой женщине в громоздкой боевой амуниции. По ее щекам, оставляя грязные дорожки, бежали слезы.
— Ты привел ее, — сказала моя спасительница. — Как и обещал.
Я познакомил ее с Энеей и Дорже Пхамо, чувствуя, что от радости поглупел. Дем Лоа и Энея мгновение разглядывали друг друга, а потом обнялись.
— А где Дем Риа? — спросил я, окинув взглядом темные силуэты, маячившие в алых сумерках. — И Алем Микайл Дем Алем? И ваши дети, Бин и Сес Амбре?
— Мертвы. Все мертвы, кроме Сес Амбре. А она пропала без вести после последней атаки с базы в Бомбасино, — проговорила Дем Лоа. Я молча смотрел на нее, не в силах ничего сказать. — Бин Риа Дем Лоа Алем умер от болезни, остальные погибли в войне с Империей.
— В войне с Империей… — тупо повторил я. — Дай-то Бог, чтобы не я послужил ее причиной…
— Нет, Рауль Эндимион, — подняла ладонь Дем Лоа. — Не ты. Те из нас, кто дорожит обычаями Спектральной Спирали Амуа, отвергли крестоформ… Это и послужило причиной. Когда ты был здесь, восстание уже началось. Потом, позже, нам даже показалось, что мы победили. Трусы на базе в Бомбасино просили мира, они игнорировали приказы командования и заключили с нами договор. И тогда прибыли корабли Имперского Флота. Они разбомбили собственную базу… А потом — наши селения. С тех пор здесь идет война. Когда они приземлились и попытались оккупировать планету, мы убили многих. Они прислали новые войска.
— Дем Лоа… Я… мне так жаль.
Она кивнула, положив ладонь мне на грудь, и лицо ее осветилось улыбкой. Дем Лоа снова посмотрела на Энею.
— Ты та, кого он все время звал в бреду. Ты та, кого он любит. Любишь ли ты его, дитя?
— Люблю, — ответила Энея.
— Хорошо. Было бы очень грустно, если б женщина, о которой человек, будучи при смерти, говорит с такой любовью, не отвечала ему взаимностью. — Дем Лоа перевела взгляд на Громомечущую Мать-свинью, царственную и безмолвную. — Вы священница?
— Не священница, — поправила Дорже Пхамо, — а настоятельница монастыря Самден-гомпа.
— Вы правили монахами? — улыбнулась Дем Лоа. — Мужчинами?
— Я… э-э-э… наставляла их.
— Ну, это почти то же самое. — Дем Лоа рассмеялась. — Что ж, добро пожаловать, Дорже Пхамо. — Она обернулась к Энее: — А ты останешься с нами, дитя? Или только коснешься нас и продолжишь путь, как гласят пророчества?
— Я должна идти дальше, — сказала Энея. — Но я бы хотела оставить здесь Дорже Пхамо — вашу союзницу и нашу… посланницу.
Дем Лоа кивнула.
— Здесь сейчас опасно.
Дорже Пхамо улыбнулась, глядя на нее с высоты собственного роста. Сила этих двух женщин окружала их почти ощутимым энергетическим полем.
— Хорошо. — Дем Лоа обняла меня на прощание. — Будь добр к своей любимой, Рауль Эндимион. Будь добр к ней в часы, отпущенные вам циклами жизни и хаоса.
— Буду.
— Спасибо, что пришла, дитя, — обернулась Дем Лоа к Энее. — Мы этого хотели. Мы на это надеялись.
Они снова обнялись. Я вдруг смутился, словно привел Энею домой, чтобы познакомить с мамой или бабушкой.
Дорже Пхамо в прощальном благословении возложила ладони на наши головы.
— Кале-пе-а, — сказала она Энее.
Мы шагнули в сумрак пылевой бури и перенеслись сквозь вспышку белого света. В тишине, на мостике «Иггдрасиля», я спросил Энею:
— Что она тебе сказала?
— Кале-пе-а, — повторила моя любимая. — Древнее тибетское напутствие, когда караван идет на самые высокие вершины. Оно означает «Ступай медленно, если хочешь вернуться».
И так — на сотне планет; на каждой — лишь несколько минут, и каждое прощание — по-своему грустное и трогательное. Трудно сказать, сколько дней и ночей длилось наше с Энеей последнее путешествие — для меня оно слилось в сплошную череду телепортаций. Ослепительная вспышка — и корабль-дерево переносится на новое место. А когда уже не было сил двигаться дальше, корабль дрейфовал несколько часов в пустоте космоса, и тогда эрги отдыхали, а люди спали — или пытались спать.
Я запомнил только три таких привала, значит, наше путешествие длилось только три дня и три ночи. Впрочем, возможно, оно длилось и неделю, а может, и больше, просто спали мы только три раза. Но я помню, что мы с Энеей почти не спали и любили друг друга так нежно, словно каждое объятие могло оказаться последним.
Именно во время одной из этих недолгих передышек я шепнул:
— Зачем ты это делаешь, детка? Не для того же, чтобы все стали вроде Бродяг и ловили крыльями солнечный ветер. В смысле… это все здорово… но я-то люблю планеты. Люблю почву под ногами. Люблю быть просто… просто человеком… Быть мужчиной.
Энея усмехнулась и провела рукой по моей щеке. Я помню, что все это было в полумраке, но все равно я видел бисеринки пота в ложбинке между ее грудей.
— Знаешь, я тоже люблю, когда ты просто мужчина, милый.
— Я хотел сказать…
— Я знаю, что ты хотел сказать, — прошептала Энея. — Мне тоже нравятся планеты. И мне нравится быть человеком… просто быть женщиной. То, что я должна сделать… это вовсе не ради какой-то там утопической эволюции, превращения людей в Бродяг-«ангелов» или эмпатов-сенешаи.
— А ради чего? — Я вдыхал аромат ее волос.
— Просто ради права на выбор, — очень тихо сказала она. — Ради самой элементарной возможности и дальше быть человеком, какой бы смысл ни вкладывал в это слово тот, кто совершает выбор.
— Выбрать снова? — спросил я.
— Да. Даже если выбрать снова означает выбрать то, что у тебя уже есть. Даже если это означает выбрать Империю, крестоформ и союз с Центром.
Я ничего не понял, но в тот момент меня куда больше интересовала сама Энея, нежели полнота понимания.
— Рауль… — помолчав, сказала Энея. — Я тоже люблю почву под ногами, шелест ветра в траве. Сделаешь для меня кое-что?
— Что угодно! — опрометчиво пообещал я.
— Если я умру первой, — прошептала она, — ты принесешь мой пепел на Старую Землю и развеешь его там, где мы с тобой были счастливы вместе.
Если бы мне вонзили нож в сердце, мне б и то не было так больно.
— Ты же сказала, что я могу остаться с тобой, — наконец выговорил я, и в моем голосе были гнев и растерянность. — Что я могу следовать за тобой повсюду.
— Это правда, любимый. Но если я умру первой, ты сделаешь это ради меня? Подождешь несколько лет, а потом развеешь мой пепел по ветру на Старой Земле, там, где мы были счастливы?
Мне хотелось стиснуть ее до боли, до крика, чтобы она взяла свою просьбу назад. Но я этого не сделал.
— Как, черт возьми, я, по-твоему, доберусь до Старой Земли? — прошипел я. — Она ж в Малом Магеллановом Облаке! Верно? В шестидесяти тысячах световых лет отсюда, так?
— Да, — коротко сказала Энея.
— Ну и? Ты что, собираешься снова открыть порталы, чтобы я мог туда добраться?
— Нет. Порталы закрыты навсегда.
— Тогда как же, черт побери, по-твоему, я должен… — Я прикрыл глаза. — Энея, не проси меня об этом.
— Я уже попросила, любимый.
— Лучше попроси меня умереть.
— Нет. Я прошу тебя жить. Ради меня.
— Дерьмо!
— Это значит да, Рауль?
— Это значит «дерьмо». Ненавижу мучеников. Ненавижу предопределение. Ненавижу истории любви с печальным концом.
— И я тоже. Значит, договорились?
Я фыркнул.
— А где на Старой Земле мы с тобой были счастливы вместе? — наконец спросил я. — Ты, наверное, имеешь в виду Талиесин-Уэст, потому что в других местах мы вместе не были?
— Придет время — узнаешь, — прошептала она. — А сейчас — давай спать.
— Не хочу я спать, — грубо заявил я.
Она обвила меня руками. В невесомости Звездного Древа спать вместе было восхитительно. Но еще восхитительнее была тесная кровать в нашей каютке при слабой гравитации «Иггдрасиля». Я не мог себе представить, что когда-нибудь смогу заснуть, не слыша рядом ее дыхания.
— Значит, развеять твой пепел по ветру, да? — наконец не выдержал я.
— Угу, — пробормотала она сквозь сон.
— Детка, дорогая, любимая… Ты просто патологическая стервочка.
— Угу… — все так же сквозь сон пробормотала она. — Но я твоя патологическая стервочка.
Вот так мы и заснули.
В последний день Энея телепортировала нас в звездную систему красного карлика класса М3. Около него на близкой орбите вращалась планета земного типа.
— Нет, — сказала Рахиль, когда мы — все, кто остался, — собрались на капитанском мостике. Триста человек — один за другим — покинули нас, апостолы Энеи рассеялись среди планет Священной Империи как бутылки, брошенные в великий океан, но бутылки без записок. И теперь остался отец де Сойя, а еще Рахиль, Энея, капитан Хет Мастин, А.Беттик, несколько клонов экипажа, эрги и я. И Шрайк, безмолвный и неподвижный, на верхней палубе.
— Нет, — повторила Рахиль, — я передумала. Я хочу пойти с тобой.
Энея стояла скрестив руки. Все это долгое утро сплошных телепортаций и прощаний она была как-то особенно спокойна.
— Воля твоя, — негромко сказала она. — Ты знаешь, Рахиль, я от тебя ничего требовать не стану.
— Будь ты проклята, — нежно произнесла Рахиль.
— Да, — согласилась Энея.
Рахиль стиснула кулаки.
— Да кончится когда-нибудь это дерьмо?!
— Ты о чем?
— Сама знаешь, о чем! Мой отец… моя мама… твоя мама… их жизни были полны этого. Моя жизнь… которую я живу уже второй раз… вечная борьба с невидимым врагом. Бегство, и еще бегство, и ожидание, и еще ожидание. Взад-вперед сквозь время, будто какая-то проклятая, потерявшая управление юла… О черт!
Энея ждала.
— Одна только просьба. — Рахиль посмотрела на меня. — Рауль, ты только не обижайся. Ты пришелся мне очень по душе. Но можно, Энея перенесет меня на Мир Барнарда одна?
— Я не против. — Я вопросительно глянул на Энею.
Рахиль вздохнула:
— Снова на эту планету… кукурузные поля, долгие закаты, крошечные города, а там — большие белые дома с большими, широкими галереями. Это наводило на меня тоску еще в восемь лет.
— В восемь лет ты все это любила, — спокойно сказала Энея.
— Ага. Любила. — Рахиль пожала руку священнику, потом Хету Мастину, потом мне.
Вспомнив вдруг самые непонятные стихи из «Песней» старого поэта, вспомнив, как я смеялся над ними у костра вместе с бабушкой, когда она заставляла меня повторять их строчка за строчкой, вновь удивившись — неужели люди и вправду говорят друг другу такие вещи, я сказал ей:
— Счастливо, аллигатор.
Она как-то странно на меня посмотрела, и в зеленых глазах сверкнуло отражение нависшей над нами планеты.
— Пока, крокодил.
Она взяла Энею за руки, и они исчезли. Просто взяли — и исчезли. Никакой ослепительной вспышки. Просто в одно мгновение… там, где они стояли, — пустота.
Энея вернулась через пять минут. Хет Мастин вышел из круга управления, сунув руки в рукава балахона.
— Слушаю, Та-Кто-Учит.
— В систему Пасема, пожалуйста, Истинный Глас Древа Хет Мастин.
Тамплиер не шелохнулся.
— Вы знаете, дорогой друг и учитель, что к данному моменту Империя уже собрала в системе половину своего боевого Флота.
Энея обвела взглядом все дерево, прислушалась к ласковому шелесту листвы, посмотрела вниз. В километре под нами мерцали выхлопы двигателей, которые медленно выводили нас из гравитационного поля планеты. Кораблей Флота тут не было, и нас никто не преследовал.
— Эрги смогут удерживать поля, пока мы не приблизимся к Пасему? — спросила Энея.
Капитан развел руками:
— Сомнительно. Они сильно истощены. Эти атаки вытянули из них почти…
— Знаю, — сказала Энея. — Мне очень жаль. Нам надо только продержаться в системе минуту или две. Возможно, если вы сейчас разгонитесь и будете готовы к скоростному маневру на полной тяге, то, когда мы появимся в системе Пасема, корабль успеет телепортироваться раньше, чем сдадут поля.
— Попытаемся, — кивнул Хет Мастин. — Но будьте готовы перенестись на планету мгновенно. Когда мы окажемся в системе Пасема, жизнь дерева будет измеряться секундами.
— Сначала мы должны отослать корабль Консула. Мы должны сделать это здесь и сейчас. Еще несколько минут, Хет Мастин.
Покорно склонив голову, тамплиер вернулся к управлению.
— Нет-нет! — в ужасе закричал я, когда она обернулась ко мне. — Я не полечу в корабле на Гиперион.
Энея удивленно на меня посмотрела:
— Неужели ты думаешь, я прогоню тебя после того, как сказала, что ты можешь меня сопровождать?
Я скрестил руки на груди:
— Мы побывали почти на всех планетах Империи и Окраин… кроме Гипериона. Что бы ты ни задумала, я никогда не поверю, что ты обошла вниманием нашу родную планету.
— Не обошла, — кивнула Энея. — Но телепортироваться туда я не намерена.
Я вообще перестал что-либо понимать.
— А.Беттик, — позвала Энея, — корабль, должно быть, готов к вылету. Ты захватил мое письмо к дяде Мартину?
— Да, мадемуазель Энея. — Андроид не выказал ни малейшей радости. Впрочем, огорчения тоже.
— Пожалуйста, передай ему, что я его люблю.
— Погодите, погодите, — вмешался я. — А.Беттик твой… твой посланец… на Гиперионе?
Энея потерла щеку. Я вдруг понял, что она измотана куда сильнее, чем кажется, но бережет остатки сил для чего-то очень важного, что вот-вот должно произойти.
— Мой посланец? — переспросила она. — То есть как Рахиль, Тео, Дорже Пхамо, Джордж и Джигме?
— Ага, — кивнул я. — И еще сотни три человек.
— Нет. А.Беттик не будет моим посланцем на Гиперионе. То есть будет, но в другом смысле. И потом, корабль Консула оборудован двигателями Хоукинга. Он будет добираться до Гипериона несколько месяцев… слишком долго.
— Тогда кто же твой посланец на Гиперионе? — спросил я, не сомневаясь, что посланец на Гиперионе определенно есть.
— Не догадываешься? — улыбнулась Энея. — Дорогой дядюшка Мартин. Поэт и критик — вновь участник бесконечного шахматного турнира с Центром.
— Но ведь остальные… они ж все причастились, а… — Я осекся.
— Да, — кивнула Энея. — Когда я еще была совсем маленькая. Дядя Мартин понял. Он выпил вино. Ему адаптироваться было нетрудно… Он — поэт, он веками слушал голоса живых и мертвых. Именно так он и написал свои «Песни». Именно поэтому он считал Шрайка своей музой.
— Тогда почему А.Беттик летит туда на корабле? Только чтобы передать твое письмо?
— Не только. Если все сработает, сам увидишь. — Энея обняла андроида, а он неловко похлопал ее по спине.
А потом с А.Беттиком прощался я.
— Мне будет тебя недоставать, — неловко сказал я.
Андроид одно долгое мгновение смотрел на меня, затем кивнул и направился к ожидавшему кораблю.
— А.Беттик! — позвал я, когда он уже стоял у самого люка.
Обернувшись, андроид остановился. Я помчался на нижнюю палубу, схватил кожаный тубус и бегом вернулся наверх.
— Возьмешь это?
— Ковер-самолет, — кивнул А.Беттик. — Да, конечно, месье Эндимион. Я буду счастлив сохранить его до нашей встречи.
— А если мы больше не увидимся… — Я замолчал. Я чуть было не сказал: «Передай его Мартину Силену», но я же знал, что старый поэт при смерти. — Если нам больше не придется свидеться, А.Беттик, пожалуйста, сохрани этот ковер в память о нашем путешествии. И о нашей дружбе.
А.Беттик еще одно долгое мгновение смотрел на меня, потом еще раз кивнул и вошел в корабль Консула. Я почти ожидал, что Корабль выдаст прощальную тираду, обрушив на меня массу никому не нужной информации, — но нет, он просто обменялся данными с эргами дерева, беззвучно взмыл на магнитной подушке и медленно удалился на безопасное расстояние для разгона. Как же мне хотелось оказаться вместе с Энеей на корабле Консула, выспаться на просторной кровати в носовом отсеке, а потом слушать рояль и плавать при полной невесомости в бассейне над балконом…
— Пора, — сказала Энея Хету Мастину. — Будьте добры подготовить эргов к тому, что нас ждет.
— Как пожелаете, преподобная Та-Кто-Учит, — кивнул Истинный Глас Древа.
— И еще, Хет Мастин…
Тамплиер обернулся, ожидая новых указаний.
— Спасибо, Хет Мастин, — сказала Энея. — От имени всех, кто был с нами в этом странствии, от имени всех, кто будет рассказывать о нашем странствии детям, спасибо вам, Хет Мастин.
Поклонившись, тамплиер вернулся к управлению.
— Полную тягу до ноль девяносто двух. Подготовиться к противоракетным маневрам. Подготовиться к входу в систему Пасема, — скомандовал он.
Отец де Сойя протянул левую руку Энее, а правой осенил нас всех крестным знамением.
— In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.[123]
— Аминь, — сказал я, взяв Энею за руку.
— Аминь, — повторила Энея.
Глава 30
Они атаковали нас меньше чем через две секунды после телепортации — факельщики и «архангелы» обрушили на нас огонь и устремились на Древо, как радужные акулы, некогда кружившие около меня на Безбрежном Море.
— Идите! — прокричал сквозь грохот атаки Истинный Глас Древа Хет Мастин. — Эрги гибнут! Силовое поле продержится считанные секунды. Идите! И да поможет вам Мюир. Идите!
Энея взяла за руки меня и отца де Сойю. У нее было ровно две секунды, чтобы разглядеть желтую звезду в центре системы и маленькую звездочку самого Пасема, но этого оказалось достаточно. Держась за руки, мы телепортировались сквозь свет и звук, сквозь огненное безумие обстрела, сквозь бурлящее защитное поле, как грешные души, вырвавшиеся из адского озера пламени.
Сияние померкло и сменилось обычным светом дня. В Ватикане было пасмурно, зябко — почти как зимой, — и на булыжные мостовые сеялся мелкий холодный дождь. В тот день Энея надела легкую бежевую блузку, коричневый кожаный жилет и непривычно официальные черные брюки. Волосы она аккуратно уложила на затылке и прихватила черепаховыми гребнями. Лицо — чистое, свежее, юное, а глаза — такие усталые в эти последние дни — теперь сияющие и спокойные. Не разнимая рук, мы стояли и смотрели на улицы, на дома, на людей…
Мы были в самом конце аллеи, выходившей на широкий бульвар. На тротуарах оживленно — неспешно шагают мужчины и женщины в строгих черных костюмах, священники, сестры, детишки, вереницей спешащие за двумя монахинями, и всюду — куда ни глянь — красные и черные зонты, а по мостовой бесшумно скользят приземистые черные автомобили, и сквозь залитые дождем стекла можно разглядеть пассажиров — епископов, архиепископов. Нас, казалось, никто не замечает.
Энея посмотрела на облака:
— «Иггдрасиль» телепортировался из системы. Вы почувствовали?
Прикрыв глаза, я сосредоточился на призрачном потоке голосов и образов, которые теперь всегда были где-то под самой поверхностью «здесь и сейчас», и обнаружил… отсутствие. А потом пришло видение пламени, охватившего ветви Древа.
— Поля сдали перед самой телепортацией, — сказал я. — А как они телепортировались без тебя, Энея? — Стоило только сформулировать вопрос, и ответ пришел сам. — Шрайк.
— Да. — Энея все держала меня за руку. Холодный дождь лил с неба, собирался ручейками, журчал в сточных решетках и трубах. — Шрайк перенесет «Иггдрасиль» и Истинный Глас Древа сквозь пространство и время. Навстречу неизбежности.
У меня в памяти всплыли строки «Песней». Паломники видят пылающее Древо незадолго до таинственного исчезновения Хета Мастина, когда плывут на ветровозе по Травяному морю. А через несколько дней тамплиер столь же таинственно появляется в Долине Гробниц Времени и вскоре умирает от ран; он — единственный из семи паломников, кто не рассказал свою историю. И ни полковник Кассад, ни консул Гегемонии, ни Сол — отец Рахили, ни Ламия Брон — мать Энеи, ни Мартин Силен, ни отец Хойт — нынешний Папа, так и не смогли найти объяснения этим событиям. Сам я в детстве воспринимал все как миф. Поэму о странниках. О том, как они вновь и вновь сомневались в необходимости всех своих бед и мучений для того лишь, чтобы снова взвалить на плечи тяжкое бремя. Как часто — осознал я лишь теперь, в свои тридцать лет, — как часто случается такое с каждым из нас.
— Видите ту церковь, на другой стороне улицы? — спросил отец де Сойя.
Мне пришлось потрясти головой, чтобы избавиться от шепота голосов и вернуться в «сейчас».
— Ага, — сказал я, отирая со лба дождевые капли. — Это что, собор Святого Петра?
— Нет, — покачал головой священник. — Это приходская церковь Святой Анны, а вход в Ватикан рядом — ворота Святой Анны. А главный вход на площадь Святого Петра — там, вниз по бульвару, за колоннадами.
— А мы идем на площадь Святого Петра? — спросил я Энею. — В Ватикан?
— Попробуем, если удастся.
Мы зашагали по тротуару — самая обыкновенная пара, мужчина и молодая женщина, прогуливающиеся в холодный, дождливый день в обществе священника. На той стороне улицы стояло внушительное здание без окон — казармы швейцарской гвардии. Сами гвардейцы, словно сошедшие с картины эпохи Возрождения — в коротких черных плащах, в камзолах с белыми гофрированными воротниками, в черно-оранжевых полосатых чулках, с острыми пиками в руках, — стояли у входа в Ватикан. Полицейские в устрашающей черной броне контролировали все блокпосты и летали над городом в черных скиммерах.
Все подступы к площади Святого Петра были перекрыты. Гвардейцы дотошно проверяли пропуска и микропроцессорные удостоверения.
— Здесь нам не пройти, — сказал отец де Сойя. Уже почти стемнело, и на капители колоннады Бернини вспыхнули прожекторы, выхватывая из мрака статуи святых. Священник указал на два окна, светившихся над колоннадой, справа от фасада Святого Петра, увенчанного статуями Христа, Иоанна Крестителя и апостолов. — Вон там папские покои.
— На расстоянии выстрела, — заметил я. Впрочем, у меня и в мыслях не было устраивать покушение на понтифика.
— Силовое поле десятого класса, — покачал головой отец де Сойя и огляделся. Большинство прохожих благополучно миновали заставы и прошли на площадь Святого Петра. Мы стали слишком заметны на опустевшей улице. — Если мы сейчас ничего не предпримем, нас попросят предъявить документы.
— А что, здесь такое в порядке вещей? — спросила Энея.
— Нет. Возможно, это из-за вашего послания, но скорее всего — обычные меры по случаю папской мессы. Колокола, которые мы слышали, приглашают к вечерней мессе, ее служит Папа.
— Откуда вы знаете? — изумился я. Неужели можно так много узнать всего лишь из колокольного звона?
— Но сегодня Великий четверг, — в свою очередь удивился де Сойя, только непонятно чему: то ли тому, что мы не знаем таких элементарных вещей, то ли тому, что сам только что об этом вспомнил. — Сейчас Страстная Неделя, — продолжил он негромко, словно размышляя вслух. — Всю эту неделю Его Святейшество исполняет служение Папы и приходского священника. Сегодня… да, сегодня вечером… ну конечно, на этой мессе… он проводит омовение ног — двенадцать священников символизируют двенадцать апостолов, Иисус омыл им ноги перед Тайной Вечерей. Раньше церемония всегда проводилась в приходе Папы — в Латеранской базилике, за стенами Ватикана, но с тех пор, как Ватикан перебросили на Пасем, она проводится в соборе Святого Петра. В эпоху Хиджры Латеранскую базилику оставили на Старой Земле, она сильно пострадала в войнах Семи Наций в двадцать первом столетии и… — Де Сойя оборвал себя на полуслове. Такая словоохотливость вообще ему не свойственна — наверное, тоже нервничает. Лицо его приобрело отсутствующее выражение, как бывает при легких эпилептических припадках или в состоянии глубокой задумчивости.
Мы с Энеей ждали. Я с некоторым беспокойством поглядывал на полицейский патруль, неумолимо приближавшийся к нам по бульвару.
— Я знаю, как нам попасть в Ватикан! — воскликнул отец де Сойя, сворачивая в переулок.
— Отлично! — Энея поспешила за ним.
И тут отец-иезуит резко остановился.
— Внутрь-то мы пройдем. Но я понятия не имею, как мы оттуда выйдем.
— Пожалуйста, проведите нас внутрь, — попросила Энея.
В трех кварталах от Ватикана стояла полуразрушенная каменная часовня без окон, с массивной стальной дверью. На длинной цепи висел небольшой замок. Вывеска гласила:
ЭКСКУРСИИ КАЖДУЮ
ВТОРУЮ И ЧЕТВЕРТУЮ
СУББОТУ
В Страстную Неделю — закрыто
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ВАТИКАНСКОЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО:
ПЛОЩАДЬ ПЕРВЫХ
ХРИСТИАНСКИХ МУЧЕНИКОВ, 3888
— Вы сможете порвать цепь? — спросил меня отец де Сойя.
Я пощупал массивные звенья и крепкий замок. Кроме охотничьего ножа, у меня ничего не было.
Я покачал головой:
— Нет. Попробую лучше сделать отмычку. Пожалуйста, посмотрите, не найдется ли в том мусорном контейнере немного проволоки… Сойдет и упаковочная.
Мы простояли под дождем минут десять — надвигалась темнота, движение на бульваре стало оживленнее: того и гляди нарвешься на патруль. Насчет отмычек меня просветил старый шулер-речник на Кэнсе, ему пришлось переквалифицироваться в шулера после того как власти Порт-Романтика отрубили ему два пальца за воровство. Ковыряясь в замке, я думал о нашей с Энеей десятилетней одиссее, о долгом странствии отца де Сойи, о сотнях световых лет и десятках тысяч часов напряжения, боли, жертв и ужаса.
А окаянный десятифлориновый замок никак не поддавался.
Последнее усилие — и… нож сломался. Я чертыхнулся, отшвырнул нож и в сердцах саданул дерьмовым замком о каменную стену. Замок щелкнул и открылся.
Внутри стояла непроглядная темень. Если там и был выключатель, мы его все равно не нашли. Если же за освещение отвечал недоумок-ИскИн, то он упорно не реагировал на наши команды. И ни у кого из нас не было фонарика. Десять лет я таскал с собой карманный лазер и именно сегодня оставил его в рюкзаке — когда мы уходили с «Иггдрасиля», я просто взял Энею за руку и шагнул вперед, даже не вспомнив ни об оружии, ни о прочих необходимых вещах.
— Это и есть Латеранская базилика? — шепотом спросила Энея. В этой давящей тьме разговаривать можно было только шепотом.
— Нет-нет, — прошептал отец де Сойя. — Просто маленькая часовня, выстроенная рядом с прежней базиликой в двадцать первом… — Он опять умолк на полуслове и погрузился в свои мысли. — По-моему, эта часовня действующая. Подождите здесь.
Мы с Энеей стояли, прижавшись друг к другу, и слушали шаги отца де Сойи, продвигавшегося на ощупь вдоль стен. Один раз на каменный пол с железным звоном упало что-то тяжелое, и мы замерли, затаив дыхание. Через минуту снова послышались осторожные шаги и шелест сутаны. Потом — негромкое: «Ага…», и секунду спустя засветился огонек.
Отец-иезуит стоял всего в десяти метрах от нас и держал зажженную спичку. В левой руке у него был коробок.
— Это часовня, — пояснил он. — Тут ведь раньше зажигали свечи.
Сами свечи давно оплавились и не могли послужить нам, но лучина и единственный коробок спичек, Бог весть сколько пролежавшие в этой темноте, были на месте. Мы вошли в маленький круг света, подождали, пока де Сойя зажжет вторую спичку, и последовали за ним к тяжелой деревянной двери, скрытой истлевшими драпировками.
— Отец Баджо, занимавшийся моим воскрешением, рассказал мне об этой дороге несколько лет назад, когда я находился здесь под домашним арестом, — прошептал священник. Дверь медленно, со скрежетом, отворилась. — Полагаю, он думал, что это наведет меня на размышления о смерти и тщетности всего земного.
Отец де Сойя первым шагнул на узкую — чуть шире моих плеч — каменную винтовую лестницу и пошел вниз. Энея последовала за ним, а я — за ней.
Лестница уводила все ниже, ниже и ниже. По моим прикидкам, когда ступени закончились, мы спустились как минимум на двадцать метров. Миновав ряд узких коридорчиков, мы вышли в гулкий, просторный туннель. К тому времени священник израсходовал полдюжины спичек, бросая каждую, лишь когда огонь доходил до пальцев. Я не спрашивал, много ли еще спичек осталось в коробке.
— Когда Церковь во время Хиджры решила перенести собор Святого Петра и Ватикан, — слова отца де Сойи гулко звучали в темноте, — его целиком доставили на Пасем при помощи мощных энергетических подъемников и силовых башен. Поскольку масса проблемы не составляла, заодно перетащили пол Рима, даже громадный замок Святого Ангела и кусок земли под старым городом глубиной шестьдесят метров. В двадцатом веке здесь была подземка.
Отец де Сойя шагал по брошенной платформе. Кафель на потолке местами обвалился, повсюду — груды вековой пыли, камни, обломки пластика, облупившиеся указатели и разбитые лавки. Мы миновали несколько проржавевших стальных лестниц — эскалаторов, бездействовавших уже больше тысячелетия, узкий коридор вдоль гулкой эстакады и вышли на другую платформу. В дальнем ее конце я разглядел текстолитовую лестницу, ведущую вниз, где раньше были рельсы… где и теперь были рельсы, покрытые слоем ржавчины и пыли.
Едва мы успели спуститься по лесенке и шагнуть в туннель подземки, как спичка погасла. Но мы с Энеей успели разглядеть, что перед нами.
Кости. Человеческие кости. Кости и черепа, аккуратно уложенные почти двухметровыми штабелями по обе стороны ржавых рельсов. Громаднейшие груды костей, и через каждый метр — черепа, аккуратные геометрические узоры на стенах из человеческих останков.
Чиркнув следующей спичкой, отец де Сойя стремительно зашагал вперед. От его движения крошечный огонек затрепетал на легком ветру.
— В начале двадцать первого века, после войн Семи Наций, — самым обыденным голосом сказал священник, — римские кладбища оказались переполнены. Во всех пригородах и парках рыли братские могилы. Из-за глобального потепления и постоянных наводнений это стало серьезной угрозой здоровью тех, кто выжил. Биологические и химические боеголовки, сами понимаете. Подземка все равно уже не ходила, поэтому городские власти санкционировали эксгумацию и перезахоронение останков в старой системе туннелей метро.
На этот раз спичка догорела, когда мы шли по секции, где кости были сложены в пять ярусов — каждый отмечен рядом черепов: лобные кости белели в темноте, пустые глазницы равнодушно взирали на непрошеных пришельцев. Аккуратные стены костей с обеих сторон уходили не меньше чем на шесть метров вглубь и поднимались до десятиметрового свода. Кое-где стены осыпались, и нам приходилось осторожно переступать через черепа и кости, но все равно под ногами то и дело слышался сухой хруст. Других звуков здесь не было — ни копошения крыс, ни капающей воды. Когда мы останавливались и ждали, пока отец де Сойя зажжет следующую спичку, лишь шелест нашего дыхания и приглушенные голоса нарушали тишину.
— Как ни странно, — сказал отец де Сойя еще метров через двести, — на эту мысль их навели не древнеримские катакомбы, окружающие нас со всех сторон, а так называемые парижские катакомбы… старые каменоломни, лабиринт туннелей глубоко под землей. Парижанам пришлось перезахоронить в них останки с переполненных кладбищ в конце восемнадцатого — начале девятнадцатого века. Они-то и открыли, что всего-навсего несколько километров коридора без труда способны вместить шесть миллионов покойников. Ага… пришли…
Слева от нас среди костей обнаружился еще более тесный коридор, ведущий к новой стальной двери, на сей раз незапертой. Однако потребовались все наши совместные усилия, чтобы заставить ее открыться. И вновь священник возглавил спуск по очередной ржавой винтовой лестнице. По моим прикидкам, мы спустились уже метров на пятьдесят пять от уровня земли. Спичка погасла как раз в тот момент, когда мы вошли в новый туннель — куда более древний, стены и потолки здесь были сделаны из грубого камня. Во все стороны разбегались коридоры, в беспорядке заваленные костями, черепами и истлевшими лохмотьями.
— По словам отца Баджо, — прошептал священник, — здесь начинаются настоящие катакомбы. Христианские катакомбы первого века от Рождества Христова. — Вспыхнула новая спичка. Судя по звуку, в коробке их осталось совсем мало. — По-моему, сюда. — Отец де Сойя свернул направо.
— Мы под Ватиканом? — шепотом спросила Энея минуты через три. Я чувствовал ее нетерпение. Спичка замерцала и погасла.
— Скоро, скоро уже, — донесся из темноты голос де Сойи. Вспыхнула новая спичка. Похоже, что это — последняя.
А еще через полторы сотни метров коридор просто кончился. Не было ни костей, ни черепов, только грубые каменные стены и намек на кладку в конце туннеля. Спичка погасла. Энея взяла меня за руку.
— Очень жаль, — сказал священник, — но спичек больше нет.
Меня охватила паника. Я был уверен, что слышу какие-то звуки… крысиную возню, топот сапог.
— Возвращаемся? — спросил я, и мой шепот прозвучал ужасно громко в абсолютной тьме.
— Я точно помню, что говорил отец Баджо. На севере катакомбы соединяются с еще более древними, а те проходят под Ватиканом, — прошептал отец де Сойя. — Прямо под собором Святого Петра.
— Ну, вряд ли… — начал я и осекся. За несколько секунд до того, как погасла последняя спичка, я успел разглядеть, что кирпичная кладка, перегораживающая коридор, относительно свежая… ей всего несколько веков, а туннели вырублены не одно тысячелетие назад. Медленно, очень медленно я двинулся вперед, шаря в темноте вытянутыми руками, пока пальцы не наткнулись на камень, кирпичи и рыхлый раствор.
— Клали впопыхах, — уверенно заявил я, хотя весь мой опыт по этой части сводился к роли подсобного рабочего по благоустройству усадеб на Клюве много-много лет назад. — Раствор растрескался, некоторые кирпичи крошатся… — Я лихорадочно ковырял кладку голыми руками. — Дайте мне что-нибудь! Черт, и зачем я только выбросил нож!
Энея на ощупь протянула мне то ли палку, то ли заостренную щепку, и лишь через несколько минут до меня дошло, что это берцовая кость. Энея и отец де Сойя тоже принялись долбить раствор обломками костей, ковырять голыми руками, ломая ногти и сбивая в кровь пальцы. Глаза так и не приспособились к темноте — ни единый луч света сюда не проникал.
— Месса закончится, — выдохнула Энея. Она говорила так, словно для нее это трагедия.
— Сегодня Страстной Четверг, — прошептал священник. — Месса длинная.
— Подождите! — громко сказал я, пальцами ощутив едва заметное движение кладки — не кирпича или двух, а всего массива. — Отойдите. Прижмитесь к стенам.
Я тоже попятился — но лишь для того, чтобы взять разгон, — приподнял левое плечо, пригнул голову и ринулся на стену, ожидая, что сейчас просто расшибу голову о камни и вырублюсь.
Крякнув, я врезался в стену, поднял столб пыли и обрушил груду каменной и цементной крошки. Кирпичи не падали. Но я почувствовал, что стена поддалась.
Энея и отец де Сойя присоединились ко мне, и через минуту мы выломали центральную секцию.
С той стороны просачивался тусклый свет, и мы с трудом разглядели груду обломков, вывалившуюся в еще более глубокий туннель. Мы проползли сквозь отверстие, выпрямились и двинулись по пропахшему сыростью коридору. Еще два поворота — и вот мы в катакомбах с такими же стенами грубой кладки, но зато освещенных узкой люм-лентой, закрепленной на правой стене. Пропетляв еще метров пятьдесят вдоль люм-ленты, мы вышли в более просторный коридор с современными люм-шарами, подвешенными через каждые пять метров. Шары не горели, но древняя люм-лента исправно продолжала озарять нам путь.
— Мы под собором Святого Петра, — прошептал отец де Сойя. — Этот район был заново открыт в 1939 году, когда в близлежащем гроте хоронили Папу Пия Одиннадцатого. Раскопки продолжались лет двадцать, а потом были заброшены. Больше катакомбы для археологов не открывали.
Очередной коридор оказался еще просторнее — впервые за время подземного путешествия мы смогли втроем пойти рядом. Здесь древние каменные стены местами были оштукатурены, а порой на них даже попадались мраморные вставки, украшенные фресками и древними христианскими мозаиками. Над гротами, где явственно виднелись скелеты, стояли разбитые статуи. Многие гроты были закрыты пластиком; некогда прозрачный, он пожелтел и помутнел от времени, но, если вглядеться, можно было различить в глубине темные провалы глазниц и белесые овалы тазовых костей.
На фресках была изображена христианская символика: голуби с оливковыми ветвями, женщины, несущие воду, вездесущие рыбы — однако рядом с самыми древними гротами, погребальными урнами и могилами встречались языческие образы: Изида и Аполлон; Вакх, приветствующий умершего громадными, полными через край кубками вина, танцующие сатиры (я тут же отметил сходство с Мартином Силеном и, обернувшись, встретил понимающий взгляд Энеи) и еще всякие другие, отец де Сойя сказал, что это пасторали, украшенные орнаментами из павлинов, распустивших хвост, и что павлины выложены из осколков ляпис-лазури и до сих пор переливаются при хорошем освещении всеми оттенками голубого.
Древний помутневший пластик и плексиглас придавали всему окружающему сходство с каким-то странным аквариумом — аквариумом смерти. В конце концов мы вышли к красной стене, на которой частично сохранилась латинская надпись. Здесь пластик был поновее и более прозрачный. Сквозь него довольно четко виднелась небольшая рака с останками. Череп, установленный на аккуратной кучке костей, взирал на нас с подобием любопытства.
Отец де Сойя опустился на колени, осенил себя крестным знамением и склонил голову в молитве. Мы с Энеей стояли поодаль и смотрели на него в смущении, обычном для неверующих в присутствии любой истинной веры.
Когда священник поднялся, в глазах его блестели слезы.
— Согласно истории Церкви и словам отца Баджо, рабочие обнаружили эти останки в 1949 году от Рождества Христова. Более поздние исследования показали, что скелет принадлежал физически крепкому человеку, скончавшемуся в возрасте примерно шестидесяти лет. Мы — под самым алтарем собора Святого Петра, построенного здесь потому, что, согласно преданию, на этом самом месте святой Петр был тайно предан земле. В 1968 году Папа Павел Шестой провозгласил, что найденные останки принадлежат рыбаку из Галилеи, тому самому Петру, который последовал за Иисусом и соделался Камнем, на котором Господь построил Церковь свою.
Мы посмотрели на безмолвную груду костей и повернулись к священнику.
— Федерико, вы знаете, я не хочу разрушать Церковь, — сказала Энея. — Я только хочу уничтожить нынешнее заблуждение.
— Да. — Отец де Сойя отер слезы рукавом сутаны, и на его лице остались полоски грязи. — Я знаю, Энея.
Оглядевшись, он подошел к двери и открыл ее. Железная лестница вела наверх.
— Там будет охрана, — прошептал я.
— Не думаю, — покачала головой Энея. — Восемьсот лет Ватикан опасался нападения из космоса… Сверху. Вряд ли катакомбам придавали хоть какое-то значение.
Опередив священника, она решительно зашагала по лестнице. Я поспешил следом. Отец де Сойя бросил прощальный взгляд в сторону сумрачного грота, перекрестился и последовал за нами в собор Святого Петра.
Выйдя из тьмы катакомб, я чуть не ослеп в первое мгновение от тусклого мерцания свечей.
Мы миновали подземную усыпальницу, мемориальную базилику с высеченной в камне эпитафией Гаю, служебные коридоры, сакристию, прошли мимо рядов священников и тянущих шеи мальчиков-министрантов и вышли в гулкое пространство позади нефа. Здесь были те, кто не заслужил места на церковных скамьях, но удостоился чести постоять в этот торжественный день в дальнем конце храма. Достаточно было мимолетного взгляда, чтобы понять: служба безопасности и швейцарские гвардейцы перекрыли все входы и выходы. Пока что, в толпе прихожан, мы никому не бросались в глаза — просто еще один священник и двое не слишком празднично одетых прихожан, которым дозволено собственным глазами посмотреть на святого отца в Великий Четверг.
Месса продолжалась. Пахло ладаном и свечным воском. Церковные скамьи заполняли сотни епископов в торжественных облачениях и нарядно одетых знатных прихожан. На мраморном возвышении алтаря, перед барочным великолепием трона Святого Петра, стоял сам коленопреклоненный первосвященник, заканчивавший омовение ног двенадцати сидящих священников — восьмерых мужчин и четырех женщин. Невидимый хор запел:
Славься, Жертва, дар священный, В нем сокрыт Спаситель Сам, И завет сменяя древний, Новый свет явился нам! Видит вера вдохновенно Недоступное очам! И Родивший, и Рожденный Да прославятся всегда, И хвала и поклоненье Им не смолкнут никогда! Дух Святой Животворящий Равно славен будь всегда!И я усомнился. Что мы здесь делаем? Зачем понадобилось переносить нескончаемую битву Энеи в самое сердце веры этих людей? Я принимаю все, чему она научила нас, ценю все, чем она с нами поделилась, но три тысячелетия веры и традиций сложили слова этого гимна и возвели стены величественного собора. Мне невольно вспомнились простые деревянные платформы, прочные, но совсем не изящные мостики и лестницы Храма-Парящего-в-Воздухе. Да что он… да что мы… в сравнении с этим величием и этим смирением? Энея — архитектор-самоучка, все ее образование — несколько лет занятий у кибрида мистера Райта, постройка стен из грубого камня и вручную замешенного цемента. А над этой базиликой работал сам Микеланджело.
Месса близилась к концу. Часть прихожан, стоявших в продольном нефе, уже потянулась к выходу. Они ступали еле слышно, почти на цыпочках, чтобы не испортить конец службы, а переговариваться начинали — да и то шепотом — только на лестнице, ведущей на площадь. Я заметил, что Энея что-то шепчет отцу де Сойе, и склонился поближе, боясь пропустить что-нибудь важное.
— Отец, не окажете ли вы мне последнюю, очень важную услугу? — спросила она.
— Что угодно, — прошептал священник. Глаза у него были какие-то очень печальные.
— Пожалуйста, уйдите из церкви прямо сейчас. Пожалуйста, уходите, потихоньку, вместе с остальными. Уходите и затеряйтесь в Риме до того часа, когда можно будет открыться.
Отец де Сойя, потрясенный, отпрянул, глядя на Энею как человек, от которого хотят избавиться.
— Попросите меня о чем-нибудь другом, Та-Кто-Учит.
— Это все, о чем я прошу вас, отец. И прошу с любовью и уважением.
Хор запел новый гимн. Поверх голов я увидел, как первосвященник завершает омовение ног и возвращается к алтарю, а над ним несут шитый золотом балдахин. Все встали в ожидании заключительной молитвы и благословения.
Отец де Сойя сам благословил мою любимую, повернулся и вышел из храма с группой монахов, побрякивавших на ходу четками.
Я воззрился на Энею с таким пылом, что, попадись на пути взгляда деревяшка, она бы непременно воспламенилась, пытаясь передать ей мысленное послание: «ТОЛЬКО НЕ ПРОСИ УЙТИ МЕНЯ!»
Поманив меня поближе, она прошептала:
— Выполни еще одну мою просьбу, последнюю, Рауль, любимый!
Я чуть было не завопил во всю глотку: «Нет, черт побери!!!» Мой вопль эхом бы прокатился по всему собору в самый святой момент святой мессы Великого Четверга. Но я сдержался.
Пошарив в карманах жилета, Энея извлекла небольшой флакон с густой прозрачной жидкостью.
— Ты не мог бы это выпить? — прошептала она, протягивая мне флакон.
Я вспомнил Ромео и Джульетту, Антония и Клеопатру, Элоизу и Абеляра, Джорджа Ву и Говард Санг — всех этих влюбленных, квазар им в печенку. Самоубийство и яд. Я осушил склянку одним глотком и сунул ее в карман, ожидая, что Энея достанет еще один флакон и последует моему примеру. Ничего подобного.
— Что это было? — спросил я, не страшась никакого ответа.
Энея внимательно следила за ходом мессы. Подойдя вплотную к мне, она еле слышно прошептала:
— Нейтрализатор вакцины бездетности, которую тебе вкатили в силах самообороны.
«Какого черта?! — едва не заорал я, заглушив последние слова святого отца. — Тебя что, заботит планирование семьи?! СЕЙЧАС?! Ты что, совсем рехнулась?!»
А она снова зашептала мне на ухо, теплым дыханием щекоча шею:
— Слава Богу! Я носила его с собой два дня и чуть не забыла. Не волнуйся, оно подействует недели через три. Теперь ты больше не будешь стрелять холостыми патронами.
Я удивленно моргнул. Что это, откровенное святотатство или просто редкая бестактность? Затем мысли мои понеслись галопом: «Замечательная новость… Что бы ни случилось, Энея видела наше будущее… ее будущее… она хочет родить от меня ребенка. А как же ее первый ребенок? И с чего это я взял, что она это сделала для того, чтобы мы с ней… И почему она… Может, в ее представлении это прощальный подарок… почему она… зачем…»
— Поцелуй меня, Рауль, — прошептала она так громко, что стоявшая впереди монахиня обернулась и строго посмотрела на нас.
Я не стал задавать вопросов. Я просто поцеловал Энею. Ее губы были мягкими и чуточку влажными, совсем как тогда, на берегу реки Миссури в местечке под названием Ганнибал. Поцелуй казался долгим-долгим. Потом она коснулась прохладными пальцами моего затылка, и наши уста разомкнулись.
Раздавая благословения, Папа вышел в переднюю часть апсиды, повернулся по очереди к каждому крылу трансепта, затем к короткому нефу и, наконец, к продольному.
Вежливо отстраняя прихожан, Энея шагнула в центральный проход и решительно направилась к алтарю.
— Ленар Хойт! — прокричала она, и слова ее эхом отразились от высоких сводов.
От Папы, застывшего с поднятой в благословении рукой, Энею отделяло не меньше ста пятидесяти метров, и я знал: преодолеть это расстояние у нее нет никаких шансов. Я побежал за ней.
— Ленар Хойт! — снова крикнула она, и сотни голов повернулись к ней. В полутемных арках по бокам нефа началось какое-то копошение: швейцарские гвардейцы. — Ленар Хойт! Я Энея, дочь Ламии Брон, которая вместе с тобой прилетела на Гиперион, чтобы встретиться со Шрайком. Я дочь кибрида Джона Китса, которого твои хозяева из Техно-Центра дважды убили во плоти!
Папа стоял как громом пораженный, указуя на нее костлявым перстом, мгновение назад поднятым в благословении. Он трясся, как в лихорадке. Левая рука была прижата к груди. Тиара раскачивалась, грозя свалиться с головы.
— Ты! — взвизгнул он. — Исчадие!
— Сам ты исчадие! — прокричала Энея уже на бегу, расталкивая плечами типов в черном.
Я отшвырнул с дороги двоих, проскользнул мимо третьего, догнал ее и побежал рядом, отслеживая боковым зрением швейцарских гвардейцев, которые протискивались к нам через толпу. При таком скоплении народа гвардейцы не решались стрелять — слишком много людей оказалось бы на линии огня. Но я знал: стоит Энее приблизиться к Папе меньше чем на десять метров, — и вся их нерешительность мгновенно исчезнет.
— Сам ты исчадие! — снова прокричала она, летя вперед во весь дух, уклоняясь от протянутых рук и выставленных локтей. — Ты Иуда, Ленар Хойт. Ты продал Католическую Церковь за…
Массивный мужчина в адмиральском мундире выхватил из ножен кортик — Энея отскочила. Не останавливаясь, я перехватил кортик, сломал адмиралу руку и одним ударом послал его в нокаут, прямо на руки адъютантам.
Полковник Кассад как-то раз сказал, что, научившись языку живых, он стал чувствовать боль, которую сам причиняет другим. Так и я в тот момент ощутил, как рвутся нервы и сухожилия, как дробится кость в предплечье — в моем предплечье! — но, посмотрев на свою руку, я убедился, что она цела и невредима. Я отделался всего лишь болью. Я привык терпеть боль.
Священники, монахи, епископы встали перед Энеей, пытаясь заслонить собой Папу. Понтифик схватился за сердце и начал падать, дьяконы подхватили его и унесли под роскошный балдахин работы Бернини. Швейцарские гвардейцы перекрыли проход, ощетинившись пиками. Сзади нас тоже настигали гвардейцы, они бежали, грубо расшвыривая прихожан. Полицейские в черных доспехах, с компактными ТМП-поясами, носились в десяти метрах над нашими головами. Пятнышки лазерных прицелов плясали на груди и висках Энеи.
Я бросился вперед, чтобы прикрыть ее своим телом. Точка лазерного прицела мелькнула по моему лицу, и на какое-то мгновение я ослеп. Вытянув руки в стороны, я что-то орал…
— Нет! Взять живыми! — разнесся под сводами храма, словно глас Божий, мощный кардинальский бас.
Швейцарский гвардеец устремился к Энее. Он занес пику, чтобы оглушить ее ударом по голове. Энея бросилась на пол, проскользнула на животе по плитам, подсекла его под коленки, и гвардеец кубарем покатился к моим ногам. Пнув его в голову, я развернулся, выхватил у другого гвардейца пику, самого гвардейца опрокинул в толпу и направил оружие на пятерых стражников, подбежавших сзади. Те отпрянули.
Полицейский всадил мне в плечо две стрелки — должно быть, с транквилизаторами, — но я вырвал их, метнул в пролетающий силуэт и ничего не почувствовал. Двое охранников — крупный мужчина и еще более крупная женщина — схватили меня за руки. Я подбросил их в воздух, столкнул лбами и уронил на каменные плиты.
— Энея!
Она снова была на ногах, вырвавшись из рук гвардейца, но двое полицейских в черных доспехах преградили ей путь. Прихожане вопили. Огромный орган вдруг всхлипнул, как роженица. Агент безопасности выстрелил в Энею с пяти метров. Она крутнулась. Женщина в черных доспехах ударом дубинки сшибла мою любимую и навалилась на нее, завернув ей руки за спину.
Одним ударом я отбросил эту суку на пять метров. Стражник врезал мне пикой в живот. Летучий агент всадил в меня парализующий заряд. Парализаторы должны действовать мгновенно, гарантированно мгновенно, но я успел вцепиться в глотку ближайшему гвардейцу и не разжимал рук, пока в меня не всадили еще один заряд, а потом еще. Конвульсивно дернувшись, я повалился на пол и наделал в штаны. Последнее, что я помню, была горячая струя, изливающаяся из брюк прямо на плиты собора Святого Петра.
Я ничего не почувствовал, когда дюжина полицейских навалилась мне на спину, прижав мои руки к полу. Я не почувствовал даже, как с маху ударился лбом о камень, рассекая кожу от бровей до волос.
В последние секунды угасающее сознание пассивно регистрировало все, что попадалось мне на глаза: мельтешение черных подошв армейских сапог, упавший берет швейцарского гвардейца, снова подошвы. Я знал, что Энея упала слева от меня, но был не в состоянии даже повернуть голову, чтобы взглянуть на нее в последний раз.
Они поволокли меня прочь, оставляя след из крови, мочи и слюны. Но мне уже было все равно.
И это — конец моей истории.
Во время так называемого суда — десятиминутного фарса перед облаченными в черные сутаны судьями Священной Канцелярии — я был в сознании, но обезврежен нейроблокираторами. Меня приговорили к смерти. Никто не хотел брать грех на душу, приводя приговор в исполнение, — меня просто-напросто сунули в «кошачий ящик» Шредингера, вращающийся на орбите около планеты-лабиринта Армагаст — она сейчас в карантине. Приговор приведут в исполнение непреложные законы физики и квантовой механики.
Сразу после суда меня отправили туда на высокоперегрузочном беспилотном роботе-факельщике с двигателем Хоукинга — два месяца пути по объективному времени. Где бы ни была Энея, что бы с ней ни случилось, моя помощь опоздала на целых два месяца. Я очнулся от наркотического забытья, лишь когда запечатали силовую оболочку моего узилища.
А потом я впал в безумие на долгие дни… а может, и месяцы. А потом долгие дни и месяцы я начитывал свою историю на скрайбер, обнаружившийся в моей тесной яйцевидной тюрьме. Наверное, мои палачи знали, что скрайбер послужит перед смертью дополнительным наказанием — ведь я снова и снова вынужден пускать свои жалкие листочки микровелена в переработку, как змея, пожирающая собственный хвост, зная, что никто и никогда не доберется до информации, записанной на микрочипе.
Я с самого начала сказал тебе, мой непредполагаемый читатель, что не стоило даже приступать к чтению. Я говорил, что, если тебя интересует ее или моя участь, ты взял в руки не тот документ. Меня не было с ней, когда наступила развязка, мой финал сейчас гораздо ближе, чем тогда, когда я диктовал первые строки.
Меня с ней не было.
Меня с ней не было.
О Господи Иисусе, Бог Моисея, Аллах, Будда, Зевс, Мюир, Элвис, Христос… если кто-то из вас существует, или когда-либо существовал, или смог удержать в своих мертвых ладонях хоть крупицу могущества… пожалуйста, сделайте так, чтоб я умер сейчас. Сейчас. Пусть детектор зарегистрирует частицу, пусть газ наполнит камеру. Сейчас.
Меня с ней не было.
Глава 31
Я лгал вам.
Я сказал в начале этого повествования, что меня не было рядом с Энеей в последнем акте трагедии, и еще раз повторил, что меня с ней не было, — не помню когда, но повторил. Я думал тогда, что подвожу итог всему.
Я лгал умолчанием, как сказал бы священник христианской Церкви.
Я лгал, потому что не хотел говорить об этом, описывать, вновь переживать, не хотел верить. Но теперь я знаю — я должен, должен это сделать. Я переживал это час за часом, все время своего заточения здесь, в ящике Шредингера. И я-то верил, поверил с той минуты, как разделил все, что случилось с моей единственной, моей любимой Энеей.
Я знал, еще до отправки с Пасема знал, какая участь уготована моей милой девочке. Приняв и поверив, я должен — как того требует истина в изложении фактов и в память нашей любви, — должен все описать.
Это пришло, когда я, одурманенный наркотиками, болтался в противоперегрузочном баке робота-корабля, через час после десятиминутного суда Инквизиции. И я знал: то, что я слышу, чувствую, вижу, — все это действительно происходит именно сейчас, что только моя близость с Энеей и способность понять язык живых дали мне такую силу сопереживания. Когда все закончилось, я орал, рвал шланги жизнеобеспечения, молотил кулаками в стены бака, бился головой, пока вода не побурела от крови. Я пытался сорвать осмотическую маску, облепившую лицо как паразит, высасывающий мое дыхание, но не смог. Три часа я вопил и метался, измочалив себя до потери сознания, тысячу раз переживал — и разделял с ней эти минуты и тысячу раз кричал от боли, пока робот не впрыснул снотворное, погрузив меня в криогенную фугу, — звездолет достиг точки перехода для скачка к системе Армагаста.
Очнулся я уже в «кошачьем ящике» Шредингера. Робот-корабль загрузил меня в энергетическую оболочку и запустил ее на орбиту. Некоторое время я пребывал в растерянности — может, все то, что я разделил с Энеей, привиделось мне в страшном сне? Но нет, подлинность этих мгновений обрушилась на меня, вновь заставив кричать от боли. Видимо, я пребывал в полном безумии не один месяц.
Вот что довело меня до помешательства.
Энею тоже утащили из собора Святого Петра и тоже всю в крови и без сознания, но ее не накачали наркотиками. Она пришла в себя — и это сопереживание ее пробуждению было явственнее, чем все, что я когда-либо мог вызвать в своей памяти. Каменные стены громадного круглого зала уходили ввысь на десятки метров. Тусклый свет лился сквозь окно на потолке. Энея решила, что свет — обман зрения и зал находится скорее всего где-то глубоко под землей.
Пока я был без сознания, медики привели меня в приличный вид для десятиминутного суда, но об Энее никто не позаботился: разбитое лицо болело, левый глаз едва открывался, правый плохо видел из-за контузии, губы распухли. С нее сорвали одежду, выставив на обозрение синяки, ссадины и порезы.
Ее привязали к ржавому железному каркасу, подвешенному на цепях, спускавшихся с потолка. Ее руки и ноги безжалостно пристегнули и прикрутили к раме. Ее ступни оказались в нескольких дюймах от решетчатого пола. Головой она могла двигать свободно.
В круглом зале почти пусто — только большое мусорное ведро с пластиковым пакетом справа от ржавого кресла, а слева — ржавый поднос с инструментами: древние зубные долота и клещи, скальпели, хирургические ножовки, какие-то длиннющие щипцы, мотки колючей проволоки, длинные ножницы, короткие зубчатые ножницы, бутылки с темной жидкостью, тюбики, иглы, суровые нитки и молоток. Но еще страшнее то, что под ней, — решетка, а под решеткой ряды крохотных голубых язычков пламени.
В воздухе пахло газом.
Энея дернулась, попробовав ослабить веревки, — бесполезно, только боль пульсирующими ударами отозвалась в стянутых лодыжках и запястьях. Она бессильно откинула голову на железную раму и стала ждать, что будет дальше. Волосы сбились в колтун, на затылке была громадная шишка, а чуть пониже — еще одна. Перед глазами все поплыло, и Энея с трудом справилась с приступом тошноты.
Но вот открылась потайная дверца, и вошла Радаманта Немез. Направилась к Энее, остановилась справа от края решетки. Следом — еще одна Радаманта Немез вошла и встала слева. Еще две Немез заняли место позади первых. Никто не проронил ни слова. Энея не делала попыток заговорить первой.
Все замерли в ожидании — и вот воздух замерцал, и перед Энеей материализовался Джон Доменико кардинал Мустафа — голографический образ в натуральную величину. Иллюзия физического присутствия была бы полной, если б не отсутствие на голограмме кресла, и потому казалось, что кардинал парит в воздухе. Выглядел Мустафа куда более молодым и здоровым, чем на Тянь-Шане. Секунды через три к нему присоединились массивный кардинал в алом облачении и худой, словно чахоточный, священник. А еще мгновение спустя через настоящую дверь в настоящей стене настоящей темницы вошел высокий симпатичный мужчина в сером, с иголочки, костюме и остановился рядом с голограммами. Мустафа и второй кардинал продолжали сидеть в невидимых креслах. Епископ и мужчина в сером стояли поодаль.
— Мадемуазель Энея, — заговорил Великий Инквизитор, — позвольте вам представить госсекретаря Ватикана его преосвященство кардинала Лурдзамийского, помощника госсекретаря монсеньора Лукаса Одди и нашего многоуважаемого советника Альбедо.
— Где я? — спросила Энея. Ей пришлось повторить вопрос дважды — разбитые губы не слушались.
— Сначала, моя дорогая, мы ответим на все ваши вопросы. А потом вы ответите на наши. За это я ручаюсь. Что же до ответа на первый вопрос, вы находитесь в тайной… э-э… комнате переговоров… в замке Святого Ангела, на правом берегу нового Тибра, неподалеку от Ватикана, все еще на планете Пасем.
— Где Рауль?
— Рауль? — переспросил Великий Инквизитор. — А-а, это тот неудачливый телохранитель? В данный момент, полагаю, он завершил беседу со Священной Канцелярией и находится на борту корабля, который вот-вот покинет нашу замечательную систему. Он вам нужен, дорогая? Тогда мы быстро все уладим, и его вернут в замок Святого Ангела.
— Да нет, не нужен, — пробормотала Энея, и слова ее отозвались во мне мучительной болью, но вот боль отступила, и я ощутил то, что она прятала за безразличием слов: заботу и тревогу.
— Как пожелаете. Сегодня мы хотим побеседовать именно с вами. Как вы себя чувствуете?
Энея промолчала.
— Что ж, — вздохнул Великий Инквизитор, — вряд ли вы рассчитывали на безнаказанность, осмелившись напасть на святого отца в соборе Святого Петра.
Энея что-то пролепетала.
— Что-что, моя дорогая? Мы не поняли. — Мустафа самодовольно усмехнулся.
— Я… не… нападала… на… Папу.
Кардинал развел руками:
— Ну, если вы так считаете, мадемуазель Энея… Однако ваши намерения отнюдь не выглядели дружелюбными. Что же вы замышляли, когда бежали к святому отцу по центральному проходу?
— Я хотела предупредить его.
Слушая Великого Инквизитора, Энея частью сознания оценивала свое состояние: множество серьезных ушибов, но переломов нет. На рассеченное шпагой бедро нужно наложить швы, и на грудь тоже. Но в организме какие-то серьезные неполадки… Может, внутреннее кровотечение? Нет, вряд ли. Видимо, впрыснули что-то чужеродное.
— О чем предупредить? — ласково спросил кардинал Мустафа.
Энея повернула голову, посмотрела здоровым глазом на кардинала Лурдзамийского, на советника Альбедо. И ничего не сказала.
— О чем предупредить? — повторил свой вопрос кардинал.
Не дождавшись ответа, Великий Инквизитор кивнул ближайшему клону Немез. Неестественно бледная темноволосая женщина медленно подошла к Энее, взяла ножницы поменьше, передумала, отложила инструмент на поднос, опустилась на колено рядом с правой рукой Энеи, отогнула ей мизинец и откусила его. Выпрямившись, Немез выплюнула окровавленный палец в мусорную корзину.
Вскрикнув от боли и ужаса, Энея, почти теряя сознание, уронила голову.
Тварь взяла тюбик кровоостанавливающей пасты и замазала Энее обрубок мизинца.
— Поверьте, нам очень неприятно причинять вам боль, — сочувственно проговорил кардинал Мустафа. — Но это нас не остановит. Вы обязаны отвечать на вопросы быстро и откровенно. В противном случае в корзине окажется гораздо больше частей вашего тела. И последним будет язык.
Энея с трудом сдерживала тошноту. Изувеченную руку терзала боль — в десяти световых минутах от нее я заходился от крика, не в силах переносить эту муку.
— Я хотела предупредить Папу… о… вашем покушении, — выдохнула Энея, глядя в упор на кардинала Лурдзамийского и советника Альбедо. — О сердечном приступе.
— Да вы ведьма, — удивленно приподнял брови кардинал Мустафа.
— А вы — дерьмо и предатель, — отчетливо выговорила Энея. — Все вы до единого. Вы продали свою Церковь. А теперь продаете свою марионетку Ленара Хойта.
— Да-а? — Это заявление явно позабавило кардинала Лурдзамийского. — И кому же мы его продаем, дитя мое?
— Техно-Центр управляет жизнью и смертью каждого с помощью крестоформов. — Энея подбородком указала на советника Альбедо. — Люди умирают, когда их смерть выгодна Центру… творческий потенциал умирающих нервных сетей куда выше, чем у живущих. Вы ведь опять собираетесь убить Папу, но только на сей раз воскрешение окажется неудачным.
— Вы весьма проницательны, моя дорогая, — пророкотал кардинал Лурдзамийский, пожав плечами. — Возможно, пришло время нового понтифика.
Он повел рукой, и позади них в зале возникла еще одна голограмма: папа Урбан Шестнадцатый в коме на больничной койке в окружении медсестер, врачей и медицинского оборудования. Лурдзамийский вновь махнул пухлой ладонью, и картина исчезла.
— Теперь ваша очередь? — Энея прикрыла глаза. Перед глазами у нее прыгали красные круги. Когда она снова взглянула на кардинала Лурдзамийского, тот скромно пожал плечами.
— Ну, хватит, — сказал советник Альбедо, проходя сквозь голограммы кардиналов. Он остановился у края решетки, прямо перед Энеей. — Как вы манипулировали субстанцией нуль-порталов? Как вы телепортировались без порталов?
Энея подняла взгляд на представителя Центра.
— Это пугает вас, советник? Так же как и кардиналов? Они так перепуганы, что не рискнули присутствовать здесь лично?
— Нисколько, Энея, — улыбнулся «серый кардинал». — Но вы обладаете способностью телепортироваться — и телепортировать тех, кто рядом, — без порталов. Их преосвященства кардинал Лурдзамийский и кардинал Мустафа, равно как и монсеньор Одди, не желают внезапно исчезнуть с Пасема вместе с вами. Ну а я был бы просто в восторге, если бы вы нас телепортировали куда угодно. — Он ждал. Энея молчала. Советник Альбедо снова улыбнулся: — Нам известно, что только вы умеете так телепортироваться. Ни один из ваших так называемых учеников даже близко не подошел к освоению этого искусства. Но вот в чем оно состоит? Нам удавалось перемещаться через Бездну только одним способом — постоянно удерживая открытыми разрывы в ее субстанции, а на это уходит слишком много энергии.
— А они вам больше не позволяют это делать, — пробормотала Энея, сморгнув красные точки, чтобы встретиться взглядом с «серым кардиналом». Боль от изувеченной руки то накатывала, то вдруг отступала, бушуя в ней как штормовой прибой.
Советник Альбедо вежливо удивился:
— Они не позволяют? Кто такие эти «они», дитя мое? Опишите нам своих хозяев.
— Не хозяев… — еле слышно прошептала Энея, сосредоточившись только на том, чтобы не потерять сознание. — Львы, медведи и тигры…
— Хватит выкручиваться! — рявкнул кардинал Лурдзамийский, кивнув второй Немез. Подойдя к подносу, та подхватила ржавые клещи, приблизилась к левой руке Энеи, крепко взяла ее за запястье и вырвала ноготь.
Вскрикнув, Энея потеряла сознание, потом очнулась, попыталась отвернуть голову — но не успела. Ее стошнило прямо на грудь, и она негромко застонала.
— В страдании нет благородства, дитя мое, — сказал кардинал Мустафа. — Расскажите нам то, что хочет услышать советник, и покончим с этой невеселой шарадой. Вас выпустят отсюда, исцелят ваши раны, отрастят палец, умоют, оденут и приведут вашего телохранителя, ученика или кто он там. А этот досадный инцидент будет забыт.
Содрогаясь от боли, Энея все явственнее ощущала чужеродное вещество, впрыснутое, когда она была без сознания. Клетки распознали агрессора. Яд. Надежный, медленный, смертельный яд. И противоядия нет — он неотвратимо сработает через двадцать четыре часа. Теперь она знала, что они от нее хотят и зачем.
Энея всегда пребывала в контакте с Центром, еще до рождения, — через петлю Шрюна в голове матери, заключавшую в себе личность кибрида отца. Это позволяло ей входить в примитивные инфосферы напрямую — именно так она и поступила, ощутив концентрацию массива техники Центра вокруг подземной камеры: приборы внутри приборов, датчики, недоступные человеческому разуму, приборы, работающие в четырех и более измерениях, — выжидающие, вынюхивающие, выведывающие.
Кардиналы, советник Альбедо и Центр хотели, чтобы она бежала. Сама непереносимая обстановка должна была подтолкнуть ее к телепортации — и нарочитая жестокость пыток, и мелодраматичная неуместность подземелий замка Святого Ангела, и тяжелая рука Инквизиции. Они будут терзать ее, и в какой-то момент она больше не сможет терпеть и перенесется отсюда прочь, а приборы Центра зафиксируют все с точностью до миллиардной доли наносекунды, проанализируют ее способ телепортации и найдут, как воспроизвести его. Техно-Центр наконец-то вновь обретет порталы — не примитивные червоточины в Бездне, не пушечное ядро двигателя Гидеона, а постоянный, несравнимо превосходящий их по простоте и изяществу вечный способ.
Не обращая более внимания на Великого Инквизитора, Энея облизнула сухие, потрескавшиеся губы и повернулась к советнику Альбедо:
— Я знаю, где вы обитаете.
— Простите? — У импозантного «серого кардинала» задергались уголки губ.
— Я знаю, где находится Центр — физические элементы Центра.
Альбедо усмехнулся, но от внимания Энеи не ускользнул быстрый взгляд, брошенный им на кардиналов и долговязого священника.
— Глупости. Человеку не дано знать, где находится Центр.
— Вначале, — сказала Энея, по мере сил стараясь не выдать своей боли и слабости, — Центр был всего лишь бренной сущностью, блуждавшей в примитивной инфосфере Старой Земли — тогда она называлась «Интернет». Затем, еще до Хиджры, вы переместили свою пузырьковую память, серверы и накопительный узел в скопление астероидов, обращающихся вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите, вдали от Старой Земли, которую вы намеревались уничтожить…
— Заставьте ее замолчать! — вскинулся Альбедо, обернувшись к Лурдзамийскому, Мустафе и Одди. — Она пытается отвлечь нас от допроса. Все это не имеет значения.
Но лица святых отцов говорили как раз об обратном.
— Во времена Гегемонии, — продолжила Энея, и ее веко затрепетало как бабочка от мучительного усилия сосредоточиться и не потерять голос, — Центр решил, что было бы благоразумнее рассредоточить свои физические компоненты: матрицы пузырьковой памяти отправить глубоко под землю на девяти планетах-лабиринтах, серверы мультилиний — на орбитальные промышленные комплексы вокруг ТКЦ, ИскИнов — странствовать по частотам связи нуль-порталов, а мегасферу, соединяющую все это воедино, поместить в разломах Связующей Бездны, образованных нуль-порталами.
Альбедо скрестил руки на груди и процедил сквозь зубы:
— Да вы никак бредите?!
— Но после Падения, — не сдавалась Энея, — Центр забеспокоился. Атака Мейны Гладстон на порталы заставила вас задуматься, хотя урон, нанесенный вашей мегасфере, был не столь уж велик. Вы решили рассредоточиться еще больше. Умножить число ИскИнов, миниатюризировать элементы памяти и непосредственно паразитировать на человеческих нервных сетях…
Альбедо повернулся к ней спиной и дал знак ближайшей Немез.
— Она бредит. Зашей ей рот.
— Нет! — приказал кардинал Лурдзамийский. Глаза его горели пристальным вниманием. — Не трогать, пока я не прикажу!
Немез по правую руку от Энеи уже взяла иголку и моток суровых ниток. Теперь бледная темноволосая женщина остановилась и взглянула на Альбедо в ожидании инструкций.
— Подожди, — велел советник.
— Вы хотели перейти к более непосредственному нейропаразитизму, — продолжила Энея. — И теперь миллиарды ИскИнов Центра — каждый! — преобразован в отдельную матрицу-крестоформ и присосался непосредственно к человеку-носителю. Каждый из индивидуумов Центра имеет сейчас собственного носителя и может распоряжаться его жизнью и смертью по собственному усмотрению. Вы по-прежнему подключены к старым инфосферам, вы подключены к новым мегасферным узлам двигателей Гидеона, но вы упиваетесь предельной близостью к источнику питания…
Запрокинув голову, Альбедо расхохотался, демонстрируя идеально ровные зубы. Потом, обернувшись к трем голограммам, развел руками.
— Замечательная забава! — Он все еще смеялся. — Вы затеяли все это, чтобы допросить ее, — он обвел холеной рукой интерьер каземата и указал на железную крестовину, на которой распяли Энею, — а в результате слушаете фантазии какой-то девчонки. Чушь несусветная! Но восхитительно забавная.
Кардинал Мустафа, кардинал Лурдзамийский и монсеньор Одди чутко внимали словам советника Альбедо, но голографические пальцы каждого касались голографической груди.
Изображение кардинала Лурдзамийского встало с кресла и прошествовало к краю решетки. Иллюзия присутствия была настолько безупречна, что слышался даже негромкий шелест наперсного креста, покачивающегося на перевитом золотой нитью алом шелковом шнурке. Чтобы отвлечься от боли, пульсирующей в искалеченных руках, Энея сосредоточила внимание на покачивающемся кресте и чистом шелковом шнурке. Чувствуя, как яд словно метастазы разрастающегося крестоформа потихоньку распространяется по всему телу, она усмехнулась. Что бы они тут ни учинили, клетки ее тела и крови никогда не примут крестоформ.
— Все это любопытно, но несущественно, дитя мое. — Кардинал Лурдзамийский брезгливо ткнул короткими, толстыми пальцами в направлении ее ран и наготы. — А вот это слишком неприятно. — Склонившись поближе, он впился в нее проницательным взглядом своих поросячьих глазок. — И вовсе не обязательно. Расскажите советнику то, что он желает узнать.
Вскинув голову, Энея посмотрела ему прямо в глаза:
— Как телепортироваться без портала?
— Да-да, — облизнул тонкие губы кардинал Лурдзамийский.
— Очень просто, ваше преосвященство, — улыбнулась Энея. — Вам всего лишь надо вернуться за парту, научиться понимать язык мертвых и язык живых и научиться слушать музыку сфер… а потом причаститься моей крови или крови одного из моих последователей.
Кардинал Лурдзамийский отшатнулся как от пощечины, выставив перед собой, словно щит, наперсный крест.
— Ересь! — взревел он. — Jesus Christus est primogenitus mortuorum; ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum![124]
— Иисус Христос действительно воскрес из мертвых, — мягко сказала Энея, щурясь от ярких бликов, отбрасываемых крестом. — И вы просто обязаны славить его. И конечно, ему принадлежит царство, если вы того пожелаете. Но в его намерения вовсе не входило, чтобы умерших оживляли, как лабораторных крыс, по прихоти мыслящих машин…
— Немез! — закричал Альбедо. На сей раз никто не стал его останавливать. Немез неспешно подошла к решетке, отрастила пятисантиметровые когти и располосовала щеки Энеи от глаз до подбородка, обнажив кости скул моей любимой. Испустив долгий, мучительный стон, Энея без сил обвисла на крестовине. Немез склонилась к ней, оскалив в ухмылке острые зубы. От ее дыхания несло тухлятиной.
— Отгрызи ей нос и веки, — приказал Альбедо. — И помедленнее.
— Нет! — Мустафа вскочил на ноги и бросился вперед, пытаясь остановить Немез. Бесплотные голографические руки прошли сквозь вполне материальное тело киборга.
— Минуточку. — Советник Альбедо поднял палец, и Немез замерла.
— Это чудовищно! — выкрикнул Великий Инквизитор. — Как и то, что вы сделали со мной.
— Было принято решение преподать вам урок, ваше преосвященство, — пожал плечами Альбедо.
Мустафа затрясся от ярости.
— Так вы и в самом деле считаете себя нашими хозяевами?
— Мы всегда были вашими хозяевами, — терпеливо вздохнул советник Альбедо. — Вы — гниющая плоть, вместилище обезьяньих мозгов… болтливые приматы, которые начинают разлагаться с момента рождения. Ваше единственное предназначение во Вселенной — служить повитухами высших форм разума. Тех, кто воистину бессмертен.
— Центр… — брезгливо процедил кардинал Мустафа.
— Отойдите, — распорядился Альбедо, — или…
— Или что? — рассмеялся Великий Инквизитор. — Или будете пытать меня, как эту несчастную, введенную в заблуждение? Или заставите свое чудовище снова забить меня до смерти? — Мустафа ткнул голографической рукой сначала в Немез, потом — в Альбедо и, продолжая смеяться, обернулся к Энее: — Ты все равно мертва, дитя. Скажи этому лишенному души существу то, что оно хочет знать, и мы положим конец твоим мучениям за считанные секунды, без…
— Молчать! — рявкнул Альбедо, вытянув руку и сомкнув пальцы в кулак.
Кардинал Мустафа застонал, схватился за сердце и рухнул на пол. Его голографический образ прокатился сквозь ноги Немез к окровавленным стопам Энеи и погас.
Кардинал Лурдзамийский и монсеньор Одди, сохраняя полнейшую невозмутимость, повернулись к Альбедо.
— Советник, — сказал госсекретарь вкрадчивым, заискивающим тоном, — не позволите ли мне вкратце допросить ее? Если мы не преуспеем, вы сможете сделать с ней что пожелаете.
Одно долгое мгновение Альбедо холодно-изучающе смотрел на кардинала, потом хлопнул Немез по плечу, и та отступила.
Лурдзамийский потянулся к изувеченной руке Энеи, словно желая пожать ее. Голографические пальцы погрузились в истерзанную плоть.
— Qued petis? — шепнул кардинал, и в десяти световых минутах от них, вопя и мечась в противоперегрузочном баке, я понял через знание Энеи: «Чего ты ищешь?»
— Virtutes, — прошептала Энея. — Concede mihi virtutes, quibus indigeo, valeum impere.
«Силы. Мне нужны силы довести до конца то, что задумала».
— Desiderium tuum grave est («Серьезное решение»), — ответил кардинал. — Quid ultra quaeris? («Чего еще ты ищешь?»)
Сморгнув кровь со здорового глаза, чтобы видеть собеседника, она негромко, но решительно произнесла:
— Quaero togam pacem. («Я ищу мира».)
Советник Альбедо снова рассмеялся.
— Ваше преосвященство, — саркастически заметил он, — неужели вы полагаете, что я не знаю латыни?
Кардинал Лурдзамийский оглянулся на человека в сером.
— Напротив, советник, я нисколько не сомневаюсь в ваших познаниях. Ее дух почти сломлен. Это видно по лицу. Но более всего она боится огня… А не зверя, которому вы хотите ее скормить.
Альбедо скептически посмотрел на него.
— Дайте мне пять минут, советник, — попросил кардинал. — Если не поможет огонь, натравите на нее своего зверя.
— Три минуты. — Альбедо отступил к Немез. Лурдзамийский попятился шагов на пять.
— Дитя! — Он снова перешел на стандартный английский. — Боюсь, тебе будет очень больно.
Он повел голографической рукой в воздухе, и из-под решетки вырвался столб синего пламени, опалившего голые ступни Энеи. Кожа запылала, обуглилась и потрескалась. В каземате запахло паленым мясом.
Энея, крича, рвалась из оков. Нижний конец железной крестовины раскалился, обжигая икры и бедра. Кожа вздулась волдырями.
Кардинал Лурдзамийский снова повел рукой, и пламя ушло под решетку; синие язычки словно притаились и сверкали как глаза голодных хищников.
— Ты испытала лишь малую боль, — вкрадчиво проговорил кардинал. — Как ни прискорбно, но при сильных ожогах боль не стихает, даже когда сгорают нервы и кожа. Говорят, это самая мучительная смерть.
Энея скрипнула зубами, удерживая крик. Кровь из разодранных щек капала на грудь… грудь, которую я ласкал и целовал… Заточенный в противоперегрузочном саркофаге в миллионах километров от нее, я вопил и неистовствовал в окружающем безмолвии.
— Телепортируйся прочь от всего этого, — ступив на решетку, посоветовал Альбедо. — Телепортируйся на корабль, который несет Рауля навстречу верной гибели, и освободи его. Телепортируйся на корабль Консула. Автохирург вылечит тебя. Ты проживешь с любимым долгие годы. Иначе тебе придется из-за своего упрямства медленно умирать в ужасных муках здесь, а Раулю из-за тебя — умирать жуткой смертью где-то далеко. Ты больше никогда не увидишь его. Никогда не услышишь его голос. Телепортируйся, Энея. Спасайся, пока не поздно. Спасай своего любимого. Через минуту этот человек сожжет твои ноги и руки, оставив только обугленные кости. Но умереть мы тебе не позволим. Я натравлю на тебя Немез, и она будет пожирать тебя. Телепортируйся, Энея. Прямо сейчас.
— Энея, — возгласил кардинал Лурдзамийский, — es igitur paratus? («Итак, ты готова?»)
— In nomine Humanitis, ergo paratus sum, — глядя кардиналу в глаза, отвечала Энея. «Во имя Человечества — готова».
Кардинал Лурдзамийский взмахнул рукой. Все горелки взревели одновременно. Пламя поглотило мою любимую и кибрида Альбедо.
Пожираемое огнем тело Энеи выгнулось в мучительной агонии.
— Нет!!! — взревел Альбедо из пламени и бросился прочь от охваченной огнем решетки. Синтетическая плоть пылала, отваливаясь от синтетических костей. Дорогой костюм горящими лохмотьями взлетел к потолку, классическое лицо оплавилось, стекая на грудь. — Нет, черт тебя подери! — Он потянулся пылающими пальцами к горлу кардинала.
Руки Альбедо прошли сквозь голограмму. Вглядываясь сквозь пламя в лицо Энеи, кардинал поднял правую руку:
— Miserecordiam Dei… in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.[125]
Это были последние слова, которые она услышала. Пламя поглотило ее лицо. Волосы вспыхнули факелом. На миг все затмило ослепительно оранжевое сияние, а потом наступила тьма.
Но я чувствовал боль ее последних мгновений. И слышал ее мысли, будто крик — нет, шепот в моем сознании.
«Рауль, я люблю тебя».
А потом жар усилился, боль умножилась, ее ощущение жизни, любви и долга вознеслось над пламенем, уходя в небеса, — и Энея умерла.
Мгновение ее смерти обрушилось на меня как взрыв… образы, звуки — все исчезло. В этот миг из вселенной исчезло все, ради чего стоило жить.
Я больше не кричал. Я прекратил биться о стены и безвольно завис в невесомости, чувствуя, как опорожняется бак, как в мои жилы вливаются наркотики, как присасываются ко мне шланги, словно пиявки и черви, пожирающие еще живую плоть. Мне было наплевать.
Энея мертва.
Факельщик перешел в квантовое состояние. Очнулся я уже в Шредингеровой камере смертников.
Наплевать. Энея мертва.
Глава 32
В моей камере нет ни часов, ни календаря. Не знаю, сколько дней, недель, месяцев я пробыл за гранью безумия. Может, я провел без сна много суток. Может, проспал несколько недель. Не знаю.
Но день за днем, час за часом, минута за минутой цианид и вероятностные законы все не желали отнимать у меня жизнь, и тогда я взялся за это повествование. Я не знаю, зачем мои тюремщики снабдили меня грифельным скрайбером, стилом, принтером и микровеленом. Может, полагали, что приговоренный захочет письменно исповедаться или хоть как-то излить бессильный гнев. Может, считали подобное изложение всех своих прегрешений и бедствий, радостей и утрат дополнительным наказанием. В какой-то мере так оно и было.
Но не только. Я обрел в этом свое спасение. Я не сошел с ума, не покончил с собой в порыве отчаяния. Я уберег свои воспоминания об Энее, вытянул их из болота кошмара — и вновь увидел ее живой, исполненной радости бытия. Я возвращался в те дни, когда мы были вместе, вспоминал наше долгое странствие, думал о ее миссии и размышлял над ее вестью — такой короткой, законченной и невероятно прямолинейной, — вестью мне и всему человечеству. Фактически это спасло мне жизнь.
Только приступив к этому повествованию, я обнаружил, что теперь обладаю способностью понимания и сопереживания мыслям и действиям каждого участника нашей долгой одиссеи и проигранной битвы. Я знал, что обязан этим Энее, научившей меня языку живых и мертвых. Я по-прежнему встречался с умершими и во сне, и наяву: мама часто разговаривала со мной, я постигал муку и мудрость тех, кто еще жил, и тех, кто уже давно умер, но более всего меня занимали воспоминания и ощущения тех, чьи пути пересеклись с Энеей.
За все время ожидания смерти в «кошачьем ящике» я ни разу не слышал мыслей людей, живущих за стенами моей камеры, — видимо, виной тому была энергетическая оболочка, — зато я довольно быстро научился приглушать шум несметного числа голосов, резонирующих в Связующей Бездне, и сосредоточиваться только на воспоминаниях тех — и мертвых, и живых, — кто принял участие в истории Энеи. Вот так я и постиг в какой-то мере мысли и мотивации людей, столь от меня отличных, что их можно считать представителями иного вида: кардиналов Симона Августино Лурдзамийского и Джона Доменико Мустафы, Ленара Хойта — в инкарнации Папы Юлия и Папы Урбана Шестнадцатого, торговцев Кендзо Исодзаки и Анны Пелли Коньяни, священников и воинов — отца де Сойи, сержанта Грегориуса, капитана Марджет Ву и старпома Хогана Жабера. Некоторые из них присутствуют в Связующей Бездне в виде пустот, разрывов и дыр — ИскИны, советник Альбедо, Немез и ей подобные, — но я проследил перемещения и действия этих существ по перемещению пробелов в матрице чувственных ощущений, чем, собственно, и является Бездна, подобным же образом можно увидеть абрис человека-невидимки во время сильного дождя. Таким вот способом, да еще вслушиваясь в тихий шепот мертвых, я воссоздал картину избиения невинных на Седьмой Дракона, услышал свистящее шипение и увидел смертоносные действия Скиллы, Гиеса, Бриарея и Немез на Витус-Грей-Балиане Б. Но как бы ни были омерзительны эти погружения в вакуум и кошмар, они с лихвой искупались вновь пережитым ощущением дружбы и тепла при встрече с Дем Лоа, Дем Риа, отцом Главком, Хетом Мастином, А.Беттиком… Многих я смог найти только в своей памяти — это мужественный и благородный Лхомо Дондруб, и Рахиль, и царственная Дорже Пхамо, и мудрый юный далай-лама. Я касался Связующей Бездны, чтобы услышать свой собственный голос, и тогда нередко видел себя лишь второстепенным персонажем собственной истории — не слишком умным, редко — ведущим, чаще — ведомым другими, очень часто неспособным ответить на вопрос и принимающим неверное решение. Но кроме того, я видел, как глуповатый Рауль Эндимион из моего повествования открывает в себе любовь к той, которую он ждал всю свою жизнь, видел, что он безоговорочно готов следовать за ней всегда и везде и, если потребуется, — отдать за нее жизнь.
И хотя я не сомневаюсь, что Энея мертва, я ни разу не слышал ее голос в хоре тех, кто говорит на языке мертвых. Скорее, я ощущал ее присутствие во всей Связующей Бездне, в умах и сердцах всех хороших людей, встречавшихся нам в нашей долгой одиссее. Научившись отсекать шум помех и выделять из хора мертвых отдельные голоса, я часто зрительно представлял себе их резонансы в Бездне в виде звезд: одни — тусклые, но заметные, если знаешь, куда смотреть, другие — яркие, как сверхновая; третьи образуют с душами других умерших двойные системы и целые созвездия любви и дружбы, четвертые — вроде Великого Инквизитора, кардинала Лурдзамийского и Ленара Хойта — почти ничего не излучают, сдавленные непомерной гравитацией честолюбия, алчности и жажды власти, коллапсирующие в черные дыры.
Но Энеи нет среди этих звезд. Она — как солнечный свет весенним днем — вечный, неизменный, всепроникающий, согревающий всех и вся, источник жизни и энергии. А когда приходит зима или опускается ночь, отсутствие света приносит холод и тьму, и мы ждем весны и рассвета.
Но я знаю: для Энеи больше никогда не наступит рассвет — ни для нее, ни для нашей любви нет воскресения. Великая сила ее вести в том, что воскресение, предлагаемое Империей Пасема, — обман, бесплодный, как имперские подданные после обязательных инъекций. В ограниченном мире, жители которого бессмертны, нет места детям. Священная Империя упорядоченна и статична, неизменна и стерильна. Дети приносят с собой хаос, сумятицу и безграничный потенциал будущего, а это — проклятие для Империи.
Прощальный подарок Энеи — нейтрализатор вакцины бездетности… наверное, это все-таки чисто символический жест. Надеюсь, Энея не предполагала, что я воспользуюсь им буквально; что я полюблю другую, женюсь, что другая, не она, родит мне детей. Как-то раз — мы сидели тогда перед ее домом в Талиесине — вечерний ветерок доносил ароматы юкки и примулы, и она говорила об удивительной гибкости человеческой природы в поисках новых взаимоотношений, новых друзей, партнеров, новых возможностей. Но я надеюсь, что дар изобилия, который она поднесла мне в те последние минуты в соборе Святого Петра, — просто символ того, что она уже дала человечеству, — возможности хаоса, беспорядка и чудес. Если же дар был буквальным, если она полагала, что я найду другую любовь, что у меня будут дети от другой, — значит, Энея меня совсем не знала.
Записывая это повествование, я слишком хорошо увидел глазами других, что Рауль Эндимион — довольно симпатичный парень, надежный, если надо — до нелепости храбрый, но никогда не проявлявший ни особого ума, ни проницательности. И все же я достаточно умен и проницателен — по крайней мере мне так кажется, — чтобы знать наверняка: такая любовь бывает раз в жизни и на всю жизнь, и если я чудесным образом вернусь в мир живых, то, конечно, я устремлюсь навстречу радости, веселью и дружбе, но не буду искать бледной тени прежней любви. Никаких детей. Нет.
Однажды на несколько восхитительных дней я убедил себя, что Энея воскресла из мертвых… что чудеса все-таки возможны. Я как раз завершил описание того, как мы попали на Старую Землю — через нуль-портал на Роще Богов, после страшной схватки с первой Немез, и остановился на рассказе о нашем появлении в Талиесин-Уэсте.
И в ту ночь, когда я закончил первую часть нашей истории, мне приснилось, что Энея пришла ко мне сюда — в Шредингеровскую камеру смертников, — окликнула меня во тьме, погладила по щеке и шепнула: «Мы уйдем отсюда, Рауль, любимый. Не сейчас, когда ты допишешь свою повесть. Когда ты все вспомнишь и все поймешь». Проснувшись, я обнаружил, что скрайбер включен, а на его страницах четким почерком Энеи написано длинное послание мне с цитатами из творений ее отца.
Много дней — недель — я пребывал в убеждении, что это было реальное явление, чудо сродни тому, о котором возвестили апостолы, когда Иисус после казни явился своим ученикам, и я взялся за повествование, подгоняемый лихорадкой нетерпения — поскорее все записать, все постичь, все увидеть. Но работа отняла не один месяц, и со временем я стал считать, что посещение было чем-то совершенно иным — возможно, тогда я впервые расслышал ее шепот в хоре мертвых, а может, в памяти скрайбера хранилось ее послание, настроенное на воспроизведение, когда я дойду до нужного места. Такое вполне возможно. Моя любимая, несомненно, умела заглядывать в будущее — «в будущие», как она всегда говорила. Не исключено, что она нашла возможность записать на скрайбер это прекрасное послание и каким-то образом устроить так, чтобы именно этот скрайбер оказался в моей камере.
Или — и это, пожалуй, самое очевидное объяснение — я написал послание сам, полностью погрузившись в личность Энеи, неотступно пытаясь постичь ее суть, отыскать каждый ее след в Бездне и в собственных воспоминаниях. Мне такое объяснение нравится меньше всего, но оно вполне согласуется со взглядами Энеи на посмертное бытие, в какой-то мере основанными на иудейской традиции, — с верой, что после смерти люди живут только в сердцах и памяти тех, кого любили, кому служили и кого спасли.
Посвятив работе не один месяц, я постепенно понял истинную безмерность — и тщетность — подвига Энеи и ее жертвы, и тогда я покончил с неистовым бумагомарательством и нашел в себе мужество описать ее ужасную смерть и свою опустошенность, когда ее не стало. Распечатывая последние страницы на микровелене, я плакал. Прочитав, я отправил их в переработку, приказал скрайберу сохранить все в памяти и отключил стило — как мне казалось, в последний раз.
Энея не появилась. Не вывела меня из заключения. Она мертва. Я чувствовал ее отсутствие во вселенной так же отчетливо, как чувствовал любой резонанс Связующей Бездны с момента причастия.
И я лег на койку в своем «кошачьем ящике», пытаясь уснуть, забыв о еде и ожидая смерти.
Некоторые из моих блужданий среди голосов мертвых открыли мне многое, что не имеет прямого отношения к моему повествованию. Что-то было чересчур личным — к примеру, сны наяву о том, как мой давно умерший отец охотился с братьями, и открытие, что он был тихим и великодушным человеком; или это были хроники человеческой жестокости, вроде воспоминаний Якова Шульмана из давно забытого двадцатого века, помогавшие лучше понять сегодняшнее варварство.
Но другие голоса…
Итак, я закончил повествование об Энее и ждал смерти, все больше времени посвящая сну в надежде, что решительное квантовое событие произойдет, пока я буду спать. Как-то раз, гадая, что будет с текстом в памяти моего скрайбера, найдет ли кто-нибудь когда-нибудь — быть может, много веков спустя, — способ проникнуть сквозь энергетическую оболочку, которая по определению должна взорваться при любой попытке нарушить ее целостность, не важно, извне или изнутри, я уснул и увидел сон. Я сразу понял, что это не обычный сон, не волновая пляска вероятностей, а направленный мне призыв одного из голосов мертвых.
В моем сне Консул Гегемонии играл на «Стейнвее» на балконе эбеново-черного звездолета — того самого, столь хорошо мне знакомого звездолета, — а в окрестных болотах кишмя кишели громадные зеленые твари. Консул играл Шуберта. Я не распознал мир под балконом, но это был мир исполинских первобытных растений, тяжелых грозовых туч и жуткого рыка зверей.
Консул оказался совсем невысокого роста. Я почему-то представлял его себе другим. Доиграв пьесу, он посидел минутку в тишине сумерек, и тут заговорил Корабль — я не узнал этот голос: более выразительный, более человеческий голос.
— Замечательно, — сказал Корабль. — В самом деле замечательно.
— Спасибо, Джон. — Консул поднялся с табурета и убрал балкон внутрь корабля. Начинался дождь.
— Ты все-таки решительно настроился отправиться на охоту завтра утром? — спросил бестелесный голос. Нет, это все-таки не тот голос Корабля, совсем не тот, который я знал.
— Да. Ведь именно затем я сюда и прилетаю.
— Тебе нравится мясо динозавров? — спросил ИскИн.
— Ничуть. Оно практически несъедобно. Просто я получаю удовольствие от охоты.
— Ты имеешь в виду риск?
— И риск тоже, — хмыкнул Консул. — Хотя вообще-то я не лезу на рожон.
— Но что, если ты не вернешься с завтрашней охоты? — спросил Корабль. Его голос был голосом молодого человека с британским акцентом Старой Земли.
— Мы с тобой потратили… сколько там?.. больше шести лет, обследуя старые планеты Гегемонии, — пожал плечами Консул. — Везде одно и то же — хаос, гражданские войны, голод, разобщенность… Мы видели плоды Падения системы порталов.
— Ты считаешь, что Гладстон была не права? — мягко спросил Корабль.
Налив себе бренди у напольного бара, Консул с бокалом прошел к книжному шкафу, рядом стоял шахматный столик с недоигранной партией.
— Ни в коем случае. Она поступила правильно. Но результаты прискорбны. Пройдут десятилетия, если не века, прежде чем разорванная Сеть начнет мало-помалу сплетаться в новое кружево. — Согрев бокал в ладонях, он вдохнул аромат и сделал глоток. Потом поднял глаза. — Джон, не хочешь ли присоединиться ко мне, чтобы доиграть?
В кресле по ту сторону столика возникла голограмма молодого человека с незаурядной внешностью: ясные светло-карие глаза, впалые щеки, изящный нос, волевой подбородок и крупный рот — удачное сочетание холодной мужественности с бретерским характером. Волосы — темно-рыжие, густые и очень курчавые. Одет он был в свободную блузу и бриджи. Консул знал, что некогда его гостя назвали обладателем «живого, сияющего облика победителя», и относил это на счет подвижности лица молодого человека, его выдающегося ума и кипучей энергии.
— Твой ход, — сказал Джон.
Консул некоторое время обдумывал свою позицию, потом сделал ход слоном.
Джон отреагировал мгновенно, указав на пешку, которую Консул послушно продвинул за него на клетку вперед. Молодой человек взглянул на него с искренним любопытством.
— Что, если ты все-таки не вернешься с завтрашней охоты?
— Тогда корабль в полном твоем распоряжении, хотя он вообще-то и без того твой. — Консул улыбнулся и двинул слона обратно. — А что ты будешь делать, Джон, если на этом нашим совместным странствиям придет конец?
С той же молниеносной быстротой Джон показал, что надо двинуть вперед его ладью, и отозвался:
— Отведу его обратно на Гиперион. Запрограммирую на возвращение к Ламии Брон, если все в порядке. А может, к Мартину Силену, если старик до сих пор жив и трудится над своими «Песнями».
— Запрограммируешь? — Консул уставился на доску, сосредоточенно сдвинув брови. — Ты хочешь сказать, что покинешь ИскИн корабля? — Он переставил слона по диагонали на новую клетку.
— Да. — Джон указал, что надо снова продвинуть пешку. — Я сделаю это в любом случае в ближайшие три дня.
Нахмурившись еще сильнее, Консул поглядел на доску, потом на противника, потом снова на доску.
— И куда же ты направишься? — Он переместил ферзя, прикрывая короля.
— Обратно в Центр. — Джон передвинул ладью на две клетки.
— Чтобы снова вступить в поединок со своим творцом? — поинтересовался Консул, контратакуя слоном.
Джон покачал головой. Он держался очень прямо и имел привычку откидывать кудри со лба, грациозно откидывая голову.
— Нет, — мягко сказал Джон, — чтобы задать Центру жару. Ускорить их нескончаемые гражданские войны и междоусобицы. Быть тем же, кем мой прообраз стал для поэтического сообщества, — занозой. — Он указал, куда хотел бы поставить оставшегося коня.
Консул оценил ход, не увидел в нем угрозы и хмуро уставился на своего слона.
— И зачем, интересно? — наконец сказал он.
Джон снова улыбнулся и указал на клетку, где должна оказаться его ладья.
— В ближайшие годы моей дочери понадобится помощь. — Он усмехнулся. — Ну, вообще-то через двести семьдесят с чем-то лет, если точнее. Шах и мат.
— Что?! — Консул воззрился на доску и вздрогнул. — Не может быть…
Джон молча ждал.
— Черт! — проговорил наконец Консул Гегемонии, опрокидывая своего короля набок. — Три тысячи чертей, гром и молния.
— Да. — Джон протянул руку. — Спасибо еще раз за приятную игру. Надеюсь, завтрашняя охота будет более удачной.
— Черт, — буркнул Консул и, не подумав, попытался пожать протянутую ладонь голограммы. И в сотый раз его пальцы прошли сквозь бестелесную плоть. — Черт, — повторил он.
В ту ночь в Шредингеровой камере я проснулся, и в мозгу звучало только одно слово: «Ребенок!»
Я знал, что Энея была замужем до того, как наши отношения перешли в настоящую любовь, я знал, что она родила ребенка, и это знание постоянно мучило меня, но до сих пор я как-то не задумывался, что ребенок живет где-то в одной вселенной со мной. Ее ребенок. У меня слезы навернулись на глаза.
Где он? Сколько ему лет? — спрашивал я себя, сидя на койке в «кошачьем ящике» Шредингера. Энее только-только исполнилось двадцать три стандартных года, когда она погибла… вернее, была зверски убита Техно-Центром и его марионетками. Она исчезла на год, одиннадцать месяцев, неделю и шесть часов, когда ей исполнилось двадцать. Значит, ребенку уже три года… плюс время, проведенное мной в Шредингеровой камере. Сколько ж это будет? Месяцев восемь? Или десять? Не знаю, но если ребенок еще жив, ему… или ей?.. Господи, я ведь даже не спросил Энею, кто у нее родился — мальчик или девочка, а она ни разу не упоминала об этом. Я был настолько занят собственными терзаниями и уязвленным самолюбием, что даже не подумал об этом спросить. Какой же я был идиот! Значит, ребенку — сыну или дочери Энеи — сейчас около четырех стандартных лет. Он… она?.. ходит… несомненно. Говорит… ну да. Боже мой, да ведь ее дитя уже мыслящее существо — оно говорит, задает вопросы… множество вопросов, если можно судить по моему скудному опыту общения с детьми… постигает мир, учится ходить в походы, удить рыбу, любоваться природой…
Я даже не спросил у Энеи, как зовут ее ребенка. Глаза у меня горели, горло перехватывало от стыда. Впрочем, она ведь не проявляла особого желания говорить об этом периоде своей жизни, а я не расспрашивал, убеждая себя, что просто не хочу расстраивать ее и докучать вопросами, она будет чувствовать себя виноватой, а я буду чувствовать себя кровожадным чудовищем. Но Энея говорила о муже и о ребенке, не испытывая ни малейшего чувства вины. Если быть честным, то, наверное, именно поэтому меня охватило такое бешенство и такая беспомощность. Но, как ни странно, это не помешало нашей близости и нашей любви — как там было в том послании, которое я обнаружил на экране, — «Любви, о которой поэты будут слагать песни». Именно так. То, что я знал о ее муже и ребенке, ничуть не помешало нам любить друг друга так, словно мы оба никогда еще никого не любили.
А может, она действительно не любила никого, кроме меня? Я всегда объяснял ее брак порывом внезапной страсти, но теперь взглянул на это по-другому. Кто отец ребенка? В послании Энеи говорилось, что она любила меня и в прошлом, и в будущем, и в себе я открыл те же чувства — я словно любил ее всегда, любовь только таилась в глубине моего сердца и ждала своего часа. А что, если брак Энеи состоялся не по любви, не по страсти, а… по расчету? Нет, не то. По необходимости.
Ведь было же предсказано — тамплиерами, Бродягами, Церковью Последнего Искупления и другими, — что мать Энеи Ламия Брон зачнет и родит дочь, Ту-Кто-Учит — Энею. Согласно «Песням» старого поэта, в тот день, когда второй кибрид Джона Китса умер физической смертью и Ламия Брон пробилась в храм Шрайка искать убежища, жрецы Шрайка возгласили: «Благословенна будь Мать Нашего Спасения, благословенно будь Орудие нашего Искупления» — спасением же была сама Энея.
Что, если Энее было предначертано родить ребенка, дабы продолжить эту цепочку пророков… мессий? Конечно, я не слышал ни одного такого пророчества, но месяц за месяцем описывая жизнь Энеи, я установил однозначно: Рауль Эндимион — тупица и тугодум, до которого все доходит, как до жирафа. Быть может, о новой Той-Кто-Учит пророчеств было ничуть не меньше, чем о самой Энее. А может, ее ребенок несет человечеству совершенно иные дары и откровения.
Очевидно, не мне суждено быть отцом второго мессии. Союз второго кибрида Джона Китса, по собственному признанию Энеи, стал великим примирением между лучшими индивидуумами Техно-Центра и человечеством. Потребовались способности и восприятие и людей, и ИскИнов, чтобы создать гибридную способность заглядывать прямо в Связующую Бездну… чтобы человечество наконец-то научилось языку мертвых и языку живых. Эту способность еще называют эмпатией, и, пожалуй, Энею логичнее всего назвать «Дитя Эмпатии».
Кто же мог стать отцом ее ребенка?
Ответ ослепил меня как молния, оглушил как раскат грома. Его логичность настолько меня потрясла, что я на миг уверился: детектор, отщелкивающий время в энергетических стенах моей темницы, засек нужную частицу, и цианид уже впрыснут в систему регенерации воздуха. Какая горькая ирония — разгадать загадку и в ту же секунду погибнуть!
В космической шахматной партии, которую Энея и другие разыгрывали целых триста лет, был еще один игрок: почти мифический Наблюдатель иных разумных существ, несколько раз мимоходом упомянутый Энеей по различным поводам. Львы, медведи и тигры — настолько могущественные, что предпочли перенести Старую Землю в Малое Магелланово Облако только потому, что не желали быть пассивными свидетелями ее уничтожения — уже несколько столетий назад, по словам Энеи, отправили к нам одного или более Наблюдателей, принявших человеческий облик, как я заключил из ее слов, и постоянно пребывающих среди нас. В эпоху Священной Империи, когда практическое бессмертие благодаря крестоформу стало привычным повсюду, затеряться среди людей не так уж сложно. И кроме того, наверняка есть люди, которые, как Мартин Силен, прожили не один век благодаря медицине эпохи Великой Сети, поульсенизации и решительному нежеланию умирать.
Мартин Силен стар, это яснее ясного — пожалуй, он самый старый человек в Галактике, — но Наблюдателем он быть не может, это тоже ясно. Автор «Песней» чрезмерно самоуверен, чересчур активен, слишком привлекает к себе внимание, излишне скабрезен и вообще не в меру сварлив, чтобы быть хладнокровным Наблюдателем, представляющим столь могущественные разумные расы, которым ничего не стоит в мгновение ока обратить нас во прах. Во всяком случае, хотелось надеяться.
Но где-то — где я, может, и ни разу не бывал и даже вообразить не могу где — затаился Наблюдатель, принявший человеческий облик. Вполне логично предположить, что Энее пришлось — и из-за пророчества, и из необходимости дать толчок беспредельной эволюции человека, которую она сама же и проповедовала, — телепортироваться на ту далекую планету, где затаился Наблюдатель, встретиться с ним, зачать и родить ребенка. Так могло осуществиться примирение Центра, человечества и далеких Иных.
Это предположение казалось обескураживающе тревожным, но я был по-настоящему взволнован — впервые со дня смерти любимой.
Я знал Энею. Ее ребенок не может не быть ребенком человеческим — полным радости жизни, энергии и любви ко всему, от природы до старинных голографических мелодрам. Я никогда не понимал, как Энея нашла в себе силы покинуть ребенка, но теперь знаю: у нее просто не было выхода. Она видела, какая ужасная участь ждет ее в подвалах замка Святого Ангела. Она видела, что погибнет в огне среди врагов. Знала, еще до того как родилась.
И когда я это понял, меня охватил такой ужас, что ноги подкосились. Как могла моя единственная смеяться, с радостью встречать каждый новый день, столь беспредельно радоваться жизни, зная, что каждый прошедший день еще на шаг приближает ее к ужасной смерти? Поразительная сила духа. У меня такой нет — это я точно знаю. А вот у Энеи была.
Но, зная свой ужасный конец, она не могла взять ребенка с собой. Наверное, ребенка растит отец. Чужак в человеческом облике. Наблюдатель.
Я находил это даже более огорчительным, чем все предыдущие открытия. Но в то же время это укрепило мою уверенность: Энея хотела, чтобы я сыграл какую-то роль в жизни ее ребенка. Ее собственные заглядывания в возможные будущие, по-видимому, заканчивались для нее смертью. Может, она не знала, что меня не казнят сразу. Но, с другой стороны, она ведь просила развеять ее прах на Старой Земле… что предполагало то, что я выживу. Наверное, она считала, что просит слишком многого… Надо найти ее ребенка и помочь ему чем смогу — будь то мальчик или девочка, — когда подрастет — помочь и защитить в этом неласковом мире.
Тут я понял, что плачу… даже не плачу, а рыдаю навзрыд. Я впервые так плакал после смерти Энеи, и — что довольно странно — не столько от боли утраты, сколько от горечи, что мне отказано во втором шансе взять за руку ребенка, как некогда двенадцатилетнюю Энею, защищать дитя моей любимой, как я пытался защитить мою любимую.
И не сумел. Моя вина.
Да, я не сумел защитить Энею, но она знала, что я не сумею, что в попытке свергнуть Священную Империю ее ждет поражение. Она любила меня и любила жизнь, хотя знала, что мы проиграем.
И вовсе нет оснований полагать, будто меня непременно ждет неудача с этим другим ребенком. Быть может, Наблюдатель с радостью примет мою помощь, мой человеческий опыт в воспитании ребенка, почти наверняка обладающего сверхчеловеческими способностями. Я вправе сказать, что никто не знал Энею лучше меня. Это крайне важно для воспитания ребенка — нового мессии. Я возьму с собой эту повесть, сейчас без всякой пользы записанную в скрайбере, и мало-помалу открою ее мальчику (или девочке), а в один прекрасный день вручу скрайбер ему.
Подхватив скрайбер и стило, я заметался по Шредингеровой клетке без углов. Итак, дело за немногим — как быть с моей неотвратимой казнью. Никто не пришел спасти меня. Вся беда во взрывоопасной скорлупе яйца, и будь способ обойти эту проблему, кто-нибудь непременно был бы уже здесь. Просто поразительно, что я жив до сих пор вопреки всякой вероятности, когда дерьмовый детектор каждые пару часов готов выпустить яд. Подобное везение не может длиться вечно.
И тут я застыл на полушаге.
В учении Энеи о новых отношениях людей со Связующей Бездной четыре ступени. Еще до своего заточения я вполне преуспел — если и не достиг совершенства — в изучении языка мертвых и языка живых. Своим повествованием я показал, что могу получить доступ к Бездне, по крайней мере — к давним воспоминаниям тех, кто ныне жив, несмотря на то что оболочка камеры каким-то образом создает помехи моей способности почувствовать, что же случилось сейчас с моими друзьями — отцом де Соей, Рахилью, Лхомо, Мартином Силеном.
Полно, да существует ли эта помеха вообще? Может, я сам подсознательно отказывался от попыток связаться с миром живых — во всяком случае, в том, что не связано с моим повествованием об Энее, — заранее отнеся себя к числу обитателей мира мертвых.
Хватит. Я хочу вырваться отсюда.
Есть еще две ступени, Энея говорила о них, но никогда полностью не объясняла — услышать музыку сфер и сделать первый шаг.
Теперь я все понял. Если б я не видел, как Энея телепортируется, не разделил с ней ее ужасную смерть, обрушившуюся на меня величайшей волной постижения сути, я бы ничего не понял. Но понимание пришло.
Раньше я воображал себе музыку сфер чем-то вроде парапсихического фокуса — что можно просто расслышать шипение, потрескивание и свист звезд, как делают это радиотелескопы уже свыше одиннадцати веков. Нет, Энея имела в виду совсем другое. Она слушала не звезды, а резонанс живых существ — и людей, и других. Перед тем как телепортироваться, она использовала Бездну как направляющий радиомаяк.
Ее странствия нередко казались мне лишенными какого-либо смысла. Центр грубо разрывал ткань Бездны, ткань пространства-времени, и удерживал края разрыва порталами, подобно тому, как в эпоху скальпельной хирургии фиксировали зажимами края раны. Способ телепортации, избранный Энеей, был неизмеримо более изящен.
В те безумные дни, когда мы с Энеей телепортировались на планеты, когда она переносила «Иггдрасиль» из системы в систему, я всякий раз удивлялся, как мы до сих пор не материализовались внутри скалы или в пятидесяти метрах над землей или не угодили вместе с кораблем внутрь звезды. Мне казалось, что телепортация вслепую — это как незапланированный прыжок с двигателем Хоукинга: дело опасное и непредсказуемое. Но мы всегда появлялись именно там, где следовало. И теперь я понял почему.
Энея слышала музыку сфер. Она входила в резонанс со Связующей Бездной, в свою очередь резонирующей с разумной жизнью и мыслью, а затем использовала почти неисчерпаемую энергию Бездны, чтобы… чтобы сделать первый шаг. Пройти сквозь Бездну туда, где ждут эти голоса. Как-то раз Энея сказала, что Бездна черпает энергию квазаров, взрывающихся ядер галактик, черных дыр и темной материи — достаточно, наверное, чтобы перенести комок органической материи сквозь пространство-время и положить в нужном месте.
Любовь — перводвигатель Вселенной, как сказала мне однажды Энея. Она в шутку называла себя Ньютоном, который в один прекрасный день объяснит фундаментальные основы физики этого неисчерпаемого источника энергии. Она мертва и больше ничего не объяснит.
Но я вижу теперь, что она имела в виду и что, собственно, происходит на самом деле. Музыка сфер создана изысканными гармониками и переборами струн любви. И переносишься туда, где ждет любимый. Узнаешь места, где побывал вместе с тем или теми, кого любишь. Или просто любишь узнавать новые места.
И вдруг я понял, почему наши первые месяцы — это бесцельная вроде бы череда блужданий с планеты на планету: Безбрежное Море, Кум-Рияд, Хеврон, Седьмая Дракона, безымянная планета, где мы оставили корабль, и все прочие, даже Старая Земля. Не было никаких работающих порталов. Энея перебрасывала А.Беттика и меня — прикасаясь к этим местам, вдыхая воздух, впивая солнечное тепло, видя их все своими глазами — с друзьями и с тем, кого она любила, — заучивая музыку сфер, чтобы суметь воспроизвести ее потом.
А моя одиночная одиссея — телепортация на каяке со Старой Земли на Лузус, облачную планету и в иные места. За всем этим стояла Энея. Это она посылала меня в разные места, чтобы я мог их продегустировать и вновь отыскать, когда придет время, но уже самостоятельно.
Я думал — даже написав это повествование, которое сейчас со мной (расхаживая по камере смертников Шредингера, я не выпускал из рук скрайбер), — да, я думал, что мало чем отличаюсь от сопровождающего в этой череде рискованных авантюр. Однако все они имели смысл. Я любил, странствуя вместе со своей любовью — или навстречу своей любви — по музыкальной партитуре миров. Партитуре, которую должен был выучить наизусть, чтобы суметь проиграть ее снова, когда придет срок.
* * *
Закрыв глаза, я сконцентрировался, потом от сосредоточенности перешел к состоянию полного освобождения сознания, состоянию пустоты, — я научился медитации на Тянь-Шане. Каждая планета имеет собственное назначение. Каждое мгновение имеет собственное назначение.
И в этой неспешной пустоте я распахнул себя Связующей Бездне и универсуму, с которым она звучит в унисон. Я бы не смог… я знал это, я бы не смог без причащения крови Энеи, без нанотехнически перекроенных организмов, которые навеки поселились в моих клетках и поселятся в клетках моих детей. «Нет, — тут же одернул я себя, — не моих детей. Но зато в клетках детей тех, кто отверг крестоформ. И в клетках их детей». Я бы не смог это сделать без того, чему научился от Энеи. Я бы не смог услышать те голоса, которые я слышал — такого многоголосия мне еще не доводилось слышать, — не отточив свою собственную грамматику и синтаксис языка мертвых и живых, долгие месяцы трудясь над повестью в ожидании смерти.
Я бы не смог этого сделать, будь я бессмертен. Такая сила любви к жизни и друг к другу может быть дана — понял я раз и навсегда — только смертным, чей век краток и всегда омрачен тенью смерти и потерь.
И пребывая здесь, слушая нарастающие аккорды музыки сфер, я уже различал отдельные голоса в хоре — вот Мартин Силен, все еще живой, но с каждым днем слабеющий на моем родном Гиперионе; вот Тео на прекрасной Мауи-Обетованной, Рахиль на Мире Барнарда, полковник Кассад на красном Марсе, отец де Сойя на Пасеме; и даже нежные аккорды голосов мертвых — Дем Риа на Витус-Грей-Балиане Б, отец Главк на холодной Седьмой Дракона, моя матушка, снова на далеком Гиперионе, а еще я услышал стихи Джона Китса, произнесенные и его собственным голосом, и голосом Мартина Силена, и голосом Энеи:
Но это — человеческая жизнь: война, заботы, Разочарования, тревоги, Воображения потуги, даль и близь, Все это — человек, за всем стоит Нужда извечная дышать и есть, Чтоб, ощутив существование, постичь, Что смерть — покой. Сорняк, цветок ли Для нее земля растит; но, впрочем, это Для меня не ново…[126]Но для меня в тот миг все обстояло как раз наоборот, для меня ново было все. Вселенная стала глубже, музыка сфер превратилась в ликующую симфонию, как Девятая Бетховена, и я знал, что теперь смогу услышать ее, когда пожелаю или когда это будет нужно, всегда смогу сделать шаг навстречу той, кого люблю, или — если это мне не дано — шаг туда, где я был вместе с той, кого я любил, или, если и это мне не будет даровано, — в то место, которое полюблю за его собственную красоту и щедрость.
Энергия квазаров и взрывающихся звездных ядер наполнила меня. Я взмыл на гребнях волн энергии, даже более волшебной и романтичной, чем крылья Бродяг-«ангелов», парящих в потоках солнечных лучей. Скорлупа смертоносной энергии, служившая мне тюрьмой и плахой, вдруг оказалась смехотворной, как исходная шутка Шредингера, — просто детская скакалочка, проложенная вокруг меня вместо стены.
И я вышел из Шредингеровского «кошачьего ящика» и из системы Армагаста.
На какое-то мгновение ограничения Шредингеровской тюрьмы навеки исчезли, пребывая нигде и везде. Хотя мое тело, стило и скрайбер остались неизменными в своем физическом обличье, я взмыл на волне совершенного ликования, сравнимого лишь с головокружительным воздействием самой соло-телепортации. Свободен! Наконец-то свободен! Радость была столь велика, что мне хотелось плакать, кричать в окружающий меня свет не-пространства, влить свой голос в хор живых и мертвых, петь в лад с кристально ясными симфониями сфер, вздымающимися и опадающими, словно прибой. Наконец-то свободен!
И тут я вспомнил, что свобода утратила для меня смысл, что той единственной, ради которой я хотел быть свободен, уже нет. Энея мертва. Безграничная радость бегства угасла, сменившись простым удовлетворением оттого, что многомесячное заключение наконец-то позади. Пусть вселенная утратила для меня краски, зато я волен идти в этой бесцветной вселенной куда угодно.
Но куда? Телепортировавшись во Вселенную со скрайбером под мышкой, я до сих пор не принял решения.
На Гиперион? Я обещал Мартину Силену вернуться. Я слышал его голос, громко резонирующий в Бездне, и в прошлом и в настоящем, но ему уже недолго звучать в этом хоре. Жить ему осталось считанные дни. И все-таки не на Гиперион. Пока нет.
На Биосферу Звездного Древа? Я был потрясен, узнав, что она хотя бы частично уцелела, хотя и не сумел расслышать голоса Лхомо среди тех голосов. Это место немало значило для нас с Энеей, и когда-нибудь я туда вернусь. Но не сейчас.
На Старую Землю? Удивительно, но я слышал музыку ее сферы вполне отчетливо, различая там и голос Энеи, и собственный, и песни наших друзей в Талиесине. Расстояние — ничто для Связующей Бездны. Но не на Старую Землю. Не сейчас.
Я слышал десятки возможностей, десятки голосов, которые хотел бы услышать собственными ушами, тех, кого я хотел бы обнять и с кем я хотел бы вместе поплакать, но сейчас сильнее всего меня волновала музыка планеты, где Энею пытали и убили. Пасем. Обиталище Церкви и гнездо наших врагов, впрочем, теперь я научился разделять переменные. Пасем. Там для меня не осталось от Энеи ничего, кроме пепла.
Но ведь она просила меня взять ее пепел и развеять его на Старой Земле. Развеять там, где мы смеялись и любили.
На Пасем. Кружась в вихре энергии Бездны, уже за пределами Шредингеровой камеры, не существуя нигде, кроме чистой квантовой вероятности, я принял решение и телепортировался на Пасем.
Глава 33
Ватикан разрушен, словно десница Господня сокрушила его с небес во гневе, недоступном человеческому пониманию. Окружающий его бескрайний бюрократический город лежит в руинах. Космопорт разрушен. По грандиозным проспектам прокатилась волна пожаров, оставив после себя лишь закопченные остовы зданий. Египетский обелиск на площади Святого Петра переломился у основания, колонны рухнули, как каменный лес. Купол собора Святого Петра раскололся на тысячи осколков, осыпавшихся на разбитые ступени. Обрушилась колоннада портика, обрушился величественный фасад. В Ватиканской стене зияют проломы. Некогда тщательно оберегавшиеся средневековые здания — Апостольский дворец, Секретный архив, казармы швейцарской гвардии, богадельня святой матери Терезы, папские покои, Сикстинская капелла — превратились в обугленные груды камней.
Замок Святого Ангела, высившийся на квадратном каменном постаменте, расплавился, обратившись в груду застывшей лавы.
Я видел все это, шагая по разбитым плитам бульвара на восточном берегу реки. Впереди — мост Святого Ангела, он развалился на три секции и рухнул в реку. Вернее, в русло реки, потому что Новый Тибр испарился, там, где было песчаное дно и берега, сверкает стекло. Кто-то перекинул подвесной веревочный мост через усыпанное развалинами русло.
Это именно Пасем. Тот же разреженный, холодный воздух, совсем как в тот день, когда мы с Энеей и отцом де Сойей проходили здесь, накануне смерти моей любимой, хотя тогда все было серо и моросил холодный дождь, а сейчас небо сияет столь роскошными красками заката, что даже рухнувший купол собора Святого Петра кажется великолепным.
Это просто потрясающе — свободно шагать под открытым небом после стольких месяцев в тесной камере. Я прижимал скрайбер к себе как щит, как талисман, словно Библию, шагая на подгибающихся ногах по некогда горделивому бульвару. Долгие месяцы я жил чужими воспоминаниями о многих местах и многих людях, но мои собственные глаза, легкие и ноги позабыли ощущение настоящей свободы. Даже в печали моей было ликование.
Телепортация была вроде бы совсем такая же, как и вместе с Энеей, но на более глубоком уровне отличия оказались просто ошеломительными. Вспышка белого света, легкость внезапного перехода, потрясение от резкой смены давления, гравитации и освещенности — то же, что и с Энеей. Но на сей раз я не видел свет, я слышал его. Меня несла музыка звезд и мириадов планет, и я сам избрал ту, на которой хотел очутиться. Это не требовало никаких усилий с моей стороны, никаких затрат энергии, надо было только сосредоточиться и тщательно сделать выбор. Музыка стихла не до конца — наверное, теперь она уже никогда не стихнет совсем, — даже теперь она продолжала звучать еле слышным фоном, словно оркестр где-то за горой репетировал пьесу к вечернему концерту в летнем парке.
В золотых лучах заката, вдали, у самого горизонта, тащились двое волов, запряженных в повозки, а за ними шагали крохотные человеческие фигурки. На этом берегу среди величественных развалин то и дело попадались хижины и простые кирпичные постройки. Встретилась крохотная церквушка, потом — еще одна. Откуда-то издалека ветер принес аромат жареного мяса и переливы детского смеха, который невозможно спутать ни с чем другим.
Едва я успел свернуть туда, откуда доносились эти звуки, как из-за груды камней на месте караульной заставы замка Святого Ангела вышел невысокий проворный мужчина. Из густых зарослей бороды виднелись только глаза — живые и настороженные, волосы заплетены в косичку. В руках он сжимал массивное пулевое ружье вроде тех, с какими швейцарские гвардейцы появлялись на торжественных церемониях.
Мы воззрились друг на друга — ослабевший от малоподвижной жизни человек, вооруженный одним лишь скрайбером, и загорелый охотник с заряженным ружьем — и почти тотчас узнали друг друга. Я ни разу не встречался с ним, как и он со мной, но я видел его глазами других через Связующую Бездну, хотя в первый раз он был в аккуратно подогнанных доспехах и чисто выбрит, а в последний раз — голый корчился на столе пыток. Не знаю, как он понял, кто я, но в его глазах сверкнула искра узнавания, и в ту же секунду он отставил ружье и бросился ко мне с распростертыми объятиями:
— Рауль Эндимион! День настал! Слава Богу. Добро пожаловать! — Крепко обняв меня, бородатый знакомый незнакомец отступил на шаг, оглядел меня с головы до ног и радостно улыбнулся.
— Вы капрал Ки, — очумело проговорил я. Мне запомнились его глаза, виденные отцом де Сойей, когда он, Ки, сержант Грегориус и улан Реттиг год за годом гонялись за нами с Энеей по всей галактике.
— Бывший капрал, — усмехнулся он. — А теперь просто Бассин Ки, гражданин Нового Рима, прихожанин церкви Святой Анны, добываю себе пропитание. — Он тряхнул головой. — Рауль Эндимион. Боже мой! Кое-кто уже думал, что вы никогда не выберетесь из этого Шредингерова кошатника.
— Так вам известно о Шредингеровой камере?
— Конечно. Это было в Момент Сопричастности. Энея знала, куда вас отправили. Так что и мы все знали. И мы ощущали ваше присутствие там через Бездну.
У меня закружилась голова. Свет, воздух, горизонт вдали… Горизонт вдруг закачался, словно я видел его с палубы крохотного кораблика, затерявшегося в бурном море, и я зажмурился. Когда я снова открыл глаза, Ки поддерживал меня под локоть, усаживая на белую плиту, похоже, выброшенную взрывом из храма по ту сторону стеклянной реки.
— Боже мой, Рауль, вы что, только что телепортировались оттуда? Вы еще нигде не были?
— Да. Нет. — Я вдохнул, выдохнул и спросил: — А что это за Момент Сопричастности?
Невысокий человек изучающе меня рассматривал.
— Момент Сопричастности Энеи, — тихо сказал он. — Так мы его называем, хотя на самом деле это продолжалось гораздо дольше. Все моменты ее мученичества и смерти.
— Так вы тоже это ощутили? — Сердце мое мучительно сжалось, и я так и не понял, от радости ли, или безграничной скорби.
— Все ощутили. Все до единого. То есть все, кроме ее палачей.
— Все, кто был на Пасеме? — уточнил я.
— На Пасеме. На Лузусе и Возрождении-Вектор. На Марсе и Кум-Рияде, на Возрождении Малом и ТКЦ. На Фудзи, Иксионе, Денебе III и Горечи Сибиату. На Мире Барнарда, Роще Богов и Безбрежном Море. На Цингао-Чишуан Панне, Патаупхе и Грумбридже-Дисоне Д… — Помолчав, Ки улыбнулся напевности собственной литании. — Почти на каждой планете, Рауль. И в межзвездном пространстве. Нам известно, что Звездное Древо ощутило Момент Сопричастности… все биосферы всех звездных деревьев.
— Так есть и другие звездные деревья? — удивился я.
Ки утвердительно кивнул.
— И сколько же планет… ощутили Сопричастность? — Еще не успев договорить, я догадался, каков будет ответ.
— Да, — сказал бывший капрал Ки. — Все планеты, где побывала Энея, — на многих вы были вместе. Все планеты, где она оставила учеников, принявших причастие и отвергших крестоформ. Ее Момент Сопричастности… час ее смерти… транслировался и ретранслировался на каждой из этих планет.
Я потер вдруг онемевшее лицо.
— Значит, только те, кто получил причастие или принял учение Энеи, ощутили этот момент?
— Нет… — покачал головой Ки. — Они были ретрансляторами, релейными станциями. Они воспринимали Момент Сопричастности из Связующей Бездны и передавали его всем остальным.
— Всем? — ошеломленно переспросил я. — Даже десяткам и сотням миллиардов имперских подданных, которые носят крестоформ?
— Носили крестоформ, — поправил Бассин Ки. — Многие верующие после этого отказались носить паразита Центра в своем теле.
И тут на меня снизошло понимание. Последние моменты жизни Энеи, открытые каждому, выходили далеко за рамки простых слов, боли пыток и ужаса — я воспринимал ее мысли, постигал ее понимание истинных мотивов действий Центра, истинного паразитизма крестоформа, циничного использования человеческой смерти ради подстегивания нейросетей ИскИнов, жажды власти кардинала Лурдзамийского, замешательства Мустафы и абсолютной бесчеловечности Альбедо… Если каждый познал Момент Сопричастности вместе со мной, когда я вопил и рвался из противоперегрузочного бака, уносившего меня прочь на тюремном роботе-факельщике, значит, все человечество пережило ужасающий момент просветления. И каждый живущий услышал ее последнее «Я люблю тебя, Рауль!», когда пламя взмыло под потолок.
Солнце садилось. Золотые лучи сияли среди руин. Тень оплавленной громады замка Святого Ангела протянулась к нам, словно от стеклянного холма. Энея просила меня развеять ее пепел на Старой Земле, а я не могу сделать для нее даже этого. Я подвел ее даже после смерти.
— А как же Пасем? — Я посмотрел на Бассина Ки. — На Пасеме у нее не было учеников, когда… Ох… — Она же отослала отца де Сойю из собора Святого Петра, она просила его уйти вместе с монахами и затеряться в этом, таком знакомом ему городе. Когда же он попытался возразить, Энея сказала: «Ни о чем другом я не прошу, отец. И прошу с любовью и уважением». И отец де Сойя исчез за пеленой дождя. И стал ретранслятором, передав последние мучения и прозрения моей единственной нескольким миллиардам жителей Пасема.
— Ох… — Я не мог заставить себя отвести от него взгляд. — Но в последний раз, когда я вас видел… через Бездну… вас держали в криогенной фуге в этом… — Я с омерзением махнул рукой в сторону оплавленной груды замка Святого Ангела.
— Я и был в криогенной фуге, Рауль, — подтвердил Ки. — Меня держали там, как мороженую тушу в холодильнике, в подвальной камере недалеко от того места, где они замучили Энею. Но я ощутил Момент Сопричастности. Каждый живущий ощутил его — даже если спал, или был в стельку пьян, или безумен.
Я молча смотрел на него, и сердце мое обливалось кровью. Наконец я нашел силы задать вопрос:
— И как же вам удалось выбраться? Оттуда?
Мы оба повернулись к руинам Священной Канцелярии.
— Вскоре после Момента Сопричастности вспыхнула революция, — вздохнул Ки. — Многие — почти все жители Пасема — больше не желали иметь ничего общего с крестоформом и предательской Церковью, внедрявшей его. Все же нашлись достаточно циничные личности, которые вступили в сделку с дьяволом в обмен на физическое возрождение, но миллионы… сотни миллионов… жаждали причастия и освобождения от крестоформа в первую же неделю. Верноподданные Священной Империи пытались помешать им. Начались бои… революция… гражданская война.
— Снова… Как после Падения Порталов три столетия назад.
— Нет. Не настолько скверно. Не забывайте, тому, кто слышит хор мертвых и голоса живых, больно причинять боль другим. Верноподданных Империи ничто не сдерживало, но они оказались в меньшинстве.
— И вы называете это сдержанностью? — указал я на развалины. — Вы говорите, что все это не настолько скверно?
— Революция против Ватикана, Священной Империи и Инквизиции тут ни при чем, — мрачно проговорил Ки. — Она прошла относительно бескровно. Лоялисты бежали на «архангелах». Их Новый Ватикан теперь на планете Мадхья… так, дерьмовая планетка, сейчас ее охраняет половина Имперского Флота и несколько миллионов лоялистов.
— А это чья работа? — Я окинул взглядом окружающую разруху.
— Техно-Центра. Немез со своими клон-братьями и сестрами уничтожила город и захватила четыре «архангела». Они спалили нас из космоса, когда лоялисты удрали. Центр прям кипятком писал. Может, и сейчас писает. Нам-то что.
Я осторожно поставил скрайбер на белую плиту и огляделся. Все больше людей выходили из развалин, они держались на почтительном расстоянии, но разглядывали нас с нескрываемым интересом. Все в рабочей одежде, а вовсе не в шкурах или лохмотьях. Конечно, сразу ясно, что для них сейчас трудные времена, но они никакие не дикари. Белобрысый парнишка застенчиво помахал мне рукой. Я помахал в ответ.
— Да, я ведь так и не ответил на ваш вопрос, — встрепенулся Ки. — Меня выпустили охранники, они всех узников выпустили, пока тут была всеобщая неразбериха после Момента Сопричастности. В ту неделю двери казематов распахнулись перед многими узниками этого рукава Галактики. После причастия… ну, трудно держать кого-то в заточении или пытать, если через Связующую Бездну сам получаешь половину чужой боли. А у Бродяг с Момента Сопричастности дел невпроворот — они заняты оживлением миллиардов иудеев, мусульман и прочих похищенных Центром… Да еще доставкой их с планет-лабиринтов на родные миры.
Я попытался все это осмыслить и, немного помолчав, спросил:
— А отец де Сойя выжил?
— Полагаю, можно сказать, что он выжил. — Ки радостно заулыбался. — Он наш священник в приходе Святой Анны. Пойдемте, я отведу вас к нему. Он уже знает, что вы здесь. Тут всего пять минут ходу.
Де Сойя обнял меня так крепко, что ребра ныли еще долго. Священник был одет в простую черную сутану с римским воротничком. Святая Анна оказалась вовсе не той огромной приходской церковью, что мы видели в Ватикане, а всего лишь маленькой часовней, выстроенной на расчищенном участке восточного берега. Похоже, приход состоял примерно из сотни семей, добывающих себе пропитание охотой и земледелием. Во время совместной трапезы в церковном дворике меня познакомили почти со всеми. Эти люди держались так, будто давно со мной знакомы, и искренне радовались, что я снова вернулся в мир живых.
Когда стемнело, мы с Ки и де Сойей удалились в жилище священника — по-спартански обставленную комнату при церкви. Достав бутылку вина, отец де Сойя до краев наполнил три бокала.
— Одно из преимуществ падения нашей цивилизации, — улыбнулся он, — состоит в том, что стоит где-нибудь копнуть поглубже, и наткнешься на винный подвал, забитый марочными винами. Это не воровство. Это археология.
Ки поднял бокал, словно хотел произнести тост, но замялся. Потом неуверенно предложил:
— За Энею?
— За Энею! — И мы с отцом де Сойей осушили бокалы. Священник наполнил их вновь.
— Долго меня не было? — спросил я. Я раскраснелся от вина, как всегда. Энея любила над этим подшучивать.
— Тринадцать стандартных месяцев с Момента Сопричастности, — сказал де Сойя.
Я только головой тряхнул. Наверное, я писал свою повесть и ждал смерти часов по тридцать кряду, потом на несколько часов погружался в сон, чтобы снова бодрствовать тридцать или сорок часов. Это обычное явление, когда человек лишен возможности отмерять время, наблюдая смену дня и ночи.
— А вы общались с другими планетами? — продолжал я расспросы. Потом бросил взгляд на Ки, и ответ стал очевиден. — Наверняка. Бассин рассказывал мне о реакции на Момент Сопричастности на других планетах и о возвращении похищенных народов.
— Сюда залетало несколько кораблей, — сказал де Сойя, — но без «архангелов» путешествия занимают много времени. Тамплиеры и Бродяги доставляют беженцев домой на своих кораблях-деревьях, но нам ненавистно применение двигателей Хоукинга, мы ведь понимаем, насколько это губительно для субстанции Бездны. А научиться слышать музыку сфер и сделать первый шаг, несмотря на все наши старания, удалось столь немногим, что их можно по пальцам пересчитать.
— Это вовсе не трудно! — воскликнул я и тут же сам рассмеялся над собой. — Это чертовски трудно. Ой, простите, святой отец.
Де Сойя успокаивающе кивнул:
— Это действительно чертовски трудно. Я сотни раз уже был близок к цели, но в последний момент всегда отвлекался.
Я посмотрел на священника.
— Вы остались католиком, — сказал я.
Отец де Сойя отхлебнул из старинного бокала.
— Я не просто остался католиком, Рауль. Я заново открыл для себя, что значит быть католиком. Быть христианином. Верующим.
— Даже после Момента Сопричастности Энеи?
Капрал Ки молча смотрел на нас с другого конца стола. Тени от масляных светильников плясали на глинобитных стенах.
— Я ведь уже знал о предательстве и сговоре Церкви с Техно-Центром, — очень тихо проговорил он. — Откровение Энеи просто еще ярче показало мне, что значит быть человеком… и сыном Божьим.
Я все еще раздумывал над этими словами, когда отец де Сойя после минутной паузы добавил:
— Говорят, что я должен стать епископом, но я не хочу. Потому-то я и остался в этом районе Пасема, хотя наиболее жизнеспособные общины — вдали от старых городов. Одного взгляда на то, что осталось от наших традиций — вот, руины за рекой, — достаточно, чтобы понять: нет смысла слишком надеяться на иерархию.
— Значит, никакого Папы? — спросил я. — Никакого святого отца?
Пожав плечами, де Сойя снова подлил нам вина. Тринадцать месяцев я прожил на синтетической пище, и теперь вино быстро ударило мне в голову.
— Монсеньор Лукас Одди бежал от революции и от нападения Центра. Он учредил на Мадхье папство в изгнании, — резко произнес священник. — Вряд ли кто-либо из бывших подданных Священной Империи, кроме его защитников и приспешников, признает в нем настоящего Папу. — Де Сойя отпил из бокала. — Это уже не первый случай, когда у Матери Церкви антипапа.
— А что с Папой Урбаном Шестнадцатым? — спросил я. — Скончался от сердечного приступа?
— Да, — кивнул Ки.
— И был воскрешен?
— Не совсем.
Я молча смотрел на отставного капрала, ожидая продолжения, но тот упорно хранил молчание.
— Я отправил весточку за реку, — улыбнулся отец де Сойя. — Очень скоро вы сами все поймете.
И верно, не прошло и минуты, как занавеси на входе раздвинулись, и в комнату вошел высокий мужчина в черной сутане. Но не Ленар Хойт. Этого человека я еще ни разу не видел, но чувствовал, что хорошо его знаю — удлиненное лицо, большие печальные глаза, широкий лоб и редеющие серебряные волосы. Я встал, чтобы пожать ему руку, поклониться, поцеловать перстень — словом, как-нибудь выразить свое почтение.
— Рауль, мой мальчик, мой мальчик, — произнес отец Поль Дюре. — Как я рад встрече с тобой! Нас так взволновала весть о твоем возвращении.
Старый священник энергично пожал мне руку, крепко меня обнял и решительно направился к буфету. Нашел кружку, накачал в раковину воды, вымыл кружку и наполнил ее вином, после чего уселся на свободный стул напротив Ки.
— Мы тут рассказываем Раулю, что произошло за год и месяц его отсутствия, — пояснил отец де Сойя.
— Мне казалось, прошел уже целый век, — сказал я, отсутствующе глядя вдаль.
— А для меня как раз век и прошел, — улыбнулся пожилой иезуит. У него был какой-то непривычный, но приятный акцент. Может, он родом с франкоязычной планеты? — А точнее, почти три.
— Я видел, что они делали с вами после каждого воскрешения! — Вино полностью лишило меня чувства такта. — Лурдзамийский и Альбедо убивали вас, чтобы возродить Хойта из ваших крестоформов.
Отец Дюре даже не пригубил вина. Он устремил в бокал пристальный взор, словно в ожидании пресуществления.
— Раз за разом, — задумчиво, без ненависти и злобы проговорил он. — Странная жизнь. Рождаешься лишь для того, чтобы быть убитым.
— Энея согласилась бы, — сказал я, зная, что эти-то священники — друзья и вообще добрые люди, но не испытывая теплых чувств к Церкви в целом.
— Да. — Поль Дюре в безмолвном тосте поднял бокал и осушил его до дна.
Бассин Ки заполнил вакуум тишины:
— Большинство верных, оставшихся на Пасеме, хотели бы видеть своим Папой отца Дюре.
Я посмотрел на пожилого иезуита. Я всякого навидался и теперь не испытывал трепета в присутствии живой легенды из «Песней». При личной встрече с легендарной личностью всегда отыщется черточка, делающая ее менее легендарной и более человечной. В данном случае этой черточкой стали пучки седых волос на больших ушах священника.
— Тейяра Второго? — спросил я, вспомнив, что, по отзывам, двести семьдесят девять лет назад Папа Тейяр Первый был добрым пастырем, правда, недолго, пока его не убили в первый раз.
Подождав, пока отец де Сойя наполнит его бокал, Дюре покачал головой. В глазах у него застыла та же печаль, что и в глазах де Сойи.
— Папская тиара не для меня. Лучше я проведу оставшиеся мне годы, пытаясь усвоить учение Энеи, слушая голоса мертвых и живых, заново постигая уроки смирения, преподанные Господом нашим. Долгие годы я был археологом и интеллектуалом. Настало время заново открыть в себе простого приходского священника.
— Аминь! — заключил слегка захмелевший де Сойя, выуживая из буфета новую бутылку.
— Значит, вы больше не носите крестоформ? — спросил я, обращаясь ко всем, но глядя только на Дюре.
Все трое отшатнулись, как от пощечины.
— Только люди недалекие и законченные циники до сих пор носят паразита, Рауль, — ответил Дюре. — На Пасеме таких очень мало. Да и на любой другой планете после Момента Сопричастности Энеи. Впрочем, у меня просто не оставалось выбора. Я был воскрешен в ватиканской часовне в самый разгар боев. Ждал, что вот-вот меня, как обычно, навестит кардинал Лурдзамийский или Альбедо… чтобы убить, как обычно. А вместо них этот человек… — Он указал длинным аристократическим пальцем на Ки, капрал поклонился и подлил себе вина. — Врывается этот вот человек вместе со своими повстанцами, все в боевых доспехах, с древними ружьями в руках. Он принес мне чашу с вином. Я знал, что это за вино. Я тоже испытал Момент Сопричастности.
Я ошарашенно смотрел на старого священника. «Даже пребывая по ту сторону жизни, в матрице пузырьковой памяти дополнительного крестоформа, даже во время воскрешения?!»
Отец Дюре кивнул, словно прочтя мои мысли.
— Даже там. — Потом, глядя на меня в упор, спросил: — Чем ты теперь займешься, Рауль Эндимион?
— Я прибыл на Пасем, чтобы отыскать пепел Энеи… она просила… однажды попросила…
— Мы знаем, сын мой, — кивнул отец де Сойя.
— В общем, — продолжал я, — после того, что случилось с замком Святого Ангела, это невозможно, значит, придется заняться другими делами.
— То есть? — с бесконечной добротой спросил отец Дюре. И вдруг в этой полутемной комнате с грубо сработанным столом, на котором мерцало в бокалах древнее вино, я разглядел могучую личность старого иезуита из мифических «Песней» Мартина Силена. И у меня не осталось ни малейших сомнений: да, это тот самый глубоко верующий человек, который распинал себя снова и снова на прошитом молнией дереве тесла, не желая принимать крестоформ. Истинный защитник веры. С этим человеком Энея была бы рада поговорить и поспорить обо всем. Я ощутил боль утраты с такой силой, что невольно опустил глаза, избегая встретиться взглядом с Дюре, да и со всеми остальными — тоже.
— Как-то раз Энея сказала мне, что у нее был ребенок, — выдавил я и тут же замолчал, не зная, было ли что-нибудь об этом в мыслях и воспоминаниях, переданных Энеей в Момент Сопричастности. Если да, они и так все знают. Я поднял глаза, но оба священника и капрал вежливо ждали продолжения. Нет, не знают. — Я собираюсь отыскать ее ребенка. Отыскать и помочь воспитать его, если мне позволят.
Священники удивленно переглянулись. Ки посмотрел на меня.
— Мы не знали, — сказал Федерико де Сойя. — Я изумлен. Все, что мне известно о природе человеческой, говорит за то, что вы были единственным мужчиной в ее жизни… единственным, кого она любила. Я еще ни разу не видел такой счастливой пары.
— Был кто-то еще. — Я рывком поднял бокал, собираясь осушить его весь, но бокал оказался пуст, и я аккуратно поставил его на стол. — Был кто-то еще, — повторил я уже спокойнее. — Но это не важно. Дитя… ребенок — вот кто важен. Я хочу найти его, если сумею.
— А вы хоть представляете, где он может быть? — спросил Ки.
— Нет, — вздохнул я. — Но я буду телепортироваться на все планеты бывшей Империи и Окраины, на все планеты галактики, если понадобится. За пределы галактики… — Я прикусил язык. Я был пьян, а на такие темы не следует говорить под хмельком. — В общем, вот куда я отправлюсь через пару минут.
— Вы устали, Рауль, — покачал головой отец де Сойя. — Переночуйте здесь. У Бассина найдется лишняя койка. Он живет в двух шагах отсюда. Давайте отложим разговор до утра.
— Мне надо идти! — Я хотел было встать, чтобы продемонстрировать свою способность к здравому мышлению и решительным действиям. Но комната закачалась и опрокинулась. Я ухватился за стол и замер.
— Ну, ничего — утро вечера мудренее. — Отец Дюре положил руку мне на плечо.
— Да, — согласился я, пытаясь стоять прямо. — Утро мудренее.
Потом пожал всем руки. Два раза. У меня опять слезы навернулись на глаза, но на этот раз не от горя, хотя горе никуда не ушло, оно всегда со мной, как симфония сфер, а от искренней радости. Я так долго сидел в одиночке.
— Пошли, друг, — сказал бывший капрал Бассин Ки, морской пехотинец Имперского Флота и швейцарский гвардеец. И вместе с бывшим Папой Тейяром отвел меня в тесную комнатку, где я рухнул на койку. Уже сквозь сон я почувствовал, как с меня кто-то стаскивает ботинки. Наверное, бывший Папа.
Я и забыл, что на Пасеме сутки длятся всего девятнадцать стандартных часов. Ночи чересчур коротки. Утром я все еще ликовал от ощущения свободы, но голова раскалывалась, спина ныла, живот сводило, а во рту будто поселилась колония маленьких мохнатых существ.
В деревне шла своим чередом обычная утренняя жизнь. Слишком громкая жизнь. Чересчур шумная кухарка разогревала чан с водой. Женщины и дети уже приступили к делам, а мужчины выбирались из халуп — заросшие щетиной, с красными глазами и страдальческим выражением, слишком хорошо мне знакомым.
Впрочем, священники держались бодро. Из часовни выходили прихожане — наверное, де Сойя и Дюре, пока я спал, отслужили утреннюю мессу. Бассин Ки громогласно поприветствовал меня и провел к небольшому строению, оказавшемуся мужской умывалкой. Холодная вода закачивалась в резервуар наверху, и можно было облиться ледяной водой. Утром на Пасеме холодно, совсем как на Тянь-Шане, ледяной душ быстро привел меня в чувство. Ки принес мне чистую новую одежду — плисовые рабочие брюки, тонкую синюю шерстяную рубашку, широкий пояс и грубые башмаки, куда более удобные, чем ботинки, которые я упрямо надевал день за днем тринадцать стандартных месяцев в «кошачьем ящике» Шредингера. Выбритый, чистый, в новой одежде, с дымящейся кружкой кофе в руках (мне вручила ее юная невеста Ки), с перекинутым через плечо ремешком скрайбера, я наконец-то почувствовал себя человеком. И тут же привычно подумал: «Энее понравится это свежее утро», — и солнце для меня снова померкло.
Дюре и де Сойя присели рядом со мной на большой камень, лицом к несуществующей реке. Развалины Ватикана напоминали античные руины. Вдалеке мелькали солнечные зайчики в ветровых стеклах автомобилей, а время от времени высоко над развалинами пролетал ТМП, и я наконец понял, что это вовсе не второе Падение — даже Пасем не откатился обратно к варварству. Утром Ки объяснил, что кофе доставлен из мало пострадавших сельскохозяйственных городков на западе. Ватикан и административные центры пострадали сильнее всего, но сейчас жители начали понемногу отстраиваться.
Подошел Ки, он принес еще теплые рогалики, и мы вчетвером поели в приятном молчании, стряхивая крошки с колен и прихлебывая кофе. Солнце потихоньку поднималось за нашими спинами, отбрасывая на землю прозрачные тени дыма костров и кухонных плит.
— Я все пытаюсь понять, как обстоят дела, — наконец нарушил я молчание. — Вы на Пасеме отрезаны от мира, но по-прежнему в курсе всего, что творится на других планетах.
Отец де Сойя кивнул.
— Как вы можете касаться Бездны, чтобы слушать язык живых, так и мы дотягиваемся до тех, кого знаем и ценим. К примеру, сегодня утром я прикоснулся к мыслям сержанта Грегориуса — он сейчас на Безбрежном Море.
Я тоже отчетливо слышал мысли Грегориуса, когда слушал музыку сфер перед телепортацией, но все-таки вежливо поинтересовался:
— Как у него дела?
— Жив-здоров. Браконьеры, контрабандисты и глубоководные мятежники быстро изолировали горстку имперских верноподданных, хотя бои между различными группировками Священной Империи нанесли ряд значительных повреждений гражданским платформам. Грегориус стал кем-то вроде мэра в среднем поясе. Должен уточнить, совершенно вопреки его собственному желанию. Сержант никогда не рвался в командиры, иначе давным-давно стал бы офицером.
— Раз уж речь зашла о командирах, то кто управляет… всем этим? — Я широким жестом обвел руины, далекое шоссе и ТМП, приближающийся с запада.
— Фактически вся система Пасема находится под временным правлением прежнего главы Гильдии торговцев Кендзо Исодзаки. Его штаб расположен в развалинах старого Тора Гильдии, но он часто навещает планету.
— Исодзаки?! — удивился я. — В последний раз, когда я видел его через Связующую Бездну, он готовился к атаке на Биосферу Звездного Древа.
— Так оно и было. Атака еще не закончилась, когда наступил Момент Сопричастности. Последовало всеобщее замешательство. Часть Флота присягнула кардиналу Лурдзамийскому, другая — под предводительством Кендзо Исодзаки, получившего титул командора ордена Госпитальеров, — делала все возможное, чтобы прекратить кровопролитие. Лоялисты удержали в своих руках большинство «архангелов», ведь без воскрешения те совершенно бесполезны. Исодзаки привел в систему Пасема свыше сотни старых звездолетов с двигателем Хоукинга и нанес поражение последним сторонникам Центра.
— Так он диктатор? — спросил я, не очень-то интересуясь ответом. Это не моя забота.
— Вовсе нет, — вступил в беседу Ки. — Исодзаки здесь управляет временно, ему помогают выборные советы всех кантонов Пасема. По части снабжения ему нет равных — как раз то, что нам сейчас нужно. А местные органы тоже справляются вполне сносно. Раньше в этой системе о настоящей демократии слыхом не слыхивали. Ну, новая система пока хромает, но работает. По-моему, Исодзаки помогает наладить что-то вроде капиталистической торговли с человеческим лицом ради тех дней, когда мы сможем беспрепятственно перемещаться по пространству бывшей Священной Империи.
— Телепортироваться? — уточнил я.
Все трое кивнули.
Я снова тряхнул головой. Трудно даже вообразить: миллиарды, сотни миллиардов людей переносятся с планеты на планету без звездолетов и нуль-порталов. Сотни миллиардов людей смогут общаться между собой, прикасаясь к Бездне сердцем и разумом. Все будет обстоять так же, как в дни расцвета Великой Сети Гегемонии, только без фальшивых нуль-порталов и мультилиний Техно-Центра. Нет, тут же уточнил я, это будет ничуть не похоже на Гегемонию. Возникнет нечто совершенно иное. Нечто беспрецедентное в человеческой истории. Энея необратимо изменила мир.
— Ты отправляешься в путь сегодня, Рауль? — спросил отец Дюре с мягким французским акцентом.
— Как только допью этот чудесный кофе.
Солнце уже припекало.
— И куда же вы направитесь? — поинтересовался отец де Сойя.
И тут я сообразил, что и сам не знаю. Где искать ребенка Энеи? А если Наблюдатель забрал его в какую-нибудь далекую систему, куда я телепортироваться не смогу? А если они вернулись на Старую Землю — сумею ли я преодолеть сто шестьдесят две тысячи световых лет? Энея сумела. Но ей помогли львы, медведи и тигры. Смогу ли я когда-нибудь различить в сложном хоре Бездны их голоса? Вопросы чересчур общие, расплывчатые и к делу не относятся.
— Сам не знаю, — рассеянно сказал я. — Собирался на Старую Землю, потому что Энея хотела, чтобы я… ее пепел… но… — Снова смутившись слишком явной демонстрации чувств, я указал на оплавленный холм на месте замка Святого Ангела. — Может, вернусь на Гиперион. Повидаться с Мартином Силеном. — И мысленно добавил: «Пока он еще жив».
Мы встали, выплеснули из кружек остатки холодного кофе и отряхнули крошки. И вдруг мне в голову пришла очевидная мысль.
— А может, кто-то из вас хочет отправиться со мной на Гиперион? Или еще куда-нибудь, если уж на то пошло. Мне кажется, я сумею вспомнить, как телепортироваться, а Энея брала людей с собой, просто держа их за руки. Да что там, она целый «Иггдрасиль» телепортировала простым усилием воли.
— Если вы собираетесь на Гиперион, — заинтересовался отец де Сойя, — я, пожалуй, составлю вам компанию. Но сначала я хотел бы вам кое-что показать. Извините нас, отец Дюре, Бассин.
Я последовал за священником в часовню. В тесной сакристии, едва вмещавшей высокий деревянный гардероб для облачения и небольшую дарохранительницу, де Сойя отдернул занавеску, прикрывавшую маленький альков, вынул оттуда короткий металлический цилиндр, чуть поменьше термоса для кофе, и протянул его мне. Я уже протянул руку — и вдруг оцепенел, не в силах прикоснуться к цилиндру.
— Да, — сказал священник. — Пепел Энеи. Все, что удалось собрать. Боюсь, немного.
— Как? Когда? — пролепетал я.
— Перед последней атакой Центра. Те, кто освобождал узников, подумали, что целесообразно забрать кремированные останки нашей юной подруги. Были ведь и такие, кто хотел отыскать их и сохранить как святые мощи… дав начало новому культу. Мне почему-то показалось, что Энея была бы против. Я прав, Рауль?
— Да. — Рука дрогнула. Я все еще не мог прикоснуться к цилиндру и едва мог говорить. — Да, целиком и полностью! — воскликнул я. — Ей бы это страшно не понравилось. Не знаю, сколько раз обсуждали мы с ней трагедию Будды, которого последователи объявили богом, а его останки — мощами. Будда ведь тоже просил, чтобы его тело сожгли, а пепел развеяли, чтобы… — Я не смог продолжить.
— Да. — Де Сойя извлек из гардероба небольшую черную сумку, аккуратно положил в нее цилиндр и закинул ремень сумки на плечо. — Если хотите, я понесу это, пока мы будем путешествовать вместе.
— Спасибо, — только и смог вымолвить я. Я никак не мог увязать сияющие глаза Энеи, ее смех, ее прикосновение, голос, волосы и невероятное жизнелюбие с этим маленьким цилиндром. И поспешно опустил руку, пока священник не заметил, как она трясется.
— Вы готовы? — наконец спросил я.
Де Сойя кивнул.
— Только позвольте мне сообщить друзьям в деревне, что я отлучусь на несколько дней. Сможете ли вы забросить меня обратно по пути… туда, куда направляетесь?
Я удивленно заморгал. Конечно, такое возможно. Я думал о своей отправке отсюда как о деле бесповоротном, как о межзвездном путешествии. Но Пасем — да и все другие планеты в обитаемой вселенной — всего лишь в шаге друг от друга, пока я жив. Если я вспомню музыку сфер и сумею телепортироваться снова. Если я смогу взять с собой спутника. Если это не одноразовый дар, который я утратил, сам того не подозревая. Теперь меня била дрожь. Заверив себя, что это от неумеренного употребления кофе, я дрожащим голосом сказал:
— Ага, нет проблем. Я тут пока пообщаюсь с отцом Дюре и Бассином.
Старый иезуит и молодой солдат стояли на краю небольшого кукурузного поля, рассуждая, не пора ли убирать урожай. Поль Дюре сказал, что склоняется в пользу немедленного сбора из-за любви к печеным початкам. Завидев меня, они заулыбались.
— Отец де Сойя отправляется с тобой? — поинтересовался Дюре.
Я кивнул.
— Пожалуйста, передайте наилучшие пожелания Мартину Силену, — попросил иезуит. — В прошлом мы с ним пережили немало интересных приключений. Я слышал о его так называемых «Песнях», но, признаюсь, читать их свыше моих сил. — Дюре широко улыбнулся. — Я так понимаю, законы Гегемонии о клевете потеряли силу.
— По-моему, он так долго сражался за жизнь, только чтобы закончить «Песни», — негромко сказал я. — Теперь он никогда их не закончит.
— Тому, кто хочет творить, никакой жизни не хватит, Рауль, — вздохнул отец Дюре. — Или тому, кто хочет просто понять себя и свою жизнь. Наверное, это проклятие человечества, но и благословение тоже.
— Как это? — спросил я, но ответить Дюре не успел: к нам подошел отец де Сойя. Его провожали прихожане. Все громко переговаривались, прощались и приглашали меня заглядывать в гости. Поглядев на черную сумку, я увидел, что священник положил туда, кроме контейнера с пеплом Энеи, и другие вещи.
— Тут чистая сутана, — пояснил де Сойя. — Смена белья. Носки. Немного персиков. Библия, бревиарий и все, что необходимо, чтобы отслужить мессу. Я ведь пока не знаю, когда вернусь. Я совсем не помню, как это делается. Не нужно ли нам чуть больше простора?
— По-моему, нет. Наверное, мы с вами должны держаться друг за друга. По крайней мере на первый раз. — Повернувшись, я пожал руки Ки и Дюре. — Спасибо вам.
Ки с улыбкой отступил, словно я собираюсь взлететь на ракете и он боится обжечься. Отец Дюре на прощание еще раз сжал мое плечо.
— Думаю, мы еще свидимся, Рауль Эндимион. Хотя вряд ли это произойдет в ближайшие два года.
Я не понял его. Я только что обещал вернуть отца де Сойю в ближайшие два дня. Но все равно понимающе кивнул, еще раз пожал ему руку и подошел к де Сойе.
— Должны ли мы взяться за руки? — спросил де Сойя.
Я положил ладонь ему на плечо, повторив жест отца Дюре, и проверил, не упадет ли скрайбер.
— По-моему, сойдет и так.
— Гомофобия? — осведомился де Сойя с озорной мальчишеской улыбкой.
— Нежелание выглядеть глупо слишком уж часто. — Я закрыл глаза, окончательно уверившись, что на этот раз никакой музыки сфер не услышу, что напрочь позабыл, как делается шаг через Бездну. «Что ж, — подумал я, — по крайней мере, если мне придется застрять здесь навеки, тут хороший кофе и замечательные собеседники».
Белый свет окружил и поглотил нас.
Глава 34
Я полагал, что мы выйдем из света в заброшенный город Эндимион, скорее всего — прямо рядом с башней старого поэта, но когда сияние Бездны померкло, стало совсем темно, и мы оказались в холмистой долине, обдуваемые ветром, шелестящим в высокой траве — мне она доходила до колен, а отцу де Сойе — почти до пояса.
— Удалось? — взволнованно спросил отец-иезуит. — Мы на Гиперионе? Это место не кажется мне знакомым, но я видел только часть северного континента, да и то больше одиннадцати стандартных лет назад. Но мы там? Гравитация вроде как раз такая, я помню… а воздух… Воздух… более душистый, что ли?
Я выждал минуту, пока глаза привыкнут к темноте, а потом сказал:
— Все в порядке. — Я указал на небо: — Вон те созвездия. Это Лебедь. Над ним — Стрельцы-близнецы. А вон то на самом деле называется Водонос, но бабушка всегда звала его Фургоном Рауля в честь тележки, которую я возил за собой на веревочке. — Я глубоко вздохнул и снова поглядел на долину. — Тут была одна из наших любимых стоянок. Когда я был маленьким. — Я опустился на одно колено, чтобы внимательнее осмотреть землю. — Следы протекторов. Максимум — двухнедельной давности. Видимо, караваны по-прежнему ходят этой дорогой.
Де Сойя, как ночной дозорный, неустанно расхаживал взад-вперед, шелестя сутаной в высокой траве.
— Далеко еще? — спросил он. — Мы дойдем отсюда до дома Мартина Силена?
— Ну, тут идти километров четыреста, — прикинул я. — Мы на восточной оконечности Пустошей, к югу от Клюва. А дядя Мартин живет в предгорьях плато Пиньон. — Я поймал себя на том, что назвал старого поэта так же, как его называла Энея, и невольно вздрогнул.
— Не имеет значения, — нетерпеливо сказал священник. — В какую сторону идти?
Да, отец-иезуит и в самом деле готов был немедленно отправиться в путь, но я положил руку ему на плечо.
— По-моему, нам не придется стаптывать обувь.
Что-то заслонило звезды на юго-востоке, и я расслышал сквозь шелест ветра тонкий вой турбин. А через минуту мы увидели мигающие красные и зеленые бортовые огни — скиммер развернулся к северу и завис над степью, заслонив созвездие Лебедя.
— Это не опасно? — спросил де Сойя.
Я пожал плечами:
— Когда я жил тут — было опасно. Большинство скиммеров принадлежало Священной Империи.
Мгновение спустя скиммер приземлился, винты замерли, откинулся левый передний колпак. Включилось освещение кабины. Я увидел голубое лицо, голубые глаза, культю левой руки и голубую ладонь правой, поднятую в приветствии.
— Не опасно, — сказал я.
* * *
— Как он? — спросил я А.Беттика, когда мы летели на юго-восток на высоте трех тысяч метров. Небо над плато Пиньон посветлело — до рассвета осталось не больше часа.
— Умирает, — лаконично ответил андроид.
Мы ненадолго замолчали.
Казалось, А.Беттик рад встрече, хоть он, как обычно, неловко замер, когда я обнял его. Андроидов всегда смущало подобное проявление чувств со стороны людей, ведь их создавали для служения людям. За время короткого перелета я прямо-таки засыпал его вопросами.
Он сразу же сказал, что все знает о смерти Энеи, и я воспользовался случаем спросить о том, что давно не давало мне покоя.
— А ты ощутил Момент Сопричастности?
— Не совсем, месье Эндимион, — сказал андроид.
Я так ничего и не понял. А он перешел к рассказу о событиях, произошедших на Гиперионе за стандартный год и месяц с Момента Сопричастности.
Мартин Силен, как и говорила Энея, стал ретранслятором. Все обитатели моей родной планеты ощутили Момент. Большинство возрожденных христиан и солдат Священной Империи отреагировали мгновенно — приняв причастие, они избавились от крестообразных паразитов и отвергли власть Церкви. Дядя Мартин исправно снабжал их вином и кровью — и тем, и другим из личных запасов. Вино он копил десятилетиями, а кровь — с тех пор, как двести пятьдесят лет назад причастился сам у десятилетней Энеи.
Горстка имперских верноподданных бежала на трех уцелевших звездолетах, и последний оккупированный ими город — Порт-Романтик — был освобожден через четыре месяца после Момента. Из своего уединенного убежища в старом университетском городке Эндимионе дядя Мартин распространял голографические записи Энеи, сделанные задолго до нашего с ней знакомства, — там она объясняла, как следует пользоваться доступом к Связующей Бездне, и просила не творить насилия. Миллионы бывших подданных Священной Империи, которым только что открылись голоса мертвых и язык живых, не противились ее желанию.
Еще А.Беттик сказал, что единственный огромный звездолет-дерево «Sequoia Sempervirens» находится сейчас на орбите, капитан — Истинный Глас Древа Кет Ростин, а на борту — старые друзья: Рахиль, Тео, Дорже Пхамо, далай-лама, Бродяги Навсон Хемним и Сянь Кинтана Ка’ан и еще Джордж Цзаронг с Джигме Норбу. Кет Ростин уже два дня назад запросил у старого поэта разрешение на посадку, но Силен отказал — говорит, что не желает видеть ни их, ни кого-либо другого, пока не придет Рауль.
— «Пока не придет Рауль»? — переспросил я. — Мартин Силен знает, что я уже в пути?
— Конечно, — кивнул андроид и тут же перевел разговор на другую тему.
— А каким образом Рахиль, Дорже Пхамо и все прочие оказались на корабле? «Sequoia Sempervirens» останавливалась на Мире Барнарда, Витус-Грей-Балиане Б и прочих планетах, чтобы взять их на борт?
— Насколько я понимаю, месье Эндимион, Бродяги прилетели на корабле с Биосферы Звездного Древа, которое нам выпало счастье посетить. А остальные, как я понял из переговоров месье Ростина, ведущихся на все более повышенных тонах, телепортировались на корабль в точности так же, как вы телепортировались сюда.
Я чуть не подскочил. Новость меня ошарашила. Мне почему-то казалось, что я — единственный, кому хватило ума, благодати и не знаю чего еще, чтобы сделать первый шаг. И вот я узнаю, что и Рахиль, и Тео, и старая аббатиса проделали то же самое, и… хорошо, допустим, далай-лама, Рахиль и Тео последовали за Энеей одними из первых… но Джордж и Джигме? Должен признаться, я даже слегка расстроился. Но и обрадовался тоже. Значит, тысячи человек — те, кто лично знал Энею и принял учение из ее рук, — уже готовы сделать первый шаг. А остальные… Даже трудно себе представить: миллиарды и миллиарды людей, свободно перемещающихся в любую точку пространства!
Мы приземлились в заброшенном городе на рассвете, когда небо на востоке уже начало светлеть и на его фоне черным прорисовывались горные пики. Я тут же соскочил на землю и помчался к башне, позабыв об андроиде и о священнике — так мне не терпелось поскорее увидеть Мартина Силена. Старик наверняка будет счастлив видеть меня, он наверняка будет мне благодарен, ведь я так много сделал, я выполнил почти все его невыполнимые требования — Энея ускользнула из ловушки, устроенной Церковью в Долине Гробниц Времени, Священная Империя разрушена, Церковь, извратившая свое учение, повержена, Шрайк, судя по всему, больше не досаждает человечеству, — все в точности, как хотел старый поэт в тот хмельной вечер больше десяти лет назад. Да, он должен быть счастлив и благодарен.
* * *
— Тебе понадобилась офигенная уйма времени, чтобы притащить сюда свою ленивую задницу! — заявила мумия из паутины трубок и проводов систем жизнеобеспечения. — Я уж думал, придется мне самому отправляться хрен знает куда и выволакивать тебя за уши, а то сибаритствуешь там, как какой-нибудь богатый гребаный педик двадцатого века.
Изнуренное существо, парящее в окружении машин, мониторов, респираторов и сиделок-андроидов, ничуть не напоминало поульсенизированного старика, с которым я прощался меньше чем десять лет — моих — и всего два года — его — назад. Даже вместо голоса звучала электронная интерпретация его кряхтения и сопения.
— Ну, кончил пялиться, или тебе продать еще билет в балаган с уродцами?!
— Извините… — Я покраснел так, будто меня застали за чем-то неприличным.
— Из извинений шубу не сошьешь. Ты докладывать собираешься или просто будешь торчать тут, как неотесанная деревенщина? Собственно, ты и есть неотесанная деревенщина.
— Докладывать? — Я развел руками и поставил скрайбер на столик-каталку. — А я думал, главное вы знаете.
— Главное?! — взревел синтезатор. — Да что ты знаешь о главном, засранец?!
Последние сиделки поспешно скрылись из виду.
Меня охватил гнев. Видимо, мозги у старого ублюдка размягчились окончательно, а вместе с мозгами — и хорошие манеры, буде таковые вообще у него когда-либо имелись. Минуту в комнате висела тишина, нарушаемая лишь уханьем механических мехов, вдувавших воздух в бездействующие легкие умирающего. Наконец я обрел дар членораздельной речи.
— Доложить. Хорошо. Большая часть того, о чем вы просили, исполнена, месье Силен. Энея покончила с Империей. Шрайк, по-видимому, исчез. Человеческая вселенная навсегда изменилась.
— «Человеческая вселенная навсегда изменилась», — саркастическим фальцетом передразнил синтезатор. — А я тебя, придурок, просил… А девчонку просил… навсегда менять эту сраную вселенную?
Я вновь вернулся мыслями к тому разговору и покачал головой:
— Нет.
— Вот-вот! — проворчал старик. — Наконец-то извилины зашевелились! Господи Иисусе, Боже мой, мальчик, мне уже стало казаться, что ты в этом Шредингеровом мусорнике окончательно поглупел, если такое вообще возможно.
Я молча ждал. Может, если подождать достаточно долго, он просто тихо умрет?
— Так о чем я просил перед твоим уходом, вундеркинд? — поинтересовался старик тоном разъяренного учителя.
Я попытался вспомнить, что он еще требовал, кроме того, чтобы мы с Энеей уничтожили железную тиранию Священной Империи. Шрайк? Нет, он не о том сейчас говорит. Коснувшись Связующей Бездны, я быстро отыскал там его слова, сказанные мне на прощание. Я тогда уже готовился вылететь на ковре-самолете, чтобы спасти Энею.
«Давай отправляйся, — сказал мне старый поэт. — Энее сердечный привет. Скажи ей, что дядюшка Мартин хочет побывать перед смертью на Старой Земле. И что старому пердуну не терпится услышать, как она «субстанций, форм и звуков явит суть». Вот оно, самое главное».
— Ох, — выдохнул я. — Как мне жаль, что тут нет Энеи.
— Мне тоже, мой мальчик, — прошелестел старик собственным голосом. — Мне тоже. И не приноси сюда эту жестянку с пеплом. Я вовсе не то имел в виду, когда говорил, что перед смертью хочу еще разок повидаться с племянницей.
Я только кивнул: под горло подкатил ком, в груди мучительно заныло.
— Ну а остальное? — настойчиво повторил поэт. — Ты собираешься выполнить мое последнее требование или будешь стоять тут, ковыряя пальцем в своей тупой заднице, и дожидаться, пока я помру?
— Последнее требование? — переспросил я. Да, мой «IQ» в присутствии Мартина Силена явно понизился пунктов на пятьдесят.
Синтезатор горестно вздохнул.
— Давай сюда стило, мальчишка, если хочешь, чтобы я написал это тебе печатными буквами. Я хочу увидеть Старую Землю, пока не откинул копыта. Хочу вернуться туда. Хочу домой.
В конце концов было решено, что поэта извлекать из башни не следует. Медики-андроиды провели консилиум с медиками Бродяг, которым наконец позволили приземлиться, те провели консилиум с автохирургом корабля Консула, стоявшего прямо за башней, тот провел консилиум с медицинскими датчиками, опутавшими поэта — впрочем, он и так делал это постоянно, — и вердикт остался прежним. Если Силена перенести на борт корабля Консула или на борт звездолета-дерева или вообще вытащить из башни и перенести куда бы то ни было, самые минимальные изменения гравитации и давления скорее всего убьют старика.
Поэтому мы перенесли всю башню, прихватив заодно изрядный кусок Эндимиона.
Кет Ростин и Бродяги проработали все до мелочей, доставив с колоссального корабля полдюжины эргов. Позднее я прикинул, что в то чудное гиперионское утро в воздух подняли примерно десять гектаров земли, башню, корабль Консула, кубы Мебиуса с эргами, скиммер, кухонную пристройку, прачечную, кусок древнего здания химфака, несколько каменных домов, ровно половину моста через реку Пиньон и миллиона два тонн булыжников и песка. Взлет произошел абсолютно незаметно — эрги, тамплиеры и Бродяги настолько безупречно скомпенсировали все силовые поля, что мы даже ничего не почувствовали, только вдруг вместо мягких красок рассвета в круглом отверстии башни возникло усеянное немигающими звездами черное небо. Звезды кружились над нами, а мы с А.Беттиком и отцом де Сойей не сводили с них глаз, и я крепко держал старика за руку.
Эндимион, самый древний город планеты, город, давший имя нашему роду, беззвучно скользил сквозь рассвет в объятия прекрасного десятикилометрового Древа, ожидавшего нас на высокой орбите. «Sequoia Sempervirens» принял нас и полетел к звездам.
— Ваш ход, Рауль, — сказала Дорже Пхамо. — Месье Силен не перенесет ни квантовый прыжок, ни фугу, ни задержку во времени.
— Он такой огромный, этот чертов корабль! Здесь столько людей и всяких механизмов… Вы поможете?
— Конечно, — кивнула высокая седовласая женщина.
— Разумеется, — подхватили далай-лама, Джордж и Джигме.
— Поможем, — поддержала Рахиль. Она стояла рядом с Тео, и обе они выглядели какими-то постаревшими.
— Мы тоже попытаемся, — сказал отец де Сойя, обведя взглядом всех остальных.
И мы все — Дорже Пхамо, Рахиль, Тео, далай-лама, Джордж, Джигме, отец де Сойя, капитан тамплиеров и еще много-много людей — взялись за руки. Я замкнул круг. Мы закрыли глаза и стали слушать звезды.
Когда мы выплыли из света, я ожидал, что увижу звездную реку Малого Магелланова Облака. Я ошибся. Было совершенно очевидно, что мы по-прежнему находимся в Млечном Пути, по-прежнему в нашей ветви Млечного Пути, в считанных световых годах от Гипериона — если доверять очертаниям знакомых созвездий. Мы перенеслись куда-то. Но куда? На планете, которая мерцала сквозь листву, не было ни синих морей, ни белых облаков — ничего похожего на Старую Землю, только красная безводная пустыня от горизонта до горизонта, изрытая оспинами кратеров, да белоснежная ледяная шапка на полюсе.
— Марс, — произнес А.Беттик. — Мы — в системе Старой Земли, недалеко от звезды, именуемой Солнцем.
И все мы услышали сквозь Бездну Федмана Кассада — он был на этой планете. Мы телепортировались на поверхность, отыскали полковника, объяснили ему, зачем пришли — впрочем, он не нуждался в объяснениях: он уже знал, что мы идем, — и взяли его с собой на борт «Seguoia Sempervirens». Мартин Силен передал сообщение: он хотел поговорить с давним другом-паломником, и мы с солдатом по мостам и переходам направились к башне.
— Система Старой Земли охраняется согласно приказу Той-Кто-Учит, — доложил Кассад, как только мы ступили на землю Гипериона. — Уже десять месяцев ни один корабль Имперского Флота не рискует к нам приблизиться. В системе нет никого, даже нашим боевым кораблям не дозволено подходить ближе чем на двадцать миллионов километров к Старой Земле.
— К Старой Земле? — Я застыл как вкопанный. Кассад тоже остановился и посмотрел на меня.
— Вы не знали? — Солдат указал наверх, прямо туда, куда эрги направляли корабль, плавно разгоняя его на полной тяге.
Я увидел что-то вроде двойной звезды — так выглядят все планеты с единственным большим спутником. А потом разглядел бледную, холодную Луну. И теплое бело-голубое сияние жизни.
Старая Земля.
У входа в башню к нам присоединился А.Беттик.
— Когда же это… когда они… как… когда она вернулась? — бессвязно говорил я, глядя на Старую Землю. А планета все увеличивалась прямо на глазах.
— В Момент Сопричастности. — Кассад стряхнул с черного мундира красный песок: он готовился к встрече со старым поэтом.
— Кто-нибудь знает? — спросил я. Бедный глупый Рауль Эндимион. Всегда узнает все последним.
— Теперь — знают, — ответил полковник Федман Кассад.
И мы втроем вошли к умирающему старику.
Мартин Силен был рад увидеть старого друга после двухсот восьмидесяти лет разлуки.
— Значит, через тысячу лет твоя черная душа убийцы породит, хе-хе, Шрайка? — проскрежетал старик через синтезатор. — Что ж, офигенное тебе спасибочки, Кассад.
Солдат хмуро поглядел на ухмыляющуюся мумию.
— Почему ты не умер, Мартин? — спросил он наконец.
— Да умер я, умер, — закашлялся Силен. — Я уж не дышу века и эпохи. Просто ни у кого не хватает мозгов спихнуть меня в яму и засыпать землей.
Синтезатор даже не пробовал перевести последовавшее за этим кряхтение и сипение.
— Ты закончишь когда-нибудь свою никчемную поэму в прозе? — спросил солдат у старика, сотрясавшего своим кашлем всю паутину трубок и проводов.
— Нет, — ответил я за него. — Он не может.
— Да, — отчетливо произнес через ларингофон Мартин Силен. — Я закончил ее.
Я тупо смотрел на старика.
— На самом-то деле, — хихикнул поэт, — это он ее закончил.
Костлявая рука, обтянутая пергаментной кожей, с трудом поднялась, и скрюченный палец ткнул в мою сторону.
Полковник Кассад глянул на меня с подозрением. Я покачал головой.
— Да проснись ты, засранец! — В голосе поэта прозвучало отеческое участие. — Ну-ка поищи свой скрайбер!
Спохватившись, я резко обернулся к прикроватному столику. Скрайбер исчез.
— Все напечатано. Наштамповано с миллион резервных копий. Отправлено в инфосферу прямо перед телепортацией, — просипел Силен.
— Инфосферы нет, — тупо сказал я.
Мартин Силен хохотал до слез, а потом снова закашлялся.
— Нет, малыш, ты не просто тупица, — перевел синтезатор. — Ты безнадежен. А что такое, по-твоему, Бездна? Проклятая инфосфера проклятой вселенной, мальчишка. Я слушал ее веками, еще до того, как девочка дала мне причастие с этими своими нанотехническими паразитами. Вот чем, малыш, занимаются все писатели, все художники, все творцы! Слушают Бездну, пытаясь услышать голоса мертвых. Почувствовать их боль. И боль живых тоже. Поиски музы — не более чем путь, каким художники и святые вступают в Связующую Бездну. Энея это знала. И ты это должен знать.
— Вы не имели права передавать мой рассказ! — возмутился я. — Он мой. Я его написал. Он не входит в ваши «Песни».
Знай я, по какому шлангу подается кислород, непременно б наступил на него и так бы и стоял!
— Дерьмо собачье, малыш, — столь же ласково сказал Мартин Силен. — Зачем, по-твоему, я отправил тебя в этот одиннадцатилетний отпуск?
— Как зачем? — удивился я. — Чтобы спасти Энею.
Поэт чуть не захлебнулся кашлем. Видимо, его это рассмешило.
— Да не нуждалась она в спасителях, Рауль. Вот черт, да насколько я понимаю, это она то и дело вытаскивала из огня твою никчемную задницу. Даже если на помощь приходил Шрайк, он приходил только потому, что она его самую малость приручила. — Бельма мумии, прикрытые окулярами, обратились на полковника Кассада. — Тебя приручила, я хотел сказать, тебя, машина-убийца.
Я попятился и наткнулся на биомонитор. Над головой в отверстии башни висела большая, круглая Старая Земля. С каждой минутой она становилась все больше и больше. Голос Мартина Силена вывел меня из задумчивости.
— Но ты еще не закончил, малыш! «Песни» не дописаны.
Я уставился на него через разделявшие нас метры холодного пространства.
— О чем ты, старик?
— Ты должен доставить меня туда, вниз, и там мы их допишем, Рауль. Вместе.
Телепортироваться на Старую Землю мы не могли — там не было никого, кем бы я смог воспользоваться в качестве маяка, — а потому решили с помощью эргов приземлить весь кусок Эндимиона. Подобное предприятие могло бы погубить старого поэта, но старый поэт заорал, чтобы мы Бога ради заткнулись и делали свое дело. И мы заткнулись. «Sequoia Sempervirens» уже часа два кружила на низкой орбите около Старой Земли — или просто «планеты Земля», как требовал называть ее Мартин Силен. Согласно данным всех оптических приборов и всех наших радаров, люди на планете отсутствовали, зато во множестве водились разнообразные животные, рыбы, птицы. В атмосфере не было зафиксировано ни малейших следов загрязнения. Сначала я думал приземлиться в Талиесин-Уэсте, но, посмотрев на экраны, обнаружил, что все постройки исчезли. Теперь там была пустыня. Тот Рим, в который вернулся когда-то второй кибрид Джона Китса, тоже исчез. Исчезли все города, все автострады — все, что я считал экспериментальными реконструкциями львов, медведей и тигров. На Земле не осталось никаких следов человека. Она бурлила жизнью и здоровьем, словно дожидаясь нашего возвращения.
Я стоял у корабля Консула, в куске города-внутри-Древа, в окружении старых друзей Энеи. Я говорил о приземлении, интересовался, не хочет ли кто отправиться с нами, и все это время думал только о маленьком металлическом контейнере в сумке отца де Сойи.
— Простите, месье Эндимион, — вдруг сказал А.Беттик, подходя ко мне, — не хотелось бы вас прерывать. — Казалось, голубое лицо старого друга вот-вот покраснеет от смущения. Так бывало всякий раз, когда ему приходилось высказывать кому-либо свои возражения. — Но мадемуазель Энея оставила мне указания на случай, если вы вернетесь на Старую Землю, что вы, совершенно очевидно, и сделали.
Все молча ждали. Я вообще-то не слышал, чтобы она давала указания андроиду на «Иггдрасиле». С другой стороны, к концу путешествия там был страшный шум и полная неразбериха.
А.Беттик откашлялся.
— Мадемуазель Энея говорила, что во время приземления, если таковое состоится, корабль должен пилотировать Кет Ростин, кроме него, на планету должны высадиться еще четверо. Она просила меня принести извинения всем, кто хотел бы спуститься на Старую Землю немедленно. А особые извинения — самым дорогим друзьям: мадемуазель Рахиль, мадемуазель Тео. Мадемуазель Энея просила заверить вас, что все вы будете желанными гостями на Земле ровно через две недели, в последний день пребывания корабля-дерева на орбите. Кроме того, она просила сказать, что через два стандартных года… то есть через два земных года, конечно… всякий, кто будет в состоянии телепортироваться сюда сам, сможет посетить Старую Землю.
— Через два года? — переспросил я. — Это почему?
— Мадемуазель Энея не объяснила, месье Эндимион, — покачал лысой головой А.Беттик. — Извините.
— Ну и кому же дозволено спуститься сейчас? — поинтересовался я. Если моего имени в списке нет, я все равно высажусь, пусть даже вопреки ее последнему желанию. Пробью себе дорогу силой. Или угоню корабль Консула.
— Вам, сэр. Она вполне однозначно упомянула вас, месье Эндимион. И месье Силена, разумеется. Отца де Сойю. И… — Андроид смущенно замялся.
— Продолжай! — бросил я более резко, чем хотел.
— Меня, — договорил А.Беттик.
— Тебя, — повторил я. И тут же все понял. Андроид проделал вместе с нами долгий путь… был с Энеей даже дольше, чем я, — из-за разницы в объективном времени, набежавшей во время моей одиночной одиссеи. Более того, А.Беттик ради нее, ради нас, рисковал жизнью, он потерял руку на Роще Богов, угодив в западню Немез. Он учился у Энеи еще до того, как Рахиль и Тео — не говоря уж обо мне — стали ее учениками. Конечно, она хотела, чтобы ее друг А.Беттик был на Старой Земле, когда ее прах будет развеян по ветру. Мне стало стыдно.
— Извини, — сказал я. — Ну конечно, ты должен пойти с нами.
А.Беттик едва заметно кивнул.
— Еще две недели, — повернулся я к остальным нашим друзьям. На их лицах читалось разочарование. — Через две недели мы все будем там, внизу. И посмотрим, какие сюрпризы приготовили нам львы, медведи и тигры.
Попрощавшись с нами, тамплиеры, Бродяги и люди покинули островок Эндимиона, чтобы помахать нам вслед с лестниц и мостов корабля-дерева. Рахиль уходила последней. Внезапно она обернулась и крепко обняла меня.
— Чертовски надеюсь, что ты достоин этого, — прошептала она. Понятия не имею, о чем говорила эта пылкая брюнетка. Она — как и большинство женщин — всегда была для меня загадкой.
— Порядок, — сказал я, и мы все поднялись в башню к Мартину Силену.
Я увидел Старую Землю… Земля… над головой. А потом она вдруг стала размытой и совсем исчезла — силовое поле башни слилось с полем дерева, сгустилось, поля разъединились, и город поплыл в пространство, подталкиваемый ходовыми полями. Тамплиеры и Бродяги устроили пульт управления в лазарете, и без того забитом реанимационной аппаратурой, и там стало совсем тесно. Мне почему-то пришло в голову, что, когда эрги попытаются приземлить целый городок с башней, звездолетом и ведущим в никуда обрубком моста на планету, лишенную космопортов и диспетчерской службы, я узнаю о неминуемой катастрофе за секунду до гибели — пойму, глядя на бесстрастное лицо Кета Ростина, полуприкрытое капюшоном.
Я даже не почувствовал, как мы вошли в атмосферу. Только увидел, что изменился цвет неба в отверстии башни. И приземления тоже не почувствовал. Мгновение мы стояли в полной тишине и ждали, а потом Кет Ростин оторвался от дисплеев, прошептал что-то своим любимым эргам и повернулся к нам:
— Приземлились.
— Я забыл сказать вам, где мы должны приземлиться, — встрепенулся я, вспомнив пустыню, которая когда-то была Талиесином. Должно быть, именно там Энея была счастливее всего. Там мы должны развеять ее прах — я знал, что это ее прах, но все равно не верил, — развеять на знойном ветру Аризоны.
Кет Ростин оглянулся на Мартина Силена.
— Я сказал ему, где приземлиться, — прохрипел синтезатор голосом старого поэта. — Где я родился. И где намерен умереть. А теперь не будете ли вы все столь любезны перестать ковырять в носу и выкатить меня отсюда, чтобы я мог взглянуть на небо?
А.Беттик отключил почти всю аппаратуру жизнеобеспечения, оставив только самое необходимое, и устроил поэта на силовой подвеске. Пока мы были на корабле-дереве, андроиды, Бродяги и тамплиеры построили от вершины башни до самого края плиты длинную пологую аппарель. При посадке она нисколько не пострадала. Когда мы проходили мимо эбеново-черного звездолета, из динамика прозвучало:
— До свидания, Мартин Силен. Знакомство с вами — большая честь.
Древний старик поднял в приветствии костлявую руку:
— До встречи в аду, Корабль.
Покинув город, мы сошли с аппарели и стояли, глядя на луга и холмы, мало чем отличавшиеся от Пустошей моего детства. Сила тяжести и давление были такими же, как и четыре года назад, только воздух здесь оказался куда более влажным, чем в пустыне.
— Где мы? — спросил я, ни к кому не обращаясь.
Кет Ростин остался в башне. Ласковым весенним утром под небо Северного полушария вышли только андроид, умирающий поэт, отец де Сойя и я.
— Здесь было поместье моей матери, — прошептал синтезатор Мартина Силена. — В сердце сердца Североамериканского заповедника.
А.Беттик поднял глаза от датчиков.
— Полагаю, данная местность в дни, предшествующие Большой Ошибке, называлась Иллинойсом, — проговорил он. — Центр штата, видимо. Прерии вернулись. Вон те деревья — вязы и каштаны, если не ошибаюсь, — окончательно исчезли к двадцать первому веку. Река за холмами течет на юго-юго-восток и впадает в Миссисипи. Полагаю, вы… э-э… прошли часть этой реки, месье Эндимион.
— Да. — Я вспомнил ненадежный маленький каяк, прощание в Ганнибале и первый поцелуй Энеи.
Мы ждали. Солнце поднималось все выше. Ветер шелестел в траве. Где-то за деревьями кричала птица. Я поглядел на Мартина Силена.
— Мальчишка, — проворчал синтезатор, — если ты надеешься, что я помру по сигналу, только бы спасти тебя от солнечного удара, выкинь это из своей дерьмовой башки. Я вишу на волоске, но это старый, крепкий и длинный волосок.
Я с улыбкой притронулся к его костлявому плечу.
— Мальчик? — шепнул поэт.
— Да, сэр.
— Много лет назад ты сказал мне, что твоя старая бабка — ты называл ее бабушкой — заставляла тебя заучивать «Песни», чтобы от зубов отскакивали. Это правда?
— Да, сэр.
— Ты можешь вспомнить строки, которые я написал об этом месте… каким оно было в мои дни?
— Могу попробовать.
Я закрыл глаза. Мне очень хотелось прикоснуться к Бездне, отыскать эхо этих уроков в голосе бабушки и не мучиться, выуживая строки из памяти. Но я устоял перед искушением, я пустил в ход мнемонические приемы, которым она меня учила, и вспомнил мерную поступь стихов. Я стоял с закрытыми глазами и читал:
Нежно-фиолетовые сумерки розовеют и плавно перетекают в малиновый рассвет. Силуэты деревьев у юго-западного края лужайки кажутся вырезанными из папиросной бумаги. Небосвод из полупрозрачного фарфора не пятнает ни единое облачко, ни единый инверсионный след. Предрассветная тишина… Такая тишина бывает в зале за секунду до того, как оркестр грянет увертюру. И, как удар литавр, восход Солнца. Оранжевые и бежевые тона вдруг вспыхивают золотом, а затем медленно остывают, расцветая всеми оттенками зеленого, тени листьев, полумрак под деревьями, кроны кипарисов и плакучих ив, тускло-зеленый бархат прогалин. Поместье матери — наше поместье — занимало около тысячи акров. А вокруг него простиралась равнина, в миллион раз большая. Лужайки размером с небольшую прерию, покрытые нежнейшей травкой, чье мягкое совершенство так и манило прилечь и вздремнуть. Величественные, раскидистые деревья — солнечные часы Земли. Их тени синхронно поворачиваются: слитые воедино, они затем разделяются и сокращаются, отмечая наступление полудня, и, наконец, на закате дня вытягиваются на восток. Королевский дуб. Гигантские вязы. Тополя. Кипарисы. Секвойи. Бонсай. Стволы баньяна тянутся ввысь, подобно колоннам храма, крыша которого — небо. Вдоль каналов и причудливо извивающихся ручьев выстроились ивы, ветви которых поют древнюю погребальную песнь.Я умолк. Дальше шло нечто совсем туманное. Мне никогда не нравились эти ложно-лирические строфы, я предпочитал батальные сцены.
Читая, я держал старого поэта за плечо и теперь почувствовал, как оно обмякло. Я открыл глаза, ожидая увидеть в кровати покойника.
Мартин Силен одарил меня ухмылкой сатира.
— Недурно, недурно, — просипел он. — Недурно для деревенщины. — Его видеоочки обратились к андроиду и священнику. — Поняли, почему я выбрал этого мальчика, чтобы он закончил за меня «Песни»? Писатель из него — дерьмо дерьмом, зато память — как у слона.
Я уж собрался было спросить, что такое слон, и тут мой взгляд упал на А.Беттика. И в это мгновение, после долгих лет знакомства с вежливым андроидом, я впервые увидел его таким, каков он есть на самом деле. У меня отвисла челюсть.
— Что случилось? — с тревогой в голосе спросил отец де Сойя. Наверное, подумал, что со мной приключился инфаркт.
— Ты, — сказал я А.Беттику. — Ты — Наблюдатель.
— Да, — кивнул андроид.
— Ты один из них… от них… от львов, медведей и тигров.
Священник посмотрел на А.Беттика, потом на ухмыляющегося старика, потом — снова на андроида.
— Никогда не понимал, почему мадемуазель Энея выбрала эту метафору, — очень спокойно проговорил А.Беттик. — Я никогда не видел настоящих львов, медведей или тигров, но у меня сложилось впечатление, что их объединяет определенная свирепость, совершенно чуждая… э-э… иной расе, к которой я принадлежу.
— Ты принял образ андроида много веков назад! — Я не сводил с него глаз. Понимание, внезапное и болезненное, как удар по голове, продолжало углубляться. — Ты присутствовал при всех ключевых событиях… расцвет Гегемонии, открытие Гробниц Времени на Гиперионе, Падение нуль-порталов… Боже милостивый! Ты участвовал в последнем паломничестве к Шрайку!
А.Беттик слегка склонил свою лысую голову.
— Если прибыл наблюдать, месье Эндимион, следует находиться там, где есть что наблюдать.
Я склонился к постели Мартина Силена. Я готов был вытрясти из него ответ, даже если он уже умер.
— Ты знал об этом, старик?
— Нет. До тех пор, пока он не ушел с тобой, Рауль, — сказал поэт. — Но когда я прочел через Бездну твою повесть и догадался…
Я отступил от старика.
— О Боже, какой же я был дурак! Ничего не видел! Ничего не понимал! Какой дурак!
— Нет, — покачал головой отец де Сойя. — Вы просто были влюблены.
Я решительно шагнул к А.Беттику. Не ответь он мне сразу и без утайки, клянусь, я бы задушил его!
— Ты отец, — сказал я. — Ты лгал, будто не знаешь, где Энея пропадала почти два года. Ты отец ребенка… очередного мессии.
— Нет, — спокойно ответил андроид. Наблюдатель. Однорукий Наблюдатель, друг, десятки раз вместе с нами рисковавший жизнью. — Нет, я не муж Энеи. И не отец.
— Пожалуйста, — прошептал я, — не лги мне.
У меня тряслись руки. Я знал, что он не мог солгать. Он никогда не лгал.
А.Беттик посмотрел мне в глаза.
— Я не отец, — повторил он. — Отца сейчас нет. Очередного мессии не было. И ребенка нет.
«Умер. Оба умерли… ее ребенок, ее муж — кем бы или чем бы он ни был… сама Энея. Моя дорогая девочка. Моя единственная. Ничего не осталось. Только прах».
Даже когда я принял решение отыскать ребенка, чтобы потом молить отца-Наблюдателя позволить мне стать его другом и телохранителем, как я был другом и телохранителем Энеи, даже когда я возродил в себе надежду — а не будь надежды, мне бы никогда не сбежать из ящика Шредингера, — даже тогда в самой глубине сознания я знал: во вселенной нет ребенка моей возлюбленной… Я бы непременно расслышал в Бездне музыку его души, словно фугу Баха… ребенка нет. Все, что осталось, — ее пепел.
Я обернулся к отцу де Сойе. Да, теперь я уже готов был прикоснуться к цилиндру с прахом Энеи и, почувствовав холод стали, признать: та, кого я любил, ушла навсегда. Я один найду место, где надо развеять ее прах. Дойду, если понадобится, до Аризоны… Или туда, где был Ганнибал… где был наш первый поцелуй. Возможно, именно там она была счастливее всего.
— Где контейнер? — с трудом проговорил я.
— Я не взял его, — ответил священник.
— Где он? — Я не злился, просто я очень устал. — Я схожу за ним в башню.
Отец Федерико де Сойя сделал глубокий вдох и покачал головой.
— Я оставил его на корабле, Рауль. Не забыл, а специально оставил.
Я недоуменно уставился на священника. А потом заметил, что и он, и А.Беттик, и даже старый поэт — все повернули головы к обрыву над рекой.
Бывает так: на солнце набежит тень, а потом вдруг упадет на землю, пробившись сквозь тучи, удивительно яркий луч, и на мгновение все озарится и заиграет волшебными красками. Вот так озарились вдруг для меня две фигуры, несколько долгих секунд хранившие неподвижность. А потом та, что поменьше, стремительно зашагала к нам и, не выдержав, сорвалась на бег.
Конечно, рослого субъекта нетрудно было узнать даже с такого расстояния — солнечные блики играли на хромированной броне, красные глаза горели угольями, сверкали шипы, клинки и пальцы-кинжалы. Но я не стал долго разглядывать неподвижного Шрайка. Шрайк сделал свое дело. Он перенесся сквозь время с такой же легкостью, как я теперь переношусь сквозь пространство. Он доставил ее сюда.
Последние тридцать метров Энея мчалась во весь дух. С тех пор как я видел ее в последний раз, она словно помолодела на три года, стряхнула с себя бремя горестей и забот; золотые, выгоревшие на солнце волосы были небрежно стянуты на затылке. Нет, вдруг понял я, она не помолодела, просто она сейчас почти на три года моложе — ей только-только исполнилось двадцать; для нее с момента нашего расставания в Ганнибале прошло лишь четыре года.
Она расцеловала А.Беттика, обняла отца де Сойю, склонилась к старому поэту, а потом обернулась ко мне.
А я словно прирос к месту.
И тогда она подошла ко мне и поднялась на цыпочки. Она всегда поднималась на цыпочки, когда хотела поцеловать меня в щеку.
Но только сейчас она поцеловала меня в губы.
— Прости, Рауль, — прошептала она. — Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить такое. И всем остальным.
И она еще просит у меня прощения! Она, прекрасно знавшая о подвале в замке Святого Ангела, о клонах Немез, что будут кружить вокруг ее обнаженного тела, о вздымающемся стеной пламени…
Энея провела рукой по моей щеке.
— Рауль, милый. Это я. Я здесь. Еще целый год, одиннадцать месяцев, двадцать три дня и шесть часов я буду с тобой. И никогда больше не упомяну об оставшемся у нас времени. У нас впереди вечность. Мы всегда будем вместе. И наш ребенок тоже будет с тобой.
Наш ребенок. Нет, не мессия, рожденный по необходимости. Не от брака с Наблюдателем. Наш ребенок. Наш человеческий ребенок, способный ошибаться, способный упасть, расквасить себе нос и расплакаться.
— Рауль! — позвала Энея.
— Привет, детка, — выдохнул я и подхватил ее на руки.
Глава 35
Мартин Силен умер на следующий день, под вечер, через несколько часов после того, как мы с Энеей обвенчались. Венчал нас, конечно, отец де Сойя. А перед закатом он отслужил мессу за упокой души старого поэта.
Мы похоронили Силена на высоком, поросшем травой берегу реки, откуда открывался чудесный вид на прерию и далекие леса. Рядом с тем местом, где стоял когда-то дом его матери. Мы вырыли глубокую могилу — поблизости рыскали звери, ночью был слышен вой волков, а потом принесли туда тяжелые камни и сложили надгробие. Энея высекла на плите даты рождения и смерти поэта — он прожил без малого тысячу лет, — его имя, а внизу добавила просто «НАШ ПОЭТ».
Шрайк неподвижно стоял на поросшем травой холме. Он стоял так и в полдень, во время венчания, и потом, когда умер старый поэт, и на закате во время панихиды, и когда мы хоронили Мартина Силена — хоронили буквально в двадцати метрах от этого существа, высившегося над обрывом, словно утыканный шипами, закованный в серебристые латы часовой. Но когда мы уходили, Шрайк медленно приблизился к могиле и замер, склонив голову над свежим холмиком. Последние отсветы догорающей зари рдели на его блестящих доспехах и отражались в рубиновых глазах. Больше он не шелохнулся.
Отец де Сойя и Кет Ростин уговаривали нас остаться на ночь в башне, но у нас с Энеей имелись другие планы. Мы позаимствовали на корабле Консула кое-какое экспедиционное снаряжение, надувной плотик, охотничье ружье и массу сублимированных продуктов — на случай неудачной охоты — и погрузили все в два тяжеленных рюкзака.
Стоя на самом краю городской плиты, мы смотрели на сумеречный мир трав и лесов. На фоне закатного неба чернел могильный холм Мартина Силена.
— Скоро совсем стемнеет, — беспокоился отец де Сойя.
— У нас есть фонарь, — ухмыльнулась Энея.
— Там дикие звери, — не унимался священник. — Этот вой вчера ночью… Бог знает, что за хищники сейчас пробуждаются.
— Это Земля, — сказал я. — Я уложу из ружья любого хищника, разве что кроме гризли.
— А если вы как раз на гризли и наткнетесь? Кроме того, вы можете заблудиться. Тут нет ни дорог, ни городов. И мостов нет. Как вы собираетесь переправляться через реки?
— Федерико! — Энея ласково взяла священника за запястье. — Это ведь наша брачная ночь.
— А-а. — Он поспешно обнял Энею, пожал мне руку и отступил.
— Мадемуазель Энея, месье Эндимион, могу я внести предложение? — робко спросил А.Беттик.
Приладив на пояс ножны, я поднял голову.
— Не хочешь ли ты рассказать нам, что ваш народ по ту сторону Связующей Бездны наметил для Земли на ближайшие годы?
— Э-э… нет, — смутился андроид. — На самом деле предложение более походит на скромный свадебный подарок. — Он вручил нам кожаный тубус.
Я сразу узнал его. И Энея тоже. Опустившись на четвереньки, мы извлекли из футляра ковер-самолет и раскатали его на траве.
Он включился от первого же прикосновения, зависнув в метре от земли. Мы забросили на ковер рюкзаки, надежно принайтовили их, положили ружье, а потом я сел перед рюкзаками, скрестив ноги, а Энея устроилась у меня на коленях.
— Он перенесет нас через реки и спасет от хищников, — сказала она. — А лагерь мы разобьем где-нибудь неподалеку. Прямо за рекой, за пределами слышимости.
— За пределами слышимости? — переспросил иезуит. — Но к чему останавливаться поблизости, если мы не сможем вас услышать? Что, если вы будете звать на помощь и… ох. — Он покраснел.
Энея обняла священника. Потом пожала руку Кету Ростину.
— Я буду очень признательна, если через две недели вы позволите Рахили и всем прочим телепортироваться сюда. Если захотят, они могут взять корабль Консула и спуститься на нем. Мы будем ждать их в полдень у могилы дядюшки Мартина. Они здесь желанные гости. А через два года всякий, кто в состоянии телепортироваться сюда сам, сможет в течение месяца гулять по Земле. Но не дольше. И никаких построек — ни домов, ни городов, ни дорог, ни заборов. Два года… — Она улыбнулась, глядя на меня: — Я разработала с тиграми, львами и медведями кое-какие планы. Еще несколько лет — и здесь начнется что-то очень интересное. Но эти два года Земля принадлежит нам — Раулю и мне. Истинный Глас Древа, не будете ли вы так любезны, возвращаясь на корабль, установить огромный знак «ВХОД ВОСПРЕЩЕН»?
— Непременно, — кивнул тамплиер и направился к башне готовить эргов к взлету.
Мы устроились на ковре. Я крепко обнял Энею. Теперь я еще долго не разомкну объятий. Один год, одиннадцать месяцев, неделя и шесть часов для того, кто этого хочет, могут стать вечностью. Вечностью может стать и день. И даже час.
Отец де Сойя благословил нас.
— Я могу чем-нибудь помочь вам? — спросил он. — Если надо, я мог бы переправить вам на Старую Землю какие-либо припасы.
Я покачал головой:
— Спасибо, отец. Все, что нужно, у нас с собой — лагерное снаряжение, корабельная аптечка, надувной плот, ружье. Я ведь недаром был проводником у охотников на Гиперионе.
— У меня есть одна просьба, — оживилась Энея. В уголке рта у нее угнездилась озорная ямочка, как всякий раз, когда она затевала очередную шалость.
— Что угодно, — улыбнулся отец де Сойя.
— Если бы вы вернулись где-нибудь через год… Мне может понадобиться хорошая акушерка. У вас как раз хватит времени заполнить пробелы в своем образовании.
Отец де Сойя побледнел, хотел было что-то сказать, потом передумал и мрачно кивнул.
— Я шучу, — рассмеялась Энея, взяв его за руку. — Дорже Пхамо и Дем Лоа уже согласились телепортироваться сюда, если понадобится. — Она оглянулась на меня. — А они понадобятся.
Святой отец вздохнул, возложил ладонь на голову Энеи в прощальном благословении и медленно двинулся прочь по городской плите. Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся в сумерках.
— А что станет с его Церковью? — тихонько спросил я у Энеи.
Она покачала головой.
— Что бы с ней ни стало, у нее появился шанс начать сначала… вновь открыть свою душу. — Энея улыбнулась мне, глядя через плечо. — И у нас — тоже.
У меня отчаянно колотилось сердце, но я все-таки нашел силы заговорить:
— Детка!
Энея повернула голову, прижавшись щекой к моей груди, и выжидательно посмотрела на меня.
— Мальчик или девочка? Я ведь так и не спросил.
— О чем ты? — удивленно переспросила Энея.
— Ну, о том, зачем тебе где-то через год понадобятся Громомечущая Мать-свинья и Дем Лоа… — выдавил я. — У нас будет мальчик или девочка?
— А-а-а, — наконец-то поняла Энея. Отвернувшись, она прислонилась ко мне спиной и пристроила голову у меня под подбородком. — Не знаю, Рауль. Правда, не знаю. Это единственный отрезок моей жизни, в который я всегда избегала заглядывать. Все, что случится дальше, для меня не новость. Ну… знаю, что у нас родится здоровый ребенок и что покинуть дитя… и тебя… будет для меня труднее всего… куда труднее, чем позволить схватить себя в соборе Святого Петра и отправиться в лапы Инквизиции. А еще я знаю, что, когда мы снова будем вместе на Тянь-Шане — в моем будущем и твоем прошлом — и я буду страдать, потому что не смогу рассказать тебе о том, что у нас было, меня будет утешать одно: здесь, в этом будущем, наш ребенок жив и здоров и его воспитываешь ты. И я знаю, ты никогда не позволишь ему забыть, кем я была и как сильно любила вас обоих.
Она глубоко вздохнула.
— Но что до того, мальчик у нас родится или девочка и как мы назовем ребенка… Даже не представляю, милый. Я решила не заглядывать в это время, в наше с тобой время, а просто прожить его — день за днем. Сейчас я так же слепа, как и ты.
Я обнял ее и крепко прижал к груди.
Тут послышалось смущенное покашливание, и, оглянувшись, мы поняли, что А.Беттик все еще стоит рядом с ковром-самолетом.
— Старый друг, — схватила его за руку Энея, — ты что-то хотел сказать?
Андроид покачал головой, но все-таки спросил:
— Вы когда-нибудь читали сонет своего отца «Гомеру», мадемуазель Энея?
Сосредоточенно нахмурившись, моя единственная задумалась, потом сказала:
— По-моему, читала, но не помню.
— Возможно, в строфах этого сонета — ответ месье Эндимиону о будущем Церкви отца де Сойи, — сказал синекожий человек. — И на остальные вопросы — тоже. Вы позволите?
— Пожалуйста, — кивнула Энея. Я почувствовал, что она — как и я — ждет не дождется, когда мы от всех улетим и останемся одни. Я искренне надеялся, что цитата окажется не слишком длинной. Андроид прочел:
Прибрежья мрака озаряет свет, Травой несмятой манит крутизна, И в полночь утро набирает цвет, Тройная зоркость слепоте дана…[127]— Спасибо, — улыбнулась Энея, — спасибо, дорогой друг. — Она высвободилась на миг из моих объятий, чтобы в последний раз поцеловать андроида.
— Уа! — заныл я, изображая брошенного младенца.
И тогда она подарила мне долгий поцелуй. Очень долгий. Очень крепкий.
Мы помахали всем на прощание, я прикоснулся к управляющим нитям. Древний ковер взмыл на пятьдесят метров, в последний раз пролетел над плитой и каменной башней странствующего города, сделал прощальный круг над эбеново-черным звездолетом и понес нас на запад. Уже доверившись путеводному лучу Полярной звезды, негромко обсуждая достоинства участка для лагеря на возвышенности в нескольких километрах к западу, мы пролетели над могилой старого поэта, где безмолвным часовым замер Шрайк, перелетели через подернутую рябью реку, отражавшую последние отблески догоревшей зари, и поднялись еще выше, любуясь на роскошные луга и манящие леса наших новых владений, нашей древней планеты… нашей новой планеты… нашей первой и будущей и чудеснейшей из планет.
СИРОТЫ СПИРАЛИ (повесть)
Предисловие автора
Эта вещь — как, впрочем, и все остальное, — зародилась с неясной мысли, зашевелилась в утробе с телефонной подачи «Звездного пути: Вояджер», появилась на свет при содействии Роберта Сильверберга, а в результате я из-за нее пропустил Девятый Ежегодный Водяной Бой на Линкольн-стрит. Вещь, по-моему, получилась приличная, но пропускать Водяной Бой из-за нее не стоило.
Некоторым читателям, быть может, известно, что мною написаны четыре романа о мире Гипериона — «Гиперион», «Падение Гипериона», «Эндимион» и «Восход Эндимиона».
Среди этих читателей выделим подмножество внимательных — составляющее, вероятно, большинство, — которые знают, что этот так называемый эпос фактически состоит из двух долгих, переплетенных историй, двух соединенных повествований о Гиперионе и двух соединенных романов об Эндимионе, разделенных на четыре книги суровой реальностью издательского дела. Еще более узкое подмножество читателей может знать, что я поклялся не писать нового цикла романов о мире Гипериона — по разным причинам, среди которых главная — что у меня нет желания разбавлять соль жизни эпоса водичкой выгодных, но чем дальше, тем более бессодержательных сиквелов.
Однако я не зарекался не возвращаться к миру Гипериона вообще, даже коротким рассказом или новеллой. Читателям такие миры нравятся, читатель жалеет, когда они уходят (или навсегда уходит автор, их создавший). Вот эта-то ностальгия по былому удовольствию от чтения и порождает совершенно легальное мародерство — испольную работу на оригинальном авторском замысле, — которое свойственно современному издательскому миру и которое я ненавижу всей душой. Но порой возвращение к уже законченной вселенной коротким рассказом — моя попытка найти компромисс между интенсивной вспашкой истощенных полей и полным их забвением.
Или что-то в этом роде.
Как бы там ни было, мысль относительно будущего рассказа о вселенной Гипериона еще не успела стать перенасыщенным раствором (что необходимо, чтобы начать писать), как со мной связался продюсер «Звездного пути» и предложил написать эпизод для серии о «Вояджере». На меня уже и до того выходили люди из этого проекта, и я был вынужден просить прощение за отказ даже обсуждать такие варианты из-за горящих сроков романа или сценария, над которым я в тот момент работал, или же под любым другим предлогом.
Обо мне было известно, что я всегда готов публично высказать что-нибудь неприятное по поводу вселенной «Звездного пути». Один раз, например, выступая с речью почетного гостя, я обозвал «Следующее поколение» из «Звездного пути» «Кастрированным поколением», в другой раз заявил в интервью, что в столь популярных изображениях будущего Джином Родденберри я вижу по сути дела фашизм. Очевидно, продюсеры простили мне эти комментарии. Или — что гораздо более вероятно — никому из занятых в проекте «Звездный путь» они не попались на глаза. Как бы то ни было, меня пригласили в Лос-Анджелес «дать подачу» (выражение, которое я просто обожаю за его неотъемлемую бессодержательность) для новой программы «Звездный путь: Вояджер». Когда я ответил, что у меня нет времени на поездку, мне предложили сделать это по телефону.
Тем временем мне прислали томов этак десять материалов по «Звездному пути» — «Библию» этой серии, технические руководства, описания персонажей, обзор прошедших и будущих эпизодов, схемы и планы «Вояджера» — все, что можно было придумать. Должен признать, все это я пролистывал не без удовольствия, особенно «научные обоснования» всех фантастических примочек вроде транспортера или уорп-драйва. Отчасти это и привлекает к «Звездному пути» — всем «Звездным путям»: сложный мир со своими законами и ограничениями, со своими структурами, лишь поверхностно доступными наблюдателю. Думаю, именно это и служит пищей для обильных домыслов и фантазий любого рода, будь то гомоэротические истории про персонажей в фэнских журналах или же бесчисленные игры-сиквелы.
Да, так вот, мне позвонил продюсер и назначил дату, хотя я, честно говоря, начисто забыл о грядущей «подаче».
— В сущности, — заявил я, — мне бы хотелось написать сценарий не такой, в котором команда «Вояджера» в надцатый раз упускает шанс вернуться домой, а наоборот — получает возможность выбраться из своего дурацкого корабля.
— Ага, ага, — отозвался продюсер. — А что вы имеете в виду?
— То, что хотя аппаратура у них все круче, и голодеки, и все прочее, но сами персонажи запечатаны в консервной банке, — объяснил я. — Эти ребята годами, целыми годами мотаются по коридорам и турболифтам приевшегося постмодернистского мостика. А личные каюты у них похожи на номера в «Холидей-инн-экспресс». Что, если дать им шанс навеки покинуть корабль и уйти в космос?
— Ага, ага, — произнес продюсер. — Давайте дальше.
— Жокей, — сказал я, подхватив уже вирус «подачи», разогретый чудесами собственного воображения. — Допустим, «Вояджер» вынужден выйти из искривленного пространства и заглянуть на какую-нибудь планетную систему, чтобы пополнить запас кристаллов дилития, или отскрести с корпуса налет антиматерии, или набрать пресной воды — в общем, какая угодно дурацкая причина из тех, по которым они у вас всегда уходят в сторону и находят приключения на собственную задницу.
— Ага, ага. Давайте дальше.
— Но тут они попадают не в систему солнечного типа, а в систему двойной звезды с красным гигантом и звездой класса G, и…
Меня повело излагать блестящую идею орбитального леса, созданного космическими растениями, которые приспособились к глубокому вакууму, породили бабочек с магнитными крыльями сотни километров размахом, эти бабочки умеют улавливать солнечный ветер, джигитовать на волнах космической магнитосферы, как птицы над фронтом урагана. Я говорил о гигантских программируемых пожирающих машинах, проходящих раз в неимоверное количество лет по далеким эллиптическим орбитам от звезды класса G к красному гиганту и обратно, пожирая леса, где обитают космические бабочки. Я рассказывал, откуда можно взять основную «пружину» произведения: как эти бабочки предлагают команде «Вояджера» — в обмен на взрыв одной из пожирающих машин с помощью фотонной торпеды — нанотехнологию, которая может приспособить членов экипажа к условиям глубокого космоса, вытащить их на свободу из «прозябания в консервной банке», дать возможность странствовать между мирами подобно перелетным птицам. Некоторые из членов экипажа не могут не захотеть обрести эту свободу, и капитан Как-Ее-Бишь должна будет провести черту на песке, решая, кто улетит, а кто останется…
— Ага, ага, — вежливо перебил меня продюсер. — Извините, можно вопрос?
— Да-да, конечно.
— Что это за штука такая — система двойной звезды?
Ну, блин…
Отвергнута моя «подача» была не столько по астрономическим причинам, сколько из-за беспокойства по поводу бюджета съемок данного эпизода. Когда я указал, что астральные бабочки обойдутся не слишком дорого — хлопающие крылья на фоне обычных цифровых изображений планет, — мне напомнили, что когда бабочки посетят корабль, должны они выглядеть… в общем… инопланетянами. В «Звездном пути» инопланетяне представлены актерами-людьми с большими бровями, накладными носами, перкекрученными шеями или всем этим реквизитом. А я предлагаю вот таких огромных и насекомоподобных… созданий.
Расстались мы друзьями.
Должен признать, что испытал некоторое облегчение. Это семечко идеи мне никогда не хотелось по-настоящему видеть эпизодом «Звездного пути». И уж если бы меня наняли писать эту чертову штуку, я бы точно попытался заставить подавляющее большинство членов команды смыться в бабочки, и пусть себе капитан миссис Коламбо останется стоять руки в боки, и еще несколько главных «звездных путников» застрянут с ней в этой консервной банке, а остальная команда почти в полном составе будет резвиться вокруг улетающего корабля, провожая его из планетной системы.
Теперь перескочим на несколько месяцев вперед, когда Роберт Силверберг предложил мне написать что-нибудь для готовящейся антологии, «Далеких горизонтов». Боб рассматривал эту книгу как продолжение своей антологии бестселлеров «Легенды», в которой авторы фэнтези возвращаются к своим излюбленным мирам, радуя нас оригинальными историями. Он приглашал авторов НФ, создателей мегаэпосов, на бумагу для которых сводились леса, оживить рожденные ими миры, и среди прочих писателей были Урсула Ле Гуин с мирами Экумены, Джо Холдеман со своей Сепаратной Войной; Скотту Карду предстояло эксгумировать Эндера, Дэвид Брин возрождал чудеса вселенной Возвышения, Фредерик Пол снова возвращал нас в мир хичи, и так далее. У меня не так уж много правил, диктующих мне профессиональные решения, но среди них есть одно: не отвергать предложений ввести меня в пантеон богов. Так что я согласился.
Труднее всего оказалось втиснуть около миллиона слов «Песен Гипериона» в «не более 1000 слов», отведенных на предисловие к рассказу. А рассказом этим был, разумеется, «Сироты Спирали»; и мои космические бабочки, мои падшие ангелы глубокого вакуума стали тем, чем были в начале: мутировавшими людьми — Бродягами из четырех книг «Гипериона».
Рассказ был принят. И напечатан. И это было хорошо. (Если закрыть глаза на то, что в списке аннотаций на последней странице бумажной обложки меня назвали «Дэвид Симмонс» вопреки моим непрерывным хныканьям, жалобам и робким вялым возражениям, обращенным к издателям, которые, как оказывается, являются моими же редакторами и издателями в «Харпер Коллинз». Может быть, они (вместе с Бобом) хотели мне этим что-то сказать.)
Вот так это было. Такова история появления…
Стоп, погодите. Главное забыл.
Как вышло, что из-за «Сирот Спирали» я пропустил Девятый Ежегодный Водяной Бой на Линкольн-стрит.
Вскоре после выхода «Далеких горизонтов» мне позвонил Чарльз Браун из «Локуса» и сообщил, что «Сироты» получили ежегодную премию читателей «Локуса» за лучшее произведение малой формы. Я получил уже не одну премию читательских симпатий, и должен сказать, что для меня это очень важно… Дело в том, что к премии придается бесплатная годовая подписка на «Локус», а моей целью было и остается постоянно получать этот журнал, ничего за него не платя. (И цели этой я достиг бы, надо сказать, если бы не узколобая политика редакции, дающей бесплатную подписку всего на один год, даже если автор получил приз более чем в одной номинации года.)
Таким образом, Чарльз меня проинформировал о премии приблизительно тогда, когда меня пригласили на конгресс на Гавайях — «Вестеркорн 53» в Гонолулу, 1–4 июля 2000 года, и я приглашение принял (что со мной случается редко — обычно я на конгрессы НФ не езжу из-за графика работы и сроков сдачи).
— Не поняла? — сказала мне моя жена Карен. — Тебя не будет Четвертого июля?
Моя дочь высказалась еще короче:
— Па, ты спятил?
Дело в том, видите ли, что мы живем в старом приятном районе не слишком крупного городка у Передового хребта в Колорадо, недалеко от Боулдера, и несколько лет назад, в девяносто втором, мы с Джейн — под влиянием момента — нарисовали и размножили комикс-афишку, в которой все желающие приглашались в наш квартал на Линкольн-стрит ровно в полдень Дня Независимости, на середину улицы, с водяными шарами, водяными пистолетами, шлангами, ведрами или брызгалками любого иного вида, дабы принять участие в Водяном Бое на Линкольн-стрит. «Приходи, а то просохнешь!» — гласила наша афишка. В первый год явились человек двадцать пять, и успех был потрясающий — мы кидались налитыми водой шариками, поливая друзей и соседей не менее часа, пока не свалились от усталости.
К двухтысячному число участников Водяного Боя на Линкольн-стрит выросло до семидесяти пяти. Люди откладывали поездки, чтобы принять участие в ВОДЯНОМ БОЕ. Возраст бойцов был от трех до восьмидесяти трех лет. С ударом часов в полдень Четвертого июля в воздух взлетают тысячи водяных шаров (ага, мы построили для них катапульты), воздух наполняется галлонами воды, надуваются шланги высокого давления и опрокидываются ведра размером с гондолу. Никто не хочет пропускать ВОДЯНОЙ БОЙ.
И программа праздника сильно расширилась по сравнению с девяносто первым годом. После водяного боя народ обсыхает и идет во двор местной Центральной школы, где я одиннадцать лет учил шестиклассников, и начинается долгая и веселая игра в софтбол, и опять же участвуют все, от детишек до стариков, а городской оркестр в Томсон-парке на той стороне улицы непрерывно играет марши. Ближе к вечеру соседи и друзья собираются на барбекю, раскачивая заднюю или переднюю веранду, на которой оно организуется. Где-то к девяти вечера люди расходятся — в основном на близлежащее поле для гольфа, откуда хорошо виден фейерверк с игровой площадки на холме.
— Ты действительно собираешься пропустить Водяной Бой? — спросила Карен.
Но я уже обещал явиться на конгресс. И явился. На Гавайях мне было хорошо. Меня радовали встречи и споры с фэнами и коллегами. Я получил удовольствие от бесед с моими редакторами и издателем из «Харпер Коллинз», которые тоже приехали. («Дэн меня зовут, — повторил я не один раз, — Дэн, а не Дэвид…» — и все без толку.) Мне нравилось болтаться просто так с Чарли и народом из «Локуса». И премию получить тоже было приятно.
Но четвертого я улетел на материк и застал уже только намеки на фейерверк, увиденные из левого иллюминатора над крылом, когда летел над Сан-Франциско; прибыл в денверский аэропорт в полночь и ехал домой сквозь мрак и в настроении столь же мрачном. Я знал, что утром увижу залитые водой дворы, ведра и водяные пистолеты на террасах, висящие на палках купальники и футболки, промокшие кроссовки на ступенях, мелкие обрывки на траве от десяти тысяч лопнувших водяных шаров, незамеченные во время уборки после боя, и нашу псину Ферджи породы пемброук-уэлш-корги, которая лежит на крыльце, выпятив пузо (она считает своим долгом попить из каждого шланга), а на морде у нее сияет блудливая улыбка послепраздничного удовлетворения.
Надеюсь, что «Сироты Спирали» вам понравятся. Мне было приятно вернуться в мир Гипериона и посмотреть, что сталось с некоторыми из Бродяг и народом Спирали. И хочется думать, что вам тоже будет приятно взглянуть, что было, так сказать, «после Гипериона». Признаюсь, что у меня задуманы на будущее еще кое-какие короткие вещи, связанные с миром Гипериона. Но если они, часом, получат какую угодно премию, которая будет вручаться Четвертого июля, — на меня прошу не рассчитывать.
Летом две тысячи первого, незадолго до сего дня, когда я пишу это предисловие, произошел Десятый и Лучший Водяной Бой на Линкольн-стрит. Пришел весь город. Сухих не наблюдалось. В тот же день игра в софтбол тянулась часами, на счет всем было наплевать, а в парке наяривал оркестр. Таких барбекю старожилы не упомнят, а фейерверк был великолепен, как никогда.
Видите ли, чем старше человек, тем более необходимо ему определить свои приоритеты. Я это сделал. Литература и путешествия, слава и хвалебный хор критиков — все это важно, не спорю, но не стоит Водяного Боя на Линкольн-стрит.
Никак не стоит.
Дэн Симмонс~ ~ ~ ~ ~
Огромный спин-корабль транслировался из пространства Хоукинга в море переливов красно-белого сияния двойной звезды. 684 300 человек из Спектральной Спирали Амуа находились в криогенной фуге, пять ИскИнов, командующих кораблем, держали совет. Они столкнулись с необычным явлением, четверо из пяти решили, что необходимо вывести огромный спин-корабль из пространства Хоукинга, и теперь оживленные дебаты — занявшие несколько микросекунд — шли о том, что делать дальше.
Спин-корабль был изумительно красив в дальнем свете двух звезд, окрасивших в красные и белые цвета километровый корпус. На трех тысячах модулей глубокого сна, собранных по тридцать на сотне осей, сливавшихся во вращении, словно лопасти гигантского вентилятора, играли яркие блики, и все три тысячи модулей казались огромным драгоценным камнем, сверкающим красными и белыми блестками. Энейцы сконструировали корабль так, что оси колес были слегка наклонены вдоль длинного центрального корпуса корабля: первые тридцать осей назад, а вторая группа осей выносила тридцатимодульные плечи вперед, так что модули глубокого сна миновали друг друга с микросекундным зазором, сливаясь в сплошные круги, и корабль на полном вращении был похож именно на то, о чем говорило его название, — на борту. Наблюдатель, удаленный на сотни километров, увидел бы что-то похожее на вращающуюся двойную спираль ДНК сверкающую в свете двойного солнца.
Все пятеро ИскИнов решили, что лучше всего обратиться к модулям. Сначала сменили ориентацию ступицы огромных колес, и постепенно сверкающая спираль превратилась в три тысячи замедляющихся углерод-углеродных связей, на конце каждой из которых постепенно показывался модуль. Потом плечи модулей остановились, притянулись к длинному кораблю, и каждый лег в свое гнездо, как яйцо в контейнер для перевозки.
«Спираль», похожая уже не на свое имя, а на длинную тонкую стрелу с выступающим треугольным наконечником центра управления и хвостовым оперением двигателей Хоукинга и термоядерных реакторов, накрыла вошедшие модули восемью слоями защиты. Все ИскИны согласились, что надо продвигаться к белой звезде G8, замедляясь на четырехстах g и выставив защитное поле класса двадцать. Видимой угрозы в системах двойной звезды обнаружено не было, но красный гигант, расположенный поблизости, испускал, как и полагалось гиганту, большое количество пыли. Тот из ИскИнов, который более других гордился своими навигационными навыками и осторожностью, предупредил, что траектория подхода к звезде G8 не должна касаться лепестка L Роша из-за наличия там массивных ударных волн гелиосферы, и все пятеро стали рассчитывать кривую торможения, обходящую основные возмущения гелиосферы. С ударными волнами излучения вполне справились бы даже защитные поля класса три, но имея на борту 684 300 человеческих душ, никто из ИскИнов не хотел идти даже на малейший риск.
Следующее решение было единодушным и неизбежным: учитывая причину отклонения от курса и приближения к системе G8, придется будить людей. Сайге — ИскИн, занимавшийся штатным расписанием, списками дежурств, психологическими профилями и в силу этого хорошо знавший всех 684300 мужчин, женщин и детей, — несколько секунд проглядывал списки, выбирая девятерых.
* * *
Дем Лиа проснулась без унылой одури, как обычно бывало в старых криогенных устройствах. Чувствуя себя отдохнувшей и посвежевшей, она села в колыбели глубокого сна, и манипулятор протянул ел традиционный стакан апельсинового сока.
— Что-то срочное? — спросила она, и голос ее был так же свеж, как после обычного утреннего пробуждения.
— Ничего, что угрожало бы кораблю или нашей цели, — ответил Сайге, ИскИн. — Некоторая любопытная аномалия. Старая радиопередача из системы, которая может послужить источником пополнения запасов. Системы навигации и жизнеобеспечения функционируют нормально. Все люди в хорошем состоянии. Опасности для корабля нет.
— Как далеко мы переместились от последней изученной системы? — спросила Дем Лиа, допивая сок и натягивая костюм с изумрудной полосой на рукаве, а за ним тюрбан. Традиционно ее народ носил халаты жителей пустыни, и каждый халат был того из цветов Спирали Амуа, который выбирала себе семья, но халат — неудобная одежда для спин-корабля, где невесомость — частое явление.
— Шесть тысяч триста световых лет. Дем Лиа моргнула.
— Сколько лет с последнего пробуждения? — тихо спросила она. — Сколько лет полного времени полета корабля? Сколько лет реального времени?
— Девять лет корабельного и сто два года реального времени с момента последнего пробуждения, — ответил Сайге. — Полного времени полета — тридцать шесть лет. Полное реальное время полета по отношению к пространству людей — четыреста один год три месяца неделя и пять дней.
Дем Лиа поскребла себе шею.
— Скольких из нас вы пробуждаете?
— Девятерых.
Она кивнула, завершая разговор, бросила беглый взгляд на две сотни саркофагов, где спали ее друзья и родственники, и направилась по центральному движущемуся тротуару на центральный пост, куда должны были подойти остальные восемь.
* * *
Энеане выполнили заказ народа Спектральной Спирали Амуа и сконструировали центральный пост в виде мостика древнего морского корабля Старой Земли эпохи до Хиджры. Дем Лиа с удовольствием отметила, что защитное поле постоянно держится на уровне одного g. Сам мостик двадцати пяти метров в ширину был уставлен различными пультами управления, а в середине стоял стол — разумеется, круглый, — где и собирались пробужденные, попивая кофе и обмениваясь привычными шутками по поводу сновидений глубокого сна. По всему периметру мостика открывались в космос большие иллюминаторы. Дем Лиа постояла немного, разглядывая незнакомые узоры созвездий. Просветы между бесконечными завитками «Спирали» чернели фильтрами, озаренными плазменным факелом термоядерного двигателя и, конечно, самой двойной звездой — отчетливо различимыми белым карликом и красным гигантом. Окна, конечно, были ненастоящие — всего лишь голографические изображения, которые можно менять — увеличивать, уменьшать, затемнять, — но сейчас иллюзия была полной.
Дем Лиа повернулась к восьмерым собравшимся. Она познакомилась со всеми за два года обучения у энейцев, но близко не знала никого. Все они входили в группу из тысячи человек, избранную для возможного пробуждения в момент перехода. Сидевшие за столом представились, и Дем Лиа поглядела на цветные ленты у каждого.
Четверо мужчин, пять женщин. У одной из женщин тоже изумрудная ленточка — а значит, неизвестно, кто будет командовать: Лиа или она. Конечно, так или иначе это определит голосование, но поскольку изумрудная лента — лента поэзии — означает для людей Спектральной Спирали созвучие с природой, способность командовать, контакт с техникой и сохранение вымирающих видов (а все 684 300 беженцев Амуа в такой дали от человеческой вселенной могли считаться вымирающим видом), предполагалось, что при экстренном пробуждении командующего выбирают из зеленых.
Кроме еще одной изумрудно-зеленой — рыжеволосой женщины по имени Рес Сандре, — присутствовали: мужчина с красной лентой, Патек Георг Дем Мио; молодая женщина с белой лентой по имени Ден Соа, которую Дем Лиа помнила по дипломатическим имитационным тренировкам; мужчина с угольно-черной лентой Джон Микайл Дем Алем, женщина постарше с желтой лентой Оам Раи, выдающийся оператор систем корабля, седоволосый мужчина с синей лентой по имени Петер Делен Дем Тае, специалист по психологии, приятная женщина с фиолетовой лентой — кажется, астроном — по имени Кем Лои, и мужчина с оранжевой лентой — врач, с которым Дем Лиа случалось несколько раз говорить. Его звали Самел Риа Кем Али, и все называли его доктор Сэм.
После представлений наступила пауза. Люди залюбовались видом из окон, где белый карлик G8 почти пропадал в сиянии величественного плазменного хвоста «Спирали».
Наконец Патек — красный — произнес:
— Хорошо. Корабль, объяснение. Из вездесущих динамиков послышался спокойный голос Сайге:
— Приближалось время начала поиска планет земного типа, когда датчики и астрономическая система заинтересовались этой двойной звездой.
— Двойной звездой? — переспросила фиолетовая. — Разумеется, не системой красного гиганта?
Пассажиры «Спектральной Спирали Амуа» очень четко задали параметры мира, который корабль должен был отыскать для них: солнце класса G2, планета земного типа, не менее девяти баллов по старой шкале Сольмева, синие океаны, приятный климат — словом, рай. Поиск был рассчитан на тысячи лет и десятки тысяч парсеков. И люди были уверены, что найдут.
— В системе красного гиганта нет планет, — достаточно охотно согласился ИскИн. — Мы считаем, что прежде в качестве центральной звезды у системы был желто-белый карлик класса G2.
— Солнце, — тихо заметил Петер Делен, синий, сидящий справа от Дем Лиа.
— Да, — согласился Сайге. — Очень похоже на Солнце Старой Земли. По нашей оценке, оно стало нестабильным по основной реакции горения водорода где-то около трех с половиной миллионов стандартных лет назад, расширилось до красного гиганта и поглотило все планеты в системе.
— Каков диаметр красного гиганта? — спросила Рес Сандре, вторая женщина с зеленой лентой.
— Примерно одна и три десятых астрономической единицы, — ответил ИскИн.
— А внешних планет нет? — задала вопрос Кем Лои. В ведении фиолетовых на «Спирали» были сложные системы, шахматы, самые запутанные аспекты человеческих взаимоотношений и астрономия. — Теоретически, должны быть какие-то газовые гиганты или каменные планеты, если звезда расширилась лишь ненамного дальше орбиты Старой Земли или Гипериона.
— Возможно, имелись только малые планетоиды, и их унесло постоянным потоком излучаемых тяжелых частиц, — предположил Патек Георг, прагматик с красной лентой.
— Здесь, наверное, не образовывались планеты, — печально возразила Ден Соа, дипломат с белой лентой. — Зато при расширении солнца не погибла никакая жизнь.
— Сайге, — спросила Дем Лиа, — почему мы приближаемся к белой звезде? Покажи нам ее параметры, будь добр.
Над столом повисли картинки, диаграммы, траектории и столбцы данных.
— Что это? — удивилась Оам Раи, пожилая женщина с желтой лентой.
— Орбитальный лес Бродяг, — ответил ей Джон Микайл Дем Алем. — Столько времени… Такой долгий путь… И нас опередил какой-то древний корабль-сеятель Бродяг времен их Хиджры.
— Опередил нас — в чем? — уточнила Рес Сандра, вторая зеленая. — Сайге, в этой системе нет планет?
— Нет, мэм, — ответил ИскИн.
— Вы собираетесь пополнить запасы в их орбитальном лесу? — поинтересовалась Дем Лиа. Согласно плану, они должны были избегать любые планеты или поселения энейцев, Священной Империи или Бродяг, обнаруженные на долгом пути от пределов человеческой вселенной.
— Этот орбитальный лес исключительно богат, — сообщил ИскИн Сайге, — но истинной причиной, заставившей экипаж разбудить вас и приступить к торможению, было то, что кто-то, живущий в этом орбитальном лесу или вблизи него, передал сигнал бедствия на полосе частот ранней Гегемонии. Сигнал очень слаб, но мы засекли его за двести двадцать восемь световых лет.
Все смолкли. «Спираль» отправилась в странствие через восемьдесят лет после Момента Сопричастности Энеи — поворотного события в человеческой истории, обозначившего для многих и многих начало новой эры. До Момента Сопричастности почти три столетия человеческой вселенной правила Священная Империя Пасема. Власть принадлежала Церкви. Гегемония, триста лет Империи, четыреста лет реального времени полета… Если эти Бродяги были участниками первой Хиджры со Старой Земли, они уже не менее полутора тысяч лет не имели контакта с человечеством.
— Интересно, — протянул Петер Делен Дем Тае. Синий цвет его ленты означал глубокие знания в области психологии и антропологии. — Сайге, воспроизведи, пожалуйста, сигнал бедствия.
Послышалась серия щелчков, свистов и бульканий и среди них, кажется, два отфильтрованных электроникой слова. Древний акцент — английский язык Великой Сети времен ранней Гегемонии.
— Что он сказал? — спросила Дем Лиа. — Я не смогла разобрать.
— На помощь, — пояснил Сайге. Голос ИскИна с легким азиатским акцентом всегда звучал приятно-весело, но сейчас он был серьезен.
Девять собравшихся в молчании переглянулись. Их цель была оставить позади человеческую вселенную, вселенную энейцев, ради того, чтобы культура Спектральной Спирали Амуа нашла свой путь развития, свою судьбу, свободную от вмешательства последователей Энеи. Но Бродяги — другая ветвь рода человеческого, решившая направить свою эволюцию по пути адаптации к космосу, с Бродягами путешествовали их союзники тамплиеры, которые, зная тайны генетики, могли выращивать орбитальные кольца лесов и даже сферические деревья, полностью окружавшие солнца.
— Сколько, по твоей оценке. Бродяг проживает в этом орбитальном лесу? — спросила Ден Соа, которой с ее навыками белой ленты наверняка в случае контакта придется быть дипломатом.
— Семьсот миллионов на дуге тридцать градусов, как показывает наше разрешение, на этой стороне солнца. Если они расселились по всей или почти всей окружности, то оценка численности — несколько миллиардов.
— Какие-нибудь следы акерателов или зелпенов? — спросил Георг Натек. Все главные орбитальные леса или древесные сферы пытались сотрудничать с этими двумя расами, которые объединились с Бродягами и тамплиерами в период Падения Гегемонии.
— Никаких, — сообщил Сайге. — Но обратите внимание на лес в центральном иллюминаторе, вид издали. Мы на расстоянии шестидесяти трех астрономических единиц…, увеличение в десять тысяч раз.
Все повернулись к центральному иллюминатору. Казалось, орбитальный лес находится всего в нескольких тысячах километров от корабля. Зеленые листья, коричневые ветви, извивающийся главный ствол — все это играло красками в свете звезды G8 и плавно уходило в темноту.
— Здесь что-то не так, — сказала Дем Лиа.
— Аномалия, которая вместе с сигналом бедствия заставила нас вывести вас из глубокого сна, — пояснил Сайге. Его голос снова звучал спокойно. — Орбитальное лесное кольцо не является биоконструктором Бродяг или тамплиеров.
Доктор Самел Риа Кем Али тихо присвистнул:
— Орбитальный лес, созданный инопланетянами. А живут в нем Бродяги — потомки людей.
— И еще кое-что. Мы обнаружили это после входа в систему, — сказал Сайге. Левый иллюминатор внезапно заполнило изображение корабля — космического судна, такого огромного, что даже представить себе невозможно. Внизу экрана возникло для масштаба изображение «Спирали». Длина «Спирали» составляла один километр. Корпус большого корабля был по меньшей мере в тысячу раз длиннее. Чудовище — широкое, массивное, разлапистое и уродливое, угольно-черное, похожее на насекомое — соединило в себе худшие черты эволюции и промышленного производства. В середине открывалась пасть со стальными зубами — щель, обрамленная бесконечными радами челюстей, клинков и бритвенно-острых роторов.
— Как бритва Господня, — сказал Патек Георг Дем Мио, пытаясь холодной иронией скрыть дрожь в голосе.
— Ни хрена себе бритва Господня, — тихо ответил Джон Микайл Дем Алем. Одной из его специализаций как черного было жизнеобеспечение, и он вырос, работая на огромных фермах на Витус-Грей-Балиане Б. — Это же утилизатор отходов из преисподней!
— Где он? — начала было Дем Лиа, но Сайге уже высветил над столом график, показывающий траекторию их движения к лесному кольцу. Отвратительный корабль-машина заходил выше эклиптики, примерно в двадцати восьми астрономических единицах от «Спирали», и направлялся прямо к орбитальному лесу, хотя не так резко, как «Спираль». Из графика было ясно — при данной скорости движения машина выйдет к кольцу через девять стандартных дней.
— Вот это и могло быть причиной сигнала бедствия, — заметила Рес Сандре, вторая из зеленых.
— Если бы оно надвигалось на меня и мою планету, я бы орала так, что меня бы услышали за двести двадцать восемь световых лет, — заметила Ден Соа, молодая с белой лентой.
— Если мы начали принимать этот слабый сигнал где-то за двести двадцать восемь световых лет отсюда, — рассудил Патек Георг, — значит, либо эта штука входит в систему очень медленно, либо…
— Либо она была здесь раньше, — закончила Дем Лиа. Она велела ИскИну задраить иллюминаторы. — Вы свободны, — сказала она Сайге и повернулась к собравшимся:
— Так что — будем распределять роли, обязанности и приоритеты и принимать первые решения?
Восемь человек за круглым столом молча кивнули в ответ.
* * *
Человеку, чуждому культуре Спектральной Спирали, было бы трудно понять смысл следующих пяти минут. Полный консенсус был достигнут за первые две, но лишь малая часть дискуссии проходила вербально. Сочетание языка рук, поз, кратких фраз и безмолвных кивков, развитое за четыре столетия, отлично помогало принимать совместные решения. Отцы и деды этих людей знали необходимость приказов и подчинения — полмиллиона человек погибли в короткой, но кровавой войне с силами Священной Империи на Витус-Грей-Балиане Б, и еще сто тысяч погибли, когда убегающие имперские мародеры пролетели через их систему тридцать лет спустя. Тем не менее люди Спектральной Спирали предпочитали совместно выбирать того, кто отдает приказы, и только так принимали решения.
В первые две минуты были согласованы назначения и выработаны детали распределения обязанностей.
Командовать доверили Дем Лиа. При необходимости ее единственный голос мог отменять общие решения. Вторая из зеленых. Рес Сандре, предпочитала управлять навигацией и инженерной частью, работая с молчаливым ИскИном по имени Басе. Она должна была использовать время выхода из пространства Хоукинга для пополнения запасов.
Мужчина с красной лентой, Патек Георг, принял обязанности начальника службы безопасности — и это никого не удивило. В его ведение входили управление корабельными системами защиты и организация безопасности при любых контактах с бродягами. Решения Патека о применении оружия корабля могла отменять только Дем Лиа.
Молодая женщина с белой лентой, Ден Соа, взяла на себя дипломатию и связь, но попросила, чтобы эти обязанности разделил с ней Петер Делен Дем Тае: его образование включало теоретическую экзобиопсихологию.
Доктор Сэм должен был следить за здоровьем всех и каждого на борту и в случае контакта изучать эволюционную биологию Бродяг и тамплиеров.
Мужчина с черной лентой, Джон Микайл Дем Алем, принял на себя командование жизнеобеспечением — наблюдение и управление системами «Спирали» вместе с назначенными на это ИскИнами. Кроме того, в его обязанности входило создание соответствующей среды в том случае, если встреча с Бродягами состоится на борту корабля.
Оам Раи, самая старшая, мастер шахмат, согласилась координировать главные системы корабля и быть советником Дем Лиа.
Кем Лои, астроном, взяла на себя обязанности дальней разведки, но явно рвалась в свободное время изучить систему двойной звезды.
— Кто-нибудь обратил внимание, какого старого друга напоминает эта белая звезда? — спросила она.
— Тау Кита, — без раздумий ответила Рес Сандре. Кем Лои кивнула:
— И еще мы заметили аномалию в размещении лесного кольца.
Аномалию заметили все. Бродяги предпочитали звезды класса G2, где можно выращивать орбитальные леса на расстоянии около одной астрономической единицы от солнца. Здесь же кольцо отстояло от солнца не далее чем на 0,36 АЕ.
— Почти то же расстояние от солнца, что и у ТКЦ, — заметил Патек Георг. ТКЦ — Тау Кита Центр — имя, под которым эта планета была известна уже более тысячи лет, — был некогда центром и столицей Гегемонии. Под властью Пасема он утратил былое величие и превратился в ничем не примечательную захолустную планетку. Так было до тех пор, пока местный кардинал не попытался выступить против Папы в последние дни Империи. Тогда почти все вновь отстроенные города сровняли с землей. Восемьдесят лет спустя, когда «Спираль» покинула человеческую вселенную, энеане приступили к восстановлению древней столицы, отстраивая классические здания в обширных имениях и превращая развалины в Аркадию. Для энеан.
Распределив и приняв обязанности, люди Спектральной Спирали приступили к обсуждению следующего вопроса — возможности пробуждения своих близких из криогенного сна. Поскольку семьи Спектральной Спирали строились на основе триады — мужчина и две женщины или наоборот — и почти у всех были на борту дети, вопрос оказался сложным. Джон Микайл говорил о ресурсах жизнеобеспечения — которые были на минимуме. В итоге все сошлись на том, что разбудить следует только мужа и жену Ден Соа — молодая дипломатка с белой лентой признала, что ей будет неспокойно без двух ее возлюбленных, и группа согласилась сделать для нее исключение. Разумеется, предполагалось, что партнеры Ден Соа не будут показываться на мостике без крайней необходимости. Ден Соа приняла эти условия. Позвали Сайге и велели ему немедленно разбудить брачных партнеров Ден Соа. Детей у них не было.
Теперь оставался самый главный вопрос.
— Мы действительно хотим приблизиться к этому кольцу и ввязаться в неприятности Бродяг? — спросил Патек Георг. — Разумеется, если их сигнал бедствия еще не потерял смысл.
— Они по-прежнему передают на старых частотах, — сказала Ден Соа, копаясь в системах связи корабля. Она посмотрела на что-то, видимое ей виртуальным зрением. — И эта чудовищная машина по-прежнему следует своим курсом.
— Однако мы не должны забывать, — произнес мужчина с красной лентой, — что наша цель — избегать контакта с потенциально враждебными форпостами человечества на пути из исследованного космоса.
Рес Сандре, зеленая, отвечающая теперь за инженерную часть, улыбнулась:
— Полагаю, ставя себе эту цель, мы не рассчитывали встретить людей — или бывших людей — за восемь тысяч световых лет от известной границы человеческой вселенной.
— Тем не менее это все равно может навлечь беду на всех, — не уступал Патек Георг.
Истинный смысл слов шефа СБ поняли все. Специализацией красных в Спектральной Спирали была храбрость, политические дискуссии и искусство, но их обучали еще и сочувствию к другим живым существам. А значит, говоря о беде для всех, он имел в виду не только 684 291 спящего в корабле, но и самих Бродяг и тамплиеров. Сироты Старой Земли — ветвь человечества, вступившая на путь автономного развития, — уже более тысячи лет были вне истории человечества. Контакт — даже самый мимолетный — мог губительно сказаться на культуре Бродяг.
— Мы хотим приблизиться и посмотреть…, и заодно пополнить запасы, если получится, — сказала Дем Лиа. Ее интонация была дружеской, но не допускающей возражений. — Сайге, при самой крутой траектории, которую допускают защитные поля, сколько у нас времени до рандеву за пять тысяч километров от лесного кольца?
— Тридцать семь часов.
— Что дает нам чуть больше семи суток преимущества перед этой чудовищной машиной.
— Дьявол! — выругался доктор Сэм. — Эту машину могли построить сами Бродяги, чтобы защитить себя при переходе через ударные поля гелиосферы по пути в систему красного гиганта. Этакий кошмарненький троллейбус.
— Вряд ли, — возразила юная Ден Соа, не уловив в его голосе иронии.
— Так… Бродяги нас уже заметили, — сказал Патек Георг, подключаясь к датчикам своего пульта. — Сайге, пожалуйста, еще раз те же окна. С тем же увеличением.
Внезапно зал озарился сиянием звезд и солнца, по стенам побежали блики от кольцевого дерева, напоминавшего бобовый стебель из сказки про Джека и великанов. Оно уходило из виду, загибаясь вокруг яркой белой звезды. Но теперь к картинке добавилось еще кое-что.
— Это в реальном времени? — прошептала Дем Лиа.
— Да, — ответил Сайге. — Бродяги заметили наш термоядерный выхлоп, когда мы вошли в систему. Теперь они идут навстречу.
Тысячи, десятки тысяч дрожащих световых полосок отделились от дерева и искорками двинулись прочь от сплетения огромных листьев, ветвей, ствола, удерживающего атмосферу. И шли они в сторону «Спирали».
— Нельзя ли чуть-чуть увеличение? — попросила Дем Лиа. Она обращалась к Сайге, но отреагировала Кем Лои, которая уже подключилась к оптической сети корабля.
Световые бабочки. Крылья длиной сто, двести, пятьсот километров ловят солнечный ветер. Мчатся по магнитным силовым линиям, уходя от маленькой яркой звезды. Их — этих ангелов или демонов света — не десятки, но сотни тысяч. По самой минимальной оценке — сотни тысяч.
— Будем надеяться, они настроены дружелюбно, — сказал Патек Георг.
— Будем надеяться, нам удастся вступить с ними в контакт, — прошептала молодая Ден Соа. — То есть…, за эти полторы тысячи лет эволюция могла их завести куда угодно.
Дем Лиа стукнула рукой по столу — негромко, но решительно.
— Сейчас предлагаю оставить дискуссии и приготовиться к встрече через…
— Через двадцать семь часов шесть минут, если Бродяги выходят из системы нам навстречу, — закончил Сайге.
— Рес Сандре, — мягко проговорила Дем Лиа, — почему бы тебе и твоим навигационным ИскИнам не приступить к подготовке последнего отрезка тормозного пути — просчитать все так, чтобы не сжечь ненароком пару десятков тысяч Бродяг? Для дипломатического контакта это было бы не слишком удачным началом.
— Но если они вышли к нам с враждебными намерениями, — возразил Патек Георг, — термоядерный выхлоп послужит, возможно, самым лучшим оружием против…
Дем Лиа не позволила ему договорить. В ее голосе звучала спокойная решимость.
— Вопрос о войне против этой цивилизации Бродяг не ставится до тех пор, пока не прояснятся их намерения. Патек, можешь осмотреть все защитные системы корабля, но дальнейшие совместные обсуждения наступательных действий отменяются, пока мы с тобой не поговорим наедине.
Патек Георг склонил голову.
— Вопросы или замечания есть? — спросила Дем Лиа. Ни вопросов, ни замечаний не было. Девять человек встали из-за стола и разошлись по своим делам.
* * *
Чуть более чем двадцать четыре часа спустя Дем Лиа, которой практически не удалось поспать, стояла одна в сиянии белой звезды G8, висевшей в нескольких ярдах от ее плеча.
Переплетение ветвей было так близко, что можно было почти коснуться дерева, охватить своей непомерно гигантской рукой; на уровне груди Дем Лиа трепетали крыльями сотни тысяч световых бабочек, слетающихся к «Спирали», уже убравшей тормозной термоядерный выхлоп. Дем Лиа стояла в черной пустоте, и кольцевое дерево висело у нее вокруг пояса, а огромная сфера созвездий и туманных галактик уходила вверх, вдаль, в стороны.
Неожиданно рядом с ней возник Сайге. Древний монах сидел в своей обычной виртуальной позе: скрестив ноги, он парил над эклиптикой в нескольких ярдах от Дем Лиа. Он был бос, без рубашки, и круглый живот еще более усиливал добродушную жизнерадостность, исходящую от круглого лица, раскосых глаз и румяных щек.
— Как красиво они летят в солнечном свете, — тихо сказала Дем Лиа. Сайге кивнул:
— Обратите внимание, что они и в самом деле балансируют на ударных волнах, идущих вдоль магнитных силовых линий. Вот почему у них такие скачки скорости.
— Я слышала об этом, но еще ни разу не видела, — произнесла Дем Лиа. — Ты не мог бы…
Солнечная система мгновенно превратилась в лабиринт силовых линий магнитного поля, исходящих от звезды G8, сначала закругляясь, потом выпрямляясь и расходясь, как лучи лазерной защиты. Сложный узор магнитных полей высветился красным. Синие линии обозначили неисчислимые пути космических лучей, заливающих систему и всю галактику, пересекающих линии магнитного поля и закручивающихся вдоль них штопором, как лососи, пробивающиеся против течения, чтобы отложить икру в брюхе звезды. Дем Лиа заметила, что силовые линии, исходящие из северного и южного полюса звезды, переплетаются друг с другом и запутываются, отклоняя космические лучи, которые иначе легко прошли бы к гладким околополярным полям. На. — ум ей пришла другая метафора — сперматозоиды, рвущиеся к пылающей яйцеклетке, отбрасываемые злобным солнечным ветром и прибоем магнитных волн, отшвыриваемые ударными волнами, пробегающими по силовым линиям, будто кто-то встряхивает провод или щелкает бичом.
— Штормит, — заметила Дем Лиа, видя, как очень многие Бродяги скользят, взлетают и вращаются вдоль фронтов ионных ударных волн, магнитных силовых линий и космических лучей, а солнечный ветер бьется взад-вперед, сталкиваясь с фронтами более быстрых волн, когда создаются мгновенные цунами, устремляющиеся от солнца и вновь возвращающиеся обратно, подобно гигантскому прибою, набегающему на огненный пляж звезды G8.
Бродяги с легкостью улавливали все столкновения и пересечения красных линий магнитного поля, желтых ионных потоков, синих шнуров космических лучей и кружащего многоцветья сталкивающихся фронтов ударных волн. Дем Лиа поглядела туда, где взбухающая гелиосфера красного гиганта встречалась с кипящей гелиосферой яркого белого карлика: буря цвета и света была словно сияющий красочный океан, и волны разбивались на тысячи брызг об утесы столь же яркого, полыхающего континента огненной энергии. Величественно.
— Вернемся к обычному изображению, — сказала Дем Лиа, и тут же вновь возникли звезды, кольцевое дерево, порхающие, словно бабочки, Бродяги и замедляющая движение «Спираль». Изображения Бродяг были даны в другом масштабе, чтобы их можно было разглядеть. — Сайге, — попросила Дем Лиа, — пригласи, пожалуйста, всех остальных ИскИнов.
Улыбчивый монах поднял брови.
— Всех сразу?
— Да.
Они появились быстро, но не мгновенно — сначала одна виртуальная фигура, потом вторая…
Первой возникла благородная Мурасаки — маленькая, ниже даже миниатюрной Дем Лиа, и при виде ее древнего одеяния — халата-кимоно — у командующей захватило дыхание. «И такую красоту на Старой Земле воспринимали как должное», — подумала Дем Лиа. Мурасаки вежливо поклонилась, не вынимая миниатюрные ручки из рукавов халата. Личико ее было выкрашено почти в белый цвет, глаза и губы густо подведены, а длинные черные волосы убраны так затейливо, что Дем Лиа, предпочитавшая короткую стрижку, даже представить себе не могла, сколько труда надо затратить на расчесывание и укладку такой массы волос.
Секунду спустя на свободное место по другую сторону виртуальной «Спирали» уверенно шагнул Иккю. Этот ИскИн выбрал себе личность постарше: давно умерший поэт дзэн выглядел на семьдесят, ростом был повыше других японцев, совершенно лысый, с глубокими морщинами заботы на лбу и морщинками смеха вокруг живых глаз. Еще до полета Дем Лиа в базе данных по истории прочитала об этом монахе, поэте, музыканте и каллиграфе пятнадцатого столетия: кажется, когда историческому Иккю исполнилось семьдесят, он влюбился в слепую певицу на сорок лет его моложе и привел в ужас молодых монахов, когда перевез возлюбленную к себе в храм. Дем Лиа он нравился.
Следующим был Басе. Великий поэт хайку являлся в виде долговязого японского крестьянина семнадцатого столетия, одетого в коническую шляпу и сандалии своего сословия. Под ногтями у него всегда была земля.
Изящно вошел в круг Рекан. Этот был одет в красивые одежды небесного цвета с золотой оторочкой. Длинные волосы забраны в хвост.
— Я попросила вас собраться здесь из-за сложностей предстоящей встречи с Бродягами, — решительно начала Дем Лиа. — В судовом журнале я прочла, что один из вас возражал против выхода из пространства Хоукинга в ответ на сигнал бедствия.
— Это был я, — ответил Басе. Он говорил на современном английском языке Священной Империи, но голос его звучал низко и рокочуще, как у древнего самурая.
— Почему? — спросила Лиа. Басе махнул рукой.
— В согласованных приоритетах такое событие предусмотрено не было. Я считал, что оно создает слишком большую потенциальную опасность и слишком малую потенциальную выгоду для нашей реальной цели: поиска планеты для колонизации.
Дем Лиа указала на рой Бродяг, приближающихся к кораблю. До них было всего несколько тысяч километров. На всех старых радиочастотах Бродяги почти все стандартные сутки декларировали свои мирные намерения.
— Ты по-прежнему считаешь, что это слишком рискованно? — спросила она высокого ИскИна.
— Да.
Дем Лиа кивнула, слегка поморщившись. Если ИскИны в важном вопросе не могли достигнуть согласия, это всегда внушало тревогу, но именно поэтому энеане оставили их автономными после распада Техно-Центра. И вот почему для голосования ИскИнов должно было быть пять.
— Все остальные считают, что риск приемлем? Мурасаки ответила низким грудным голосом, очень тихо, почти шепотом:
— Мы нашли отличную возможность пополнить запасы пищи и воды, а о прочих последствиях более надлежит беспокоиться вам, нежели нам. Выходя из пространства Хоукинга, мы не видели большого корабля в пределах системы. В противном случае мы могли бы принять иное решение.
— Это человеческая культура Бродяг с заметной долей присутствия тамплиеров. Вряд ли они имели контакт с остальным человечеством со времен эпохи ранней Гегемонии, — с энтузиазмом произнес Иккю. — Не исключено, что это самый дальний форпост древней Хиджры. Всего человечества. Изумительная возможность с научной точки зрения.
Дем Лиа нетерпеливо кивнула:
— Через несколько часов состоится встреча. Радиоконтакт уже был. Вы слышали — они говорят, что хотят приветствовать нас и говорить с нами. Мы в ответ тоже были вежливы. Диалекты у нас не настолько разошлись, чтобы кристаллы трансляторов не справились с переводом. Но как нам знать, на самом ли деле они идут с миром?
Рекан откашлялся.
— Необходимо помнить, что более тысячи лет все войны с Бродягами провоцировались — сначала Гегемонией, потом Священной Империей. Самые первые колонии Бродяг в глубоком космосе были весьма мирные, а эта — дальняя колония — вряд ли была втянута в какой-либо конфликт.
Сайге, удобно усевшийся в пустоте, хмыкнул:
— Не надо забывать, что во время настоящих войн с Империей Пасема эти миролюбивые, адаптировавшиеся к космосу люди научились для собственной защиты использовать военные корабли с модифицированными двигателями Хоукинга, плазменное оружие и даже кое-какое трофейное оружие эскадры «Гидеон». — Он взмахнул рукой. — Этих приближающихся Бродяг мы просканировали, и оружия у них нет — даже деревянного копья.
Дем Лиа кивнула:
— Кем Лои показала мне свидетельства, что их корабли-сеятели оторвались от кольца уже давно — может быть, всего через несколько лет или месяцев после прибытия. В этой системе нет астероидов, а облако Оорта рассеяно намного дальше, чем они могут долететь. Вполне возможно, что у них нет ни металла, ни промышленности.
— Мэм, — с озабоченным видом сказал Басе, — откуда нам знать? Бродяги настолько изменили свои тела, что научились генерировать из силовых полей крылья размахом в сотни километров. Если они подойдут к кораблю на достаточно близкое расстояние, то — теоретически — смогут использовать комбинированное воздействие плазмы этих крыльев для разрушения защитного поля и нападения на корабль.
— Забиты насмерть ангельскими крыльями, — тихо сказала Дем Лиа себе под нос. — Веселенькая смерть. ИскИны промолчали.
— Кто непосредственно работает с Патеком Георгом над оборонительной стратегией? — спросила Дем Лиа в наступившей тишине.
— Я, — ответил Рекан.
Дем Лиа это знала, но все равно подумала: «Слава Богу, что не Басе!» Патек Георг и без того параноик.
— Каковы будут рекомендации Патека относительно нашей встречи, которая произойдет через несколько минут? — спросила она, не выдавая своих мыслей.
ИскИн колебался едва заметную долю секунды. ИскИнам свойственно чувство преданности к тому, с кем они работают, но, кроме того, они вполне осознают приоритет избранного командира корабля.
— Патек Георг собирается рекомендовать стокилометровую буферную зону с внешним ограничивающим полем класса двадцать, — тихо сказал Рекан. — Все лучевое оружие приведено в боевую готовность и нацелено на триста девять тысяч двести пять приближающихся Бродяг.
Дем Лиа чуть приподняла брови.
— И сколько времени займет у наших систем атака на триста с чем-то тысяч целей?
— Две целых шесть десятых секунды. Дем Лиа покачала головой.
— Рекан, будь добр, скажи Патеку Георгу, что мы с тобой переговорили и что я хочу выставить защитное поле не на сто километров от корабля, а ровно на один. Один километр от корабля. Пусть это будет поле класса двадцать — Бродяги увидят его силу, и это будет хорошо. Но лучевое оружие не должно быть наведено на Бродяг. Я полагаю, они так же хорошо видят наши сканирующие прицелы. Вы, Рекан, вместе с Патеком Георгом можете гонять столько учебных боевых имитаций, сколько сочтете нужным, но не подавайте энергии на оружие и не наводите прицел, пока я не дам команду.
Рекан поклонился. Басе переступил с ноги на ногу, но ничего не сказал.
Высокородная дама Мурасаки шевельнула перед собой веером.
— Ты доверяешь, — тихо сказала она. Дем Лиа не улыбнулась.
— Не до конца. До конца я никогда не доверяю. Рекан, я прошу вас с Патеком Георгом настроить систему защитных полей так, что, если хоть один Бродяга попытается взломать поле фокусированной плазмой своих крыльев, оно немедленно должно перейти в аварийное состояние класса тридцать пять и расшириться на пятьсот километров.
Рекан кивнул. Иккю слегка улыбнулся:
— Очень уж быстрый будет полет для огромной массы Бродяг, мэм. Вряд ли их личные энергетические системы смогут поддержать жизнеобеспечение при таком ударе, и они точно не смогут затормозить еще половину АЕ, если не больше.
Дем Лиа кивнула:
— Это их трудности. Надеюсь, до этого не дойдет. Спасибо всем, что уделили мне внимание.
Шесть человеческих фигур мгновенно исчезли.
* * *
Встреча была мирной и полезной.
Первый вопрос, который задали Бродяги двадцать часов назад, был таков:
— Вы — Пасем?
Сначала этот вопрос удивил Дем Лиа и всех остальных — они считали, что Бродяги лишились контакта с человеческой вселенной задолго до возникновения Священной Империи. Но потом Джон Микайл Дем Алем, мужчина с черной лентой, догадался:
— Момент Сопричастности. Конечно, все дело — в Моменте Сопричастности.
Девять человек переглянулись в молчании. Все понимали, что Момент Сопричастности Энеи во время ее мучений и смерти в руках Священной Империи и Техно-Центра дошел до каждого в человеческой вселенной. Все просто. Гештальтный резонанс Связующей Бездны, передавшей мысли и воспоминания умирающей Энеи, все ее знания по нитям квантовой ткани вселенной, той ткани, что резонирует в ответ на эмоции, объединяя на миг всех, чьи предки некогда жили на Старой Земле. Да, но здесь? Так далеко? За тысячи световых лет?
Внезапно Дем Лиа поняла, насколько это глупая мысль. Момент Сопричастности Энеи, случившийся почти пятьсот лет назад, должен был разойтись по всей вселенной вдоль квантовой ткани Связующей Бездны, касаясь чужих рас и культур настолько далеких, что до них не достанет никакая человеческая техника передвижения и связи, добавляя первый сознательно прозвучавший человеческий голос к эмпатической беседе мыслящих и чувствующих, ведущейся уже двенадцать миллиардов лет. Почти все эти виды вымерли или развились во что-то совсем иное, как говорили Дем Лиа энеане, но их эмпатическая память по-прежнему звучит в Связующей Бездне.
Ну конечно же, все так — пятьсот лет назад эти Бродяги пережили Момент Сопричастности.
— Нет, мы не Пасем, — радировала обратно «Спираль». — Империя Пасема почти полностью разрушена четыреста стандартных лет назад.
— Есть у вас на борту последователи Энеи? — был следующий вопрос Бродяг.
Девять человек на капитанском мостике тяжко вздохнули. Наверное, Бродяги отчаянно ждали апостола энеан, пророка, того, кто принесет им священную ДНК Энеи, чтобы они тоже стали энеанами.
— Нет, — ответило радио «Спирали». — Последователей Энеи нет.
Они попытались объяснить, что такое Спектральная Спираль Амуа и как энеане помогли построить ее и приспособить к долгому полету.
После долгого молчания радио принесло вопрос:
— Есть на борту кто-нибудь, кто был знаком с Энеен или ее возлюбленным, Раулем Эндимионом?
И снова все девять человек недоуменно переглянулись. Ответил Сайге, сидевший в позе лотоса неподалеку от круглого стола.
— Никто из тех, кто находится на борту, не был знаком с Энеей, — сказал он тихо. — Из спектральной семьи, которая прятала и лечила Эндимиона, когда он заболел на Витус-Грей-Балиане Б, двое брачных партнеров были убиты на войне с Паеемом — одна из матерей, Дем Риа, и биологический отец, Алем Микайл Дем Алем. Сын этой триады, Бин Риа Дем Лоа Алем, тоже погиб под бомбами Пасема. Дочь Алема Микайла от предыдущего брака исчезла и считается погибшей. Выжившая женщина триады, Дем Лоа, приняла причастие и стала энеанкой вскоре после Момента Сопричастности. Она покинула Витуе-Грей-Балиан Б и не вернулась.
Дем Лиа и ее коллеги ждали, зная, что ИскИн не стал бы так много говорить, если бы не было продолжения.
Сайге кивнул.
— Оказалось, что дочь, Сес Амбре, считавшаяся погибшей в резне гражданского населения Спектральной Спирали, устроенной Паеемом на базе Бомбасино, была на самом деле вывезена с планеты в числе более чем тысячи детей и подростков. Их должны были воспитать на планете Святая Тереза — последнем оплоте Священной Империи — и возродить как христиан Пасема. Сес Амбре получила крестоформ и попала под надзор религиозных стражников на девять лет, пока эта планета не была освобождена энеанами и Дем Лоа не узнала, что ее дочь жива.
— Они воссоединились? — спросила юная Ден Соа; в глазах у нее стояли слезы. — Сес Амбре освободилась от крестоформа?
— Да, они воссоединились, — сообщил Сайге. — Дем Лоа прибыла, как только узнала, что ее дочь жива. Сес Амбре согласилась, чтобы энеане освободили ее от крестоформа, но сказала, что отказывается принять причастие кровью Энеи от мачехи по триаде и самой стать энеанкой. В ее деле говорится, что она хотела вернуться на Витуе-Грей-Балиан Б и увидеть останки культуры, из которой некогда была похищена. Она там жила и работала учительницей почти шестьдесят стандартных лет И приняла синюю ленту своей бывшей семьи — Отказалась от крестоформа, но не стала энеанкой, — произнесла вполголоса Кем Лои, астроном, словно не в силах поверить.
— Она на борту в глубоком сне, — сказала Дем Лиа.
— Да, — подтвердил Сайге.
— Сколько ей было лет на момент нашего отлета? — спросил Патек Георг.
— Девяносто пять стандартных лет, — сообщил ИскИн и улыбнулся. — Но она, как и все мы, воспользовалась услугами энеанской медицины задолго до старта. Ее физическое состояние и умственные способности на уровне женщины шестидесяти лет.
Дем Лиа потерла щеку.
— Сайге, разбуди, пожалуйста, гражданку Сес Амбре. Ден Соа, не могла бы ты быть рядом при ее пробуждении и объяснить ей ситуацию до прибытия Бродяг? Кажется, им интереснее познакомиться с человеком, знавшим мужа Энеи, чем узнать подробнее о Спектральной Спирали.
— Будущего мужа с точки зрения времени, — поправил черный, Джон Микайл, отличавшийся некоторой педантичностью. — Рауль Эндимион еще не был мужем Энеи во время своего пребывания на Витус-Грей-Балиане Б.
— Для меня будет честью остаться с Сес Амбре до встречи с Бродягами, — сияя улыбкой, сказала Ден Соа.
* * *
Бродяги остановились на расстоянии в пятьсот километров от корабля, и три их посла прибыли на борт. По радио выяснилось, что эти трое способны выдержать гравитацию» в 0,1 g без особого дискомфорта, и потому в пузыре солярия чуть позади и вверху центрального поста установили защитное поле на этот уровень, закрепили стулья и включили освещение. Люди Спирали полагали, что разговор проще будет вести, имея хоть какое-то понятие о верхе и низе. Ден Соа добавила, что зелень солярия может создать Бродягам ощущение уюта. Корабль с легкостью вырастил шлюз вверху огромного пузыря, и ожидающие смотрели, как к нему приближаются двое крылатых Бродяг и небольшая фигурка в прозрачном скафандре Бродяги, привыкшие к атмосфере кольца, дышали стопроцентным кислородом, так что корабль позаботился о создании для них нужных условий. Когда вошли Бродяги, Дем Лиа ощутила небольшую эйфорию. «Интересно, — подумала она, — только ли это от чистого кислорода или еще от новизны обстоятельств?»
Бродяги, усевшись в приготовленные для них кресла, принялись изучать пятерых собеседников из Спектральной Спирали: Дем Лиа, Ден Соа, Патека Георга, психолога Петера Делена Дем Тае и Сес Амбре — приятную женщину с коротко стриженными седыми волосами, аккуратно сложившую руки на коленях. Бывшая учительница настояла на полной форме одежды — синее платье и синий капюшон, — и только несколько нашитых в стратегических точках пластин не давали ее одежде развеваться и надуваться при каждом движении.
В делегацию Бродяг вошли три абсолютно разных существа. Слева, в тщательно сконструированном кресле для низкой гравитации, сидел полностью адаптированный к космосу Бродяга. Он представился как Далекий Ездок. Ездок был почти четырех метров ростом, и рядом с ним Дем Лиа казалась себе еще ниже, чем на самом деле. Люди Спектральной Спирали вообще были приземисты и коренасты — не столько из-за долгой жизни на планете с высокой гравитацией, сколько из-за генетического наследия основателей. Адаптированный к космосу Бродяга во многом выглядел совсем не по-человечески. Руки и ноги у него были как палки, приделанные к тонкому туловищу. Пальцы — сантиметров двадцать, не меньше. Каждый квадратный сантиметр тела — казавшегося почти голым под облегающим слоем потоохладителя — был покрыт генерируемым им самим силовым полем (вполне обычной, лишь усовершенствованной аурой человеческого тела), и это поле позволяло Бродяге жить в глубоком вакууме. Гребни над плечами служили антеннами для раскрытия крыльев силового поля, ловивших солнечный ветер и магнитные поля. Лицо Далекого Ездока по сравнению с обычными людьми было генетически сильно изменено: глаза — черные щели за выпуклыми моргающими мембранами, вместо ушей — сетки по бокам головы, наводившие на мысль о радиоприемнике, рот — узкая безгубая щель. Для общения использовались радиожелезы в шее.
Делегация Спектральной Спирали знала об этой особенности Бродяг, и у каждого был небольшой наушник, который мог не только принимать передачу Далекого Ездока, но и давал возможность связаться с ИскИнами на кодированной частоте.
Второй Бродяга был лишь частично приспособлен к космосу, зато куда более похож на человека. Три метра ростом, тонкий, чем-то напоминающий паука. Постоянного силового поля эктоплазменной кожи у него не было; безволосый, узколицый, узкоглазый, с резкими чертами лица. Он говорил на английском времен ранней Сети с едва заметным акцентом. Представился он как глава ветви и историк Кил Редт, и было очевидно, что он и будет на переговорах главным представителем, если не руководителем всей группы.
Слева от главы ветви сидела женщина-тамплиер — молодая, лысая, с тонкими, слегка азиатскими чертами лица и с обычными для тамплиеров большими глазами. Одета она была в традиционный балахон с капюшоном. Она представилась как Истинный Глас Древа Рита Кастин, и голос у нее был тихий и необычно музыкальный.
Когда люди Спирали представились, Дем Лиа заметила, что Бродяги и женщина-тамплиер глядят на Сес Амбре, а та дружелюбно улыбается в ответ.
— Как вы добрались так далеко в таком корабле? — спросил глава ветви Кил Редт.
Дем Лиа рассказала о решении основать новую колонию Спектральной Спирали Амуа подальше от космоса энеан и людей. Далее последовали неизбежные вопросы об истоках культуры Спектральной Спирали Амуа, и Дем Лиа рассказала эту историю как можно более сжато. — Если я вас правильно поняла, — сказала, выслушав ее, Истинный Глас Древа Рита Кастин, — вся ваша социальная структура построена на опере — музыкально-зрелищном представлении, которое было исполнено единственный раз более шестисот стандартных лет тому назад.
— Не вся социальная структура, — ответила Ден Соа. — Культуры, конечно, растут и приспосабливаются к меняющимся условиям и императивам. Но философский фундамент и структура нашей культуры содержались в этом единственном представлении философа-композитора-поэта-голо-графа Хэлпула Амуа.
— И что думал этот…, поэт об обществе, построенном на его единственной мультимедийной опере? — поинтересовался глава ветви.
Вопрос был щекотливый, но Дем Лиа ответила с улыбкой:
— Мы никогда этого не узнаем. Гражданин Амуа случайно погиб в горах где-то через месяц после исполнения его симфонической поэмы. Первые общины Спектральной Спирали появились только спустя двадцать стандартных лет.
— Вы обожествляете этого человека? — спросил глава ветви Кил Редт.
— Нет, — ответили Сес Амбре. — Никто из народа Спектральной Спирали не обожествляет Хэлпула Амуа, хотя мы взяли его имя для названия нашего общества. Но мы почитаем те ценности и цели человеческого потенциала, которые он вложил в свое искусство в том единственном представлении, и пытаемся жить в соответствии с ними.
Кил Редт кивнул — кажется, ответ его удовлетворил. Тихий голос Сайге шепнул в ухо Дем Лиа:
— Они передают изображение и звук по направленному лучу, который принимают Бродяги снаружи и транслируют на кольцевое дерево.
Дем Лиа обвела взглядом всех троих и остановилась на Далеком Ездоке, полностью адаптированном к космосу. Его человеческие глаза были почти невидимы за выпуклыми поляризованными мигающими мембранами, делающими его похожим на насекомое. Сайге проследил за ее взглядом и шепнул:
— Да, это он передает.
Дем Лиа поднесла пальцы к губам, чтобы не был заметен произносимый горлом звук.
— Вы расшифровали их луч?
— Да, — ответил Сайге. — Очень примитивно. Они передают только образы и звуки этой встречи. Ни подканалов данных, ни ответа от ближайших Бродяг или орбитального дерева.
Дем Лиа еле заметно кивнула. Поскольку «Спираль» тоже полностью записывала встречу, фиксируя инфракрасное излучение, магнитно-резонансный анализ мозговой деятельности и многие другие параметры, она не могла винить Бродяг за ведение записи. Внезапно она покраснела. Инфракрасный диапазон. Физическое сканирование в узкой полосе. Удаленный нейро-ядерно-магнитный резонанс. Конечно же, адаптированный к космосу Бродяга видел все эти зонды — этот человек, если он все еще человек, жил в среде, где виден солнечный ветер, ощущаются магнитные силовые линии и даже заметны отдельные ионы, пролетающие рядом с ним и сквозь него в глубоком вакууме. Она неслышно приказала:
— Отключить все датчики, кроме голокамер.
Молчание Сайге означало согласие.
Дем Лиа увидела, как Далекий Ездок вдруг моргнул, будто отключили бьющий в глаза слепящий свет, потом посмотрел на Дем Лиа и едва заметно кивнул. Непривычная щель его рта, запечатанная от мира слоем силового поля и чистой эктоплазмы кожи, дернулась — это могла быть улыбка.
Тем временем молодая женщина-тамплиер, Рита Кастин, говорила:
— …так что, как видите, мы застали лишь самое начало Великой Сети и покинули человеческую вселенную примерно тогда, когда образовывалась Гегемония. Мы ушли из системы Центавра несколько позже завершения первой Хиджры. Периодически наши корабли-сеятели выходили в реальное пространство — на выходе к нам примыкали тамплиеры с Рощи Богов, так что до нас доходили слухи, а иногда и информация из первых рук о том, во что превращается межзвездное сообщество Великой Сети. Мы продолжали свой путь вовне.
— Зачем так далеко? — спросил Патек Георг. Ответил глава ветви:
— Очень просто: корабль засбоил. Он столетиями держал нас в глубоком криогенном сне, и его программы игнорировали системы, где можно было бы построить орбитальное дерево. Наконец, когда корабль понял свою ошибку — у нас уже умерли тысяча двести человек в колыбелях сна, не рассчитанных на такое долгое путешествие, — он забеспокоился и стал выходить из пространства Хоукинга возле каждой системы, но там оказывался обычный ассортимент звезд, либо не способных поддерживать наши древесные кольца, либо смертельных для Бродяг. Из записей корабля мы знаем, что он чуть не высадил нас возле системы черной дыры, собирающейся проглотить своего красного гиганта.
— Диск аккреции наверняка был интересным зрелищем, — чуть улыбнулась Ден Соа.
Глава ветви тоже улыбнулся тонкими губами.
— Да, пару недель или месяцев мы могли бы полюбоваться, пока бы не погибли. Но корабль, если можно так сказать, собравшись с мыслями, сделал еще один скачок и нашел эту двойную систему с гелиосферой белой звезды, пригодной для нашего обитания, и уже созданным древесным кольцом.
— Как давно это случилось? — спросила Дем Лиа.
— Примерно тысячу двести тридцать лет назад, — передал по радио Далекий Ездок.
Женщина-тамплиер наклонилась вперед и стала рассказывать дальше:
— Первое, что мы обнаружили, — что это орбитальное дерево не имеет никакого отношения к биогенетике, которую мы разработали на Роще Богов для строительства наших прекрасных и таинственных звездных деревьев. ДНК по строению и функциям была настолько чужой, что попытка вмешаться в ее работу могла бы погубить все кольцо.
— Вы могли начать создавать свой лес внутри и вокруг этого, — сказала Сес Амбре. — Или попытаться построить звездную сферу, как другие Бродяги.
Рита Кастин, Истинный Глас Древа, кивнула:
— Мы только начали это делать — и развивать центры роста протогенов за несколько сотен километров от того места, где поставили корабль-сеятель в листьях и ветвях чужого дерева, как вдруг… — Она запнулась, будто подыскивая слова.
— Появился Разрушитель, — передал Далекий Ездок.
— Разрушитель — это тот корабль, который мы видели на подходе к вашему кольцу? — уточнил Патек Георг.
— Такой же, — передал Далекий Ездок. Будто выплюнул эти слова.
— Такое же порождение ада, — добавил глава ветви.
— Он уничтожил ваш корабль-сеятель, — сказала Дем Лиа. — Вот почему у Бродяг нет металла, и вот почему вокруг чужого леса не выращено дерево тамплиеров.
Далекий Ездок покачал головой:
— Он сожрал корабль-сеятель и еще двадцать восемь тысяч километров самого лесного кольца — каждый лист, плод, хранилище кислорода, водяное щупальце, даже центры роста протогенов.
— Тогда у нас было куда меньше адаптированных к космосу Бродяг, чем сейчас, — сказала Рита Кастин. — Адаптированные пытались спасти остальных, но много тысяч погибло при первом приходе Разрушителя… Пожирателя… Машины. У нас для него много имен.
— Корабль ада, — сказал глава ветви, и Дем Лиа поняла, что он говорит буквально, будто из ненависти к этой машине выросла религия.
— Как часто он появляется? — спросила Ден Соа.
— Каждые пятьдесят семь лет, — ответила женщина-тамплиер. — Минута в минуту.
— Из системы красного гиганта? — уточнила Ден Соа.
— Да, — передал Далекий Ездок. — Из звезды ада.
— Если вам известна его траектория, — сказала Дем Лиа, — разве вы не можете вычислить, какие секции вашего лесного кольца он собирается…, опустошить, поглотить? Разве нельзя их не колонизировать или хотя бы эвакуировать? В конце концов, большая часть дерева должна быть не населенной…, его площадь в полмиллиона раз больше Старой Земли или Гипериона.
Кил Редт снова продемонстрировал улыбку.
— Очень скоро — где-то через семь-восемь стандартных суток — Разрушитель при всей своей массе не только завершит торможение, но и выполнит сложные маневры, которые приведут его к населенной части кольца. Всегда к населенной части. Сто четыре года назад траектория привела его к скоплению резервуаров кислорода, где построили себе дом более двадцати миллионов не до конца адаптированных к космосу Бродяг. Там у них были транспортные трубы, мосты, башни, платформы городов и искусственно выращенные модули жизнеобеспечения, которые строились уже более шестисот стандартных лет.
— Все уничтожено, — скорбно произнесла Рита Кастин. — Сожрано. Сжато.
— Много людей погибло? — спокойно спросила Дем Лиа. Далекий Ездок покачал головой и передал:
— Миллионы полностью адаптированных вывезли дышащих кислородом. Погибло меньше сотни.
— Вы пытались установить связь с этой…, машиной? — поинтересовался Петер Делен Дем Тае.
— Много сотен лет, — слегка дрожащим голосом ответила Рита Кастин. — По радио, по направленному пучку, по немногим сохранившимся голопередатчикам; народ Далекого Ездока даже использовал поля своих крыльев — тысячи полей — для передачи сообщений простым математическим кодом.
Пятеро людей Спирали ждали продолжения.
— Ничего, — безжизненно произнес глава ветви. — Он прилетает, выбирает обитаемую секцию кольца и пожирает. Ответа не было никогда, — Мы считаем, что он полностью автоматизированный и очень древний, — сказала Рита Кастин. — Может быть, ему миллион лет. Он все еще работает по программе, по которой было построено кольцо. Он убирает огромные секции кольца, стволы, ветви, тубулы с миллионами галлонов выработанной деревом «воды…, потом возвращается в систему красной звезды и после перерыва появляется снова.
— Мы раньше думали, что в системе красного гиганта осталась планета, — передал Далекий Ездок. — Планета, которая от нас все время скрыта на дальней стороне этого солнца зла. Которая вырастила орбитальное дерево как источник питания для себя еще до того, как звезда стала красным гигантом, и продолжает собирать урожай, невзирая на все ужасы, которые мы при этом испытываем. Теперь мы так не думаем. Такой планеты нет. Теперь мы считаем, что Разрушитель действует сам по себе, по древней слепой программе, убирая секции кольца и уничтожая наши поселения без всякой причины. Кто бы там ни жил в этой системе красного гиганта, она давным-давно покинута.
Дем Лиа пожалела, что здесь нет Кем Лои, астронома. Но она знала, что Кем Лои наблюдает с центрального поста.
— На подлете к двойной системе мы ни одной планеты не видели, — сказала она. — Кажется очень маловероятным, чтобы какой-нибудь пригодный для жизни мир пережил превращение звезды класса G2 в красный гигант.
— И тем не менее Разрушитель каждый раз проходит очень близко от этой страшной звезды, — возразил глава ветви. — Может быть, там осталась какая-то искусственная среда — космическая база, полый астероид. Среда, обитателям которой это древесное кольцо нужно для выживания. Но это не оправдывает бойни.
— Если они могли построить такую машину, то могли просто покинуть систему, когда состояние звезды стало угрожающим, — задумчиво протянул Патек Георг и посмотрел на Далекого Ездока. — Вы пытались уничтожить машину?
На лице Далекого Странника мелькнула улыбка — широкая, как у ящерицы.
— Много раз. Десятки тысяч Бродяг погибли. У машины энергетическая защита, испепеляющая нас примерно за сто тысяч километров.
— Может быть, обыкновенная метеоритная защита, — предположила Дем Лиа.
Улыбка Далекого Ездока сделалась пугающе широкой.
— Даже если так, она оказалась очень эффективным орудием убийства. В последней атаке погиб мой отец.
— Вы пытались долететь до системы красного гиганта? — спросил Петер Делен.
— У нас не осталось звездолетов, — ответила женщина-темплиер.
— А на крыльях? — предложил Петер, явно прикидывая в уме, сколько времени мог бы занять такой полет. Годы — пусть даже десятки лет при скоростях солнечных парусов, — но вполне в пределах жизни Бродяги.
Узкая с длинными пальцами ладонь Далекого Ездока резко разрубила воздух.
— Слишком велики возмущения гелиосферы. И все равно мы пытались сотни раз — в эти экспедиции уходили десятки, а не вернулся никто. Шесть ваших стандартных лет назад в такой экспедиции погиб мой брат.
— А сам Далекий Ездок был тяжело ранен, — тихо закончила Рита Кастин. — Полетели шестьдесят восемь лучших космических ездоков — вернулись двое. Все, что осталось у нас от медицинской науки, понадобилось для спасения жизни Далекого Ездока, и еще два года он провел в питающем модуле.
Дем Лиа прокашлялась.
— Какой помощи вы хотите от нас? Двое Бродяг и женщина-тамплиер подались вперед. От имени всех заговорил глава ветви Кил Редт:
— Если, как вы считаете, как убедились мы, в системе красного гиганта не осталось обитаемого мира — убить Разрушителя. Аннигилировать этот жатвенный комбайн. Спасти нас от бессмысленной, извечной и бесконечной бойни. Мы вознаградим вас так щедро, как только сможем: провизия, плоды и столько воды, сколько нужно вам на ваш путь, передовая генетическая технология, наше знание ближайших систем — все, что вы захотите.
Люди Спектральной Спирали переглянулись. Наконец Дем Лиа сказала:
— Если вам здесь удобно, мы попросим извинить нас и пойдем немного посовещаемся. С вами с удовольствием останется Сес Амбре и будет говорить о том, о чем вы захотите.
Глава ветви развел руками:
— Нам вполне удобно. И мы будем более чем польщены возможностью побеседовать с достопочтенной мадам Амбре — той, которая видела мужа Энеи.
Дем Лиа заметила, что молодая женщина-тамплиер, Рита Кастин, весьма заинтересовалась этой перспективой.
— А потом вы сообщите нам ваше решение? — передал Далекий Ездок.
От его воскового тела, огромных наглазных щитков и общего впечатления чуждости у Дем Лиа пробегал холодок по коже. Это создание питалось светом, вбирая достаточно энергии, чтобы разворачивать электромагнитные солнечные крылья длиной в сотни километров, утилизировать выдыхаемый воздух и отходы и жить в среде абсолютного холода, убийственной жары, смертельной радиации и глубокого вакуума. Далеко же ушло человечество от первых африканских гоминидов на Старой Земле.
«А если мы скажем «нет», — подумала Дем Лиа, — триста с чем-то тысяч разгневанных Бродяг, адаптированных к космосу — вот таких, как он, — могут обрушиться на наш корабль, как разъяренные гавайцы, извергающие свой гнев на капитана Кука за то, что он поймал их за выдергиванием гвоздей из корпуса корабля. Добрый капитан не только погиб страшной смертью, но был освежеван, выпотрошен, обжарен и сварен по кусочкам». Но Дем Лиа уже понимала, что этого не будет. Бродяги не нападут на «Спираль». Вся ее интуиция в этом убеждала. «А если нападут, — подумала она, — наше оружие их испарит за две целых и шесть десятых секунды».
При этой мысли ей стало слегка нехорошо, и чувство вины преследовало ее, когда она прощалась с делегацией и направлялась к лифту на капитанский мостик.
* * *
— Ты видела его? — спросила с придыханием Истинный Глас Древа Рита Кастин. — Мужа Энеи? Сес Амбре улыбнулась:
— Мне было тогда четырнадцать стандартных лет. Давно это было. Он странствовал с планеты на планету и остановился на несколько дней у триады моих вторых родителей, потому что заболел — камень в почке, — а потом имперские солдаты держали его под арестом, пока не смогли прислать кого-то его допросить. Мои родители помогли ему сбежать. Я видела его всего несколько дней и много лет назад. — Она вновь улыбнулась. — И если помните, он тогда не был мужем Энеи. Он еще не принял ее ДНК, даже не понял еще, что означают ее кровь и учение для человеческого вида.
— Но ты его видела, — настаивал глава ветви Кил Редт.
— Да. Он был в бреду и страдал от боли, прикованный к постели моих родителей наручниками имперских солдат. Рита Кастин подалась ближе.
— Была у него какая-нибудь…, аура?
— О да, — усмехнулась Сес Амбре. — Пока мои родители не вымыли его губкой. Он путешествовал в суровых условиях много дней.
Бродяги и женщина-тамплиер разочарованно откинулись назад.
Сес Амбре наклонилась вперед и тронула Риту Кастин за колено.
— Прошу прощения за неудачную остроту — я знаю, какую важную роль сыграл Рауль Эндимион в нашей общей истории, но это было очень давно, все сильно перепуталось, а я в те времена на Витус-Грей-Балиане Б была упрямым подростком, девчонкой, которая только и думала, как сбежать из своей общины и принять крестоформ в каком-нибудь крупном имперском городе.
Теперь все трое заметно подались назад. На двух лицах можно было прочесть явное ошеломление.
— Ты хотела принять в себя этого…, этого паразита? В Момент Сопричастности Энеи каждый человек в любом уголке Вселенной увидел — узнал — ощутил полный гештальт той реальности, которая кроется за «крестоформом бессмертия» — паразитической массы узлов ИскИнов, создающей Техно-Центр в реальном космосе, использующей нейроны и синапсы каждого тела-хозяина как хочет, часто убивая хозяина-человека и используя готовую нейронную сеть в минуты ее наивысшего творческого подъема — в последние секунды нейронного расцвета перед смертью. Потом Церковь использовала технологию Техно-Центра для воскрешения человеческого тела с помощью крестоформа, который становился все сильнее и разветвленное с каждой смертью и воскрешением.
Сес Амбре пожала плечами:
— В то время он обещал бессмертие. И шанс выбраться из пыльной деревушки и попасть в реальный мир — в мир Священной Империи.
Трое представителей Бродяг молча смотрели на нее. Сес Амбре подняла руки к вороту балахона и раздвинула его, показав шрам, оставшийся после того, как энеане удалили крестоформ.
— Меня вывезли на одну из последних планет Империи и вживили мне крестоформ на девять лет, — сказала она так тихо, что три посланца с трудом расслышали ее. — И почти все это время было после Момента Сопричастности Энеи, после того, как всем открылись планы Техно-Центра поработить нас с помощью этой мерзости.
Истинный Глас Древа Рита Кастин взяла Сес Амбре за руку.
— Но ты отказалась стать энеанкой после освобождения. Ты примкнула к тому, что осталось от твоей прежней культуры.
Сес Амбре улыбнулась. В глазах у нее стояли слезы, и глаза эти теперь казались куда старше.
— Да. Я чувствовала, что я в долгу перед своим народом — за то, что предала их в критическую минуту. Кто-то должен был нести дальше культуру Спектральной Спирали. Очень многие погибли в войнах. Еще больше людей мы потеряли, когда энеане открыли нам путь единения с ними. Трудно отказаться от возможности стать подобным богу.
Далекий Ездок хмыкнул, и это звучало как сильные помехи.
— Это наш самый большой страх после Разрушителя. На орбитальном дереве не осталось в живых никого, кто испытал Момент Сопричастности, но его подробности — радостное эмпатическое озарение и сила Связующей Бездны, знание Энеи о том, что ее последователи смогут странствовать — свободно странствовать! — повсюду в космосе… Да, Церковь Энеи разрасталась, пока четверть населения не отвергла наследие Бродяг или тамплиеров и не сделалась энеанами. Сес Амбре снова улыбнулась и потерла щеку.
— Очевидно, что энеане эту систему не посещали. И вы, конечно, помните: Энея настаивала, что нет никакой Церкви Энеи, нет ни почитания, ни блаженства, ни обожания. Это был главный пункт ее мыслей в Момент Сопричастности.
— Мы знаем, — ответила Рита Кастин. — Но культуры, лишенные выбора и знания, часто обращаются к религии. И вероятность того, что у вас на борту есть кто-то из энеан, была одной из причин, по которой мы с такой радостью и ожиданием приветствовали ваш корабль.
— Энеане на кораблях не летают, — тихо заметила Сес Амбре.
Три ее собеседника кивнули.
— Когда — и если настанет день, — передал Далекий Ездок, — решать будет каждый Бродяга и тамплиер согласно своей совести. Что до меня, я всегда буду летать на великих волнах солнечного ветра.
Тут вернулись Дем Лиа и три человека, удалившиеся с ней.
— Мы решили помочь вам, — сказала она. — Но надо спешить.
* * *
Ни за что на свете не стала бы Дем Лиа или кто-нибудь из восьми других людей и пяти ИскИнов рисковать «Спиралью» в непосредственном сражении с Разрушителем, Жнецом или как там еще называли Бродяги свою Немезиду. Не случайно три тысячи модулей жизнеобеспечения, где спали в криогенной фуге 684 300 пионеров Спектральной Спирали, имели форму яйца. Эта культура в буквальном смысле сложила все яйца в одну корзину и уж никак не собиралась бросать эту корзину в бой. И без того Басе и еще несколько ИскИнов нервничали из-за близости надвигающегося корабля. Космическая битва могла происходить на расстоянии до двадцати восьми АЕ — хотя лучам обычных лазеров или пучкам заряженных частиц, чтобы преодолеть этот путь, потребовалось бы сто девяносто шесть минут, у кораблей Гегемонии, Империи и Бродяг были гиперкинетические ракеты, которые уходили в пространство Хоукинга и выныривали оттуда, уничтожая корабли противника раньше, чем радар мог бы сообщить об их приближении. Поскольку Жнец полз по своему маршруту на субсветовой скорости, у него вряд ли могло быть оружие класса С-плюс, но «вряд ли» — как раз то самое определение, которое рушило планы и судьбы полководцев с незапамятных времен.
По просьбе инженеров Спектральной Спирали энеане перестроили корабль до полной модулярности. Когда «Спираль» достигнет мира своей утопии, вращающегося около идеальной звезды, секции освободятся, превращаясь в зонды и самолеты, посадочные модули и батисферы, космические станции и обитаемые базы. Каждый из трех тысяч модулей жизнеобеспечения был способен к самостоятельной посадке и основанию колонии, хотя в принципе посадка планировалась группами после тщательного и детального изучения новой планеты. Когда «Спираль» выпустит все свои модули, зонды, шаттлы, капитанский мостик и главный двигатель, на орбите останутся разве что двигатели Хоукинга с поддерживающими программами да роботы, чтобы содержать их в готовности сотни, если не тысячи лет.
— Мы возьмем разведывательный зонд для исследования этого Разрушителя, — сообщила Дем Лиа. Это был один из малых модулей, больше рассчитанный на чистый вакуум, чем на вход в атмосферу, хотя и способный к некоторому изменению формы. Зато по сравнению с мирными субкомпонентами «Спирали» зонд был вооружен на славу.
— Вы позволите нам лететь с вами? — спросил глава ветви Кил Редт. — Из нашего народа нет никого, кто приблизился бы меньше чем на тысячу километров к этой машине и остался в живых.
— С радостью, — ответила Дем Лиа. — Зонд вмещает тридцать — сорок человек, а из нас на нем летят всего трое. Мы будем поддерживать искусственную гравитацию на уровне 0,1 и соответственно переоборудуем сиденья.
* * *
Больше всего зонд походил на древний военный корабль с реактивным двигателем… Он летел в направлении Пожирателя С постоянным ускорением в 250g, внутреннее поле компенсировало чудовищные перегрузки, внешние защитные поля выставлены на максимум. Вела корабль Дем Лиа. Ден Соа пыталась связаться с гигантским кораблем всеми доступными средствами, посылая сообщения о мирных намерениях по всем каналам — от примитивных радиочастот до тахионных пучков. Ответа не было. Патек Георг Дем Мио погрузился в виртуальные связи защиты/контратаки, пассажиры зонда смотрели за его действиями. Сайге решил сопровождать людей, и его массивная голограмма сидела, скрестив ноги, на столе возле главного иллюминатора. Дем Лиа проложила курс так, чтобы траектория не была нацелена на чудовищную машину — на случай, если у нее простая противометеоритная защита. На этом курсе они должны были разойтись с кораблем на десятки тысяч километров над плоскостью эклиптики.
— Радар корабля нас сопровождает, — сообщил Патек Георг, когда зонд проходил в шестистах тысячах километрах от Пожирателя, плавно тормозя. — Радар пассивный. Орудийного сопровождения не замечено. Вряд ли он зондирует нас чем-нибудь, кроме простейшего радара. Ему неизвестно, есть ли на нашем зонде какие-либо формы жизни.
Дем Лиа кивнула.
— Сайге, — спокойно сказала она, — на двухстах тысячах километрах разверни нас, будь добр, чтобы мы пошли ему наперерез.
Коренастый монах кивнул.
Несколько позже вспомогательные и главные двигатели зонда изменили настройку, звезды в иллюминаторах ушли вбок, и главное окно заполнило изображение огромной машины — увеличенное так, словно зонд был всего в пятистах километрах от корабля. Теперь все смотрели на невероятно нескладное сооружение, построенное только для полетов в вакууме, снабженное металлическими зубами и вращающимися лопастями, встроенными в похожие на челюсти держатели. Все остальное напоминало обломки древней космической базы, надстраиваемой тысячелетие за тысячелетием и покрытой бородавками, наростами, коростой, вздутыми мешками, опухолями и жилами.
— Дистанция сто восемьдесят три тысячи километров, сокращается, — сказал Патек Георг.
— Смотрите, до чего же он почернелый! — шепнула Ден Соа.
— И истрепанный, — передал Далекий Ездок. — Из нашего народа никто его так близко не видел. Смотрите, какие кратеры на отложениях углерода. Как древняя черная луна, которую миллион лет долбили метеориты.
— Ничего, ее починили, — мрачно заметил глава ветви. — Она действует.
— Дистанция сто двадцать тысяч километров, сокращается, — доложил Патек Георг. — К радару наблюдения присоединился радар захвата.
— Оборонительные меры? — спокойно спросила Дем Лиа. Ответил Сайге:
— Установлено защитное поле класса двенадцать. Рассеиватели активизированы. Плазменные экраны на максимуме. Гиперкинетические ракеты готовы. Ракеты снаряжены и под боевым управлением.
Это означало только, что Патек Георг и Дем Лиа должны лишь дать команду к запуску, или — если все пассажиры-люди погибнут — это сделает Сайге.
— Дистанция сто пять тысяч километров, сокращается, — доложил Патек Георг. — Разность относительных скоростей — сто метров в секунду. Нас ведут дополнительные радары захвата.
— Других радиопередач нет? — напряженно спросила Дем Лиа.
— Не обнаружено, — отозвалась Ден Соа от своей виртуальной консоли. — Эта машина кажется глухонемой, если не считать примитивных радаров. Признаков жизни на борту никаких. Сигналы внутренней связи показывают наличие чего-то вроде интеллекта…, но не настоящего ИскИна. Больше похоже на компьютеры. Много сетей физических компьютеров.
— Физических компьютеров? — ошеломленно переспросила Дем Лиа. — То есть кремний, чипы…, вся эта технология каменного века?
— Или чуть лучше, — подтвердила Ден Соа. — Мы считываем сигналы магнитно-ячеечной памяти, но ничего свыше этого.
— Сто тысяч километров… — начал Патек Георг, и сам прервал свой доклад:
— Машина открыла по нам огонь.
Не прошло и секунды, как вспыхнули внешние защитные поля.
— С десяток обычных ракет и несколько примитивных лазерных пушек, — сообщил Патек Георг, глядя в свое виртуальное окно. — Очень слабых. Поле класса один вполне бы справилось.
Снова мигнуло защитное поле.
— Та же комбинация, — доложил Патек Георг. — Энергия выставлена чуть пониже.
— Не будем слишком самоуверенными, — предостерегла Дем Лиа, — но выясним все его средства защиты. Ден Соа посмотрела на нее в шоке:
— Вы собираетесь атаковать?
— Мы посмотрим, можем ли мы атаковать, — пояснила Дем Лиа. — Патек, Сайге, пожалуйста, наведите одну из наших лазерных пушек на верхний конец вон того протуберанца. — Она показала на почерневший изрытый выступ в форме плавника, который мог быть радиатором высотой в два километра. — И одну гиперкинетическую ракету.
— Командир! — возмутилась Ден Соа. Дем Лиа повернулась к молодой женщине и приложила палец к губам.
— Ракету со снятой плазменной боеголовкой навести на передний нижний край этой машины, вон туда, где сочленение этого выроста.
Патек Георг повторил команду ИскИну. Появились и были подтверждены фактические координаты цели.
Лазер ударил почти мгновенно, пробив семидесятиметровую дыру в плавнике радиатора.
— Корабль выставил защитное поле класса ноль целых шесть десятых, — доложил Патек Георг. — Кажется, это для него предел.
Гиперкинетическая ракета прошла сквозь защитное поле, как нож сквозь масло, и ударила мгновением позже, пробив шестидесятиметровый слой почерневшего металла и вырвавшись сквозь пожирающее отверстие жатвенной машины. Все смотрели на безмолвное столкновение, почти гипнотизирующее облако испарившегося металла и фонтан осколков из выходной раны. Огромная машина не среагировала.
— Оставь мы на ней боеголовку да нацель прямо в корпус, — сказала себе под нос Дем Лиа, — сейчас была бы тысяча километров взрыва.
Глава ветви Кил Редт резко подался вперед. Несмотря на одну десятую нормальной гравитации, все кресла были снабжены системами привязки. На его кресле она сейчас включилась.
— Прошу вас, — заговорил Бродяга, сражаясь с лямками и воздушными мешками. — Уничтожьте его! Остановите!
Дем Лиа повернулась к Бродягам и женщине-тамплиеру.
— Рано, — сказала она. — Сначала мы должны вернуться на «Спираль».
— Продолжаем терять драгоценное время, — бесстрастно передал Далекий Ездок.
— Да, — согласилась Дем Лиа. — Но у нас есть еще шесть стандартных суток до того, как он начнет свою жатву.
И зонд, набирая скорость, улетел прочь от почерневшего, изрытого кратерами напуганного чудовища.
* * *
— Значит, вы не собираетесь его уничтожать? — с напором спросил глава ветви, когда зонд устремился к «Спирали».
— Не сейчас, — ответила Дем Лиа. — Может быть, он все еще необходим той расе, которая его построила. Молодая Рита Кастин готова была расплакаться.
— Но ведь ваши приборы, которые куда лучше наших телескопов, сообщили вам, что планет в системе красного гиганта нет!
Дам Лиа кивнула:
— Однако вы сами упоминали о возможных обитаемых базах, искусственных планетоидах, пустых астероидах…, а наше исследование не было ни тщательным, ни полным. Корабль входил в вашу систему, думая только о своей максимальной безопасности, а не о тщательном наблюдении за системой красного гиганта.
— И ради такой ничтожной вероятности, — ровным и напряженным голосом произнес Кил Редт, — вы рискуете столькими жизнями нашего народа?
В схеме субзвуковой связи Дем Лиа раздался голос Сайге:
— ИскИны проанализировали сценарий концентрированного удара по «Спирали» нескольких миллионов крылатых Бродяг.
Дем Лиа ждала продолжения, по-прежнему глядя на главу ветви.
— Корабль может с ними справиться, — закончил доклад ИскИн, — но есть серьезная вероятность значительных повреждений.
Кил Редту Дем Лиа сказала:
— Мы полетим на «Спирали» в систему красного гиганта. И приглашаем лететь с нами вас троих.
— Сколько времени это займет? — спросил Далекий Ездок. Дем Лиа вопросительно глянула на Сайге.
— Девять дней на максимуме термоядерной тяги, — ответил ИскИн. — И это будет маневр на предельной мощности в перигелии, и не будет времени для исследования полей астероидов и обломков на наличие жизни.
Бродяги покачали головами. Рита Кастин надвинула капюшон на глаза.
— Есть другая возможность, — сказала Дем Лиа. И показала Сайге на «Спираль», заполнившую главный экран. Тысячи крылатых Бродяг раздались, пропуская зонд сквозь защитное поле корабля.
* * *
Они собрались в солярии, чтобы принять решение. Все десять человек (жена и муж Ден Соа были приглашены принять участие в голосовании, но решили остаться внизу, в каютах экипажа), все пять ИскИнов и трое представителей народа орбитального дерева. Далекий Ездок продолжал узким пучком передавать изображение и звук тремстам тысячам ближайших Бродяг и миллиардам ждущих своей судьбы на далеком кольце.
— Ситуация такова, — сказала Дем Лиа в густо повисшем молчании. — Вы знаете, что наш корабль, «Спираль», оснащен двигателем Хоукинга, модифицированным энеанами. Наш сверхсветовой полет повреждает ткань Связующей Бездны, но в тысячу раз Меньше, чем это делали старые корабли Гегемонии или Империи. Энеане позволили нам пуститься в это странствие. — Невысокая женщина с зеленой лентой, обвивающей тюрбан, замолчала и посмотрела на Бродяг и женщину-тамплиера. — Мы могли бы добраться до системы красного гиганта…
— Четыре часа на достижение релятивистских скоростей, потом прыжок, — пояснила Рес Сандре. — Примерно шесть часов на торможение возле звезды. Двое суток на поиски жизни. Те же десять часов на обратный путь.
— А это — даже в случае непредвиденных задержек — позволит «Спирали» вернуться раньше, чем Разрушитель начнет свою жатву. Если в системе красного гиганта жизни нет, мы с помощью зонда уничтожим этого жнеца-робота.
— Но?… — с сарказмом и слишком уж человеческой улыбкой спросил глава ветви Кид Редт. И лицо у него было угрюмым.
— Но слишком опасно использовать двигатели Хоукинга возле такой близкой двойной звезды, — ровным голосом ответила Дем Лиа. — Такие короткие прыжки и без того невероятно трудны, а тут еще и газ с осколками, которые извергает красный гигант…
— Вы правы. Это было бы безумие, — передал Далекий Ездок по своему радио. — Мой род передает инженерные знания из поколения в поколение. Ни один командир сеятеля Бродяг не стал бы прыгать в эту двойную систему.
Дем Лиа кивнула:
— Басе, сколько времени займет исследование системы красного гиганта, если выжать максимум из наших плазменных двигателей?
— Трое с половиной суток на переход к системе, — ответил аскетического вида ИскИн. — Двое суток на поиски. Трое с половиной суток на возвращение.
— Никак быстрее не получится? — спросила Оам Раи (с желтой лентой). — Сократить зоны безопасности? Форсировать двигатели?
Ответил Сайге:
— Девятидневный рейс — это если полностью исключить зоны безопасности и гнать двигатели на ста двенадцати процентах мощности. — Он грустно покачал лысой головой. — Быстрее никак.
— Но двигатель Хоукинга… — начала Дем Лиа, и все затаили дыхание, кроме Далекого Ездока, который в обычном смысле вообще не дышал. Временный командир «Спектральной Спирали» повернулась к ИскИнам:
— Какова вероятность катастрофы при такой попытке?
Вперед шагнула Мурасаки.
— Оба перехода — в пространство Хоукинга и обратно — слишком близко к лепестку Роша двойной звезды. Вероятность полного разрушения «Спирали» мы оцениваем в два процента, повреждения отдельных систем корабля — в восемь процентов и конкретно повреждения сети модулей жизнеобеспечения — в шесть процентов.
Дем Лиа поглядела на Бродяг и женщину-тамплиера.
— Шесть процентов вероятности гибели сотен — тысяч — наших спящих родственников и друзей. Тех, кого мы клялись защищать до прибытия на место назначения. Двухпроцентный шанс гибели всей нашей культуры.
Далекий Ездок грустно кивнул.
— Я не знаю, какие чудеса сотворили ваши энеанские друзья с вашей техникой, — передал он, — но я сказал бы, что цифры сильно преуменьшены. В системах двойных звезд прыжки Хоукинга невозможны.
Тишина длилась. Наконец заговорила Дем Лиа:
— У нас такие варианты: уничтожить ради вас эту жатвенную машину, не зная, существует ли зависящая от нее жизнь — быть может, целый вид, как бы это ни было невероятно, — в системе красного гиганта. И этого мы не можем сделать. Наш моральный кодекс запрещает.
Очень тихо прозвучал голос Риты Кастин:
— Мы понимаем.
— Мы могли бы полететь на обычных двигателях и исследовать систему. Это значит, что вам придется в последний раз пережить ярость Разрушителя, но, если возле красного гиганта жизни нет, мы уничтожим его, когда вернемся на плазменном двигателе.
— Слабое утешение для тысяч или миллионов, которые лишатся своего дома в этот последний приход Разрушителя, — заметил глава ветви Кил Редт.
— Совсем не утешение, — согласилась Дем Лиа. Далекий Ездок поднялся во весь свой четырехметровый рост, всплывая в десятикратно уменьшенной силе тяжести.
— Это не ваша проблема, — начал он. — Вы не должны рисковать всем своим народом. Мы благодарны вам… Дем Лиа подняла руку, прерывая его посреди фразы:
— Сейчас мы будем голосовать. Голосовать о том, прыгать ли к красному гиганту на двигателе Хоукинга и вернуться раньше, чем Разрушитель начнет разрушение. Если там есть чужая раса, мы, возможно, сможем установить с ней связь за эти два дня. Может быть, они перепрограммируют свою машину. Мы все согласились с тем, что вероятность того, что она «съела» ваши корабли-сеятели на первом проходе случайно, исчезающе мала. Тот факт, что она ведет жатву только колонизированных вами зон — на лесном кольце площадью в полмиллиона Гиперионов, — заставляет предполагать, что ее программа такова, будто она устраняет аномальные выросты или вредителей.
Три дипломата кивнули.
— Когда мы голосуем, — сказала Дем Лиа, — решение должно быть единогласным. Один голос против означает, что мы не полетим на двигателе Хоукинга.
Сайге, сидевший в позе лотоса на столе, встал и подошел к остальным ИскИнам.
— Для справки, — сказал он. — ИскИны проголосовали пять — ноль против попыток маневров на двигателе Хоукинга.
— Принято к сведению, — кивнула Дем Лиа. — Но для справки: в подобных решениях голоса ИскИнов не учитываются. Только люди Спектральной Спирали Амуа или их представители могут решать судьбу народа. — Она повернулась к людям. — Использовать двигатели Хоукинга? Да или нет? За последствия нашего решения нам отвечать перед тысячами других. Сес Амбре?
— Да.
Женщина в голубой одежде была так же ясна и спокойна, как ее глаза.
— Джон Микайл Дем Алем?
— Да, — ответил специалист по жизнеобеспечению с черной лентой. — Да.
— Оам Раи?
Женщина с желтой лентой колебалась. Никто лучше ее не мог понять, каков будет риск для систем корабля. Два процента вероятности уничтожения казались ей авантюрой. Она поднесла пальцы к губам.
— Мы решаем судьбу двух цивилизаций, — сказала она, явно обращаясь к себе самой. — Трех, быть может.
— Оам Раи? — повторила Дем Лиа.
— Да.
— Кем Лои? — обратилась Дем Лиа к астроному.
— Да, — ответила молодая женщина, и голос ее дрогнул, «— Патек Георг Дем Мио?
Специалист по безопасности, мужчина с красной лентой, усмехнулся:
— Да. Как говорит старая поговорка, кто не рискует, тот не побеждает.
— Ты говоришь от имени 684 288 спящих, которые не все могут быть так бесшабашны, — раздраженно осадила его Дем Лиа.
Усмешка Патека Георга не исчезла.
— Мой голос — да.
— Доктор Самел Риа Кем Али?
Врач был настолько же озабочен, насколько Патек весел.
— Я должен сказать…, здесь столько неизвестного… — Он нервно огляделся. — Да. Мы должны узнать наверняка.
— Петер Делен Дем Тае? — обратилась Дем Лиа к психологу с синей лентой.
Старик грыз карандаш. Он поглядел на него, улыбнулся! и положил карандаш на стол.
— Да.
— Рес Сандре?
Вторая женщина с зеленой лентой смотрела вызывающе, почти что зло. Дем Лиа приготовилась услышать ее вето и лекцию в его обоснование.
— Да, — сказала Рес Сандре. — Я считаю это моральным императивом.
Осталась самая младшая.
— Ден Соа?
Девушка прокашлялась.
— Да. Надо полететь и проверить. Все глаза повернулись к командиру.
— Мой голос — да, — сказала Дем Лиа. — Сайге, приготовься к максимальному ускорению в точку перехода в пространство Хоукинга. Кем Лои, ты, Рес Сандре и Оам Раи; рассчитаете оптимальную точку выхода для поисков жизни в системе красного гиганта. Глава ветви Кил Редт, Далекий Ездок, Истинный Глас Древа Рита Кастин! Если вы хотите остаться, мы сейчас откроем для вас шлюз. Если хотите лететь с нами, мы вылетаем немедленно.
Глава ветви ответил от имени всех:
— Мы летим с вами, гражданка Дем Лиа. Она кивнула:
— Далекий Ездок, вели своим людям освободить широкий проход. Мы взлетим над плоскостью эклиптики, но наш плазменный хвост будет хуже дыхания дракона.
Адаптированный к космосу Бродяга передал:
— Я уже это сделал. Многие ждут зрелища. Дем Лиа слегка хмыкнула:
— Будем надеяться, спектакль не окажется более зрелищным, чем нам хотелось бы.
* * *
«Спираль» удачно совершила прыжок, получив лишь незначительные повреждения некоторых подсистем. С расстояния трех АЕ от поверхности красного гиганта люди повели наблюдение за системой. Оно было рассчитано на двое суток, но уже на первые дало результат.
Ни спрятанных планет, ни планетоидов, ни полых астероидов или перестроенных комет, ни космических баз — никаких признаков жизни. Около трех миллионов лет назад, когда звезда класса G2 эволюционировала, ядра гелия стали сжигать ее продукт горения во вторичных термоядерных реакциях в ядре, а в тонкой оболочке ядра продолжалась обычная термоядерная реакция водорода… И вот — краткосрочное возрождение звезды в виде красного гиганта. Очевидно, что вне досягаемости нового красного солнца не было ни обыкновенных планет, ни газовых гигантов. Внутренние планеты были захвачены расширяющейся звездой. Выбросы газов, пыли и жесткой радиации очистили систему от всего, что было больше железо-никелевых метеоритов.
— Вот, значит, как, — сказал Патек Георг.
— Дать ИскИнам указание начать полное ускорение к точке обратного прыжка? — спросила Рес Сандре.
Дипломатов-Бродяг перевели на мостик вместе со специализированными креслами. Никто не жаловался на гравитацию в одну десятую нормальной, поскольку все специалисты Спектральной Спирали — кроме Сес Амбре — подключились к креслам управления и работали в контакте с кораблем на различных уровнях. Во время поисков дипломаты хранили молчание и продолжали его хранить сейчас, только повернули головы к Дем Лиа, сидевшей у главного пульта.
Она потерла губу костяшками пальцев.
— Пока нет. — В своих поисках они обошли вокруг красного гиганта и находились теперь меньше чем в одной АЕ от его кипящей поверхности. — Сайге, ты внутрь звезды заглядывал?
— Только зондировал, — ответил ИскИн. — Типичный красный гигант для этой стадии. Светимость примерно в два раза выше, чем у его спутника класса G8. Прозондировали ядро — сюрпризов нет. Ядра гелия явным образом связаны, несмотря на электромагнитное отталкивание.
— Какова температура поверхности? — спросила Дем Лиа.
— Примерно три тысячи по Кельвину, — ответил Сайге. — Примерно в два раза ниже той, что была у звезды класса G2.
— Боже мой! — ахнула со своего кресла Кем Лои с фиолетовой лентой. — Ты думаешь…
— Пожалуйста, глубокую радиолокацию звезды, — попросила Дем Лиа.
Не прошло и двадцати минут, как появилась голограмма звезды с вращающейся вокруг нее планетой. Голос Сайге объяснил:
— Одиночная твердая планета. Все еще на орбите. Примерно четыре пятых размера Старой Земли. Радар обнаруживает океанское дно и русла бывших рек.
— Она, очевидно, была землеподобной, пока солнце не испарило ее моря и реки. Помилуй, Господи, тех, кто там жил.
— Насколько она глубоко в тропосфере солнца? — спросила Дем Лиа.
— Менее ста пятидесяти тысяч километров, — ответил Сайге.
Дем Лиа кивнула.
— Поднять защитные поля до максимума, — тихо произнесла она. — Заглянем к ним в гости.
* * *
«Это — как плыть под поверхностью настоящего моря», — подумала Дем Лиа, когда корабль приближался к твердой планете. Над ним кружилась и вихрилась атмосфера, смерчи магнитных полей вырывались из глубин и рассыпались, и защитные поля уже светились, несмотря на тридцать микромо-новолоконных кабелей, выпущенных на шестьдесят тысяч километров из корабля для охлаждения.
Уже час висела «Спираль» над планетой, которая могла быть когда-то похожа на Старую Землю или Гиперион. Многочисленные датчики давали изображение поверхности сквозь вихревую красную мглу.
— Сгоревший уголек, — сказал Джон Микайл Дем Алем.
— Уголек, полный жизни, — сказала Кем Лои, не отрываясь от управления датчиками. Она вызвала на экран голограмму глубокой радиолокации. — Как соты в улье. Внутренние водные океаны. Не менее трех миллиардов разумных существ. Понятия не имею, гуманоидных или нет, но у них машины, транспортные механизмы и ульи, похожие на города. Вон причал, к которому каждые пятьдесят семь лет подходит эта большая жатка.
— Но очевидного контакта все еще нет? — спросила Дем Лиа. «Спираль» передавала обычные математические увертюры на всех частотах, спектрах и по всем средствам связи — от радио до тахионных пучков. Было даже нечто вроде ответа.
— Модулированные гравитационные волны, — объяснил Иккю. — Но не ответ на наши математические сообщения. Они принимают наши электромагнитные сигналы, но не понимают их, а мы не можем расшифровать их гравитонные импульсы.
— Сколько времени надо изучать модуляции, пока найдем общий алфавит? — спросила Дем Лиа.
На морщинистом лице Иккю отразилось страдание.
— Не меньше нескольких недель. Скорее даже месяцев, если не лет. — ИскИн поднял глаза навстречу разочарованным взглядам людей, Бродяг и женщины-тамплиера. — Извините, что так выходит, — сказал он. — Люди имели контакт только с двумя негуманоидными расами, и оба раза они нашли способ общения с нами. А эти…, существа…, они совсем чужие. Слишком мало общего.
— Нам нельзя здесь долго оставаться, — сказала Рес Сандре от своей инженерной сети. — Из ядра идет сильная магнитная буря. И мы уже не» в состоянии с нужной скоростью рассеивать тепло. Надо уходить.
Внезапно Сес Амбре, сидевшая в кресле и ничем не занятая, встала, проплыла в пониженной гравитации в метре над полом и медленно опустилась на палубу в глубоком обмороке.
Доктор Сэм оказался около нее на секунду раньше Дем Лиа и Ден Соа.
— Всем оставаться на местах, — приказала Дем Лиа. Удивительно синие глаза Сес Амбре раскрылись.
— Они такие…, другие. Совсем не люди. Дышат кислородом, но совсем не такие, как сенешайские эмпаты…, модулярные…, с объединенными разумами…, такие слоистые…
Дем Лиа взяла ее за плечи.
— Ты говорила с ними? — настойчиво спросила она. — Послала им образы?
Сес Амбре слабо кивнула.
— Направь им образ их жатвенной машины и Бродяг, — твердо сказала Дем Лиа. — Покажи, что натворила их машина в колонии Бродяг. Покажи им, что Бродяги — люди…, разумные существа. Поселенцы, но не вредители на этом орбитальном дереве.
Сес Амбре кивнула и снова закрыла глаза. Мгновение спустя — открыла их, всхлипывая.
— Они в таком…, отчаянии, — шепнула она. — Машина не передает…, изображений…, только привозит еду, воздух и воду. Она Запрограммирована…, как ты и предполагала, Дем Лиа…, удалять пораженные участки. Они…, они в трауре…, из-за погибших Бродяг. Они предлагают самоубийство…, своего вида…, если это искупит разрушение.
— Нет, нет, нет! — воскликнула Дем Лиа, сжимая ее руки. — Скажи им, что это не нужно. — Она встряхнула Сес Амбре за плечи. — Это будет трудно, Сес Амбре, но спроси их, можно ли перепрограммировать их жатвенную машину. Научить ее не трогать поселения Бродяг.
Сес Амбре закрыла глаза на несколько минут. В какой-то момент казалось, что она перестала дышать. Потом ее прекрасные глаза открылись снова.
— Можно. Они посылают новую программу.
— Мы принимаем модулированные гравитонные импульсы, — сказал Сайге. — Переводу они по-прежнему не поддаются.
— Перевод не нужен, — ответила Дем Лиа, с трудом переводя дыхание. Она подняла Сес Амбре с палубы и помогла добраться до кресла. — Нам надо только их записать и передать Разрушителю, когда вернемся. — Она снова стиснула руку Сес Амбре. — Ты можешь передать им нашу благодарность и попрощаться?
Та улыбнулась:
— Я уже это сделала. Как могла.
— Сайге, — сказала Дем Лиа. — Давай убираться отсюда ко всем чертям, и на полном ускорении — к точке перехода.
* * *
Обратный переход Хоукинга к звезде класса G8 «Спираль» совершила без особых происшествий. Разрушитель уже свернул к населенным областям лесного кольца, но Ден Соа еще во время торможения передала ему записанные гравитонные импульсы, огромный комбайн ответил неподдающимся расшифровке гравитонным рокотом и послушно сменил курс, направляясь к дальним и незаселенным областям кольца. Далекий Ездок по направленному лучу увидел и показал всем ликование городов, платформ, модулей, ветвей и башен кольца, потом отключил вещание.
Все собрались в солярии. Никто из ИскИнов не присутствовал и не слушал, но люди. Бродяги и женщина-тамплиер сели в круг, и теперь все взгляды были обращены на Сес Амбре. Она сидела, закрыв глаза.
Ден Соа спросила очень тихо:
— Эти существа…, на той планете…, им пришлось построить лесное кольцо до расширения своей звезды. Они построили жатвенный корабль. Почему они просто…, не улетели сами?
— Планета…, их дом, — шепотом ответила Сес Амбре, все еще крепко зажмурившись. — Как дети…, не хотят покидать дом…, потому что снаружи темно. Темно…, и пусто. Они любят…, свой дом. — Она открыла глаза и устало улыбнулась.
— Почему ты нам не сказала, что ты — энеанка? — спросила ее Дем Лиа.
Сес Амбре решительно стиснула зубы.
— Я не энеанка. Моя мать, Дем Лоа, дала мне причастие крови Энеи — через свою кровь, конечно, — когда спасла меня из ада на Святой Терезе. Но я решила не пользоваться энеанскими способностями. Я решила не следовать за другими, а остаться с Амуа.
— Но ты телепатически связалась с… — начал Патек Георг. Сес Амбре тут же перебила его, покачав головой:
— Это не телепатия. Это связь через… Связующую Бездну. Это значит — слышать голоса живых и мертвых через время и пространство с помощью чистой эмпатии. Воспоминания, которые не принадлежат никому. — Женщина девяноста пяти лет, которая внешне казалась всего лишь пожилой, приложила руку козырьком к глазам. — Это так…, утомляет. Я столько лет старалась не слышать голоса…, не участвовать в этой памяти. Вот почему так хорошо было спать в криогенной фуге.
— А другие энеанские способности? — спросила Дем Лиа так же спокойно. — Ты умеешь странствовать?
Сес Амбре покачала головой, все еще прикрывая рукой глаза.
— Я не хотела изучать секреты энеан, — сказала она, и в голосе ее звучала глубокая усталость.
— Но могла бы, если бы хотела, — с почтением проговорила Дем Лиа. — Ты можешь сделать один шаг — и оказаться на Витус-Грей-Балиане, или на Гиперионе, или на Тау Кита, или на Старой Земле, правда?
Сес Амбре опустила руку и свирепо глянула на нее:
— Но я этого не сделаю!
— И ты направишься с нами дальше к нашему месту назначения? — спросила вторая женщина с зеленой лентой, Рес Сандре. — К нашей последней колонии Спектральной Спирали?
— Да.
В этом единственном слове прозвучало и решение, и вызов.
— А как нам сказать остальным? — спросил Джон Микайл Дем Алем. — Присутствие в колонии энеанина…, потенциального энеанина…, это все меняет.
Дем Лиа встала.
— В последние минуты моих обязанностей как избранного вами командира я могла бы решить это приказом, граждане. Вместо этого я прошу голосования. Я чувствую, что сама Сес Амбре, и только Сес Амбре, должна решить, когда сказать нашим собратьям по семье Спектральной Спирали о ее…, даре. В любой момент после нашего прибытия. — Она глянула на Сес Амбре. — Или не сказать никогда, если таково будет твое решение. — Дем Лиа повернулась к остальным. — И мы никогда не выдадим этой тайны. Только Сес Амбре имеет право сказать об этом. Кто за это, пусть скажет «да».
Единогласно.
Дем Лиа повернулась к Бродягам и женщине-тамплиеру.
— Сайге меня заверил, что по вашему направленному лучу не передавалось ничего из того, что здесь было. Далекий Ездок кивнул.
— А ваша запись контакта Сес Амбре с чужой расой через Связующую Бездну?
— Уничтожена, — передал четырехметровый Бродяга. Сес Амбре шагнула к Бродягам.
— Но вы все еще хотите получить немножко моей крови…, немного священной ДНК Энеи. Вы все еще хотите иметь эту возможность.
У главы ветви Кила Редта дрожали руки.
— Не нам решать вопрос обнародования известий или распространения священного дара… Должны тайно собраться Семь Советов… Надо спросить у Церкви Энеи… Или… — Бродяга явно страдал при мысли о том, что миллионы или миллиарды его соотечественников навеки оставят орбитальное дерево, отправившись в человеческую вселенную или еще куда-нибудь. И их вселенная уже никогда не будет прежней. — Но мы трое не имеем права закрыть путь всем остальным.
— Мы не решаемся просить… — начала Истинный Глас Древа Рита Кастин.
Сес Амбре кивнула и махнула рукой доктору Самелу. Врач подал Рите Кастин немножко крови во флаконе небьющегося стекла. — Мы ее давно набрали, — сказал он.
— Вы должны решиться, — обратилась к ним Сес Амбре. — Всегда есть путь. И всегда есть проклятие.
Кил Редт долго смотрел на этот флакон, потом взял его все еще трясущейся рукой и спрятал в потайной карман силового поля брони.
— Интересно будет посмотреть, что дальше, — сказал он. Дем Лиа улыбнулась.
— На Старой Земле было такое интересное проклятие, — напомнила она. — Китайское. «Чтоб тебе жить во время перемен».
Сайге вырастил шлюз, и трое дипломатов отбыли, полетели обратно к лесному кольцу, сопровождаемые сотнями тысяч других существ из света, ныряющих в солнечном ветре, плывущих по магнитным силовым линиям, как корабли, уносимые быстрыми течениями.
— Если никто не возражает, — улыбнулась Сес Амбре, — я вернусь в колыбель глубокого сна и включу поле. Длинные выдались у меня два дня.
* * *
Девять человек, пробужденные первыми, ждали, пока «Спираль» уйдет в пространство Хоукинга, чтобы вернуться в глубокий сон. Но они еще оставались вблизи звезды G8, уходя вверх и прочь от эклиптики и лесного кольца, закрывавшего теперь небольшое белое солнце, и Оам Раи показала в кормовой иллюминатор:
— Посмотрите!
Бродяги прощались с ними. Несколько миллиардов крыльев чистой энергии ловили солнечный свет.
В первый день в пространстве Хоукинга выяснилось, что корабль в отличной форме, спин-плечи и модули глубокого сна функционируют нормально, корабль вернулся на курс, и вообще все в порядке. Один за другим люди возвращались в колыбели — первой Ден Соа и ее супруги, потом остальные. Наконец осталась одна только Дем Лиа. Она уже сидела в колыбели, до погружения в сон оставалось несколько секунд.
— Сайге! — позвала Дем Лиа, и по голосу было ясно, что она просит его явиться.
В воздухе возник образ приземистого и толстого буддийского монаха.
— Ты знал, что Сес Амбре — энеанка?
— Нет, Дем Лиа.
— Как такое возможно? Корабль хранит полный медицинский и генетический профиль каждого из нас. Ты должен был знать.
— Нет, Дем Лиа. Я заверяю тебя, что медицинский профиль гражданки Сес Амбре совершенно нормален по меркам Спектральной Спирали. Никаких признаков пост-гуманоидной ДНК энеан. В психологическом профиле также никаких следов.
Дем Лиа нахмурилась, потом спросила:
— Значит, подделанные биозаписи? Это могла сделать Сес Амбре или ее мать.
— Да, Дем Лиа.
Все еще опираясь на локоть, Дем Лиа сказала:
— Насколько тебе известно — насколько известно любому ИскИну, — есть еще энеане на борту «Спирали»?
— Насколько нам известно, нет, — серьезно ответил монах. Дем Лиа улыбнулась.
— Энея учила, что у эволюции есть смысл и цель, — сказала она тихо скорее себе, чем собеседнику-ИскИну. — Она говорила о том дне, когда от жизни зазеленеет вся Вселенная. Она учила, что разнообразие — одна из лучших стратегий эволюции.
Сайге кивнул, но ничего не сказал.
Дем Лиа опустила голову на подушку.
— Мы думали, что энеане из чистого великодушия помогли нам сохранить нашу культуру — наш корабль, далекую колонию. Я спорить могу, что энеане помогли тысячам малых культур уйти из человеческой вселенной в неизвестность.
Они хотят разнообразия — чтобы были и Бродяги, и все остальные. Они хотят, чтобы много нас несло их дар божественности.
Она поглядела на ИскИна, но на лице буддийского монаха была только обычная улыбка.
— Спокойной ночи. Сайге. Следи за кораблем как следует, пока мы спим. — Она задвинула на место крышку колыбели, и устройство начало погружать ее в криогенную фугу.
— Да, Дем Лиа, — ответил монах уснувшей женщине.
* * *
«Спираль» продолжала свой путь в пространстве Хоукинга. Спин-плечи и модули жизнеобеспечения сплетали двойную спираль в потоке ложных цветов и четырехмерных пульсаций, сменивших звезды.
ИскИны убрали внутри корабля гравитацию, атмосферу, свет. Корабль летел в темноте.
Но вот три месяца спустя после посещения двойной системы зажужжали вентиляторы, замигали лампы и включилась гравитация защитных полей. Все 684 300 колонистов по-прежнему спали.
Внезапно в главном коридоре между мостиком и порталами первого кольца спин-плеч возникли три фигуры. Центральная из них была выше трех метров, в шипастой броне, четверорукая, обернутая хромированной режущей проволокой. Фасеточные глаза отсвечивали красным. Фигура появилась — и застыла неподвижно.
Слева стоял человек чуть моложе средних лет, с курчавыми седеющими волосами, темными глазами и приятным лицом. Он был очень смугл, одет в мягкую синюю хлопчатобумажную куртку, зеленые шорты и сандалии. Он кивнул женщине и направился на капитанский мостик.
Женщина была постарше — действительно старая, несмотря на энеанскую медицину, и одета была в простое платье ровного синего цвета. Она двинулась к порталам, проехала к третьему спин-плечу и прошла по коридору к модулю жизнеобеспечения. Остановившись у одной из колыбелей, она смахнула с прозрачной пластины саркофага лед и конденсат.
— Сес Амбре, — тихо произнесла Дем Лоа. Ее пальцы лежали на холодном пластике в сантиметрах от впалой щеки падчерицы по триединому браку. — Спи, моя милая. Спи.
На мостике высокого человека окружили виртуальные ИскИны.
— Добро пожаловать, Петир, сын Энеи и Эндимиона, — слегка поклонился Сайге.
— Спасибо, Сайге. Как вы тут?
Они ответили ему, но этот ответ нельзя было выразить в терминах языков или математики. Петир кивнул, слегка нахмурился и тронул Басе за плечо.
— В тебе слишком много противоречий, Басе? Ты хочешь их согласовать?
Высокий человек в конической шляпе и грязных сандалиях ответил:
— Да, Петир, если можно.
Человек стиснул плечи ИскИна в дружеском пожатии, и они оба закрыли на миг глаза.
Когда Петир отпустил Басе, довольное лицо крестьянина широко улыбалось.
— Спасибо, Петир.
Человек сел на край стола и сказал:
— Посмотрим теперь, куда это мы летим.
Перед ними появился четырехметровый голокуб. Звезды были знакомыми. Путь «Спирали» из человеческой вселенной был отмечен красным. Дальнейшая траектория вела дальше голубым пунктиром, уходящим к центру галактики.
Петир встал, коснулся голокуба и дотронулся до звездочки чуть справа от проложенного курса. Сектор мгновенно увеличился.
— Интересно бы проверить эту систему, — сказал человек, довольно улыбаясь. — Симпатичная звездочка класса G2. Четвертая планета примерно семь и шесть десятых балла по старой шкале Сольмева. Было бы выше, но там развились кое-какие очень мерзкие вирусы и свирепые звери. Очень свирепые.
— Шестьсот восемьдесят пять световых лет, — заметил Сайге. — И еще сорок три световых года коррекции курса. Скоро.
Петир кивнул.
Мурасаки пошевелила веером перед раскрашенным лицом, заговорщицки улыбнувшись.
— А когда мы прибудем, Петирсан, мерзкие вирусы как-то куда-то денутся?
Высокий пожал плечами:
— Многие, моя достопочтенная дама. Многие. — Он усмехнулся. — Но свирепые звери останутся. Берегите себя, друзья. И берегите наших друзей.
Петир подошел к трехметровому хромированному и шипастому кошмару в главном коридоре как раз когда навстречу ему зашуршало по покрытой ковром палубе легкое платье Дем Лоа.
— Все устроено? — спросил Петир.
Дем Лоа кивнула.
Сын Энеи и Рауля Эндимиона положил руки на стоящее между ними чудовище, поместив ладонь рядом с пятнадцатисантиметровым кривым шипом. И все трое исчезли без звука.
«Спираль» отключила искусственную гравитацию, откачала воздух в резервуары, выключила внутреннее освещение и полетела дальше в тишине, выполняя едва заметную коррекцию курса.
ГИБЕЛЬ КЕНТАВРА (рассказ)
Предисловие автора
Я проработал учителем восемнадцать лет. Не в колледже и даже не в старшей школе, а «всего-навсего» в начальной. Преподавал в третьих, четвертых и шестых классах и год выполнял обязанности методиста (этакого спасателя, который не дает детям переучиться). Карьеру свою на этом поприще завершил в округе, где училось семь тысяч младшеклассников: на протяжении четырех лет разрабатывал и внедрял специальные программы для «одаренных и талантливых» (ну, то есть для умных и сообразительных).
Все это связано с нижеследующим рассказом.
Учитель — это не вполне профессия. Еще четверть века назад школа могла хоть как-то компенсировать низкую зарплату: во-первых, преподаватель получал удовольствие от своего занятия (а для хорошего учителя это значит очень много), во вторых, в глазах местного сообщества он обладал определенным статусом.
Несколько лет назад я работал в Колорадо, преподавал в шестых классах. И как-то зимой в вечерних небесах вдруг вспыхнули загадочные огни. Северное сияние, конечно же. Невероятно яркое для тех широт.
Я стоял на улице и любовался этим потрясающим зрелищем, и тут из-за угла появилась моя юная ученица со своей мамой. Они спросили, что происходит, и я объяснил.
— Надо же, — удивилась мама девочки. — А я думала, конец света настал, как предсказано в Откровении. Но Джесси сказала, вы наверняка знаете, что это.
Временами я вспоминаю тот случай.
Именно так раньше и воспринимали учителей: не совсем мудрецы, но, уж по крайней мере, уважаемая и необходимая интеллектуальная прослойка общества. Сейчас же на родительском собрании зачастую выясняется, что родители знают больше и образованы лучше учителей. И уж точно намного больше зарабатывают.
Конечно, люди уходят из профессии не только из-за маленького заработка. Виновата не какая-то одна причина, а множество разных факторов. Учителям мало платят, общество их не уважает, равно как и администрация школы или округа (им профессиональные учителя вообще в тягость — гораздо проще взять новичка, у которого tabula совершенно rasa[128], и забить ему голову всей той ерундой, что активно продвигают власти), и к тому же многие дети нынче недолюбливают школу. А еще никому не нужны, творческие учителя. Воображение для этой работы больше не требуется, и наделенные им люди в школу не идут.
К чему я веду? Именно сейчас нам позарез нужны квалифицированные учителя. Именно сейчас наше интеллектуальное будущее как никогда зависит от педагогов, которые смогут по настоящему заставить детей думать (а для таких учителей награда всегда одна — чаша цикуты или распятие). Именно сейчас семья и другие традиционные социальные институты не делают почти ничего, чтобы превратить юных варваров в граждан: не учат их ни этике, ни даже основам гигиены — все свои обязанности они переложили на школу! И именно в такой момент в школах недостает маленького, но критического числа умных, творческих и преданных делу людей. А ведь именно на таких людях всегда и держалась система.
Чтобы хоть как-то компенсировать вышеупомянутые не достатки профессии, в учительских вешают разные плакаты. Например: «Влияние учителя бесконечно».
Может быть, может быть. Но поверьте мне, я там восемнадцать лет проработал: да, правда — хорошие учителя на вес платины и гораздо важнее президентов, но влияние плохого учителя тоже вполне себе бесконечно.
Ден Симмонс~ ~ ~ ~ ~
Учитель и мальчик вскарабкались на крутой склон, откуда открывался вид на крайнюю южную излучину реки Миссури. Они то и дело оглядывались на величавый кирпичный особняк на холме, в застекленных дверях и высоких окнах которого отражалась мозаика из серого неба и изломанных, голых веток. Дом, скорее всего, пустовал, ведь владелец проводил здесь только несколько недель в году. Оба нарушителя знали об этом, но все равно приятно было пощекотать себе нервы, вторгшись в чужие владения. А заодно полюбоваться замечательным видом.
Они уселись под деревом где-то в сотне футов от поместья; широкий ствол укрывал и от ветерка, и от случайных взглядов. Солнце пригревало вовсю. Обманчивое тепло: весна пока не вступила полностью в свои права, и впереди наверняка поджидал еще не один снегопад. Земля постепенно оттаивала, и обширный луг, спускавшийся к железной дороге и реке, покрылся едва заметной зеленоватой дымкой. В воздухе пахло субботой.
Молодой учитель сорвал травинку, помял между пальцами и рассеянно сунул в рот. Мальчик тоже подобрал стебелек, прищурившись, рассмотрел его со всех сторон и последовал примеру мужчины.
— Мистер Кеннан, а река разольется, как в прошлом году? Опять все затопит?
— Не знаю, Терри. — Учитель не смотрел на собеседника, просто закрыл глаза и подставил лицо теплым лучам.
Мальчишка искоса глянул на рыжебородого Кеннана, а потом тоже прислонился к шершавой коре старого вяза. Но уже через секунду он не вытерпел и открыл глаза.
— А Мэн затопит, как думаете?
— Сомневаюсь, Терри. Такие большие наводнения случаются лишь раз в несколько лет.
Учитель спокойно рассуждал о том, чего на самом деле никогда не видел, но Терри ему верил. Кеннан проработал в маленьком городке в штате Миссури немногим больше полугода — приехал в сентябре жарким воскресным днем, как раз перед началом занятий, тогда и услышал про знаменитое наводнение. А Терри Бестер за свои десять лет видел три таких половодья и хорошо помнил, как в прошлом апреле ранним утром отец топал ногами и чертыхался в темной кухне, потому что пожарные вызвали его помогать на плотине.
С юга послышался свисток паровоза: в теплом весеннем воздухе пронзительный допплеровский визг прозвучал нежно и мелодично. Учитель открыл глаза и смотрел, как внизу с ревом проносится одиннадцатичасовой товарняк из Сент-Луиса. И Кеннан, и Терри считали про себя вагоны. Стучали колеса, свисток надрывался громче прежнего, а потом хвост состава скрылся за поворотом — там, где они сами прошли совсем недавно.
— Ух, здорово как, что мы оттудова уже ушли, — громко сказал Терри.
— Оттуда.
— Чего? — Мальчик взглянул на Кеннана.
— Что мы оттуда уже ушли, — чуть раздраженно повторил бородач.
— Ага.
Они замолчали. Учитель опять закрыл глаза и прислонился к дереву. Мальчик принялся кидать в особняк воображаемые камни. Его спутник явно не одобрил это занятие, так что вскоре Терри бросил кривляться, прижался щекой к теплому стволу и стал, прищурившись, разглядывать высокие ветви, по которым скакала белка.
— Двадцать шесть.
— Чего двадцать шесть?
— Вагонов в поезде. Я сосчитал — двадцать шесть.
— Ммм, — промычал учитель. — А у меня получилось двадцать четыре.
— Ага. И у меня. Я так и хотел сказать. Точно, двадцать четыре.
Кеннан выпрямился, вытащил изо рта травинку и снова покрутил ее меж пальцев. Его мысли витали где-то далеко. Терри скакал вокруг дерева на воображаемом коне и громко цокал, имитируя стук копыт. Потом «выстрелил» из винтовки, схватился за грудь, упал с лошади, покатился по траве и, наконец, «умер» почти у самых ног учителя.
Кеннан посмотрел на него, а затем на реку. Миссури степенно несла мимо кофейно-коричневые воды, закручивала все новые водовороты и течения, ни разу не повторяясь.
— Терри, а ты знаешь, что это самая южная излучина Миссури? Прямо перед нами?
— Ммм.
— Именно так. — Мужчина вгляделся в дальний берег.
— Мистер Кеннан?
— Да?
— А что в понедельник будет?
— Ты о чем? — Но на самом деле Кеннан прекрасно знал, о чем идет речь.
— Ну, вы ж знаете, сказка.
Учитель засмеялся и отбросил травинку. Бросал он неумело, как девчонка, но Терри тут же заставил себя выкинуть эту мысль из головы.
— Терри, ты же знаешь, я не могу тебе рассказать. Разве это было бы честно по отношению к остальным?
— Эх, — нарочито грустно вздохнул мальчик, но он явно не очень расстроился и, похоже, был даже доволен ответом.
Они встали, и Кеннан отряхнул штаны, а потом погладил Терри по голове, смахивая травинки с растрепанных волос. Учитель и ученик спустились с холма к железной дороге и вернулись в город.
Кентавр, неокошка и чародей-орангутанг пробирались сквозь безбрежное Травяное море. Маленькую Джернисавьен высокие заросли скрывали с головой, поэтому ей пришлось ехать на спине у Рауля, который легко раздвигал лимонно-желтую траву широкой грудью. Кентавр не возражал, ведь неокошка почти ничего не весила, к тому же так они могли на ходу наслаждаться приятной беседой. Позади по-человечьи широко и неуклюже шагал Добби и неразборчиво напевал себе под нос отрывки из разных песенок.
Вот уже девять дней брели странники по Травяному морю. Позади остались Призрачные руины и грозные крысы-пауки. Впереди поджидали Туманные горы. Там у них было важное дело. По ночам Добби отвязывал со спины огромную котомку и раскидывал шелковый шатер. Синий, похожий на зонтик купол украшали замысловатые оранжевые узоры. Джернисавьен нравилось слушать, как шуршит на ветру необозримое море и шелестит легкая ткань палатки.
Костер приходилось разжигать очень осторожно — ведь от одной случайной искры трава могла моментально вспыхнуть, и тогда им грозила бы неминуемая гибель.
По вечерам Рауль охотился с луком и обычно возвращался в лагерь с обмякшей тушей какого-нибудь травоядного в руках. Путешественники готовили ужин, а потом тихо беседовали или слушали, как Добби играет на странном ветряном инструменте, найденном в Человечьих руинах. После наступления темноты чародей показывал им созвездия — Лебедя, Лук Меллама, Хрустальную Небесную Лодку, Малую Лиру. А Рауль рассказывал древние предания, которые уже шесть поколений передавались от отца к сыну воинами из клана кентавров, — предания о храбрости и самопожертвовании.
Однажды вечером, когда звезды ярко сияли на ночном небе, они аккуратно затушили костер, и Джернисавьен вдруг спросила тоненьким, едва слышным голоском, который почти заглушали вздохи ветра в высокой траве:
— Каковы наши шансы найти портал?
— Мы не знаем, — спокойно и твердо ответил Рауль. — Нужно идти на юг и делать все, что в наших силах, — это единственное, что мы можем.
— Но что, если Маги доберутся туда раньше нас? — упорствовала золотисто-коричневая неокошка.
— Не надо, — вмешался Добби. — Моя бабушка говорила, что после наступления темноты не стоит поминать всуе чешуйчатых тварей.
Утром они позавтракали, не разводя костер, сверились с волшебной иглой на компасе Добби и снова пустились в путь. Солнце уже почти добралось до зенита. И вдруг Рауль замер и указал на восток.
— Смотрите!
Чтобы хоть что-то увидеть, Джернисавьен пришлось уцепиться за гриву кентавра и встать в полный рост на его широкой спине. Паруса! В лазурном небе трепетали туго натянутые белые паруса. А под ними скрипел двадцатифутовыми деревянными колесами огромный корабль.
И он приближался!
Страшно некрасивый и неуютный класс переделали из складского помещения, и на стенах до сих пор чернели длинные царапины и отметины, оставшиеся от коробок и железных футляров с картами.
И в классе, и в самой школе трудно было найти что-либо живописное: старое здание мало чем напоминало ностальгические иллюстрации Нормана Рокуэлла.[129] На потолки кое-как налепили звукоизоляционную плитку, отчего они сразу сделались ниже, а верхней трети окон вообще как не бывало. Сверху на серых железных штырях торчали длинные трубки ламп дневного света. Полы, когда-то гладкие и лакированные, теперь потрескались, и, сняв в дождливый день промокшие кроссовки и оставшись босиком, ученики рисковали нахватать заноз себе в стопы.
Когда-то давно в классе стояли в три ряда старые деревянные парты, которые вели свою историю еще из прошлого столетия, а теперь туда втиснули двадцать восемь современных серо-розовых пластиковых столов. На кривых исписанных крышках были вырезаны разные надписи, а уродливые металлические ножки царапали и без того донельзя ободранный пол. Если кто-то из учеников клал на парту карандаш, тот немедленно скатывался вниз, а когда ребенок поднимал крышку, чтобы достать книгу, раздавался жуткий металлический скрежет, а тетрадки неизбежно падали на пол.
Высокие кривые окна не открывались. В минувшем сентябре, когда стояла жара под тридцать, а на площадке перед школой плавился асфальт, в классе, освежаемом лишь редким дуновением ветерка с улицы, почти невозможно было находиться.
Огромная трещина рассекала надвое крошечную четырехфутовую доску. Кеннан как-то очень удачно показал на ней, как выглядит разлом Сан-Андреас. В свой самый первый день он обнаружил, что в классе нет ни мела, ни линейки, ни глобуса, ни книжных полок, а есть только одна губка для доски, одна карта (да и та времен Первой мировой) и часы, навеки замершие на двадцати трех минутах второго. Кеннан подал заявку на новые настенные часы третьего сентября, а повесили их только в январе. И конечно, они были не новыми и периодически останавливались, так что пришлось купить дешевый будильник. Теперь он громко тикал на учительском столе и иногда звонил в конце какой-нибудь контрольной или урока самостоятельного чтения. Перед рождественскими каникулами будильник зазвонил ровно в два, возвестив о начале часовой новогодней вечеринки. В других классах на праздник выделили только двадцать минут, и директор после этого отчитал Кеннана за нарушение правил. Но зато этот случай подтвердил бродившие по школе слухи: учиться в классе мистера Кеннана действительно здорово.
То Рождество всегда потом ассоциировалось у него с темной и пропахшей плесенью лавкой Рирдона. В этом грошовом подвальном магазинчике на Уотер-стрит он поздно вечером покупал подарки своим четвероклашкам. Кеннан тщательно выбирал дешевые кольца, мыльные пузыри, пластмассовых солдатиков, пробковые самолетики, конструкторы — каждому свой индивидуальный сюрприз, — а потом до поздней ночи упаковывал их у себя дома.
На обшарпанные стены класса он повесил плакаты и даже карту Бостона, которая три года подряд украшала его комнату в университетском общежитии. Доска объявлений теперь обновлялась каждые три недели. Сейчас там красовалась огромная карта планеты Сад, на которой были обозначены основные события Сказки.
От витавшего в классе запаха плесневелой штукатурки и канализации избавиться было невозможно, равно как и от мерзкого гудения мигающих ламп дневного света. Зато Кеннан купил на блошином рынке старое кресло и одолжил у хозяина квартиры ковер, и теперь каждый день в десять минут второго, как раз после обеда и перед уроком чтения, он усаживался в уголке, а вокруг на ковре собирались двадцать семь учеников — послушать Сказку.
Джернисавьен и Добби отдали последние две кредитные монеты за вход на огромную арену. Там Рауль должен был сразиться с Непобедимым Шрайком. Стадион располагался в самом сердце легендарного Карвнала, среди темных улочек и остроконечных крыш. Неокошка и чародей протолкались вместе с толпой по входному туннелю в многоярусный амфитеатр, где сотни факелов отбрасывали на трибуны зловещие тени.
Здесь собрались представители всех рас Сада — вернее, представители всех тех рас, которые не погибли в войне со злыми Магами: друиды в плащах с капюшонами, цепкие древесные обитатели Великого Леса, пушистики в ярко-оранжевых одеяниях, приземистый болотный народец и сотни разнообразных мутантов. Повсюду шипели и смеялись крикливые солдаты-ящеры. В ночном воздухе витали странные ароматы и раздавались странные звуки. Торговцы вопили на все лады, расхваливая товар: жареные крылышки арготов и холодное пиво. Внизу на арене темнели свежие лужи крови — там совсем недавно погибли от рук Шрайка неудачливые бойцы. Служители присыпали лужи песком.
— Ему обязательно сражаться? — спросила Джернисавьен, усаживаясь возле Добби.
— Завтра утром нам нужно сесть на небесный галеон, отплывающий на юг. А это стоит тысячу кредитов — как иначе достать такие деньги? — шепотом объяснил Добби.
Рядом с ними на жесткую скамью опустился мутант, и чародей еле-еле успел подобрать полу своей фиолетовой накидки.
— Но почему бы просто не уйти из города пешком или не отправиться на юг на пароме? — недоумевала маленькая неокошка, подергивая хвостом.
— Рауль ведь объяснял: Магам известно, что мы в Карвнале. Они наверняка поставили охрану у городских ворот и в доках. К тому же их летающие платформы нам не обогнать — ни пешком, ни на пароме. Нет, Рауль прав. Это наш единственный шанс.
— Но Шрайка никому не одолеть! Ведь так? Это совершенная боевая машина, его же специально вырастили генетики во время Войн с Магами, — мрачно сказала Джернисавьен, прищурившись, словно от света факелов у нее болели глаза.
— Да, но чтобы получить деньги, Шрайка и не надо побеждать. Просто продержаться на арене три минуты и остаться в живых.
— А кому-нибудь это удавалось? — гневно прошептала кошка.
— Ну… Думаю…
Добби не успел договорить: громко заиграли трубы. Факелы, казалось, вспыхнули еще ярче, а в каменной стене поднялась тяжелая решетка. Толпа затихла — все ждали, когда появятся гладиаторы.
(— А что такое гладиаторы?)
Это такие люди, которые сражаются на арене. Ну так вот, зрители не сводили глаз с открывшейся в стене черной дыры. Все молчали, и в полной тишине слышно было даже, как шипит и потрескивает пламя светильников. И тут появился Шрайк.
Чудовище семи с половиной футов ростом сверкало и переливалось полированной сталью. Из гладкого металлического экзоскелета выдавались невероятно острые изогнутые лезвия, напоминавшие серпы. Локти и колени прикрывал панцирь, утыканный короткими шипами. Длинный шип торчал и посреди высокого лба, прямо над красными фасеточными глазами, сверкавшими, как два рубина. Вместо пальцев на каждой руке существа было по пять изогнутых металлических когтей. Они сжимались и разжимались так быстро, что рябило в глазах. Вжик-вжик.
Шрайк выдвинулся в центр арены неуклюже и медленно — точно железная статуя, которая вдруг решила научиться ходить. Чудовище вскинуло голову, щелкнуло страшным клювом и посмотрело на собравшуюся толпу, словно выискивая жертву.
Неожиданно все зрители разом закричали, заулюлюкали и принялись швырять на арену что попало. Шрайк стоял молча и неподвижно, не обращая внимания ни на вопли, ни на град летевших в него предметов. Шевельнулся он только раз: когда прямо ему в голову зашвырнули большую дыню. Но какой это был прыжок! На добрых двадцать футов в сторону, да так стремительно, что никто толком не успел ничего разглядеть. Толпа в ужасе примолкла.
Снова заиграли трубы. Открылась большая деревянная дверь, и вошел первый гладиатор Смертельных Игр — каменный гигант. Почти такой же преследовал Добби в Туманных горах, только этот был гораздо больше — почти двенадцать футов ростом. И он, казалось, состоял из одних мышц.
— Надеюсь, ему не удастся победить Шрайка и забрать деньги, — сказал Добби, а Джернисавьен неодобрительно покосилась на чародея.
Двадцать секунд, и все кончено. Вот двое воинов стоят друг напротив друга в колеблющемся свете факелов — а в следующее мгновение Шрайк уже опять один посреди арены, тогда как от каменного гиганта остались лишь разбросанные по песку фрагменты. Некоторые из них еще продолжали подергиваться.
За первым несчастным последовало еще четверо участников. Двоих толпа громко освистала: у них явно не было никаких шансов. Потом вышел пьяный солдат-ящер с огромным арбалетом, а после него грозный мутант с собственным панцирем-броней и боевым топором размером с двух неокошек. Никто не продержался против Шрайка и минуты.
Затрубили глашатаи, и на арену галопом выбежал Рауль. Джернисавьен сквозь пальчики, которыми закрыла глаза, смотрела на величавого кентавра, чей могучий, обмазанный маслом торс блестел в свете факелов. Рауль был вооружен только охотничьим копьем и легким щитом. Нет, постойте — у него на шее болталась на шнурке какая-то маленькая бутылочка.
— Что это? — жалобным, дрожащим голосом спросила Джернисавьен у Добби.
Чародей не сводил взгляда с арены.
— Это снадобье я нашел в Человечьих руинах. Боги, только бы я правильно смешал все компоненты!
Шрайк бросился вперед.
Дорогая Уитни!
Да, ты права, я тут действительно в седьмом круге адовом — в круге запустения. Бреду иногда вниз по улице (мой «дом» находится на вершине холма, если, конечно, меблированные комнаты в старом полуразвалившемся кирпичном бараке можно назвать «домом»), смотрю на реку Миссури и вспоминаю, как мы на четвертом курсе, во время весенних каникул веселились на море. Помнишь, как мы поехали кататься по пляжу, и вдруг разразилась гроза, и Гранатка страшно перепугалась? И нам пришлось… ммм… пережидать непогоду в лодочном сарае?
Я рад, что тебе нравится работать на сенатора. Скажи ка, все барышни из Уэллсли[130] так же удачно устроились или большинство все таки трудятся в славной школе секретарей Катарины Гиббс? Прости, пожалуйста, не мне кидаться камнями и шпильками — сам-то застрял тут в Миссури, в столице трубок из кукурузных початков. А ты знала, что в этом городке изготавливают такие трубки для всей Америки? Представляешь, у меня на подоконнике и на капоте машины каждый день оседает по нескольку дюймов белой сажи!
Нет, я не часто езжу в Сент Луис. До него около пятидесяти миль, а мой «вольво» вот уже месяц стоит на приколе. Прокладка головки цилиндра полетела, а здесь надо запасных частей дожидаться лет по десять, не меньше. Мне еще повезло — в моей мастерской хотя бы есть метрические инструменты. Так что в Сент-Луис ездил три недели назад на автобусе. От правился в пятницу после школы и вернулся в воскресенье вече ром: как раз успел подготовить план уроков и впасть обратно в уныние. В городе не очень много видел — посмотрел три фильма и обошел кучу книжных. Еще залез на Врата[131] (нет — этими подробностями утомлять тебя не буду). Самая лучшая часть путешествия — приличный гостиничный номер со всеми удобствами.
Отвечаю на твой вопрос: нет, я не особенно жалею, что при ехал сюда и поступил в магистратуру в Сент-Луисе. Очень повезло с программой — всего одиннадцать месяцев, но вот не рассчитал и остался совсем без денег, поэтому и пришлось задержаться на целый год и наняться в школу в этом чертовом штате. И все бы ничего, если бы я смог устроиться где нибудь в Уэбстер Грувз или Юниверсити-Сити… но эта вот столица трубок из кукурузных початков? Такое впечатление, что я попал прямиком в фильм «Избавление».[132]
Но я тут всего на год, и, если получу работу в академии Хован или в экспериментальной школе (ты давно, кстати, виде ла Фентворта?), здешний опыт мне очень пригодится.
Ты, кажется, просила рассказать об учениках? Что тут скажешь — четвероклашки-селяне. Я уже писал о некоторых проделках Чокнутого Дональда. Он бы точно загремел в какое нибудь специальное исправительное заведение, если бы в этом богом забытом захолустье таковые водились. За неимением лучшего мне всякий раз приходится накидывать на него лассо, чтобы никого не покалечил. Кто у меня там еще?
Моника. Наша девятилетняя секс-бомба. Положила на меня глаз, но в случае чего вполне утешится Крейгом Стирзом из шестого класса.
Сара. Очень милая, вся в кудряшках, лицо сердечком — настоящая лапочка. Она мне нравится. Ее мать в прошлом году умерла, и, по-моему, девочке недостает любви и заботы.
Брэд. Местный дурачок. Не верится, но он даже глупее Дональда. Два раза оставался на второй год (да, в этом штате ставят двойки на экзаменах и… шлепают детей). Зато никаких проблем с дисциплиной — просто глупый, дурной детина в джинсовом комбинезоне, стриженный под горшок.
Тереза. Уит, тебе бы она точно понравилась. Просто повернута на лошадях. Участвует на собственном мерине в соревнованиях в Миссури и Иллинойсе. Но, боюсь, она насквозь ковбойская девочка — не имеет ни малейшего понятия, что такое английское седло. В класс является в ковбойских сапогах и со скребком в кармане. Есть еще Чак, и Орвилль (!), и Уильям «Зовите меня Билл», и Тереза (еще одна), и Бобби Ли, и Элис, и ее сестра близнец Агнес, и так далее, и тому подобное.
Да, я еще в прошлый раз писал о Терри Бестере и очень хочу рассказать о нем подробнее. Обыкновенный мальчишка, прикус неправильный, подбородок срезанный, волосы лезут в глаза (мать его, наверное, секатором стрижет). Каждый день приходит в одной и той же грязной клетчатой рубашке и дырявых сапогах (на одном каблук давно отвалился). Представляешь себе эту картинку? Словно прямиком вышел из песни «Табачная дорога».
Но он мой любимчик. В свой самый первый день я им что-то рассказывал и принялся, как обычно, махать руками, а Терри (он сидит, в отличие от большинства мальчишек, за первой партой) вдруг пригнулся и едва не свалился со стула. Я сначала решил, что мальчишка балуется, и очень разозлился, а потом увидел его лицо. Он напугался до смерти, представляешь? Его, по всей видимости, дома постоянно бьют, вот и пригнулся по привычке.
Терри словно списан с книжки про несчастного сироту и будто нарочно старается соответствовать образу. Таскает с собой повсюду коробку с ваксой и зарабатывает деньги — чистит ботинки этим деревенщинам около гостиницы, «ДьюДроп» и гриль-бара Берринджера. Там его отец частенько выпивает.
Короче говоря, я провожу с парнем очень много времени. Терри приходит ко мне на заднее крыльцо между пятью и шестью вечера, иногда я приглашаю его на ужин, а иногда говорю, что занят. Он совсем не обижается и на следующий вечер приходит опять. Временами я читаю и вспоминаю о нем только в десять, а то и в одиннадцать. Родителям, похоже, плевать, где их сын и когда вернется домой. Когда я приехал из Сент-Луиса, старина Терри так и сидел на крыльце с этой своей ваксой. Наверное, с самой пятницы никуда не уходил.
В минувшие выходные мальчик совершенно спокойным тоном рассказал мне жуткую историю. Год назад, когда он еще учился в третьем классе, «папа сильно отдубасил маму». Мать успела запереть входную дверь, когда пьяный мистер Бестер вышел на крыльцо наорать на соседей; тот разозлился еще больше и начал кричать, что всех их убьет. Терри рассказал, как обнимал шестилетнюю сестренку, как мама плакала и кричала, а отец бился в дверь. Наконец папаша вломился внутрь, ударил жену кулаком в лицо, а детей затащил в грузовик. Отвез их по лесопильной дороге в ближайший заповедник, выгнал из машины и вытащил ружье (тут все держат в машинах ружья, Уит, и я подумываю прикрутить себе на крышу «вольво» специальный багажник для двустволки).
И вот, представь себе, Терри мне все это рассказывает, то и дело останавливается, чтобы челку убрать с глаз, но при этом говорит совершенно спокойным, ровным голосом, как будто это сюжет какого-то телевизионного сериала.
Значит, отец тащит восьмилетнего Терри и его шестилетнюю сестру в лес и велит им встать на колени и помолиться, потому что он их сейчас пристрелит. По словам мальчика, старый пьяница наставил ствол прямо на них, и маленькая Синди просто-напросто «наделала в штаны прямо там». Потом мистер Бестер нетвердым шагом удалился в чащу и несколько минут проклинал небеса, после чего запихал детей обратно в грузовик и отвез домой. Мать в полицию не сообщила.
Видел я этого Бестера в городе — точная копия как-там-его из экранизации «Убить пересмешника». Помнишь, фермер-расист, которого убивает Страшила Рэдли. Погоди минутку, сейчас найду книгу. Боб Юэлл!
Понимаешь, почему мы так много времени проводим вместе? Ему нужна какая-то позитивная модель вместо отца, а еще нормальный взрослый, с которым можно поговорить и у которого можно чему-нибудь научиться. Если бы я мог, я бы его усыновил.
Вот так приблизительно и живет твоя половинка. И именно поэтому год в Миссури так важен для меня, хоть это натуральное хождение по мукам. С одной стороны, жду не дождусь, когда наконец смогу вернуться к тебе, к морю, в настоящий город, где люди разговаривают на понятном языке и где можно спокойно заказать фраппе и на тебя не будут пялиться как на умалишенного. Но с другой стороны, эта работа очень важна и для меня, и для детей. Даже придуманная мной сказка — так у них будет хотя бы некоторое представление о преданиях и словесном искусстве.
Ладно, бумага кончается, и час ночи уже, а завтра в школу. Уит, передавай от меня привет своим, и пусть сенатор трудится так же усердно. Если повезет (ну и если мне все-таки заменят прокладку головки цилиндра), увидимся где-нибудь в середине июня.
Береги себя. Пиши, пожалуйста, почаще. Я тут скучаю один в лесах Миссури.
Целую,
ПолОгромный небесный галеон плыл между высокими кучевыми громадами, подсвеченными розовым закатным сиянием. На палубе Рауль, Добби и Джернисавьен наблюдали, как похожее на огненный шар солнце медленно тонуло в облаках внизу. Время от времени капитан Кокус громко выкрикивал какую-нибудь команду, и матросы-шимпанзе принимались ловко носиться по снастям и такелажу. А иногда он наклонялся к первому помощнику и что-то тихо шептал ему на ухо, а тот передавал распоряжение вниз через металлическую переговорную трубу. Тогда неокошка чувствовала, как едва заметно меняется высота — это под палубой регулировали в баках уровень антигравитационной жидкости.
Закатный свет померк. На небе показались первые мерцающие звезды, а из облаков вынырнули две небольшие луны. Тогда матросы зажгли мощные ходовые огни на мачтах и на рангоутах. Погасли последние розовые отсветы, и Добби предложил спуститься вниз, ведь скоро начнется праздник весеннего солнцеворота.
И какой же замечательный получился праздник! Длинный капитанский стол был уставлен редкими винами и роскошными яствами: и сочный жареный бизон из Северных степей, и рыба-меч из Южного залива, и тропические фрукты с далекого Экваториального архипелага. Тридцать гостей ели и смеялись так громко, как никогда прежде; смеялись даже обычно угрюмые друиды. Официанты непрестанно наполняли бокалы, вино и застольные речи лились рекой. Добби провозгласил тост за капитана Кокуса и его великолепный корабль. Чародей обратился к суровым седым корабельщикам: «Мои славные собратья-антропоиды», но не смог выговорить последнее слово и под дружный хохот пирующих начал все сначала. Капитан ответил на любезность и тоже поднял тост — за неустрашимую троицу и блистательную победу Рауля на карвнальских Смертельных Играх. Он ни словом не обмолвился о том, что за тремя пассажирами гнались по пятам два отряда солдат-ящеров, а галеону пришлось отчалить от якорной башни второпях и тайком. Гости зааплодировали и разразились одобрительными возгласами.
А потом начался солнцеворотный бал. Тарелки убрали, скатерть свернули, а сам стол разобрали и унесли. Все стояли на нижней палубе с бокалами в руках. Потом к ним спустился корабельный оркестр, и музыканты принялись настраивать инструменты.
Когда все было готово, Кокус хлопнул в ладоши, и воцарилась тишина.
— Позвольте снова поприветствовать вас на борту «Попутного ветерка», — громко провозгласил он, — и пожелать радостного и удачного солнцеворота. А теперь — танцы!
Капитан снова хлопнул в ладоши, матросы притушили фонари, заиграл оркестр, а огромные деревянные экраны, прикрывавшие корабль снизу, раздвинулись в стороны, и удивленные пассажиры увидели под ногами хрустальный пол и бездонное ночное небо. Все невольно отступили ближе к бортам, охая и ахая от изумления. Потом раздались смех и аплодисменты, и начались танцы.
Все дальше и дальше уносили великолепный небесный галеон воздушные течения. Наверху горели только ходовые огни, да время от времени с марсовой площадки доносился громкий выкрик впередсмотрящего: «Все в порядке!» Зато снизу корабль сиял и искрился, и слышались древние и прекрасные песни (их, если верить легендам, играли еще на Старой Земле). На высоте пяти тысяч футов над укутанными ночным сумраком холмами кружились в танце лесные нимфы и демимы. Один раз даже благоразумная Джернисавьен пустилась в пляс с кентавром: Рауль поднял ее своими сильными руками высоко-высоко и принялся выстукивать копытами замысловатый ритм на прочном и гладком прозрачном полу.
Через какое-то время внизу началась гроза, и капитан велел погасить огни. Несколько минут вся честная компания любовалась в тишине черными грозовыми тучами и змеившимися под ногами молниями. А потом оркестр заиграл гимн солнцеворота, и Джернисавьен, удивляясь сама себе, пела вместе со всеми старинную грустную балладу и плакала.
Затем пришла пора ложиться спать. Веселые гуляки, пошатываясь и спотыкаясь, разбрелись по каютам. В ночном воздухе еще звучали последние аккорды отгремевшей бури, но пассажиры так устали, что заснули, даже несмотря на гром. Добби лежал на спине, раскинув руки, улыбался во сне и громко храпел, широко раскрыв большую обезьянью пасть. Рядом на подушке темнел его фиолетовый берет. Джернисавьен не понравилось на большой койке, и неокошка свернулась клубком в одном из выдвижных ящиков, который чуть приоткрывался и снова закрывался, когда корабль легонько покачивало. Только Раулю не спалось. Он посмотрел на мирно посапывавших друзей и поднялся на палубу.
Ежась на прохладном ветру и наблюдая, как первые клубящиеся облака постепенно розовеют от рассветных лучей, кентавр предавался невеселым мыслям. Если их не перехватят воздушные машины Магов, они доберутся до Южного залива всего через несколько дней, а затем — еще дней пять пешком до того места, где, по их сведениям, находился портал. Троице вряд ли удастся дожить до конца этой недели: слишком уж близко они подобрались к твердыне Магов. Рауль поигрывал пристегнутым к поясу кинжалом и любовался восходом.
Мистер Кеннан стоял на асфальтированной площадке и улыбался весеннему солнышку, а вокруг бегали четвероклассники. Хотя день был теплым и погожим, на учителе красовались спортивная кепка и армейская куртка, которую так любили обсуждать ученики. Время от времени учитель ухмылялся, просто так, без особой причины, и поглаживал рыжую бороду. Какой же прекрасный выдался день!
Малыши тоже радовались совсем по-весеннему. Зимой маленькая площадка превращалась в мрачный тюремный прогулочный плац, зато теперь тут было просто замечательно. Повсюду на земле валялись куртки и свитера, дети свисали с турников, бегали по боковой дорожке, играли в бейсбол около кирпичной школьной стены. Дональд и Орвилль сосредоточенно запускали в луже какую-то палочку. Даже Терри радостно носился по двору. Кеннан услышал, как он говорит Брэду: «Ты будешь Добби, а я Раулем, мы сражаемся с крысами-пауками». Третий мальчишка, Билл, начал спорить — не хотел становиться неокошкой даже на десять минут перемены, ведь Джернисавьен была девчонкой.
Учитель глубоко вздохнул и снова улыбнулся. После долгих месяцев ледяного забытья жизнь возвращалась в норму. Кто бы мог подумать, что в Миссури (они же состояли в Конфедерации?.. или хотели туда вступить) такие серые, холодные и бесконечные зимы? Даже занятия несколько раз отменяли из-за снегопада. После одного такого случая Кеннан с ужасом осознал, что четыре дня вообще ни с кем не разговаривал. А если бы умер — его хватились бы? Нашли бы его мертвого в меблированных комнатах, за кривым письменным столом, среди бумаг и книжек в мягких обложках?
Пол улыбнулся собственным жалостливым фантазиям, но зима и вправду выдалась долгой, так что мрачные мысли были вполне объяснимы. Центральный принимающий прозевал мяч, и тот прикатился прямо к ногам Кеннана (вокруг учителя, как обычно, толпились малолетние поклонницы). Он картинно размахнулся и сделал передачу вопящему кетчеру. Бросок вышел не очень удачным, и мяч отскочил от окна класса рисования.
В соседнем дворе зацветала яблоня, на дорожке пробивалась зеленая трава, а в воздухе пахло рекой, что текла всего в четырех кварталах отсюда. До начала каникул оставалось меньше двух недель! Кеннан ждал конца учебного года с некоторой грустью и в то же время с искренним облегчением. Мечтал, как наконец сможет упаковать книги и немногочисленные вещи, сесть в машину (ее как раз недавно починили) и по летнему солнышку отправиться на восток. Подробно рисовал в воображении неторопливый побег из Миссури: сначала бесконечные кукурузные поля, потом оживленная пенсильванская развязка, попутные города, знакомый массачусетский съезд, запах моря… С другой стороны, это его первый год в школе: он никогда не забудет этих детей, а они никогда не забудут его. Может, будут потом внукам рассказывать ту длинную сказку, которую он для них сочинил. В последнюю неделю Полу пару раз даже приходила в голову шальная мысль остаться еще на год.
От стайки девочек отделилась Сара и, как заправская кокетка, взяла Кеннана под руку. Он улыбнулся, рассеянно погладил девочку по голове и отошел от учеников. Стоя в сторонке, Пол достал из кармана мятое письмо и в десятый, наверное, раз перечел, а потом уставился на север, туда, где текла незримая река. Неожиданно закричали бейсболисты. Учитель очнулся от раздумий, раздраженно посмотрел на часы и дунул в пластмассовый свисток. Перемена окончилась. Дети подобрали разбросанные на земле куртки и выстроились в шеренгу.
На побережье Южного залива было намного теплее. Рауль, Добби и Джернисавьен направлялись на запад — туда, где, если верить легендам, располагался портал для нуль-транспортировки. Они пользовались старинной картой, которую чародей много месяцев назад отыскал в Человечьих руинах. До конца путешествия оставалось всего несколько дней. На шее Джернисавьен покачивался ключ, который они отыскали в архивах Карвнала и за который их доброму другу Фенну пришлось заплатить жизнью. Если старые книги не обманывали, с помощью ключа можно будет активировать так долго бездействовавший портал и присоединить Сад ко Всемирной сети. Тогда тирании злобных Магов придет конец.
Путешественники продвигались на запад почти под носом у этих самых Магов. На севере громоздились Рогатые горы, где среди острых уступов и скрывалась жуткая твердыня врагов.
Друзья пробирались под покровом густого тропического леса и непрестанно поглядывали на небо — ведь летающие платформы Магов могли появиться в любую минуту. Джернисавьен дивилась огромным пальмам больше сотни футов высотой.
Вечером третьего дня они разбили лагерь неподалеку от устья маленькой речушки, которая впадала в Южное море. Добби поставил под деревьями шелковую палатку, и тонкая ткань затрепетала на морском ветру. Рауль прикрыл шатер так, чтобы его нельзя было заметить с воздуха, и все уселись ужинать. Странники решили не разжигать костров на побережье Южного залива и теперь довольствовались галетами и вяленым мясом, купленными еще на «Попутном ветерке».
После еды они любовались роскошным тропическим закатом, а потом на ночном небе вспыхнули необычайно яркие звезды. Добби показал Южного Стрелка — это созвездие всходило только на юге, а все трое были родом с севера и раньше его никогда не видели. Джернисавьен затосковала по дому, но постаралась скорее прогнать грустные мысли: неокошка поигрывала древним ключом, висевшим у нее на шее, и воображала, как замечательно будет открыть портал, ведущий в сотню новых миров. Она глядела на небо и гадала: на какой же из этих звезд живут люди? Где прячутся неведомые миры? Добби словно услышал ее мысли.
— Не верится, что мы почти добрались, — произнес он.
Рауль встал, потянулся и отправился на разведку к реке.
— Я все вспоминаю о предсказании того пушистика, — сказала Джернисавьен. — Помнишь, тогда, в древесном доме Тар-тюффеля.
Добби кивнул. Загадочное маленькое создание приоткрыло для каждого из них завесу над страшным будущим. Как такое забудешь?
— Многое уже сбылось, — проворчал чародей. — Даже встреча со Шрайком.
— Да, но только не мой сон — тот, где я в страшной маленькой комнате, а вокруг столпились Маги.
Действительно. Вещий сон маленькой неокошки оказался самым зловещим. Они старались пореже о нем вспоминать.
«Она лежала, связанная и беспомощная, на стальном операционном столе. Вокруг столпились Маги. Их лица скрывали темные капюшоны. Вот один, самый высокий, вышел вперед, его осветил кроваво-красный луч… медленно откинулся капюшон…»
Джернисавьен содрогнулась. Добби, наверное, решил сменить тему разговора — он встал и огляделся в темноте.
— А где Рауль?
Он увидел, как над джунглями взошли две круглые луны. И вдруг сообразил, что для них было еще слишком рано…
— Беги! — закричал орангутанг и подтолкнул неокошку к деревьям. Но слишком поздно.
В воздухе загрохотали воздушные машины. Летающие платформы испускали тонкие лучи, и от них верхушки деревьев вспыхивали в мгновение ока. Джернисавьен свалило на землю взрывной волной, а мех и усы неокошки опалило близкое пламя. Враги приближались. На платформах толпились закутанные в плащи с капюшонами Маги, а вниз на землю с громкими воплями спрыгивали солдаты-ящеры.
Добби сражался храбро и отчаянно, хотя всегда и называл себя трусом. Чародей поднырнул под пику первого ящера, ухватился за древко и выдернул оружие из рук противника. Пронзив горло шипевшему врагу, орангутанг обернулся, чтобы лицом к лицу встретить еще пятерых. Добби одолел двоих, а третьего поднял высоко в воздух своими могучими руками, но тут сзади на него обрушился подлый удар.
Джернисавьен закричала и рванулась к упавшему другу. Но вдруг перед ней выросла высокая чешуйчатая фигура, и что-то ударило неокошку по голове. В глазах у нее потемнело. Она пришла в себя только через несколько минут, когда ее и Добби уже погрузили на одну из летающих платформ. Машина поднялась в воздух.
И тут раздался громкий, веселящий сердце звук, который она так хорошо знала: Рауль громко и яростно затрубил в свой сладкозвучный боевой рог. Пять чистых нот прорезались сквозь гул платформ и треск лесного пожара.
Он галопом выскочил на поляну, подняв щит и копье, и испустил боевой клич клана кентавров. Рауль смел солдат-ящеров, словно кегли. Маги выстрелили смертоносным лучом, но кентавр отразил его волшебным щитом из священного металла. Охотничье копье поразило сразу трех ящеров, которые пытались спрятаться друг за друга, и переломилось от натуги. Отбросив его в сторону, воин вытащил из ножен короткий, но грозный меч, вновь испустил боевой клич и ринулся на вооруженную толпу врагов.
Джернисавьен почувствовала, как замерла летающая платформа. Маг, который стоял возле пульта управления, проскрежетал какой-то приказ, и тридцать ящеров вскинули арбалеты. Дружно запели оперенные стрелы. Они пронзили и кентавра, и оставшихся на земле солдат. Послышались громкие крики. Сердце неокошки едва не остановилось от горя: она видела, что из груди и боков Рауля торчит не меньше полудюжины древков. Храбрый воин опустился на землю, в окружении поверженных врагов, чьи чешуйчатые лапы и зеленые хвосты дергались в предсмертной агонии.
Джернисавьен испустила пронзительный скорбный вопль, а потом ей на голову снова опустился кулак и она впала в блаженное забытье.
20 мая, четверг.
Сегодня потеплело. На улице около двадцати. Вечер, казалось, никогда не закончится.
Немного посидел в библиотеке. Отправил резюме еще в три школы: в Филлипс-Эксетер, католическую школу и Грин-Маунтин. Уитни пока ничего не написала про экспериментальную школу. Еще три недели назад отослал ей все анкеты, и она обещала сразу же переговорить с доктором Фентвортом.
Поел куриных ножек в «Кентукки фрайд чикен». В округе появились признаки жизни: через открытое окно с площадки доносятся детские крики и смех. Скоро десять, но все еще светло. Поздно ночью слышно, как по реке поднимаются баржи — гудят двигатели, а потом волны бьются о цементные сваи на Локаст-стрит.
Побеседовал с Эппертом и Нортом (помощником инспектора школьного округа). Готовы взять меня на следующий год, если вдруг захочу (вот уж вряд ли). Учителя, как настоящие стервятники, нарезают круги вокруг моего класса. Кайл приклеила на шкаф ярлык со своим именем, а Рирдон (старая жадная корова, работала бы лучше в магазине у мужа, там и орала бы на детей, чтоб не брали комиксы) застолбила кресло, глобус (мы его только-только в марте получили) и книжную полку. Дождаться не может, когда же я уеду. Тогда у них опять будет только два четвертых класса. После моего отъезда школа скатится прямиком в Средневековье. Неудивительно, что Т.С. и другие называют это все климактерическим заведением.
На реке громко гудят корабли и звонят в рынду. Похоже на Ярмут: там к мачтам на маленьких суденышках привязывали колокольчики.
В сказке все идет по плану. Сегодня плакали Донна, Сара и Элис. И некоторые мальчики тоже, хотя и тайком. Ничего, обрадую их в понедельник. Старине Раулю пока рано умирать — не сейчас, умрет потом, в лучших традициях жанра. По крайней мере, эта сказка учит дружбе, преданности и чести. Конец будет грустный: Рауль пожертвует собой ради остальных, задержит Магов, а друзья активируют портал. Но надеюсь, что последняя часть всех немножечко утешит: Джернисавьен и Добби вернут на Сад людей и разгромят врагов. Грядет мощная финальная сцена.
Надо будет все это записать! Может, летом займусь.
Совсем стемнело. В мое окно сквозь кленовую листву светит фонарь. Поднялся ветерок. Пойду, наверное, прогуляюсь к реке, а потом поработаю.
Джернисавьен очнулась. Ее хлестали порывы ледяного ветра. Девять летающих машин скользили в разреженном воздухе над заснеженными горными вершинами, которые мерцали и переливались в свете звезд. Рука неокошки свисала с края платформы, если бы она откатилась чуть в сторону, то упала бы вниз и погибла.
Сквозь застлавшую глаза пелену Джернисавьен смутно различала на фоне неба другие платформы, и на каждой стояли облаченные в капюшоны Маги. Добби нигде не было видно.
Внезапно один из Магов зашипел на ящера, управлявшего машиной. Неокошка увидела, что они подлетают к горе, похожей на старый сломанный зуб. Курс и скорость не менялись, и казалось, аппарат вот-вот врежется в обледенелую скалу. Джернисавьен приготовилась к прыжку, но в последний миг солдат нажал на кнопку, и платформа сбросила скорость.
Кусок породы отъехал в сторону, прямо в горе открылся огромный туннель. Из проема лился зловещий кроваво-красный свет. Платформа влетела внутрь, и каменная дверь вернулась на место. Джернисавьен оказалась в плену в твердыне Магов.
Утром в субботу Кеннан взял Сару, Монику и Терри на прогулку. Мальчик не очень обрадовался двум хихикающим девчонкам: он с хозяйским видом забрался на переднее сиденье и старательно не обращал внимания на их шепот и глупые смешки. Учитель шутил всю дорогу до заповедника, и маленькие кокетки каждый раз прыскали от смеха и принимались громко шушукаться, а Терри, как обычно, тянул слова и шуток не понимал.
Кеннан припарковался, и они отправились бродить по лесу и карабкаться по камням. Потом Терри сходил к машине и принес плетеную корзину для пикника. Все четверо уселись на скале в приятной тишине и пообедали сандвичами из местного супермаркета, кукурузными чипсами и шоколадным печеньем. Запивали колой. Кеннан, как всегда, подивился детскому аппетиту.
После обеда он повез их обратно через мост, на север по шоссе, а затем опять на запад вдоль реки. Четырнадцать миль, и они оказались в Германне — маленьком немецком поселении, живописном и по-викториански очаровательном, в отличие от остальной округи. Там готовились к Майфесту. Кеннан прокатил детей на здоровенном чертовом колесе и угостил в кафе шоколадным мороженым. На улице женщины в ярких крестьянских платьях танцевали с пожилыми мужчинами в национальных тирольских костюмах (забавное и немного нелепое зрелище), а оркестр на белом деревянном помосте задорно играл для небольшой толпы слушателей одну польку за другой.
Домой вернулись почти к ужину. Моника ныла и канючила всю дорогу, и пришлось пересадить ее вперед вместо Терри. В итоге никто не обрадовался: Терри и Сара сидели, молча насупившись, а Моника нервно ерзала и дергалась всякий раз, когда Пол к ней обращался или вообще смотрел в ее сторону. Наконец остановились на заправке под предлогом посещения туалета, а потом пересели как раньше.
Девчонки выпалили свое обязательное «Спасибо-болыпое-было-очень-весело» и убежали сломя голову. Кеннан нарочито громко выдохнул, когда Моника скрылась из виду, и повернулся к последнему пассажиру.
— Ну, Терри, тебя куда подбросить? Хочешь, остановимся где-нибудь и перекусим горячими сосисками?
— А может, лучше жареная рыба? — неожиданно предложил мальчик.
Пол совсем забыл, что в тот день на берегу устраивали большой пикник. Праздник проходил каждый год в трех милях от города возле кемпинга «Лосиный домик». Большое событие.
— Ладно, рыба так рыба.
Там собралось полгорода. В двух огромных палатках местные жадно поедали жареного сома, картошку и капустный салат. В траве рядом с парковкой установили несколько ветхих каруселей. На самодельных лотках продавали пироги, сбивали мячиком бутылки и разыгрывали в лотерею цветной телевизор. На бейсбольном поле мужчины играли в софтбол. Чуть подальше на лугу подвесили бочку, и две команды пожарных поочередно лупили по ней из шлангов. Под радостные возгласы зрителей бочка раскачивалась взад-вперед.
Кеннан и Терри уселись за длинный стол и поужинали жареным сомом, а потом отправились бродить вдоль лотков. С учителем все здоровались, а он узнавал разве что каждого десятого. Посмотрели софтбол. Солнце село, зажглись гирлянды фонариков. Карусель со скрипом играла одну за другой четыре почти одинаковые песенки. На краю леса мерцали светлячки. Несколько мальчишек посовещались между собой и позвали Терри в свою компанию. Пол вложил в ладонь пораженного мальчика два доллара, и тот умчался с остальными кататься на аттракционах.
Учитель еще немного посмотрел на игроков, а потом вернулся к палатке купить пива и там встретил Кей Беннет, окружного школьного психолога. Они разговорились, и Кеннан заказал себе еще порцию. Кей приехала из Калифорнии, работала здесь уже второй год, и, как и Полу, это маленькое провинциальное болото казалось ей тюрьмой. Они взяли пластиковые стаканы и отправились гулять по темным тропинкам, которые вели от «Лосиного домика» к маленьким коттеджам среди деревьев. Над лугом взошла полная луна. Дважды Кей и Пол натыкались на миловавшихся в темноте старшеклассников и оба раза тихо обходили парочки, переглядываясь и понимающе улыбаясь. Кеннан сам чувствовал радостное волнение оттого, что гуляет с молоденькой девушкой при свете луны.
Позже по дороге домой он в сердцах ударил по рулю, досадуя, что они с Кей встретились только сейчас. Случись это раньше, зима могла бы сложиться для него совсем по-другому.
У себя в комнате Пол достал бутылку «Чивас ригал» и уселся за кухонный стол с томиком Вольтера. Сквозь сетку дул легкий прохладный ветерок. После двух стаканов Кеннан принял душ и забрался в постель. Решил не делать сегодня записи в дневнике, но при этом улыбнулся, перебирая в памяти насыщенный событиями день.
— Черт!
Кеннан сел в постели, потом вскочил, быстро обулся, позабыв про носки, и натянул нейлоновую ветровку прямо поверх пижамы.
Полная луна светила так ярко, что можно было ехать с выключенными фарами. «Вольво» потряхивало на резких поворотах. На парковке не осталось машин, а все поле было испещрено следами протекторов и глубокими колеями. Укутанные в чехлы аттракционы ждали завтрашней погрузки. Сперва Кеннан никого не обнаружил на лугу и с облегчением перевел дух. А потом он заметил на пустом бейсбольном стадионе маленькую фигурку, сидевшую на самой верхней скамейке.
Когда Пол подошел ближе, то увидел, что на пыльном лице мальчика остались дорожки от слез. Кеннан стоял внизу и пытался что-то сказать, но не смог и лишь беспомощно пожал плечами.
— Я знал, что вы вернетесь. — В голосе Терри, казалось, прозвучала радость. — Я знал, что вы вернетесь.
Рауль был жив. Кентавр с трудом выбрался из-под вражьих трупов. Его спасла рубашка. Эту ярко расшитую тунику, которую Фенн подарил ему в Древесных вершинах, он не снимал с самого Карвнала. Что тогда сказал маленький загадочный пушистик? «Не просто украшение». В самом деле. Рубашка остановила целых шесть арбалетных стрел, в то время как неудачливых солдат-ящеров не спасли даже кольчуги.
Кентавр поднялся на ноги и сделал четыре неуверенных шага на подгибавшихся ногах. Сколько же он пролежал без сознания? Как трудно дышать. Возможно, сломано ребро. Рауль ощупал грудную клетку.
Не важно. Воин обошел поляну, подобрал лук и все стрелы, которые сумел найти. Короткий меч пронзил вражьи щит и шлем и остался торчать в черепе ящера — пришлось его вытаскивать. Копье сломалось, но Рауль взял себе другое, а от своего отломил наконечник из священного металла и положил в колчан. Вооружившись, он поскакал прочь с поляны.
Высокие пальмы все еще дымились. Маги не могли уйти далеко, и Рауль знал, куда они направились.
На севере сияли высокие пики Рогатых гор. Поморщившись от боли, кентавр повесил за спину щит и лук, а потом легким размеренным галопом припустил в направлении горной гряды.
Ночь. Вокруг ртутных фонарей танцуют стаи мошкары. В телефонной будке возле маленького бакалейного магазина стоит Кеннан. Магазин закрыт, его окна тонут во тьме. На улице ни души.
В темноте слышится голос Кеннана:
— Да, Уит, я получил… Нет, я знаю… Я знаю, как трудно увидеться с Фентвортом… Конечно хочу. Но, Уит, не все так просто. Мне нужно не только… Я же договор подписал, а там сказано… Последние дни на самом деле очень важны… Так что он сказал?.. Слушай, какая разница, встречусь я с ним сейчас или в августе, когда он вернется? Если решение принимает он, до его возвращения никого на это место не возьмут, правильно? Если просто договориться о… Да? Да, понимаю. До его отъезда? Да. Да. О, понимаю… Нет, Уит, для меня важно, что ты там будешь. Просто… просто у меня нет денег на самолет. И потом надо будет лететь обратно за вещами. Да. Да. Может, и так, но я не могу себе позволить пропустить последние несколько… Не знаю. Думаю, да, ачто? Черт, Уитни, ты ведь уже была в Европе… Почему бы… Почему бы тебе не сказать своим, что ты подъедешь только в конце июня или… Да. Правда? Их там уже не будет? А эта… как ее зовут?., экономка, да, Милли… Когда? Черт. Да, действительно очень здорово… Нет-нет, Уитни, я очень ценю. Ты даже не представляешь, что это для меня значит… Да. Э-э-э, я все понимаю, но послушай, мне трудно объяснить. Нет, слушай, завтра пятница. Да… потом в понедельник будет выходной, День памяти.[133] Потом вторник, среда, а четверг — последний день перед каникулами. Нет… только табели заполнить. Слушай, ну не может это подождать всего одну неделю?.. Ох. Да. Хорошо, понимаю. Ладно, давай я обо всем подумаю и завтра решу?. Знаю… но он же будет в субботу? Хорошо, слушай, завтра перезвоню… да, в пятницу вечером… и скажу… черт возьми, нет, Уит, у меня плохо с деньгами, но не настолько же, я не хочу, чтобы твоим родителям пришел счет за… слушай, я перезвоню в девять, это… ммм… по-вашему, одиннадцать вечера, ладно?.. Ну, ты можешь ему позвонить в субботу и сказать, что я буду к среде, или я просто подожду, вдруг повезет и появится еще одна вакансия. Ммм, э-э-э… Погоди, давай просто… Давай, я хорошенько все обдумаю, ладно? Да… хорошо, приму это к сведению, не волнуйся. Слушай, Уит, у меня четвертаки кончаются. Да. В девять… Ну, в одиннадцать. Нет… Я тебя тоже. Очень рад был услышать твой голос… Да. Хорошо. Тогда завтра поговорим. Да… Очень хочу тебя увидеть… Я тебя тоже. Пока, Уит.
Добби пытался сбежать, но его поймали и подвесили на цепях у стены. Джернисавьен лежала рядом, привязанная к столу, и видела: орангутанг еще дышит. В зловещем красном свете казалось, что с чародея живьем содрали кожу.
В кровавом полумраке бродили высокие, закутанные в плащи тени. Когда Маги не смотрели в ее сторону, неокошка возобновляла попытки освободиться, но стальные оковы на запястьях и лодыжках не поддавались ни на дюйм. Все бесполезно. Джернисавьен оглядела металлический стол. В гладкой поверхности были проделаны маленькие отверстия, а по бокам шли специальные стоки-желобки. Интересно зачем? Неокошка ужаснулась своей догадке и решила больше об этом не думать. Сердце ее билось как бешеное, так и норовя выскочить из груди.
Но зато вчера, когда Добби пытался бежать, стражники ненадолго отвлеклись, и она сумела проглотить заветный ключ.
Вперед из тени вышла высокая фигура, и ее осветил кроваво-красный луч. Медленно-медленно Маг откинул капюшон. Джернисавьен в ужасе уставилась на покрытую чешуей морду, похожую на голову богомола, на огромные холодные кроваво-красные глаза, на клыки, с которых капала слизь.
Маг сказал что-то на своем непонятном языке и медленно поднял костлявую чешуйчатую лапу. В грязных когтях он сжимал скальпель…
А всего в полумиле от логова Магов Рауль карабкался в гору, пробираясь через большие сугробы и поскальзываясь на ледяных скалах. Дважды он падал и дважды чудом спасался, подтянувшись на могучих руках. Падение означало бы верную смерть.
Волшебная рубашка Фенна кое-как согревала кентавра, но лошадиная часть туловища страшно мерзла. Руки быстро онемели, и Рауль понял, что в следующий раз ему уже не удастся подтянуться. Вдобавок ко всем неудачам начало садиться солнце. На такой высоте кентавру не пережить еще одну ночь.
Только бы найти вход!
Рауль уже почти отчаялся, как вдруг где-то внизу упал камень и невдалеке кто-то тихо выругался. Кентавр подполз к краю заснеженного скального выступа и увидел всего лишь в каких-то тридцати футах двух ящеров-стражников. Они стояли возле белой железной двери, которую почти невозможно было заметить на фоне утопавшего в снегу горного склона. Если бы ледяной ветер не донес до него ругательство, ящеров он тоже не увидел бы — их хорошо скрывали белые плащи и капюшоны.
Солнце село. Пронзительный ветер швырял в дрожавшего от холода кентавра пригоршни снега. Рауль припал к земле и непослушными пальцами отстегнул со спины лук.
Разросшаяся молодая листва почти закрыла обзор реки, но с просторной веранды особняка на холме было видно, как по травянистому уступу карабкаются мальчик и молодой мужчина. Они шли медленно, мужчина что-то говорил, а мальчик смотрел на него снизу вверх.
Бородач сел под деревом и похлопал рукой по земле, но его спутник покачал головой и сделал два шага назад. Мужчина снова заговорил, широко вытянул руки, растопырив пальцы, и наклонился вперед, словно хотел обнять мальчика, но тот отступил еще дальше. Молодой человек поднялся, а малыш повернулся и быстро зашагал вниз с холма, а потом побежал.
Через минуту он уже скрылся за поворотом, там, куда уходила железная дорога, а мужчина остался на холме один.
Маленькая «вольво» свернула в узкую боковую улочку и остановилась около дома Терри. Кеннан долго сидел в машине, не убирая рук с руля. Когда он уже собрался выходить, с крыльца спустился мистер Бестер в одном мешковатом джинсовом комбинезоне, без рубашки. Он наклонился и заглянул под фундамент, и на седые, коротко стриженные волосы упал луч света. Учитель выждал секунду-другую и тронулся с места.
В два часа ночи Пол все еще паковал книги. Проходя мимо занавешенного окна, он услышал на улице какой-то звук, положил на пол очередную стопку и выглянул в подсвеченную фонарем ночную тьму.
— Терри?
Никто не ответил. Тень листвы неподвижно лежала на лужайке. Кеннан подождал пару минут и затем вернулся к своим книгам и коробкам.
Он собирался выехать в воскресенье рано утром, но закончил погрузку только к десяти. Похолодало, со свинцово-серого неба упало несколько дождевых капель. Домовладельца Кеннан не застал (наверное, тот отправился в церковь) и поэтому просто бросил ключ в почтовый ящик.
Дважды он проехал через город и четыре раза мимо школы, а потом тихо выругался и свернул на запад, на шоссе.
На пятьдесят пятой автостраде машин почти не было, а немногочисленные путешественники ехали с включенными фарами. По ветровому стеклу забарабанил дождь. Пол остановился позавтракать на западной окраине Сент-Луиса, но официантка сказала, что время завтрака уже закончилось, и принесла ему гамбургер и кофе. Из-за непогоды кафе выглядело темным и холодным.
Когда он проезжал через центр Сент-Луиса, начался настоящий ливень. Приходилось то и дело менять полосу движения, поэтому Врата на Запад Кеннан прозевал. Под мостом текла Миссисипи, такая же серая и неспокойная, как и небо над головой.
В Иллинойсе «вольво» свернула на семидесятое шоссе, устремившись на восток. Шуршание шин по мокрому асфальту и равномерное щелканье дворников нагоняли на Кеннана тоску, и он включил радио. Там, как ни странно, шла прямая трансляция гонок «Индианаполис 500». Он слушал, как ревели моторы и кричали болельщики. Навстречу ему по шоссе сквозь пелену дождя проносились огромные фуры. Через полчаса комментатор объявил, что на западном горизонте показались грозовые облака, и Пол выключил радио. Было ясно, что гонки сейчас остановят.
В тишине Кеннан ехал на восток.
Во вторник после Дня памяти четвероклашки мистера Кеннана вернулись в класс, а там за учительским столом восседала миссис Борчердинг. Ее все хорошо знали по предыдущим заменам, а некоторые дети учились у нее в первом классе — она тогда отрабатывала свой последний год перед пенсией.
Миссис Борчердинг, казалось, вся сплошь состояла из морщин, двойных подбородков и жира. На обрюзгших руках колыхались толстые складки. Чулки туго стягивали вздувшиеся лодыжки. Лицо и ладони испещряли многочисленные пигментные пятна. От нее слега пахло тлением, и этот запах вскоре заполнил всю комнату. Дети сидели необычайно тихо, положив одну руку на другую, и молча наблюдали.
— Мистер Кеннан уехал по срочному делу, — сказало жутковатое видение невыразительным голосом, мало похожим на человеческий. — Кажется, у него заболел кто-то из родных. Как бы то ни было, оставшиеся три дня вас буду учить я. И я хочу, чтобы в этом классе все работали, понятно? Мне не важно, сколько осталось до каникул — три дня или триста. И мне не важно, как вы работали раньше. Придется хорошенько потрудиться. С этого момента и до четверга будете корпеть в поте лица. Ваши табели уже заполнены, но это совсем не значит, что можно валять дурака. Мистер Эпперт разрешил мне в случае необходимости исправить оценки. В том числе за поведение. Если за эти четыре дня мне что-то не понравится, я вполне могу оставить кого-нибудь на второй год. Вопросы есть? Нет? Очень хорошо, достаньте учебники арифметики, будем писать проверочную.
Во время утренней перемены Терри со всех сторон засыпали вопросами. Он стоял неподвижно и молчаливо, и волны любопытства и отчаяния разбивались о него, как о скалу. Но кое-что мальчик все-таки рассказал, и ученики заволновались и загомонили, словно массовка в какой-нибудь мелодраматической сцене.
Только ближе к обеду один из них набрался храбрости и обратился к миссис Борчердинг. Конечно же, это была Сара. Все делали упражнение по чистописанию, и в мертвой тишине тоненький девчачий голосок прозвучал как назойливое пчелиное жужжание. Учительница выслушала, нахмурилась и сердито посмотрела на первую парту.
— Терри Бестер.
— Да, мэм.
— Ммм… Салли говорит, ты… хм… ты хочешь нам что-то рассказать.
Класс захихикал, потому что она перепутала имя, но тучная женщина пристально оглядела всех своими маленькими глазками, и ученики тут же смолкли.
— Хорошо, раз, как выясняется, все этого столько ждали, мы покончим с этой… этой сказкой… прямо сейчас, а потом перейдем к обществознанию.
— Нет, мэм, — тихо ответил Терри.
— Это что еще такое?
Миссис Борчердинг смерила мальчика тяжелым взглядом, готовясь при малейшем признаке неповиновения подняться и подойти ближе. Терри вежливо молчал, сложив руки на парте. Только тонкие губы сжались слишком уж непокорно.
— Лучше всего покончить с этим прямо сейчас.
— Нет, мэм. — Терри говорил очень быстро, так, чтобы изумленная толстуха не успела его перебить. — Мне велели рассказать ее в последний день. В четверг. Он мне так велел.
Миссис Борчердинг уставилась на Терри и хотела что-то сказать, но только открыла рот, как с громким стуком его закрыла. Потом собралась и начала снова:
— На большой перемене в четверг. Перед уборкой. Если кто-то не захочет идти на перемену, может остаться и послушать. Остальные пойдут играть во двор.
— Да, мэм.
Терри вернулся к чистописанию.
Утро среды выдалось жарким, почти летним. Дети с надеждой входили в класс, но быстро опускали глаза, увидев за учительским столом все ту же необъятную миссис Борчердинг. Она редко поднималась со стула и запрещала вставать ученикам, хотя мистер Кеннан обычно разрешал разбиваться на группы и раздавал специальные карточки-задания. На каждой перемене все окружали Терри и пытались вызнать хоть какие-то подробности. Как ни странно, их внимание ничуть ему не льстило. Мальчик забивался в дальний угол площадки и кидал камешки в школьную ограду.
В четверг пошел слух, что «вольво» мистера Кеннана минувшим вечером заметили на главной улице: Моника Дэвис ужинала в «Угольке» и явственно видела, как учитель проехал мимо. Сара самолично обзвонила одноклассников и кротко снесла упреки разгневанных родителей, которым ее звонки спозаранку пришлись не очень-то по душе. В полдевятого, за сорок пять минут до начала первого урока, почти все собрались на площадке. Билл вызвался пойти на разведку.
Вернулся он через три минуты с таким унылым лицом, что все сразу все поняли.
— Ну? — все-таки спросил Брэд.
— Борчердинг.
— Может, он попозже придет, — робко предположила Моника, но почти никто в это не верил, и девчонки совсем сникли под осуждающими взглядами одноклассников.
Когда прозвенел звонок, перед детьми предстала все та же мрачная реальность в том же фиолетовом ситцевом платье, что и во вторник. В открытые окна не задувал ветерок, а время ползло неописуемо медленно, как всегда бывает в последний день перед каникулами. С утра они напряженно работали — вдвойне обидно, потому что в школе не осталось почти ни души: остальные классы ушли на пикник. Мистер Кеннан обещал, что они отправятся на весь день в парк к реке, «играть в софтбол до умопомрачения и есть сладости». Ученики даже распределили, кто что принесет, но теперь об этом никто уже не заикался. Малыши поднимали глаза от тетрадок, когда миссис Борчердинг давала какие-нибудь указания, и в глазах у всех читалось одно и то же выражение. На них словно откровение снизошло: мир ненадежен, и в любой момент без всякого предупреждения могут распахнуться двери в страшную реальность. Дети и раньше это знали, но опрометчиво забыли, ненадолго оказавшись внутри защитного магического круга.
В полдень класс пообедал в практически пустой столовой: кроме них, там сидели только наказанные за что-то первоклассники и пятеро рыдавших учеников мисс Картер из класса для трудных подростков.
На площадке почти никто не кричал и не подходил к Терри. Мальчик не выказывал никаких признаков волнения — просто стоял возле шеста для тетербола, сложив на груди руки.
Потом они сдали библиотечные книги (Брэду и Дональду пришлось заплатить за потерянные и порванные учебники) и молча ждали, пока миссис Борчердинг тщательно их проверит. Все знали: следующие полтора часа придется драить парты, снимать со стен плакаты и оборачивать бумагой книжные полки. Совершенно бессмысленное и бесполезное занятие: ведь через неделю придут рабочие и уберут из класса мебель, а потом вымоют помещение снова. А еще все знали, что миссис Борчердинг будет тянуть сколько можно и раздаст табели в самый последний момент, всячески намекая, что кого-то не перевели — или перевели незаслуженно — в пятый класс, хотя на второй год точно никто не остался.
Без пяти два учительница, отдуваясь, поднялась со стула и оглядела двадцать семь притихших учеников. Вокруг, как мешки с песком в окопе, громоздились стопки книг.
— Хорошо, можете идти на перемену.
Никто не двинулся с места, только Брэд вскочил, в замешательстве посмотрел на одноклассников и с идиотской ухмылкой уселся снова. Борчердинг сделалась пунцовой, начала говорить, потом одернула себя и тяжело шлепнулась на стул.
— Терри, ты что-то собирался нам рассказать, — просипела она и оглянулась на настенные часы (которые опять встали), а потом на будильник (который дети тайком продолжали заводить). — У вас есть тридцать минут, молодой человек. И не расходуйте зря время, отведенное на перемену.
— Да, мэм.
Мальчик встал, вышел к доске для объявлений и молча указал на нарисованный фломастером треугольный горный хребет, который раскинулся возле южного побережья волшебного континента. Дети кивнули. Терри опустил руку и вышел на середину класса. Его вельветовые брюки громко шуршали. Шур-шур.
Малыш повернулся и посмотрел на одноклассников. В комнате неподвижно застыл нагретый воздух, за окном приглушенно жужжали насекомые, откуда-то доносились детские крики. Терри откашлялся. Губы его побелели от напряжения, но он твердым и тихим голосом начал рассказ.
Рауль был на холме, а внизу были два ящера, которые охраняли дверь. Дверь вела в то место, где Маги держали Добби и Джернисавьен. Помните, тот большой Маг как раз достал нож и, наверное, собирался разрезать Джернисавьен и вытащить ключ. Ну и вот, пальцы у Рауля замерзли, но он знал: надо убить тех ящериц очень быстро или его поймают. Дул ветер, шел снег, стало темно.
Ящеры наклонились друг к другу и что-то такое шептали или шипели. А у них были толстые плащи, и Рауль понимал, что надо хорошо прицелиться, иначе ему их не прострелить насквозь. А у них там, может, еще и доспехи были.
И вот он достал две стрелы. Одну воткнул в снег, а вторую вставил в лук. У него на руках как будто толстые перчатки — потому что холодно и пальцы онемели. И он очень волновался, что не сможет выстрелить, что стрела сорвется слишком рано и ящеры его заметят. Но старался не думать об этом и натянул тетиву изо всех сил. Помните, это же особенный кентаврский лук — в наследство достался от папы, самого главного кентавра-воина. И никто, кроме Рауля, этот лук не мог натянуть.
А он мог. Вот он его натягивает и ждет, прицеливается. А сам замерз и весь дрожит. Но он глубоко вдыхает и держит лук ровно… нацеливает на первого ящера, который стоит у самой двери. Темно уже, но от двери идет красноватый свет.
Шух! Рауль отпускает тетиву. Одна стрела улетела, а он уже берет вторую и опять стреляет. Первый охранник — ну тот, ближе к двери, — чуть вскрикивает, а стрела попадает ему прямо в горло и выходит с другой стороны. А другой отвернулся, а когда поворачивается обратно — шух! И у него тоже стрела торчит из горла. Он падает со скалы и скользит прямо по замерзшему льду вниз, целых две мили. Но крикнуть не успевает.
А Рауль спускается на четырех ногах, скользит немного и подкатывается прямо к двери. Такая большущая железная дверь, и никакой ручки нет, и заперто. Но у первого ящера, который мертвый, на поясе висит шестнадцать больших ключей. И один подходит к двери. Повезло Раулю, что ключи у этого, а не у того, который вниз упал.
Рауль берет ключ и открывает дверь, та откатывается в сторону, а там длинный туннель, все прямо и прямо, а потом поворот. И везде красный свет и очень страшно. Он идет туда, но что-то такое задевает или там специальный электрический глаз стоял, только вдруг поднимается звон, точно как сигнализация.
«Ну, все», — думает Рауль и галопом бежит по коридору, быстро-быстро. Он уже успел лук повесить обратно и достать меч.
Помните, Джернисавьен была привязана к стальному столу, а над ней стоял Маг и собирался разрезать ей живот и достать ключ от портала? Он вынул нож — такой, как у врачей, страшно острый, таким можно масло резать. И вот он там стоит и думает, где бы разрезать поудобнее, а тут звенит сигнализация.
— Это Рауль! — кричит Добби; он висит на стене, но живой еще.
А маг поворачивается быстро-быстро и включает разные кнопки, и загораются такие небольшие телевизоры. На них видно, как бегут ящеры-солдаты, как Маги озираются, а на одном видно, как Рауль бежит по коридору.
Маг что-то такое говорит по-змеиному другим Магам, и они все вместе выбегают из комнаты. А Добби и Джернисавьен остались там одни, но ничего не могут сделать, могут только телевизор смотреть. Они же связаны.
А Рауль выбегает из-за поворота, а там целая куча ящериц, и у всех арбалеты, а у него только меч. Но они тоже удивились, больше него, поэтому Рауль успевает пригнуться и броситься вперед. А они не успели зарядить арбалеты, и он замахал мечом, и полетели во все стороны головы и хвосты. И всякое другое тоже.
Джернисавьен и Добби видят это по телевизору и кричат от радости. Но они видят на другом телевизоре ящериц, а еще Магов, которые идут к Раулю. И Добби начинает раскачиваться на своих цепях, сильно-сильно. Помните, у него же очень сильные руки, он ведь еще тогда один держал древесный дом Тар-тюффеля.
— Что ты делаешь? — спрашивает Джернисавьен.
— Пытаюсь туда дотянуться! — кричит Добби и показывает на стол, где Маги работали, а там куча пробирок и бутылочек и всякие штуки.
— А зачем? — спрашивает Джернисавьен.
— Это ядринное топливо, — говорит Добби. — А вон та синяя штука — антигравитационная, как на небесном галеоне. Если их смешать…
И Добби дергает и дергает, у него уже вены вздулись сильно-сильно, но потом — раз! — и одна цепь рвется. Добби теперь привязан только за одну руку, но он очень устал и больше не может.
— Подожди минутку, — говорит Джернисавьен и смотрит в телевизор.
Рауль порубил ящеров на куски и уже подошел близко-близко к комнате Добби и Джернисавьен, всего сто футов осталось. Но он не знает, что там четыре или целых пять Магов и у них огненные пистолеты. Он еле-еле успевает поднять щит. У него грива обгорела и волосы. А еще все стрелы сгорели, вообще все, что было на спине. И папин лук тоже.
Поэтому он отступает и видит, что его пытаются отрезать, отовсюду бегут ящерицы. Рауль поворачивается и скачет галопом, но Маги идут за ним, и если они смогут выстрелить как следует — ему крышка. Поэтому Рауль останавливается, поднимает арбалет и стреляет в них, и ему удается ненадолго их задержать.
И вдруг он забегает в большую комнату, где Маги держат свои летающие платформы. Рауль бежит, перескакивает через ограду и прыгает прямо на одну из платформ. Он ищет, как ею управлять, нажимает на кнопки, и вдруг стена поднимается — это дверь в горе. Рауль смотрит туда, смотрит на звезды, на простор, на горы. А потом смотрит назад, а там, у двери, куча ящериц и Маги. А у них пистолеты. И Рауль понимает, что если останется, то всех не одолеет. Он не боится, что умрет, но боится, что его очень больно поранят и привяжут там, как Добби и Джернисавьен.
И Рауль жмет на кнопки, и платформа взлетает. Маги стреляют из пистолетов, но он уже вылетел наружу, а там темно, и им не прицелиться хорошенько, а он еще и летит зигзагами.
А внутри Джернисавьен и Добби по телевизору все видят. У Добби всегда лицо грустное, но тут оно стало совсем-совсем грустное.
— Ты можешь вторую руку освободить? — говорит Джернисавьен.
Он не может — только мотает головой. Нужен рычаг.
Джернисавьен знает, что у нее в животе ключ. И она знает, что Маги хотят его взять и завоевать все другие миры во Всемирной сети. Может, люди смогут их победить, но им трудно будет — они ведь Магов не ждали совсем. Джернисавьен вспоминает, как трое друзей обсуждали, как найдут портал, вместе поедут на разные планеты и увидят разных людей.
— Нам ведь было так здорово? — говорит Добби.
— Да, — говорит Джернисавьен. — Давай. Делай, как собирался.
Добби ее понимает. Он улыбается, грустно так, но все равно радостно, а потом тянется далеко-далеко и отталкивается от стены. И тут они слышат, как по коридору идут Маги. Тогда Добби начинает размахивать правой рукой, на которой висит кусок цепи. Цепь попадает на ядринное топливо, и все перемешивается.
Рауль уже улетел на пять миль, но тут видит, что гора взорвалась. Верхушка отскочила, и как будто вулкан заработал. Рауль уже далеко и очень высоко, поэтому его и не разметало взрывом. И он знает, кто это сделал. И почему.
Я не знаю, что он думает. Только теперь он совсем один. Летит на платформе, а вокруг течет лава и сыплются искры. Ему некуда идти. Портал теперь не заработает. Ключ ведь был у Джернисавьен, и только Добби знал, что с ним нужно делать.
Рауль висел там один в темноте долго-долго, а потом повернул платформу и улетел. И на этом конец.
Ученики сидели молча и неподвижно, как каменные. Терри вернулся на место. Громко шуршали вельветовые брюки. Шур-шур. Он сел за парту. Девочки начали всхлипывать, а многие мальчишки опустили глаза или подняли крышки парт, чтобы скрыть слезы.
Миссис Борчердинг ничего не понимала. Она сердито посмотрела на настенные часы, а потом на будильник, подняла его, показала классу и рявкнула:
— Посмотрите, что вы наделали, молодой человек: вы лишили одноклассников перемены, а теперь мы еще и опаздываем с уборкой. Ну-ка быстро все. Сейчас будете драить парты!
Дети вытерли слезы, вздохнули и послушно взялись за уборку, которая одна только и стояла на их пути к свободе.
КОМЕНТАРИИ К ЦИКЛУ «ПЕСНИ ГИПЕРИОНА» (Боги, чудовища, мессии)
Цикл «Песни Гипериона» включает в себя две дилогии.
Первая, «Гиперион» и «Падение Гипериона», рассказывает о событиях буквально нескольких дней и охватывает шесть историй паломников, интриги в управлении Гегемонии Человека и последняя битва всего мироздания.
Вторая дилогия, «Эндимион» и «Восход Эндимиона», рассказывает о том, что произошло через двести семьдесят лет после событий первых двух книг. На Гиперионе появляется мессия, которому суждено повести человечество по новому пути.
ИСТОРИЯ
Из-за Большой ошибки ученых Землю поглотила черная дыра. Незадолго до этого человечество успело покинуть родную планету и начать Хиджру — переселение в другие миры. ИскИны — искусственные интеллекты, которые к тому моменту обрели разум и относительную свободу, подарили людям корабли с «двигателями Хокинга». Эти корабли могли развивать скорость выше скорости света, что сильно ускоряло космические путешествия. Вместе с этим ИскИны подарили человечеству Нуль-Т порталы для мгновенного перемещения в пространстве и мультлинии — сверхсветовое средство связи. Без этих изобретений человечество не смогло бы построить Гегемонию Человека — политическую систему, в которую вошли сотни разных планет. Эти планеты соединены Нуль-Т порталами — Великой Сети.
Столица Гегемонии находится на планете Тау Кита Центр, где расположен Дом Правительства. Высшим должностным лицом является Секретарь Сената — Мейна Гладстон. Для того, чтобы в реальном времени управлять сотнями миров, был создан Альтинг. Это информационная система, к которой может обратиться любой гражданин в любое время. Все вопросы рассматриваются в реальном времени, что требует колоссальных затрат энергии. Для этого используется шесть тысяч искусственных интеллектов.
За Великой Сетью живут Бродяги — мутанты, которые когда-то были людьми. Бродяги возвращаются из глубокого космоса на своих огромных кораблях, чтобы уничтожить человечество. До последней битвы остается все меньше времени. Гробницы времени на Гиперионе, построенные в далеком будущем, начинают открываться. И появляется Шрайк — Чудовище, Муза.
ГИПЕРИОН
Родина Шрайка, Гиперион — планета на окраине Галактики, названная колонистами с одноименного спутника Сатурна. Спутник Сатурна, в свою очередь, был назван в честь древнегреческого титана.
Гиперион покрыт лесами и болотами, небо над головой — лазурно-голубое, какого никогда не бывает на Земле. В лесах растут уникальные электрические деревья Тесла. На Гиперионе нет Нуль-Т порталов, нет инфосферы, эта планета не испорчена человеческими технологиями. Но Гиперион не так прост, как кажется на первый взгляд. Согласно пророчеству, на Гиперионе будут вершиться главные события. Гиперион является одной из девяти планет, на которых расположены таинственные огромные Лабиринты. Они были построены задолго до прибытия людей. Или же в будущем.
Поразительное свойство Гипериона — отсутствие тектонической активности. Это значит, что на планете нет электромагнитного поля, как на Земле. Гиперион в этом отношении похож скорее на Марс. Но самой главной «достопримечательностью» Гипериона являются Гробницы времени — загадочные строения, которые движутся из прошлого в будущее. Гробницы были закрыты много лет. Их защищали антиэнтропийные поля, и никто не может проникнуть внутрь.
К Гробницам совершались многочисленные паломничества адептов Церкви Последнего искупления. Но Шрайк обычно оставлял в живых только одного паломника. Это почему-то не останавливало следующих паломников. Религия творит странные вещи с людьми. Особенно если поклоняешься чудовищу.
ШРАЙК
Объект поклонения Церкви Последнего искупления — Шрайк. Его называют Повелителем Боли. Это трехметровое чудовище с четырьмя руками, покрытое колючей проволокой и металлическими шипами. Его пальцы — скальпели, ноги — лопасти, фасеточные глаза сияют рубинами. На груди острый шип, на который Шрайк насаживает своих жертв. Он весит целую тонну в один момент и становится невесомым в другой. Шрайк способен перемещаться во времени и пространстве. Шрайк — палач, он насаживает своих жертв на шипы дерева боли, и они испытывают бесконечные муки. Муки продолжаются даже тогда, когда жертва уже должна умереть. Но эти муки не заканчиваются. Никогда.
Шрайк убивает не всех. Он может заключить в свои объятия и даже не поранить человека. Церковь Последнего искупления считает его живым богом. Шрайк был изобретен в далеком будущем и послан в прошлое. Он движется из будущего в прошлое вместе с Гробницами времени. Ныне Шрайк ждет своего часа, чтобы стать Ангелом Окончательного искупления. Несмотря ни на что, Шрайка нельзя считать просто чудовищем. В нем чувствуется личность, он кажется… почти человеком.
ИскИны
Одной из главных движущих сил в «Гиперионе» являются ИскИны. Техно-Центр — кибернетическое пространство, где они обитают. У ИскИнов есть свой Высший разум, подобие человеческого Бога. Машинный ВР обитает в будущем, и противостоит человеческому ВР.
Есть версия, что Шрайка и Дерево Боли изобрел именно Техно-Центр, чтобы выманить сбежавшую из будущего в настоящее частицу человеческого Высшего разума.
ИскИны делятся на три фракции: Ортодоксы, Ренегаты и Богостроители. Первые — Ортодоксы — хотели использовать людей для своих целей. Ренегаты хотели уничтожить человечество. А Богостроители хотели создать машинного Бога. И у них получилось. Однажды в далеком будущем они создали свой Высший разум.
БРОДЯГИ
Помимо ИскИнов важную роль в книге играют Бродяги. Изначально они описываются как длиннорукие-длинноногие высокие люди, приспособившиеся к невесомости и жизни в космосе. Но по ходу действия появляются и Бродяги других видов. Некоторые из них могут жить в открытом космосе — у них есть крылья, которые ловят солнечный ветер. Вокруг планет Бродяги выращивают орбитальные леса, чтобы жить в них. Считается, что Бродяги хотят уничтожить человечество и занять его место.
Но у последней войны есть и другие уровни, на которых идет борьба.
СВЯЗУЮЩАЯ БЕЗДНА
В каждом развитом мире Великой Сети существует инфосфера — связь планетарного масштаба. Аналог Интернета, но более продвинутый. Инфосферы планет объединяются в единую мегасферу, которая скрепляется мультлиниями с помощью Связующей Бездны.
Порталы Нуль-Т действуют, как врата, мгновенно перенося людей и предметы с планеты на планету. Для этого используется Связующая бездна — гиперпространство, в котором можно перемещаться куда угодно за бесконечно малое количество времени. Внутри нее три основополагающие физические константы: гравитационная, постоянная Планка и скорость света.
Это отдельный континуум, существующий вне нашего пространства. Неизученное пространство, которое считается просто ресурсом для бездумного использования.
Края Связующей Бездны остаются открытыми для того, чтобы поддерживать постоянную работу Нуль-сети с помощью совокупности микро-сингулярностей.
ТЕХНОЛОГИИ
Человечество освоило путешествия быстрее скорости света. Вернее, ИскИны позволили человечеству освоить их, сделав несколько бесценных подарков.
Первое, что помогло начаться переселению с Земли — Хиджре — это «двигатель Хокинга», который движется быстрее скорости света. Технически двигателем не является. На самом деле это устройство использует ресурсы Связующей Бездны, чтобы делать скачки в пространстве.
Мультлинии — сверхсветовое средство связи, является еще одним подарком Техно-Центра и тоже использует ресурсы Связующей Бездны.
Нуль-Т каналы — очередной подарок Техно-Центра человечеству. Звездные врата «Гипериона». Техно-Центр создал целую реку — Тетис — которая текла через десятки разных миров. Путешественник, плывущий по великой реке, мог познакомиться с этими мирами.
На этом основные подарки от Техно-Центра закончились. Но есть и другие технологии. Например, крестоформ — загадочный органический компьютер, который с помощью мономолекулярных нитей врастает в тело человека, принося ему бессмертие. Если человек умирает, крестоформ восстанавливает его тело и память. Имеет форму розоватого креста, обычно «закрепляется» на груди. При извлечении крестоформа из тела человек умирает. Только Шрайк может удалить крестоформ и оставить человека в живых. Но он редко пользуется этим умением.
Еще одно изобретение — ковер-самолет, использующий для полетов магнитное поле планеты. На Гиперионе со слабым электромагнитным полем ковер летает низко и только благодаря своей небольшой массе. Может развивать скорость до 300 км/ч и летать до 1000 часов без подзарядки.
И последнее изобретение — это кибрид. Восстановление умершей личности по генетическому материалу, сознание которой находится внутри Техно-Центра. Гегемония человека и ИскИны проводили эксперименты по созданию кибридов параллельно друг с другом. Но все кибриды Гегемонии сошли с ума.
Со временем кибрид может осознать себя, как часть искусственного интеллекта, и изменить свою программу. Самым удачным экспериментом Техно-Центра по восстановлению личности стал Джон Китс.
КИТС
Нельзя оставить без внимания Джона Китса. Именно этот поэт XIX века вдохновил Дэна Симмонса на написание тетралогии. Дэн Симмонс был большим поклонником поэта. «Гиперион» и «Эндимион» — названия поэм Китса, названия которых Симмонс позаимствовал для своих книг.
«Эндимион» рассказывает о любви богини луны к простому пастуху, о поиске своего идеала на Земле и единении человеческих душ. Более серьезный и трагичный «Гиперион» рассказывает о падении титанов и победе олимпийских богов. Китс не успел дописать «Гиперион», поскольку в 25 лет умер от туберкулеза.
Джон Китс и сам появляется на страницах первых двух романов. ИскИны с помощью ДНК поэта создали его кибрида. С помощью стихотворений, поэм и множества писем, Техно-Центр воссоздал не только тело, но и личность Китса. Сознание его находилось одновременно в теле и в Техно-Центре.
Китс появляется в книге в трех воплощениях. Об одним из них расскажет Ламия. О втором практически ничего не известно, кроме того, что он тоже умер от туберкулеза, как и оригинал. Третий Джон Китс может видеть сны о Гиперионе и о паломниках, которые приближаются к Гробницам времени. Но зачем они туда идут?
ПАЛОМНИКИ
Церковь Последнего искупления считает, что количество паломников должно выражаться простым числом. Но в живых останется только один. Он станет избранником Шрайка, а остальные проведут остаток вечности на шипах Дерева Боли.
Грядет Судный день. Гробницы времени начинают открываться. Приливы времени становятся все сильнее. Согласно древнему пророчеству, в последнее паломничество должны отправляется семь человек. Они не адепты Церкви Последнего искупления, но, возможно, могут помешать Гробницам открыться. Эти люди никак не связаны друг с другом. Ученый, поэт, детектив, консул, тамплиер, военный и христианский священник. Но каждый из них связан с тайной Гробниц времени и Шрайком. У каждого своя история. Своя тайна. Но каждый из них расскажет, что привело его сюда. Среди паломников есть предатель, агент Бродяг, но неизвестно, кто это. Истории могут помочь определить предателя.
Мотив паломничества и историй Симмонс взял из «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера. В произведении Чосера паломники направлялись к мощам Томаса Беккета, архиепископа Кентерберийского, и договорились, что во время пути каждый расскажет несколько историй.
Первым рассказывал Ленар Хойт — человек, который искал Бога. Когда он был еще молод, более опытный священник Поль Дюре, отправился на Гиперион. В лесах, вдали от цивилизации, он нашел племя умственно отсталых, низкорослых, бесполых существ, которые называли себя бикура. Их было ровно шестьдесят девять. Не больше, не меньше. И число это никогда не менялось. На груди каждого бикура был вырост в форме креста. Они называли его крестоформом. Единственная причина, почему они не убили Поля Дюре — это крест, который он носил на груди. Но крест и крестоформ — не одно и то же. И бикура заставили священника принять крестоформ, чтобы он стал, как они.
Ленар Хойт отправился на Гиперион вслед за отцом Дюре и нашел его. Но лучше бы не находил.
Вторым поделился историей полковник в отставке Федман Кассад, прозванный за боевые заслуги Мясником Брешии. Он родился на Марсе, в Фарсиде, в лагере палестинских беженцев. В подростковом возрасте он вляпался в нехорошую историю и попал под суд. Тогда Кассаду пришлось вступить в войска.
Однажды на обучении в виртуальной реальности он встретил женщину по имени Монета, которую сразу же полюбил. Она являлась Кассаду несколько раз, а затем исчезла. Он искал ее среди курсантов, но не мог найти. Кассад уже начал думать, что эта женщина — плод его воображения, но она явилась снова. Не в виртуальной реальности, а наяву, на настоящей войне.
В последний раз они встретились на Гиперионе. Монета рассказала, что вместе с Гробницами времени движется из будущего в прошлое, поэтому первая встреча для Кассада была последней для нее.
Эта женщина непостижимым образом связана со Шрайком, она могла даже контролировать монстра. Именно поэтому Гегемония выбрала Кассада для паломничества.
Третий рассказчик — поэт Мартин Силен родился на Старой Земле. Большая ошибка уже произошла, и планета доживала свои последние дни. Это случилось несколько веков назад, так что Силен по сути является самым старым человеком в мире. Он смог так долго прожить благодаря долгим путешествиям в криогенной камере.
С Земли Силен отправился на планету Небесные врата и вновь начал писать. В мире бесконечных развлечений давно не производили ничего серьезного, и книга Мартина Силена «Умирающая Земля» стала бестселлером, а сам он — знаменитостью. Но муза покинула его, а продолжения в виде десятки сиквелов «Умирающей Земли» были больше похожи на бульварное чтиво, чем на настоящую поэзию со смыслом.
Потеряв вдохновение, Силен отправился на Гиперион, где изгнанный король Билли организовал Град Поэтов, для всех желающих творить. Там Силен неожиданно нашел свою музу. Шрайка.
Сол Вайнтрауб — еврейский ученый и четвёртый рассказчик — однажды увидел во сне бога, который велел ему повторить деяние Исаака. Сол должен принести в жертву свою единственную дочь Рахиль. Ученый не поверил, что это просто сон.
В то время Рахиль находилась на Гиперионе. Она изучала Гробницы времени и их защитные антиэнтропийные поля. Рахиль удалось проникнуть внутрь одной из Гробниц, но ее накрыло антиэнтропийное излучение. После этого она начала с каждым днем молодеть, расти в обратную сторону, забывая все, что с ней случалось. Этот недуг назвали болезнью Мерлина.
Медики не знали, как справиться с ее болезнью. Тем временем Сол вновь начал видеть сны, в которых бог велел ему отправиться на Гиперион и принести свою единственную дочь в жертву.
Шли годы, Рахиль становилась все младше. И вот, когда уже она почти стала новорожденным младенцем, Сол согласился стать паломником и полететь на Гиперион, чтобы помочь дочери. Или же принести ее в жертву, как велел бог.
Пятой свою историю поведала детектив Ламия Брон. Однажды к ней пришел таинственный незнакомец по имени Джонни. Это был не просто человек, а кибрид, клон легендарного Джона Китса. Техно-Центр создал Джонни, но кто-то пытался отключить его и лишить воспоминаний. Джонни нанял Ламию выяснить, кто это сделал. Ламия погрузилась в тайны Техно-Центра и узнала, что среди ИскИнов идет гражданская война.
Она влюбилась в Джонни, а он перед своей окончательной физической смертью оставил свою личность в петле Шрюна — в небольшом чипе в теле Ламии. Джонни должен был стать паломником, а не она. Но, поскольку его личность осталась в Ламии, то он тоже отправился вместе с остальными.
Интересно, что фамилия Ламии — Брон. Такая же фамилия была у Фанни, жены Джона Китса, которая была для него единственной любовью и музой. Фанни Брон Китс посвятил стихотворение «Яркая звезда».
Шестым и последним свою историю рассказал Консул, имени которого в книге не упоминалось. Именно от его лица ведется повествование первого романа.
Он рассказал историю космонавта, который раз в несколько месяцев прилетал на планету Мауи-Обетованная. Он встретил там девушку Сири и влюбился в нее. Но для него проходили месяцы, а для Сири десятилетия. Но он возвращался к ней, а она ждала его — всегда. У них даже были дети.
Мауи-Обетованная не зря носила такое название — это была планета-рай с уникальной экосистемой, практически нетронутой человеком. Но однажды на планету пришла Гегемония Человека, чтобы добывать на Мауи-Обетованной полезные ископаемые.
Сири стала предводителем восстания против вмешательства в экологию, но Гегемония все равно построила нефтяные платформы и уничтожила первозданный облик планеты.
Консул рассказал историю своей бабушки Сири и вместе с этим историю целой планеты, которая пала под гнетом Гегемонии Человека.
Седьмой участник паломничества не успел ничего рассказать. Хет Мастин был из ордена тамплиеров, капитаном космического корабля-дерева Иггдрасиль. Тамплиеры — это замкнутый орден, о котором мало что было известно.
Паломники связаны друг с другом, с Шрайком, с Гиперионом, с Бродягами, и постепенно перед ними встает общая картина. Тем временем на Гиперионе устанавливают Нуль-Т канал для мгновенных перемещений между ним и другими планетами. И начинается последняя война, исток которой — в далеком-далеком будущем.
В этой войне три главные движущие силы: люди, Бродяги и ИскИны. А кто на чьей стороне — этот вопрос остается открытым на протяжении всей первой дилогии.
ЭНДИМИОН
Вторая дилогия рассказывает о том, что произошло спустя двести семьдесят лет с событий описанных в первой дилогии «Песни Гипериона».
Гегемония пала, а католическая церковь стала новой диктатурой со своей штаб-квартирой на планете Пасем. Нет больше Церкви Последнего искупления, Шрайка давно уже не видели, а Гробницы времени строго охраняются. Большинство людей приняло крестоформ, который стал новым символом старой веры.
Благодаря крестоформу стало возможным использовать новую технологию — «двигатель Гидеона». Его гигантские скорости не позволяют органической плоти выжить, но с помощью крестоформа ее можно восстановить. Человек подвергается длительной и болезненной процедуре воскрешения, после чего он снова может полноценно функционировать. До следующего полета на корабле с «двигателем Гидеона».
Повествование ведется от лица Рауля Эндимиона, жителя Гипериона. В начале повествования он работает проводником богатых туристов на Гиперионе. Из-за стычки с гостем Рауля приговорили к нейродеструкции. Крестоформа у парня нет, поэтому его ждет неминуемая гибель. Но тут вмешивается провидение. Вернее, Мартин Силен, которому уже примерно полвека. Поэт спасает Рауля от казни и велит ему отправляться к Гробницам времени. Вскоре оттуда должен выйти мессия, который изменит уклад человеческой жизни.
Выбирать Раулю не приходится, и он соглашается.
Из Гробниц выходит одиннадцатилетняя девочка, которую уже ждут агенты католической церкви. Они знают, что она может быть опасна для их религии.
Энея действительно непростой ребенок. Ее сознание пробудилось еще до рождения. Энею даже нельзя назвать полностью человеком, потому что в ней есть часть Техно-Центра. Рауль спасает Энею от католической церкви, а Шрайк помогает им бежать.
И начинается погоня, которая длится не один год. На этот раз Шрайк выступает на стороне Энеи и Рауля, но держится в тени, не выдавая, кто он и зачем.
Вторая дилогия сильно отличается от первой. Настроением, стилем повествования, содержанием. Поначалу кажется, что автор разжевывает все неясности первых двух книг. Но постепенно приходит понимание, что у Энеи и Рауля своя история и в их истории присутствуют такие герои, как Федман Кассад, дочь Сола Вайнтрауба Рахиль, постаревший, но не утративший обаяния Мартин Силен и Ленар Хойт, ставший новым Папой.
Рауль и Энея все время бегут. По реке Тетис, по разным планетам. Они убегают от посланников католической церкви, находят неожиданные убежища и еще более неожиданных союзников. К ним присоединяется А.Беттик из расы андроидов-рабов.
Они попадают на планету Безбрежное море, где нет суши, дома стоят на сваях, а океан бороздят гигантские (несколько километров длиной!) левиафаны. Они оказываются на горной планете Тянь-Шань, где живут выходцы из Гималаев.
Жители планеты живут на вершинах гор, потому что ниже тянется слой опасных фосфогеновых облаков. Тянь-Шань является резиденцией Далай-Ламы. Рауль и Энея посещают ледяную планету, где их спасают аборигены, и планету, где основная форма сожительства и брака — «шведская семья». Они даже попадают на Землю.
Рауль и Энея встречают расу, которая живет на планете юпитерианского типа, и Бродяг. Они узнают про расу загадочных Львов, Тигров и Медведей, которые населяют Связующую Бездну. И Шрайк следует за ними. Он помогает, но не вмешивается. Энея говорит, что будущее постоянно меняется, но в итоге приходит именно к тому исходу, который ждала и которого боялась…
Проходит несколько лет перед тем, как Энея становится мессией. Сама себя она таковой не считает. Но ей суждено стать Той-Кто-Учит, и Энея ищет слова, которые затронут людей, помогут им выбрать свой путь. И находит их.
«Когда я была маленькая… то есть совсем маленькая, еще до встречи с тобой… и знала, что должна буду пройти через такое вот… я все думала, какую же весть я принесу человечеству. В смысле, кроме того, чему собиралась учить. Что-нибудь такое мудрое, глубокое. Вроде Нагорной проповеди. <…> Я сократила послание до тридцати пяти слов. Слишком длинно. До двадцати семи. Все равно длинно. Через несколько лет оно уменьшилось до десяти слов. Все равно слишком длинно. Потихоньку я сделала из него квинтэссенцию — два слова.
— Два слова? — переспросил я. — Какие?
— Выбери снова.
— Нельзя ли как-то пояснить?
— Нет. В том-то и суть. В простоте. Назови какую-нибудь категорию и сам поймешь, в чем тут дело».
Что общего у этих двух дилогий, помимо Шрайка и нескольких общих героев? Пожалуй, общая идея отношений бога и человека. Что такое бог? Создал ли он человека? Или же наоборот — человек создал бога?
Эти вопросы бесконечны. Можно ли найти ответы? Ответы на эти вопросы тоже бесконечны. Но из бесчисленного множества ответов можно выбрать. И выбрать снова…
Примечания
1
Большое количество рассыпанных по всему тексту романа цитат сподвигло редактора книги на составление этих примечаний. Не претендуя на полноту, они тем не менее должны помочь читателю воспринять замысел автора. Многие эпизоды романа напрямую связаны с жизнью и творчеством английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821). «Гиперион» и «Падение Гипериона» — это названия двух незавершенных поэм Китса или, точнее, двух вариантов одной и той же поэмы, так и не обретшей своего окончательного вида. «Гиперион» переведен на русский язык полностью, а из «Падения Гипериона» Г. Кружковым переведены только строки 57—227 песни первой. Перевод цитируемых в тексте романа других фрагментов поэмы выполнен редактором данной книги.
Переводы стихов и писем Д. Китса и стихотворений У. Б. Йейтса даются по изданиям серии «Литературные памятники».
(обратно)2
Д. Китс «Падение Гипериона» Песнь I, 423.
(обратно)3
Д. Китс «Падение Гипериона» Песнь I, 424–430.
(обратно)4
Джон Мюир (John Muir) — американский натуралист, один из основоположников экологии.
(обратно)5
Д. Чосер «Кентерберийские рассказы», Пролог (пер. И. Кашкина).
(обратно)6
Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955) — французский палеонтолог, философ и теолог, создатель так называемого христианского эволюционизма. Бог у Тейяра — «Христос эволюции» — представлен в каждой частице «ткани универсума» в виде особой духовной энергии, которая является движущей и направляющей силой эволюции.
(обратно)7
Equus (эква) — лошадь; aquila (аквила) — орел; ursa (ypca) — медведь (лат.).
(обратно)8
Агнец божий, принявший на себя грехи мира, сжалься над нами, сжалься (лат.).
(обратно)9
Господи, укажи нам путь (лат.).
(обратно)10
Д. Китс. «Гиперион». Книга первая, 1–8 (пер. Г. Кружкова).
(обратно)11
Д. Китс. «Гиперион». Книга первая, 1–8 (пер. Г. Кружкова).
(обратно)12
В армии США — медаль за ранение в ходе боевых действий.
(обратно)13
Беовульф — главный персонаж одноименного англосаксонского эпоса (VII–VIII в.). Б., юный воин из народа гаутов, отправляется за море, чтобы избавить короля данов Хродгара от постигшего его бедствия: на протяжении 12 лет на королевский чертог Хеорот нападает чудовище Грендель, истребляющее дружинников Хродгара. В ночном единоборстве Б. побеждает Гренделя, который, потеряв руку, уползает в свое логово, где находит смерть.
(обратно)14
Монета — героиня-рассказчица в поэме Китса «Падение Гипериона». По некоторым мифам, дочь Юпитера (Зевса) от Памяти (Мнемосины). Мнемосина (греч. воспоминание), дочь Урана и Геи (и, таким образом, сестра Гипериона); родила от Зевса в Пиэрии девять муз. Кроме того, М. (лат. советница) — это одно из прозвищ римской богини Юноны. Храм Юноны Монеты стоял на Капитолии.
(обратно)15
Деревня Эсантэ (La Haye Sainte) и замок Угумон (Hougoumont), возле которых находились позиции англичан, — места наиболее яростных схваток во время битвы под Ватерлоо.
(обратно)16
Ф. Бэкон «Новый Органон», XLIII. Сочинения в 2-х тт. М., 1978, т. 2, с. 19.
(обратно)17
Чарлз Лэм (1775–1834) — английский поэт, эссеист и критик, один из теоретиков романтизма. Бенджамин Роберт Хейдон (1786–1846) — английский художник, искусствовед и мемуарист. Знакомство с ним Китса в октябре 1816 г. быстро переросло в дружбу.
(обратно)18
На судне «Мейфлауэр» в Америку прибыли первые переселенцы из Англии.
(обратно)19
Письмо к Бенджамину Бейли: 22 ноября 1817 г., Летерхед (пер. С. Сухарева).
(обратно)20
Вещь-в-себе (нем.); сейчас в философской литературе принято переводить как «вещь сама по себе».
(обратно)21
«Умирающая Земля» (Dying Earth, 1950) — цикл повестей американского писателя-фантаста Джека Вэнса (Jack Vance).
(обратно)22
«Путь паломника» — аллегорический роман Джона Беньяна (1628–1688), английского писателя-пуританина; был очень популярен в XVII веке.
(обратно)23
Герберт Генри Асквит (1852–1928) — премьер-министр Великобритании (1908–1916) от либеральной партии.
(обратно)24
Чарльз Лоутон (1899–1962), американский киноактер. Снимался в исторических и драматических ролях. Лауреат премии «Оскар» (1933).
(обратно)25
Гиперион — спутник Сатурна.
(обратно)26
Д. Китс. «Падение Гипериона» Песнь I, 387–399.
(обратно)27
Д. Китс. «Падение Гипериона» Песнь I. 256–263.
(обратно)28
Pieta — пиета, плач богоматери — картина, скульптура и т. п. с изображением девы Марии, оплакивающей мертвого Христа.
(обратно)29
Оттон I — германский король, ставший впоследствии римским императором (936–973). Китс посвятил ему трагедию «Оттон Великий».
(обратно)30
Д. Китс. Написано, вероятно, в октябре 1818 года (пер. А. Жовтиса).
(обратно)31
Д. Китс «Ода греческой вазе» (пер. А. Парина).
(обратно)32
Ср. Бытие 22:2: «Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе».
Мориа — гора в Иерусалиме, на которой Соломон воздвиг храм.
(обратно)33
Сарнатх, или Олений парк — место, где Будда произнес первую проповедь. Находится недалеко от Бенареса.
(обратно)34
Бытие 22:10.
(обратно)35
Ламия — в греческой мифологии — чудовище, пожиравшее чужих детей; злой дух, змея с головой и грудью прекрасной женщины. Живет в лесах и оврагах, заманивая к себе путников. Китс написал поэму «Ламия», основным источником для которой послужило изложение мифа в «Жизни Аполлония Тианского» Филострата. В поэме рассказывается о любви юноши Ликия и Ламии.
(обратно)36
Пьетро Бернини — итальянский скульптор XVI века, автор фонтана La Baraccia на Пьяцца ди Спанья в Риме.
(обратно)37
Письмо к Джорджу и Джорджиане Китсам: 14 февраля — 3 мая 1819 г., Хэпстед (пер. С. Сухарева).
(обратно)38
Д. Китс. «Падение Гипериона». Песнь I, 1—18.
(обратно)39
Уильям Гибсон — американский писатель-фантаст, один из основоположников «киберпанка»; своих героев-хакеров он часто называет ковбоями.
(обратно)40
Д. Китс. Сонет написан, по-видимому, 10 октября 1819 г. и обращен к невесте поэта Фанни Брон. Встрече с ней в этот день предшествовала продолжительная разлука, во время которой Китс, предчувствуя неизлечимость начавшейся болезни, безуспешно пытался подавить свои чувства (пер. С. Сухарева).
(обратно)41
Д. Китс. Написано, по всей вероятности, в ноябре — декабре 1819 г., когда Китс работал над последней, незавершенной поэмой «Колпак с бубенцами» (автограф отрывка сохранился на полях рукописи). Пер. С. Сухарева.
(обратно)42
«Ромео и Джульетта», III, 5 (пер. Т. Щепкиной-Куперник).
(обратно)43
Письмо к Джорджу и Джорджиане Китсам от 14 февраля 1819 г. (Пер. С. Сухарева)
(обратно)44
…уподобить сну Адама… — Ср. «Потерянный рай» Мильтона (VIII, 452–490): Адаму снится, что из его ребра Бог создал прекрасную женщину; пробудившись, он видит ее наяву.
(обратно)45
Письмо к Бенджамину Бейли от 22 ноября 1817 г. (Пер. С. Сухарева)
(обратно)46
Неточность. В Саламинском сражении у мыса Артемисий (480 г. до н. э.) был разбит персидский флот царя Ксеркса.
(обратно)47
Д. Китс. Из стихотворения «Сей юноша, задумчивый на вид…», написанного 16 апреля 1819 г. (Пер. С. Сухарева).
(обратно)48
Фауст Социн (1539–1604) — один из основателей рационалистического направления в протестантизме, отличавшегося религиозным радикализмом. Социане считали Христа не Богом, а человеком, который указал путь к спасению и обрел божественные свойства после воскресения.
(обратно)49
Мелийский диалог — изложение Фукидидом в его «Истории» переговоров послов афинян с советом осажденной Мелы, спартанской колонии. Основное место в нем занимает тема «божественной справедливости и природного права сильного на власть — вопросы достижения и сохранения гегемонии (так у автора. — Прим. ред.), войны как орудия гегемонистской политики, отношений державного полиса с его союзниками и подданными, наконец, борьбы политических группировок внутри государств». [Э. Д. Фролов «Факел Прометея» Л., 1991, с. 131]
(обратно)50
Д. Китс «Падение Гипериона». Песнь первая, 131–141 (Пер. Г. Кружкова)
(обратно)51
Д. Китс «Песня» (Пер. В. Багно)
(обратно)52
Д. Китс (пер. С. Сухарева). См. Д. Симмонс «Гиперион»
(обратно)53
Д. Китс «Падение Гипериона». Песнь I, 11–18. См. Д. Симмонс «Гиперион»
(обратно)54
Д. Китс «Песня о себе самом», 25–57 (Пер. И. Ивановского).
(обратно)55
Письмо к Фанни Брон: февраль 1820 г., Хэмпстед (пер. С. Сухарева).
(обратно)56
Д. Китс. «Гиперион», книга первая, 248–260 (пер. Г. Кружкова).
(обратно)57
Д. Китс. «Падение Гипериона», песнь первая, 423–425.
(обратно)58
Д. Китс. «Гиперион», книга вторая, 172–229, 242 (пер. Г. Кружкова).
(обратно)59
У. Б. Йейтс. «Молитва о дочери», 1—16 (Пер. Ю. Мениса).
(обратно)60
Д. Китс. «Гиперион», книга третья, 118–128 (пер. Г. Кружкова).
(обратно)61
Д. Китс. «Ода греческой вазе» (пер. Г. Кружкова).
(обратно)62
Д. Китс. «Ода праздности», VI (пер Г. Кружкова).
(обратно)63
Д. Китс. «Гиперион», книга первая, 229–233 (пер. Г. Кружкова).
(обратно)64
Данный перевод и все прочие стихотворные переводы, за исключением особо оговоренных случаев, выполнены К.Королевым. — Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)65
Дж. Китс «Эндимион». Песнь первая (пер. Б. Пастернака).
(обратно)66
Звездолеты де Сойи носят имена волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу. Традиция приписывает волхвам множество имен, однако наиболее известные среди них — Бальтазар, Каспар (а не Гаспар, как у Симмонса) и Мельхиор.
(обратно)67
«К Элизе» — музыкальная миниатюра Л. ван Бетховена.
(обратно)68
«И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует меня чаша сия…» Евангелие от Матфея, 26:39.
(обратно)69
Священная Конгрегация всеобщего приобщения к Евангелиям и распространения веры (лат.) или, как она именуется сейчас, Священная Конгрегация евангелизации народов.
(обратно)70
«Pieta» (ит.) — «Плач Богоматери».
(обратно)71
Дж. Китс «Эндимион». Песнь третья.
(обратно)72
Евангелие от Матфея, 6:9.
(обратно)73
В ирландской мифологии маленькие башмачники, хранители подземных кладов.
(обратно)74
В Новом Завете — «раб Иисуса Христа, брат Иакова», автор одного из соборных посланий.
(обратно)75
Матерь Божья (исп.).
(обратно)76
букв. «Равнина брани» (исп.).
(обратно)77
букв. «Милость Богоматери» (исп.).
(обратно)78
Во имя Отца и Сына и Святого Духа (лат.).
(обратно)79
Д. Дефо «Робинзон Крузо» (пер. М. Шишмаревой).
(обратно)80
Письмо Джону Тейлору от 30 января 1818 года (пер. С. Сухарева).
(обратно)81
Письмо Бенджамину Бейли от 22 ноября 1817 года (пер. С. Сухарева).
(обратно)82
Дж. Китс «Эндимион». Песнь первая (пер. Е. Витковского).
(обратно)83
Дж. Китс «Эндимион». Песнь первая (пер. Е. Витковского).
(обратно)84
Дж. Китс «Эндимион». Песнь первая.
(обратно)85
Дж. Китс «Эндимион». Песнь вторая.
(обратно)86
Гораций, в мире много кой-чего,//Что вашей философии не снилось.//У. Шекспир «Гамлет», акт 1, сцена 5 (пер. Б.Пастернака).
(обратно)87
18 288 метров.
(обратно)88
Американский прозаик, поэт и журналист (1871–1900).
(обратно)89
Династия, правившая в Х — ХII вв. Газневидским государством (на территории современного Афганистана и отчасти Пакистана).
(обратно)90
Роберт Фрост (1874–1963) — один из крупнейших поэтов США ХХ века; цитируемое стихотворение называется «Огонь и лед».
(обратно)91
В девятом круге Вергилий приводит Данте в ледяную пещеру. Ср.:
Я увидал, взглянув по сторонам, Что подо мною озеро, от стужи Подобное стеклу, а не волнам. Данте Алигьери «Божественная комедия». Песнь тридцать вторая (пер. М. Лозинского). (обратно)92
В древнегреческой мифологии Главк — один из морских богов; он обладал даром прорицания.
(обратно)93
В средневековой европейской демонологии демон в женском обличье, соблазняющий мужчин и прежде всего священников.
(обратно)94
Аллюзия на заключительный роман «Космической трилогии» К.С.Льюиса, который так и называется — «Мерзейшая мощь».
(обратно)95
«Говорящее» имя. В греческой мифологии Радамант — божество подземного мира; вместе с Миносом и Эаком он вершит суд над тенями умерших. Слово «Немез» образовано от имени Немезиды, богини священной рощи, позднее ставшей символом небесной кары.
(обратно)96
Персонаж пьесы У. Шекспира «Буря», белый маг, который в финальной сцене добровольно отрекается от своей магии.
(обратно)97
В римской мифологии геральдический жезл, обвитый двумя змеями, атрибут бога Меркурия. В греческой мифологии ему соответствовал керикейон Гермеса и Ириды.
(обратно)98
Имеется в виду Джон Мюир (1838–1914), американский натуралист, один из основоположников экологии как науки. Во многом благодаря его усилиям основан Йосемитский заповедник.
(обратно)99
Здесь: Проклятие! (фр.)
(обратно)100
Буря и натиск (нем.). Так называлось литературное движение в Германии конца XVIII в. Представители движения в своих произведениях изображали сильные страсти, героические деяния и т. п.
(обратно)101
Дежа-вю, «уже виденное» (фр.). Термин из области психиатрии: новые впечатления кажутся уже пережитыми в прошлом.
(обратно)102
Этот дом действительно существует. Он сооружен в 1937 году поблизости от Питтсбурга (штат Пенсильвания) по проекту знаменитого американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта (1869–1959).
(обратно)103
Дж. Китс «Эндимион». Песнь первая (пер. Б. Пастернака).
(обратно)104
Дж. Китс «Ода греческой вазе» (пер. Г. Кружкова).
(обратно)105
Перевод Э. Линецкой.
(обратно)106
Перевод И. Гуровой.
(обратно)107
избираю (лат.).
(обратно)108
Llano Estacado — оливковая роща (исп.).
(обратно)109
Господь с вами (лат.).
(обратно)110
И со духом твоим (лат.)
(обратно)111
Сие есть тело Мое (лат.).
(обратно)112
Имеется в виду литургическая молитва, произносимая священником перед пресуществлением даров: «Омой меня, Господи, от беззакония моего и от греха моего очисти меня».
(обратно)113
Тело Христово (лат.).
(обратно)114
Иисус — мой сотоварищ (нем.).
(обратно)115
Избираю Верховным Понтификом (лат.).
(обратно)116
Такова воля Господа! (лат.)
(обратно)117
«Тибетская книга мертвых».
(обратно)118
Томас С. Эллиот «Беплодные земли».
(обратно)119
Перевод А. Гитовича.
(обратно)120
Перевод К.Королева.
(обратно)121
Тертон (тибетск.) — искатель духовных сокровищ.
(обратно)122
Перевод с английского Н.Эристави.
(обратно)123
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
(обратно)124
Иисус Христос первым воскрес из мертвых; и Его — царство и сила и слава во веки веков! (лат.).
(обратно)125
Помилуй, Господи… во имя Отца и Сына и Святого Духа… (лат.).
(обратно)126
Джон Китс. Эндимион, книга II, ст. 153–161.
(обратно)127
Перевод С. Сухарева.
(обратно)128
Tabula rasa (лат.) — чистая доска; здесь: девственное сознание, «пустая голова».
(обратно)129
Норман Персиваль Рокуэлл (1894–1978) — американский художник и иллюстратор, запечатлевший в своих работах различные сцены повседневной жизни довоенной и послевоенной Америки.
(обратно)130
Уэллсли — престижный американский женский колледж свободных искусств.
(обратно)131
Врата на Запад — один из символов и достопримечательностей Сент-Луиса.
(обратно)132
«Избавление» (1972) — фильм Джона Бурмена, экранизация романа Джеймса Дикки о четырех друзьях, которые отправились в речное путешествие по отдаленному от цивилизации району Америки и вступили в жестокое противостояние с группой местных уголовников-садистов.
(обратно)133
День памяти — национальный праздник США, посвященный памяти погибших американских военнослужащих, который отмечают ежегодно в последний понедельник мая.
(обратно)




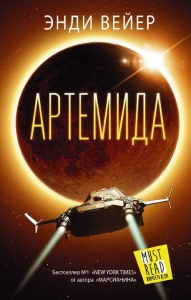

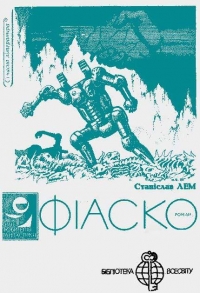
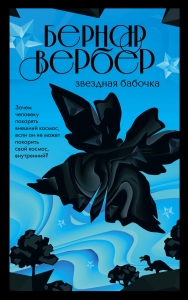
Комментарии к книге «Песни Гипериона», Дэн Симмонс
Всего 0 комментариев