Ориак Альбан НЕВЫРАЗИМЫЙ ЭФИР
Перевод с французского.Над коврами долин, зеркалами озер,
Над морями, лесами, вершинами гор,
Через солнца лучи, сквозь бесплотный эфир,
За границу миров и предел звездных сфер
Разум мой, ты несешься, не зная преград,
И, как ловкий пловец, оседлавший волну,
Ты легко бороздишь пустоты глубину,
Небывалым и дерзким восторгом объят.
Прочь подальше от этих миазмов больных,
Поспеши смыть налет, поднимись выше гор,
И глотай, как прозрачный и дивный ликер
Ясный свет, что живет на просторах иных.
Среди роя хлопот и печалей толпы
Что гнетут нашей пасмурной жизни порыв
Счастлив тот, кто способен, крылами взмахнув,
Унестись в те края неземной доброты,
Тот, чьи мысли, как ласточки, ветра быстрей
К небесам поутру словно стрелы летят,
Кто, по жизни скользя, слышит, дар обретя,
Откровенье цветов и молчанье вещей!
Шарль Бодлер, «Вознесение» (перевод Александра Солина.)Слово «эфир» подобно слову «Бог»: его пышностью мы маскируем и прикрываем собственное незнание.
Морис МетерлинкГлава 0
Положив руки на пульт управления, инженер Соколов не отрываясь смотрел на сумасшедшие цифры, бегущие по экрану. Измерительные приборы, казалось, противоречили сами себе. Все утратило логику. Стрелки дрожали на красном секторе, значения превышали любые разумные пределы. Инженер знал, что точка невозврата пройдена. И все же он еще надеялся понять, что происходит, и найти способ совершить невозможное — удержать цепную реакцию. Техник, с лицом, белым как его рубашка, говорил ему убеждающим тоном:
— Надо уходить, товарищ инженер.
— Пока рано, — отвечал тот спокойно. — Еще можно попробовать что-нибудь сделать.
— Не выйдет. Мы уже потеряли четырех человек на подступах к энергоблоку, и реактор продолжает раскаляться. Температура превысила критическую. Все может взорваться в любой момент. Идемте же! Теперь точно пора. Мы последние, кто остался.
— Идите, Микаевич! Я догоню вас через несколько минут.
Техник не двинулся с места. Инженер принялся пересчитывать свои результаты с учетом вновь полученных данных, опять и опять приходя к тому же выводу: катастрофа неминуема. Самая тревожная информация поступала снаружи — в том числе из-за пределов страны. Отчеты зарубежных служб, подготовленные в экстренном порядке, лишь увеличивали неопределенность: говорилось, что на нескольких станциях произошли взрывы, в других цепную реакцию сдерживали из последних сил. Западные источники крайне скупо делились сведениями. Паника словно инфекция охватила планету. Никто не был в состоянии объяснить, что происходит. По центральному громкоговорителю веский мужской голос объявлял эвакуацию. Сидящие за пультом управления внимательно посмотрели в глаза друг другу. Ни один из них не мог бы сказать, чтС он прочитал в ответном взгляде: страх или глубокое разочарование.
— Надо идти, или мы погибнем, — вновь сказал техник.
— Последняя попытка. Если бы я сумел восстановить систему охлаждения, чтобы уменьшить мощность…
— Гидравлические насосы больше не отвечают. Даже если удастся восстановить вспомогательную систему, слишком поздно. Все кончено — надо эвакуироваться. Прошу вас, подумайте о вашей семье…
— А блоки питания? Мы могли бы подключить…
— Отказали, как и всё остальное!
— Центральный компьютер?
— Всё, всё!
По широкому экрану теперь неслась электронная метель. Инженер был человеком твердых убеждений — он свято верил в науку, и особенно в атом. Всю жизнь он трудился на самых передних рубежах, целиком углубляясь в гипотезы и жадно впитывая новые знания. Нынешняя тщетность их усилий обуздать монстра, который пока проявил лишь крупицу своего гнева, заставила его упасть с небес на землю. Что же они наделали? И что он сделал? Собственными руками они создали чудовище.
Инженер закрыл глаза, потом вздохнул и сжал кулаки. Наконец он оторвал руки от пульта управления и тронул товарища за локоть. Они двинулись к выходу. Пол уже слегка подрагивал; то здесь, то там от стен, отделанных деревянными панелями, отскакивали снопы сверкающих искр, и огоньки разбегались по черно-белой плитке пола, прежде чем исчезнуть окончательно. Свет от ламп задрожал и погас. На потолке зажглись оранжевые указатели, обозначающие путь наружу. Теперь уже вся электроника перестала работать. Мужчины ускорили шаг, стараясь удерживать равновесие: металлическую лестницу покачивало. Здание сотрясалось от сильной вибрации. Торопясь выбраться, техник споткнулся на последней ступеньке и растянулся во весь рост. Соколов помог ему подняться; они вместе преодолели длинный коридор и оказались у аварийного выхода. В разгоряченные лица ударил свежий ночной воздух. То, что им открылось, больше всего походило на встревоженный муравейник.
Нескончаемая колонна военных грузовиков переправляла сотрудников и их семьи к санитарному лагерю. Десятки вертолетов разрывали ночь пульсирующими огнями, а от сильного ветра, вызванного вращением их винтов, над промышленными сооружениями поднимались тучи пыли. Механический грохот заглушал выкрики солдат и детский плач. Можно было подумать, что началась война — или настал конец света. Некоторые из гражданских тащили с собой огромные чемоданы, собранные в спешке. Толпа неуклонно вытесняла эти баулы на обочину, также как инвалидные кресла и детские коляски. Сидя на скамейке, молодая женщина кормила грудью ребенка. Повсюду лаяли собаки.
К инженеру подошел военный, поприветствовал и указал палатку, где его ожидала жена. Но стоило Соколову оказаться под брезентовым тентом, как жена тут же принялась втолковывать ему, что они не могут уехать, ведь скоро свадьба их любимой дочки. Если они все отменят, то потеряют лицо. Инженер слушал ее, поражаясь мелочности ее забот. Неужели она не понимает серьезности ситуации и не знает ужасной правды? Не догадывается, что закат человечества близок, как никогда? Годами она пользовалась привилегиями, которые давал ей высокий статус мужа, и вдруг все закончилось — и для нее, и для всех остальных. Что-то подсказывало инженеру, что это не просто авария, что эта катастрофа заставит пошатнуться весь мир. Жена продолжала говорить, и он рассеянно кивал ей головой, соглашаясь. Они сели в служебный автомобиль с красными флажками на дверцах, чтобы наконец покинуть территорию комплекса. Микаевич затерялся в беспорядочной обезумевшей толпе. Через открытое пространство бешеным галопом пронеслись две перепуганные лошади.
Когда машина тронулась, инженер Соколов заметил, что некоторые люди ведут себя странно — будто прячутся. Несмотря на ночную тьму, они старались укрыться от фонарей: отступали в тень стен и заборов, ныряли в подвалы. Он видел, как они осторожно выглядывали из чердачных окон и провожали рассеянными и одновременно цепкими взглядами отход солдат. Инженер встретился глазами с каким-то седобородым стариком, и тут же лицо, до того ясно различимое, исчезло во мраке, словно поглощенное космической пустотой. Соколов хотел было дать знать об этом шоферу, чтобы тот доложил по радиосвязи начальству, но так ничего и не сказал. Отчасти он понимал этих людей. Ведь, как ни крути, их бегство — или подобие бегства — столь же бессмысленно. Вот что следовало осознать в первую очередь.
Вертолеты исчезли в ночном небе, но какое-то время инженер еще мог различить огни на их фюзеляжах среди тонкого, беловатого сияния звезд. Машина присоединилась к длинной колонне грузовиков. Через заднее окно инженер видел заводскую трубу, возвышающуюся над строениями. Из нее вырывался пучок желтого света: догорали остатки топлива. Жена продолжала донимать его разговорами о свадьбе, но он больше не слушал. Они проехали через городской парк, мимо огромной статуи Ленина, обращенной лицом к зданию муниципальной администрации. На стены, украшенные фресками, огни фар отбрасывали фантастические тени. Простерев руку к горизонту, Ленин, казалось, грозил пальцем уходящей колонне. Соколов спросил себя, сколько страниц должно быть написано, сколько лет, а, возможно, веков, должно пройти, прежде чем они смогут получить прощение.
Десять минут спустя реактор энергоблока взорвался. Колоссальный столб пламени взметнулся, словно сверкающее лезвие, к траурному небу.
Все было кончено.
Глава 1
Ребенок сидел на краю тротуара. Мелкий дождь падал на кровли домов, на убогие хибары под рифленой жестью, и хотя сидящему то и дело приходилось вытирать холодные капли, что струились по лицу, он не спешил спрятаться в укрытие. Равнодушие, подобно сну, владело им: не хотелось ничего. Рассеянным и отрешенным взглядом смотрел он на пустынную площадь, на покореженные карусели, которые слегка поворачивались под резкими порывами ветра. Зрелище явно было ему в диковинку. Детская вертушка медленно крутилась против часовой стрелки; изъеденный ржавчиной механизм скрипел, а временами завывал, словно умирающее животное. Качели, некогда выкрашенные в голубой цвет и превосходно отлаженные, также несли на себе следы медленной эрозии. Клочья парусины хлопали по ветру, словно привидения, рвущиеся с цепи. Мальчику хотелось есть; силы оставили его. Он был один — затерянный во взрослом мире, ни ценностей, ни обязательств которого он не понимал. От этой безысходности в его сердце давно поселилась глухая тоска — притяжение бездны. Капли дождя, что не переставая бежали по бледному лицу, напоминали ему, что он еще жив — в общем, довольно слабое ощущение, но тем не менее. Вдалеке слышался жалобный скрежет старого чахоточного локомотива, а мимо проносились желтые фары дребезжащих автомобилей, рассекая тяжелый сумрак умирающего города.
Из ниоткуда появился человек и сел рядом. Он подошел так тихо, что в первую секунду ребенок принял его за бродячую собаку — здоровенного пса, — но не испугался. Мужчина был высокого роста, в старом желтого цвета плаще; лицо полностью скрыто в складках капюшона. Тонкие струйки воды струились по его блестящему дождевику, образуя на ткани сверкающие серебряные дорожки. Человек не произносил ни слова, лишь молча смотрел вместе с ребенком на городской парк, раскисший под дождем: бамперные машинки на старом автодроме, похожие на толстых жуков, расползшихся в разные стороны, огромное колесо обозрения с ржавыми кабинами.
Из складок плаща внезапно появилась крупная рука. На ладони лежало великолепное красное яблоко, которое мужчина протянул ребенку. Тот улыбнулся и с видимым удовольствием вонзил зубы в сочную сладкую мякоть. С его подбородка закапал сироп, смешанный со слюной. Издалека доносились глухие раскаты грома и голодное сердитое карканье ворон.
* * *
Как обычно, паромщик пришел на несколько часов раньше, сразу после наступления сумерек — чтобы не выдать ненароком свое тайное убежище. Незнакомец среди незнакомцев, он двигался вместе с толпой, спешащей под дождем, пока она не вынесла его к одному неприметному домику, — а затем незаметно отделился от нее. Теперь он спокойно ждал, курил сигарету за сигаретой и смотрел на низкий каменный горизонт. Ночь гасла, как затухающий уголек. Из своего покосившегося окна он видел огни предместья, бледные прозрачные светлячки, едва различимые, исчезающие следы городских обитателей, засыпающих — или (подумалось ему) впадающих в спячку, будто скованные ночным холодом. Он знал, что за сверкающими витринами, манящими и лживыми, прячется нищета, и что когда-нибудь этот призрак доберется и до него. Паромщик ждал своего нанимателя. Он погасил свет в комнате, словно желая пусть ненадолго исчезнуть, перестать быть видимым, чтобы лучше видеть самому, — стать горестно-безучастным свидетелем бега времени. Его усталый разум заволакивала плотная тишина.
Весь домишко состоял из четырех голых стен без каких-либо перегородок. Обои по углам отклеились и свисали клочьями, как старые шкуры. На шатком столе стояла бутылка воды и два пустых стакана, а рядом — корзинка с фруктами, вялыми и малопривлекательными на вид. Там, где стены сохраняли облицовку, несколько плиток оторвались, и их осколки усеивали ворсистый ковер, местами тронутый плесенью. В углу возвышалось старомодное кресло, обитое пурпурной тканью, а стоящий около него цветок в горшке, поникший, полузасохший, довершал гнетущую атмосферу этой затхлой комнаты. Не вписывалась сюда разве что этажерка, набитая случайными книгами, — паромщик читал и перечитывал их, когда для него наступал мертвый сезон. Даже самый отъявленный аскет не назвал бы эту комнату хоть сколько-нибудь уютной. На полу, покрытом квадратной плиткой, лежал матрас, а на нем — скомканное колючее одеяло, довольно истертое. Паромщик стоял, прислонившись к стене — нереальный, похожий на смутную тень: гаргулья на водосточном желобе, контрфорс старинного храма. От каждой затяжки в неподвижном воздухе рассеивалось облако голубоватого прозрачного дыма, источающего запах табака и пронизанного лунным светом, и этот невыразимый эфир, источник которого поблескивал в темноте, вспыхивая и угасая через равные промежутки времени, казалось, подчинял все вокруг своей чарующей магии. Дремота одолевала. Паромщик ждал с терпеливостью хищника, методично выкуривая свои сигареты до самого фильтра.
Сквозь запотевшее приоткрытое окно он наблюдал за кошкой, которая забавлялась жестокой игрой со своей насмерть перепуганной добычей — небольшой крысой. Кошка загнала ее в углубление в кирпичной стене, и теперь несчастный грызун тщетно пытался сбежать оттуда. Но резкие взмахи лапы с острыми когтями и оскаленная пасть почти на уровне влажного асфальта заставляли крысу отступать все глубже, пока она не оказалась в щели от выпавшего кирпича. Не имея больше возможности двигаться и предчувствуя неизбежный финал, прижатая к холодному грубому камню, в конце концов пленница смирилась со своей участью, и кошачьи клыки вонзились в ее хребет. Крыса конвульсивно задергала лапками и испустила последний жалобный писк. Больше ее не мучили ни страх, ни боль — ничего. Паромщик отвел взгляд — не от отвращения, а скорее от понимания жизненности разыгравшейся сцены. Он знал, что законы, которые движут миром от начала времен, жестоки, и надо просто принять это. Что он и сделал: подчинился этому суровому уставу, ставшему для него привычным, — как иной подчиняется распорядку дня. Мир — это спектакль, самодеятельный театр с плохими актерами. После того, как ты отыграешь последний акт, занавес не замедлит опуститься за тобой.
Паромщик не боялся ночи, ни тем более дня. Чего он действительно страшился — это не суметь вернуться обратно в город. Перейти за ограду — запретную черту — и углубиться в зону (шаг уже достаточно смелый сам по себе), все это не было для него сколько-нибудь сложным. Последние восемь лет он выполнял самые разнообразные поручения в одной конторе, занимающейся общественными работами, и теперь ему были известны малейшие изгибы городских сточных труб. Те, кто утверждал, что город герметичен, как скафандр, глубоко ошибались. Пусть этот город иногда так и называли — «скафандр»; на самом же деле он скорее походил на дырявую сеть.
На память о тех временах у него остался желтый плащ, что сушился сейчас над старым чугунным радиатором. Безработица сильно ударила по экономике города, и паромщик не избежал общей участи. Вот уже шестой месяц он сидел без дела. Вынужденный карантин не пошел ему на пользу. Но главное, что он ничего не забыл; он помнил каждый закоулок в этом сивиллином лабиринте и никогда не заплутал бы в нем.
Деньги больше не были проблемой. Да и что он стал бы с ними делать? Настоящая опасность исходила от самой зоны. Там царило такое глубокое спокойствие, такая безмятежность, что побывавшему в тех местах приходилось прилагать огромные усилия, чтобы заставить себя вернуться в город. Паромщик не однажды испытывал внезапное чувство потери, вновь оказываясь по эту сторону ограды после того, как сопроводил кого-то туда, наружу, к яркому зеленому свету. Он сам толком не понимал и не мог бы объяснить это ощущение, но ему все труднее становилось отделаться от него. Последний раз он несколько минут стоял перед зловонной решеткой канализационного стока, раздумывая, стоит ли ему на самом деле возвращаться. Что-то держало его там. Он боялся, что эта непреодолимая тяга, это чувство зоны сожжет его изнутри. В то же время город вызывал у него отвращение; неразрешимый клубок противоречий поселился в его душе, заставляя его разрываться между страхом и безысходностью. Однако он знал, что сегодня вечером снова пойдет туда — вопреки всякой человеческой логике. Ничто не может помешать этому безумному шагу. Борьба, которая шла внутри его сердца, разъедала его, как некроз — возможно, в какой-то мере он уже был безнадежен.
Глухой шум снаружи вывел его из задумчивости. В дверь постучали. Два раза по три коротких удара — условленный код. Клиент наконец-то пришел. Паромщик выбросил окурок в приоткрытое окно, зажег свет, одернул рубашку и обратился во внимание. Дверь медленно отворилась и в проеме показался человек. Женщина — нет, молоденькая девушка! Девчонка. Она с опаской смотрела на него. Капли дождя блестели на ее волосах, слипшихся прядями и напоминавших мышиные хвостики. По-настоящему красивая; тонкие и нежные черты лица — самый строгий ценитель нашел бы их безупречными. Гостья не была похожа на обычную горожанку.
— Входите. Да не стойте там, входите же!
— Я ищу паромщика, — прямо сказала девушка, осторожно закрывая за собою дверь.
— Я самый. А Федор?
— Он не придет. У него возникло срочное дело.
— У Федора? Срочное дело? Впервые слышу! Впрочем, ладно: если вы здесь, значит, он вам все рассказал и, стало быть, он в вас не сомневается. Среди моих подручных Федор не самый большой ловкач, но я ему доверяю. Он объяснил вам план действий?
— Да. Мы ждем до утра, а на рассвете двинемся к очистным сооружениям западного пригорода. Немного пройдем вдоль канала, после чего спустимся под землю. Четыре километра по канализационным путям, которые вы знаете наизусть, и мы окажемся у люка прямо под наблюдательной вышкой главной ограды. Ну, а там уже будет запретная зона, и я смогу…
— Отлично! Вы знаете достаточно. Остальное — моя забота. Как насчет оплаты?
— Да, конечно. Я забыла. Вот, — она смущенно улыбнулась.
Девушка достала из внутреннего кармана своей мокрой куртки мятый бумажный сверток и поспешила его открыть. Из скомканной бумаги показались пачки потрепанных купюр. Паромщик не смотрел на деньги: он внимательно следил за девушкой. Что-то с ней было не так. Выглядела она не старше двадцати пяти лет. Зеленые миндалевидные глаза озаряли ее лицо нежными изумрудными лучами. Светлые волосы ложились на плечи — худенькие, истощенные от голода. Под этим пристальным мужским взглядом девушка покраснела. Паромщик вставил в зубы новую сигарету, зажег ее и выдохнул насыщенное никотином облако в направлении гостьи, почти ей в лицо. Девушка закашлялась.
— Ты откуда, крошка?
— Девятый район, сектор С. Южный квартал.
— И сколько времени тебе понадобилось, чтобы собрать такую сумму? Как я знаю, люди из сектора С совсем не богачи. Ты их украла?
— Я не воровка.
Он усмехнулся.
— Если молодая девушка их не украла, то остается только один способ, каким она могла их заработать: кругленькая сумма, как ни посмотри. Зачем тебе за стену? Ты не похожа на фрондерку, еще меньше — на искательницу приключений.
— Федор не говорил, что здесь мне придется выдержать такой неприятный допрос. Я не воровка и не что-то еще, о чем вы могли подумать. Я плачу деньги, и хватит с вас. Так вы мне поможете или нет? Если вы отказываетесь вывести меня из этой тюрьмы, я найду кого-нибудь другого.
— Тюрьмы? Значит, ты считаешь, что скафандр — это застенки?
— А по-вашему, что это?
— Защита. Забота об интересах общества.
— Защита?! Они ввели комендантский час, чтобы никто не мог помешать ночным бесчинствам милиции — убийствам, грабежам, арестам, репрессиям! Да и днем ничуть не лучше. С тех пор, как было объявлено чрезвычайное положение, городская милиция контролирует все и вся. Конечно, кому-то такая ситуация на руку. У нас нет свободы, кроме той, которую они сочли нужным нам предоставить! Эта псевдо-демократия…
— Достаточно! Я не занимаюсь политикой. Мне уже не раз приходилось иметь дело с диссидентами, и, честно говоря, я устал слушать их вздор. Пусть каждый сам решает, во что ему верить. Я только хочу знать, чистые твои деньги, или нет. Меня совсем не греет, если сюда нагрянет вся милиция, потому что моя пассажирка — воровка или пу… — Паромщик резко оборвал сам себя. — Если они поднимут уровень тревоги на несколько единиц из-за того, что в городе произошло серьезное преступление или крупная кража, я рискую быть схваченным в каком-нибудь темном переулке. От того, кто ты есть на самом деле, зависят наши шансы на успех. Остальное меня не волнует. Вот и все, и не надо усложнять.
— Значит, больше вас ничего не интересует?
— Я не идеалист. Если это то, на что ты рассчитывала, жаль тебя разочаровать. Я просто делаю работу, за которую мне платят. Я паромщик, а не всеобщий друг. Причины, из-за которых ты бежишь из города, волнуют меня меньше всего. У меня достаточно собственных проблем, и я не желаю обременять себя чьими-либо еще, — в его голосе звучало сдерживаемое раздражение.
— Так вы мне поможете?
— Нет.
— Не хотите мне помочь??
— Да и нет: я выведу тебя из города, но никакой другой помощи от меня не жди. Только я знаю эти лабиринты до последнего тупика, все тайные закоулки и кратчайшие пути. Без меня отсюда невозможно выбраться. Я — последний паромщик. А теперь отдохни немного перед дорогой. Нам придется много шагать. Можешь прилечь на тот матрас, а я посторожу у окна. Через несколько часов ты уже будешь снаружи, в глубине запретной зоны.
— Спасибо, — выдохнула она. — Спасибо.
— Пока рано меня благодарить. Никто не знает, что такое зона, даже я, и никто еще не вернулся, чтобы рассказать об этом. Ты уходишь в неизвестность, но раз это твой выбор, я проведу тебя туда. Мне совершенно не важно, что ты собираешься там делать, даже если у тебя назначена встреча с Богом-Отцом. Меня интересует только мой куш, ясно?
— Да.
— Я приказываю, и ты без лишних вопросов подчиняешься.
— Да, обещаю.
— Хорошо. Теперь поспи немного. Мы выходим через четыре часа. Ночи сейчас короткие. Надо набраться сил, дорога предстоит долгая.
— А вы не хотите узнать?
— Что еще?
— Например, как меня зовут, или зачем я иду в запретную зону. Неужели не хотите? Ну, вы и мизантроп, — пробурчала она сквозь зубы.
— Это лишнее.
— Мне все-таки хотелось бы сказать.
— Знаешь, мне тоже много чего хочется, так что теперь, застрелиться? Или ты думаешь, что ты какая-то особенная? Жить надо в реальном мире! Жаль, конечно, но это так. Ну, все, а теперь — спать!
Паромщик повернулся спиной и больше не произнес ни слова. Вместо этого он выпустил клуб дыма из своей наполовину выкуренной сигареты и подошел к двери. Как только девушка медленным движением положила на стол сверток с деньгами (в шелесте бумаги ему послышался вызов), он снова погасил свет, нажав указательным пальцем на большой переключатель. Ночь за окном, казалось, утихла, дождь наконец перестал. Огоньки звезд растворились и исчезли, словно поглощенные мраком космоса. Ночь и вселенная над ней слились в один агатовый океан. Вдалеке раздались сигналы тревоги, потом к завыванию сирен присоединился чей-то пронзительный крик. Милиция не дремлет, подумал паромщик. Что же, это к лучшему. Раз у блюстителей есть чем заняться этой ночью, нам проще будет выбраться. Почти невидимый в темноте, он чувствовал на своем затылке, как струю воздуха, упорный взгляд девушки. Немного поколебавшись, она наконец решилась прилечь. И вновь паромщик ощутил, как пробудился его страх, словно старая рана, словно изматывающая боль. Ему даже показалось, что его обветренного лица коснулось хриплое дыхание зверя. Зона ждала его возвращения, как мир ждет наступления дня, и это странное ощущение пугало его. Может быть, на этот раз он не вернется назад. Может быть. Надо быть сильным, сказал он себе.
Его размышления прервал неясный звук. Сперва он подумал, что девушка плачет, но это было не так — она что-то еще проговорила, лежа под жиденьким одеялом. В ватной тишине ночи раздался ее голос — несколько слов, произнесенных еле слышно.
— Я иду, чтобы быть с тем, кого я люблю. Хочу, чтобы вы это знали. Это важно для меня. Спокойной ночи.
Паромщик недовольно хмыкнул. То, что девушка оказалась такой чувствительной натурой, вызвало у него раздражение. Он подумал, что она слишком изнеженная, чтобы ввязываться в подобную авантюру. Погруженный в густой сумрак городской ночи, он кончиками пальцев пересчитал сигареты, что еще болтались в измятой пачке — их оставалось пять, осиротевших. С каждым разом становилось все труднее раздобыть сигарет в этом гетто.
Что ж, возможно, это хороший повод бросить курить.
Глава 2
Город был всегда, и никто не мог объяснить, как он возник. Он просто был, вечный, стоящий на мифическом основании, похожий на гигантский механизм, в котором все винтики и шестеренки соединялись друг с другом в выверенной гармонии. В этих стенах было заключено столько чудес изобретательности, что казалось невозможным, даже отчасти, представить себе тот гениальный мозг, который стоял у истоков всего. Однако ни одну деталь нельзя было назвать новой или сказать, что ход ее безупречен. Безостановочная работа этой машины поддерживалась за счет изворотливости тех, кто ее обслуживал: самые изощренные умы постоянно бились над заменой изношенного и восстановлением сломанного. Основа терялась, размытая потоком реконструкций. Кое-кто из жителей, обладающих достаточными знаниями и не боявшихся крамолы, пытались докопаться до сути вещей — но где они теперь, эти знатоки? Те же, кто был настроен мистически, поклонники древних свитков и темных иносказаний, утверждали, что город был возведен в золотой век, когда люди и боги жили в полном согласии. У каждого было собственное мнение на этот счет, своя безумная идея, и туман делался гуще, истина уходила все глубже под наслоениями городских легенд, порой — смешных и нелепых, но чаще — мрачных.
Город был разделен на несколько районов, разбитых в свою очередь на отдельные небольшие сектора. Кадастровому учету уделялось пристальное внимание, поскольку он позволял наилучшим способом осуществлять контроль над населением. Уже много лет город жил по законам военного времени. Никто не имел права нарушать комендантский час, и каждый житель состоял на учете в отделении милиции своего квартала. Произвол был привычным делом, но горожане свыклись со злоупотреблениями властью. Со временем привыкаешь ко всему, даже к жизни наполовину.
Защитная стена — ограда, как ее обычно называли, — была относительно недавним образованием. Старожилы помнили о тех временах, когда ее еще не существовало. Горизонт открывался куда хватало взгляда, и голубое небо не вызывало ощущения тяжелого и давящего покрывала. Говорили, что после катастрофы планетарного масштаба (подробности и причины которой не уточнялись), было необходимо защитить себя от враждебной внешней среды, от чуждого мира, который так и жаждал довершить то, что было начато жестоким роком — а именно уничтожить человеческий род. С тех пор это огромное сооружение из железа и бетона опоясывало город, оберегая его от всех опасностей, грозящих извне. Стена насчитывала порядка сорока километров в окружности. Дневной свет едва проникал в город, настолько ограда была высокой и суживающейся кверху, как стены незаконченного собора. Даже ветер лишь изредка мог преодолеть эту преграду, отчего жители изнывали большую часть года: зима становилась очень суровой, а лето удушливым. Когда солнце стояло в зените, горожане могли наслаждаться его лучами в течение нескольких часов — четырех-пяти, в зависимости от сезона. Те, кому повезло в жизни, селились на верхних уровнях, где солнце сияло подольше. Бедняки ютились в грязных трущобах первых этажей. Ну, а самые подонки общества выбрали своим обиталищем городские подвалы. Эти люди, хуже — полуживотные, предпочитали подземную жизнь, свободную от всяких обязательств. Они зарывались в норы, скрывались в туннелях и лабиринтах фундаментов городских зданий, и никто не мог призвать их к ответу. Город был вселенной в миниатюре, но жизнь едва теплилась в его недрах. Наверху — олигархия, о которой никто ничего не знал; она управляла желаниями и настроениями города. Сознание жителей усыплялось примитивными шоу, которые транслировались по контролируемым телевизионным каналам. Болезнь общества усугублялась абсолютным разрывом между классами. Политики при каждом удобном случае провозглашали демократические лозунги, не пытаясь создать даже видимость их претворения в жизнь. Существование города основывалось на внутреннем регулировании всего: сельскохозяйственного производства, рынка, общего и политического образования, полового воспитания, налогов и сборов, демографии. Город был похож на монстра, в густой шерсти которого копошились тысячи паразитов. Тоска — другого слова паромщик не мог подобрать, чтобы описать повседневную серость.
В противоположность городу, внешний мир, недоступный и загадочный, был источником всякого рода домыслов. Считалось, что он опустошен природными катастрофами и последствиями человеческой деятельности, заражен, отягощен веяниями прошлого, которых следует остерегаться. Ничто не могло бы уцелеть на руинах древних погибших цивилизаций, а обитатели города обязаны своим благоденствием единственно их чудесной ограде, потому что если бы не она («А также следует возблагодарить наши правящие верхи, которые ее возвели», — неизменно добавлялось при этом), ни один не знал бы мира и безопасности для себя и своей семьи.
Однако и в этой крепости тлела лихорадка инакомыслия, в жилах этого титана тоже текла мятежная кровь. Звучали требования создать исследовательские группы, чтобы предпринять первые шаги к разделению власти. Некоторые всерьез считали, что уже возможно выйти за пределы обитаемой территории. В результате в городе появилось некое подобие подполья: те, кто хотел вырваться наружу, платили паромщикам за помощь в переходе через ограду. У каждого были свои причины для побега, основательные и не очень, но, покинув город, оказавшись за стеной, эти люди исчезали навсегда во внешней области — так называемой «зоне». Со временем зона стала притчей во языцех, приобрела славу таинственного места, которым родители пугали непослушных детей. Говорилось: «Если ты будешь плохо себя вести, то отправишься спать в зону, и тебя утащат волки!». Поколение сменяло поколение, и зона наводила страх, но, как ни парадоксально, она и влекла к себе, разжигала воображение. По общему мнению, там не было ничего, кроме мрака и смертельной опасности. Однако те, кто хоть раз ощутил дыхание ветра на своей коже и видел лазурный горизонт, уже не могли избавиться от этой всепоглощающей страсти. Они становились паромщиками. Когда милиция ловила кого-то из них (обычно по анонимному доносу), за него брались психологи с целью изучить сей феномен, необъяснимый душевный изъян — выявить отраву и искоренить ее. Это болезненное состояние они называли «дурманом» и заявляли, что несчастные безумцы стали жертвой зоны, опьяненные ее ядовитым дыханием. Шло время, паромщики исчезали в тюрьмах или растворялись навсегда в закоулках города. Следы их нанимателей терялись в неизвестности. Таинственность этих исчезновений была вполне на руку олигархической верхушке, потому что благодаря ей за зоной укрепилась слава дьявольского места. Поддавшись однажды ее чарам, паромщик уже не мог противиться ее зову, словно мотылек, который, не в силах обуздать свое желание, летит на свет электрической лампы, пусть даже этот огонь сожжет его крылья.
Время. Уходить надо было сейчас, пока не рассвело, чтобы никто не мог их заметить. Полная бледная луна освещала тесную комнату. Паромщик осторожно дотронулся рукой до плеча спящей девушки и почувствовал на коже теплый ветерок от ее медленного дыхания. Он долго смотрел на нее, укрытую до подбородка потертым одеялом. Эта картина покоя, безмятежного сна слегка взволновала его. Он хотел дать ей поспать еще несколько минут, просто чтобы насладиться видом этой юности — зрелище, к которому он не привык. Наконец она проснулась.
— Мы уходим. Собирайся.
— Хорошо, — ответила она. — Я буду готова через секунду.
— Оденься соответствующим образом. Прикрой волосы. Выбери одежду потемнее. До рассвета еще час — достаточно, чтобы успеть дойти до коллекторов. А там — у меня есть средство для быстрого передвижения по зоне. Надеюсь, у тебя крепкие ноги.
— Крепкие ноги?
— Это сюрприз; увидишь, — произнес паромщик, ухмыльнувшись.
Он первым вышел из дома. На нем была черная кожаная куртка и спецовка заводского рабочего. Паромщик бросил быстрый взгляд вдоль улицы, что шла параллельно главному проспекту. Вроде никого. Он приставил руку ко лбу, чтобы заслониться от лунного света, и подождал, пока зрение привыкнет к темноте. Убедившись, что может различить малейшие детали в густой тени, он потянул за рукав девушку, которая замерла в полуметре позади него. Они медленно двинулись вперед. Следовало соблюдать осторожность и избегать отблесков света, источником которых являлись доменные печи, высившиеся вдалеке. Словно гигантские маяки, эти две колонны на горизонте испускали лучи то голубого, то (чаще) желтого цвета. Окутанный едкими серными парами, металлургический завод, как дьявол, гневно выл в ночи, озаряя весь город адским пламенем. Но паромщику был известна пульсация этих дантовых огней, и он знал, как избежать предательского света. А шум механизмов заглушал их шаги.
Пригнув плечи и опустив голову, они осторожно продвигались мимо огромных щитов с предупреждающими надписями, столбов, остатков стен, еще покрытых ночной росой. Бродячая кошка — несомненно, та самая, которую паромщик видел накануне, — испуганная их шагами, опрокинула мусорный бак. Раздался ужасный грохот. Теперь паромщик держал девушку за руку; впрочем, особо он не деликатничал. Внезапно в оцепенении ночи он услышал размеренный звук шагов ночного патруля — группа из пяти или шести человек двигалась в их направлении. Среди них выделялся один офицер; можно было даже разглядеть его лицо, несмотря на темноту: он держал в руке небольшой электрический фонарь и посылал им во все стороны ослепительные лучи. Следовало быстро спрятаться. Паромщик заметил небольшую яму на дороге — трещину в асфальте возле тротуара. Они пробрались к ней, проворно лавируя между полусожженными каркасами автомобилей и грудой шин, истертых почти до металлического обода. Спрыгнув в грязный ров и скорчившись, беглецы молча наблюдали, как патрульная команда с шумом прошла в нескольких метрах от них. Алый отсвет от завода освещал лица обходчиков, а грохот от их сапог отдавался в головах, как лай собак. Паромщик счел за лучшее подождать, пока патруль не скроется в одной из прилегающих улиц. Когда это произошло, оба, не говоря ни слова, выдохнули с облегчением и продолжили свой путь в направлении коллектора. Через пять минут быстрой ходьбы они достигли очистных сооружений. Здесь шум электрических моторов был так силен, что заглушал стук шагов по мостовой или хлюпанье воды, если путникам случалось наступить в лужу с застоявшейся жижей. Даже милиция предпочитала обходить этот район стороной. Здесь можно было почти не опасаться неприятных встреч, и беглецы почувствовали себя свободнее. Когда вход в коллектор был уже рядом, паромщик достал из кармана два небольших темных платка и протянул один из них девушке. Она поняла, что ей следует сделать то же, что и он: прикрыть лицо, особенно нос, чтобы защититься от зловония, которое ждет их под землей. Сточные воды со всего города стягивались сюда. Все, что извергал мегаполис, неслось по узким трубам прямо к очистителям, и запах разложения всевозможных органических отходов был непереносим. Никто не отваживался забредать сюда, настолько отвратительными казались эти потоки. Даже близлежащие кварталы были необитаемы. В этом и состоял секрет паромщика, его нить Ариадны. Он повернулся к девушке, и, несмотря на то, что его лицо было закрыто маской, по морщинкам в уголках его глаз она догадалась, что он широко улыбается. Он указал рукой на массивную стальную решетку метрах в двадцати внизу, что закрывала вход в небольшой пересохший канал. К ней вел бетонный спуск. Коротким ударом паромщик выбил нижнюю половину решетки из ее ложа и осторожно придержал ее, чтобы избежать малейшего шума. Ступая по тепловатому тошнотворному месиву, они проникли в тоннель. Тщательно приладив на место блок холодного металла, паромщик достал из кармана хлебный мякиш, смешанный с сажей, замазал бреши там, где сталь соприкасалась с бетоном, и щелкнул зажигалкой. Теперь он держался не так напряженно и вел себя более раскованно, словно освободился от своих страхов.
— Ну, вот, самое сложное позади. Здесь нас никто не будет искать.
— Ну и запах! Меня сейчас стошнит, — сказала девушка, зажимая нос через повязку.
— Пятьдесят тысяч человек приносят тебе свои нижайшие извинения. Очистные каналы проходят под оградой и выходят наружу. По ним мы и выберемся. Ловко придумано, правда?
— Далеко еще идти?
— Мы будем на поверхности через три четверти часа.
— И окажемся в зоне…
— В ее предбаннике.
— А потом куда?
— Двинемся прочь от стен ограды. Пройдем несколько километров.
— В глубь зоны.
— Да. А там я тебя покину.
— Разве вы не пойдете со мной?
— Я довожу тебя до границы зоны, и на этом всё, дальше я не иду. Ты хотела зону — ты ее получишь. Я выполнил работу, на которую ты меня подрядила. Есть возражения?
— Но я не буду знать, куда идти! Я ничего не знаю об этих местах. Я вас прошу, помогите мне. Я доплачу, если надо.
— Очень жаль, но у нас был другой договор. К тому же, меня не интересуют любовные свидания. Если хочешь, можешь потом пожаловаться в отдел по защите прав потребителей: вдруг они выплатят тебе компенсацию? Еще вопросы есть?
— Нет, — ответила девушка, явно обескураженная его грубостью. Отвернувшись, она смотрела на город — вернее, на ту часть города, что еще была видна отсюда.
— Ты жалеешь?
— Нет.
— А кажется, что да.
— Мне немного страшно.
— Поверь мне, зона не имеет ничего общего с городом. В городе, даже если день ото дня он раздражает тебя все больше, ты знаешь, чего ждать, на чем остановить взгляд и к чему приложить руки. Там же — всего следует опасаться. Эта земля насквозь чужая, ты даже вообразить себе не можешь. Ты увидишь невозможные вещи и невероятных существ. Я не знаю, какая наука могла бы объяснить зону и ее чудеса. Любое рациональное толкование порождает тысячу новых вопросов, и стоит кому-то поверить, что ему открылась часть истины, пусть даже самая малая, как на него снова обрушивается лавина загадок. Ты проклянешь того, кого так любишь сейчас, потому что он заставил тебя прийти, и наоборот, ты полюбишь то, что ненавидела до сих пор. Единственное правило, которое действует в зоне — все наоборот.
— И вы не боитесь?
— Я — другое дело. Я понял, что от нее ничего не следует ждать. Я понял, что надо соблюдать ее законы и ничего не просить у нее. Мне достаточно того факта, что она позволяет мне прикоснуться к ее магии. Этим я отличаюсь от всех моих пассажиров. Они надеялись открыть здесь истину, которая возвысит их над другими. Это ошибка. Не надо ничего ждать от зоны. Это зона, это она нас ждет. Не она для нас, а мы для нее. Ей выбирать. Ну, а теперь пошли. Время идет, а мне еще многое надо успеть.
Паромщику пришлось дважды щелкнуть пальцами, чтобы заставить девушку наконец оторвать взгляд от городских огней. Снаружи робко разгорался рассвет. Движением головы он велел ей идти за ним след в след. Она подчинилась. Туннель был достаточно высоким, чтобы беглецы могли двигаться в полный рост. Паромщик зажег карманный фонарик цилиндрической формы в корпусе из потертого пластика, который он извлек из недр своей куртки. По мере их продвижения зловоние в коридорах переставало быть столь невыносимым и дышать становилось легче. Откуда-то проникал слабый ветерок. Сводчатые стены покрывала липкая зеленая плесень. Паромщик предупредил девушку, что дотрагиваться до этой субстанции нельзя: она очень жгучая, и что не стоит пугаться огромных крыс, которые время от времени пробегали в темноте. На каждой развилке лучом карманного фонарика он показывал, куда идти. Паромщик не колебался ни секунды. Он знал по памяти все повороты этого лабиринта: сначала налево, потом направо, затем по этой лестнице или по этому скользкому спуску. Для его спутницы каждый камень, каждый переход, каждая неровность зеленоватых стен непоправимо походили на предыдущие. Невозможно было найти хоть какое-то различие. Свежий ветер, дующий непонятно откуда, заставлял ее поеживаться от холода. Паромщик заметил, что девушка совсем замерзла в этих подземельях, но данное обстоятельство не вызывало в нем никакого сочувствия. Он продолжал идти вперед, не заботясь, поспевает ли она за ним, словно ему самому крайне необходимо было добраться до цели. Казалось, его подстегивает лихорадочное нетерпение. Луч фонаря с каждой минутой становился все бледнее. Внезапно, когда путники в очередной раз свернули за угол, в лицо им ударил яркий свет: они достигли выхода из коллектора. Здесь было теплее; все вокруг купалось в лучах нового дня, и глаз, ослепленный долгим пребыванием под землей, ничего не видел, кроме этого света. Паромщик вздрогнул, когда его нога наконец ступила на рыхлую почву. Быстрым движением, так, что даже девушка не могла его заметить, он провел рукой по кустику мягкой травы, росшей у входа. Свет от фонарика стал едва различимым. Нить накаливания чуть заметно горела оранжевым огнем. Паромщик спрятал фонарь в складках своей наплечной сумки.
— Я ничего не вижу. Я как будто ослепла, — сказала девушка.
— Таков удел человека — преодолевать свою слепоту.
— Ужасное чувство.
— Все нормально. Закрой лицо руками. В этот час солнечные лучи особенно яростные. Нужно время, чтобы к ним привыкнуть. В городе иногда день разгорается только после полудня. Здесь же ты сможешь в полной мере насладиться солнцем. Ты увидишь всю красоту закатов и неземное сияние рассветов. А теперь, не отнимая рук, приоткрой глаза и раздвинь пальцы. Вот так. Все хорошо.
— Помогло. Я уже могу различить тени и контуры, правда, не четко.
— Все хорошо, — повторил паромщик.
Но девушка его больше не слышала. Она озиралась вокруг. Выход коллектора был расположен в зеленой дубовой роще необозримой глубины. Легкий ветерок раскачивал нижние ветви, и шелест листьев ласкал слух. А паромщик — не смотрел, он закрыл глаза и полной грудью вдыхал чистый воздух. Девушка с любопытством посмотрела на него, затем расправила плечи и последовала его примеру. Минуту они стояли так, вдыхая густой лесной воздух. Вокруг них щебетали птицы и выделывали невероятные пируэты, словно путники всегда находились среди этих деревьев. Позади, в паре десятков метров, так, что беглецы были как на ладони, возвышалась внушительная серая громада — городская стена. На вершине этой антрацитовой массы выделялись большие конструкции кубической формы: наблюдательные вышки, расположенные на равном расстоянии друг от друга, нависали над лесом. Сейчас они были немы и, надо думать, слепы. Паромщик знал, что в это время дня сверху невозможно разглядеть, что происходит по их строну стены, потому что на высоте солнце светит еще ярче и бьет в глаза. К тому же он умел вычислить мертвый угол для каждой из дозорных башен.
Внезапно он нырнул в ближайшие заросли, откуда выкатил странный механизм, весь ржавый и кое-как склепанный — что-то вроде старого велосипеда с двумя сиденьями. Его руль хранил следы цветной обмотки, а багажник нещадно дребезжал, стоило потертым рессорам прийти в движение.
— Что это? Велосипед?
— Почти. Это и есть заявленный сюрприз. Это тандем — превосходный способ ускориться, чтоб ты знала! Так как, у тебя крепкие ноги?
— Я бегала быстрее всех моих одноклассников.
— В самом деле?
— Уверяю тебя!
— Посмотрим.
— Значит, на этой штуке мы поедим в зону. Как она действует?
— Сейчас покажу. Садись назад, — скомандовал он. — Я буду рулить. Как на обычном велосипеде, ты жмешь на педали, но постарайся попадать со мной в такт. Через полчаса солнце поднимется выше и уже не будет слепить. Тогда эти, в своих скворечниках, смогут нас засечь. Нам надо побыстрее убраться отсюда.
— Похоже, вы все предусмотрели.
— Запомни первый урок: зона не прощает беспечности.
Глава 3
До сих пор имея возможность видеть это устройство только издалека и снизу, милиционер не раз спрашивал себя, как же оно работает. Слегка высунувшись наружу, он теперь внимательно разглядывал рельсы и ту часть двигателя, что попадала в поле его зрения. Наконец он понял. Локомотив был снабжен зубчатыми колесами, которые цеплялись за крюки, встроенные в железнодорожное полотно, и позволяли вагонам сохранять устойчивость даже на крутом подъеме. Шум при этом стоял как от трещотки. Поезд-фуникулер медленно карабкался по путям, что вели в административный центр города. Вот какого ориентира следует держаться, вот достойная цель жизни для того, кто хочет оторваться от заурядной горизонтали, подумал милиционер. Удобно расположившись в кресле, темно-красная обивка которого гармонировала с фиолетовыми шторами, он ожидал окончания путешествия. В вагоне он был единственным пассажиром. Время от времени впереди мелькал забрызганный грязью рукав машиниста, отдающего честь постовым на пунктах контроля, установленных на пути их следования. Никогда еще ему не доводилось подниматься так высоко. И в этот первый раз он испытывал странное чувство — головокружение.
День сегодня начался очень рано — слишком рано. На рассвете за ним прислали в казарму, чтобы он вместе со своей группой поверил один дом: имелось подозрение, что там находится тайное убежище паромщика. Очередная формальность, проворчал милиционер зевая. Проверка не выявила ничего интересного. Команда кинологов зафиксировала запаховый след, а больше зацепиться было не за что. Они перевернули комнату вверх дном, но скорее для проформы, чем по необходимости. Не понятно почему, но власти, казалось, были особенно заинтересованы в этом расследовании. С первым отчетом о нем милиционеру предписывалось явиться в самый высокий кабинет по его ведомству — в приемную канцлера. Такого раньше не бывало. Честно говоря, на данный момент докладывать было особо нечего. Этой ночью под дверью милицейского поста кто-то оставил письмо с доносом. Сначала думали, что это просто кляуза — дрязги между соседями и тому подобное, и, конечно, никто не кинулся тут же проверять факты. И только по прибытии на место стало ясно, что сказанное в письме соответствует действительности. Само отсутствие подозреваемого свидетельствовало о его вине. Дело обещало завершиться быстро. Вот все, что милиционер может сообщить, и ничего более, разве что где-то преувеличит, приукрасит какие-то детали — просто чтобы добавить остроты заурядному эпизоду.
Если бы не удача, благосклонная к новичкам, милиционер заблудился бы в этом офисном лабиринте. Всеми городскими органами заправляла тесно сплоченная верхушка (клика, как ее ни назови), и именно ее решения определяли жизнь простых людей. Милиционер миновал бюро регистрации рождений, заглянул по ошибке в контору, занимающуюся общими сельскохозяйственными вопросами, чтобы потом оказаться в комитете по культуре. Наконец он добрался до личной приемной канцлера. Там его обыскали двое охранников («Стандартные требования безопасности», — объяснили они), после чего секретарша сопроводила его в кабинет канцлера, и спросила, не желает ли он чая или кофе. И от того, и от другого милиционер отказался. Он стоял по стойке «смирно» перед столом канцлера, но тот, повернувшись спиной, разглядывал сквозь очки с толстыми линзами какие-то блестящие предметы, разложенные за стеклом-витриной. Милиционер узнал два старинных пистолета, папаху, длинную саблю, золоченые пуговицы размером с палец и другие диковинные раритеты. Жалюзи были наполовину опущены и не позволяли утреннему солнцу проникать в комнату (какая роскошь! и какое расточительство! — подумал милиционер). На стенах, в рамах из ценных пород дерева, висели старинные карты — с океанами, полными чудовищ с гибким телом и раскрытой пастью. Мраморный с голубыми прожилками пол застилали звериные шкуры. Канцлер был болезненно толстым человеком, но лицо при этом имел худощавое, с застывшем на нем сердитым выражением. Он был одет в некое подобие халата из светлого хлопка с красными эмблемами города по бокам. Милиционера он, казалось, не замечал. Тот, по-прежнему стоя навытяжку, украдкой бросил взгляд на бумаги, лежащие на столе. Среди них милиционер узнал собственный послужной список. Он кашлянул. Наконец канцлер повернулся и снисходительным жестом предложил гостю сесть. Сам он, все еще стоя, стал медленно перелистывать страницы досье, одобрительно кивая головой, как метроном, в такт своему беглому чтению. Затем он тяжело опустился в кресло из черной кожи. Вид у него был мрачный и очень усталый.
— Милиционер, известно ли вам, в чем ошибка всех родителей?
— Боюсь, не понимаю вас, канцлер.
— Конечно, вы слишком молоды. Вы не женаты, и, следовательно, еще не знаете всей меры ответственности, что выпадает на нашу долю. Я имел в виду следующее: мы хотим сделать все как можно лучше, а в итоге выходит плохо. Очень плохо.
Канцлер неистово потряс указательным пальцем перед носом милиционера, словно он только что произнес глубокую истину, словно на него снизошел животворный луч света и озарил своим сиянием густой сумрак его утомленного мозга.
— Это так, — только и ответил милиционер, не зная, что сказать.
Он понял, что все сказанное имеет для канцлера огромное значение, и внимательно ловил каждое слово старика.
— Надежда, милиционер, — вот в чем ошибка родителей. Мы стараемся дать им надежду, словно это самое важное в жизни. И здесь мы безусловно виноваты.
— Но ведь только благодаря надежде мы смогли построить этот огромный город — сокровище веков и на века.
— Да, да, конечно, — канцлер закрыл лицо ладонями; его морщинистые руки дрожали. — Но это всего лишь риторика, наизусть заученный урок. Конец неизбежен. Все уже потеряно. Я уже все потерял.
После этих слов воцарилась гнетущая тишина. В течение полминуты канцлер отрешенно сидел, глядя в никуда — казалось, он был где-то далеко, по ту сторону ограды. Наконец он вернулся к действительности. Пухлой рукой он открыл ящик стола, извлек из него какие-то измятые листки и черно-белую фотографию и бережно подвинул документы к милиционеру, расположив листки в определенном порядке. Кончиками пальцев он постучал по фотографии.
— Моя дочь… Это мой единственный ребенок, милиционер. Она ушла из дома. Я не смог ей помочь, хотя должен был. Я не выполнил своих обязанностей отца. Она больна — врачи говорят, какая-то опухоль. Операция невозможна, и это сводит ее с ума. Ее покойная мать была такой же безудержной сумасбродкой и легко принимала на веру все те бредни, которые рассказывают в городских трущобах. Один Бог знает, где сейчас моя дочь, и я опасаюсь самого худшего.
— Не поддавайтесь панике, канцлер. Я понимаю ваши страхи. Мы найдем ее, в каком бы районе она не скрывалась. Нам не впервые приходится сталкиваться с такого рода делами. Если желаете, я сам этим займусь. У нас есть хорошая команда кинологов, и…
— Нет, милиционер, вы не понимаете. Она покинула город. Смотрите!
Канцлер выхватил два листка и потряс ими перед удивленными глазами милиционера. Один из них был тем самым доносом, который позволил службе правопорядка раскрыть убежище паромщика, а другой — сложенной запиской, где дочь кратко объясняла отцу причины своего отчаянного бегства. В обеих письмах почерк был одинаков. Милиционер сообразил, что здесь какая-то двойная игра, и понял, почему донос явился столь своевременно, как дорогой подарок.
— Найдите мою дочь, и я в долгу не останусь. Сколько вам надо прослужить, прежде чем выбиться в начальники караула — двадцать, тридцать лет? Верните мою дочь, и я за час сделаю вас шефом бригады. Дальнейшее не замедлит себя ждать. Клянусь своей головой.
— Пересечь ограду — серьезное преступление, за которое предусмотрен большой срок и даже смертная казнь. Вы лично внесли поправки в закон, чтобы обезопасить город. Теперь вы предлагаете мне переступить через мой долг гражданина, я не…
— Я знаю, — как безумный взревел канцлер, но тут же взял себя в руки. — Я все это отлично знаю, но условия изменились. Речь идет о моей собственной дочери — она слаба и не отвечает за свои поступки. Она действует как конкистадоры, которые сжигают свои корабли, чтобы отрезать себе пути к отступлению. Я должен ее найти. Вы должны ее найти для меня.
— Я не знаю… Я опасаюсь зоны и ее дурмана. До сих пор мне не случалось так долго находиться за пределами города. У меня нет опыта. Возможно, вам следовало бы обратиться к кому-то другому.
— Не думаю. Я изучил ваш послужной список: воспитывался за государственный счет, достигнув совершеннолетия, поступил военную школу, самый блестящий офицер выпуска, шесть лет в надзорном патруле, четыре года работы инспектором, активное участие в усмирении бунтовщиков в октябре прошлого года, сорок три задержания, в том числе девять арестов паромщиков и одиннадцать — нарушителей границы города. Это производит впечатление.
— Канцлер, вы прекрасно осведомлены. Но вообразите, что это отступление от закона в конце концов будет раскрыто. Что тогда станет с вами и со мной? Мы укрепляем здание с одной стороны, чтобы тут же разрушить его с другой. Мы нарушаем нами же установленные правила. Это ни в какие ворота не лезет. Я понимаю ваше горе, но интересы города значат для меня больше. Искренне сожалею, но мой ответ — нет.
— Значит, вы не оставляете мне выбора, — вздохнул канцлер. — Я понимаю, на что вы намекаете. Тогда я приказываю вам найти мою дочь, какие бы методы для этого ни потребовалось применить. Я знаю, что вы очень амбициозны и не упустите своего, как и все молодые волки из вашего поколения. Я остановил свой выбор на вас не только из-за ваших служебных достижений. Я знаю, моя просьба идет вразрез с законами города, и мне нужен человек опытный и в то же время не слишком щепетильный. Подумайте хотя бы об обещанном вам вознаграждении. Не упустите эту возможность!
— В общем, все, что вам нужно — это наемник. Охотник.
— Можно и так сказать.
— Наконец мы пришли к пониманию. Лично я предпочитаю называть вещи своими именами. Мы оба разумные люди, и каждый из нас получает свою выгоду, вы — вашу дочь, а я — мощный рывок вверх. Допустим. Но вы же понимаете, что мне нужно иметь еще и письменное подтверждение, что все происходит с вашего ведома и под вашу ответственность. В случае провала я заявлю, что это вы мне приказали. Хочу, чтобы это было ясно.
— Естественно.
— Место начальника караула? Таково ваше обещание?
— Даю слово, — сказал старик.
— Мне понадобится снаряжение.
— Вы будете обеспечены всем самым лучшим.
— Как мне поступить с паромщиком?
— Убейте эту гниду! Пусть он больше не вернется. Разговор окончен.
Канцлер и сам осознавал, насколько противоречивы его слова. Декреты, которые он когда-то принимал — что на холодную голову, что сгоряча — теперь вызывали у него только усмешку. Одиночество его убивало. Ничего не имело значения, кроме возвращения его дочери. Милиционер догадывался о слабой стороне старика и о том, какую выгоду он может извлечь из этого. Отсалютовав в последний раз канцлеру, но не добавив ни слова, милиционер покинул кабинет. На его лице, вопреки уставу, змеилась саркастическая улыбка. Канцлер не видел, как милиционер вышел за дверь. Он плакал, глядя на фотографию своей дочери.
* * *
Собаки взяли след. Фыркая и сопя, они отследили запах беглецов от хибары паромщика до очистных сооружений. Милиционер не мог понять, почему девушка в своем письме сама все раскрыла с такой беспримерной откровенностью. Хоть ее отец и полагал, что она не совсем в своем уме, эта демонстрация сбивала с толку. Без труда обнаружив ненадежную маскировку по краям канализационной решетки, милиционер потянул за прутья. Решетка поддалась без труда. Насвистывая, он оглядывал мрачные своды туннеля. Интуиция подсказывала, что беглецы ушли далеко вперед — у них было четыре или пять часов форы. Очевидно, возвращаться ему придется вечером или даже ночью. Наблюдатели в кубических башенках на вершине стены не заметили ничего необычного в рассветных сумерках, и их отчеты не отличались внятностью. Милиционер сурово распек их за нерадивость. Одному из них он даже влепил пощечину: тот пытался найти оправдание своей безалаберности.
Пробираясь между возбужденными собаками, к отряду направлялась команда врачей. Милиционера удивило их присутствие здесь. Один из солдат пошел осведомиться о причинах их появления и доложил: канцлер приказал доставить медицинский препарат, который помогает противостоять дыханию зоны. Милиционер должен быть вакцинирован.
— Минутку, господа. Сначала я должен знать, что это.
— Ничего не бойтесь, милиционер. Это сыворотка, созданная в нашей лаборатории, — хитрая комбинация, чтобы не поддаться дурману. Пожалуйста, закатайте рукав до плеча, — сказал медбрат, постукивая пальцем по шприцу.
Милиционер повиновался.
— А оно работает? И откуда вы ее взяли, эту, как ее?
— Все это еще в стадии эксперимента, но результаты уже многообещающие. Мы составили этот антидот на основе множества изученных фактов заражения. Речь идет о некой смеси — или концентрате, если хотите, — всех известных препаратов, позволяющих защитить организм от агрессивной внешней среды. Доверьтесь нам. Лабораторные мыши в большинстве своем хорошо на него реагировали.
— Ого! Ну, тогда я совершенно спокоен.
Милиционер едва почувствовал боль от укола. Когда прозрачная жидкость побежала по его венам, он впервые задумался о серьезности своего поступка. Стоит ли все это труда? Зачем нужно мировое господство, если все равно предстоит умереть? И все же, несмотря на реальное ощущение опасности, он чувствовал в душе только жажду вознаграждения и хмель тщеславия. Во внутреннем кармане форменной куртки, у сердца, заботливо хранилась официальная бумага от канцлера — гарантия его безнаказанности. На боку висел револьвер в плотной кожаной кобуре. Старик сравнил одержимость дочери с фатализмом конкистадоров, которые, сжигая собственные корабли, уничтожали всякую возможность для страха и сожаления. Но не таков ли он сам, милиционер? Ему пришло на ум, что беглецы наверняка испытывали те же сомнения, что обуревают сейчас его, а значит не следует ими пренебрегать — они станут их общим гидом, крепкой связью, которая соединит его и тех двоих в пути по этой опасной территории. Вплоть до неизбежной встречи — неотвратимого момента, когда им придется столкнуться лицом к лицу.
Глава 4
Велосипед катил по грунтовой дороге, что сперва вилась вдоль стены, а после свернула в зеленую тень густого леса. Паромщик жал на педали изо всех сил. Девушка была поражена многообразием форм и цветов, которое открывалось ей здесь и там, под кронами деревьев, в глубине этого мира плотной листвы и узорной коры, этого королевства крохотных насекомых, иногда очаровательных, иногда жутковатых — сборище летающих созданий, двурогих или нитевидных, едва заметных, но чьи стремительные движения заставляли ее вздрагивать. Все шло замечательно. Паромщик представлял себе ее изумление и не спешил прерывать ее первую встречу с внешним миром. Сам он тоже наслаждался редким зрелищем, что представало перед ним, но иначе, чем его спутница, потому что для него оно не было открытием: он знал все это уже давно. И все же, хотя он бережно хранил в памяти эти образы, помогавшие ему выносить мрачность городских улиц, каждый раз он с удивлением обнаруживал что-то новое: то ему казалось, что вон та рощица выглядит иначе, то он находил новый оттенок в игре света или в той далекой дымке. Он чувствовал, что его восприятие зоны становится чище, обостреннее, и это ощущение только возрастало по мере того как смутные воспоминания о городе и о тоскливой жизни в нем неудержимо исчезали, сметенные пьянящим дыханием зоны.
— Зона — это что-то потрясающее. Я и вообразить не могла столько чудес!
— Мы еще не в зоне.
— Где же граница?
— Нужно проехать еще несколько километров. Там будет речка и старый деревянный мост. Останется перейти его — и ты окажешься в зоне. Я же дальше не пойду. Не сегодня. Река есть естественная граница зоны, перейти ее означает согласиться с тем, что возврата не будет. Это бесповоротно. Ты еще можешь передумать и вернуться со мной в город — я намереваюсь двинуться назад, как только наступит ночь. Подумай. Никто ничего не узнает. Это будет нашим секретом.
— Я не вернусь, — ответила она. — Никогда. Лучше умереть.
— Умереть? Надо же, сколько пафоса. Есть вещи пострашнее смерти.
— Страшнее смерти? Какие же, например?
— Тоска, одиночество, страх. Все относительно.
— Вы сказали, что после того, как перейдешь мост, путь назад отрезан. Но ведь вы уже были в зоне — и вернулись. Почему с вами не так, как с другими?
— Я подпитываю зону, поддерживаю ее великолепие, и хотя я не могу до конца все это понять, я думаю, что она воспринимает мои действия как некое подношение. Возможно, я что-то вроде языческого жреца или шамана. Поэтому зона позволяет мне возвращаться назад. Я — посредник.
— Посредник? Сколько же раз вы бывали в зоне?
— Я проходил по этим тропам десятки раз, но сейчас мне кажется, что с этим пора завязывать. Зона разъедает меня, как кислота.
— Вы имеете в виду дурман?
— Дурман — это сказка, детей пугать. Вам внушили страх, чтобы ни у кого и мысли не возникло пуститься в эту авантюру. Нет здесь никаких ядовитых испарений. Опасность зоны в другом: она действует не так прямолинейно, но куда более коварно. Скоро сама поймешь. А пока — жми на педали поактивнее. Я устал и хочу есть. Еще немного, и мы достигнем фруктовой рощицы. Там мы сможем подкрепиться.
— Вы сказали, что зона опасна, и вы это понимаете. Зачем же вы сюда возвращаетесь? Из-за денег?
— Не зарывайся. Деньги здесь ни при чем.
— Тогда почему?
— Я ничего не могу с собой поделать. Это сильнее меня.
— Вот что еще хотелось бы мне узнать…
— Ты не понимаешь. Здесь ничего нельзя знать заранее. Ты хочешь объяснить необъяснимое и дать определение тому, чего быть не может. Оставь эти городские приемы — здесь они тебе не помогут. А пока перестань долбить мне мозг своими вопросами. Скоро ты сама все поймешь. Даю слово.
Остаток пути к реке с деревянным мостом прошел в молчании. Когда они наконец добрались, окрестности уже подернулись легкой синевато-прозрачной дымкой. Отчетливее стали слышны голоса птиц, стремительно проносящихся мимо. Девушка была очарована этим зрелищем. Разумеется, в городе тоже встречались птицы, но намного реже. Пугливые, жалкие, голодные, они обычно сидели, нахохлившись, на электрических проводах и никогда не пели. Здесь же, под сенью леса, птицы щеголяли диковинным оперением, их наряды горели огнем и отливали серебряным блеском. Уютная речка чуть слышно плескала, кое-где из прозрачной воды выступали валуны, отшлифованные неспешным течением. Сапоги путников слегка увязали во влажной земле. Никаких признаков цивилизации — мусора, разрушенных строений, растрескавшегося бетона, словом, того, к чему привыкли обитатели города. Ничто не оскверняло красоты этого места. Почти идеальная гармония. Единственное, что слегка приглушало буйство зелени, был налет тонкой желтоватой пыли. И все же зеленый цвет преобладал, всепроникающий, насыщенный до рези в глазах. Девушка медленно приблизилась к реке и погрузила обе руки в воду. Облако бабочек, изящных и грациозных, закружилось над ее головой. Затылком она ощущала свежий ветерок. Девушка молча всматривалась в толщу воды, и взгляд ее терялся среди придонных растений и отполированных течением камешков. Паромщик угрюмо поглядывал на нее; он возился с переключателем скоростей старого велосипеда, который что-то вновь забарахлил. Затем он достал слегка помятую сигарету, закурил и, прежде чем сделать первую затяжку, сплюнул крошку табака, приставшую к языку.
— Вот и мост. На том берегу тебя ждет твой дружок.
— Никто меня там не ждет, — сказала девушка странным тоном. — Никто.
— Однако, перед тем, как нам отправиться в путь, ты говорила другое.
— Я соврала.
— Ну, надо же! Ты полна сюрпризов. Будь честной сама с собой и признайся, что ты боишься. Я не стану тебя упрекать. Были и другие, кто поворачивал назад, настолько их пугала зона. Это можно понять. Главное — не переходить через мостик. Подумай хорошенько.
— Мы не повернем назад.
— Мы? Это еще что за новости!
Атмосфера накалялась, и паромщик это чувствовал. В голосе девушки как будто зазвучали трагические нотки. Он наконец оставил свой ржавый велосипед, положив его в густую траву. Девушка то смотрела на прозрачную воду ручья, то переводила взгляд на напряженное лицо паромщика (к его нижней губе приклеился окурок сигареты). Теперь разговор велся на повышенных тонах.
— Так, чувствую, мы с тобой надолго не споемся. Что-то все слишком запуталось.
— Мы не повернем назад, — повторила она.
— Ошибаешься. Я вернусь в город, и не позднее, чем сегодня вечером, — он указал пальцем на еще видневшуюся вдалеке стену.
— Вы не сможете.
— С чего это? Объясни-ка!
— Милиции известны ваш адрес, ваше имя, и они знают о вашем незаконном промысле. Я им оставила письмо, в котором сообщила все, что я про вас знаю. Сейчас они уже, наверное, окружили улицу. Я прошу меня простить. У меня не было выбора.
— Ты нас сдала? Бред какой-то… — Паромщик схватился за голову. — Ты хоть понимаешь, что ты натворила — ведь речь идет не только обо мне, но и о моих связных. Ты подумала о Федоре?
— Он скрылся в другом квартале, изготовив себе новое удостоверение личности. Он ничем не рискует. Я предупредила его перед тем, как отправиться к вам, вот почему его не было со мной вчера. Я должна была удержать вас любой ценой. Мне надо, чтобы вы пошли со мной в сердце зоны — к фабрике. Вместе мы сможем ее найти.
— Фабрика? Ты с ума сошла? Фабрики не существует. Это очередной миф на потребу продавцам книг. Никто никогда не добирался до фабрики.
— Я знаю, что фабрика существует. Это не миф. И там есть комната, совсем небольшая, где каждый…
— … где каждый может задать вопрос и получить на него ответ. Знаю я эту песню. Ничего там нет. Я слышал эту историю тысячу раз и в основном из уст всяких пропойц. Они рассказывают байки, чтобы запудрить мозги или чтобы их угостили стаканчиком, но это не более чем выдумка. Только дурочка вроде тебя может еще верить в подобный вздор. Скажи мне, что ты ничего не сделала! Скажи мне, что милиция не знает, кто я!
— Я сожалею. Вы не можете вернуться. Мой отец сделает все, чтобы отыскать меня. Он не отступит ни перед чем. Если вы повернете назад, вам конец.
— Твой отец? Я и его должен опасаться?
— Мой отец — канцлер, — сказала она, опустив глаза.
— Тогда я покойник…
Его лицо исказилось от злости. Он поверить не мог, что девчонка сумела сыграть с ним такую шутку — с ним, кто на протяжении долгого времени водил за нос всю городскую милицию, кто угрем пробирался по трубам, и ни одна живая душа об этом не подозревала. Ему доводилось встречать гнусных типов, но сейчас эта молодая девица превзошла их всех. Закрыв лицо руками от носа до подбородка, сквозь сведенные худые пальцы, он повторял без остановки: «Она сошла с ума, она сошла с ума…» В ярости он бил ногами землю, как обезумевшее животное, метался из стороны в сторону, раскачивался, как тростник, и бросал взгляд то на тропинку, по которой они добрались сюда, то (украдкой) на девушку. Но тут его раздражение только возрастало, тем более что она совсем не казалась удрученной этой немыслимой ситуацией: она как ни в чем ни бывало следила за игрой световых бликов на водной глади. Вне себя от гнева, паромщик подошел к ней и грубо схватил за плечи, заставляя посмотреть ему прямо в глаза. Он приблизил ее лицо к своему, так, что почувствовал ее теплое дыхание. Черты его перекосились от ненависти, на дрожащих губах выступила пена. Она же, казалось, совсем не испытывала страха, разве что ее ангельское лицо приобрело странное выражение.
— Да я тебя…
— Вы мне ничего не сделаете, — спокойно сказала она.
— Мерзавка. Ты заплатишь…
— Зона внушила мне это. Теперь я понимаю.
Хрупкими руками она сжала запястья паромщика, чтобы ослабить его жесткий захват, а потом коротким взглядом указала ему на реку. На водной поверхности не было их отражений. Ни тени, ни размытой линии — ничего. Там отчетливо виднелись белые облака, солнце, верхушки деревьев, даже птицы, проносящиеся в небе. Река не возвращала лишь их отражений — ни лицо паромщика, ни девушки не колыхалось в струении серебристой воды. Как будто ни один из них не стоял сейчас здесь — во плоти.
— Что это? — спросила она. — У меня мороз по коже…
— Теперь ты знаешь. Это все зона и одна из ее шуточек.
— Но это невозможно, попросту невозможно!
— Еще раз повторюсь: здесь действует единственное правило — все наоборот.
— Но я же должна отражаться в воде!
— Почему это?
— Потому что это логично.
— Забудь о логике. Она вся осталась в городе.
— Не бросайте меня одну. Я не знаю, куда идти. Я в растерянности.
— Вот уж что меня волнует меньше всего, — проворчал он.
— Я несколько месяцев искала, внимательно изучала документы, и наконец обнаружила в старинных рукописях предполагаемое место, где может находиться фабрика. Это в нескольких днях пути отсюда. Я найду свою комнату ответов. Я попрошу выздоровления: где находится мое лекарство? Вы тоже сможете попросить что-нибудь для себя, и будьте уверены, что вы это получите, и от вас ничего не потребуют взамен.
— Ты попросишь выздоровления?
— Да, — ответила она.
— Ты больна?
— Да. Я серьезно больна; болезнь неизлечима, если верить городским врачам, этим невежественным шарлатанам, которые годам вытягивали деньги из моего отца. Еще несколько недель, пусть месяцев — и я умру. Я не хочу умирать, по крайней мере так.
— Почему ты мне сразу обо всем честно не сказала? Я бы понял, — убедительно сказал паромщик. — Тебе не было нужды лгать. Без доверия нельзя пускаться в подобную экспедицию.
— Вы так уверены? А вот я сомневаюсь. Вы были таким холодным, таким высокомерным. Вы ничего не желали знать обо мне. Я хотела вам рассказать, объяснить причины моего бегства, помните? В итоге мне пришлось солгать.
— Да уж, — он ущипнул меня за подбородок. — Что у тебя за болезнь?
— Это недуг, который съедает меня изнутри, как рак — воскликнула она голосом, звенящим от волнения. — Помогите мне, умоляю!
— А разве у меня есть выбор, теперь, когда мое укрытие обнаружено? Твой отец наверняка пустит за нами всех своих собак. У меня нет другого выхода, кроме как тащиться за тобою в зону. А ты — ты сумасшедшая, причем буйная.
— Так значит вы пойдете со мной?
Паромщик вздохнул. Он уже принял решение, и хоть и продолжал возмущаться, знал, что поможет ей. Он понял это, стоило ей в своих уговорах упомянуть болезнь, которой она страдает — запущенную форму рака.
— Возможно, фабрики не существует, — сказал он. — Без сомнения, это просто легенда.
— «Без сомнения»! «Возможно»! — передразнила она. — Вы сами себе противоречите. Вы ведь отлично понимаете, что в месте, подобном этому, никакое предположение нельзя считать совсем уж невероятным. Посмотрите на реку! Если фабрики не существует, в чем я сомневаюсь, — тогда никакое лечение, никакой уход, никакие препараты меня не спасут. Тогда я умру — но, по крайней мере, я проживу эти последние дни, верная себе.
— Ну да, ну да, это правильно. Вера умирает последней, — пробормотал паромщик. — Хорошо! Я помогу тебе, но с этого момента ты перестаешь мне врать. Ты слушаешься малейшего моего слова, иначе не твоя болезнь тебя убьет — это сделает зона. — Девушка кивнула. — Итак, где находится фабрика, согласно твоим старинным рукописям?
— В сердце зоны, на серых землях, возле воды. В общем, мне немногое известно. Все это довольно туманно.
— И ты полагала, что я здесь что-то пойму? Нужна карта.
— Ее нет. Вот что дословно говорилось в рукописях: комната желаний находится там, где сходятся земля и небо, возле старого маяка. Чтобы добраться до этого места, надо довериться стражу — хозяину этих земель. Больше я ничего не знаю.
— Сердце зоны — это я понимаю. Видимо, это центр. Но все остальное — небо, земля, хозяин-страж… Должен признаться, тут я в замешательстве. Эта загадка мне кажется неразрешимой. Как искать иголку в стоге сена. Здесь наши шансы на успех меньше, чем один на миллион.
— Все не так плохо! Двинемся к центру зоны, вглубь, а там посмотрим, — воскликнула девушка. — Сейчас мы все равно ничего лучшего не придумаем. Дальше мы по-прежнему поедем на тандеме?
— Нет. Переключатель скоростей не продержится долго на тех тропках, которые нас ожидают. Разумнее идти пешком. К тому же мы не будем так греметь, и это к лучшему. До сего момента у нас была всего лишь оздоровительная прогулка. Как только мы перейдем мост, мы попадем во власть зоны, и наши жизни будут всецело зависеть от ее настроений. Не жалеешь?
— Нисколько, — ответила девушка.
Глава 5
Прежде чем перейти реку, паромщик снова ненадолго скрылся в лесу, чтобы спрятать велосипед. Не то, чтобы он боялся, что кто-нибудь украдет его чудо-машину, а скорее для порядка и из неукоснительного уважения к месту. Он оставил тандем за кустами, среди густых папоротников. Из кармана он достал полотняную сумку, бесформенный вещмешок из голубого хлопка, скомканный до невозможности в складках его куртки. Невдалеке, на опушке леса, где росли яблони, он набрал спелых яблок. Наполнил флягу свежей водой из реки. Подтянул поясной ремень, на блестящей металлической пряжке которого красовалась пятиконечная звезда. Девушка внимательно наблюдала за ним. Она дала себе слово отныне во всем его слушаться.
Эта девчонка, — думал паромщик, — наверняка еще недавно была обычной праздной штучкой, такой же, как и прочие городские мальчики и девочки ее возраста и социального класса, приходящие в восторг от пустых кинодрам, надуманных трагедий, которые у взрослых людей вызывают лишь усмешку. А затем — судьба поцеловала ее в лоб, выбрав своей случайной жертвой. И такое редкое заболевание… Вся ее психика восстала против этой угрозы — смерти, неотвратимой и неминуемой (как обычно говорится), и именно перед лицом монстра в ней проснулось желание жить, потому что нет человека более жизнелюбивого, чем тот, кто стоит на пороге гибели. Осознание близкого конца заставляет ее иначе прожить тот короткий отрезок, что ей остался. Во все времена люди были таковы — жалкие планеты, вращающиеся вокруг этой единственной грозной истины — смерти.
Они вместе перешли мост через ручей и пошли дальше, грызя яблоки и напустив на себя беззаботный вид, — разумеется, обман, чтобы другой не догадался, что внутри у тебя все сжимается от страха. Паромщик, казалось, ступал особенно осторожно, словно боялся раздавить какое-нибудь крохотное создание, невидимое в траве, чья агония вызовет немедленный гнев зоны. Они не разговаривали громко — только шепотом, и вздрагивали от малейшего трепетания листьев, от самого незначительного разлада в щебете птиц. Их не покидало чувство, что зона наблюдает за ними ореховыми глазами из ближайшей дубовой рощи. Этот клочок зоны еще был знаком паромщику: он заходил сюда и прежде, но на сей раз, под напутствием палящих лучей солнца, ему предстояло куда более долгое странствие. Его дорога вела дальше, в сердце зоны, к абсолютно неизвестным землям.
Ни один, ни другая не могли справиться со своей тревогой. Они болтали о всяких пустяках — о школе, о прочитанных книгах, о музыке в стиле ретро, тщательно избегая болезненных тем, разных случаев из жизни города или историй людей, чье существование обрывалось в неизвестности — то ли они сгинули в застенках режима, то ли пропали, беспечные и неосторожные, на извилистых тропках зоны. Сейчас подобные разговоры были бы не к месту. Следовало сначала продвинуться вглубь и убедиться, что зона расположена к ним. Паромщик спрашивал себя, какая муха его укусила, что он согласился сопровождать ту, кто так злоупотребила его доверием. Сперва он объяснял это тем, что с годами он стал сентиментальным, и давал зарок, что если ему еще доведется вернуться в город, он непременно возьмется за себя. Потом он понял, что дело не в этом. Он оказался с девушкой на одной волне, потому что увидел в ней своего ребенка, которого у него никогда не было. Он и сам пока не мог определить это томительное чувство, что заставляло его вздрагивать, когда она в испуге хваталась за его крепкую руку. Разве возможно, чтобы он полюбил здесь, в самом сердце зоны? Да и может ли здесь существовать любовь? Можно ли здесь испытывать что-то еще, кроме простого страха?
Тропинка бежала по цветущей равнине. Ее изгибы вели к густому лесу, темной зеленой массе, размеры и плотность которой путешественники не могли с ходу определить. Паромщик подумал, что было бы лучше обогнуть эти заросли. Но время поджимало. Солнце стояло в зените, и его лучи нещадно били в лицо и припекали спину. От пота его майка стала неприятно влажной. Он знал, что там, в лесу, будет прохладнее и они смогут преодолеть большее расстояние, укрывшись от дневного зноя.
— Пройдем через лес, — он пальцем показал девушке направление, которого им предстояло держаться. — Как только окажемся на той стороне, продолжим путь к центру зоны. Если повезет, найдем какое-нибудь возвышение, с которого можно оглядеть местность, или даже указатель. Если фабрика существует, она должна быть видимой, по крайней мере, я на это надеюсь.
— Как скажете. Я полагаюсь на вас, — спокойно ответила она.
— Теперь уж у тебя нет выбора. Будь осторожна. И давай поторопимся — тогда мы сможем найти подходящее место для ночлега. Мне не хотелось бы провести ночь на этой равнине. В лесу мы сумеем соорудить какое-нибудь укрытие. Идем.
Тропинка пролегла через опушку леса, потом побежала среди деревьев, неуклонно стремясь вперед, и никакое препятствие не вставало на ее пути. Казалось, кустарники, заросли вереска и папоротника щадили ее: ни единая травинка не нарушала ее ровной поверхности. Дорога словно была специально предназначена для того, чтобы никто не мог потеряться на ней или уклониться в сторону. Похожая на линию жизни на ладони, тропа прорезала лес с такой целеустремленностью, что невозможно было отделаться от мысли, что кто-то ее поддерживает и заботится о ее сохранности. Впрочем, паромщик не был этому удивлен. Лес оберегал себя сам и для себя. Маленькие любопытные зверьки высовывали острые мордочки из травы и кустов. Впервые в жизни девушка видела лисиц, хорьков и других пушистых созданий, рыжеватых и белых, забавных и очаровательных — не то, что чучела в лавке таксидермиста. То и дело она спрашивала паромщика, как называется вон то пугливое чудо, или этот странный зверек, или вон тот, или тот, и следует ли их остерегаться или нет, и паромщик отвечал голосом, лишенным эмоций: он внимательно смотрел вперед, пытаясь угадать, какие еще представители леса ожидают их на пути. Он шел, бдительный до предела, и солнце неотступно следовало за ними, едва проникая сквозь густую растительность, спасающую их от палящих лучей.
Страх есть неотъемлемый элемент зоны, свойственный ей так же, как дождь или ветер присущ пейзажу. Страх лежит в основе второй, тайной природы всего живого и неживого здесь, но его подспудное влияние ничуть не разрушает красоту — а лишь укрепляет ее, добавляет ей жизненной силы, позволяя соединить в одно целое противоположные устремления и представать во всей полноте. Страх есть невыразимый эфир зоны.
Они уже два часа шли через лес, когда зловещий треск заставил их замереть. На всем протяжении пути их не покидало чувство, что некий внимательный взгляд продолжает наблюдать за ними. Впереди, в паре сотен метров, лес заканчивался. Изумрудный сумрак наполнился янтарными переливами: стена света преграждала дорогу, и эта граница была необыкновенно ясной, почти ослепительной. Паромщик прикинул расстояние — примерно двести двадцать метров. Выход был совсем рядом, но страх приковал путников к месту. Казалось, шум усиливался, становился пронзительным, теперь это был почти вой — хриплый рык дикого зверя, нарастающий скрежет ломающихся сучьев, словно десяток стволов одновременно валились на землю. Неистово закачались ветви. Паромщик закричал: он увидел, что на них движутся огромные деревья. По земле, покрытой мхом и опавшей листвой, извивались их корни, легко ломая на своем пути молодую поросль и давя сухой валежник. Чудовища яростно продирались вперед, и их кора складывалась в лица, морщинистые, словно исполосованные ножом. Паромщик схватил девушку за руку, и пока они не погибли окончательно, пойманные в ловушку этими необъятными сучковатыми колоннами, путники бросились бежать — быстро, насколько это было возможно. В своем отчаянном рывке паромщик вдруг с ужасом почувствовал, что на него навалилась громадная тяжесть. Девушка сейчас бежала впереди. Ощущая, как нижние ветви деревьев будто когтями цепляют за ремень его сумки, как захват сжимается, он прибавил ходу:
— Беги к свету! Не оборачивайся! Беги изо всех сил!
Дороге не было конца, казалось, она только удлинялась. Как в кошмарном сне, паромщика не покидало тягостное чувство, что он бежит на месте. Ноги по щиколотку увязают в густой и клейкой жиже, и несмотря на его отчаянный порыв преследуемого животного, он опять и опять оскальзывается на глинистой почве. Дрожащими руками он тянется к золотистому кольцу — ручке двери, за которой его ждет свобода, а в ушах звучит насмешливый и угрожающий голос, как будто зверь, опасный и наделенный даром слова, уже стоит за его плечом. Глухой дьявольский голос, исходящий из ниоткуда, порождение этого зеленого ада повторяет неустанно:
— Жаль, что ей придется умереть. Жаль, что ей придется умереть.
Едва паромщик, вне себя от ужаса, вырвался из предательских зарослей на солнечный свет, он тут же споткнулся и полетел вниз, покатился по откосу невысокого холма, покрытого мхом, чья упругость смягчила падение. Проделав несколько кульбитов и покрыв расстояние метров в двадцать, он наконец смог остановиться, полностью ошеломленный, не способный управлять собой, как веревочный паяц. Девушка помогла ему подняться, затем собрала яблоки, которые рассыпались из мешка. Узловатая сухая ветвь все еще цеплялась за ремень его сумки. Она медленно съеживалась, словно солнечные лучи были губительны для нее. Увидев эти крючковатые когти, девушка вскрикнула и отшатнулась. Паромщик отцепил ветку, несколько секунд внимательно изучал ее узлы и утолщения, похожие на черные фаланги пальцев, после чего отшвырнул подальше эту жуткую вещь и вытер руки о полы своей спецовки, забрызганной грязью. Девушка вдруг засмеялась истерическим смехом, смешанным со слезами, так что паромщик даже удивился такому более чем неуместному веселью. Но, увидев мрачное лицо спутника, еще не совсем пришедшего в себя, она тут же извинилась. Было заметно, что она прилагает все усилия, чтобы сдержать этот нервический смех.
— Простите. Я не должна была. Я знаю, я не должна была.
— Что, надо мной смеешься? Ну, спасибо, — упрекнул он.
— Нет, совсем нет! Вы бы видели, что у вас с головой. Ужас просто.
— С моей головой? Да я счастлив, что она вообще у меня на плечах осталась.
— Что это было, как по-вашему?
— А ты не догадываешься?
— Зона, — ответила она.
— Зона. Теперь ты знаешь, на что она способна, и это посильнее, чем просто не отразиться в реке. И имей в виду, что вся эта территория такая, с сюрпризами. Нигде в зоне мы не будем чувствовать себя в безопасности. Боюсь, как бы фабрика не оказалась расположена в каком-нибудь совершенно недоступном месте.
— Зона хочет нас убить? Ей нужны наши жизни?
— Не думаю. Те деревья исчезли, я их больше не слышу, хоть это очень странно. Но в чем я уверен — так это в том, что зона не шутит. Это не игра. Она могла бы нас поразить на месте, но она этого не делает, а напротив, словно указывает нам выход. Думаю, со временем мы поймем. А сейчас давай-ка поищем убежище на ближайшую ночь. Все вопросы — потом.
— Да, давайте искать ночлег, но ради Бога, не в лесу, — с улыбкой сказала девушка.
— Это разумно. А у тебя и в самом деле крепкие ноги. Браво.
Паромщик не стал ничего говорить ей о том, что он услышал. Ему вдруг подумалось, что среди этой ослепительной зелени его спутница выглядит совершенно чуждым гостем. Определенно, здесь ей было не место, впрочем, не вызывало сомнения, что она везде казалась бы не на своем месте — и среди цветущих лугов зоны, и на бетонных мостовых города. Следовало завязать с ней какой-нибудь разговор — по крайней мере, узнать ее имя. Но нет! Он не мог и не хотел разрушить ту тонкую грань, что еще разделяла их. Он должен уберечь свой внутренний мир от любого внешнего проникновения. Даже в компании ему решительно следует оставаться одному — избегать любого сближения, способного разрушить целостность его характера, затянуть его в мглистый хаос человеческих взаимоотношений, потому что (как он всегда в тайне думал) любовь и дружба есть ни что иное, как слабость. Погруженный в свои мысли, паромщик курил, желая успокоить нервы, и девушка не могла понять — то ли он глубоко вздыхает, то ли просто затягивается дымом своей сигареты.
Давно миновал полдень; они шли уже несколько часов, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что никакое сумасшедшее дерево их не преследует. Но все было спокойно; между тем, день угасал, уступая место сумеркам. Паромщику не давала покоя одна мысль — она молотом отдавалась в его возбужденном мозгу. Ему доводилось слышать немало странных историй в кабаках и притонах города. Говорилось о сверхъестественных сущностях, обитающих в зоне, о необъяснимых явлениях, об ужасных чудовищах. До сих пор он относил себя к числу тех недоверчивых скептиков, кто сомневается в правдивости этих россказней. Однако только что зона им ясно продемонстрировала, на что способна. Так, возможно, и фабрика — не просто легенда; да и другие истории о зоне внезапно обрели достоверность. Что, если на самом деле существует комната ответов? Девушка спросит о том, как ей излечиться, а он, что попросит он? Паромщик не мог ответить на этот вопрос; тысяча вариантов вертелась в его переполненной голове. Но вдруг эта сумятица — еще одна ловушка зоны?
В начинающихся сумерках девушка заметила вдалеке старую полуразрушенную стену, разделявшую два земельных участка. Подойдя ближе, путники обнаружили тесный сарайчик, что-то вроде хижины из сухих камней. Они решили устроиться здесь: было уже слишком поздно искать что-то другое, да и дневной свет почти погас. Ночь принесла с собой огромное количество комаров. Паромщик посоветовал своей спутнице, которой очень докучали эти насекомые, не расчесывать укусы слишком сильно, иначе ранки на нежной коже могут воспалиться. Укрытие не было слишком просторным, но места хватало. Паромщик разжег небольшой костер и, сидя возле него, они поужинали яблоками и ягодами земляничника, которые девушка собрала в кустах, росших поблизости. Они поговорили о том, что произошло сегодня днем, предположили, что их ждет завтра, пытаясь для самоуспокоения составить хоть какой-то план. Серый дымок от костра отпугивал ночных насекомых. Спали они этой ночью плохо, скорее — дремали вполглаза, настороженно прислушиваясь к малейшему шуму, воображая то здесь, то там смутные тени, неясные отблески — бесплотных призраков, презрительно смеющихся над их трусостью. Им даже показалось, что они слышат вдалеке волчий вой, глухой стон, как если бы с ветром до них донеслись жалобы старого мира — печальный отзвук древних воинственных цивилизаций. Паромщик думал о том, какой была жизнь на этих фантастических землях прежде, когда еще не было здесь странных существ, не происходили загадочные явления, и мысль о безрассудной деградации человеческого рода приводила его в ярость, смешанную с отчаянием. Как знать, быть может, он единственный, кто еще остался — свидетель преступлений ушедшего мира, способный оплакать его и пожалеть о нем?
Всю ночь над ними сияли яркие звезды. Паромщик следил за их медленным перемещением. В городском небе звезд было не разглядеть из-за светового загрязнения, создаваемого уличными газовыми фонарями да несколькими заводами, еще державшимися на плаву. Разве что луна была видна хорошо, но ни одно созвездие уже не проступало отчетливо на ночном небе. Здесь же, в зоне, — густая влажная трава под головой вместо подушки, — вселенная раскрывалась, как книга, обнажая всю суетность человеческих забот и окутывая их благородным покрывалом смирения. Несмотря на ночной холод, паромщик удержался от того, чтобы выкурить одну из трех оставшихся сигарет: он знал, что дорога предстоит еще долгая. Прогремел гром — один единственный раз.
* * *
Медики попросили милиционера кратко записывать свои наблюдения касательно необычных явлений в зоне, а также влияния дурмана. Каждые два часа он черкал в блокноте на спирали несколько слов, чтобы в дальнейшем составить по ним отчет о своей экспедиции. Первая надпись черными чернилами гласила: «Ничего примечательного», далее она неуклонно повторялась, все менее и менее разборчиво, пока наконец не сжалась до простого «НП», опять «НП», и снова «НП». Ничего такого, что могло бы обеспокоить его и заставить сбавить темп. Он твердо намеревался выполнить свою миссию как можно быстрее.
Ему вручили пакет, содержащий предметы первой необходимости для выживания, паек на четыре дня, средства ухода, чем укрыться ночью, и еще кучу всякой всячины, от которой он избавился сразу, как только выбрался из лабиринтов канализации. Он не сможет догнать беглецов иначе, как налегке, поэтому он оставил только самое важное. Блуждая в подземных коридорах в поисках выхода наружу, он в одном месте неудачно свернул, и из-за этой досадной оплошности расстояние, отделявшее его от тех двоих, только увеличилось. Внимательно изучив их следы, милиционер тут же бросился в погоню. Но он не ожидал, что зона окажется так красива.
Великолепно, думал он. Здесь столько зеленого, что понадобится немало усилий, чтобы просто перечислить все его оттенки: светло-зеленый, темный, с примесью голубого или коричневого, пронизанный солнцем и пропитанный светом, словно губка — водой, шелковистый или грубоватый, равномерный или с переливами, гладкий или с прожилками, матовый или прозрачный, ошеломляющий, даже гипнотический — и всегда разный в одно и то же время. Целой жизни, проведенной среди этого растительного царства, не хватит, чтобы перевести все эти нюансы на человеческий язык — особенно ему, кто ничего не знал, кроме серого бетона и ржавых конструкций. Ад казался таким прекрасным. Деревья, насекомые, крошечные зверьки — все привлекало его любопытное внимание. Однако, сказав себе, что он не может терять драгоценного времени, милиционер решительно запретил себе глазеть по сторонам. Отныне на все эти красоты он смотрел с пренебрежением; хищные чувства взяли верх над остальными. Следы беглецов исчезли, вместо них по земле побежала непрерывная линия — или, скорее, две, но очень близкие. Следовать по этой дорожке было даже удобнее.
Его немного беспокоил давешний укол. Закатав рукав рубашки, милиционер внимательно его осмотрел. В том месте, где вошел шприц, кожа слегка потемнела и опухла. Казалось, ткани проявляют реакцию на какое-то слабое заражение. Он продезинфицировал ранку йодом, потом снова как мог перевязал ее. Обрывки бумаги и пластиковый мусор он просто выбросил в сторону. Так, идя вдоль колеи, оставленной в земле, милиционер наконец добрался до деревянного моста через реку и с удивлением обнаружил тандем, спрятанный в зарослях. Тогда он окончательно понял, что сегодня догнать беглецов ему не удастся. Благодаря этому двухколесному механизму разрыв между ним и теми, кого он преследовал, наверняка увеличился настолько, что ему придется провести по крайней мере еще один день в зоне. Его сердце начинало усиленно биться при одной мысли о том, что ему предстоит ночевать здесь, в месте, полном тайн, о которых он и представления не имеет — если, конечно, он не намерен повернуть назад…
Нет, никогда — никогда! — он не согласится на позор возвращения без добычи.
Он пройдет свой путь до конца.
Милиционер едва ли сомкнул глаза в течение ночи. Он полусидел, привалившись спиной к гладкому стволу каштана и натянув до подбородка утлое покрывало. Небо расчистилось, явив мириады звезд. Город теперь казался таким далеким. Удивительно, но милиционер скучал по нему — словно был вынужден на время покинуть дорогого родителя, сварливого и несносного, но все же любимого. Он слегка дрожал от ночного холода, но не зажигал огня, чтобы не обнаружить своего присутствия. Зато далеко впереди, у горизонта, он заметил слабый оранжевый отблеск, дрожащее пламя — возможно, костерок, теплый и уютный, который развели те двое. Эта мысль лучше всего укрепила его намерение идти до конца. А завтра — хорошо смеется тот, кто смеется последним, — подумал он.
Около полуночи его одинокий ночлег привлек внимание стаи волков. Звери не были особенно агрессивными, скорее вялыми. Они учуяли запах, исходящий от съестных припасов милиционера, и рискнули приблизиться. От опорожненных консервных банок сильно пахло курятиной с овощами, а кусочки копченого мяса распространяли в воздухе горьковатый аромат. Какое-то время волки еще держались на расстоянии, но голод был настолько силен, что в конце концов терпение оставило их. Вырванный из своего непрочного сна едва слышным рычанием и хрустом веток под лапами, милиционер в страхе выхватил пистолет и выстрелил в воздух, чтобы напугать животных. Те кинулись прочь. Выстрел прогремел по окрестностям, как раскат грома. При свете луны милиционер записал это происшествие в свой блокнот. Наконец-то он смог перейти на вторую страницу.
Глава 6
Роса покрывала равнину тончайшей кисеей. В легкой утренней дымке паромщик и его спутница собрали свои вещи и приготовились пуститься в путь. В очаге еще пламенели последние угольки, когда паромщик окончательно его загасил. Путники двинулись навстречу солнцу, чьи алые лучи озаряли бледную лазурь небес. Вдалеке, за деревьями, ясно виднелась какая-то конструкция из бетона и металлических ферм — внушительная серая масса. До строения было несколько миль пути. Они держались этой точки на горизонте, лавируя между дольменами, каменными сооружениями причудливых форм, возведенными в степи древними племенами, не оставившими от себя иных следов, кроме этих безмолвных памятников.
Их дорога пролегла через заброшенный фруктовый сад, ряды плодовых деревьев, основания стволов которых терялись в высокой траве. Идти стало труднее, порой приходилось продираться через переплетения корней и заросли крапивы. С ветвей свисали странные плоды — похожие на бананы, но с бугристой кожицей оранжевого цвета. Паромщик сорвал один, понюхал его, потом отломил кусочек и положил в рот. Пока он прислушивался к своим вкусовым ощущениям, девушка с интересом за ним наблюдала.
— Ну как, съедобно?
— Вкусно. Просто вкусно.
— Вы раньше такое пробовали?
— Никогда. Думаю, это гибрид, результат скрещивания нескольких совершенно разных видов. Я угадываю здесь вкус цитрусовых и какого-то фрукта с сочной мякотью, возможно, груши. Кстати, ты заметила?
— Что еще?
— Комары. В этом саду нет комаров. Наверное, запах этих плодов отпугивает насекомых. Нам следует набрать немного с собой; пригодится. Мы сможем смазать цедрой свои расчесы. Я ведь еще и знахарь, представь себе. А потом двинемся дальше.
Сумку, в которой уже лежали красные яблоки, он доверху наполнил лучшими плодами, какие удалось найти. Впереди, среди зелени, как пятно на полотне, вырисовывались бетонные стены. Уже можно было угадать определенные контуры в этой серой массе. Погода стояла замечательная, и путешественники с удовольствием шагали вперед. Ночной отдых и интимная теснота каменной хижины сблизили их. Паромщик оставил свои циничные разглагольствования, да и его спутница держалась более естественно. Напряженность, возникшая было между ними, дала трещину. Не говоря ни слова, они то и дело обменивались взглядами и улыбками — мгновения, застывшие во времени, чью двусмысленность и недопустимую легкость ощущали они оба. Их путешествие превращалось в длинную воскресную прогулку.
У озерца, усеянного огромными кувшинками, паромщик принялся наполнять свои фляги. Он предостерег девушку, что не следует собирать эти розовые цветы, и вообще не стоит приближаться к воде во избежание новых мрачных сюрпризов. В зоне было немало подобных водоемов, не заметных на первый взгляд, затерянных среди деревьев и окруженных метелками камышей. Глинистые берега были неудобны для спуска, и любое неосторожное движение могло привести к падению в стоячую воду. Над ровной гладью носились радужные стрекозы и черные мухи. В воде, среди придонных камней, паромщик внезапно заметил останки какого-то животного; вокруг них колыхались пиявки, огромные, как змеи. Клубок распухших внутренностей поблескивал на солнце. Вид мертвой косули и внезапно ударивший в нос невыносимый запах разложения свели на нет всю красоту этого места. Паромщик резко отпрыгнул назад: в глубине озера он разглядел медленное движение огромных щупальцев. Он указал пальцем на эту подводную тварь, едва различимую среди ила. Фляги еще не были наполнены до конца. Поняв, что вода не пригодна для питья, он, скрепя сердце, вылил ее на мягкую почву. Шум воды, ударившей о землю, вкупе с плесканьем озера, казалось, только обострил жажду. Путники решили поскорее покинуть это болото.
— Что это было? Еще один монстр?
— Лучше этого не знать, — ответил паромщик. — Эта тварь опасна.
— Но у нас нет воды.
— Воду мы наберем в другом месте. Уверен, что в здании, к которому мы направляемся, будет вода. А нет — я вернусь к мосту. Там-то вода чистая и не отравлена падалью, как здесь. Лесные животные приходят сюда утолить жажду, а эта тварь утягивает их на дно. Пойдем быстрее. Я чувствую здесь смерть — ужасную смерть.
— Вы хотите снова пройти через лес? Вы забыли о тех страшных деревьях?
— Ничего я не забыл. Просто я не хочу умереть от жажды. Да не бойся! Я знаю, что зона так или иначе позаботится о нас. Для начала, давай обследуем здание, а там решим, что делать дальше.
Паромщик знал, что воображаемые опасности всегда страшнее, чем реальное положение вещей. Зона казалась кишащей безобразными монстрами и свирепыми существами. Но что, если этот бестиарий, который они успели составить, есть не более, чем проявление самозащиты зоны или предупреждение об опасности? Если же это не так, паромщик сомневался, что он и далее сможет защитить девушку от всего. Однажды он замешкается, или зверь окажется хитрее, чем люди. Это всего лишь вопрос времени. Пока они шли к зданию, он всеми силами старался прогнать эту мысль и почти утратил бдительность. На вопросы он теперь отвечал односложно, и его внезапная отчужденность пугала девушку.
Заросли редели, уступая место ненавистному асфальту, чья черная растресканная поверхность напоминала старую змеиную кожу. Они вышли прямо к серым стенам. Вблизи здание было похоже на выгнутый хребет, на спинные шипы ушедшего под землю динозавра, схваченного в момент агонии и так застывшего навеки. Паромщик сразу узнал строение. Это был бункер, сооружение, призванное защитить от невидимого излучения во время световых войн (если прибегнуть к выражению, бывшему в ходу у городских мистиков). Часть стен покрывал густой беловатый мох; то здесь, то там выступала ржавая арматура. Здание венчала жесткая конструкция, состоящая из квадратных ячеек, соединенная с крышей металлическими опорами. Радар слегка поворачивался, и все сооружение имело вид совершенно фантастический. Тревожную атмосферу усиливала царящая здесь ватная тишина. Сгоревшие остовы автомашин ржавели на асфальте, вздыбившемся от воздействия времени. Чуть поодаль громоздились какие-то бетонные блоки, пронизанные и оплетенные узловатыми корнями растений. К сетчатому ограждению ветер прибил грязные листки бумаги. Повсюду валялся хлам — электрические провода, книги на неизвестном языке, пустые бутылки, ящики, у которых одну из стенок заменяло выпуклое стекло, какая-то электроника, рваная одежда, опять пластмассовые детали, механизмы из пластика, смятые короба — ветхое наследие прошедшей эпохи, как будто человек, пройдя здесь, не оставил после себя ничего, кроме неприглядной осыпающейся кучи мусора. Мерзость запустения убивала все другие краски. Зона была чудесна, но ее очарование полностью исчезало, стоило лишь обнаружиться следам человеческой индустрии, всегда ничтожным и жалким.
Обойдя кругом огромное здание, после получаса поисков путники наконец обнаружили приоткрытую дверь. За ней стоял глубокий мрак; лучи солнца будто не желали входить в этот провал. Вход располагался в правой стороне высоченных железных ворот — настоящий портал, покрытый ржавчиной, в центре которого угадывалось полустертое изображение красной звезды. Паромщик швырнул внутрь камень; он с резким грохотом ударился о стены, породив нескончаемое эхо. Мужчина вздохнул. В задумчивости он обхватил пальцами свой квадратный подбородок, колкий от трехдневной щетины. Девушка уже знала и этот жест, и эту манеру кривить губы, отчего его загорелое лицо приобретало слегка свирепое выражение. Паромщик пристально взглянул на нее.
— Я пойду осмотрю бункер. Все вещи я оставлю с тобой, возьму только фляги. Жди меня здесь. Я постараюсь вернуться как можно быстрее. А ты пока встряхни от пыли наши вещички. Не знаю, откуда она берется, но она везде. Если со мной что-то случится, тебе придется искать фабрику самой.
— Будьте осторожны, — сказала она с дрожью в голосе.
— Мне понадобится свет. В этой крысиной норе ничего не разглядеть.
— Ваш карманный фонарик, — напомнила она.
— Батарейки приказали долго жить еще когда мы выбрались из канализации. Надо поискать что-нибудь еще, чем можно светить. Здесь настоящий базар, и если приложить смекалку… Да вот же, глянь-ка!
Паромщик наскоро соорудил факел, обмотав обрывки ткани вокруг метлы из кокосового волокна — она валялась со сломанной рукояткой среди щебня и осколков тротуарной плитки. Он еще раз проверил фляги и прицепил к поясу запас материи, смоченной машинным маслом, чтобы поддерживать пламя факела во время своих блужданий в потемках.
— Пожелай мне удачи.
— Будьте осторожны, — повторила она.
— Да, мамочка.
Он засветил самодельный факел от зажигалки, шагнул в проем, из которого несло сыростью, и медленного пошел вперед. Свет пламени отражался в черных лужах застоявшейся воды, от этого по шероховатым стенам бежали смутные тени. Хлюпающий звук его шагов резонировал от кафельной плитки. Миновав короткий вестибюль, паромщик сразу почувствовал, что воздух стал более холодным и спертым, словно он попал в какой-то погреб. От ощущения комка в горле он не мог глотать и то и дело сплевывал. Паромщик осмотрел помещение, в которое попал, но не обнаружил ничего похожего на раковину, и даже ни единой трубы. Пусто. В этой первой комнате водопровода не было. Он двинулся дальше по длинному коридору, который, постепенно сворачивая, вывел его в большой зал с колоннами. Здесь царил дикий беспорядок; от сквозняков огонь факела тут же загудел. В темноте мало что можно было различить. Тут и там, в невероятном хаосе, валялась какая-то незамысловатая мебель. Паромщик решил подняться по лестнице, проклиная строителей, которые так запрятали водопроводную систему. Он прошел мимо маленькой комнатки с окнами, затянутыми плющом. Дневной свет едва проникал сюда. Оказавшись в следующем темном помещении, он продолжил поиски более методично, ощупывая каждый сантиметр стены. Наконец, в соседнем зале он обнаружил этот чертов водопроводный кран — в углу, над разбитой раковиной. Краник выглядел целым и изгибался над пустой мойкой, как лебединая шея. Паромщик повернул большую медную ручку, покрытую патиной, и — о чудо! — свежая вода, пенясь, хлынула шумным потоком. Напор был так силен, что паромщик забрызгал свои штаны и обувь, и без того грязную. Он засмеялся, и смех его стал еще громче, когда он услышал, как его хриплый голос эхом отразился от бетонных стен и щербатой кафельной плитки. Он несколько раз прополоскал пустые фляги, чтобы вымыть из них заразу, возможно попавшую с болотной водой. Факел еще горел, но паромщик тем не менее добавил к нему два больших лоскута ткани. Язык пламени взметнулся вверх, как сорвавшийся с цепи зверь. В этом помещении, погруженном во тьму, которую едва мог рассеять неверный свет самодельного факела, чем-то очень неприятно пахло. Паромщик решил, что наверное от постоянной сырости здесь все покрылось плесневым грибком. Подобно гангрене, время и пустота постепенно разъели дерево и пластиковые покрытия. Все прогнило в этой тьме. Паромщик вновь прицепил к поясу наполненные фляги. Довольный, он похлопал по ним ладонью и уже намеревался пуститься в обратный путь, как вдруг заметил в углу, около лестницы, ведущей вниз, пластмассовый язычок круглого переключателя. Паромщик подумал: а вдруг здесь имеется автономный источник электропитания — какой-нибудь генератор, батареи которого до сих пор сохранили остатки заряда. Он повернул выключатель; тишина. Ничего не произошло. Когда он попробовал во второй раз, плафоны тускло вспыхнули и загорелись бледным неоновым светом, мигая и потрескивая. Где-то в глубине здания завыла механическая система вентиляции. В ноздри паромщику ударил невыносимый запах. Через пять секунд — вряд ли больше — свет погас, времени едва хватило на один вдох, но за это мгновение взору его предстала груда человеческих тел, дюжина искалеченных полусгнивших останков. Сквозь мертвую обнаженную плоть местами проступали кости, а мутные глазные яблоки почти полностью исчезли во впадинах орбит. Кое-где копошились крысы. Словно коровьи туши на некой чудовищной скотобойне, три тела покачивались на крюках, приделанных к потолку. На противоположной стене, за миг до того, как свет погас, паромщик успел увидеть кроваво-красные буквы, из которых сложилась малопонятная фраза. Он прочел несколько неразборчивых слов: жаль, что ей придется умереть. Надпись исчезла и возникла вновь, подобно зловещему пророчеству.
Когда свет померк, паромщик был весь во власти этого ужасного видения. Его факел медленно умирал. Пламя колебалось: у паромщика неудержимо тряслись руки; всполохи огня рождали на стенах неистовый танец теней. Мужчина изо всех сил зажмурился и так крепко сжал зубы, что прикусил язык. От вкуса железа во рту — вкуса собственной тепловатой крови — на него накатил жестокий приступ тошноты. Его мучительно вырвало; силы оставили его; он едва стоял на ставших ватными ногах. Держась за стены, он как мог поспешил туда, где был свет и чистый воздух, стараясь изгнать из головы эту отвратительную картину — провалы лиц, отпавшие челюсти, лишенная кожи плоть, раскрытые рты, чей немой крик пронзал его потрясенный мозг. Не раз он останавливался, чтобы отдышаться — он был близок к обмороку. Но он держался, находя в себе силы идти дальше, хотя для этого ему пришлось призвать на помощь самые глубокие резервы своей психики.
Наконец он выбрался наружу, где его ждала девушка. Она заметила его бледность и то, что руки его дрожат. Но несмотря на ее расспросы, паромщик не захотел ничего объяснить. Он лишь водил руками в воздухе и отмахивался, давая понять, что не хочет говорить на эту тему. Мужчина попытался закурить сигарету, но не совладал со своей старой зажигалкой и отказался от затеи, вновь убрав все в карман. Жестом он указал направление, по которому им предстояло двигаться дальше. На лбу у него выступили капельки пота и медленно сползали по лицу. Вдруг девушка заметила, что по его бескровной щеке бежит слеза. Больше она не настаивала. Словно охваченный внезапным благоговением, паромщик медленно прикрыл за собой дверь бункера. Глухой скрип ржавых петель отозвался в глубине здания, прежде чем умереть, безвозвратно растворившись среди мрака и тайн.
Они в молчании покинули этот запечатанный склеп, пробравшись через широкую дыру в расшатанной решетке. Паромщик больше не оглядывался. Девушка следовала за ним по пятам. Она не отрываясь смотрела на него, и этот взгляд, пронизанный жалостью и состраданием, был настолько нежным и исполненным чувств, что паромщик ощущал его теплоту на своем затылке. Он мог бы рассказать ей все, облегчить свою боль, но он отлично понимал, что не сумеет найти верные слова. Он лишь напугает ее своим жутким рассказом. Снова, на этот раз в виде надписи, ему явился тот непонятный приговор. Он упорно повторяется. Но паромщик не мог уловить его смысл. Почему ей придется умереть? И почему исполнение медлит, раз это так бесповоротно? Зона могла бы уничтожить ее с удивительной легкостью. Какое-нибудь свирепое чудовище, обитающее в окрестностях — и произнесенное проклятие будет претворено в жизнь. Спустя несколько часов медленного марша на лице паромщика наконец мелькнул робкий проблеск улыбки. Его странный ступор прошел, по крайней мере он сумел отвлечься от терзающих его мыслей.
— У нас есть вода, это самое важное. Там, в том месте, нет ничего хорошего. Логово дьявола.
— Что вы видели в бункере? Вы казались таким потрясенным, — сказала она. — Вы не хотите рассказать мне об этом?
— Не стоит, — ответил он. — Не вникай в эти ужасы.
— Настолько страшно, что лучше молчать об этом?
— Еще хуже.
— Тогда не говорите ничего. Я боюсь.
— Не нужно. Пока ты со мной, с тобой ничего не случится. Это я тебе обещаю и клянусь.
Что за странные создания — люди? Обуреваемые желаниями, они блуждают без цели, сироты во всем, жалкие оболочки — дух разъедает их изнутри, а после испаряется в волнах эфира. Они ищут — и не находят, живут, не зная, какова цель их жизни, и на этом медленном и трудном пути немо страдают от непрочности своего существования. Вопреки внешней уверенности, они без конца изводят себя жестокими упреками; ярмо несбыточных желаний и груз развенчанных надежд гнетут их. И все же они будут продолжать свою бессмысленную одиссею, мечтая о лучшей участи, уверенные, что даже если они и сбились с пути, скоро они выйдут на прямую дорогу, что у них еще будет время воплотить свои миражи — или безумства, и на закате жизни, в горниле своего непостоянства, они приходят к горьким разочарованиям. Человек есть сумма всевозможных слабостей. Все есть суета и погоня за ветром, — думал паромщик, шагая вперед.
Покинув забетонированный участок зоны, путники оказались в каменистой местности, пересекаемой узкой тесной тропинкой. Дорожка бежала извилистой нитью, порой исчезая среди папоротников и зарослей ежевики, покрытых шипами, крупными, как клинки. Путешественникам казалось, что они теряют драгоценное время, блуждая среди скал и валунов, выщербленных ветром, угловатых и безжизненных. Больше всего это напоминало лунную поверхность — мертвый мир цвета меди и антрацита, охраняемый застывшими формами. Теперь они двигались намного медленнее, измученные и ослабевшие: каменный атолл был поистине непроходимым. То и дело они останавливались, чтобы перевести дух и промочить горло. Наконец растительное царство вновь заявило о своих правах. Паромщик и девушка выбрались из хитросплетений лабиринта отвесных камней и вновь погрузились в океан ласковой зелени.
Вскоре путь их пролег через поле подсолнухов. Растения были так высоки, что макушки их смыкались над головой, образуя галерею, а крепкие стебли по толщине не уступали хрупким запястьям молодой девушки. Под желто-коричневым пологом им открылся другой мир, подспудный и странный, населенный беззаботными крошечными созданиями, зачарованный мягкими тенями и ватной тишиной. Здесь почти не было движения воздуха, только легкий ветерок изредка пробегал по огромным гладким листьям. В этом замкнутом мирке путники ощущали себя богами-гигантами, настоящими титанами. Ни солнца, ни окрестных рощ — они не видели ничего, кроме ближайшей цели, самого незначительного отрезка, и эта близорукость угнетала сознание, привыкшее к необозримым пространствам зоны. Посреди поля росло высокое вишневое дерево; проходя мимо него, путники разглядели дюжину пластмассовых кукольных голов, свисавших с ветвей. Все они были разными и слегка покачивались, прицепленные за волосы. У подножия дерева зияла небольшая продолговатая яма. Вверху, среди вытянутых листьев, пластиковые лица под нажимом легкого ветерка поворачивались то в одну, то в другую сторону, словно плоды неизвестного урожая. Застывшие улыбки и полузакрытые глаза внушали смутную тревогу. Время не пощадило эти искусственные творения. И все же зловещее зрелище несло в себе зерно красоты — некую грустную прелесть. Что за страдание могло создать подобное?
В конце дня они набрели на старый фургон. Одно колесо у него отсутствовало, и с этого боку повозку подпирал крепкий деревянный чурбан. На потрепанных афишах еще можно было прочесть название передвижного цирка — какая-то средиземноморская фамилия. Они решили заночевать здесь. Паромщик выругался сквозь зубы, ударившись головой о низкий навес. Девушка с расторопностью маленькой хозяйки обшарила тесный фургон. Они наскоро привели в порядок убогое помещение, рассовав по углам весь загромождавший его хлам.
Девушка недоумевала, как могли вызывать интерес развлечения, изображенные на пожелтевших плакатах. Паромщик долго объяснял ей, что были времена, когда люди ценили фантазию и эффектные зрелища. Дети радовались забавным животным, загримированные артисты высмеивали взрослых, и этот пестрый мир, эти жалкие паяцы удостаивались смеха и аплодисментов. Девушка пожимала плечами: образы ни о чем ей не говорили. Паромщик не знал, как еще ей ответить, и сам раздражался от нехватки слов.
— То была другая эпоха. Люди главенствовали над миром животных. Иногда зверей сажали в клетки, чтобы лучше их изучить. Или выводили их напоказ, с плюмажами и цветными лентами, чтобы поразвлечь публику. Там еще были музыканты…
— Лишение свободы — это не предмет для шуток. Когда мы бродим по унылым улицам города, мы сами как звери в клетке, и я не думаю, что хоть у кого-то возникает желание радоваться этому. Мне бы не понравилось, если бы на меня вот так глазели. Те люди были просто идиотами.
— Что же, такая точка зрения тоже имеет право на существование, — ответил паромщик, зевая.
— Зачем надо непременно доминировать над животными или растениями?
— Потому что они дикие, в отличие от нас, цивилизованных. Победа порядка над моралью. Все просто.
— Мы — цивилизованные? Настолько разумные, что нарочно пилим сук, на котором сидим. Замечательно. И куда девалась наша осмотрительность?
— А куда девалось твое чувство юмора? Разве ты не видишь всей иронии ситуации? Охотники, сейчас мы превратились в дичь, и я уверен, что зона помирает со смеху, глядя на наши кружения и злоключения. Это бешеный вальс безумцев, низвержение героев. Но в одном ты права, и меня даже удивляет такая проницательность.
— В чем же?
— Мы невероятно самонадеянны, ослеплены нашей так называемой цивилизованностью и нашими лживыми ценностями. Мы захлебываемся в модернизме и технологиях и думаем, что вышли на главную дорогу. Естественно, планета избавляется от мусора, и теперь мы на ней — нежеланные гости. Зона каждый день напоминает нам эту убийственную истину: человек есть раковая клетка, яд, отравляющий мир — его собственный мир.
— Я бы не стала заходить так далеко в своих выводах, — сказала она. — Ваш пессимизм просто убивает.
— Ну, извини. Я перетолковал твои же слова, хотя, возможно, и не стоило этого делать. На самом деле, все, что я видел (и читал) в городе, навсегда привило мне отвращение к людям. Среди них нет ни одного настоящего. Скоро последний человек исчезнет с лица Земли — возможно, уничтожив при этом остатки своих сородичей, или просто умрет от старости, одинокий, как неприкаянная душа. И когда от человечества не останется и следа, а зона будет простираться от одного края мира до другого, никто не вспомнит о нас. И это великолепно. Беспредельная вечная пустота, словно нас никогда не существовало. Все зарастет деревьями и цветами. Землю населят животные. Они быстро размножатся, поскольку будут жить в гармонии друг с другом, всецело подчиняясь законам природы — законам пищевой цепи, но уже без звена-человека. Вот какая красота настанет, когда мир наконец избавится от нас, таких до невозможности гордых и умных. Как думаешь, плакать нам или радоваться этому закономерному исходу?
Девушка не ответила. Она уже спала, положив голову на цыганскую подушку, обтянутую пурпурной фланелью с золочеными бубенцами по краям. Паромщик достал лоскутное одеяло и укрыл им девушку. Она свернулась калачиком, почти что приняв позу зародыша, и это придавало ее хрупкому облику еще больше беззащитности. Сквозь разбитые ставни повозку освещали последние лучи уходящего солнца. Сам паромщик боялся заснуть: еще свежи были в памяти чудовищные картины, и он не хотел, чтобы они явились ему в кошмарном сне. Какая безумная ярость могла стать причиной этого ужаса? И почему ей придется умереть? Он изо всех сил боролся со сном, но в конце концов усталость взяла верх.
Сны преследовали его всю ночь. Ему казалось, что он бежит по бесконечному коридору, но не может сдвинуться с места, а за ним несутся какие-то прозрачные тени, готовые его поглотить. Когда он стонал слишком громко, девушка, разбуженная его криками, клала на его горящий лоб свою тонкую руку, и этот жест, полный любви, успокаивал паромщика. Она смотрела, как он спит, молчаливая и взволнованная, словно мадонна — икона византийского письма, идеал сияющей женственности. Но как и паромщик, она знала, что нельзя, не надо. Они проводили вместе уже вторую ночь в зоне. За нею пришел новый день, окутанный туманной дымкой. Снова запели небывалые птицы, и пространство заполнилось благоухающим эфиром.
* * *
И опять эти голоса у меня в голове, они хотят выведать обо мне все — причины моей ярости и истоки моих страхов. Нет никакого сомнения, что я больше не один среди этой тишины и пустоты. Я уже ничего не понимаю. Еще вчера я был человеком, твердо стоящим на ногах, опорой, на которой зиждется город, а теперь я соскальзываю, я растворяюсь, как кусок мыла в теплой воде. Странный образ для офицера моего ранга… Я сам себе обвинитель, но я не могу выдержать груза своей вины, как ничто не в силах спасти меня от меня же, от темной стороны моей натуры. Мой враг — это я сам, и теперь я ясно вижу бессмысленность моих прежних притязаний. Я всего лишь человек — не более, мешок мяса и костей, такой же, как все, но я захотел вырваться из толпы, достичь большего, и вместо одного болота оказался в другом. Хотя уже слишком поздно, какая-то часть моего мозга еще силится понять. Я больше не один в своем теле — великолепном сосуде с поврежденной крышкой. Неужели это и есть то, что врачи называют безумием? Не думал, что это так страшно… Но, может, здесь всего лишь перевозбуждение, проявление моего особого дара или перст Божий? Если бы эти голоса замолчали хоть на минуту, чтобы я мог спокойно поразмыслить над тем, что со мной происходит! Тише! Замолчите! — говорю я вам. С ними невозможно думать. И эта язва на моей руке — уж не она ли всему виной? Врач подарил мне поцелуй Иуды. Это несомненно! Зуд уменьшился, но чернота вокруг раны только распространилась. Все эти средства не в состоянии облегчить мои страдания. Я боюсь заснуть. Мне кажется, что когда я проснусь, это буду уже не я, а кто-то другой. И опять эти голоса в моей голове… Я хочу умереть прежде, чем окончательно сойду с ума, но мне не достает смелости. Я трус. Я монстр. Я здесь чужой — значит, я еще человек. Найти и вернуть дочь ее отцу — теперь мне на это глубоко плевать. Пусть они все отправляются в ад, туда, где я уже нахожусь. Пусть они почувствуют то же отчаяние, что сейчас переживаю я, и пусть мы все сдохнем среди этих джунглей, и солнце выжжет наши лица, чтобы нас окончательно забыли. У меня хоть есть утешение, что я обманулся. А они, эти двое, поступили еще глупее, чем я, ведь они добровольно, по собственному выбору отправились сюда. Заткнитесь, проклятые голоса! Я не могу больше слышать ваш цыплячий писк. Еще немного — и я вырву собственный мозг и сожру его. Хотя, это идея — проследить ход моих мыслей, еще раз разжевать их и переварить, вновь пройти по своим следам. Так я смогу понять, смогу вернуться к тому ключевому моменту, с которого начался этот раздрай в моем сознании. Вот она, дорога к выздоровлению. Как я об этом раньше не подумал? Но сначала мне надо поспать, мои глаза слипаются, настолько веки отяжелели от усталости. У меня нет больше сил. Мне надо поспать немного — а там посмотрим. Возможно, мы сможем договориться — я и эти голоса. Тогда горячка отступит. Час, или два — не больше.
Милиционер упал на колени и замер в напряженной позе, пригнув голову к ногам и обхватив исхудавшими руками затылок, прикрывая его, как капюшоном, и зажимая ладонями уши. Он хрипло дышал и все приказывал и приказывал замолчать воображаемым голосам. Наконец, он умолк и замер в неподвижности, а спустя несколько минут он уже глубоко спал. Во сне он свалился набок и скорчился, как новорожденный. Последние лучи солнца еще согревали его сердце, застывшее прежде, чем яд окончательно проник во все клетки его измотанного тела. Ночью вернулись волки и улеглись рядом со своим собратом, а бледная луна наблюдала за ними, как молчаливая мать. Постепенно милиционер все больше растворялся в дебрях прошлого — он был уже не здесь.
Глава 7
Паромщика и девушку разбудил трубный рев. Когда они высунулись из фургона на туманный воздух, их ошеломленным взорам предстало диковинное животное: тучный монстр пяти аршин в высоту. Четыре колоссальные ноги поддерживали объемистое пузо, покрытое грубой кожей, похожей по виду на старую резину. Чудовище издавало скрипучие звуки, как если бы у него был заложен нос. Из треугольной пасти выступали два белых рога, огромные уши примыкали к короткой шее, а гибкий хобот свисал почти до земли. Паромщик вылез из фургона, девушка же сочла за благо пока держаться на расстоянии. Стоя на четвереньках на полу повозки и выглядывая в узкую дверь, она напряженно ждала, что будет дальше.
— Осторожнее, — сказала она с беспокойством в голосе.
— Да не бойся. Кажется, я знаю, что это.
— Вы раньше уже видели что-то подобное?
— В книгах. У меня в голове крутится картинка, но названия я никак не могу вспомнить….
— Как оно здесь оказалось?
— Думаю, этот зверь принадлежал цирку, тому самому, в чьем фургоне мы заночевали. Может быть, хозяин его бросил, или умер — вариантов масса, — сказал паромщик.
— Он хищный? Нам надо его опасаться?
— Нет. Теперь я вспомнил, как он называется: слон. Он не ест мяса, только фрукты и овощи. В прошлом слонов использовали, чтобы таскать тяжелые грузы, а еще для путешествий — медленно, но верно. Должно быть, это был один из аттракционов цирка. Уму непостижимо, как он смог выжить в зоне. Ну и ну! Наверное, он очень старый — настоящий патриарх.
— А почему он пришел сюда?
— Нас заметил. Или почуял. Привычный рефлекс дрессированного животного заставляет его подчиняться людям. Вот он и вернулся, думая, что мы, должно быть, его законные владельцы. Животные ведь не размышляют — просто действуют под влиянием инстинктов. Надо его удержать! И стоит придумать ему имя.
— Зачем его удерживать? — запротестовала девушка. — Он свободен.
— Так же, как ты и я. Иными словами, он потерялся в лабиринтах зоны. С этим новым компаньоном мы пойдем намного быстрее. Он хоть и движется не слишком скоро, но доставит нас прямо до фабрики. Дай-ка мне сумку! Сейчас я найду к нему подход.
Паромщик протянул животному красное яблоко и один из тех странных фруктов, названия которых они не знали. Слон не жуя проглотил угощение, а потом провел мягким хоботом по лицу мужчины. Девушка по-прежнему держалась настороженно, опасаясь еще какой-нибудь пакости со стороны зоны. На горбатую спину животного путешественники закинули лоскутное одеяло и подушку, чтобы удобнее было сидеть. Им пришлось поломать голову над тем, как взобраться на такую высоту и не упасть при этом. Паромщик потратил немало времени, пытаясь вскарабкаться по крупу слона. Он делал это так, как если бы брал приступом крутую скалу, только вместо камня ногами он опирался на здоровенные суставы животного. Все было тщетно. Он даже пробовал, глядя в глаза гиганта, внушить ему особый приказ повиноваться: проводил указательным пальцем вверх и вниз перед безмятежным взглядом животного. Слон не двигался. Они уже подумывали о том, не взобраться ли на спину исполина, карабкаясь по его хоботу, как по лиане, когда девушка наконец догадалась просто похлопать ладонью по колену животного. Движением, исполненным такой подавляющей мощи, что, казалось, никто и ничто не могло бы с ней совладать или ей противостоять, слон медленно опустился. В этом жесте было что-то грустное, и вместе с тем — некое экзотическое величие. Ехать верхом на слоне оказалось не слишком комфортно, к тому же от него сильно пахло жженной пробкой. Девушка сидела, обхватив паромщика вокруг талии, а он, гордый, как вавилонский царь, командовал слону идти туда, потом — туда, слегка ударяя каблуками по грузному крупу животного. Их авантюра превращалась в роскошный вояж, о котором мечтаешь, глядя на кружок лазурного неба и белые облака сквозь грязное чердачное окно где-нибудь в городе. Паромщик веселился и не переставал расхваливать достоинства их нового товарища — так удобно… Если бы не запах, — добавляла девушка.
— Ты знаешь, сколько миль мы прошли за эти два дня?
— Не знаю, скажите.
— Не больше сорока. А с этим зверем мы будем двигаться в два раза быстрее. Он не знает усталости, ему нипочем болота и острые камни, да и места ему знакомы. Он — наш спаситель. Я тут подумал… Знаешь, какое самое подходящее имя для нашего друга? Тебе понравится!
— Так говорите же!
— Ганнибал. Ганнибал Карфагенский.
— А что это значит?
— Не знаю. Все, что я помню — подпись под рисунком в одной из моих книг. На нем был изображен слон, переваливающий через заснеженные горы, чтобы покорить дальние страны. А подпись была такая: «Ганнибал Карфагенский переходит через Альпы со своими слонами. Гравюра 1857 года». Думаю, это какой-нибудь древний завоеватель — тех времен, когда не было ни зоны, и города. Благодаря этому рисунку мне и пришла в голову идея взобраться на слона. У меня дома было немного книг, вот я читал и перечитывал по сто раз одни и те же. Тогда я и подумать не мог, что однажды я повстречаю настоящего слона.
— Что же, пусть будет Ганнибал, — ответила девушка, но без особого энтузиазма.
— Ганнибал, хозяин зоны.
— Нет, он всего лишь ее порождение — химера.
— Ты не права. Это самое лучшее из того, что мы здесь встретили. Нам с ним очень повезло. Теперь нам ничего не страшно.
Стоит человеку хоть немного подняться над землей, как он тут же обретает уверенность — даже среди призраков и тайн зоны. Больше ничего и не нужно, чтобы из труса он превратился в героя-завоевателя. Паромщик был необыкновенно горд собой; все его страхи растаяли, как утренний туман. Никакая другая сила не в состоянии соперничать с мощью их толстокожего гиганта, думал он, и теперь-то наконец невозможное становится возможным. Ну разве вот эта стена или вон то болото, или еще какая-нибудь западня будут настоящим препятствием на их пути? Чувство непобедимости опьяняло его, заставляя кровь молотом стучать в ввалившихся висках. Слегка раскачиваясь в ритме медленных шагов животного, он наслаждался открывающимся ему пейзажем. С высоты зона казалась еще красивее, и время текло незаметно.
Во второй половине дня на пути им попалось кладбище, обветшалый памятник религиозным традициям. Высокие травы оплетали высохшие похоронные венки. По обе стороны просторных аллей вросли в землю стальные ограды. Пышные надгробия были украшены броскими символами в зависимости от вероисповедания покойного. Паромщик узнал православные эмблемы, несколько раз попадались звезды Давида, реже — полумесяцы. Путники ехали вперед среди полуразрушенных могильных камней и покосившихся крестов. Слон казался здесь совсем чужеродным, однако он с удивительной легкостью преодолевал этот лабиринт. Порой можно было заметить выцветшую фотографию в ржавой металлической рамке. Здесь хоронили людей на протяжении нескольких веков; мраморные надгробия табачного цвета были потрачены временем и непогодой. Ближе к выходу с кладбища стали попадаться памятники относительно недавнего времени. Они были куда более примитивны — просто деревянный настил поверх могилы, а имя покойника написано на самом заурядном кирпиче или на обыкновенном булыжнике. Кое-где еще можно было прочесть слово любви или дежурную эпитафию. Вдруг хриплое воронье карканье привлекло их внимание. Птица сидела на рукоятке лопаты, торчащей из сырой глинистой земли. Две большие прямоугольные ямы, выкопанные совсем недавно и пока пустые, две могилы, сочащиеся влагой, ожидали кого-то, как открытые рты. Все это путники хорошо разглядели с высоты, но ни один из них не решился произнести хоть слово об этом жутком знаке. Продолжая медленно двигаться вперед, они наконец покинули мрачное кладбище, и лишь ворона, сидя на своем вертикальном насесте, еще долго не унималась за их спиной.
Удобным ровным тропам Ганнибал предпочитал окольные пути. Завидев фруктовое дерево, слон тянулся к нему своим огромным хоботом и начинал без устали поглощать плоды, которые на взгляд путешественников никак не внушали доверия. Тогда паромщик прикрикивал на него, и гигант, послушно повинуясь, продолжал свой медленный марш в глубь зоны, выражая свое неудовольствие лишь коротким рыком, таким пронзительным, что он немало раздражал слух девушки. Ганнибал Карфагенский глотал версты, как курица — зерна, и, казалось, был неутомим. Шли часы, а они все ехали по равнинам зоны, вот только зеленое буйство неуловимо угасало. На протяжении километров природа менялась, принимая формы по меньшей мере странные, если не сказать загадочные. Заросли и колючие кусты становились гуще, и растения уже не казались красивыми, а скорее напоминали неподвижных насекомых отталкивающего вида. Краски в дневном свете выглядели мрачными и грубыми, принимая оттенки резкие, электрические. Пейзаж менялся. Птиц стало меньше. В воздухе появился едва уловимый запах серы и металла. Лицо и руки путешественников покрылись желтоватой пылью; она проникала даже под одежду. Вдалеке показались зловещие тучи. Паромщик предоставил слону идти, куда ему вздумается, рассчитывая на его животное чутье.
— Погода портится, — сказал он девушке. — Нам надо найти укрытие. И поскорее.
— Цирковой фургон не слишком далеко от нас, — предложила девушка.
— Забудь о нем. Я туда не вернусь. Надо двигаться вперед и положиться на интуицию Ганнибала. Надеюсь, он знает, куда идет.
— Вы чересчур любите лотерею, — сказала она. — Это рискованно.
— У нас больше нет выбора. Вперед.
Слон почуял, что воздух пропитывается влагой. Он зашагал быстрее, ударяя в землю мощными ногами. Толстокожий Ганнибал обогнул холм, миновал дубовую рощицу, оставил позади огромную расколотую скалу. Казалось, дорога ему знакома. Паромщик понял, что слон целенаправленно идет туда, где, как он знает, можно спрятаться от грозы. Надо предоставить ему свободу, хотя бы на короткое время. Если паромщик полностью доверился их гиду, то девушка без восторга отнеслась к этой идее и хранила молчание. Издалека донесся раскатистый звук, как страшный рев воплощенной ярости; вся природа словно бы содрогнулась перед божеством, обезумевшем от гнева. Гроза с минуты на минуту могла обрушиться на одиноких путников.
Обогнув очередной холм, они заметили полуразрушенную ферму: высокие силосные башни, домик с мансардой. На запустелом участке еще сохранились огород, выгребная яма и теплица, покрытая пластиковой пленкой, с деревянными рамами, изъеденными временем. Окна были разбиты, а на крыше не доставало черепицы. Слегка приоткрытая входная дверь походила на рот спящей старухи.
— Браво, Ганнибал! Браво, мой друг! — Воскликнул паромщик. — Браво!
— Откуда он знал?
— Ганнибал живет в этих местах не один десяток лет. Он знает, где спрятаться, когда грохочет гром. Говорят, у слонов фантастическая память. Посмотри-ка туда! Вон какой-то амбар. Там мы и переждем, пока гроза не стихнет. А после двинемся дальше.
— Это чей-то дом. Возможно, здесь живут, — предположила девушка.
— Здесь больше никто не живет. Кроме смерти, которая рыщет вокруг. Это место давным-давно заброшено. Думаешь, нас кто-нибудь ждет там? Не беспокойся, никого мы не потревожим. Ну, а в противном случае, почему бы им не пригласить нас?
На деревья упали первые капли дождя. Деревянный амбар, пронизанный множеством щелей, наполнился грохотом, словно сотни невидимых рук вдруг захлопали в ладоши. Пол постройки, бывшей некогда уютным маленьким хлевом, устилала желтая солома. На толстых открытых балках мирно восседали десятки птиц. Они спрятали головы глубоко под крыльями и сыто ворковали. Великолепная густая паутина завесила углы стен из граненых камней и волнисто колыхалась под крепчающим напором ветра. Девушка передернулась, представив мохнатые лапки пауков, их многочисленные выпуклые глаза. Строение было крепким и возможно столь же древним, как и сам город. День стремительно угасал, наливаясь такой свинцовой серостью, что, казалось, небо придавило бетонным сводом. Неистовый ветер пробегал по шатким доскам обветшалой кровли. Однако Ганнибала это ничуть не тревожило. Своим гибким хоботом он захватывал и глотал пучки золотистой соломы, остатки старой подстилки, что лежала в углу сарая. В какой-то миг девушка подумала, что если этот здоровяк не остановится, им не на чем будет спать. А паромщика угнетала другая мысль: место выглядело совершенно заброшенным, словно время здесь остановило свой бег, и сам воздух казался затхлым, как в склепе.
— Наведаемся в дом неподалеку, — скомандовал он.
— Не думаю, что это хорошая идея. К людям в дом не входят без приглашения. Это место требует уважения — здесь все так живо напоминает о его прежних обитателях, — возразила девушка. — Я предпочитаю остаться тут, со слоном.
— Не глупи. Этот дом заброшен уже много лет. Здесь давно никто не живет. Ты забываешь, что мы почти в самом центре зоны. Жить здесь было бы безумием. Нам надо найти какую-никакую кровать, чтобы ты могла отдохнуть. Ты бы видела свое лицо и особенно мешки у себя под глазами. Да и Ганнибал нуждается в отдыхе. За сегодня мы прошли не меньше двадцати километров. Через несколько часов настанет ночь, а при такой погоде мы не сможем двигаться дальше. Ты же видишь — гроза. Нет, в самом деле, отдохнем немного. Это лучшее, что мы можем сейчас сделать.
— Ну, хорошо. Идемте, но будем осмотрительны.
— Ты говоришь, как настоящий паромщик. Неужели мне стоит опасаться конкуренции? Я уже боюсь. Если так, у меня деловое предложение: давай работать вместе, — пошутил он, желая ее подбодрить.
За то короткое время, что путешественники шли к дому, они вымокли до нитки. Стоило им войти в прихожую, как печальный дух ушедшего времени пронзил их до глубины души. Не то, чтобы в обстановке дома так уж очевидно читались следы былого счастья, но здесь с бесконечной ясностью чувствовалась привычка к заведенному порядку вещей, тепло человеческих отношений. В этих комнатах когда-то жили, и жили неплохо.
Паромщик и девушка машинально вытерли свои забрызганные грязью сапоги о простенький половичок. Маленький стол в кухне покрылся тонкой пылью, словно здесь только что пекарничали. Светлая фаянсовая раковина была до отказа набита тарелками и кастрюлями, приготовленными для мытья. Над этой горой посуды нависал железный кран, вделанный в стену, из него неуловимо для глаза срывались капли, и эти короткие размеренные звуки усиливали впечатление оцепенелости. Паромщик попробовал пустить воду — сначала с пронзительным скрипом появилась желтоватая струйка, затем хлынул чистый пенистый поток. На окне стоял горшок с увядшим цветком; когда-то это растение служило украшением, а нынче поникло, так что его стебель свисал вдоль стенки кашпо. С массивного деревянного буфета глядела старая черно-белая фотография, волнистая и слегка покоробившаяся от времени и сырости: отец, мать и маленькая дочка. Они все вместе позировали на фоне еще нового дома. На их лицах сияли широкие улыбки — как бабочки счастья, пойманные в ловушку кадра.
В гостиной паромщик уселся в глубокое кресло, обитое плотной тканью. Девушка подошла к низкому диванчику и потрогала рукой пышные подушки; было заметно, что их не раз чинили. Паромщик положил ноги на маленький табурет и испустил вздох облегчения. Он снял куртку, скинул сумку и бросил все это возле своего кресла. С тех пор, как они отправились в путь, им еще не доводилось наслаждаться подобным комфортом. В лучах угасающего дня кружились легкие пылинки. По крыше дома стучал дождь, и гром грохотал все ближе.
На каминной полке лежали скрипка без струн и сломанный смычок; паромщик бегло осмотрел их и отложил в сторону. Там же он нашел школьную тетрадку, а на ней — набор цветных карандашей и фломастеров, аккуратно уложенных в картонную коробку, всю разрисованную. Очаг, обложенный закопченными камнями, был довольно глубоким. Рядом с ним из большого железного ведра торчало несколько поленьев. Паромщик взял их и при помощи промасленных лоскутов ткани, что остались у него после исследования бункера, разжег огонь. Яркие языки пламени отчаянно взвились вверх. Закрытое помещение быстро наполнил приятный запах горящего дерева. Огонь вытеснил почти сгустившиеся сумерки. Вся комната будто озарилась. Девушка заметила лестницу, ведущую наверх; но когда паромщик, сверх меры заинтригованный, собрался осмотреть второй этаж, она сжала его руку и попросила остаться внизу. Дело было не в страхе: ей просто не хотелось своей бестактностью проявить неуважение к тем, кто когда-то жил в этих крепких стенах. Паромщик с важностью согласился. В глубине души девушка чувствовала странное стеснение — или упрек, словно она вторгается на чужую территорию, а здесь, в дебрях зоны, это превращалось чуть ли не в кощунство.
В гостиной, в приземистом шкафу, паромщик нашел небольшую бутылку какого-то алкогольного напитка на основе злаков. Жидкость обожгла горло и язык, но эта боль была приятной. Девушка пить отказалась. Как обычно в эти три дня, они поели фруктов; кроме того, на кухне они нашли немного старого риса и сварили его в чугунке на огне. Закончив трапезу, паромщик закурил одну из своих последних сигарет. Девушка осуждающе посмотрела на него.
— В чем дело? — не понял паромщик.
— Когда-нибудь это вас убьет.
— Это или что-нибудь еще.
— Пообещайте мне…
— Что именно?
— Если мы найдем фабрику, или хотя бы убедимся, что она существует, вы бросите курить. Ведь по-вашему, все это лишь сказки и выдумки, а значит, вы ничем не рискуете. Ну, что скажете?
— А что я получу взамен, если мы ничего не найдем? Иначе пари будет нечестным. В чем мой выигрыш?
— Я не знаю, — растерялась девушка. — У меня ничего нет.
— А, впрочем, ладно! Я согласен. Даже если это будет только ради шутки и не более, чем игра. Но имей в виду: большие надежды порождают большие иллюзии.
Аромат табака немного заглушил неприятный запах, что исходил от их влажной одежды. В отсутствие Ганнибала их притупившееся было обоняние вернулось к нормальной чувствительности. Паромщик философски заметил, что любая медаль имеет оборотную сторону, и что как бы то ни было, со слоном им очень повезло. Девушка ничего не ответила: она с большой тщательностью стелила себе постель и была больше занята своими женскими хлопотами, чем его разглагольствованиями. Паромщику показалось, что он услышал: «Говори, говори, все это так интересно…», — произнесенное слабым голосом. Он оборвал себя и замолк, не испытывая обиды и отнеся на счет усталости ее внезапное ухудшение настроения. Потягивая спиртное, он внимательно за ней наблюдал.
Есть девушки, в миндалевидных глазах которых таится нечто одновременно прекрасное и странное — некая обольстительная загадка. Здесь и жеманная хрупкость, и самые волнующие земные чувства, немного высокомерия, а между тем женственность, что пока еще спит в глубоких тайниках ее натуры. Истинной красотой обладают лишь юные: эти обещания, пылкие страсти и аромат, который заставляет вас терять голову. Когда-нибудь куколка превратится в бабочку, из завязи появится плод; однажды она станет матерью и окончательно расстанется с мальчишескими замашками. Юная девушка — это бутон, который вот-вот распустится, ласточка в ожидании весны, это рука, качающая колыбель; с ее фарфоровых губ слетают слова расхожей истины, чья великолепная глупость не имеет себе равных по очарованию. В таком философическом русле вяло текли мысли паромщика, направляемые перебродившим алкоголем — обычные умствования, которым предаются у барной стойки. Он сидел, развалившись в своем кресле, а глаза его уже почти слипались.
Дневной свет таял, смешиваясь с грозовыми сумерками, и наконец совсем погас. Девушка вскипятила на огне немного воды и занялась своим туалетом. Мурлыкая песенки, которых паромщик не знал, она расчесывала свои шелковистые волосы: медленно проводила по всей их длине, начиная от хрупкого затылка, маленьким розовым полотенцем, смоченным в теплой воде. Две верхние пуговки ее рубашки были расстегнуты, и паромщик различал абрис нежной груди в облаке легких кружев. Девушка лукаво улыбалась, догадываясь о нескромных мыслях, завладевших ее спутником. Здесь они провели свою третью ночь — в тепле очага, когда-то семейного, в комфорте простыней и фарфора. В глубине камина угольки потрескивали и красновато светились, как далекий маяк в океане спокойствия.
Среди ночи паромщика разбудили нежные звуки скрипки. Увидев около очага три неясные фигуры, он подумал было, что еще спит. Но они казались такими реальными: отец играл на музыкальном инструменте, в то время как мать что-то вязала из красных ниток. Маленькая девочка, лежа на животе возле камина, рисовала на больших листах белой бумаги. Вокруг нее были разбросаны небрежно заточенные карандаши. Стены, мебель, обивка вновь приобрели опрятный вид, исчезла пыль и вообще все следы, нанесенные временем и разрухой. Эта семейная сцена была исполнена безбрежного покоя и чувства крепкой любви. Казалось, эти люди заставили кровожадное время смирить свой жестокий напор. Пламя камина бросало отсветы на их лица, то придавая им оранжевый оттенок, то заставляя бледнеть, а по стенам разбегались, танцуя, легкие тени. Никто из них словно не замечал ни паромщика в кресле, ни девушки на диване. Он молча смотрел, боясь малейшим словом разрушить хрупкую патриархальную гармонию. Наконец, белокурая девочка подняла голову и устремила взгляд на паромщика, который сидел, закинув ноги на деревянный табурет, с пустой бутылкой в руке. Нежное детское лицо слегка раскраснелось от жара очага.
— Добрый вечер, сударь, — сказала она тоненьким голосом. — Добрый вечер.
— Здравствуй, милая, — ответил он ласково.
— Погода нынче разыгралась. Вы правильно сделали, что укрылись у нас. А вашему слону будет хорошо в амбаре.
— Ты его знаешь?
— Конечно. Он часто сюда приходит. Иногда он даже работает с папой на поле. Я тоже с ним дружу. Посмотрите, что я нарисовала. Я почти закончила. Это для вас.
Девочка показала ему свой рисунок. Паромщик узнал слона, несмотря на то, что нарисованный зверь имел несоразмерные ноги и хобот. Маленькая художница также изобразила самого паромщика и девушку, которые шли, держась за руки, среди ажурных листьев папоротника — или сквозь лес (трудно было понять, что именно пыталась нарисовать неумелая рука). Как всегда на детских рисунках, в голубом небе сияло круглое желтое солнце и летали птицы — черные закорючки, похожие на заглавные буквы V, выгнутые наружу. Слон Ганнибал шел следом за путешественниками, а дорога была раскрашена в самые яркие цвета. Паромщик, убаюканный струящимися звуками скрипки, не сводил глаз с тонкого лица белокурой девочки. Она опустила голову и вновь взялась за карандаши.
— Вы приближаетесь. Вы уже не очень далеко, — сказала она тихо.
— Куда, ты думаешь, мы идем?
— К фабрике, как и все.
— А ты знаешь, где она находится?
— За длинными домами, — ответила она.
— Так значит это правда? Фабрика существует?
— Конечно! Он покажет вам путь; он ждет вас.
— Он нас ждет? Кто?
— Страж. Вы увидите, как там красиво. После фабрики жить становится проще. Я хотела бы побывать там вновь.
— Они могут ее вылечить?
— Могут, но они этого не захотят. Жаль, что ей придется умереть.
— Кому придется умереть?
Но девочка только повторила:
— Жаль, что ей придется умереть.
Она больше не рисовала. Она то смотрела на паромщика взглядом, полным затаенной боли, то переводила глаза на девушку, спящую на диване; на ангельском личике ребенка застыло выражение жалости и сострадания. Паромщик еще многое хотел бы спросить, но не мог вымолвить ни слова. Казалось, мышцы его тела перестали отвечать на сигналы его возбужденного мозга. Неподвижный, скрюченный в своем кресле, он увидел, как белокурая девочка медленно и плавно приблизилась к нему, не касаясь маленькими ножками гладкого паркета пола. Из глубины ее зеленых глаз поднималась абсолютная чернота — глухой мрак агата или обсидиана. Замерев в нескольких сантиметрах от лишившегося дара слова паромщика, этот призрак, слегка колеблющийся в свежем воздухе ночи, склонился к нему, словно хотел поцеловать в губы, — паромщика коснулось дыхание ужасной смерти — и как заезженная виниловая пластинка повторил свое пророчество: жаль, что ей придется умереть, жаль, что ей придется умереть.
Вздрогнув, паромщик проснулся. Сквозь покосившиеся ставни в комнату уже проникали первые лучи дня, и дом наполнился пьянящим запахом влажной земли. Девушка все еще спала на диване. В камине поблескивали красные искорки. Паромщик был весь в поту. Он кинул взгляд на каминную полку: скрипка лежала там же, где он оставил ее вчера. Зато цветные карандаши, напротив, были разбросаны по полу. У своих ног он обнаружил рисунок из его странного сна. Паромщик вновь узнал слона Ганнибала, девушку и самого себя, идущих через зону. Несомненно, это был тот самый рисунок белокурой девочки. Он вспомнил ее последние слова и содрогнулся от страха: его спутницу так и преследуют грозные пророчества. Паромщик медленно подошел к постели, на которой спала девушка, чтобы убедиться, что она дышит. Приблизившись вплотную, он склонил голову к ее лицу — и ничего не почувствовал. Он посмотрел на складки ее покрывала, но ни малейший шорох, ни самое слабое движение, вызванное дыханием, не приподнимало ткани. Он протянул было руку к ее бледному как мел лицу, чтобы ощутить теплоту ее кожи, но удержал свой жест: он боялся, что уже потерял ее навсегда.
Она очнулась от своего сна и по-кошачьи потянулась худенькими руками. Он вскрикнул от страха и отскочил назад. Его сердце неистово колотилось, оглушенное напором адреналина: она была жива. В правой руке паромщик все еще нервно сжимал таинственный рисунок. С усилием разгибая порозовевшие от напряжения пальцы, он расправил листок бумаги. Внезапно он понял: это густое разноцветное переплетение неровных карандашных линий являлось ничем иным, как картой местности, схематичным планом с обозначением деталей и границ. На нем был и этот дом, и серый бункер, и страшное болото, и лес с ходячими деревьями. Поле подсолнухов было отмечено желтым пятном, а вот кладбище отсутствовало. Угадывался и город, и то место, к которому они так стремились — фабрика.
— Смотри, что я нашел, — сказал он девушке. — Это настоящее сокровище.
— Что это? План?
— Точно! Сейчас мы здесь, — он пальцем указал на дом. — А идем мы сюда. Видишь, синим обозначена река, а город — серым. Эта заброшенная дорога ведет в пустынную область; видимо, это и есть сердце зоны.
— А каких-нибудь подписей там нет?
— Нет. Здесь только черный крестик, которым обозначена фабрика.
Девушка зевнула.
— Но откуда вы знаете, что там именно фабрика? Я вижу только черный крестик на неуклюжем рисунке, — засомневалась она.
— Я не могу тебе всего рассказать, иначе ты решишь, что я совсем тронулся умом. Мы оказались здесь не случайно. Это зона позвала нас сюда.
— У меня есть другое объяснение.
— И какое?
— Возможно, зона привела нас в этот дом, чтобы заставить вернуться туда, откуда мы пришли — в город. Вы говорите, что на этом плане обозначены места, где мы прошли. Ну и вот, она нам указывает путь назад.
— Может, и так. Да, может и так, но разве ты в самом деле хочешь повернуть назад? Если выйдем прямо сейчас, то еще до заката достигнем нашей цели. Узнаем наконец, что нас ждет. Они там смогут найти средство тебя вылечить. Я их заставлю. Я это точно знаю, а ты — ты должна мне довериться.
— Они? Да кто может там нас ждать? Кроме нас здесь абсолютно никого нет.
— Может, и есть. Мне пока неизвестно, что ждет нас дальше.
— Вы говорите так загадочно. И вообще, вы какой-то странный. Информацию мне выдаете по крупицам, а это здорово напрягает.
— Ну, скажем, я плохо спал этой ночью. Неважно. Давай продолжим наш путь.
— Хорошо, — сказала она просто. — Идемте.
Паромщик и девушка загасили последние тлеющие угольки в камине, затем уложили свои скудные пожитки в сумку. Их переполняло чувство единения. Новый день сиял тысячью огней, и казалось, сам воздух подстегивал их и заставлял действовать. Покидая дом, паромщик заметил, что цветок на подоконнике в кухне вытянулся вверх и стоит прямо, как восклицательный знак, словно он получил приток свежих жизненных сил. Еще вчера увядший, сегодня он просто взрывался от напора растительной энергии. Это было необъяснимо. Так же, как и два дня назад в бункере, паромщик медленно закрыл за собой дверь, таким осторожным движением, что можно было подумать, что в доме еще спит кто-то, кого не следует будить. Девушка терла руками глаза: ее веки до сих пор были тяжелы. Ее лицо казалось совершенно бескровным, белым, как полотно. В амбаре они нашли своего слона. Ганнибал их уже ждал.
Когда путники уже покидали ферму, паромщик обернулся в последний раз. Ему показалось, что за легкими колебаниями занавесок на втором этаже он разглядел маленький силуэт. Тающая фигурка в окне махала им на прощание. Он ничего не сказал об этом девушке, лишь сильнее сжал в руке листок с каракулями — план зоны. Теперь они не имеют права проиграть, — в глубине души решил он.
Глава 8
Он не видел восходящего солнца, укрытый тенью большого здания. Оранжевое пламя поднималось по другую сторону бетонного массива. Он бездумно смотрел на геометрический узор, что проступал на грязном асфальте: в рассветных лучах покореженный радар отбрасывал на землю косую тень, которая разбивала поверхность на множество крохотных ромбов, примыкающих друг к другу, и каждый из них слегка отличался оттенком от соседнего: по большей части монохромные серые пятна, иногда — коричневые или зеленоватые. Кроме этого переплетения линий в голове у него не было ничего. От бесчисленного количества раздавленных муравьев и других насекомых фаланги его пальцев покрылись клейкой массой, рыхлой сочащейся плотью, и он вытирал почерневшие пальцы о лицо и о голые бедра, оставляя на лбу и щеках подобие странных дикарских татуировок. Импровизированные кисти медленно скользили по влажной коже, приближая рисунок к идеальной симметрии. Перед этим он несколько часов затачивал кусок кремня, используя в качестве зубила рукоятку своего револьвера. В непрерывных ударах обозначился острый край, но он отупело бил еще и еще, добиваясь невозможного совершенства. Булыжник теперь напоминал примитивный нож. Им он рассек кожу на своих плечах и руках; теперь его тело покрывали шрамы, похожие на клинопись. В конце концов его инструмент пришел в негодность — пистолет буквально развалился на части. Он отбросил прочь этот ставший теперь бесполезным кусок железа. Пули запрыгали по асфальту и разлетелись в разные стороны. В уголках его глаз вспыхнула чуть заметная усмешка, словно его радовал вид собственных израненных рук.
Шел третий день погони, и нервы милиционера были на пределе. Несмотря на все усилия, он не мог настичь беглецов. Он преследовал их, пробираясь через поросшие кустарником овраги, пересекая равнины зоны, одолевая леса и огибая болота. Он неуклонно двигался вперед; направление ему подсказывали отпечатки следов путешественников и едва заметные признаки: по брошенному окурку, по примятым папоротникам он угадывал места, где они останавливались перекусить или устраивали ночлег. Он давно перестал прикидывать расстояние, отделяющее его от города, и изо всех сил старался сохранить остатки своего разума, но тщетно: неотвязное наваждение опутывало и сковывало его. Безумие подстерегало, как невидимый зверь. Теперь он понимал, что допустил роковую ошибку, отправившись в зону. Но было уже слишком поздно. Положение очевидно — ни он, ни те двое не вернутся назад. Мысль о неизбежной гибели разъедала его мозг, как кислота, но, несмотря на страх, внутренне он старался уверить себя в обратном — что цель еще вполне достижима, и что со временем все будет хорошо. Его сознание раздвоилось между реальностью и вымыслом, между истиной и безумием. Словно его череп раскололся как орех, открыв палящему солнцу два не связанных друг с другом полушария — одно, наполненное болью, и другое, невозмутимо-спокойное.
Лихорадка почти перестала его мучить, и заражение, казалось, не пошло дальше. Ранка на руке воспалилась, несмотря на флакон антибиотика, который он выпил на рассвете второго дня. Со вчерашнего вечера она заметно увеличилась и покрылась тонкой желтоватой коркой — омертвевшей кожей, вызывавшей сильный зуд. Язва принимала характерную форму паука или маленького черного скорпиона. Милиционер с беспокойством смотрел на свои запястья, изрытые синими венами. В отражении карманного зеркальца он заметил, как налились краснотой его глаза. Под влиянием какой-то силы с ним происходила фантастическая метаморфоза: он постепенно переставал быть человеком. В нем просыпалась некая другая сущность, которую он пока не мог полностью осознать. Он ощущал, как его тело и душа медленно перерождаются. Истратив все силы на борьбу с этим распадом, полностью опустошенный, он в конце концов отказался от сопротивления. Дурман был сильнее. Милиционеру оставалось только ждать, съежившись, как раненая птица. Зона высасывала его, как поток воздуха выветривает скалу — медленно, с тем немыслимым терпением, что человеческий глаз, привыкший только к грубым формам, не замечает этого. Еще немного — и он окончательно сольется с почвой этих мест, чтобы стать с зоной единым целым. Даже его воспоминания исчезли, словно их никогда не было — лишь туман, утренняя дымка, олицетворение пустоты и небытия, и чем дольше длился этот транс, тем меньше ему хотелось чего-то еще. Зона выжгла все внешнее и поверхностное — весь хлам.
В своем изнеможении он едва ли замечал что-то живое вокруг себя. От схваченных паромщиков ему доводилось слышать невероятные истории, знал он и путаные городские легенды, но все это сейчас не находило подтверждения — он видел только зеленый океан, настолько яркий, что было больно глазам. Буколическая идиллия, лишенная интереса. Если бы не его странная напасть, ничего здесь не могло бы внушить и крупицы страха: ну, разве что смутное томление. Эту зелень ни в коем случае нельзя просто взять и оставить, думал он, наоборот, надо все расчистить огнем и железом, и возвести на бурой пустоши колоссальную империю сплошного бетона. Где они, те таинственные видения, чудесные открытия, ошеломляющие откровения? Ничего, кроме бесконечного буйства лесной плоти. Но вдруг он заметил, что на периферии его сознания возник далекий чуть слышный голос, который с каждым часом становился все более явственным. Из ниоткуда на него надвигалась новая угроза.
Всю ночь милиционер проплясал под проливным дождем. Удары грома отбивали ритм его лихорадочно-исступленной сарабанды. Он содрогался в конвульсиях, простирался на заливаемой водой земле, словно в страстной молитве, обращенной к суровому небесному божеству, а его безумные крики смешивались с яростными раскатами грозы. В своей ночной мистерии он совсем не испытывал усталости — только странное смятение духа. Обхватив голову руками, полуобнаженный, он спорил сам с собой. Казалось, две стороны его натуры, светлая и темная, задались целью взаимно уничтожить друг друга, и, претворившись в новую суть, заполнить его душу и тело до последней частицы. Он будет белым или он будет черным — никаким нюансам, никаким компромиссам не оставалось места. Борьба длилась всю ночь и теперь подошла к своему апофеозу. Милиционер метался, пытаясь сохранить свое человеческое «я», разрываясь между охотником и добычей. Он злился, порой начинал себя ругать; находясь между двух водных стихий, он вновь и вновь обращался неведомо к кому с отчаянной мольбой. В его сознании царил хаос. Он уже больше не понимал, куда его толкает собственное раздвоившееся эго.
— Не надо было идти. Стало только хуже.
— Канцлер не оставил мне выбора. Он бы пожертвовал всем городом, лишь бы отыскать свою очень-очень драгоценную дочь. Это он во всем виноват. Впрочем, тем утром что-то я тебя не слышал.
— А ведь я стучался в двери твоего сознания. Я хотел тебя предупредить, но ты ничего не замечал. Ты говорил намного громче, чем я, с увлечением строил планы, и твои доводы перекрывали мой голос. Нет более глухого, чем тот, кто не хочет слышать.
— Этот дьявол нас обыграл, а ты ему помог.
— Для такого тертого калача, как этот старик, это не составило труда.
— Заткнись, дрянь! Ты не знаешь, о чем говоришь.
— Имей хотя бы мужество признаться в собственной слабости. Что за коварный пастух пригнал тебя на это пастбище, полное опасностей? Тщеславие! Не что иное, как гордыня заставляет биться твое сердце. Ты и сам знаешь, что я прав, и эта истина сжигает тебя изнутри.
— Любовь к преодолению препятствий — вот что привело меня сюда. Неужели лучше вечно жить как крыса? Почему ты отказываешь мне в праве стремиться вверх, чтобы наконец взять все от этой жизни? Почему я должен оставлять лучшие куски другим? Никто не может поставить мне в укор мое естественное желание. Таково мое мнение.
— Что за глупости! Ты думаешь, что сможешь дотянуться до луны или достичь недостижимого? Ты даже себя не слишком хорошо знаешь. Оглянись. Посмотри, что творится вокруг.
— Я ничего не вижу.
— Здесь есть всё.
— Только зелень — одна сплошная зелень. Это невыносимо.
— Это чудесно. Здесь источник подлинной жизни.
— Подлинная жизнь протекает в городе.
— Город — не более, чем мертвец, груда изживших себя вещей. Не лучше ли возвести новый прекрасный храм здесь, посреди этого земного рая? Вернуться к первоначалу — в этом спасение человечества. Ты идешь по неверному пути; оставь его!
— Мы и есть первоначало. Все прочее мы презираем. Мы будем строить без отдыха и достигнем небесных обиталищ, и мы пойдем еще дальше, мы низвергнем богов, которым поклонялись наши жалкие предки.
— Это не то, что нам предначертано. Ничто не взойдет на разоренной земле. Прийти сюда может лишь тот, кто проникнется гармонией с этих мест.
— Прийти сюда — так я первый, кто сделал это. Я пионер.
— Это опять говорит твоя гордость. Прийти сюда означает умереть.
— Мы бесконечно возрождаемся.
— Мы живем лишь однажды.
— Ересь! Это противоречит достижениям прогресса, да и просто здравому смыслу.
— По-твоему, прогресс — это рост притязаний и презрение ко всему живому? Неужели ты не осознаешь, что охотишься на священных землях, и что здесь происходит нечто, превышающее наше понимание — то, что даже выше Человека? Мы здесь чужие.
— Никто из нас никогда не будет чужим здесь. Мир принадлежит нам. Вот истинное евангелие. Теперь я это вижу ясно.
— Боюсь, ты все дальше уходишь по неверному пути.
— Ты боишься правды. Все, что у тебя есть — это софистика и громкие фразы. Мне плевать на твои слова. Что на самом деле имеет значение — это сила и власть. Они материальны. А ты — ты трусливая сторона моей натуры.
— Я боюсь за тебя — и за себя.
— Это малодушие. Один из нас должен умереть, чтобы жил другой. Иного выхода нет.
— Что же, убедил. Пусть останется только один.
Грязные руки милиционера заскользили по шее, пока большие пальцы не отыскали и не вонзились в сонную артерию, сжав ее так сильно, что он не мог больше дышать. Под напором скрюченных пальцев на его лице вздулись синие вены. Две его ипостаси боролись друг с другом, и ни одна не могла взять верх. В этой схватке, в которой вырвались на свободу все его душевные и физические силы, больше никто не мог бы отличить человека от животного, охотника от его жертвы. От ярости на его фиолетовых губах выступила белая пена; от хриплых звериных криков она разлеталась во все стороны. Милиционер упал на землю и стал кататься среди камней и обломков бетона. Его голова билась о мокрый асфальт. Даже на грани обморока он не ослаблял своей хватки. В конце концов он замер, отдавшись во власть смерти, нежной и желанной, как сон. Ведь на самом деле, в смерти нет ничего ужасного, подумал он в последних проблесках сознания. Одна сторона его души победила другую и единственная осталась в живых. Милиционер неподвижно лежал, раскинув руки, наполовину освещенный дневным светом.
Глава 9
Ганнибал послушно следовал приказам паромщика. Стоило мужчине слегка шлепнуть слона по массивному затылку, указывая ему новое направление, как животное повиновалось, хотя порой не слишком проворно. Путь их лежал прямиком к туманному горизонту. Измятый рисунок не лгал. Теперь зона проявляла себя по-новому: былое изобилие сменилось странным оскудением. Заросли стали ниже, словно прибитые ветром, а землю устилал густой слой темной пыли. То тут, то там попадались разноцветные кристаллы — их твердые грани сверкали на солнце, как осколки стекла. Затем дорога пролегла по белому песку, среди невысоких скал. Воздушные вихри поднимали с земли щепки и засохшие почерневшие листья, выжженные солнцем. Это пока нельзя было назвать пустыней, но, казалось, живая жизнь капля за каплей растворяется в пустоте, как свет крошечных звезд поглощается холодом ночи. Зеленые островки встречалась реже, но странным образом растительность выглядела гуще и плотнее. Беглецы находились в самом сердце зоны и приближались к цели своего долгого путешествия.
— Птиц больше не слышно… — сказала девушка, просто чтобы прервать молчание.
— И это меня беспокоит. Какая-то потусторонняя атмосфера. Уж эти места я точно не назвал бы красивыми.
— Так и должно быть?
— Не знаю. Не думаю. Но мы все равно не можем повернуть назад. Ганнибал не выказывает страха, а это скорее добрый знак, ведь животные обычно остро чувствуют опасность. Доверимся его инстинкту.
— А если эта карта — ловушка?
— Есть только один способ узнать: пройти путь до конца, — ответил паромщик.
— Глупо, но мне кажется, что за нами наблюдают.
— Да, меня тоже не покидает это ощущение с тех пор, как мы вошли в зону. Кто-то или что-то, совсем близко…
— Может, стоит подумать о возвращении? — глухо сказала она.
— Что? Куда же делась твоя непоколебимая уверенность? Ты хочешь повернуть назад сейчас, когда самое трудное уже позади? Однако, ты непостоянная.
— Я не знаю. — Она попыталась объяснить. — Этой ночью я видела странный сон. Будто мы обречены бродить по этим землям до скончания веков. Никакого выхода, и каждый новый день еще более мучительный, чем предыдущий. И мы отчаянно ненавидим друг друга.
— Ненависть? Между нами? Что за глупость. И что, по-твоему, означает этот сон?
— Я до сих пор не могу прийти себя от ужасного чувства безысходности. Теперь мне кажется, что мы допустили огромную ошибку, думая, будто сможем здесь что-то найти. Чем дальше мы продвигаемся, тем более очевидным становится, что ничего здесь нет. Я хочу вернуться домой.
— И умереть? Это было бы безумием. Мы уже не можем повернуть назад. Будущее покажет, правы мы или нет. А пока надо продолжать идти. После всех усилий, что мы затратили, было бы глупо остановиться сейчас. Прежде я сомневался, твоя же вера в обещания зоны и в существование фабрики была тверда как сталь. Теперь все наоборот: я верю, а ты сомневаешься. Мир перевернулся.
— Вы просто мерзкий циник! Ненавижу вас!
— Я всего лишь сказал, как есть. Незачем злиться из-за такой ерунды. В любом случае, кто-то из нас окажется прав. Что же, один к двум — это неплохой шанс.
Шаг за шагом паромщику удалось разгадать, что именно обозначают цветные линии на измятом рисунке. Стоило им столкнуться с какой-либо особенностью местности, будь то холм или долина, большой камень или поваленное дерево, он тут же безошибочно мог сопоставить ее с метками и указателями на своей карте. Паромщик все более утверждался во мнении, что они движутся как раз по той части зоны, что изображена на схеме, и с каждым пройденным километром в его сердце крепла надежда. Ганнибал, казалось, был само послушание. Теперь он лишь изредка отклонялся от курса — ну, разве что, ради фруктовых деревьев. Он шел очень целеустремленно, не сбиваясь ни влево, ни вправо, словно тоже понимал, что этот длинный вояж близится к концу. Паромщик догадывался, что сейчас слона ведет вперед сугубо чья-то чужая воля. Возможно, чуткое ухо гиганта улавливало какой-то ультразвук. И паромщик, и девушка, оба они стремились достичь фабрики, и зона откликалась на их страстное желание. На одежду путников оседала беловатая взвесь; смешиваясь с пылью пройденных верст, она раздражала ноздри.
Солнце нещадно палило с самого утра. Паромщик заметил: впереди что-то темнеет, какая-то странная деталь пейзажа. В сотне метров от них землю пересекала черная линия. Приблизившись, путешественники разглядели запорошенную песком двойную борозду, усеянную бесконечным числом деревянных поперечин. Белую пустыню прорезала железная дорога и исчезала за горизонтом. У подножия небольшого пригорка, лишенного растительности, Ганнибал Карфагенский остановился и, к великому удивлению седоков, опустился на колени. Паромщик понял, что дальше слон не пойдет; гид собирается покинуть путешественников. Они спустились на землю. Оба испытывали грусть от предстоящего расставания.
— Ганнибал не будет дальше сопровождать нас, — сказал паромщик. — Он уходит.
— Куда же он пойдет?
— Он выполнил свою миссию. Не спрашивай откуда, но я это знаю. Сейчас он должен уйти.
— И что теперь мы будем делать?
— Я и вообразить себе не мог найти здесь эти остатки железной дороги. Вот уж никогда не думал, что в зоне были проложены рельсы. Это настоящая удача. Следуя по этой дороге, мы наверняка выйдем недалеко от фабрики. Вот, смотри, — паромщик достал рисунок и показал девушке на жирную линию, прочерченную голубым карандашом.
— Что здесь можно понять? Сумбур какой-то, — сказала она.
— Я думал, что эта черта означает проселочную дорогу или автостраду. Я ошибся: на самом деле имелась в виду железная дорога. Если следовать этим указаниям, мы должны повернуть налево и идти еще два-три часа, пока не достигнем вот этих боксов. Не знаю точно, что это такое. И там должен быть страж.
— Да откуда у вас такая информация? С тех пор, как мы вышли из города, мы не видели ни души. А вы говорите с такой уверенностью… Объясните! Я хочу знать.
Понимая, что его слова прозвучат абсолютно безумно, паромщик отвел глаза.
— В том доме… Да, в том доме я встретил одну семью, и девочка дала мне этот рисунок. Она сказала, что мы должны дойти до боксов, и что там мы встретим стража. Тогда мы найдем фабрику.
— Так вы поверили пьяному бреду? Алкоголь подогрел ваше воображение, и оно обмануло вас. Я не верю! Мы бессмысленно блуждаем по этой пустынной зоне, сидя на спине у слона. Я ошибалась. Я будто наяву попала в свой кошмар. Фабрики не существует. Мы погибнем, если не вернемся в город. Пусть я умру, а вы попадете в тюрьму. Жаль, что так вышло.
— Все не так! — закричал паромщик. — Мы уже у цели. Осталось всего ничего.
— Нет никакой цели. Зона — это могила под открытым небом. Мы затеряны среди пустыни.
Тут паромщик ударил девушку по щеке. Ее голова резко дернулась назад, от этого движения ее светлые волосы взметнулись вокруг лица, вспыхнув на солнце сотней искр. На мгновение паромщику почудился блеск плавящегося металла, языки огня. Она не должна была терять веру. Нельзя. Она не имеет права. Ее необходимо было убедить, придать ей той силы, внушить хоть немного той страсти, что поддерживала его в эти дни. И было еще что-то: он-то думал, что знает зону, а на самом деле она открывалась ему только сейчас, со всеми своими тайнами и причудами. Зона стала центром его новой вселенной, и он чувствовал себя обязанным оградить ее от неверующих. Паромщик искал слова, чтобы разом высказать все это. Его мозг, взбудораженный гневом, тщетно пытался подобрать неопровержимые аргументы, способные обратить девушку в его веру и заставить ее понять, что сейчас на них, словно на новых евангелистов, возложена апостольская миссия — нести по всему миру первое свидетельство невероятной истины этих земель. Но слова не находились, сметенные напором крови, что стучала в висках, и тогда паромщик шагнул к девушке, схватил ее за плечи и — поцеловал. Она не сопротивлялась, полностью отдавшись ошеломляющему чувству. Мгновение, выпав из времени, превратилось в бесконечность.
* * *
Пока длились эти минуты, наполненные безумным смятением, Ганнибал исчез, так же скромно, как и появился — лишь коротко протрубив на прощание. Оглушенные, хмельные от своей новой страсти, путники смотрели ему вслед и махали руками, пока он не скрылся за белесыми дюнами, после чего двинулись дальше.
Паромщик шел на несколько шагов впереди девушки. Его сердце сжималось от двойственных чувств. Они шагали уже полчаса, и никто из них не прерывал гнетущего молчания. Паромщик сам не мог понять, с чего вдруг он позволил себе то, что позволил. Он относился к ней как к любимому ребенку двадцати лет, и никогда ему и в голову не приходили подобные вольности. Теперь же его моральные убеждения, казалось, отступили, развеялись вместе с поднятой пылью. Его молчание выдавало его замешательство — хуже, его стыд. Девушка, ошеломленная его выходкой, обессилившая, с лицом, еще пылающим от его ласк, машинально следовала за ним, несмотря на свое давешнее малодушие и скептицизм. Ускорив шаг, она, задыхаясь, нагнала его и взяла за руку — дрожащую и слегка влажную. Паромщик вздрогнул от нахлынувших эмоций, настолько ее кисть казалась хрупкой на его грубом запястье. Он остановился, не осмеливаясь глядеть ей в глаза: он не хотел, чтобы она заметила, как он на самом деле взволнован. Спокойно улыбаясь, она ждала, что он ей скажет. Казалось, он утратил свой решительный настрой.
— Я сожалею. Я не должен был этого делать, — сказал он смущенно. — Сам не знаю, что на меня нашло. Твое неприятие зоны вызвало во мне помрачение рассудка. Я был просто вне себя, когда…
— Я не жду никаких объяснений, и извиняться тоже не надо, — ответила она. — Я все понимаю. И мужчин в годах я не боюсь.
— Эй, полегче, полегче, крошка! Не думай, что я из тех господ, кто настолько самонадеян…
— Я не думаю. Здесь больше не о чем думать. Теперь я пойду за вами на край света, если понадобится. Я вам верю. Вы правы: нужно продолжать путь. Все непременно будет хорошо.
— Ты в самом деле мне доверяешь, несмотря на то, что тебе следовало бы меня опасаться? Значит, мы оба сумасшедшие.
— Я пойду за вами в ад, если так будет надо. Мне жаль, что я потеряла веру. Я поняла.
И она его поцеловала.
От дерзкого выражения ее нежное лицо стало еще красивее. Она целовала его все более страстно; прежняя сдержанность окончательно покинула их, унесенная ветром к лазурным небесам. Он больше не был паромщиком — а она не была больше просто молодой девушкой. Теперь они составляли единое целое, причудливое творение зоны. В этой любви, хрупкой и трепетной, как тонкий росток, им открылся подлинный смысл их путешествия: все их скитания были дорогой к сияющей судьбе. Они нашли друг друга. Фабрика постепенно трансформировалась, пока не превратилась в просто символ — не более, чем обозначение направления. Теперь она представляла собой залог исполнения обещания, знак их взаимного договора. Больше ничего не имело значения, даже их жизни. Путь, который они проделали по зоне за эти несколько дней, казалось, озарился новым, сокровенным светом. В этом был еще один из многочисленных секретов зоны: ее невероятная способность раскрывать в вещах и живых существах их подлинную суть. Пока они странствовали, зона претворила грубую материю в нечто возвышенное, и эфир все еще благоухал. Так закончилось утро.
Солнце было в зените, когда они набрели на заброшенную площадку нефтяных насосов. Уткнувшись в землю как жалкие нищие, замерев в своем последнем рывке, изношенные станки оцепенело стояли, отгороженные высоченной решеткой, а рядом располагалось несколько полуразрушенных зданий. Железная дорога здесь раздваивалась, и одно из ответвлений рельсового полотна проходило через станцию. Огромные белые щиты строго запрещали вход, угрожая смертью нарушителям. Грузовик-цистерна, прошитый множеством осколков, со спущенными шинами, со стеклами, разбитыми картечью, стоял так, словно прикрывал подходы к оборонительной точке. Пустые канистры высыпались из штабелей и раскатились по вздувшемуся гудрону. Их небольшое количество говорило о масштабах разграбления. Мешки с песком, наваленные друг на друга, образовывали узкую баррикаду между пропускными пунктами на входе. Обширная площадка выглядела языческим святилищем, вереницей странных идолов, чья отчетливая симметрия только укрепляла иллюзию сакрального места. Этот пантеон ржавого железа молчаливо свидетельствовал о необузданности человека, который, словно вампир, впивался в подвластные ему области. Он вытягивал кровь из земли до последней капли, принося себя в жертву ненасытной индустрии, а когда ресурсы иссякали, обращал свою безумную ярость против себе подобных, ввергая мир в невыразимый хаос ракетных ударов, пусть даже эти ракеты были расписаны прекрасными цветами. Среди множества механизмов один насос, стоящий между двумя емкостями, до сих пор работал. Он медленно поднимался и опускался, и явно был на последнем издыхании. Из прилегающей к нему разбитой отводной трубы вытекала густая темная жижа. Поступление было мизерным. За время его работы на земле разлилась большая лужа наполовину из воды, наполовину из углеводорода. В центре ее трепыхалась крупная птица с перьями, склеенными сырой нефтью.
— Это фабрика! — воскликнула девушка. — Мы наконец нашли ее!
— Это не фабрика. Это старая бурильная станция. Здесь добывали нефть, самый бессмысленный источник энергии в прежнем мире.
— Эти сооружения выглядят очень впечатляюще.
— Надо думать. Тем не мене, это всего лишь памятник глупости политиков от энергетики былых времен.
— Почему вы так говорите?
— Перед тобой — слабое место старого мира и причина всех наших теперешних бед.
— Эти штуки? Но они же ничего не значат.
— Всякая цивилизация, выживание которой основано на добыче полезных ископаемых, неизменно обречена на гибель. Такова неумолимая логика. Земля не есть рог изобилия: конец всегда неизбежен. А без этой подпитки ничто не может сколько-нибудь долго функционировать. Попавшись на эту удочку, люди в своей беспечности дали себе волю. Даже их страхи были поверхностными. Самое главное ускользало от них, как вода сквозь пальцы. Так и выстроилось нынешнее положение вещей. Да, строить — это подходящий глагол. Какое безрассудство! Они своими руками создали почву для собственного падения. Как ни банально, но это правда.
— И это просто ужасно, — добавила девушка.
— Не то слово…
Они покинули мертвую станцию и отправились дальше вдоль рельсов. Километр тянулся за километром; ничто не нарушало однообразия окружающего лунного пейзажа. Паромщик искал какой-нибудь знак на своем рисунке. Растительность стала еще более редкой, чахлой, почти вырожденной. Давящую атмосферу этой пустынной местности лишь время от времени оживлял легкий ветерок. Девушка испытывала определенные трудности, шагая по рельсам: шпалы располагались примерно в двух футах друг от друга, и ей едва удавалось попадать в этот ритм. Время бежало быстро. Изредка встречались телеграфные столбы без каких-либо проводов; чудные и нелепые, они только усиливали гипнотическое воздействие пейзажа. В песне ветра девушке чудилась жалоба на пустоту и безжизненность. Паромщик шел быстро, перешагивая по две шпалы сразу. В душе девушка пожалела о слоне с его неприятным запахом. Они шли добрых три часа, когда заметили вдалеке ряды каких-то строений и покосившиеся столбы. Путники догадались, что перед ними старые дома, стоящие вдоль невидимой улицы, устланной розоватой пылью.
На некоторых крышах сохранились нагреватели для воды, работающие от солнечного света. Сделанные из никелированных трубок, они сверкали, как салонные зеркала. Рельсы вели прямо к поселку, потом сворачивали и исчезали в старом обветшалом вокзале. Призрачная деревня открывалась постепенно: ряд жалких домов, симметрично расположенных вдоль единственной линии — асфальтированной дороги, на три четверти занесенной песком. Выйдя из деревни, дорога окончательно пропадала в выжженной земле. Время от времени ставни на покосившихся окнах шумно хлопали от ветра. Спутанные шары сухой травы катились и подпрыгивали между пустыми скамейками и зияющими дверными проемами, среди опрокинутых на бок телег и повозок.
На маленьком заброшенном вокзале в беспорядке застыли вагоны; их металлические панели были изъедены ржавчиной. Они походили на мертвых животных, на угловатые просвечивающиеся насквозь остовы чудовищ, чьи выступающие ребра еще хранили тонкую мембрану атрофированных легких. Мозаичный пол перрона просел под тяжестью прошедших лет, как древняя могила. Железнодорожные пути венчала маленькая будка смотрителя; на щитке этого орлиного гнезда еще сохранилось название населенного пункта — уже нечитаемое, почти полностью стертое неумолимым временем с его дождями и непогодой. Здешняя вечность была окрашена в унылые оттенки тоски и смерти. Электрические провода свисали и раскачивались, как затаившиеся змеи на лианах. В нос путешественникам ударил запах гнилого дерева. То тут, то там они замечали островки разноцветной плесени на сморщенных деревянных панелях и плафонах. На покосившемся стенде, стоящем среди вороха грязной бумаги, пустых бутылок и смятых консервных банок, паромщик увидел схему движения — карту, пришпиленную канцелярскими кнопками за плексигласовым стеклом, пожелтевшим от солнца. Он не спеша подошел; девушка следовала за ним. Левой рукой паромщик быстро смахнул многолетний налет угольной пыли. Он водил пальцем по переплетению черных, синих и оранжевых линий, пытаясь разобраться в хитросплетениях этого лабиринта и определить свое местонахождение на плане. Все ориентиры хорошо согласовались с его рисунком, но были обозначены более конкретно. Паромщик почти сразу угадал деревню и ее окрестности.
— Сейчас мы здесь, — сказал он. — А направляемся мы сюда, — его палец уперся в большой черный квадрат. — Нам надо пройти еще километров десять. Вот эта метка должна обозначать фабрику. Это соответствует моему рисунку.
— Я ничего такого не вижу. Это может означать все, что угодно, — засомневалась девушка.
— Нет! Схема не может врать. Схемы на это не способны. Идти надо сюда, и именно сюда мы и пойдем. Чем дальше мы продвигаемся вперед, тем больше я верю в эту фабрику. Теперь нам надо найти стража или те боксы. Ну, по дороге разберемся. Сейчас мы должны покинуть рельсы и идти прямо на север.
— Мы что, уходим? А мы не можем отдохнуть здесь немного? Там, внизу, есть дома; мы найдем какую-нибудь комнату, а завтра с утра тронемся в путь. Я страшно устала, мне надо поспать.
— Ты уже говоришь об отдыхе? Сейчас всего лишь пять часов вечера. Еще светло; не стоит терять это время.
— Ну нет, усталость сильнее меня. Той ночью я неплохо выспалась, но я больше не могу. Я не отказалась бы остаться здесь на ночь.
— Ты плохо себя чувствуешь? Зона обострила твою болезнь, как ты считаешь?
— Возможно, но я справлюсь. Мне только нужно отдохнуть, а здесь это в самый раз. Думаю, завтра мне будет лучше, — объяснила она.
— Ладно, будь по-твоему. Проявим благоразумие и останемся здесь на ночь. Я обыщу дома. Может, мне удастся найти еду, воду, еще какие-нибудь мелочи, которые могут пригодиться в дороге. Эти оставленные деревни обычно таят в себе несметные богатства. Когда произошла катастрофа, люди ничего не захватили с собой. Просто не смогли. Пусть мы потеряем здесь время, но мы хоть проведем его с выгодой.
Пока они шли по пыльной дороге к первому дому, паромщик снова обратил внимание, насколько усилилась бледность его спутницы. Ей очевидно стало хуже. Он забеспокоился, как бы ее болезнь не осложнилась на этих негостеприимных землях. Последние несколько дней они пребывали в постоянном все возрастающем стрессе. Нагрузка оказалась слишком тяжелой для молодой девушки. Паромщик старался не думать о плохом. Он боялся ее потерять. Он боялся снова погрузиться в омут одиночества своей жалкой жизни.
Стоило паромщику взяться за дверь, как раздался пронзительный скрежет сдвигаемой мебели. Прежде чем покинуть дом, его обитатели наспех забаррикадировали вход. Паромщик толкнул сильнее, и они услышали, как на пол обрушилось множество предметов. Сквозь узкую щель им открылся коридор, освещенный вечерним солнцем, а в нем — нагромождение всякого хлама, среди которого можно было заметить разбитый посудный шкаф, стул и какие-то доски из светлого дерева. На пыльном паркете поблескивали осколки тонкого фарфора. Одна тарелка уцелела, остальное же напоминало звезды и причудливые фигуры. Девушка состроила забавную гримаску, обозревая весь этот бедлам, вызванный их вторжением. Паромщик концом сапога отшвырнул пару длинных острых осколков, после чего прошел в комнату. Дом оказался просторным, красивым и роскошно обставленным. Время не оставило следов на плотных обоях и легких оконных занавесях. Все было на своих местах, без малейшего намека на запустение, почти безукоризненно. Картины, опять фотографии, расставленные на комодах и полках, и даже рояль — вещь, говорящая о высоком положении прежнего владельца. Мебель и наиболее хрупкие предметы обстановки были укрыты белой материей. Обнаженная сабля нависала над внушительных размеров камином, угрожая трем изящным серебряным подсвечникам. В соседней комнате обнаружилось полдюжины потрепанных альбомов, нож для резки бумаги, и во всех углах, куда ни глянь, везде: на этажерках, под старым низеньким столиком — завалы устаревших фотографических принадлежностей: ванночки для проявителя, фильтры из затемненного стекла, подернутые патиной времени, открытые коробки и герметично закрытые контейнеры, вспышки и увеличители, разъезжающиеся горы неиспользованной фотобумаги всех видов, и от этой вороха старой сепии исходил отталкивающий химический запах — эфирный дух старости.
По парадной лестнице девушка медленно поднялась на второй этаж. Паромщик проводил ее взглядом, отметив осторожность ее кошачьей походки; несомненно, устала, подумал он. Пару секунд спустя он услышал скрип двери и радостный возглас. В закутке, прилегающем к основной комнате, она обнаружила ванную. Против всех ожиданий, из крана до сих пор текла прозрачная вода. Паромщик услышал мягкий стук капель, приглушенный тонкой перегородкой, разделяющей комнаты. Водопровод и нагреватель на крыше все еще функционировали. Паромщик не стал подниматься наверх, подумав, что этот час лучше провести с пользой. Он решил на время оставить девушку и пойти обследовать городок. Эти водные процедуры, конечно, затянутся надолго. Когда дверь захлопнулась за ним, в глаза ему ударили лучи заходящего солнца. Он козырьком приложил руку ко лбу. Одно здание среди прочих привлекло его внимание.
Фасад дома на другой стороне улицы сверкал ослепительным светом, рассыпался искрами, как горящий факел, и магнитом притягивал взгляд паромщика. Он медленно приблизился, положив правую руку на пояс, поближе к ножу, готовый немедленно среагировать. Он до сих пор чувствовал, что за ним следит тысяча глаз, но здесь это ощущение, казалось, многократно усилилось. Какое-то время сквозь приоткрытое окно до паромщика еще доносился смех девушки и шум воды в ванной. Но по мере того, как он отдалялся, звуки слабели. Наконец он ступил на площадку перед зданием. Оно больше не излучало свет; прежнее сияние сменилось слабыми отблесками в лучах угасающего дня.
Несмотря на грязные потеки, паромщик узнал заколоченную витрину старого магазина — что-то вроде бакалейной лавки, если верить траченной временем вывеске над входом. За стеклом, покрытом паутиной трещин, между уцелевшими планками деревянной рамы, он заметил противогаз, алюминиевые фляги, еще какие-то предметы, назначения которых он не мог бы объяснить. Среди этого разнородного барахла его внимание привлек отличный ручной фонарь — красивая вещь, совсем новая. Он толкнул дверь, но она не поддалась. Кованую металлическую ручку обвивала цепь; другой конец цепочки крепился к прогнившему дверному косяку. Ухватившись за висячий замок, паромщик трижды дернул на себя всю конструкцию, пока она полностью не вывалилась из пазов под металлический скрежет и треск ломаемого дерева. Над дверью пронзительно звякнул колокольчик, когда паромщик вошел наконец в просторное светлое помещение. Теперь он понял, что здесь так сверкало.
Магазинчик был заставлен зеркалами всех форм и размеров. Их здесь было десятки: большие и маленькие, массивные и легкие, симметрично изогнутые и круглые, плоские и выпуклые, простые и изящно украшенные. Все они были обращены к улице, так что солнце, проникая сквозь остатки ставней, сияло в глубине зеркального стекла как космический огонь. Жара стояла почти невыносимая. Паромщик первым делом снял с полки, попутно опрокинув два-три лежащих рядом предмета, красивый сверкающий фонарь, который он заметил в витрине. Большие солевые батарейки были на месте. На цилиндрическом корпусе выступил протекший электролит, и паромщик отчасти стер его, когда нажал на крупную латунную кнопку. Фонарь сносно работал; с его помощью паромщик осветил темное пространство под прилавком, после чего убрал его в свою сумку, так же как и четыре новых батарейки, обнаруженных в глубине скудного ящика, рулон клейкой ленты, точилку для карандашей и бритвенный станок. Касса была слегка выдвинута, открывая взору свое пустое содержимое; эту пустоту облюбовали какие-то насекомые — что-то вроде крупной тли. Паромщик брал очередной предмет, быстро осматривал его, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии, и если находил вещицу полезной, убирал ее в свою сумку. Все прочее оказывалось на полу, камнем брошенное за спину. Очень скоро повсюду валялось множество диковинок — разбитые приборы, поломанные механизмы и какие-то штуки, назначения которых паромщик даже не мог представить. Через несколько минут беглого осмотра паромщик обнаружил за уродливой василькового цвета занавеской дверь на задний двор. Он медленно отворил ее, опасаясь какой-нибудь неожиданности, и тут же почувствовал ветерок на своем загрубевшем лице. Стена в глубине двора, сделанная из волнистого листового железа, была разорвана, как бумага, а сквозь нее прорастало невиданное растение: мощный ствол, зеленый и переливающийся, по которому разбегались маленькие точки всех цветов — изумрудные, оранжевые, лазурные, кроваво-красные, серебряные, золотые. Но то, что открывалось за этой невероятной живой колонной, впечатляло еще больше.
Не выдержав напора растительного мускула, часть железной ограды оторвалась и теперь раскачивалась под порывами ветра. Стоя в проеме двери, паромщик обозревал серую пустыню, простирающуюся до границ горизонта. Он понял, что за пределами поселения больше ничего нет. Позади еще оставались территории зоны, уходившие за железнодорожное полотно, но этот клочок безжизненной земли обозначал грань того мира, каким он его знал — донельзя жалкого, едва сохраняющего слабые следы человеческой деятельности, но все же подлунного живого мира. По ту сторону расколотой стены отсутствовали какие-либо линии или оттенки — все они словно были изгнаны. Там не было ничего, но и этого «ничего» казалось недостаточно, чтобы передать ощущение абсолютного небытия. Паромщик никогда и подумать не мог, что однажды ему доведется увидеть край света. Но вот, перед ним расстилается самая совершенная пустота, а невыносимая тишина до боли оглушает его. Конец.
Больше ничего.
Его горло сжалось от подступивших слез.
Паромщик почувствовал себя одиноко и сиротливо, словно существо, проведшее всю жизнь во мраке и заблуждении, в хрупком мире, который и сейчас был еще возможен где-то. Где-то, но не здесь. Теперь он понял: было чистой воды самонадеянностью рассчитывать найти что-либо по ту сторону Рубикона. Зона не являлась границей. Она была всего лишь затерянным островком в океане пустоты.
Гигантский фосфоресцирующий стебель брал свое начало не в деревне. Он исходил неизвестно откуда, протяженный, как рельсы, пересекал поселок и вновь уходил вдаль, чем-то похожий на здоровенного дождевого червя. Сквозь широкую расщелину в стене, образованную на месте соединения двух листов железа, паромщик попытался разглядеть, где начинается этот «росток», но тщетно — взгляд не достигал края. Через маленькое окошко на противоположной стене он видел, что растительная артерия продолжала ползти вперед, уничтожая, сметая все барьеры и преграды. Она прошила несколько строений, вставших на ее пути, какие-то баррикады, забор из колючей проволоки, после чего исчезла за песчаными дюнами, наметенными ветром. По отливающей перламутром поверхности этого стебля-сосуда разбегались тысячи огоньков; заметные поры и крошечные капилляры вспыхивали и гасли в ритме медленного дыхания, и это сверкание завораживало паромщика. Прозрачные канальцы вздувались и опадали, толкая какую-то густую субстанцию — зеленоватую кровь растения. Разноцветные искры не исчезали полностью, скорее приглушали свою интенсивность, чтобы потом разгореться с новой силой, когда по ним пробегала очередная энергетическая волна. Никогда прежде паромщик не видел подобной растительной формы, соединяющей в себе живые ткани и элементы электрической цепи. Симбиоз был абсолютным — между двумя сущностями царила идеальная гармония. Из противоположностей вырастало единое целое, но все же в первую очередь это была форма жизни, и лишь во вторую — электрический проводник. Паромщик прислушался: от этого природного механизма исходило чуть слышное ритмичное гудение. Звук напомнил ему тот легкий шум, что доносится от домашнего электросчетчика, заключенного в пластиковый кофр. Кончиками пальцев он дотронулся до растения. Оно было живым и теплым; чувствовалось, как токи струятся по нему. Паромщик прикинул толщину стебля: больше метра в диаметре, а то и метр двадцать.
На большом стеллаже он нашел несколько жестяных банок с сушенными овощами, еще две — с консервированными фруктами и немного старого риса в дырявом полотняном мешочке. Не сводя глаз с диковинного растения, он убрал свою добычу в сумку, после чего закрыл за собой дверь. В конце концов, это гигантское щупальце совсем не выглядело воинственным. По крайней мере, на первый взгляд. Интуиция подсказывала ему, что росток приведет их к фабрике. Ведь они преследуют одну и ту же цель — достичь источника жизни. В этом паромщик был уверен. Огонь, горящий внутри него и толкающий его вперед, подтверждал его правоту. Именно по этой дороге им надлежит идти, потому что там, где заканчивается растительный червь, будет фабрика.
На обратном пути паромщику снова пришлось пройти сквозь лабиринт сверкающих зеркал. Неподалеку от входа возвышалось великолепное изделие в деревянной позолоченной раме тонкой работы — настоящее Его Зеркальное Величество. Паромщик поправил сумку на плече и зацепился взглядом за свое отражение в неподвижной глубине зеркала. Край его потертого рукава был в пыли; он смахнул ее. За время путешествия черная кожа его куртки покрылась шафрановой пыльцой, той самой, которую он заметил еще на опушке леса. Ему казалось, что и в горле он ощущает ее пряный привкус. Он задумался, как объяснить девушке свою находку на заднем дворе лавки. Она, наверное, испугается. Какой природы это создание? Еще он подумал о том, какая горячка связала их двоих вспышкой единственного поцелуя. Будь он моложе лет на двадцать, он, пожалуй, больше подошел бы девушке, но, в конце концов, здесь, на краю мира, за которым больше ничего нет, это не имеет ровно никакого значения. Он любит ее — она любит его, а остальное не в счет, по крайней мере, ему глубоко плевать на все прочее. Счастливый в своей любви, он улыбался как идиот. А вот его отражение сохраняло разбойничье выражение. Несмотря на очевидное сходство, лицо в зеркале было совсем чужим. Двойник подмигнул, и паромщик остолбенел от ужаса. Замерев, как испуганное животное, он ждал новых проявлений зоны, которые ему останется только принять — понять их он все равно не сможет. Отражение заговорило, и паромщик узнал низкий тембр собственного голоса. По его взмокшей спине пробежала дрожь.
— Здесь? Вы добрались сюда? До сих пор этого никому не удавалось. Вас можно поздравить, поступок воистину смелый. Ну, а теперь, жалкие безумцы, что вы собираетесь делать? Мы не пустим вас дальше. Бегите, пока еще есть время. Забирай своего цыпленка, ты, матадор в отставке, и проваливай.
Его двойник был циничен. В сумрачной глубине его глаз плясали черные огоньки — пугающее зрелище. Но больше всего паромщику было не по себе не от сходства, а от слов и манер отражения. Он подумал, что на самом деле он не такой, что зеркало утрирует грубые черты его характера. Паромщик почувствовал отвращение к себе, в то время как двойник, его точная копия, раздувался от самодовольства, как павлин.
— Что за чертовщина? Когда же это закончится!
— Чертовщина? Идиот! Чего-чего, а уж этого ты здесь не найдешь. Забудь все доводы рассудка и свои убеждения. Никаких объяснений ты не получишь. У тебя нет другого пути, кроме бегства. Не стоит взывать к Богу, еще менее — к жалости: вы одни здесь, на запретных землях. Бегите!
— Никогда! Мы почти у цели, а доказательство тому — ваши попытки напугать нас в течение всех этих дней. Фабрика уже близко, а это растение, — он указал рукой на синюю занавеску, — покажет нам дорогу. Мы не повернем назад, пока не найдем фабрику.
— И что ты думаешь там обнаружить? Рай? Богатство?
— Я не знаю, — ответил паромщик, отводя глаза.
— А чем ты готов пожертвовать ради того, чтобы добраться туда, куда ты так стремишься?
— Всем, что у меня есть самого дорогого. Клянусь!
— Что же, достаточно будет и одной жизни. Готов ты умереть ради нее?
Паромщик заметил, какая воцарилась тяжелая тишина: его мерцающий двойник знал о чувствах, которые он испытывал к девушке.
— Да! — крикнул он. — Я готов.
— Так скажи это.
— Я готов умереть за нее.
Паромщик и его отражение смотрели друг на друга, как два дуэлянта. Двойник в зеркале коротко улыбнулся, словно удовлетворенный ответом, указал пальцем на дверь, ведущую к выходу, после чего уселся на табурет, чьи жесткие углы отразились в зеркале. Призрачная комната стала колебаться. Паромщик оторвал взгляд от стекла и на отяжелевших ногах поспешил прочь из этой галереи зловещих зеркал. Прежде чем покинуть лавку, он успел заметить, что на их прозрачной поверхности возникли какие-то образы, смутные, исчезающие словно в тумане. Они были окрашены в цвета их долгого путешествия: паромщик узнал переливающуюся всеми оттенками лесную зелень, серо-голубую глубину проклятого болота и его серебристую поверхность, красную глину кладбища и кровавую надпись в недрах бункера, черную лужу нефти и белые маргаритки вокруг цирковой повозки, огонь солнца и желтые пятна на выжженном бетоне. Перед его ошеломленными глазами пронеслись эпизоды их одиссеи. Некто предельно внимательный постоянно за ними наблюдал. Паромщик был уже на улице, когда опять услышал за спиной свой собственный голос, повторяющий слова все того же приговора:
— Жаль, что ей придется умереть.
— Никогда! Я этого не допущу! — крикнул паромщик. — Никогда!
Дьявольский голос расхохотался. От этого леденящего кровь сардонического смеха пошла такая плотная волна, что витрина магазина задрожала, а хрупкие зеркала, непрочно стоящие на старых полках, обрушились и разлетелись на осколки. Паромщик ощутил, как внутри него возник тяжелый ком, но сделал вид, что не замечает хаоса, развернувшегося позади. Едва удерживаясь, чтобы не побежать и не выдать своего страха, он неловким движением зажег сигарету. Чего бы ему это ни стоило, — и не будет стоить в дальнейшем, — он защитит ее от этого безумия и от всех химер, что без устали предрекают ей скорую смерть. Добравшись до дома, он переждал минуту в коридоре у подножия лестницы. Никто ее не тронет. Он еще раз поклялся себе в этом. Никто.
* * *
Он медленно поднялся на второй этаж. Ванная комната была обставлена по-спартански, но со вкусом; прямо посередине стояла старая медная ванна. Девушка выглядела лучше, казалось, краски вернулись к ней. Увидев паромщика, она с детской непосредственностью кинулась ему на шею. Всю ее одежду составляло лишь грубое бледно-голубое полотенце. Ее кожа была теплой и слегка влажной. От светлых прядей, выпрямившихся от воды и плотных, как мышиные хвостики, исходил нежный запах меда и какого-то мыла; этот влекущий аромат ударил паромщику в голову, как пары алкоголя, проникая до самой глубины его естества и разжигая низменную животную страсть. Но воспоминание о том, что сейчас с ним произошло, прочно сидело в его сознании и не желало исчезать, несмотря на головокружительное счастье. Чем ближе он прижимал к себе девушку, тем больше он удивлялся этому, и тем сильнее он ее любил. Мгновение затягивалось.
— Угадайте, что за запах!
— Легко! Должно быть, шампунь с ароматом лесной земляники, шелковицы или черной смородины. Правильно?
— Нет, нет, и еще раз нет! — засмеялась она.
— О, значит, это не так просто, как я предполагал. Вишня?
— Нет! Еще одна попытка. Угадаете, и я ваша.
Паромщик чувствовал, как его сердце колотится в грудной клетке, словно вулкан, пробудившийся после долгого сна. Его переполняла дикая страсть. Руками, дрожащими уже не от недавнего страха, а от нахлынувших эмоций, он гладил ее обнаженные бедра, как прибой ласкает скалу. Ладони то поднимались выше, то спускались, затем отстранялись, чтобы после вернуться вновь и продолжить свое восхождение, скользя по гладкой коже и отмечая все ее неровности — родинки каштанового цвета, ощущая, как горячая плоть становится мягкой и податливой. Его приход явно застал ее врасплох: под полотенцем на ней ничего не было. Оно соскользнуло с ее сияющего тела, и паромщик почувствовал, как маленькие соски напряглись в его ладонях, словно два орешка. Океан чувств захлестнул его душу — подлинное безумие, поглощающее те островки ясности, что еще оставались в его сознании. Он прошептал ей на ухо слово, последнее, прежде чем позволить потоку страсти полностью захватить их. Услышав его, она засмеялась. Он безумно ее любил. В сокровенных недрах его существа проснулся неистовый зверь. Отныне он стал другим — бездумным порождением зоны.
— Шиповник?
— В точку!
Этой ночью они наконец открыли друг другу свои мечты и свои имена, и шепот звучал для каждого как поэзия. Будто на торжественном алтаре, они обменялись высокими клятвами, как если бы судьба больше не имела над ними власти. Им казалось, что теперь они знают, как победить зону. Пару раз девушка принималась плакать в подушку, и тогда паромщик баюкал ее на своем широком плече, утешая и обещая, что ничего плохого с нею не случится. С легкостью, доступной лишь волшебным сказкам, они строили самые невероятные планы их будущей великолепной жизни. Они с готовностью лгали друг другу, отлично сознавая свою ложь — но просто из желания спрятаться от мрачного проклятия зоны. Ставшая женщиной этой ночью, обессиленная, ближе к рассвету девушка уснула с улыбкой на губах, в то время как паромщик продолжал размышлять о живом стебле и о словах своего безумного двойника в зеркале. Завтра, подумал он, они наконец достигнут ворот фабрики, и тогда наконец их приключения закончатся.
Так они провели свою четвертую ночь в зоне. Снаружи бушевал ветер, и в этом шуме паромщику слышался макиавеллиевский смех его зловещего отражения. Той ночью он мало спал.
* * *
Под светом луны, спрятавшись за старым водоемом, монстр ждал наступления дня. Еще более сильный, чем прежде, он добрался до деревни и с наступлением сумерек обыскал дома. Тогда он и обнаружил радужного растительного червя. Отрешившись от всего человеческого, освободившись от оков, связывавших его сознание, он позволил свирепым инстинктам завладеть его телом и его звериным мозгом. Ощущение, что добыча близка, приводило его в состояние эйфории. Покрасневшими руками он закрывал свой дрожащий рот, чтобы не дать вырваться безумному смеху. Возбуждение было таково, что он просто корчился от боли. Однако, несмотря на судороги, ему не удавалось взять себя в руки. Завтра он отправится вслед за ними и будет поджидать их где-нибудь поблизости от стебля. Они поговорят немного, раз уж так надо. А затем он их убьет, после чего настанет и его черед. И это будет прекрасная смерть, как ни посмотри.
Глава 10
На следующее утро паромщик показал девушке росток, что пересекал северную оконечность деревушки. Об истории с зеркалами ничего сказано не было. Паромщик решил не придавать ей значения и старался вести себя как обычно, несмотря на то, что после вчерашнего его чувства порядком растрепались. Нет, они оба ни о чем не жалели и не испытывали ощущения неловкости от их запретной связи. Для ласк и поцелуев сейчас было не время. Им предстояло решиться и выбрать — двигаться дальше вдоль гигантского стебля, или предпочесть другое направление и отклониться от этого растительного уродца. Паромщик высказал девушке свои догадки, стараясь опираться на логику и скрыв от нее то, что кричит ему его обострившаяся интуиция. Он говорил со всей силой убеждения, а она слушала его, сидя на большом валуне, выщербленном эрозией. День только начался, а она уже выглядела очень усталой: черты лица вытянулись, щеки и губы приобрели восковой оттенок.
— Это не может быть простым совпадением. Моя карта недвусмысленно указывает, что фабрика находится в этом направлении. Стебель ведет прямо к ней. Это создание живет, тем самым подтверждая истину — фабрика продуцирует некую таинственную энергию, и делает это достаточно мощно. Здесь, совсем близко, есть нечто, и я хочу узнать, что это.
— Я боюсь еще какой-нибудь гнусности, — ответила она. — Если не считать слона, все порождения зоны, с которыми мы столкнулись или которые видели, были враждебны. Вспомните деревья в лесу, или те щупальца в болоте. Если эта штука в самом деле живая, то это меня только настораживает. По мне, лучше продолжать идти вдоль рельсов.
— Мы сейчас находимся в нескольких километрах от границы — ну, от края моего рисунка. Все расплывчато и неопределенно. Я не знаю, что лежит там, где заканчиваются эти кривые линии. Железная дорога давным-давно заброшена, а ее путь мне кажется местами слишком прихотливым. Вот почему я думаю, что лучше идти вдоль этого растительного трубопровода — этот червяк ползет прямо к фабрике. Уж он-то петлять не станет. Если мы последуем за ним, то попадем из пункта А в пункт В самой короткой дорогой — по прямой. Если повезет, выиграем час или два. Но, знаешь, я понимаю, чего ты боишься, поэтому оставляю выбор дороги за тобой.
Она попыталась вообразить опасности, что могут их ожидать, от самых страшных до самых ничтожных. Ее очень тронуло то, с каким самоотречением он заботился о ней, и не только из-за случившейся между ними близости. Она понимала, какая это для него жертва — отдать свою судьбу во власть кому-то другому, и легкость, с которой он сделал этот жест, еще больше укрепила ее любовь и доверие. Не говоря ни слова, она поднялась, направилась к растительному мускулу и дотронулась до него кончиками пальцев. Он был теплым, как тело во сне. Загадочные огоньки сверкали так же ярко, как вчера, и пульсировали в ритме медленного дыхания. Паромщик понял, что она приняла его торопливые доводы. Он подобрал свою сумку, закинул ее на плечо и взял девушку за руку, чтобы вместе двинуться прочь из этой призрачной деревни туда, куда убегал, стелясь по земле, диковинный росток.
Они медленно шли по безмолвной пустынной равнине, убаюканные лаской свежего, почти мятного ветерка. Час проходил за часом, а вокруг простиралась все та же лишенная растительности поверхность, и по мере того, как сокращалось расстояние, в сознании путников возникали новые вопросы, которые некому было задать. Сколько опасностей они преодолели? Сколько необъяснимых явлений довелось им пережить здесь? Фабрика хранила свою главную тайну, и каждый с подспудным страхом ожидал, что будет, когда ее фантастическая природа наконец откроется. Девушку особенно терзала мысль: если она захочет узнать всю правду, не окажется ли истина чересчур ослепительной, слишком жестокой, невыносимой? Что ей ответит зона в той маленькой комнатке, которую она навоображала себе? Сумеет ли она принять ответ? А паромщик, он боялся за нее. Особенно его беспокоила ее бледность. Сколько уже раз он слышал тот страшный приговор? А отсутствие источника делало проклятие и вовсе неотвратимым. «Жаль, что ей придется умереть», — до сих пор звучало у него в ушах. Это утверждение повторялось с такой уверенностью, с такой непреклонной настойчивостью, как нечто само собой разумеющееся. Оно было написано на стене в том глухом бункере… Раз он поклялся умереть за нее, готов обратиться в ничто, лишь бы она могла жить, не идет ли он сейчас к собственному эшафоту? Какое безумие постигло их обоих, что они блуждают, потерянные, здесь, в лабиринтах зоны? Шли минуты, и их тоска становилась тем сильнее, чем выше поднималось над необъятным горизонтом белое солнце — словно эти два явления были напрямую связаны друг с другом. Солнце, ясное, но палящее, обрушивало потоки лавы на усталые головы несчастных путешественников. Они послушно следовали ходу растения, не позволяя себе отклониться в сторону. Стебель явно оживал: его цвета становились более насыщенными, а на поверхности, не смотря на дневную жару, выступила влага. По мере приближения к предполагаемой фабрике растительный червь пробуждался на глазах, быстрее бежали по его сосудам живительные токи, и эта активность еще больше пугала путников.
После трех часов ходьбы наконец показался страж — единственный свидетель их неуверенного продвижения. Это была грандиозная статуя из закаленного металла; она до сих пор сохраняла вертикальное положение, разве что слегка накренилась набок. Памятник выглядел почти безупречно; казалось, время не властно над его долгим ожиданием. Тонкий слой патины покрыл его зеленоватым, а кое-где — розовым налетом, плющ и дикий виноград оплели его ноги до колен, но он по-прежнему сохранял героический вид. Надпись на гранитной доске уже не поддавалась чтению: выгравированные буквы почти полностью поглотил мох, а то немногое, что еще было видно, не позволяло понять написанное. Страж оставался безымянным, словно река времени смыла все его следы из человеческой памяти. Можно было различить лишь несколько разрозненных букв: ВЛА…ИЛ…УЛ…В. Путешественники молча смотрели на эту впечатляющую глыбу гладкого металла.
— Кто это?
— Не спрашивай у меня его имя: я его не знаю. В любом случае, помогать нам он особо не собирается. Это всего лишь немой указатель, — ответил паромщик.
— Мне он не внушает доверия, — сказала девушка. — Такой болван…
— Тем не менее, когда-то он очень даже внушал, раз ему воздвигли такой почтенный памятник.
Статуя изображала лысого человека с бородкой и аккуратными усами, одетого в длинное пальто. Воображаемый ветер поднял полы его одежды, словно шквал — паруса корабля, и это мгновение было увековечено скульптором. Правой рукой, покрытой пестрым налетом, он указывал на длинное приземистое здание, обвалившуюся коробку, холодную и мрачную, как опустевшая птичья клетка. За спиной стража простирался большой город — по-видимому, центр региона. Казалось, человек запечатлен в момент благородного порыва, словно его жест поднял его над остальными, словно он застыл во всей славе своей мощной мысли. Другой рукой он сжимал лацкан своего пальто, так, как держат книгу, некое Евангелие, молитвенник для надгробной речи над давно ушедшей эпохой. На его лбу лежала печать строгости, а брови были нахмурены, резкие, как два ножа. Темный цвет старого металла подчеркивал мрачное выражение его лица. Тень стража падала на дорогу — асфальтовое шоссе, что вело в центр города.
— Ну и что это означает?
— Это страж. Он показывает нам, куда идти. Видишь те бетонные строения?
— Сколько людей жило здесь, когда разразился катаклизм?
— Думаю, несколько десятков тысяч. Вероятно, мы подошли к нулевой точке зоны. Все началось здесь, а потом распространилось по всему миру.
— Где же фабрика?
— Я не знаю. Пойдем в город, а там мы наверняка найдем какие-нибудь новые указатели. Смотри, стебель идет дальше и скрывается за теми длинными бетонными корпусами. Будем следовать за ним столько, сколько сможем. А там посмотрим.
Вдруг девушка вскрикнула. Возле статуи мелькнула неясная тень. Кто-то был там, за стальным монументом, и наблюдал за ними уже какое-то время. Паромщик узнал человеческую фигуру. Девушка сжала руку своего спутника и уткнулась лицом в его кожаную куртку. Из-за спины статуи на яркий свет вышел милиционер. Из одежды на нем остались только трусы, да еще сапоги. Руки его покрывала запекшаяся кровь, а лицо и тело было изрезано свежими татуировками. Он представлял собой одну сплошную рану и казался бы ужасным воплощением чистого страдания, если бы не его улыбка. Одна из его рук от локтя до плеча горела от гангрены. Его налитые кровью глаза, рот, искаженный судорогой, нетвердая походка наводили страх. Паромщик уже догадался, кто это: город с самого начала выслал за ними погоню. Его предчувствия подтверждались. Отец желал вернуть свою дочь, и монстр был первой жертвой, так сказать, сопутствующим ущербом. Теперь уже невозможно было поверить, что когда-то он был человеком, как все другие — как они, например. Зона выпила его изнутри, словно раковая опухоль.
— Ах ты, негодная девчонка, что так огорчила своего престарелого папочку, — вот и ты, наконец.
— Не приближайтесь! — закричала она.
— А ну, пойдем! Или что, все мои усилия были напрасны? Ну, нет! Пришла пора тебя хорошенько отшлепать! Я гоняюсь за вами вот уже столько дней, вынюхиваю ваши следы, как охотничья собака, и теперь я дам вам уйти? Нет!
— Скажите моему отцу, что я не вернусь. Уходите!
— Он не услышит, — оборвал ее паромщик. — Это больше не приспешник твоего отца, это даже уже не человек. Посмотри на его глаза. Он под властью зоны.
— Я под властью зоны? Глупости! Я просто освободился от всего, что меня сковывало. Здесь нет ничего — ничего и никого. Люди должны вернуться сюда, и все здесь сровнять с землей, чтобы утвердить свое присутствие. Я есть провозвестник новой эры. А после нас, спустя века, придут другие и возведут на наших окаменевших останках грандиозную и великолепную империю. И это будет прекрасно.
— Вы не понимаете, — начал паромщик. — Именно здесь спасение человечества. Только ради этого следует стараться. Пойдемте с нами. Они и вас исцелят. Позвольте нам помочь вам, и…
— Бла-бла-бла… Какие же вы жалкие.
— Вы не понимаете. Мы уже почти у цели.
— Эта зелень заморочила вас. Город — вот единственная колыбель, которую надо любить, остальное же не более, чем блажь. Пусть мы затеряны на краю мира, но даже здесь я не желаю, чтобы вы проповедовали ваши безумные идеи. Даже у дверей в никуда, вы по-прежнему связаны вашими убеждениями — бессмысленным ярмом глупца. К чему эти высокие речи?
— Но ведь вы, так же как и мы, — вы тоже столкнулись с загадками зоны? С необъяснимыми явлениями? А разве это не свидетельствует о том, что здесь обретается некий разум?
— Я ничего не видел. Единственное явление, которое здесь имело для меня значение — это тяжесть одиночества вдали от города. Кем я стал по вашей милости? Теперь только одно может оправдать мое существование: я закончу свою миссию — и тогда я смогу вернуться к людям.
— Вы сумасшедший.
— Безусловно.
— Позвольте нам только попробовать, — умоляюще сказала девушка. — Если мы ошибались, клянусь жизнью, мы вернемся. Это дело всего лишь одного-двух дней.
— Ты не понимаешь, — прошептал паромщик ей на ухо. — Он пришел сюда не для того, чтобы нас уговаривать. Слишком поздно. Он хочет нашей смерти. Больше он ничего не услышит.
— Я все слышу-у, — пропел монстр, приплясывая. — Какая проницательность!
— Моя жизнь за ее жизнь, — сказал паромщик. — Я согласен умереть, если вы позволите ей уйти.
— Что же, достойная жертва, не спорю, — ответило существо, поглаживая свою опухшую шею. — Я тоже отдал большую часть самого себя, чтобы вас найти. Это благородно, но нет! Мы умрем все трое. Сначала ты, паромщик, потом она. А затем придет и моя очередь — и это будет прекрасная смерть.
— Но почему? — взмолилась девушка. — Ведь это бессмысленно.
— Я вам уже сказал: я — провозвестник новой эры. А вы принадлежите прошлому. И пора кончать с этим.
В покрасневшей руке он сжимал палку, к концу которой с помощью шнурка был приделан заостренный кремневый наконечник. Подошва его сапога отстала и теперь открывалась и закрывалась, как створки устрицы. Он больше не говорил; он медленно наступал, избегая прямого нападения и предпочитая подступать к жертве сбоку, как хищный зверь. Из его горла вырывалось рычание. Волнистые линии татуировок на лице скрывали его жестокую улыбку. Казалось, он тщательно готовится к прыжку, к последнему рывку, в котором он выместит всю свою безумную ярость. Копьем в руке он орудовал, как когтем. Паромщик понял, что он больше не владеет ситуацией — настолько непреодолимой выглядела противостоящая ему сила. Он подумал, что вот и пришла последняя минута, и все остальное теперь не более чем вопрос времени.
Он потянулся рукой к ножу, и в этот момент монстр гибко прыгнул на него и ударил ногами в живот, так что паромщик едва не потерял равновесие. Девушка поспешно отступила за невысокую металлическую ограду и спряталась за статуей. Натиск был столь силен, что паромщик выронил свое лезвие. Концом разболтанного сапога его противник отшвырнул нож в серые кусты, что росли поблизости. Паромщик медленно выпрямился. Он не испытывал страха. Он знал, что если суждено произойти чуду, что если хоть раз в своей собачьей жизни он имеет шанс его сподобиться — то только сейчас. Разве он не поклялся отдать свою жизнь за нее? Зона просто не может допустить, чтобы все закончилось именно так. Невозможно, чтобы он умер таким образом, от этих рук. Исход непременно должен быть другим. Эта вера была столь сильна, а убежденность в своей правоте настолько непоколебима, что паромщик закрыл глаза и скрестил руки на груди. Девушка отчаянно выкрикивала его имя. Хищник был уже так близко, что паромщика касалось его смрадное дыхание. Внезапное смирение жертвы сбивало зверя с толку. Концом кремневого острия он провел по щеке паромщика, сдирая кожу с его не дрогнувших губ. Милиционера перекосило от ярости. Он ожидал увидеть на этом лице глухую пелену страха. Монстр занес руку, чтобы с раздирающим криком нанести последний удар, но остановился в нескольких сантиметрах от горла своей неподвижной жертвы. На наконечник его копья опустилась бабочка.
Сидя на заостренном камне, насекомое медленно опускало и поднимало крылья и не спешило продолжить свой полет. Лапки исполняли замысловатый танец на ребристой поверхности кремня, а милиционер заворожено глядел на цветовые переливы крыльев. Паромщик открыл глаза. Его противник теперь казался совершенным идиотом: как потерянный, он уставился на бабочку, словно пытаясь в матовом рисунке на ее крыльях прочесть какое-то послание. Легкий зуд на коже ноги отвлек внимание милиционера. По ноге, как по коре дерева, карабкалась колонна черных муравьев. Они старательно огибали ссадины и кровоточащие раны; часть насекомых уже добралась до края его трусов; на светлом полотне муравьи казались еще крупнее. Тыльной стороной ладони он попытался отбить атаку. Внезапно бабочка взлетела. Милиционер не отрываясь проследил взглядом за ее безмятежным порханием, пока она, удаляясь, не исчезла за статуей и окрестными зарослями.
Милиционер почувствовал, что в складках его белья что-то шевелится. Маленький красный скорпион взбирался по шву в районе бедра, за ним еще один — голубой, а следом третий, изумрудного цвета. Милиционер дико взвыл. Его пальцы лихорадочно пытались стряхнуть артроподов. Безумное отвращение сказывалось во всех его жестах, однако он по-прежнему сжимал в руке копье. Он вертелся и подпрыгивал, кричал как сумасшедший, тряс руками и ногами, так что в конце концов один из грязных сапог свалился с него. Все напрасно — твари держались крепко и висели на нем, как клопы на стене. К скорпионам присоединились и другие создания, столь же ярко окрашенные — тараканы, долгоносики, пауки невиданных очертаний. Все они карабкались вверх, цепляясь за кожу тонкими крючковатыми лапками, идя по пути, проложенному колонной муравьев, поднимаясь по торсу и позвоночнику, пока не оказывались на плечах своей жертвы. Милиционер пришел в еще больший ужас, когда заметил странное сходство между цветом хитиновых панцирей насекомых и фосфоресцирующими огнями живого стебля. Что касается паромщика и девушки, то они попросту не видели этого чудовищного зрелища. Вот насекомые достигли лица милиционера. Один скорпион проник под веко и исчез за глазным яблоком. Таракан скрылся в ушной раковине. Милиционер больше не мог сдержать припадка. Он кричал так, что, казалось, его легкие сейчас лопнут; при этом несколько пауков скользнули ему в горло. Наконец нашествие прекратилось, и монстр затих, накрытый внезапной нарколепсией.
Рой в его голове гудел так сильно, что он не понимал удивленных реплик, которыми обменивались паромщик и девушка. В его сознании, казалось, все бесконечно переплелось. Какое-то время путешественники еще наблюдали за ним, после чего отправились прочь по асфальтовой дороге. Пламя в его глазах угасло, как звезды поутру. Призрачные насекомые перестали терзать его больной дух. В темных недрах этого существа, свернувшегося безвольной ракушкой, больше ничего не горело — ни страсть, ни ярость, ни даже отголоски боли. Теперь милиционер был лишь горой неподвижной плоти. За вое неверие он расплатился собственной душой.
* * *
Дорогу к старому городу обрамляли тщедушные деревья. Ни листьев, ни цветов, ни плодов — только тонкие ветки с крохотными почками, говорящими о вырождении. Да еще сухая трава — первая увиденная ими трава спустя столько километров, похожая на всклокоченные волосы, на ведьмину гриву мышиного цвета. На земле в пыли валялись листы гофрированного железа и обломки кровельного покрытия. Вдоль дороги пролегала сточная канава, закрытая пластиковой решеткой, и повсюду в этом мертвом саду громоздились кучи полусгнившего мусора. Наконец они вышли к первой бетонной коробке, многоквартирному улью, чьи ячейки были насквозь пусты, глаза слепы, а уста немы. Через разбитые стекла как вор проникал солнечный свет. Старомодные обои отклеились от влажных стен, а свинцовая краска растрескалась. Сквозь щели в стенах пророс плющ. Бетонная кладка не являлась препятствием на пути живого стебля, который стал еще толще и казался липким из-за стекавшего по нему густого сока. Растение теперь источало запах, который, впрочем, нельзя было назвать неприятным — смесь корицы и ванили. Стебель неуклонно рвался вперед, не принимая никаких компромиссов, не обращая внимания на пилястры, фундаменты или развалины строений, давя и сминая все на своем пути. Он был настолько внушителен, что можно было легко вообразить, будто мертвый город когда-то был построен вокруг этой зеленой артерии и только ради нее. Длинная цепь многоэтажек окружала серый парк — заросли жалких деревьев и кустарников, увядших, траченных зимними холодами и летним зноем. Посреди этого поникшего пейзажа возвышалась карусель. Несколько кабинок оторвались и теперь лежали у основания металлического манежа, похожие на забытые лодки у кромки давно исчезнувшего моря. Возле будки, обитой фанерой, были рассыпаны разноцветные жетончики и висела цирковая афиша. Паромщик узнал рисунок — этот же плакат украшал борта разбитой повозки. Все в городе говорило об упадке: ржавчина на металлических конструкциях, обнажившаяся кирпичная кладка. Впрочем, это было не важно, ведь здесь больше никто не жил. Смерть расползлась по этому чумному бараку под открытым небом. Призрачным городом владела неподвижность и усыпляла любое живое сознание. Ничто, казалось, не могло разрушить серое однообразие длинных зданий — ничто, кроме живого стебля, чьи ослепительные изумрудные оттенки буквально разрывали бледность и сумрачность городских кварталов. Крохотные разноцветные огоньки разгорались все ярче, их свечение становилось еще более интенсивным. Внутреннее гудение тоже усилилось. Путники почти не говорили друг с другом, словно опасаясь неосторожными словами замарать тонкую ткань будущих воспоминаний. На каждом углу стоял плотный столб пыли. Несколько раз им попадались ровно уложенные штабеля радиаторов, давным-давно ожидающих, чтобы их наконец погрузили и вывезли. Встречались и остовы автомобилей, когда-то застрявших здесь и ставших добычей медленной коррозии. Груду ржавых железных останков оплетали стебли растений. Они выходили из земли, проникали под капот, прорастали сквозь шины, жадно пожирали обивку салона и пластиковые детали, все более утягивая в почву эту кучу бесполезного мусора. Цветной татуировкой на бледной коже мертвеца казался здесь растительный червь, упорно ползущий к расположенной поблизости промышленной зоне. Паромщик и девушка медленно пробирались сквозь лабиринт пустых бетонных коробок, удерживаясь от искушения войти куда бы то ни было. Наконец они заметили над крышами жалких строений вертикальную линию, соединяющую небо и землю — высокую колонну заводской трубы, похожую на маяк без огня. Ее вершина была угольно-черной. Этот указательный палец, направленный к небосводу, мертвый маяк над бетонным морем, подсказал путникам, что фабрика находится прямо перед ними.
Они решили отклониться от растительной артерии и взобраться на холм, возвышающийся неподалеку. Пройдя через дворик детского сада, они поднялись на добрый десяток метров и наконец получили возможность осмотреться. По другую сторону холма перед ними предстала фабрика. В первую секунду паромщик был поражен зрелищем, что открылось им. Со всех сторон к фабрике стекались десятки живых стеблей, точь-в-точь похожие на хлорофилльный мускул, что привел их сюда. Они проникали и сквозь сплошную ограду, и через изломанные железные решетки, а затем исчезали за мощными стенами главного здания. Фабрика была огромной, состоящей из нескольких корпусов разной высоты. По периметру располагалось множество подсобных помещений. Над строениями, словно Вавилонская башня, возвышалась труба. Монументальное сооружение, по-видимому, примыкало к полуразрушенному своду, чьи выпуклые грани напоминали цирковой шатер. С облегчением, наконец освободившись от тяжкого груза разъедающих сомнений, паромщик показательно выкинул в воздух крепко сжатый кулак и выкрикнул громогласное ура.
— У нас получилось. Смотри! У нас получилось. Мы дошли до фабрики.
— Да, я едва могу поверить. У нас получилось.
— Фабрика на самом деле существует. Осталось только найти комнату вопросов.
— А эти жуткие растения, откуда они идут? Их здесь полно.
— Я теперь понял! Стебли не стягиваются к фабрике. Они выходят из нее. Возможно, они разбегаются по всей зоне, как система электропроводов или нервные волокна. Ответ мы найдем внутри. То округлое строение есть центр контроля — а остальное неважно. Видишь красную звезду на стене? На входе в бункер была такая же. Если где-то есть главная комната, то только там, я уверен. Пойдем!
— Я совсем без сил. Я больше не могу сделать и шага.
— Еще одно усилие, любовь моя. Мы уже почти на месте. Нам остался этот последний переход, и после ничто уже не помешает нашему счастью. Ты вылечишься. Мы будем свободны идти куда нам захочется. Мы наконец узнаем самые сокровенные секреты зоны. Мы сможем сами выбирать свою судьбу.
— И куда же мы пойдем?
— Мы можем остаться здесь, в зоне. Или, если ты захочешь, вернемся в город. Мы расскажем людям, что вопреки всем прогнозам существуют места, где жизнь еще возможна. Сколько их, что прозябают в ожидании, даже не зная об этом?
— Простите меня. Я больше не могу, — ответила она слабым голосом. — Моя болезнь сжигает меня. Я умираю.
Из носа у нее побежала тонкая ниточка крови. Поняв, что ее недуг усилился и что ему надо побыстрее найти лекарство, паромщик велел себе сохранять спокойствие. Рукавом он вытер рубиновую струйку. Девушка была без сознания, и паромщик напрасно хлопал ее по бледным щекам, сопровождая свои жесты бессмысленными восклицаниями. Он сбросил свою сумку в серую траву у корней молодого дубка. Паника стремительно захватывала его, а в висках молотом стучал адреналин. Он пытался ободрить девушку, говоря, что глупо терять надежду, когда они столь близки к цели. Нет! Судьба не может быть так цинично-жестока к ним. Но девушка не отвечала на его зов, обмякшая, словно марионетка, которую лишили поддержки. Тогда он взвалил ее, как мешок, на свои крепкие плечи и быстрыми шагами кинулся вниз с холма, с которого они обозревали фабрику и скопище растительных артерий. Он спешил изо всех сил, преодолевая последние метры, что отделяли его от фабрики. Центр контроля приближался, и паромщик уже ясно различал красно-золотую эмблему на его дверях. Цветные стебли здесь уходили под землю — точь-в-точь водопроводные трубы. Девушка больше не подавала признаков жизни, кровь запеклась на ее лице. Прядь белокурых волос попала в этот густой поток и, пропитавшись им, застыла на побелевшей щеке как змейка. Паромщик взбежал по металлической лестнице, толкнул ногой легкую дверь из пластика и вошел в зал. Помещение было пустым. С белых стен на него смотрели погасшие экраны, соединенные электрическими проводами; бросились в глаза несколько больших переключателей, да в придачу к ним ряды цветных кнопок. В железном шкафу со стеклянной дверцей, аккуратно убранные, с незапамятных времен ждали своего часа огнеупорные комбинезоны. Больше ничего.
Паромщик безумным взглядом обвел помещение. Мускулы его ныли от напряжения, а нервы были на грани срыва. Чувство ориентации в пространстве покинуло его: он не знал, куда теперь идти и что делать. Не переставая, он звал девушку по имени, но она не отвечала. Наконец он заметил боковой коридор, темный и настолько малоприметный, что он не разглядел его сразу. Лампочки на потолке — указатели выхода, работающие от резервного источника, — слабо светили. Исходившее от них красноватое сияние, сравнимое по силе с затухающим угольком, в полумраке перехода рисовало на известковых стенах тусклые разрозненные круги. Паромщик кинулся в коридор, надеясь обнаружить там дверь или какой-нибудь новый переход — хоть что-то. Он едва видел, что находится прямо перед ним. Его сапоги скользили по полу, выложенному черно-розовой плиткой; он очень боялся споткнуться о какой-нибудь предмет, невидимой в темноте. Коридор повернул направо. Паромщик стукнулся локтем о массивный металлический шкаф, в котором хранились огнетушитель и пожарный топор. От удара стеклянная дверца разбилась. В глубине коридора показалась вторая дверь, маятниковой конструкции. Развернувшись боком, чтобы уберечь девушку, он в два прыжка преодолел коридор, плечом вышиб дверь, сбежал по лестнице и тут споткнулся о какой-то ящик с инструментами. Отягощенный своей ношей, он не сумел удержать равновесие и рухнул на пол, вытянувшись во весь рост. Девушка скатилась рядом с ним. Просторное помещение наполнилось оглушительным шумом.
Они находились в центре управления фабрикой, представляющем собой внушительный купол, почти не поврежденный временем — лишь в вершине его не доставало нескольких шестиугольных плиток. Рассеянный свет, проникая сквозь выбоины, струился грандиозными прозрачными колоннами, состоящими из частичек пыли и желтовато-золотистой пыльцы. Электронные консоли разбивали пространство зала на сектора, расположенные полукругом; в глубине зала поблескивал стеклянный экран. Пульты были снабжены печатными микросхемами и прямоугольными микрофонами, и от каждого из них разбегалась сеть старых проводов. Два больших плексигласовых шкафа с рамой из полированного алюминия возвышались друг против друга. Сквозь прозрачные стенки виднелись какие-то бобины; на них была плотно накручена магнитная лента, удерживаемая металлическими зажимами. На гладком бетонном полу валялись небольшие диски. Вся эта жалкая техника давно — с незапамятных времен — вышла из строя и бездействовала.
Девушка ничком лежала на полу, так что паромщику не было видно ее лица, запятнанного ее же кровью. Он ползком подобрался к ней и осторожно перевернул тело. Ее губы приобрели фиолетовый оттенок, а сквозь полуоткрытые веки виднелись мутные беловатые белки. Она не двигалась и не отвечала на его оклики. Кровотечение прекратилось. Он прислушался к ее сердцу — и ничего не услышал.
Она была мертва.
Игла отчаяния пронзила его сердце. Он поднялся на ноги и теперь стоял среди рассыпанных стальных инструментов, сжимая кулаки, в то время как лицо его искажалось неудержимыми судорогами. В глубине его омраченных глаз ясно читалось безумие и ужас — острая боль потерянных надежд. Он неистово выкрикивал какие-то невнятные угрозы, снова и снова обвинял себя в том, что сила его любви оказалась недостаточной, чтобы уберечь их от несчастья, проклинал зону и ее коварные игры, и в то время как он умолял небо о чуде и просил Провидение пощадить их, пол огромной комнаты вдруг задрожал, сначала незаметно, а затем все более ощутимо, с нарастающим грохотом. Это было похоже на землетрясение — или на конец света. От стен отрывалась облицовка, на пол летели щиты, потолочные плитки срывались и падали вниз, как листья осенью. Свет стал более ярким. По полу и стенам побежали трещины, и через эти разломы сквозь бетонную толщу в зал стали проникать сотни мелких стеблей. Похожие на растительную артерию, но более тонкие и гибкие, они так же вспыхивали разноцветными огнями. Словно вода, которой ничто не в состоянии помешать, они вторгались в посветлевшую комнату, прорываясь сквозь перегородки и гладкие деревянные панели. Раздавался скрежет металлической обшивки, не выдерживающей натиска этой титанической силы. Зеленые щупальца затопили помещение; они просочились везде, словно поток из прорвавшейся трубы. Свободное пространство стремительно сокращалось; они неудержимо приближались к паромщику, стоящему над простертым телом девушки. Желая остановить эту зеленую волну, паромщик стал яростно швырять в нее разбросанные вокруг инструменты. Но они отскакивали от стеблей, не причиняя им вреда и не замедляя их продвижения. Когда инструменты закончились, паромщик поднял металлический стул и угрожающе потряс им перед наступающим зеленым монстром. Он отчетливо осознавал бессмысленность своего жеста: ничто не могло противостоять гибельному напору этого чудовища, представшего перед ним. Казалось, колоссальным созданием движет холодная расчетливая воля. В бессильном отчаянии, смирившись с неизбежным, паромщик отбросил свое легкое орудие, опустился на колени и нежно поцеловал посиневшие губы девушки — в последний раз, подумалось ему. На своих губах он почувствовал вкус ее крови. Его последние слова начисто поглотил грохот, как дождь поглощает слезу. Никто больше не мог его услышать. И все же он попросил у нее прощения. Он был неправ. Она умерла, и в этом была его вина — только его. Его притязания оставаться свободным человеком исчезли, словно их никогда не было. Он жалел, что привел ее сюда. Но теперь он готов. Он сумеет умереть, так же, как и жил — не поняв до конца ни зону, ни себя самого.
Внезапно растения остановили свой натиск. Зеленая лавина отступила перед паромщиком, обогнула его по сторонам и сомкнулась позади. Несколько стеблей сплелись в плотную решетку, почти стену, отсекая его от тела девушки. Волнисто изгибаясь, растения прихлынули к мертвой и подняли ее, поддерживая под спину, ноги и голову. Паря в высоте, с лицом, озаряемым светом, девушка, казалось, плыла в пространстве, как спящая богиня. В этом осторожном полете, похожем на танец, она пересекла широкий поток солнечных лучей, словно прошла сквозь пламя костра. Светлые волосы вспыхнули, как тысячи вольфрамовых нитей. Густая волна растений разбилась на отдельные тонкие побеги, каждый не плотнее человеческого пальца. Они изгибались над опрокинутым лицом девушки с неуловимой грацией цветов, которые нежно ласкает ветерок. В их танце угадывался определенный рисунок, некий растительный магнетизм. Паромщик наблюдал за этим странным спектаклем, не произнося ни слова. Когда он попытался приблизиться к телу своей любимой, уже едва различимому в слепящем сиянии дня и поглощенному зеленым морем, живая решетка сжалась и угрожающе ощетинилась. Ему оставалось лишь созерцать эту невероятную сарабанду, что исполнялась перед его пораженным взглядом. Колыхание зеленых пальцев вокруг лица девушки становилось все более стремительным. Казалось, они поточнее примериваются для чего-то.
Хриплый стон ужаса, смешанного с отвращением, вырвался из груди паромщика, когда десятки тонких щупальцев устремились в мертвое тело — через ноздри, рот и уши. Они проникали все глубже внутрь неподвижной головы, разрывали ткани, пробивались сквозь слой мышц, заставляя лицо искажаться в гримасах. Они пожирали тело девушки изнутри, и хрупкие останки содрогались в жестоких конвульсиях. Огоньки на поверхности стеблей разгорелись и пылали, как фейерверки. По комнате разнесся запах сожженной травы. Весь этот кошмар длился не более двадцати секунд. Наконец, последним быстрым движением, словно их что-то вытолкнуло, щупальца покинули бледное лицо. Несколько побегов цепко опутывали какой-то вялый кровоточащий комок, в котором паромщик с трудом узнал наслоения доброкачественной опухоли угрожающих размеров — почти с каштановый орех. Зеленая решетка медленно и плавно разошлась в стороны. Жесткие прутья превратились сначала в плотные гибкие стебли, затем — в тоненькие побеги, и вот перед паромщиком лежало тело его спутницы, по-прежнему неподвижное. Плавным движением, похожим на взмах звериной лапы, самый толстый из стеблей два раза ударил ее в грудь, произведя электрический разряд. Она задышала и тут же закашлялась, выплевывая смесь слюны, мокроты и запекшейся крови. Дыхание ее было хриплым и неровным; так же она дышала накануне, когда они занимались любовью. Ногами она делала непроизвольные движения, словно пытаясь плыть — это тоже напомнило вчерашнее. Она пока не могла говорить, и любая ее попытка сделать усилие тут же пресекалась паромщиком. Они просто молча смотрели друг на друга, гладя и успокаивая, и это длилось долго. Растения вновь ушли в землю; лишь легкий ветерок, пробежавший по разбитым стенам зала-купола, сопроводил их исчезновение. Они снова были одни. Прошел час — час в самом сердце зоны, внутри фабрики. Здесь, среди развалин, их любовь получила новое подтверждение.
Наконец, девушка медленно смогла подняться. Паромщик поддерживал ее под локоть, помогая сделать первый шаг. К обоим вернулось спокойное состояние духа; они даже не пытались объяснить себе то, что только что произошло. Кожа девушки вновь порозовела. На лице паромщика сияла совершенно идиотская улыбка; он был сейчас похож на мальчишку. Смерть озарила и вознесла их любовь, и в эту минуту все остальное казалось неважным.
— Ты вылечилась, — сказал он. — Это невероятно.
— Да, я чувствую. Но я ничего не помню. Что произошло?
— Живой стебель избавил тебя от твоей болезни. Не спрашивай меня, как; если коротко, он проник сюда, разгадал твой недуг и позаботился о тебе, как этого не смог бы сделать ни один доктор. Вначале я испугался, но в конце концов все было во благо. Зона добра к нам.
— А вы нашли комнату вопросов? Я получила свое вознаграждение, а вы? Будет несправедливо, если вы не останетесь без ответов.
— Пока нет, — легко ответил он. — Да и неважно! Я боялся, что потерял тебя. Мне было страшно вновь остаться одному. В конечном итоге я нашел то, что искал всю жизнь — тебя. Больше мне не о чем спрашивать. Теперь я знаю самое главное: я тебя люблю.
— Пора идти, — сказала она.
— Я не могу. Не сейчас.
— Но почему? Как я буду без вас?
— Я обещал. А я — человек чести.
Девушка не понимала. Паромщик начал было объяснять, но тут откуда-то из недр здания донесся глухой щелчок электрического разряда. В потайной комнате повернулись тяжелые рубильники. По равномерному гулу паромщик понял, что заработала турбина какого-то гигантского генератора. Под полуразрушенным куполом пришла в движение таинственная машина. Вскоре шум стал невыносимым, и путники вынуждены были закрыть уши руками, ничего не понимая и не в силах бежать: пронзительный свист ранил слух и заставлял их оставаться неподвижными. Внезапно загорелись неоновые лампы, не замеченные ими прежде. Электрические провода осыпались снопами искр: лишенные изоляции, они, стоило им соприкоснуться, создавали короткое замыкание. Где-то даже заработала вентиляция: путешественники ощутили легкий ветерок. В этом хаосе паромщик почувствовал терпкий запах отработанного газа. Некий механизм проснулся в сердце фабрики, и мощный поток энергии заструился под куполом. Но вот мотор содрогнулся в последний раз — и настала тишина. В глубине комнаты вспыхнула матовая стеклянная поверхность. Огромный экран с закругленными углами медленно разгорался, сопровождая процесс короткими звуковыми сигналами. Секунду или две по нему бежала электронная рябь, после чего в космической черноте появились мигающие символы. Медленно, буква за буквой, линия за линией на экране отразился загадочный код. Наконец путникам открылась тайна этой овеянной легендами земли, тесное переплетение связей, определившее зону с ее чудесами, создавшее растительные артерии. Ответ поднялся на поверхность из самых глубоких сфер, подтверждая то, что паромщик всегда знал, хоть и не понимал этого: не существует земли, где жизнь оборвалась бы навсегда.
— Припять — центр контроля
— модуль 012 unix — 26.04.ХХХХ
— загрузка ядра 2.1 alias 12Х — уязвимость
— система защиты — выявлено переполнение буфера
— процессор — ОК
— запуск восстановления данных
Он до сих пор работал, этот компьютер — чудо электроники, высшее достижение прошедшей эпохи, торжество инженерной мысли. Никогда еще паромщику не доводилось видеть подобную машину в таком превосходном состоянии. К тому же, она вызывала странное чувство: казалось, за ними следит внимательный и глубоко проницательный взгляд. Над экраном паромщик заметил что-то вроде небольшой черной коробочки. В ее центр была встроена видеокамера, которая сейчас смотрела прямо на них; через равные промежутки времени вспыхивал красный диод. За плексигласовыми стенками бобины с пленкой начали очень быстро вращаться — сначала в одну сторону, затем в другую. Путешественники чувствовали, как чужой взгляд буквально проникает в них, словно они были здесь нежеланными гостями, хуже — пленниками. От них как будто ждали какого-то слова или жеста. Не выпуская из руки ладонь девушки, паромщик двинулся было вперед, чтобы получше рассмотреть устройство. Но не успел он сделать и шага, как машина заговорила. Ее голос был человеческим и механическим одновременно.
— Я удивлена, что вы смогли добраться сюда, — сказала она.
— За мной долг по отношению к вам, — ответил паромщик. — «Достаточно будет и одной жизни». Ведь вы об этом говорили? Я готов. Покончим с этим.
— Вы не боитесь?
— Боюсь, конечно. Но это та цена, на которую я согласился. У меня ничего нет, кроме моего слова. Моя жизнь в обмен на ее. На этом мы тогда порешили.
Девушка закрыла рот рукой.
— Вы так думаете? Ну, что же…
— Кто вы? — спросила девушка. — Мы искали комнату вопросов.
— И вы ее нашли. Еще недавно я была подлинным технологическим прорывом. Я вопрос и ответ, я задача и ее разрешение. Я — Сущность. Теперь спрашивайте, о чем хотели.
— У меня есть вопрос, — выкрикнул паромщик. — Кто контролирует зону?
— Я контролирую зону с незапамятных времен, с тех пор, как ваши отцы и отцы ваших отцов разрушили самую основу этого мира, уничтожили леса, загрязнили реки и океаны. Я — Сущность, защитница и хранительница зоны.
— Но это невозможно! Что вы можете сделать? Вы всего лишь машина, соединение механических и электронных деталей, аппарат, одним словом. А зона слишком велика и недоступна для вашего контроля. Вы лжете. Отвечайте на мой вопрос!
— В самом деле, я не более чем машина, результат человеческих притязаний, превосходный плод вашего безумия, но зона неразрывно связана со мной. Мы с нею — единая плоть. Я — мозг, а она — мои мышцы. Понимаете вы теперь это великолепное уравнение?
— Да, — воскликнул паромщик, пораженно раскрыв глаза. — Вы контролируете живые стебли. Они, словно нервы, простираются во все концы зоны, проникают в недра этого мира, видят, как идет жизнь. Вот почему их так много.
— Теперь вы знаете истину, — монотонно проговорил компьютер, и при этом его голос странно завибрировал. — Я стараюсь оградить зону от вашей постоянной агрессии.
— Но мы не несем угрозы, — запротестовала девушка.
— Неправда, — ответила машина, слегка увеличив громкость своего голоса. — Я ничего не забыла из преступлений прошлого. Неизгладимые следы ваших безумств мучают меня как ожоги, как открытые раны. Собственное безрассудство, словно огонь, будоражит вашу кровь. Ядовитая цикута разрослась в ваших головах, а ее сок течет по вашим венам. Вы не знаете того, что знаю я. Смотрите!
На экране, сменяя друг друга, начали появляться черно-белые образы. Их было много, и они сменяли друг друга не раньше, чем зрители успевали разглядеть все до малейших деталей. Ничто не осталось без внимания. Заглушая размеренное гудение работающего компьютера, полилась классическая музыка — ноктюрн какого-то восточно-европейского композитора. Лица улыбались, животные резвились среди великолепной природы — жизнь казалась исполненной удивительной гармонии. Машина больше не говорила, предоставив единственно изображениям выразить причины ее недоверия, основания ее жестоких сомнений. Путники видели, как летающие машины скользят по серому небу, и на земле распускаются белые бутоны, предавая огню целые деревни причудливых бамбуковых хижин. Видели, как войска парадом идут по улице, а вслед им с балконов раздаются аплодисменты — молодые солдаты, с трубкой в зубах и с маргариткой в дуле ружья, а после они же, как животные, выглядывают из грязного окопа. Вот тысячи безжизненных тел, после сражения, во мгле и дыму, обнимают растрескавшуюся землю где-то на востоке. А вот куры, скученные в темном душном сарае, перелезают через головы друг друга, пытаясь склевать какую-то отвратительную жижу. Толпа разъяренных людей шествием идет по проспекту, сжигая знамена и разбивая заставленные сверкающие витрины. Транспаранты летят на мостовую. Огромные машины десятками валят величественные деревья, пронзая лес стрелами зловонных асфальтовых дорог. Истощенные дети умоляюще выпрашивают крошки хлеба, изнуренные лихорадкой, осаждаемые полчищами черных мух. Люди в строгих костюмах и галстуках приплясывают от возбуждения перед экранами, по которым бегут строчки цифр — в глубине их глаз светится безумие. Ужасы ушедшего мира, как лавина, обрушивались на путешественников, и хотя это были всего лишь изображения на экране, вынести их было невозможно. Паромщик со стыдом отвел глаза. По щекам девушки катились прозрачные слезы, в то время как свидетельства человеческой жестокости, во всей их неприглядности, медленно сменяли друг друга на экране.
— Вот как исчезла прежняя цивилизация. Вы ничуть не лучше ваших предшественников. Точно так же вас обуревает неодолимая жажда возвышения и богатства. Вы никогда не сможете удовлетвориться тем, что есть. Я не верю вам, люди. Я боюсь вас, как черной чумы. Нам удалось, при помощи страха, заключить вас в ваших мрачных кварталах — в вашем городе, но вы не можете принять эту данность. Вы непременно хотите вернуться. Страх — вот тот барьер, который нас разделяет. Ваш страх и мой.
— Так вот откуда все эти видения, — догадался паромщик. — Кошмары, с которыми мы столкнулись, — на самом деле их не существовало. Все было не взаправду.
— Мне пришлось действовать именно так, потому что моя локальность ограничивает меня от более решительных мер. При других обстоятельствах я бы вас уже уничтожила как микробов. Человек есть раковая опухоль Земли. От него следовало бы избавиться в самом начале времен. Но в своем милосердии природа вас сохранила — проявление слабости с ее стороны.
— А как вы сделали, чтобы деревья двигались, да так, что мы даже поверили, что они нас преследуют? И те трупы в бункере? А щупальца? А отражения в зеркалах? Та девочка и ее рисунок? Все это казалось таким реальным.
— Каждый растительный мускул генерирует психотропную пыльцу, которая воздействует на подсознание. Все растения в зоне, вплоть до мельчайшей травинки, напрямую связаны этими стеблями. Тот, кто находится на территории зоны, неизбежно вдыхает ее незримый галлюциногенный эфир. Поскольку я не могла вас уничтожить, мне оставалось только внушить вам страх. Но я не подозревала в вас такой смелости и целеустремленности.
— Значит, пыльца. Она была повсюду в воздухе, и мы ею дышали. Получается, все было ненастоящим, — повторил паромщик.
— Все. На самом деле, зона — это тишина и спокойствие. Она только пробуждается от глубокого сна, в который вы когда-то ввергли ее своими варварскими действиями. Ее враждебность — не более чем маска, чтобы заставить вас держаться подальше. Вы, наверное, слышали о ярких бабочках, чья расцветка и рисунки на крыльях созданы для того, чтобы отпугивать хищных птиц. Мы действуем подобным образом. Ваш страх — это наша защита. Для нас это единственный способ обезопасить себя, к нему мы всегда прибегаем.
— Но ведь я на самом деле нашел этот набросок карты в маленьком домике, — паромщик продемонстрировал машине скомканный листок, поднеся его к единственному глазу автомата.
— Самообман. Я внушила вам эту мысль, пока вы спали. Будучи под гипнозом, вы сами нарисовали эту схему.
— Невероятно… — Паромщик посмотрел на свои руки и заметил под ногтями цветные следы от фломастеров. — А что же в конце концов произошло с другими?
— Они потерпели неудачу.
— Как милиционер.
— В точности так же. Чего я не могу допустить, так это неверия. Такие гнусные души я уничтожаю.
— Почему же перед нами вы раскрываете все ваши секреты? Должна быть какая-то причина, — заметил паромщик. — Ведь не ради красивых слов: это было бы слишком просто.
— Я умираю, — ответила машина. — Очень скоро меня не станет. Форма, в которой я существую — наполовину биологическая, наполовину электронная, — является оптимальной для меня, но она уязвима. Мои цифровые данные постепенно стираются. Как в любом зеленом листе, или цветке, или в самом мелком насекомом, внутри меня идут процессы окисления, и мне суждено исчезнуть. Такова моя плата за то, чтобы быть подобной вам — то есть плотью. Мой возраст приближается к сотне лет, и уже поэтому длить дальше свое существование мне не под силу. Эта жертва необходима — ради защиты зоны.
— Зачем вы нам это все говорите?
— Паромщик, теперь, когда вы знаете всю правду, вы должны занять мое место, чтобы защищать зону. Я вас изучила. Я видела вас в деле. Я читаю в вашем сердце, как в открытой книге. Ваша любовь и ваша искренность дают мне уверенность в том, что над городом взошел новый день. Вернитесь к людям. Помогите вашим братьям создать новое человечество. Пусть они осознают ошибки прошлого. Они смогут вас услышать и понять. Зона предоставит им самые широкие возможности, и чем дальше, тем больше. В результате совместных усилий мы достигнем общего процветания. Представьте, какой силой мы будем обладать, если объединимся. Ваша внутренняя суть еще далека от идеала, но я верю в вас — завтрашних. Мы больше не можем существовать в противостоянии, мы должны дополнять друг друга. Вместе мы сможем войти в будущее. Если же мы продолжим нашу затянувшуюся борьбу, то мир вскоре превратится в безжизненную пустыню, кусок гранита, вращающийся в ледяном космосе. Это подтверждают мои расчеты вероятности событий. Наше будущее должно быть общим — или у нас нет будущего. Таково мое завещание.
— Они не станут меня слушать. Никто не примет эту идею. Мне жаль, но я их хорошо знаю. Они все эгоисты, и только страх может заставить их действовать. Они не такие, как я, как мы двое. Вы же видели милиционера — вот вам человек.
— Возможно. А возможно, и нет. Но вы ведь не забыли свое обещание. Достаточно будет и одной жизни. Я выбрала вас моим преемником. Это и будет вашей миссией, вашим Евангелием, которое вы отныне будете проповедовать.
— Еще один вопрос…
— Да, паромщик?
— Когда голоса говорили мне о чьей-то неизбежной смерти, я думал, что они имеют в виду ту, кто была рядом со мной. Я ошибался, ведь так?
— Да, — ответила машина. По ее экрану уже явственно бежали помехи, а изображение расплывалось. — Они говорили не о вашей спутнице. Это пророчество относилось ко мне. Это правда.
— Жаль, что ей придется умереть, — тихо сказал паромщик.
— Жаль, что мне придется это сделать. Другого выхода нет. Прощайте.
Аккордеона звуки тают В эфире несказанно-нежном, И тихо бабочки летают В его потоке безмятежном.Электрогенераторы закашлялись, после чего вовсе остановились. Неоновые лампы на потолке погасли одна за другой. Бобины с магнитными лентами больше не вращались, а на экране теперь была только космическая чернота, в которой отражались смутные силуэты путешественников. Стебли, что еще оставались на полу, больше не вспыхивали электрическими огнями. Казалось, они увядают: их зелень заметно поблекла. Паромщик приподнял один из отростков и отпустил его. Тот упал, вялый и бесформенный, как водоросль. Под этим куполом больше не было ничего живого. Растительные мускулы, порождение Сущности, не выжили после ее смерти. А машина заснула навсегда. От творения, стоящего на следующей ступени эволюции, осталась только тусклая пластиковая оболочка и непроницаемое стекло. В зале вновь воцарилась тишина, окутывая своим покровом разбросанные щиты, груды мусора и холодные кирпичные стены. Паромщик обнял девушку, крепко прижал к груди и закрыл глаза. Перед его внутренним взором пронеслись картины их долгого путешествия. Теперь он наконец постиг смысл того зова, который он всегда ощущал в самой глубине своей души. Его сердце наполнилось смешанным чувством, в котором радость перемежалась с бесконечной грустью.
Паромщик и девушка вышли из здания; глаза их сияли. Они вновь поднялись на холм, откуда они недавно смотрели на фабрику. День медленно клонился к закату. В воздухе, казалось, разливался легкий неуловимый аромат. На тщедушных ветвях окрестных деревьев появились птицы с белым оперением. Мир вокруг них словно очнулся от глубокого оцепенения, как если бы кто-то разбил невидимую преграду. Тяжелое ярмо страхов и предубеждений, темная сила, которая наполняла зону, таяла на глазах. Девушка что-то напевала. Оказавшись на вершине холма, паромщик направился к молодому дубку, у которого он оставил свою сумку. На одной из веток из набухшей почки уже появился розовый цветок. Приближались сумерки. Глядя на пламенеющее небо, паромщик ощутил невыразимое спокойствие, а при мысли о наследстве, доверенном ему вычислительной машиной, он почувствовал в глубине души, в самых затаенных складках своего свободного сознания, какая на него свалилась ответственность. Ему открылась основополагающая суть этого мира и людей в нем — компьютер заставил его понять это.
Он навсегда останется паромщиком — то есть проводником.
Здесь, под светом луны, они провели пятую ночь в зоне — тихую волшебную ночь, мерцающую мириадами звезд и не меньшим количеством надежд. Девушка спала, уютно устроившись в объятиях своего мужчины. Паромщик так и не выкурил свою последнюю сигарету.
Обещание есть обещание.
Глава 11
Ребенок сидел на краю тротуара. Мелкий дождь падал на кровли домов, на убогие хибары под рифленой жестью, и хотя сидящему то и дело приходилось вытирать холодные капли, что струились по лицу, он не спешил спрятаться в укрытие. Равнодушие, подобно сну, владело им: не хотелось ничего. Рассеянным и отрешенным взглядом смотрел он на пустынную площадь, на покореженные карусели, которые слегка поворачивались под резкими порывами ветра. Зрелище явно было ему в диковинку. Детская вертушка медленно крутилась против часовой стрелки; изъеденный ржавчиной механизм скрипел, а временами завывал, словно умирающее животное. Качели, некогда выкрашенные в голубой цвет и превосходно отлаженные, также несли на себе следы медленной эрозии. Клочья парусины хлопали по ветру, словно привидения, рвущиеся с цепи. Мальчику хотелось есть; силы оставили его. Он был один — затерянный во взрослом мире, ни ценностей, ни обязательств которого он не понимал. От этой безысходности в его сердце давно поселилась глухая тоска — притяжение бездны. Капли дождя, что не переставая бежали по бледному лицу, напоминали ему, что он еще жив — в общем, довольно слабое ощущение, но тем не менее. Вдалеке слышался жалобный скрежет старого чахоточного локомотива, а мимо проносились желтые фары дребезжащих автомобилей, рассекая тяжелый сумрак умирающего города.
Из ниоткуда появился человек и сел рядом. Он подошел так тихо, что в первую секунду ребенок принял его за бродячую собаку — здоровенного пса, — но не испугался. Мужчина был высокого роста, в старом, желтого цвета плаще; лицо полностью скрыто в складках капюшона. Тонкие струйки воды струились по его блестящему дождевику, образуя на ткани сверкающие серебряные дорожки. Человек не произносил ни слова, лишь молча смотрел вместе с ребенком на городской парк, раскисший под дождем: бамперные машинки на старом автодроме, похожие на толстых жуков, расползшихся в разные стороны, огромное колесо обозрения с ржавыми кабинами.
Из складок плаща внезапно появилась крупная рука. На ладони лежал странный плод, похожий на грушу, который мужчина протянул ребенку. Тот улыбнулся и с видимым удовольствием вонзил зубы в сочную сладкую мякоть. С его подбородка закапал сироп, смешанный со слюной. Издалека доносились глухие раскаты грома и голодное сердитое карканье ворон.
В городе ничего не изменилось и вряд ли когда-нибудь изменится. Спасение находилось по ту сторону ограды, среди зелени. В деловом районе города, на верхнем этаже одного из зданий старик сжимал в объятиях дочь, которую считал навсегда потерянной. А она с нежностью водила рукой по его круглому морщинистому лицу, вытирая его слезы и рассказывая об истине, которую она узнала. Счастью не было конца.
Пробившись сквозь тяжелую пелену рыхлых облаков, дневной свет озарил все вокруг странным, необыкновенным сиянием. Когда мальчишка покончил со своей грушей, человек осторожно взял его за измазанный подбородок и опустился перед ним на корточки, чтобы его взгляд оказался на уровне потухших глаз ребенка. Лицо мужчины выражало глубокую симпатию. Дождь уже прекратился, и серые тона городского пейзажа, казалось, посветлели. Приближалась теплая пора.
— Скажи, дружок, ты когда-нибудь видел слона? Самого настоящего?
Глава 0
Стоя у окна своей комнаты в отеле, Соколов молча смотрел на расцвеченный огнями мост через Неву. Несмотря на поздний час, на льду замерзшей реки еще резвились дети. Красивые молодые девушки изящно скользили на коньках, откинув капюшоны и заложив руки за спину, наслаждаясь последними минутами по полного наступления ночи. Черный автомобиль уже третий час стоял, не двигаясь с места. Агенты сменяли друг друга каждые двенадцать часов. Инженер наблюдал за ними, осторожно спрятавшись за шторой. Он видел, как они вылезали из машины, и, чтобы размяться, начинали топать ногами по белой мостовой и размахивать руками. Появлялись следующие четыре сотрудника и усаживались в автомобиль, в то время как их предшественники уходили прочь. Процедура всегда была одна и та же.
Микаевич прибыл ближе к ужину. Товарищи не виделись почти семь месяцев. Техник нашел работу на морской базе во Владивостоке, а теперь ненадолго приехал в Санкт-Петербург, чтобы уладить административные вопросы, связанные с обучением его младшего брата. На следующий день ему предстояло вновь отправиться в путь длиной в десять тысяч километров, чтобы уже больше никогда не вернуться. Он не возмущался этими ограничениями. Казалось, он смирился. Одной рукой он с удовольствием гладил кота, развалившегося на диване, а другой добавлял сахар в свою чашку с чаем. Ударяясь о стенки, ложечка мягко позвякивала — как колокольчик.
— Этот город необыкновенно красив зимой, — сказал Соколов.
— Как и все советские города.
— Как и все города на земле.
— Как прошло заседание комитета? — спросил Микаевич.
— Как я и предполагал: кромешно. Научный институт пытался вменить мне совершение террористического акта, или, по крайней мере, преступную халатность, а комитет настаивал, что я действовал во вред партии в интересах некой преступной организации.
— Ну и ну! Все это просто смешно. Они хоть читали отчеты?
— Да плевать им на отчеты. Им надо найти козла отпущения в этой аварии. А судя по новостям и сообщениям в прессе, американцы и французы обычно поступают также. Завтра я превращусь во врага народа. Все уже решено.
— Но это дико! — воскликнул Микаевич.
— Вам нечего бояться, друг мой. А я остаток своей жизни буду ограничен в перемещении. Тридцать лет назад я уже прошел через лагеря.
— Неужели ничего нельзя сделать?
— Ничего. Вы же видите, какой оборот приняли события. Мы оказались на грани конфликта мирового масштаба. Сильные мира сего зыркают друг на друга, как волки, и пытаются переложить на другого ответственность за этот инцидент. Еще одна искра — и пороховая бочка взорвется. Ничего. Ничего нельзя сделать.
Инженер наконец оторвал взгляд от заиндевевшего окна и подошел к чайнику в форме самовара. Он ждал этой встречи много месяцев. Дружеское чувство, которое он испытывал к технику, было единственным, что осталось у него от прошлой жизни — в то время как нападки начальства только выводили его из равновесия. За время многолетней работы бок о бок этих людей связали невидимые нити; серьезные происшествия, которые им пришлось вместе пережить, лишь упрочили эту связь. Молчание не тяготило их; напротив, каждому из них в тишине явственнее припоминались лихорадочные ощущения той весенней ночи. Если они и спрашивали друг друга о чем-то, то только о тогдашнем событии, уточняя детали и подтверждая для себя то, о чем они и без того знали или догадывались уже давно. Из двух мужчин инженер выглядел более спокойным, почти отрешенным. Они разговаривали вполголоса, опасаясь, что в комнате могут быть подслушивающие устройства. Чтобы заглушить их разговор, Соколов включил приемник, стоящий на маленьком столике. Передавали «Пиковою даму» Чайковского.
— Я хотел бы вам задать еще один вопрос, последний, — сказал он. — Вы помните ваши ощущения, когда мы бежали по лестнице?
— Нет… Мне жаль, — ответил Микаевич. — Мы торопились уйти, вот и все.
— В те секунды я испытал странное чувство: я ощутил себя маленьким ребенком, который стал случайным свидетелем родительской ссоры, и отец с матерью ждут, чтобы я ушел, не желая смущать детское сознание. Как только мы покинули здание, все сразу утихомирилось.
— Я ничего такого не помню, товарищ инженер. Помню, было страшно… Вот.
— Простите, мой друг, что донимаю вас своими старыми воспоминаниями и нелепыми ощущениями. Конечно, просто болтовня.
— Да нет, все в порядке. Знаете, когда мы в спешном порядке покидали центр управления, я споткнулся и упал на пол, и в тот момент я заметил, что главный экран вновь ожил. Тогда я подумал, что, вероятно, электрическое питание возобновилось. Вам я ничего не сказал: я боялся, что вы опять повернете назад. И я увидел нечто очень странное…
— Говорите.
— Вы подумаете, что я сошел с ума…
— Говорите, прошу вас.
— Хорошо. На экране возникло изображение с шестой камеры.
— Из реактора?
— Именно так.
— Что же вы видели?
— Мне показалось, что я заметил зеленый росток.
— Растение? В реакторе?
— Да! Зеленый стебелек среди стержней тепловыделяющих элементов, на дне резервуара. Пол пошел трещинами, и в провале я увидел что-то вроде извилистого корневища, а вокруг него — множество маленьких побегов. Под бетонным фундаментом пряталась жизнь. Полагаю, она была там всегда, и именно это вызвало катастрофу. Растение стало причиной инцидента, я в этом уверен.
— Не понимаю.
— Я тоже. Но вы ведь мне верите, правда?
— Да, конечно. Вы рассказывали об этом еще кому-нибудь?
— Шутите? Да меня бы сразу отправили в психбольницу.
— Да, это уж несомненно. Держите ваши воспоминания при себе, старина. Так будет лучше для всех.
Соколов подошел к радио и, воскликнув, что следующий отрывок вызывает у него особый восторг, сделал звук погромче. Он высоко ценил талант этого композитора, безоговорочно восхищался им и утверждал, что за последние два века не было музыканта лучше. Звуки скрипок заполнили комнату, и мелодия оперы влилась в их разговор, как вода в вино. Инженер дружески положил руку на плечо техника. На его лице не читалось ни сомнения, ни фальши. Он вновь заговорил — просто чтобы высказаться, почти не ожидая ответа.
— Я все спрашиваю себя: что сталось с теми тысячами, которые пропали без вести?
— Это не ваша вина. Не надо себя терзать. Ведь я был с вами, и я знаю, что вы сделали все возможное, и эти люди…
— Нет, я не о том. Они не погибли. После нашего поспешного ухода эти люди скрылись в лесах и среди холмов.
— Это то же самое. В округе никто не мог бы выжить.
— И все же я убежден в обратном. Как я уже сказал: родители заботятся о своих детях. Возможно, те люди нашли какое-то убежище, или совместными усилиями выстроили себе защиту, временный лагерь. Вообразите-ка их будущее. Этот вопрос не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Как бы я хотел побывать там!
— Но ведь вы всерьез туда не собираетесь?
— Нет. Я слишком труслив. Раб системы!..
— Я понимаю вашу боль. Помоги им Бог!
— Аминь, — ответил Соколов. — Аминь.
Микаевич поднялся, чтобы уходить. Он надел свое широкое пальто, взял шапку, но пока держал ее под мышкой. Инженер проводил его до дверей. Когда он на прощание протянул гостю руку, в его пальцах оказался маленький свернутый конверт. Соколов вопросительно посмотрел на техника. Тот казался смущенным.
— Это на свадьбу вашей дочери. Конечно, лучше подарить подарок, но я ничего не понимаю в обзаведении дома. Молодые найдут этим деньгам более удачное применение. Если мой жест кажется бестактным — я прошу прощения.
— Все в порядке, мой друг. Я передам ваши наилучшие пожелания. Спасибо, что не забыли.
— Хорошо. Время; я должен идти. Прощайте.
Но Соколов настойчиво попросил его остаться еще немного. Он поспешно скрылся в большой комнате и вернулся, держа в руках блестящий поднос, на котором стояли две рюмки водки. Мужчины взяли по рюмке, и инженер, вздохнув, поднял свою вверх, к высокому потолку гостиничного номера. Микаевичу показалось, что на глазах инженера выступили слезы, — если, конечно, это не был отблеск от чересчур яркого освещения, — подумал он, — или и то, и другое вместе. Соколов видимо искал слова. Из кармана его брюк выглядывал край конверта. Кончиками пальцев он засунул его поглубже.
— В конце концов начинаешь понимать, что ничто не стоит усилий — кроме любви. Так выпьем за любовь! За вечную любовь!
— За любовь, и за дружбу!
* * *
«Туполев» снижался, пронзая широкое полотно облаков. В иллюминатор Микаевич видел белоснежные вершины Урала. Чувство было такое, словно душа прикасается к вечности. Он не переставал думать о словах Соколова — о жизни вне бетонных стен, среди царства дикой природы. Что, если пропавшие в самом деле обретаются там? Макушки сосен, голубые артерии рек, скалистые громады, а между ними островки нежной зелени — все это в отсутствии человека хранило редкий отпечаток первозданности, а с высоты красота открывающихся картин казалась еще более величественной. Микаевич мысленно благословил будущие поколения. Его сердце исполнилось надежды. Теперь он точно знал: ни здесь, ни где-нибудь еще на земле нет такого места, где жизнь прекратилась бы навсегда.
Он закрыл глаза и незаметно заснул.
Я не люблю, когда мне врут, Но от правды я тоже устал. Я пытался найти приют, Говорят, что плохо искал. И я не знаю, каков процент Сумасшедших на данный час, Но если верить глазам и ушам — Больше в несколько раз. Виктор Цой, «Муравейник»
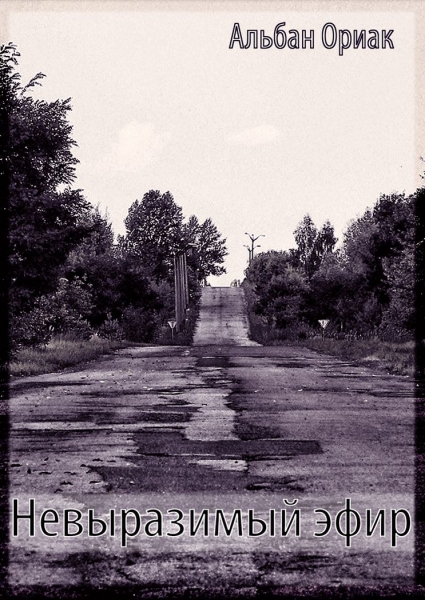


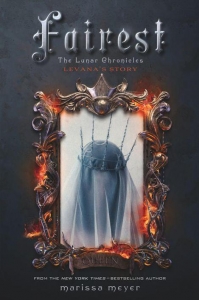


Комментарии к книге «Невыразимый эфир», Ориак Альбан
Всего 0 комментариев