Дункан Мак-Грегор
Вестники Митры
Пин Эбель был доволен. Позапрошлым утром он наконец нанял именно такого охранника, какого искал давно, с самого того дня, как прибыл в Шадизар по своим неотложным купеческим делам. Правда, парень был слишком молод, но это — считал Эбель — даже к лучшему. Он так легко согласился на четырнадцать медяков в день, что сразу стало понятно: дурень ничего не соображает в ценах, а значит, и вообще в жизни. Лет этак через семь или восемь он, возможно, и сумеет понять, чем отличаются четырнадцать медяков от одного полновесного золотого, а пока пусть служит достопочтенному пину почти задаром и набирается опыта рядом с таким мудрым хозяином.
Пожалуй, он даже должен бы был приплатить Эбелю за несомненную удачу наслаждаться общением с ним в течение целой луны, ну да ладно: не настолько жаден шемитский купец, как про него толкуют…
Придя к такому утешительному выводу, пин в душе своей плюнул и растер остатки совести и с добродушной, совсем чуть-чуть высокомерной улыбкой обратился к новому охраннику:
— А что, Конан, побьешь ли ты того верзилу, что сторожит бренные останки Нассета?
— Бренные останки?
— Только так могу сказать об этой развалине. Да будут тому свидетели прекрасный Адонис и луноликая Иштар, он и десять лет назад выглядел точь-в-точь как хвост от дохлого ишака, обгрызенный голодной собакой. Ну, побьешь или нет?
— Кром! Еще бы!
Пин благосклонно кивнул и отвернулся. Воистину ему повезло. Этот киммерийский волчонок ростом в два Эбеля и половину Нассета стоит десятка чванливых шадизарских стражников, разжиревших на доходной службе отечеству. Те только и знают, что жрать да спать, а до хозяйского добра им и дела нет.
— Не вздремнуть ли мне, Конан? Усталость сковала члены.
Если Конан и удивился, то виду не подал. Пин Эбель продрых с прошлого вечера до нынешнего полудня, потом встал, подкрепился двумя мисками овощей и огромным телячьим окороком, и вот теперь неведомо откуда взявшаяся усталость сковала, оказывается, его жирные члены, и он снова собрался спать.
— Почему бы нет?
— Ты добрый малый, — довольно улыбнулся пин. — Жалеешь хозяина. Понимаешь, что хозяин крутится как белка в колесе, дабы какая-либо наглая гнида не обвела его вокруг пальца. И то — иной так и норовит урвать лишнюю монету, лишний кусок… Ох, как я утомился…
Маленькие глазенки пина и в самом деле наполнились вдруг мутью, алые полные губки приоткрылись, щеки на миг оторвались от плеч — Эбель сладко зевнул, протянул пухлую ручку к колену нового охранника и, опершись на него, поднялся. Телеса его всколыхнулись, обдав Конана волной приторно-кислого запаха, затем мягко упали в руки расторопных слуг…
Когда паланкин с тушей Эбеля уплыл наконец в дом, киммериец с облегчением вздохнул и вновь присосался к бутыли отличного красного вина, привезенного пином из самого Шема. Там, в вечнозеленых долинах, у этой жирной крысы имелись собственные виноградники, на которых от зари и до зари трудились наемники и рабы, — конечно, пин не преминул похвастаться погребами, доверху забитыми бутылями и бочками чудесного чистого напитка, впитавшего в себя золото и жар солнца. Он забыл лишь добавить, что пота и крови в этом вине было ничуть не меньше, чем золота и жара…
Конан отбросил в сторону пустую бутыль и принялся поглощать яства, коими слуги уставили всю поверхность стола. Рыба, тушенная в молоке с луком, таяла во рту, отварная ветчина соблазнительно розовела в воротнике из зеленого горошка, а жареный гусь издавал пленительный аромат, призывая киммерийца немедленно полакомиться его румяной ножкой. До отказа набитый желудок жалобно заурчал, однако принял очередной кусок, за ним еще один, и еще… Конан откупорил новую бутыль и залил в себя половину ее содержимого, икнул, осоловевшими глазами обвел двор, потом медленно поднялся. Слуги Эбеля, сидевшие прямо на земле в тени кипариса, на мгновение оторвались от пива и сыра и посмотрели на него с откровенной неприязнью — этот юнец ведет себя здесь как наследный принц. Трапезничает за одним столом с благородным пином, говорит с ним на равных, сидит в его присутствии и даже спит в соседней опочивальне! Никакого уважения…
Не обратив внимания на злобные взгляды слуг, киммериец взял наполовину опорожненную бутыль, нетвердой походкой прошел к двери, ведущей из внутреннего дворика в дом, толкнул ее бедром и ступил внутрь. Тут было темно и прохладно. Сверху доносились тихие унылые звуки лютни, под которые любил засыпать Эбель и которые на Конана неизменно нагоняли тоску, а еще нежный голосок Эбелевой наложницы Илианы и сиплый писк его недоразвитого сына — толстозадого красномордого Гана Табека. На самом деле Ган Табек, коему минуло уже сорок семь лет, соображал очень даже хорошо, но изо всех сил притворялся младенцем, то есть ходил под себя, пускал слюни, ползал на четвереньках и агукал. От настоящего дитяти он отличался тем лишь, что вместо молока требовал вина, причем не менее дюжины бутылей в день. Конан никак не мог взять в толк, зачем ему разыгрывать это представление, — начиная с момента рождения судьба была к нему благосклонна. Единственный наследник великого богатства достопочтенного Эбеля, обожаемый отцом до умопомрачения, он мог жить в свое удовольствие и ни о чем не заботиться. Он, однако, предпочел прикидываться полоумным… Странно. Поистине странно. Однажды Конан уже задумывался о причинах подобного поведения Гана Табека — да вот не далее как вчера, — ибо заметил вдруг, как в черных глазах его, обычно сохранявших выражение тупого безразличия, мелькнул озорной огонек, но скоро выбросил из головы этого притвору: в конце концов, не за тем он нанялся в охранники к шемитскому купцу, чтоб разбираться в его семейной драме…
Поднявшись по широкой мраморной лестнице, в дневное время ничем не освещаемой, а потому темной, киммериец миновал роскошные покои Илианы и, с трудом поборов желание войти к ней и завести более близкое знакомство, прошел к себе.
Здесь также было темно. На окнах висели тяжелые бархатные занавеси веселого желтого цвета — скорее, такие больше подошли бы для украшения комнаты Гана Табека; в щель меж ними пробивался яркий золотой лучик, рассекая пополам рыжий туранский ковер, весь усыпанный затейливыми цветами и узорами, потом перебегая на низкую тахту, покрытую легкой оранжевой накидкой, и, наконец, ломаясь на блестящей стеклянной крышке круглого столика.
Конан поставил бутыль в самое солнечное пятно, отчего внутри ее сразу заплясали разноцветные искры, и повалился на тахту. «Да, — мелькнула ленивая мысль, — на такой службе и разжиреть недолго…» Он объелся, как оголодавший кабан, до колик в желудке и теперь хотел только одного: спать. Громко, протяжно рыгнув, он вздохнул, прикрыл глаза. Тотчас воображение его изобразило кусок баранины на вертеле, и от этой ужасной картины киммерийцу стало совсем дурно. Он повернулся набок и попробовал представить рядом с собой прекрасную Илиану, но вместо нее узрел жареного поросенка, со всех сторон обложенного яблоками… О, это было невыносимо. Если он прослужит у пина Эбеля еще пять-шесть дней, он будет просто не в состоянии думать о чем-либо, кроме жратвы.
В досаде на себя самого нахмурив широкие черные брови, Конан махнул рукой, отгоняя прочь назойливые гастрономические картинки, и с мыслью о фаршированном карпе погрузился в глубокий сон…
* * *
Две луны назад в конуру Ши Шелама заявился некий господин, одетый, как последний нищий, но при этом весь увешанный золотом. В ушах и в носу у него висели кольца, массивные перстни украшали все десять пальцев, а на могучей шее красовалась длинная, до пупа, цепь. Ши очень удивился странному сочетанию золота и рубища, однако виду не показал. Подвинув гостю единственный табурет, он присел на край топчана и, пока не решив, какое выражение придать своему взору — почтительное или презрительное, что прямо зависело от благосостояния пришельца, — воззрился на закопченный светильник, стоящий посередине стола (надо заметить, что Ши Шелам был довольно высокого мнения о собственном взгляде — почему-то ему казалось, что он огненный и величественный, тогда как на самом деле он мало чем отличался от моргания бедного затравленного кролика; в общем, Конану он потом объяснил так, что будто бы не хотел смущать гостя, потому и смотрел на светильник).
Пришелец покашлял, пофыркал, поерзал на твердом и шершавом основании табурета широким задом своим, но внимания хозяина не дождался. Тот упорно глазел на светильник, словно желал просверлить в нем дырку, и молчал как рыба. Гость вздохнул и тоже замкнулся, то ли от природной застенчивости, то ли из обыкновенного упрямства, — вот, мол, коли ты рот на замке держишь, так и я назло тебе буду сидеть тут и ни звука не издам.
Проведя таким образом некоторое время, оба несколько пришли в себя и расслабились, то есть Ши Шелам пару раз мигнул, а гость широко зевнул и даже произнес два слова — Ши не разобрал, какие именно. Впрочем, пришелец не преминул повторить:
— Жарко нынче…
Ши насторожился. Сверля светильник взглядом, он напряженно размышлял: что могут обозначать эти странные слова? Уж не намек ли на прошлые делишки и скорую за них расплату? Поскольку совесть его отнюдь не была кристально чистой, он порядком испугался. Ему и в голову не пришло, что слова могут обозначать то, что обозначают, то есть состояние погоды на сей момент, ибо на улице действительно было довольно жарко.
Расфуфыренный нищий тем временем, видя, что хозяин конуры никак не реагирует на его замечание, тяжко вздохнул. Ему уже приходилось иметь дело с умалишенными, и он отлично знал, как непросто порой с ними договориться. Похоже, этот парень был как раз из таких. Тем не менее он решил не сдаваться.
— Вижу ли перед собою Ши Шелама по прозвищу Ловкач? — спросил он голосом богатого человека.
Ши, тут же уловив эти ласкающие слух нотки, встрепенулся, с облегчением отвел взор от несчастного светильника и закивал головой:
— Так, господин, так.
И он умильно улыбнулся.
— Я — Гури, племянник Нассета.
Маленькие глазки Ши вспыхнули. Конечно, он, как и всякий другой житель Шадизара, знал купца Нассета — тщедушного старикашку с хитрой длинноносой физиономией. Говорили, он держал в своих тоненьких ручках две трети всей городской казны; говорили, девяносто девять из ста харчевен и кабаков принадлежат ему; говорили, он обманом и шантажом завладел дочерью благородного нобиля Вартака, женился на ней и даже умудрился произвести на свет двух девочек и одного мальчика. В общем, много чего болтали в Шадизаре о купце Насеете, и если б хотя бы половина этого оказалась правдой, то сейчас в конуру Ловкача заплыла воистину-крупная рыба.
— Рад, безумно рад, дорогой Гури, видеть тебя в моей скромной лачуге. — Ши растянул тонкие губы в подобострастной улыбочке, зная по опыту, что эти господа обожают, когда перед ними преклоняются, пусть даже так фальшиво и грубо.
Действительно, Гури приосанился и надул и без того полные щеки, затем кинул на Ши благосклонный взгляд и продолжил:
— Думаю, ты понимаешь, любезный, что я неспроста пришел к тебе. Мне даже пришлось переодеться нищим, дабы ни одна собака меня не признала…
(Тут Ловкач едва не расхохотался. Неужто Гури всерьез полагает, что достаточно сменить роскошное одеяние на лохмотья, чтобы его приняли за побирушку? А куда деть сытую, толстую морду? Круглый, тугой живот? Важную осанку господина, привыкшего брать от жизни все и еще чуточку больше? Наконец, почтенный племянник Нассета забыл снять с себя золотые цепи и кольца! Все эти сверкающие побрякушки наверняка привлекли внимание того сброда, что болтается в здешних злачных местах. Ши был уверен, что до самых дверей его лачуги Гури провожала добрая дюжина шадизарских жуликов…)
— О-о-о, ты выглядишь как настоящий нищий! — воскликнул Ловкач, ударяя себя в чахлую грудь. — Клянусь Белом, я таких нищих прежде никогда не видывал!
Вот тут он сказал правду: таких нищих он и в самом деле прежде не видывал. Да и кто видывал?..
— Сам знаю, что меня не отличишь от базарного попрошайки, — самодовольно кивнул Гури, теребя золотую серьгу в ухе. — Так и Насеет сказал утром: «Э, брат, да тебя не узнать!»
Ши Шелам, убежденный в том, что Насеет просто пошутил, все же сделал небольшое усилие и еще раз восхищенно пискнул. На умильную улыбку его уже не хватило. Он и так потерял с этим глупцом много времени. Не пора ли переходить к делу?
— Не пора ли переходить к делу? — снова надувшись, спросил Гури.
— Пора, — с готовностью согласился Ловкач.
— Прошлым вечером Насеет заставил меня заучить слова, кои я должен передать тебе. Готов ли ты внимать?
— Готов.
— Ну так внимай, — Гури пожал могучими плечами, потом воззрился на светильник и заунывно начал: — «Рой серебряных пчел благого бога Митры есть предвестник войны и мира, наводнения и землетрясения, ужасных катаклизмов, навлекаемых демонами из царства Нергала на людей. Когда б человек имел зрение, он сумел бы увидеть в небесах серебряное сияние…» — Гость замялся, опустив глаза долу. — Э-э-э, дальше я забыл…
— Может быть, он сумел бы увидеть серебряное сияние и уберечься от беды? — помог ему Ловкач.
— Да, кажется… — неуверенно сказал Гури. — Но все равно — я забыл, что дальше…
— Тогда переходи прямо к делу, — рассудительно сказал Ши. — Дело-то ты помнишь?
— Помню… Кажется… Ах да, помню! Ты слыхал о пине Эбеле?
— В Шеме и Туране пин — значит, старший купец. А с Эбелем я не знаком.
— Еще бы! Кто Эбель, и кто ты — букашка, — фыркнул Гури, и его круглое румяное лицо тут же показалось Ловкачу омерзительной красной мордой, — Однако суть не в этом. Эбель прибыл к нам совсем недавно. Он считается одним из самых богатых людей Шема; у него уйма домов, трактиров, лошадей и виноградников; он толстый и на вид довольно противный. И все-таки суть не в этом тоже. Пару лет тому назад он — и сие величайшая тайна — стал счастливым обладателем серебряной пчелы!
Ши Шеламу все было ясно. Нассету приспичило отобрать у Эбеля серебряную пчелу, вот почему он снарядил племянника к нему, хитрейшему из хитрых и умнейшему из умных. Снисходительно посмотрев на гостя, Ловкач процедил:
— Я понял. Насеет считает, что теперь настала его очередь быть счастливым обладателем серебряной пчелы…
— Верно!
— Неужели у твоего почтенного дяди недостанет монет для золотых дел мастера — дабы тот сделал ему точно такую же пчелу?
— Тьфу! — Гури сердито нахмурил брови. — У него достанет монет и на тысячу пчел, да только ему нужна именно эта! Что я толковал тебе о Митре? Неужто запамятовал, а?
Ши Шелам молчал. Он действительно не мог сообразить, зачем Нассету грабить шемитского купца и при чем тут Митра…
— Два года назад, когда Эбель по делам был в Аквилонии, к нему пришел некий оборванец и попросил немного денег на пропитание, — терпеливо начал объяснять гость. — Эбель хотел прогнать его прочь, но вид попрошайки показался ему занятным. Благородная осанка, умные глаза, бархатный низкий голос и затейливая речь — прибавь к этому умение держать себя и смотреть прямо в глаза собеседнику, и ты поймешь, что перед тобою жрец великого Митры. Да, жрец Митры! Только изгнанный из храма за пьянство и богохульство…
Он поведал Эбелю свою нехитрую историю, выпил кубок вина и… достал из вороха жалких отрепьев маленькую серебряную вещицу. Любой, даже ты, не то что Эбель, сразу понял бы, что это не просто творение искусного мастера, а нечто натуральное, прекрасное, как сама природа, короче говоря, божественное. Крошечная серебряная пчела с хрустальными крылышками и бриллиантовыми глазами лежала на сморщенной ладони бывшего жреца благого бога. Раз взглянув на нее, пин Эбель молча полез в ларец и достал оттуда кошель, набитый золотом. Так же молча жрец положил пчелу на стол, рядом с бутылью красного вина, взял кошель и удалился…
— Ну? — Ши Шелам, как пес, унюхавший добычу, вытянул шею и зашевелил ноздрями, — И что же дальше?
— Дальше? — Гури усмехнулся. — А дальше на благороднейшего пина трижды нападали злоумышленники, пытаясь отнять у него драгоценную вещь (поскольку известно, что хранится она в сафьяновой коробочке, а коробочка на шнурке, а шнурок на шее, а шея… Ну, ясно, чья шея…), однако были побиты палками и посажены в темницу — у Эбеля охрана словно у самого императора! Но — не в Шадизаре. Для тебя, я полагаю, не тайна, что в нашем славном городке парни добывают себе на хлеб и вино любым способом, кроме одного — собственного труда. Пин пробовал нанять городских стражников, но те оказались ленивы и алчны. Он пробовал также заручиться поддержкой градоправителя, но и здесь потерпел неудачу, ибо высокородный Дар несколько оскудоумел со времени последнего своего недуга. Не увенчалась успехом и надежда на случайных прохожих: ни один из них не согласился день и ночь охранять шемитского купца — чернь глупа, не все ли равно, у кого зарабатывать монеты?
— И как долго пин без охраны? — деловым тоном осведомился Ловкач, уже успевший сообразить, что Гури предлагает ему жирный кусок.
— Два дня. Насеет хотел было подослать к нему парней из собственной стражи, да они настолько тупы, что не сумеют отличить серебряной пчелы от супа с креветками. Само собой, им не хватит ума обдурить пина… (К тому же стало известно, что иногда он снимает с шеи коробочку и прячет — но куда?) Мой дядя, столь же хитрый, сколь и мудрый, и столь же мудрый, сколь и щедрый, решил действовать иначе: нанять охранника шемиту со стороны… Понимаешь, о чем я говорю?..
— О да, — пробормотал Ши Шелам. О такой удаче он и не мечтал. Весь Шадизар знал: тот, кто окажет услугу самому Нассету, впоследствии может смело рассчитывать на его благосклонность, и если случится необходимость, то и на помощь.
— Твоя доля — треть от сотни, — довольный произведенным эффектом, сказал Гури. — Ну? Есть ли у тебя на примете такой человек, которого можно бы было подставить Эбелю?
— Есть! — твердо ответил Ловкач.
Он отлично понял замысел Нассета. Личный охранник всегда находится рядом с господином, и, конечно, ему не составит труда выяснить, куда купец прячет свое сокровище. Выкрасть же это самое сокровище для неглупого парня пара пустяков.
— Есть, — повторил Ловкач, поднимаясь с топчана. — Сейчас я его приведу.
* * *
— Ко-о-она-ан… — слабым голосом позвал Эбель нового охранника, — Да Ко-онан же!..
— Он спит, господин, — с поклоном ответствовал постельничий, которого пин привез с собой из Шема. — Ленивый мальчишка. Только и делает, что спит да ест, ест да спит…
— Молчать, собака! — возопил Эбель, багровея. — Ты и волоса на его голове не стоишь! Отъел рожу, бездельник! Я тебя!..
Он задохнулся и умолк.
Старый слуга, такой тощий, что его разве что не качало от сквозняка, с жалостью смотрел на своего разгневанного хозяина. Многажды просил он луноликую Иштар и возлюбленного ее Адониса избавить пина Эбеля от припадков ярости, только вредящих его драгоценному здоровью, и все без толку. Не слышат они его, что ли?.. А может, им мало тех медяков, кои перетаскал он за тридцать лет безупречной службы в их храмы? Так и то последнее отдавал…
Бедный пин! Верещит, обзывается, ножками топает… Как ударит в виски кровь, так и конец ему придет… Постельничий вздохнул, покачал головой, подошел к Эбелю, который уже едва дышал, и поднес к его губам кубок с красным вином.
— Один глото-очек, — пропел он ласково, — всего оди-и-ин…
Эбель жадно осушил огромный кубок и отвалился на подушки. Щеки его постепенно бледнели, взор становился благодушен и даже мягок. Да, достопочтенный пин был непредсказуем, как морской ветер, умен, как первый советник короля, а нравом, увы, капризен, как девица.
— Может, ты и прав. — Просипел он, жестом показывая слуге, чтоб налил еще вина. — Кто его знает, этого киммерийца… Варвары, насколько мне приходилось слышать, народишко странный — боевой, но ленивый… Э, Баат… А вдруг он меня обворует? А? Тьфу! Вот бы знать наверняка!
— Хе, — ухмыльнулся Баат. — Ну и обворует. Что у нас взять-то? Все добро в Шеме, а здесь одна мелочь — сундук с золотом, и больше ничего.
— С моим золотом, — ворчливо заметил Эбель, — с моим.
— С твоим, — покладисто сказал слуга. — Однако в жизни ему не поднять этот сундук, клянусь Адонисом.
— И то правда, — пин выпил еще вина и совсем развеселился. — Даже ему не поднять мой сундук с моим золотом. Будь он хоть втрое сильнее нынешнего — а все равно не поднять! Ха-ха-ха!
— Хи-хи-хи! — затрясся и постельничий.
— Ха-ха-ха!
— Хи-хи-хи!
— Ха-ха-ха!
Тень, от дверей упавшая до самого окна и мигом заполонившая всю комнату, заставила весельчаков одновременно вздрогнуть и замолчать. Они оглянулись. Колосс, что закрыл собою дверной проем, смотрел на своего хозяина яркими синими глазами, такими холодными, словно две прозрачные льдинки; в них отражалось заходящее уже солнце, окно и два человека — толстый и тонкий; в них отражался даже испуг, вдруг овладевший этими двумя…
По каменно-неподвижному лицу юного варвара нельзя было понять, слышал ли он разговор о себе или нет. Но на всякий случай пин Эбель зарылся в подушки, а постельничий, пискнув, укрылся за бархатным пологом.
— Хей, — негромко, с усмешкой в голосе позвал хозяина киммериец. — Ты собирался нынче на базар — я готов тебя сопровождать.
— Слышу грохот водопада и громовые раскаты, — пробормотал Эбель, выбираясь из подушек. — Вот так голос у тебя — до самых печенок пробирает…
— До самого желудка, — подсластил и постельничий, с умилением глядя на Конана из-за полога.
Холодный взор был ему ответом.
— Сейчас, Конан, сейчас, — засуетился пин, в душе презирая себя за этот глупый страх, эти ужимки и смешки. — Шаровары никак не налезают… Жирен стал, жирен и нелеп…
Синие глаза равнодушно оглядели обширные телеса Эбеля.
— Прекрасный вечер, не правда ли? — с энтузиазмом воскликнул Баат. Он выполз на середину комнаты и попытался заслонить от киммерийца полуобнаженную тушу хозяина. — После вчерашнего дождя воздух свежий, удивительно ароматный! И ветерок такой нежный, такой тихий!
— Да, — сказал Конан. Ему было наплевать на ветерок, но как раз в этот момент он вдруг вспомнил, что должен быть образцом скудоумия. Так велел ему Насеет, так советовал и Ши Шелам.
— А какое яркое солнце! А какое чистое синее небо! — настырно продолжал постельничий, ободренный ответом Конана.
— Да, — сумрачно подтвердил тот.
— А какие легкие белые облачка плывут по…
— Я пойду… Вина выпью, — не выдержал наконец Конан. Даже за сотню золотых, обещанных ему Нассетом за службу у Эбеля, он не мог вынести болтовню о ветерке и облачках. Достаточно того, что здесь ему видятся эти омерзительные сны о жареных поросятах…
Он исчез так же бесшумно, как и появился. Со вздохом облегчения старый слуга посмотрел ему вслед. Только теперь вспомнив о своих прямых обязанностях, он помог достопочтенному пину натянуть шаровары, плеснул ему на щеки розовой воды для умывания и, с поклонами проводив его до самого внутреннего дворика, вернулся в его покои и завалился на широкую и мягкую хозяйскую тахту. Это был ритуал, который с превеликим наслаждением исполнялся Баатом все тридцать лет службы. Ни сам Эбель, ни слуги до сих пор ничего не замечали, но этот новый охранник… Не далее как вчера он вошел в комнату — неслышно, будто кошка, — и застукал постельничьего на месте преступления, то есть на постели… Нет, он не закричал, не затопал ногами и не затрясся в гневе; он вообще ничего не сказал — лишь скользнул своим холодным колючим взором по смятому покрывалу и перекошенной от ужаса физиономии Баата. Но отчего тогда сердце чуть не выскочило из груди? Отчего помутилось в глазах и кусачие мурашки побежали по всему телу? Виной тому, может быть, то ли брезгливая, то ли презрительная ухмылка юного варвара, а может быть…
Возлегая на хозяйской тахте, Баат все-таки признался самому себе: он просто-напросто испугался. Говорят, сытый голодного не поймет — но и голодный сытого тоже не поймет. Легко ли на старости лет лишиться такого прелестного теплого местечка? Легко ли окунуться вдруг в пучину большого города, с его нелепыми и удивительными обычаями и судьбами, с его алчностью, с его страстями, с его необъяснимой злобой к чужаку, особенно если тот холен и красиво одет?.. Бр-р-р… Старого слугу передернуло, так живо представил он себе кошмар, ожидающий его за воротами дома купца. Упаси Иштар и возлюбленный ее Адонис от хозяйского гнева!.. Уж Эбель, коль узнает, не простит, не смилостивится — выгонит вон, да еще палкой, палкой!..
От таких мыслей вся прелесть возлежания на тахте пина испарилась бесследно. Со вздохом Баат поднялся, расправил покрывало и взбил подушки; со вздохом зажег благовония, запах коих ненавидел с первого дня службы и до нынешнего; со вздохом плюнул в кувшин с розовой водой и снова накрыл его салфеткой. О, боги… Подумать только — и так все тридцать лет…
* * *
Гнедой, купленный пином нарочно для Конана, понуро плелся по улицам Шадизара вслед за паланкином с тушей Эбеля. Он словно чувствовал настроение седока, чей взор сейчас был подобен суровому взору ледяного гиганта Имира — черные брови сошлись у переносицы, а синь меж ресницами стала почти фиолетовой.
Киммериец и в самом деле кипел от ярости: на базаре, стоя за спиной Эбеля, он натерпелся позора по уши. Тот орал, визжал, брызгал слюной, угрожал и кривлялся, выторговывая медяки у мелких лавочников. Они смотрели на него с удивлением и презрением, но достопочтенного пина сие мало трогало. Он готов был рассыпаться в прах, только бы унести с базара хотя бы на одну монету больше, чем принес. Неужто он и правда отвалил за серебряную пчелу целый кошель? Конан очень сомневался. Наверняка душу вынул из злосчастного жреца, но скинул пару золотых…
А теперь, конечно, едет с горой покупок, довольный… Вся дребедень обошлась ему раза в три меньше, нежели обычному человеку. Киммериец скрипнул зубами, с отвращением уставясь в голубой полог паланкина, за коим возлежал отвратительный жадный хомяк, но тут вспомнил вдруг, что служить ему осталось дня три — а потом пчела жреца из сафьяновой коробочки Эбеля перекочует в хрустальную шкатулку Нассета, он же, Конан, набьет карманы деньгами, половину из которых сразу пропьет в таверне Абулетеса… Мысль сия была приятной. Даже настроение слегка поправилось. Недаром Ши Шелам говорил: «Главное — терпение, ибо оно имеет свойство вознаграждаться!»
Солнце пылало где-то вдалеке, за крышами домов; верхушки дерев были озарены его красным светом, в окнах переливались алые яркие блики, но скорая ночь уже распластала повсюду свою тень. Потемневшее небо нависло над городом, отражаясь в глазах и лужах, пятнами чернеющих тут и там.
Перед закатом, как обычно в Шадизаре, улицы опустели. Только тот, кто не боялся грабителей, да еще сами грабители отваживались бродить по городу в это время. Эбель в присутствии четырех носильщиков, двух слуг с палашами наперевес и Конана выглядел олицетворением мужества. Его глазки сверкали из-за голубого полога так вызывающе, так нагло, что редкие прохожие останавливались и изумленно взирали на храброго заезжего купца, затем переводили взгляд на могучего киммерийца и моментально вспоминали о своих неотложных делах, затем скрывались за очередным поворотом, втайне жалея о невозможности проучить нахального шемита.
А он, к глухому раздражению собственных слуг, еще и начал выкрикивать оскорбления, корчить рожи, визгливо хохотать, тряся жирами. Кончилось это тем, чем и должно было кончиться: из-за угла вылетел камень и врезался прямо в пятачок пина. Кровь брызнула во все стороны. С пару мгновений шемит молчал, ошеломленный коварным нападением, а потом разразился такими истошными воплями, что уши заложило у всех, кто имел несчастье его сопровождать. Последних прохожих как ветром сдуло. Улица перед паланкином опустела, только в окнах торчали любопытные физиономии — Конан готов был поклясться, что каждая выражала истинное наслаждение происшедшим и удовлетворение. Да и сам он испытывал похожие чувства. Слава великому солнечному богу Митре, хоть раз в этом мире восторжествовала справедливость…
Некоторое время спустя Эбель внезапно успокоился. Приступ безумия миновал, но пятачок уже был разбит. Уставясь в пространство, благородный пин покорно принимал заботы слуг, хлопотавших вокруг него с окровавленными батистовыми платами, и вовсе не замечал усмешек носильщиков. А те ликовали. Необходимость всякий день таскать по улицам такого кабана вселила в сердца их страстное желание отправить его на бойню, так что теперь все четверо благословляли руку, метко запустившую булыжник в светлую личность шемитского купца.
Конан восседал на своем гнедом как изваяние. Только синие глаза его зорко следили за всем происходящим, а черты лица, равно как и все члены, и даже сама мысль — оставались неподвижны. Когда же наконец слуги обмотали физиономию Эбеля кушаком от его же халата, процессия снова двинулась в путь — на сей раз в полном молчании. Побитый пин отрешенно смотрел вдаль; там быстро чернело, ибо ночь была уже совсем рядом; туман опускался с крыш на землю, и серые тучи цепочкой бежали по небу, гонимые северным ветром. Да, в Шадизаре вдруг стало холодно. Конан, облаченный только в легкие шаровары и кожаную безрукавку, с неудовольствием ощутил прикосновение тумана, ледяного, будто пальцы мертвеца. Так и носильщики, вообще почти нагие, в одних набедренных повязках, посинели от холода и прибавили шаг, торопясь вывалить своего седока во дворе его дома — гнедому пришлось перейти на рысцу, чтобы догнать их.
А в доме вовсю шли приготовления к встрече хозяина с богатой добычей. Стол ломился от яств, тройка лютнистов мучила струны, дюжина юных наложниц вертелась на середине зала, репетируя танец любви; Илиана визгливо бранилась с виночерпиями, а Ган Табек враскорячку сидел на полу и бессмысленно хихикал.
Презрев все правила, киммериец первый вошел в дом и сразу уселся за стол. Одной рукой ухватив за ножку серебряную чашу, наполненную прозрачным красным вином, вторую он протянул к блюду с дымящейся бараниной и вытянул самый большой, кусок. Такого нахальства здесь еще никогда не видели. Ведь достопочтенный пин только сейчас ступил в зал, а его охранник уже пожирал его еду!
А достопочтенный пин с порога слабо улыбнулся Гану Табеку (притом как бы не приметив остальных), проковылял к столу и медленно опустился на скамью против Конана. Всем видом своим он демонстрировал ужасную усталость и философскую отрешенность от всего земного, низменного. Он словно бы витал в облаках и с величием истинного мудреца не обращал внимания на разные мелочи — вроде наглого нищего мальчишки, который поглощал его мясо со скоростью голодного дракона. Но, каково бы ни было настроение пина в данный момент, тем не менее натура брала свое: выпив до дна чашу вина, он покосился на киммерийца и сдвинул брови. Никакой реакции со стороны Конана на это не последовало. Проще говоря, он вообще ничего не заметил, поскольку не смотрел на хозяина, а интенсивно насыщался. Тогда благородный пин выпучил глаза и издал некий звук, сходный с писком простуженной полевой мыши. Конан мельком взглянул на него, однако явно не понял, что сие означает. Пришлось Эбелю смириться — иначе он мог остаться без жаркого. Трапеза прошла в молчании. Девиц изгнала из зала Илиана, справедливо считая, что сейчас пин не расположен наслаждаться их танцем; лютнисты пригорюнились в самом темном углу — все шло к тому, что их нынче же прогонят прочь, не заплатив и пары медных монет; слуги выстроились в ряд и таращились на Эбеля, изо всех сил пытаясь придать своим взорам выражение бескрайней любви и почтения.
Наевшись, Конан встал, на прощание махнул пину рукой (тем самым опять вызвав всеобщее негодование) и поднялся наверх. Он надеялся, что в эту ночь ему не будут сниться гуси и поросята, но стоило только лечь и закрыть глаза, как тут же прежние видения возникли вновь… Кром! Ему был нужен совсем другой сон! Ши Шелам, жалкий маленький крысенок, рассказывал, будто постоянно видит во сне сражения и драки, а он, Конан, варвар из Киммерии, воин, бродяга и забияка, всего лишь жареных поросят!.. О, проклятие!..
Он в раздражении скрипнул зубами и повернулся на бок. За окном давно стало черным-черно, и ветер свистал по улицам как сумасшедший… Веки варвара смежились; коловорот мыслей прервался на одной, ничуть не значительной; мышцы легко, как у зверя, расслабились, и вздох замер в груди. Через несколько мгновений Конан спал.
* * *
Разбудил его дикий вой, переходящий в рычание, потом в скулеж, потом снова в рычание. Доносился он из покоев купца и был так ужасен, что у более чувствительного человека мог вызвать временное помешательство, но только не у варвара. Недовольно поморщившись, он встал, натянул шаровары и не спеша вышел из комнаты.
Дверь в обиталище благородного пина оказалась открытой. Конечно, орал он (в чем Конан и не сомневался, ибо кто еще мог орать в его покоях), причем весьма удобно устроившись — развалившись на подушках животом кверху, раскинув руки и ноги. Даже в горе — и сие киммериец отметил про себя с величайшим презрением — Эбель не забывал об уюте и неге.
Постельничий стоял рядом с тахтой, усердно плескал в физиономию хозяина розовой водой из кувшина и дул ему в нос что есть мочи, видимо вообразив себя самим северным ветром.
Конан остановился в дверях, прислонился плечом к косяку и вперил в пина холодный взор.
— Ну?
Вопль оборвался.
— Ах, это ты, Конан, — слабым голосом молвил Эбель, не делая и попытки подняться. — А у меня беда. Вот так-то. Беда бедой, хуже и не бывает.
— Ну?
— Илиана сбежала, змея… И Гана Табека украла… Киммериец очень сомневался в том, что Ган Табек с его толстым задом был так уж необходим знойной красавице Илиане. Скорее всего, он сам наобещал ей золотые горы за любовь и ласку… Вот только чем именно могла она соблазниться? В доме Эбеля у нее и так было все, что душе угодно. Да, сердце женщины — загадка…
— Драгоценности забрали… — тяжело дыша, пожаловался пин.
Ага, значит, они прихватили драгоценности! Брови варвара дрогнули. Он был удивлен подобной непредусмотрительностью — ведь теперь им обоим не будет возврата в дом пина. Во всяком случае, Илиане уж наверняка. Конан заметил: шемит не испытывал к ней особенной страсти.
— И бутыль моего лучшего вина… Всего одну привез… Цена ей — три туранских ковра… — Эбель продолжал перечислять понесенные убытки. — И еще утащили платьев на полсотни золотых, хрустальную чашу и туфли, подаренные мне самим владыкою… Еще… Э, Баат, что еще?
— Ничего такого, господин. Вот разве что две лошади — буланая и каурая — да твоя сафьяновая коробочка…
И постельничий изогнулся в подобострастном поклоне, явно не предполагая, что последует за этим сообщением. С изумлением увидел он, как перекосилось вдруг обычно невозмутимое лицо нового охранника, как сверкнули и сразу погасли холодные синие глаза, как сжались огромные кулаки… А уж что тут сталось с пином Эбелем!..
Глазки его выпучились и налились кровью, хрип вырвался из глотки, а редкие волосенки вздыбились; протянув руки к Баату, он цепко ухватил его за полу халата и потянул на себя, будто желая опрокинуть и придушить наглого слугу, принесшего такое страшное известие.
Бедный постельничий в этот момент едва не рехнулся сам — так ему захотелось внезапно заскулить подобно Гану Табеку.
— О… О господин… — залепетал он, стараясь высвободиться из жирных и мягких, но очень сильных пальцев пина. — О… Я не хотел…
Бедолага не понимал, почему утрата какой-то жалкой сафьяновой коробочки чуть не убила Эбеля. По его личному мнению, истинное несчастье состояло как раз таки в исчезновении самоцветов, платья и, пожалуй, еще хрустальной чаши. Да, и Гана Табека, конечно. Как ни странно, любимый хозяин на это отреагировал довольно спокойно — повыл немного, и все. Зато о коробочке застрадал как о родной…
— Уа-у-ау-у-у! — вдруг взревел Эбель, рывком соскакивая с тахты. — Моя коробочка!.. Моя… Уй-а-а-а!
Сей воинственный клич лишил несчастного последних сил. Плюнув в сторону двери, где за спиной Конана толпились разбуженные воплями слуги, он снова рухнул в подушки и застонал. О, он стонал так жалобно, что даже суровое сердце варвара дрогнуло на миг. Впрочем, он немедленно вспомнил, что и сам собирался лишить купца его сокровища, так что сострадание здесь было просто неуместно.
А Эбель тем временем совсем разошелся. Катаясь по своему широкому ложу, он визжал и рычал, рвал зубами подушки, когтями скреб покрывало, разрывая его в клочья, выдирал из висков седую поросль и швырял клочки на пол — в общем, вел себя несколько странно.
Пожав плечами, Конан отвернулся от сего малоинтересного зрелища и пошел к себе. Пока пин оплакивал сафьяновую коробочку, его охраннику следовало обдумать все произошедшее нынешней ночью, а затем и решить, что же делать дальше. Продолжать ли службу у благородного пина, нет ли… Сообщать ли Нассету через Ши Шелама о пропаже серебряной пчелы, нет ли… Может, попытаться самостоятельно найти коварную Илиану и толстозадого сердцееда Гана Табека?..
Тяжкий вздох наполнил могучую грудь юного варвара. Закрыв ладонями уши, дабы не слышать визгов огорченного Эбеля, он напряженно размышлял о дальнейших своих действиях. Собственно говоря, к решению он пришел уже там, в комнате пина. Ясно, что надо отправляться на поиски похитителей, не то сотня золотых уплывет от него, как от невезучего рыбака стая жирной трески. Но как узнать, куда направились беглецы? Что на уме у Илианы? Известно ли ей об истинной ценности серебряной пчелы?
Что на уме у Гана Табека, киммерийца сейчас волновало гораздо меньше, ибо в этой парочке верховодила явно девица. А что творится на уме у женщины (равно как и в ее сердце), всегда было и останется загадкой для мужчины. И все-таки одно предположение у Конана имелось.
* * *
Прошлым вечером, перед самым походом на базар, он вышел из покоев купца и отправился вниз, в зал. Проходя мимо комнаты Гана Табека, он услышал его голос — на удивление не писклявый, а просто тонкий и вполне нормальный. «В Аките, — говорил сын Эбеля, — живет его дед. Он богаче нас втрое… К нему… Примет…» Вот и все, что удалось расслышать киммерийцу. Тогда он не подумал, о чем вел речь Ган Табек и к кому он обращался. Теперь же приходил к убеждению, что грабители направились именно в Акит, небольшой городишко в Туране, и вещал преступный сын для изменницы Илианы, и ни для кого более.
В Акит… Туда не было прямой дороги из Шадизара, но киммериец знал в округе все тропы, благо исходил их немало, и отлично представлял себе первоначальный путь беглецов. Если только они тоже знают те тропы, какие знает он… А в этом он никак не мог быть уверен. Все же оба прибыли в Замору из Шема, и лишь пину Эбелю известно, бывали ли они тут прежде… Но не спрашивать же его!
Конан протянул руку к бутыли лучшего вина достопочтенного пина (а ее похитил он, а вовсе не Илиана с Ганом Табеком) и отпил пару глотков. Вино и в самом деле хорошее. Жаль, что всего одна бутыль — шемит хранил ее для градоправителя Дара, но, поскольку тот слегка рехнулся, оставил себе. Сейчас волшебным ароматом и вкусом этого чудесного напитка наслаждался варвар, причем полагал сие справедливым. Эбелю довольно и обыкновенного красного, не велика птица…
За стеной постепенно затихали вопли пина — видно, Баат умудрился все же его успокоить. Наверняка теперь проспит до следующего вечера, а потом начнет мучить слуг, выискивая пособников…
Киммериец чуть повернул голову и посмотрел в окно. Там была такая плотная чернота, что даже кошка заблудилась бы в трех кипарисах. Так и бывает обычно в этих краях в середине ночи. Но Конану уже не раз приходилось бродить по Шадизару в эту пору, так что потеряться он не боялся — чего нельзя было сказать про Илиану и Гана Табека. Хотя они могли нанять проводника…
Конан ухмыльнулся, представив блуждающих в потемках девицу и безумца. Вот бы поглядеть на них сейчас!
Тут он поймал себя на том, что в пустых мыслях только теряет время. В конце концов, беглецы и впрямь должны были позаботиться о своем долгом путешествии заранее, а значит, кто-то здешний за небольшую плату ведет их на юго-восток, к Аренджуну, откуда затем легко добраться и до великого бескрайнего Турана…
Поставив бутыль на пол, рядом с тахтой, киммериец легко поднялся, облачился в тунику и кожаную куртку, подвесил к поясу меч и бесшумным шагом вышел из комнаты.
* * *
Гнедой, направляемый крепкой рукой киммерийца, уже достиг восточных врат Шадизара, когда сзади послышался шум погони. Конан узнал бы его из тысячи других звуков — не по мерным и частым ударам копыт по камню и не по тихим и злобным голосам преследователей, а по некоему току, что жжет спину и проникает в сердце.
Он не стал убегать. Шадизар — его город. Так считал он с юношеской самоуверенностью, а посему был намерен остановиться, повернуться лицом к врагу и принять бой. Впрочем, сначала надо все же посмотреть, кто тут такой отважный…
Круто развернув гнедого, Конан помчался назад. Но, к его великому удивлению, а более негодованию, преследователи тоже круто развернули своих коней и тоже помчались назад. То есть они самым примитивным образом удирали от того, за кем гнались. Нет, этого варвар понять не мог…
Фыркнув, он снова поехал к восточным вратам. За городской стеной стояла на привале совершенная ночь. Здесь оказалось еще темнее, чем в Шадизаре. Ветер плясал, как взбесившийся туземец, то появляясь внезапно и сразу со всех четырех сторон, то исчезая в небесах — лишь на миг, а потом возвращался и с новой силой пускался в пляс. Черные густые волосы Конана спутались, длинные пряди лезли в глаза и в рот, так что ему пришлось остановиться и связать их на затылке в хвост. К этой неприятности тут же прибавилась еще одна: кожаная куртка на спине то и дело надувалась пузырем, словно парус, только волочил этот парус назад, а не вперед, как положено.
Отчаянно бранясь, Конан все же пришпорил коня. Он утешал себя мыслью, что Илиане с Ганом Табеком сейчас приходится ничуть не лучше, однако ветер от этого не слабел и ночь не светлела. Беззвездное черное небо окутало всю землю, все вокруг; оно застряло в ветвях дерев, и метилось путнику, что и к рассвету тьма не выпутается оттуда.
Головой врезаясь в буйный поток ветра, гнедой скакал по равнине. Вскоре уже Конан увидел вдалеке огни постоялого двора, коих близ Шадизара было не менее десятка. Два из них юный варвар обчистил всего пару лун назад, в содружестве с Ши Шеламом и торговцем Халимом (в свободное время сей достойный муж с удовольствием занимался грабежом), поэтому ему не больно-то хотелось снова показываться там. Но, кажется, те дома были чуть левее…
Обогнув небольшую апельсиновую рощу, всадник подъехал наконец к огромному и несуразному деревянному строению в два этажа. Свет горел только внизу, в одном окне, которое последний раз мылось, видимо, еще до рождения Конана. Спешившись, киммериец привязал усталого гнедого к частоколу и бесшумными шагами приблизился к окну.
Прямо посередине большой комнаты стоял не кто иной, как сам Ган Табек. Круглое лицо его уж не носило на себе печать безумия, а, напротив, было живо, умно и довольно. Полные губки (точь-в-точь как у отца) быстро двигались, а короткие пухлые ручки так и мелькали в воздухе — как видно, Ган Табек рассказывал что-то веселое. Своим бодрым видом он явно раздражал полусонного хозяина — тот исподлобья взирал на толстого гостя и, кажется, скрежетал зубами. Илиану Конан отсюда не видел.
Увы, и слов отсюда он разобрать не мог, а потому пришлось оставить надежду хоть что-нибудь подслушать и войти внутрь.
Лишь только огромная фигура юного варвара показалась в дверном проеме, как с Гана Табека мгновенно слетела вся его веселость. Круглое лицо вытянулось и стало похоже на дыню, только пучеглазую, а ручки взметнулись и прижались к груди так крепко, что сын купца даже вякнул.
Смерив его презрительным взглядом, Конан прошел к очагу и сел на скамью, уверенный в том, что беглецы уже никуда от него не денутся. Краем глаза он видел обоих, и этого было вполне достаточно.
— Пива! — коротко приказал он хозяину, не поворачивая головы.
Илиана — она сидела в двух шагах от него — тихо шипела, делая некие знаки Гану Табеку. Но тот, по всей видимости, был все же немного не в себе, ибо никаких знаков не понимал, а только таращил на нее глаза и пожимал жирными плечами.
Молчание становилось зловещим. Ган Табек, подобно отцу, жалобно скулил и не двигался с места; Илиана сверлила киммерийца зелеными кошачьими глазами, желая то ли убить его взором, полным ярости, то ли всего лишь оглушить на время. Он же не обращал на девицу ровно никакого внимания. Она уже не казалась ему такой красивой, как прежде.
Хозяин приволок из погреба кувшин с пивом и, через слово зевая, осведомился, останется ли новый гость на ночь. Получив в ответ небрежный кивок, он пошаркал к лестнице, ведущей на второй этаж, счастливый уже тем, что сейчас ляжет спать. Так они остались втроем.
Первым нарушил молчание все-таки Ган Табек. Робко хихикнув, он вновь попытался изобразить из себя умалишенного, для каковой цели уселся на пол и загукал, пуская слюни.
На это Конану нечего было возразить. Он ограничился тем, что сплюнул в огонь.
Тогда Ган Табек поднялся и медленно подошел к Илиане.
Конан позволил им немного пошептаться — все равно ничего не сумеют придумать. Он догнал их (они не успели проехать и половины пути) и теперь уже ни за что не упустит. Всякий знает, что сотня золотых на дороге не валяется. Ее надо заработать, и сие киммериец намеревался сделать непременно.
— Что ж, — наконец подал голос сын купца. — Адонис да будет мне свидетелем — я не хотел обидеть отца.
Конан фыркнул и подумал, что светлый бог Шема Адонис слишком мягок нравом, коль допускает такой наглый обман. Жирный недоносок обобрал отца, удрал от него, а теперь заявляет, что не хотел его обидеть!
— Да, не хотел его обидеть, — словно услышав мысли варвара, сказал Ган Табек. — Ты же знаешь… э-э-э… Конан? Да, Конан. Ты знаешь, что я подвержен приступам безумия, и вот в такой-то приступ я и ушел из дома — тихий и печальный, как весенний ветерок.
Кром! И этот болтает о ветерке. Может, он и правда помешанный?
— Да, я ветерок, — опять прочитал мысли Конана Ган Табек. — И я упорхнул в степь, дабы насладиться простором и свободой.
— Зачем тебе на просторе хрустальная чаша и самоцветы? — сумрачно поинтересовался варвар, не оборачиваясь.
— Э-э-э… Какая такая хрустальная чаша? — ненатурально удивился сын купца, и Конан убедился в том, что он совершенно в своем уме. Вот только врет хуже, чем притворяется.
— Расскажи ему, — вступила в беседу Илиана, — расскажи этому парню о нашей любви. Хоть он и варвар, а…
— О какой такой любви? — снова удивился Ган Табек. На сей раз у него получилось гораздо лучше.
— Что-о-о? — Ярость снова вспыхнула в зеленых глазах, только теперь она была направлена на толстозадого возлюбленного.
— Ах да! Конечно! О нашей любви! — вспомнил Ган Табек и умильно посмотрел на девицу. — Любовь, Конан, как у Адониса и Иштар, никак не меньше.
— Ну, хватит, — решительно прервал представление киммериец. Медленно развернувшись, он положил тяжелые кулаки на колени и подарил каждому по долгому грозному взгляду. — Вываливайте сюда все, что накрали у Эбеля, а не то — клянусь Кромом — обоих выпотрошу и брошу псам.
Он говорил спокойно, но веско. Сын купца переглянулся с Илианой и глубоко вздохнул.
— Послушай, Конан, — вкрадчиво начал он. — Неужто ты думаешь, что мы не предполагали погони? Загляни в наши дорожные мешки, перетряси наше одеяние, и ты не найдешь даже одного золотого, не то что того барахла, о коем так печешься.
— Где же барахло?
— Далеко, — махнул рукой Ган Табек. — Отсюда не видать.
— Не видать… — эхом подтвердила девица. Конан сразу понял, что оба говорили правду.
Имущество пина, верно, повез окольной дорогой кто-то другой, а беглецы двинулись в путь налегке. Надо было признать, что придумано это довольно хитро. Иное дело — киммерийца мало трогала судьба хрустальной чаши, туфель владыки и драгоценностей. Он жаждал получить сафьяновую коробочку, и уж ее-то наверняка Ган Табек взял с собой.
— В хрустальную чашу можешь наложить дерьма, — небрежно сказал Конан, — а самоцветами украсишь сверху. Отдай мне пчелу и убирайся, вонючий кабан.
— П-пчелу? — Сын купца вдруг стал заикаться. — Не ведаю никакой пчелы, не видывал, не слыхивал…
Вот когда он всерьез испугался. Варвар с удовольствием смотрел, как исчезает яркий румянец с жирных обвисших щек, как пот крупными каплями выступает на гладком еще челе. Значит, Ган Табек знает, какова истинная ценность серебряной пчелы?..
— У нас ее нет, — сказала Илиана, решив не отрицать очевидного — того, что о наличии пчелы им было известно. — Она тоже уехала в Ак…
— В Акит? — с ухмылкой закончил за нее Конан.
— Да…
Оба совсем растерялись. Они уже не переглядывались, а смотрели в грязные, покрытые трещинами доски пола, будто надеялись прочитать там ответ на сложный вопрос: что делать дальше? Но доски безмолвствовали. Похоже, только Конан знал, что же делать дальше…
— Ну?
Он сказал только одно слово, но и того оказалось довольно, чтобы воры вздрогнули и подняли на него тоскливые, как у голодных псов, глаза.
— Конан… Я поведаю тебе… — залепетал Ган Табек, умоляюще прижимая ручки к груди. — Эта пчела… О, она не просто прекрасное творение золотых дел мастера! Она — предвестница несчастий! Клянусь тебе всеми богами Шема, ей вовсе нет цены! Ну скажи, зачем, зачем она сдалась моему престарелому родителю? Удача никогда не покидала его. Он всю жизнь купался в золоте, он…
— Ну? — негромко повторил Конан.
— Сейчас, сейчас… Я не знаю, кто ты на самом деле, Конан, но думаю, что не простой охранник — иначе откуда бы тебе стало известно о серебряной пчеле… И… И о том, что мы направлялись в Акит… Да, наверное, для тебя не существует тайн… Так давай же поедем вместе! Серебряная пчела обеспечит нам долгое и спокойное существование, а золото… О, золота полно там, куда мы едем. И могу уверить тебя, нам хватит его до конца наших дней!
— А кто повез барахло?
— Как?.. — Ган Табек выпучил глаза и в изумлении уставился на варвара. — Как «кто»? Гури, конечно! Племянник Нассета.
* * *
— Я думал, тебе известно все. — Он покачал головой и улыбнулся. — Ты провел меня, северянин. Меня, шемита, сына знаменитого Эбеля! Что ж, неплохо…
— Гури… — не слушая его, задумчиво протянул Конан. — А почему в Акит?
— Там живет его дед — отец отца. Может, слышал о Затейнике Бездомном?
— Слышал.
— Вот он и есть дед Гури. Он терпеть не может Нассета, а тот его. Так и ненавидят друг друга всю жизнь… — Ган Табек вдруг запнулся и замолчал.
— А дальше? — спросил Конан, которому в этой истории что-то тоже показалось странным.
— Погоди… Кто подослал тебя к Эбелю? Уж не Насеет ли?
— Да, через Гури, — нехотя ответил варвар, отлично понимая, что скрывать уже нечего.
— Но почему тогда он не сказал об этом мне? Круглая физиономия Гана Табека побагровела от злости и огорчения.
— Пес… — прошипел он сквозь зубы. — Всех надул…
— Всех надул, — эхом повторила Илиана. — Кроме меня.
— Что? — Ган Табек поглядел на нее удивленно.
— Кроме меня! Ты, дурень, отдал ему сафьяновую коробочку да еще рассыпался в благодарностях! Не видать бы нам сейчас пчелы, если б… если б…
— Говори толком, — приказал Конан, отшвыривая в сторону опустевший за время беседы кувшин.
— Слушай, северянин, — торжественно начала Илиана, явно весьма и весьма довольная тем, что главная роль перешла от мужчин к ней. — Мы давно решились бежать от Эбеля, очень давно. Для этого несколько лун тому назад Ган Табек якобы по неосторожности свалился с лошади вниз головой и лишился разума — разумеется, тоже якобы. Пин сам чуть не сошел с ума, пытаясь вылечить единственного сыночка, но все было зря. Гану Табеку день ото дня становилось все хуже и хуже. Наконец он пришел в то состояние, в каковом и пребывал до сих пор — ну, кроме вечера и этой ночи. Ты спросишь, зачем он притворялся? Да затем, что Эбель всегда знал о том, что сын его при всей доброй и нежной душе и тонком уме отягощен ужасным пороком — тягой к воровству. Что ты так сморщился, Ган Табек? Или я лгу?
— Нет, — буркнул сын купца, отворачиваясь.
— Так вот, Конан. Когда с Ганом Табеком случилось то несчастье, пин совершенно потерял бдительность и уже не следил за каждым жестом его, каждым взглядом и шагом. Конечно, моему возлюбленному пришлось напрячь все силы и на время прекратить воровство — дабы никто ничего не заподозрил…
— Я сразу понял, что с головой у него все в порядке, — вставил киммериец, пожимая плечами.
— Ты… Ты — зоркий орел, сильный лев, ловкий леопард и хитрая змея… — похвалила его Илиана. — Остальные не таковы. Им и на ум не пришло, что Ган Табек всего лишь прикидывается… Так вот. Однажды слуги вывезли страдальца на прогулку…
— Об этом я сам расскажу, — влез Ган Табек. — Тебя же там не было!
Илиана фыркнула и с достоинством удалилась в свой угол.
— Да, Конан, однажды слуги вывезли меня на прогулку в тот сад, что расположен на южной стороне Шадизара. Расстелив на траве покрывало, они усадили меня туда, а сами сели в пяти шагах и затеяли игру в кости. Некоторое время спустя к ним подошел некий господин с золотым кольцом в носу. Он приветливо улыбнулся и извлек из сумы, что висела у него на поясе, оплетенный стеклянный кувшин. Глаза моих нерадивых слуг загорелись — ведь в нашем доме они могут пить только воду, ибо у отца все бутыли и все кувшины сосчитаны и горе тому, кто осмелится покуситься на хозяйское вино!
Господин с кольцом в носу любезно предложил слугам испробовать его прекрасного вина. Заявив, что все четверо ему ужасно понравились (вот уж грубая лесть, но мои кретины, конечно, не распознали фальши), он вытащил пробку и протянул кувшин старшему. Ну а на дармовщинку-то отчего б и не выпить?
Короче говоря, скоро на дне кувшина не осталось и капли. Пока я агукал на своем покрывале, умирая от злости, эти твари нажрались как свиньи! И тут вдруг произошла странная штука! Старший, широко зевнув, глупо хихикнул и повалился прямо на траву — через мгновение он уже спал, могучим храпом отравляя и без того жалкое существование букашек и птичек. Остальные трое посмотрели на него с удивлением, но и сами тотчас начали зевать и валиться рядом с ним. В общем, уснули все.
Я разъярился. Я даже не мог притворяться дальше — я встал и, подойдя к щедрому господину, сказал: «Что за дрянь ты подсыпал моим слугам, незнакомец? И с какой целью?» Думаю, голос мой дрожал от негодования и весь вид был необычайно грозен. Однако господин ничуть не смутился — видно, из храбрецов. Мило мне улыбнувшись, он ответил: «Дорогой Ган Табек, я рад, что ты доверяешь мне настолько, что даже бросил строить из себя полуидиота (признаться, я был польщен, потому что меня еще ни разу не принимали за полуидиота — всегда за полного). Присядь, потолкуем о делах — твоих и моих».
Не буду скрывать, я и удивился, и оробел. Он знает меня, а я был так неосторожен… Тем не менее я сел. «Не тревожься о слугах, — продолжал незнакомец, — скоро они проснутся. Я к тому времени уже уйду, а ты снова отвесишь челюсть и пустишь слюни — никто ни о чем и не догадается. Так вот, зовут меня Гури. Буду откровенен с тобой, Ган Табек, ибо давно слежу за жизнью твоей и знаю совершенно определенно: ты намереваешься сбежать от отца с красоткой Илианой, не так ли?» Я кивнул, не в силах вымолвить и слова. «Очень хорошо, — улыбнулся он. — Ты поступаешь верно, ничего не отрицая. За это и я расскажу тебе кое-что. Я — племянник Нассета… О, не пугайся так. Да, твой отец и мой дядька терпеть не могут друг друга, но, между прочим, у Нассета есть враг и поопаснее Эбеля. Это — мой дед, Затейник Бездомный. Ты слышал о нем когда-нибудь?» Я мотнул головой, давая понять, что нет, не слышал. «Странно. В Аките — есть такой город в Туране — моего деда знают все. На самом-то деле его зовут Джанхедом, но никто уж и не помнит ныне его настоящего имени. Затейником его прозвали из-за веселого нрава, а Бездомным… Ха-ха… Потому что есть у него одна маленькая слабость — обладая несметными богатствами, он обожает жаловаться и встречному и поперечному на ужасающую свою бедность. Он говорит, что нет у него ни куска хлеба, ни медной монеты, ни сада, ни дома… Ясно, никто ему не верит — кто не видал огромного белого дома в сердце Акита, принадлежащего ему? Кто не слыхал о чудесных садах за городской стеной? Кто не бывал в его трактирах и постоялых дворах?… О-о-о, он очень, очень богат.
И вот, когда я навещал его тому уж полгода назад, он признался мне со слезами на глазах, что есть одна вещица, обладание коей сделает его по-настоящему счастливым. „И что за вещица?“ — полюбопытствовал я. „Серебряная пчела Митры“, — таинственным шепотом ответил дед. Я так и подскочил в кресле. „Ну как же! Ведь Насеет гоняется за ней без малого полтора года!“ — без колебаний раскрыл я Затейнику тайну дяди. „Насеет? — Дед побелел и заскрипел остатками зубов. — Ну уж не-ет. Этому проходимцу я не позволю завладеть моей собственностью!“ Я удивился: „Твоей? Но ты же сам только что говорил, что хочешь ее приобрести, а…“ Он недовольно сморщился. „Не перебивай меня, внук. И помни, то, чем я хочу обладать, уже и есть мое. А Насеет, будь он трижды старшим братом твоей матери, пчелу не получит“.
Затем мы пошли прогуляться в сад, и там беседа продолжилась. Я узнал, что пчела сия не простая — она предвещает своему хозяину несчастья, так что всегда можно уберечься и обойти опасность окольной дорогой. Еще я узнал, что Эбель — нынешний ее владелец — не соглашается продавать ее ни за какие богатства. В довершение дед сообщил ivpie, что благородный пин в скором времени прибудет в Шадизар, мой родной город, где живу я с дядей своим Нассетом, и просил всенепременно добыть для него желаемую вещицу. „Я, — сказал Затейник, — обещаю тебе и клянусь, что после моей смерти ты останешься единственным моим наследником, а посему и пчела достанется потом тоже тебе. И еще: если тебе понадобится чья-то помощь (наверняка понадобится), не жалей ни золота, ни добрых слов. Пусть тот, кто будет рядом с тобою в сем важном деле, знает твердо: здесь, в Аките, у него будет все. Я осыплю его самоцветами, я подарю ему один из моих лучших домов, я… Я сделаю для него то, чего не сделал бы и бог для безгрешного. От моего имени ты можешь обещать ему это“.
И вот я говорю тебе, Ган Табек. Согласен ли ты помочь мне? Согласен ли украсть у отца своего серебряную пчелу? Я знаю, что бежать тебе и твоей красотке некуда, так почему бы вам не отправиться в Акит? Дед подарит вам дом, даст золота столько, сколько попросите, и до самых своих последних дней вы будете желать лишь одного — бессмертия».
Как ты думаешь, Конан, я согласился? — неожиданно спросил Ган Табек, с грустью глядя на варвара.
— Думаю, да, — с усмешкой ответствовал тот.
— Ты прав. Я согласился. Согласился обворовать собственного отца! А впрочем, я и прежде не раз залезал в его сундуки… Но ведь бежать нам было и правда некуда! А Гури я поверил, потому что он… Да и сам не пойму почему…
— Так что с серебряной пчелой? — напомнил Конан.
— Ах да… Ты что-то хотела поведать нам, Илиана?
— Хотела. — Она вышла из своего угла и села на табурет против киммерийца. — Все получилось именно так, как задумал Гури. Эбель отправился на базар за покупками, а Ган Табек в это время утащил сафьяновую коробочку, потом хрустальную чашу, самоцветы…
— Я не удержался, — пояснил сын купца.
— Он не удержался, — милостиво кивнула Илиана. — А когда все легли почивать, мы потихоньку вышли из дома, оседлали лошадей и поехали к маленькой харчевне, что находится у западных врат Шадизара. Там нас должен был ждать Гури.
Еще издали мы заметили его в дверях харчевни. Он стоял и всматривался в темноту, явно ожидая нашего скорого появления. Мы приблизились, и, не спешиваясь, передали ему сафьяновую коробочку — на мгновение он приоткрыл ее и полюбовался неземной красотой серебряной пчелы, затем сунул коробочку в свою дорожную суму. Ган Табек попросил его также прихватить уворованные у Эбеля вещи, на что Гури с неохотой, но дал согласие. Подробно рассказав Гану Табеку дальнейшую дорогу (а он, в отличие от нас, собирался ехать кругом, через Коринфию, Коф и так далее), он вскочил на коня и, не попрощавшись с нами, быстро ускакал. Мы заметили — с ним был его верный слуга, который ждал его поодаль.
— Он еще крикнул: «Встретимся в Аките!» — добавил Ган Табек.
— Да, он крикнул… Ну а мы поехали на восток, сюда. Вот и все.
— Так что с пчелой? — повторил Конан вопрос, нахмурив брови.
— А, с пчелой… — Илиана вздохнула. — Да ничего. Вот она, в моем мешке.
— В… в твоем мешке? — От изумления у Гана Табека открылся рот. — А почему это она в твоем мешке?
— Потому что я украла ее у Гури, пока ты с ним беседовал у харчевни. Я сразу заметила его слугу, поэтому я обошла вас с той стороны, где он не мог меня видеть, и… Не сердись, Ган Табек. Я не слишком-то доверяла этому господину. Ты видишь сам, что я была права. Ведь он обманул всех: и Нассета, и Конана, и тебя… Отчего он не признался нам, что сам направил к Эбелю нового охранника? А? И почему он не сказал Конану, что ты только притворяешься сумасшедшим? О, он очень коварен! Наверное, даже коварнее меня.
— Не тебя, — хмыкнул Конан. — Ты же утащила у него пчелу. Кстати, покажи мне ее.
— Вот.
Илиана взяла с полу свой дорожный мешок, сунула туда свою тонкую изящную руку, извлекла сафьяновую коробочку и с готовностью протянула Конану.
— Теперь я понимаю, кто гнался за мной… — мрачно сказал варвар, рассматривая прелестную вещицу.
— Гнался? Когда? — испугался Ган Табек.
— У восточных врат… Это наверняка был Гури, который заметил пропажу пчелы и бросился за вами в погоню.
— Он не догнал тебя?
— Нет.
— А куда он делся потом?
— Не знаю. — Конан запихал коробочку с пчелой в глубокий карман своих шаровар и с ухмылкой посмотрел на обескураженных влюбленных. — Ну вот что. Пчелу я, конечно, забираю себе. А вы возвращайтесь к Эбелю — может, простит.
— Но… Мы же украли у него самоцветы, туфли владыки, чашу… — растерянно забормотал Ган Та-бек. — Он не примет нас обратно.
— Тебя примет. А вот что касается девицы…
— Но я же люблю его! — воскликнула Илиана.
— Кого? — усмехнулся киммериец.
— Эбеля, кого же еще!
— Вот ему и скажи об этом.
— Конан, не оставляй меня… — уцепился за его рукав Ган Табек, видя, что киммериец встает и направляется к дверям. — Я не хочу сидеть тут с этой гиеной…
— Ах, я гиена?
Илиана зловеще зашипела и впилась ногтями в розовые уши бывшего возлюбленного. Заверещав, тот пнул ее своей короткой ножкой в колено. Девица взревела, с яростью куснула Гана Табека за плечо, потом, не отпуская его ушей, принялась лбом долбить его пухлую грудь.
Конан с интересом наблюдал за началом схватки. Было ясно, что победа достанется именно Илиане. Сын купца защищался неумело, к тому же ужас перед разъяренной девицей словно сковывал его. Она, напротив, дралась с энтузиазмом. Конану даже показалось, что она давно мечтала побить Гана Табека и вот теперь наконец дождалась удобного момента.
Визги и крики переполошили весь дом. Уже поспешал вниз хозяин, встрепанный и перепуганный, со свечой в дрожащей руке, уже собирались на верху лестницы постояльцы, каждый из которых на всякий случай вооружился — кто кинжалом, кто мечом, кто дубиной, а кто и обычным табуретом. Но, увидев, что происходит на самом деле, все облегченно вздохнули. Не разбойники, не воры — милая парочка, видимо, супруги колошматили друг друга, а это было вполне нормально. Чего только не бывает меж влюбленными!
Постояльцы вновь разошлись по своим комнатам; хозяин, качая головой и ругаясь, ушел тоже. Они снова остались втроем. Но и киммериец не собирался сидеть здесь до рассвета и развлекаться гладиаторскими боями. Когда в него полетели клочья волос и платья, он, брезгливо сплюнув на пол, повернулся и пошел прочь. За половину ночи оба — и Ган Табек, и его хитроумная (пожалуй, слишком хитроумная) девица — ему порядком надоели. Он не желал более смотреть на их безобразия, а еще более не желал слушать и слышать их.
Вскочив на гнедого, он бросил взгляд на восток. Небо там уже чуть просветлело, значит, близится рассвет. Довольная усмешка тронула твердые губы варвара — он успеет вернуться в Шадизар до утра, он успеет сделать все, что задумано.
Гнедой с чувством заржал, мечтая о бешеной скачке, и понес своего седока обратно в город.
— Конан! — послышался вслед голос Гана Табека. Но, наверное, только послышался.
* * *
Гури, мрачный, как грозовая туча, ждал его у восточных врат.
— Хей! — Он поднял вверх обе руки, призывая варвара остановиться.
Гнедой едва не сбил его с ног, встав как вкопанный прямо перед ним, морда к морде, но, надо отдать должное Гури, он не двинулся с места. Только спустя несколько мгновений, когда убедился в том, что Конан остановил коня и согласен поговорить, поморщился и отошел на шаг в сторону.
— Что рожу кривишь? — весело спросил варвар, спрыгивая на землю.
Племянник Нассета запыхтел, но все же ответил:
— Твой гнедой мне ногу копытом отдавил.
— Только одну?
— Что «только одну»?
— Будешь платить? — И Конан взялся за повод, как бы собираясь вскочить на коня и помчаться к Нассету.
— Буду! — злобно выплюнул Гури.
Он коротко свистнул, и из-за угла ближнего дома вышел высокий тощий парень. Он подошел, молча протянул хозяину большой дорожный мешок. Гури сунул внутрь толстую лапу и начал остервенело шарить в поисках кошеля. При этом он не забывал осыпать проклятиями Гана Табека, Эбеля, Илиану и Нассета, обвиняя их в воровстве, обмане, нахальстве, скудоумии… То есть он свалил на них половину собственных грехов, напрочь забыв о том, что только сейчас в них честно признавался. Не обругал он одного лишь варвара, и то потому, что тот стоял слишком близко…
— На! — Он впихнул набитый золотом кошель в руку Конана. — Ровно две сотни. Ограбил… Подчистую ограбил… Давай пчелу!
Конан вынул из кармана сафьяновую коробочку и, все так же усмехаясь, протянул ее Гури.
Оба одновременно раскрыли вместилища своих сокровищ. Конан — кошель, дабы пересчитать золотые, Гури — коробочку, дабы полюбоваться серебряной пчелой. Потом один пошел к своему гнедому коню, второй — к своей белой кобыле. Даже не посмотрев друг на друга на прощание, они разъехались в разные стороны, и каждый в душе был чрезвычайно доволен сделкой…
* * *
— И, конечно, каждый в душе был чрезвычайно доволен сделкой, — заявил Ши Шелам, когда Конан закончил рассказ.
— Конечно, — кивнул киммериец, уплетая за обе щеки ветчину со свежим душистым хлебом.
— Две сотни… — Ловкач покачал головой, — Неплохо, но…
— Что еще?
— Как быть с Нассетом? Ведь Гури вряд ли покупал у тебя пчелу для него. А нанимал-то нас он. Жаль мне моей доли…
— Не ной. Будет тебе твоя доля.
— Не могу поверить — неужели ты поделишься со мной?
Вместо ответа Конан запустил руку в дорожный мешок и вытащил оттуда еще один кошель — родной брат первого, который он получил от Гури.
— От-т-ткуда? — Ши выпучил глаза и осторожно потрогал туго набитый кошель.
— От Нассета.
— Как же? А? И Гури заплатил тебе, и Насеет?
— Ну да. Только Гури две сотни, а Насеет одну — за службу у Эбеля.
— О-о-о… Значит, теперь я получу свою треть не от сотни золотых, а от трех сотен?
— От пяти.
— Каких пяти? О чем ты, мой юный и отважный друг?
— Еще две мне заплатил Эбель.
— За что?
— За серебряную пчелу…
Ши Шелам надолго замолчал, переваривая сообщение киммерийца. В уме он прикидывал и так и этак, но в итоге все равно получалось, что пчелы было две, никак не меньше.
— Значит, пчелы было две? — выдал он результат тяжких раздумий.
— Нет, три.
— О, Бел! Да говори же ты толком, Конан! — рассердился Ловкач.
— Проклятие! Я и сам толком не знаю, как все получилось! Первую серебряную пчелу я выкрал у Эбеля в первый же день службы. Ночью поехал к кхитайцу, что живет на окраине у южных ворот…
— Это тот, что считается лучшим золотых дел мастером?
— Он. Так вот, я хорошо заплатил ему, и к утру у меня в кармане лежала еще одна серебряная пчела. На следующую ночь я пришел к нему уже с той пчелой, которую делал он — теперь мне не надо было красть настоящую… И появилась третья. Потом я пришел снова…
— Зачем? — вопросил Ши Шелам, опять ничего не понимая. Во время рассказа Конана он загибал пальцы на левой руке, подсчитывая, сколько раз парень сходил к кхитайцу. Выходило, что три, а значит, пчел было четыре?
— Зачем… Зачем… — Тут варвар почему-то смешался и быстро заговорил о другом. — Ган Табек украл у пина серебряную пчелу из сафьяновой шкатулки — украл и удрал. Я догнал его, отобрал шкатулку с пчелой и продал ее Гури. Ну вот. А вторую я продал Нассету, и третью — самому Эбелю. Все просто, что тут непонятного?
— Есть кое-что… — задумчиво произнес Ловкач. — Вряд ли ты подумал об этом, варвар, но у кого же из них теперь настоящая серебряная пчела?
— Кром! — рыкнул Конан. — Ты любопытен, крысеныш! Ешь мясо и ложись спать — только на пол. Нынче я останусь ночевать в твоей халупе.
— О, конечно, конечно…
Ши Шелам вздохнул и, поняв, что из Конана уже ничего не вытянуть, сунул в рот последний кусок ветчины, бросил на пол халат и улегся на него. Гостю он предоставлял в полное распоряжение узкий, зато длинный деревянный топчан.
Отнюдь не жесткий и холодный пол не давал ему заснуть — одна мысль мучила Ши беспрестанно: почему все же варвар смутился? Сколько он его знал, тот вовсе не был склонен к такого рода чувствам. Самоуверенный, как всякий юнец, обыкновенно он вовсе не замечал своих промахов или даже представлял их Ловкачу как хитроумную проделку, а если приятель разоблачал его, гневался и грозил ему страшными карами. Отчего ж теперь он прятал глаза и отворачивался?
— Конан… — тихо позвал Ши, когда свеча уже догорела и ночь вошла в маленькое грязное оконце.
— Ну?
— А мне тут как-то снилась война в Аквилонии. Кровь, крики, стоны — ох и весело. А тебе?
— А мне ничего, — буркнул варвар.
— А в позапрошлый раз мне снились…
— Кром! Спи, крысеныш, не то я выкину тебя на улицу!
Ши Шелам закрыл глаза и, сладострастно подсчитывая свою долю от пяти сотен золотых, постепенно погрузился в глубокий, очень приятный и долгий сон…
* * *
Когда первый луч золотого солнца проник в комнату, Конан пробудился с улыбкой на устах. Вот теперь он мог считать историю с серебряной пчелой законченной: этой ночью ему снился отличный сон, достойный именно его, сурового воина из северной Киммерии. Сначала он видел рыцарский турнир, сверкающие на солнце доспехи и мечи, и себя самого, облаченного в тигровую шкуру, — варвара, над которым смеялись все эти разряженные в пух и прах господа. Но вот он тоже поднял меч — и один рыцарь слетел с коня под ноги заверещавшим от ужаса девицам. Потом голова второго перелетела через ряды и исчезла высоко в небе, в белых облаках. Потом и третий упал, разрубленный Конановым мечом пополам. И только он повернулся, дабы встретиться в честном бою с остальными, как они вдруг разом завизжали и ринулись бежать. В изумлении варвар опустил меч. Рыцари, визжащие будто девицы… Тьфу!
Этот сон наполнил его приятным чувством удовлетворения. Но сразу за ним наступил следующий.
Поначалу он тоже был странным и несколько страшным — яростная битва на широком поле вдруг прервалась; воины повернули головы к Конану, что стоял на холме над ними, и… Начали смеяться, показывая на него пальцами и выкрикивая оскорбления. В голове варвара помутилось от унижения и негодования. Он слетел с холма и врезался прямо в гущу битвы. Обе стороны тотчас забыли, что воевали друг с другом, и скопом ринулись на Конана. Меч свистел в воздухе, обагренный кровью; воплями ужаса сменился отвратительный хохот; головы слетали с плеч, и живые отпинывали их, чтоб не мешались под ногами… Скоро все было кончено. На огромном поле юный варвар стоял один — прочие лежали грудами, мертвая тишина повисла в воздухе, и стая стервятников бесшумно опустилась на землю…
Вот это сон так сон! Не то что жареные поросята и фаршированные карпы! Киммериец сел на топчане, потеплевшим взором синих глаз одарил Ши Шелама. А тот спал, словно бродячий пес, — поскуливая, подергивая ногами и вздыхая. Потом опять, наверное, будет врать, что ему снились кровопролитная война и могучие воины из царства мрака, коих он, само собой, победил…
— Хей, парень! — негромко позвал его Конан. Ловкач вздрогнул, но глаз не открыл.
— Вставай, не то я один допью вчерашнее вино.
— Вот еще… — проворчал Ши, поднимаясь и усаживаясь на полу. — Вино мы покупали вместе, значит, и выпьем его вместе.
— Я больше тебя, — возразил Конан, — поэтому и вина мне нужно больше.
— А я старше тебя, — не сдавался Ши, — поэтому больше нужно мне.
— Кром! Не спорь со мной, не то я…
— Выбросишь меня на улицу? Или не станешь рассказывать, что же все-таки произошло с серебряной пчелой?
Конан засопел, не зная, сердиться ему на приятеля или нет. В конце концов, тот имел право знать правду — ведь это к нему пришел Гури и поведал о пчеле, Насеете и Эбеле…
— Не зря тебя прозвали Ловкачом, — хмурясь, произнес он. — Своего не упустишь, заморянская вошь. Клянусь бородой Крома, не пойму я, зачем тебе все знать. Довольно того, что твоя доля стала в пять раз больше.
— Я ее заслужил, — важно ответствовал Ши Шелам. — Ну, так что же произошло?
— Только то, что я тебе уже рассказывал…
— И еще кое-что?
— Да. Настоящая серебряная пчела… — То ли от волнения, то ли от природного нахальства варвар быстро допил остатки вина из бутыли и, отвернувшись от приятеля, отсутствующим голосом продолжал: — Та, настоящая пчела не досталась никому. Старый кхитаец сделал мне три фальшивых, их-то я и продал Гури, Нассету и Эбелю.
Ловкач ахнул.
— Значит ли это, мой друг, что настоящая серебряная пчела осталась у тебя?
— Не значит… — буркнул Конан. — Не значит! Я… Клянусь молниями Крома, я не хотел… В первую же ночь я… Я раздавил ее…
— Раз-да-вил? — Казалось, Ши Шелама сейчас хватит удар, так он стал красен и пучеглаз.
— Ну да… Когда я пришел от кхитайца — незадолго до рассвета, — я открыл сафьяновую шкатулку, чтоб еще раз сравнить настоящую пчелу с фальшивой… Настоящая упала на ковер — я не видел куда. Начал искать…
— Это не варвар, — прошипел багровый от злости Ловкач. — Это слон, потомок гиппопотама, брат бурого медведя!.. Вместо того чтоб тихо, ласково и осторожно пошарить пальчиками в ворсе ковра, он начал бродить по нему ножищами — как по лесу! Тьфу!
И, в расстройстве схватив со стола кошель с золотыми, Ши выскочил за порог, сам себе давая клятву немедленно напиться и забыть о настоящей серебряной пчеле Митры.
Конан молча смотрел вслед приятелю. Странно, что сейчас его посетила точно такая же мысль: надо пойти и напиться. И все забыть. Все, кроме одного — навестить Халима. Помнится, недавно он что-то говорил о богатом купце из Турана…




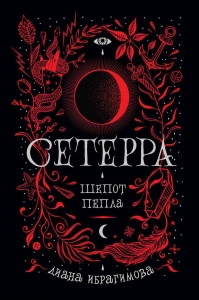



Комментарии к книге «Вестники Митры», Дункан Мак-Грегор
Всего 0 комментариев