ЧАСТЬ ПЕРВАЯ — ЧУЖОЙ
Глава первая — ГЛУХИЕ ВЫСЕЛКИ
Заканчивалась длинная осенняя ночь. Небо на востоке стало понемногу светлеть. В Лесу было тихо… Вот разве что сорвался с соседнего дерева сухой желтый лист, упал на землю — и опять ни звука. Рыжий медленно встал, бесшумно, словно тень, выскользнул из зарослей репейника и остановился, вытянул перед собой передние лапы…
Хотя какой он рыжий? Он, как и все его сородичи, сер как пожухлая трава, и только на левом ухе у него действительно есть небольшое рыжее пятно. Ну и что с того?! Ну, разве что кое-кто болтает, будто это не зря, а из-за того, что в его жилах течет кровь южаков. Но это ложь, он настоящий рык. Да и еще какой! Ни перед кем он не вилял хвостом, но зато, если такое было нужно, то падал на спину и передними лапами хватал нападавшего за уши, а задними — одним ударом! — вспарывал ему брюхо. Да что и говорить! Кто в месяц Земляники один прикончил четверых лазутчиков? Заика? Трехпалый? Или, быть может, кто-нибудь еще? Нет, это он, снова он, Рыжий! И так везде, во всем, чего ты только ни возьми, везде он лучший среди лучших, везде он первый в своем племени. Ну а вчера и вообще! Хотя, конечно, о том, что было с ним вчера, пока что лучше молчать, потому что такого им не объяснишь, такое до поры лучше скрывать, чтобы зато потом как объявить, так объявить, как высказать, так высказать! Р-ра! Да! Уж потом-то он им все выскажет, все! Ну а пока — тем более, когда ты уже точно знаешь, чего ты на самом деле достоин, — пока можно и потерпеть, промолчать. Теперь это совсем нетрудно, р-ра! И Рыжий гордо поднял голову, прищурился и глянул на поселок — пусто; они все еще спят по своим логовам, ничтожества, и только он один, первейший среди всех…
Чу! Ветка треснула!.. Нет, это просто показалось. Или, может, это Вожак во сне неловко повернулся? Рыжий посмотрел на логово Вожака, вырытое у самого основания общинного дуба. Нет, там тоже все как будто в порядке, тихо, Вожак крепко спит. Тогда Рыжий поднял голову и глянул выше, на дуб…
Но сразу отвернулся, ощетинился. И было отчего! Ведь в самом деле, р-ра! Жил себе, жил, гневно подумал он, и вот вдруг…
Да! А началось-то все с сущего пустяка. Три дня тому назад подул порывистый южный ветер, небо быстро затянуло тучами и пошел проливной дождь. Дождь — это хорошо, так им всем тогда подумалось, дождь поит Лес… Как вдруг раздался гром, то есть зловещий перестук копыт Небесного Сохатого. Ого! Гр-ром! Гр-ром! И там и сям по небу заметались сполохи. Все сразу испугались, разбежались, попрятались по своим логовам и принялись ждать. Но Небесный Сохатый и не думал никуда уходить, а все кружил и кружил над поселком, гремел копытами и высекал рогами молнии. Тогда по поселку завыли: «Л-луна! Защитница! Л-луна!» Но тщетно — молния, огненный рог разъяренного бога, ударила в общинный дуб и подожгла его. Р-ра! Дуб горел! Гром устрашал. И даже дождь их тогда предал — огня не загасил, — и дуб пылал, дуб корчился, скрипел. Все замерли по логовам, никто тогда не то чтобы выходить — выглядывать наружу, и то не решался. Еще бы! Ведь какое это страшное знамение — общинный дуб горит! Бог, значит, очень сильно разъярен на них, значит, поселок обречен на гибель, Л-луна, защитница, владычица, Л-луна!..
Нет, тогда ждали молча, не выли. Все думали: что будет, то будет! Ну а Сохатый грохотал, метался взад-вперед по тучам, бодал небо рогами — и от этих его мощных ударов во все стороны разлетались огнедышащие молнии. Дуб продолжал гореть. Дождь моросил. Огонь шипел, шипел…
А потом понемногу погас. Вскоре и тучи разошлись, затих и перестук копыт Небесного Сохатого. В Лесу стало светлей и совсем тихо, только с веток мерно капали последние капли дождя. Но все по-прежнему сидели по логовам, никто не смел из них выходить, все ждали знака.
Но вот наконец Вожак первым вышел на поляну. Сперва он прошелся по ней взад-вперед, осмотрелся, после осторожно сел, глянул вверх, на обгоревший дуб, мрачно зевнул, а после, опустивши голову, оскалился — и рыкнул!
Только тогда и стали выходить. Сошлись вокруг него, расселись. Вожак молчал. Все молчали. Так и стемнело, наступила ночь. Взошла Луна…
И вот тогда-то они и запели — сперва запел Вожак, за ним старейшины, потом их пение подхватили бойцы, а там уже к ним присоединились и все остальные. Ночная темнота становилась все гуще и гуще, а голоса поющих все крепче и громче, страх постепенно вылетел из них и заблудился, умер в ночной темноте, а вместо него к ним всем пришла уверенность в собственных силах и надежда на то, что все не так уж и плохо, как это показалось им днем. А что! Ну, был огонь, ну, дуб горел, но ведь же дотла не сгорел! А умер день и ночь пришла — и вот уже она, Луна, защитница, явила им свой лик, и вот она смотрит на них и согревает их, и, значит, у них еще есть надежда на спасение, и, значит, нечего робеть, а нужно срочно доказывать Небесному Сохатому, что никакие они не узколобые, а самые настоящие рыки. И вот тогда-то, убедившись в этом, он и уймет свой гнев и снова явит им свою милость. И вот тогда…
И был тогда пропет Великий Клич, а после, как и положено, был исполнен и Великий Танец — на всю оставшуюся ночь. А когда ночь прошла и закончился Танец, они пустили искарей, и те кинулись в Лес, долго искали и нашли…
Р-ра! Х-ха! Рыжий, прервав воспоминания, еще раз посмотрел на обгоревший дуб, на белое пятно среди его черных обугленных ветвей — и глухо засопел. Еще бы! Снова вспомнилось: вчера был ясный, тихий и в то же время очень тревожный день. Вожак, старейшины и все бойцы, значит, и Рыжий с ними тоже, сидели у околицы и ждали искарей. Ждали довольно долго. Но вот, наконец, те явились и обсказали все, что им удалось выведать, то есть и то, где они обнаружили Младшего Брата, и то, каков он из себя, и даже как к нему надежнее всего подойти, и как…
— Р-ра! — перебил их Вожак. — Сам знаю! Без вас!
И встал. И вышел на тропу. Все двинулись за ним. Сперва тропа шла под гору, потом обогнула овраг. Там, за оврагом, по приказу Вожака, они остановились. А Рыжий, названный загонщиком, прошел еще немного вперед, потом резко свернул налево, легко скользнул в притихший ельник… И сразу же взял след и вышел на сохатого, поднял его, погнал. Бежать сквозь чащу было трудно, но Рыжий, распалясь, все наддавал и наддавал. Сохатый дрогнул, засбоил; топот его копыт уже совсем не походил на гордую поступь Небесного Брата, и вообще, теперь уже не гром — трусливый перестук катился по Лесу. Мало того, сохатый быстро выбился из сил и взмок; запах вспотевшего врага бил в нос и доводил до исступления. Рыжий еще наддал и закричал:
— Левей! Левей давайте! Завожу! — потом перемахнул через валежину…
И замер, задохнулся от волнения. Ну, еще бы! Ведь прямо перед ним, и прямо на земле, сверкал ярчайший лунный свет. Днем — и вдруг лунный, это поразительно! И, главное, где он нашел это чудо!? Да прямо здесь, в их лесу, на маленькой полянке, вся земля на которой плотно устлана сырой после дождя иглицей, а посреди нее — невероятно чистый, ослепительный лунный свет! Да это же — тут и сомневаться нечего — это Убежище! Луны! Так вот, оказывается, какое оно из себя, это заветное, священное место! И вот, оказывается, кто первым вышел на него — он, Рыжий! О, это даже не удача это чудо! Шестнадцать по шестнадцать поколений предков охотилось за ним, но тщетно. Десятки, сотни смельчаков и по сей день мечтают если не войти в него, то хотя бы глянуть на него издали. А тут — вот оно, прямо перед ним! И Рыжий тотчас позабыл и про сохатого, и про Великую Охоту, про Вожака, по обгоревший дуб и вообще про все на свете. Самодовольно кашлянув, а после облизнувшись, он сделал шаг вперед, потом осторожно притронулся лапой к заветной находке…
По ослепительно-белому свечению пробежала едва заметная рябь…
И чудо исчезло! Перед Рыжим была обыкновенная дождевая лужа, в которой плавали желтые осенние листья. Да как же это так?! Ведь только что он совершенно отчетливо видел Убежище! А вот теперь также отчетливо не видит ничего. Кроме какой-то грязной лужи!.. Р-ра, вот так издевательство! И, значит, не судьба. Обескураженно вздохнув, Рыжий резко тряхнул головой…
И вздрогнул от злобного крика:
— Р-растяпа!
Рыжий оглянулся и поморщился. Ну, да, конечно же! Здесь, вокруг, все такое же, как и всегда: чащоба, буераки, грязь. Да уж какое тут Убежище! Тут бы хотя бы…
— Р-ра! Р-ра! Р-растяпа! — повторил Вожак, продираясь к нему сквозь кусты. — Р-ра! Где Жертва?!
Сохатый действительно исчез. Рыжий хотел было сказать, что он в этом не виноват, ему было видение, он думал, что…
— Молчать! — взревел Вожак и, оглянувшись, закричал: — Трехпалый! Лысый! Р-ра!
И племя тотчас же бросилось дальше, по следу, за сохатым.
— Р-ра-ра-ра! — неслось уже издалека. — Стой, Младший Брат! Смирись! Р-ра-ра! Р-ра-ра!
А после стало тихо. И Рыжий, постояв еще немного, тяжко вздохнул и, развернувшись, пошел обратно, к поселку. Он шел не спеша. А то и вообще временами ложился на землю. Лежал, смотрел по сторонам. Пытался думать, но не думалось. Тогда он снова вставал и шел дальше. Шел, шел…
А где-то вдалеке, может быть, уже даже за рекой, то и дело слышались гневные крики:
— Р-ра! Младший Брат! Ты где? Р-ра-ра-ра! Мы все равно тебя найдем! Р-ра! Р-ра!
И так оно потом и было: они настигли его, окружили и, после довольно-таки ожесточенной схватки, завалили, прикончили, а потом, уже ближе к вечеру, с победным пением приволокли его в поселок, бросили к основанию общинного дуба и сразу же начали готовиться к Обряду. Все, даже сосунки, сошлись тогда на площади. А ты…
И Рыжий снова тяжело вздохнул, резко тряхнул головой, чтобы как можно скорее избавиться от неприятных воспоминаний, потом глянул на дуб, на площадь — никого. Все еще спят, конечно же. Ведь так вчера навеселились! Попировали, да, поликовали. А ты, единственный из всех, отмеченный Луной…
— А ты, — сказал вчера Вожак, — а ты едва не погубил нам всю Великую Охоту! И поэтому тебе сегодня здесь места не будет. Да, р-ра! Вот именно. А ну пшел в дальние! Стеречь!
— Р-ра! — дружно подхватило племя.
И все они делали это с великой радостью, потому что им было очень приятно унижать тебя. Им еще, наверное, очень хотелось, чтобы ты стал оправдываться перед ними и умолять не прогонять тебя. Но ты не доставил им этого удовольствия — ты молча встал, молча ушел, и молча лег вот здесь, в дальних кустах, и всю ночь напролет сторожил их покой. Все они пели гимны, а ты молчал. Все они пировали, а ты ни разу даже пасти не открыл, не шелохнулся. И только когда они все стали возлагать Жертву… Вот тут ты и не выдержал, упал, зарылся с головой в репейник и зажмурился. Р-ра, думал ты тогда, ничтожные глупцы! Да я, так думал ты тогда, во много раз ловчее вас всех, сильнее, смелее. Да если бы я хотел, то разве бы сохатый убежал? И вообще, за что вы меня так ненавидите? И ведь не сегодня же все это началось! Да-да! Две четверти Луны тому назад, когда была последняя дележка, Заика вылез не по чину, а я его совершенно справедливо, по закону осадил, что тогда было? А то! Меня же тогда во всем и обвинили! А что было весной, когда на Выселки нагрянули Седые и я сражался за троих, а после с перебитой лапой лежал у себя в логове, хоть кто-нибудь из вас тогда пожалел меня? Нет! Кто-нибудь бросил мне тогда хоть бы одну голую обглоданную кость? Никто! А прошлой осенью, когда я чуть не околел, ужаленный змеей, до этого хоть кому-нибудь было дело? А год тому назад, когда, вы все это прекрасно должны помнить… Да что тут, р-ра! Чего и говорить! Ведь и тогда еще, когда нас, сосунков, Вожак впервые вывел на Тропу, ведь уже и тогда вы все как только могли унижали меня! Но за что? Да, я рыжий, да, я безотцовщина, подкидыш. Да, я вчера не взял сохатого, зато… Р-ра! Вы только задумайтесь! Я зато единственный из всех — и не только из вас, но и вообще из всех рыков — я единственный, кому было дано увидеть Убежище Луны! И, значит, в нужный срок Луна снова призовет меня к себе, и я тогда уже не только увижу это ее Убежище, но я войду в него, а там… О, это да! Луна, об этом знают все, рождается, растет, стареет, умирает, спускается в Убежище, а после вновь рождается. А после снова вновь рождается! И снова вновь! И вновь! И так же будет и со мной; я стану, как Луна, бессмертным. И вот тогда-то в Глухих Выселках поймут, кто я такой! И будут лебезить передо мной, скулить, ползать на брюхе. Да только будет уже поздно! Ведь я тогда уже… Ведь я…
Р-ра! Глупости! Что было, то ушло, то умерло. Гроза ушла, ушла Великая Охота, ушло Убежище — да было ли оно? — и пир давно затих, и Луны уже нет, и небо уже светлое, ночь кончилась. Рыжий, стоявший на краю поселка, смотрел на обгорелый дуб. Там, среди черных корявых ветвей ярким пятном белел череп сохатого — огромные ветвистые рога, глазницы, устремленные к гаснущим звездам, и пасть, разинутая так, как будто череп силится вскричать: «О, Старший Брат, будь осторожен с рыками! Они легко со мной расправились! И так же легко они расправятся с любым, кто только посмеет к ним сунуться!». Вот так-то вот! Так что теперь поселку нечего бояться; им и охота удалась, и пир, и жертвоприношение. Они — не узколобые. А ты…
И Рыжий засопел, зажмурился и вновь — уже в который раз! — представил себе ельник, бурелом, и черную после дождя иглицу, и яркий лунный свет, который, как настойчиво утверждают старики…
И усмехнулся. Х-ха! Бессмертие! А что это такое? А то, что пусть пройдет еще пять, десять, двадцать лет, и все твои сородичи уйдут — а ты, как ни в чем не бывало, останешься. Так, хорошо, а дальше что? Дальше придут другие, молодые, и ты, как самый старший среди них и самый опытный, будешь над ними Вожаком, станешь водить сородичей в набег, на охоту, первым петь гимны, первым отправлять обряды, первым наказывать зарвавшихся, хвалить удачливых и строго учить нерадивых и — это уже всем — рассказывать о прошлых временах. И так пройдет еще пять, десять лет, и снова пять, и снова десять, потом еще пять раз по пять и десять раз по десять. И все это время ты будешь жить все здесь же, под этим самым дубом, в этом же самом сыром и мрачном логове — и знать, что это для тебя никогда не кончится! Так что, ты этого хотел? Ты разве об этом мечтал? Рыжий нахмурился. И вдруг…
— Эй, ты! — послышалось из-за спины.
Он оглянулся…
Глава вторая — ВРАГ
И резко отскочил, оскалился. Ну, еще бы! Всего в каких-то двух шагах от него, под деревом, стоял чужой. Стоял и как ни в чем не бывало смотрел на него. И был этот чужой из себя такой короткошерстый, рябой, длинноногий. И был у него узкий лоб… Да это же южак! Ну, Рыжий, прыгай! Бей!..
А он не шелохнулся. Он в первый раз увидел узколобого. Да, говорили, что будто где-то там, на самом краю Леса, они еще иногда встречаются. Но чтобы здесь, в самой глуши, вдруг появился южак — да такого никто и представить себе не мог! А вот гляди — стоит. И, значит, вот они какие! Хвост тощий, как у крысы, а уши длинные, обвислые. И он, этот южак, не прячется, не убегает! Да он еще и говорит — совершенно спокойно:
— Вот мы и встретились, — и улыбается.
Враг! Лютый, злейший враг! Ну, бей его!..
Но, непонятно почему, — но только не от страха, это точно! — Рыжий осторожно отступил от южака на шаг и, ощетинившись, тихо спросил:
— Ты… кто такой?
— Тебе? Пока еще никто, — ответил узколобый. — А после будет видно.
И замолчал. Южак. Враг! Р-ра, Рыжий, чего ты стоишь?! Ты должен на него кидаться! Рвать его! В кровь! А ты стоишь и ничего не делаешь. Ждешь, отведя глаза. Что, думаешь, что это западня? Тогда… Спокойно, не спеши! Да-да, вот именно. И Рыжий, сдерживая гнев, спросил:
— Увидим — что?
— Да многое, — негромко, но по-прежнему уверенно ответил узколобый. Всего так сразу и не расскажешь. Но главное я тебе сразу скажу: я ведь не просто так пришел. А чтобы увести тебя отсюда.
— Меня? Куда?!
— К твоим сородичам. Вот именно: к твоим. Ведь ты же никакой не рык, ты южак.
А, так вот оно что, гневно подумал Рыжий и усмехнулся. Ну-ну, давай, заманивай, плети. Вы, южаки, все такие — лжецы.
А южак продолжал:
— Не веришь мне? А зря. Я здесь уже два дня кружу. Все я здесь видел, все слышал. И вот что я тебе скажу: ты им здесь всем чужой.
— Р-ра! — не сдержался Рыжий. — Р-ра!
— А не спеши! — все так же тихо, но очень спокойно ответил на это южак. — Не спеши. И я тоже не буду спешить.
С этими словами он сел, небрежно отбросил в сторону хвост и зевнул. Рыжий растерянно стоял над ним, не зная, что и думать. А узколобый продолжал: — Не беспокойся. Я же ведь не говорю, что уведу тебя прямо сегодня. Чего-чего, а ждать я умею. Четыре года я искал тебя, и вот, наконец, нашел. Только… Ну, да!
Он хмыкнул, мотнул головой и так и замер, наполовину отвернувшись от Рыжего. И так он, полуотвернувшись, и сидел. Молчал, молчал… А после снова — резко — повернулся к Рыжему и также резко спросил:
— Где твой отец? Ты хоть однажды видел его, а?
Рыжий смутился, не ответил. Ему было очень противно и стыдно. И это перед кем?! Перед врагом! А тот…
— Х-ха! — зло сказал южак. — Я так и думал! Так я ему и говорил…
— Кому это «ему»?!
— Да твоему отцу! Предупреждал: «Не верь ты им! Убьют ведь! Дикари!»
— Лжешь! Мой отец…
И Рыжий поперхнулся, замолчал.
— Да! — подхватил южак насмешливо. — Ну еще бы! Конечно, твой отец был славным, храбрым рыком! И ты такой же, как и он, ты здешний, свой. А тут вдруг пришел какой-то узколобый свинопас и хочет тебя отсюда сманить. Но ты не верь ему, гони его прочь! И он уйдет — нет, он трусливо убежит отсюда, поджав хвост, на свою голую безлесую Равнину, и пусть он там после жиреет и нежится, и пусть он там не знает ни голода, ни холода, да там, кстати, такого никогда и не бывает, чтоб кто-то голодал или мерз. А ты… А ты сиди себе в своем гнилом болоте, вой на Луну, сноси нападки выжившего из ума Вожака и вообще делай вид, что как будто бы не замечаешь всех тех насмешек и издевательств, которыми тебя здесь с таким удовольствием осыпают все, кому не лень. И будут дальше осыпать, и будут унижать тебя, и будут насмехаться над тобой — всегда! Потому что, еще раз говорю, ты здесь чужой был, есть и будешь. Вот так-то вот! — и узколобый резко встал…
А Рыжий подскочил! Р-ра! Враг, подумал он, трусливый свинопас! Да как он смеет!
— Р-ра! — крикнул Рыжий. — Р-ра! — и бросился!..
Но промахнулся. Враг отскочил, прижался задом к дереву. Р-ра! Р-ра! Рыжий припал к земле, метнулся низом, как змея, вцепился свинопасу в горло, люто сжал челюсти… И заревел от боли! Отскочил! Присел и снова пры…
— Стоять! — раздался властный крик.
И Рыжий замер, оглянулся. Вожак — злой, заспанный, взъерошенный бесцеремонно оттолкнул его и встал напротив узколобого. Ну а сородичи бесшумно, словно тени, тем временем скользили справа, слева, сзади от него — и вот уже, сойдясь полукругом, они замерли в каких-то двух-трех прыжках от южака. Уф-ф, хорошо-то как, подумал Рыжий, он, значит, все-таки успел их разбудить, поднять, они пришли! Теперь враг не уйдет — вон сколько нас! Да и куда ему отсюда бежать? Лес, глухомань кругом. И, значит, уже можно не спешить; можно присесть, перевести дыхание и изготовиться. А после будет знак — и сразу, первым кинуться. Вон и другие тоже замерли, тоже ждут знака.
Но узколобый этого не понял. Он только увидел, что его не трогают, и сразу осмелел, оскалился и даже задрал голову. О, что это? На горле у него была повязана какая-то блестящая и очень крепкая с виду веревка! А, так вот оно в чем дело! Это, видно, она и спасла ему жизнь, а ты об нее чуть все зубы себе не переломал. Ну-ну! Значит, в другой раз надо будет хватать его или выше нее или ниже, чтобы она не мешала, и ты его тогда…
Южак вдруг выпалил:
— Приветствую вас, братья!
Р-ра! Вот наглец! Вот Вожак ему сейчас покажет братьев!
Но тот, однако, не спешил, а усмехнулся, посмотрел на Рыжего, откашлялся… и снова повернулся к узколобому. И узколобый продолжал:
— Да-да, вы не ослышались. Мы, южаки и рыки, братья! Просто одни из нас живут в Лесу, в норах живут, как кроты, а другие…
И замолчал. В толпе прошло движение. Только один Вожак и ухом не повел, зато прищурился и затаил дыхание. Ого! Но узколобый не обратил на это никакого внимания и продолжал:
— А вот другие живут совсем иначе — сытно, вольготно, весело. А почему? Да потому что они, то есть мы, южаки, намного умнее вас, смелее и сильнее!
Вожак многозначительно оскалился, толпа дружно придвинулась на шаг. Южак весь подобрался и сказал:
— Конечно, я мог бы вам еще много чего рассказать. Очень, кстати, интересного. Но вам, дикарям, этого не понять. И потому, чтобы не терять с вами время, я ухожу. Я…
— Взять его! — крикнул Вожак. — Р-ра! В клочья! Р-ра!
И племя дружно бросилось на узколобого. Крик! Толкотня! Лязг! Визг! Казалось, что вот-вот все кончится…
Как вдруг южак резко — и, кстати, очень высоко — подпрыгнул, два раза кувыркнулся в воздухе, перескочил через толпу, в четыре маха миновал поселок — и скрылся в непролазной чаще!
— Р-ра! — дико заорал Вожак. — Заика! Шип! Косматый! Догнать его! Р-ра! Р-ра!..
Трое лучших догонщиков племени помчались вслед за беглецом, а остальные…
Кто продолжал стоять, а кто и лег, прищурился… И все они теперь смотрели только на него, на Рыжего. В зрачках у них не отражалось ничего ни злобы, ни сочувствия, ни даже просто любопытства. Но Рыжий-то прекрасно знал: смотрят в глаза тому — и только тому — кто обречен на смерть. Или изгнание. Что, впрочем, равносильно смерти. Смерть! Но за что?!
И словно бы в ответ:
— Три дня тому назад сгорел общинный дуб, — мрачно сказал Вожак. — А почему? Да потому, что гроза пришла с юга. И, значит, это южаки наслали на нас эту злополучную молнию. Но это что! Грозы приходят к нам часто, по много раз за лето. А вот зато самих южаков я в наших краях не видел уже целых пять лет. Но что мы видим… Э! Кого это все мы только что здесь видели? Рыжий, я тебя спрашиваю, кого? Ну, отвечай! Зачем он приходил? О чем ты с ним болтал?
— Я? — хрипло спросил Рыжий.
— Ты! — грозно выкрикнул Вожак. — А кто же еще? Ну, говори, что он от тебя хотел, чего вы с ним не поделили?
Но Рыжий не стал отвечать. Он прекрасно понимал, что отпираться от этих нелепых обвинений, что-то кому-то объяснять, кого-то умолять — все это совершенно бесполезно. И потому он, ощетинившись, с опаской отступил на шаг. Племя шагнуло вслед за ним, остановилось. Сородичи — дядья, двоюродные братья — смотрели пристально, глаза в глаза. И улыбались. Да, понял Рыжий, это приговор. Да, это смерть! Или…
Нет-нет! Враг нагло лгал! Ты, Рыжий, чистокровный рык! И потому ты никогда…
— Р-ра! — выкрикнул Вожак. — Ты сын узколобого. Р-ра!
— Р-ра! — подхватили все и двинулись на Рыжего. — Р-ра! Р-ра!
И… тот не выдержал и бросился бежать. Никто не стал его преследовать. Закон гласил, что обреченный сам решает, где ему погибнуть.
Глава третья — УДАР
Солнце поднялось уже довольно-таки высоко. По небу плыли редкие куцые облака. С реки доносились негромкие всплески — это кормились утки; им скоро улетать на юг.
А на болоте было тихо. Рыжий лежал на кочке и не шевелился. Да и куда ему теперь, так думал он, торопиться? Теперь ему только и осталось, что лежать и ждать. И так, думал он, ты, Рыжий, и пролежишь здесь весь день. Потом наступит ночь, твои сородичи сойдутся под общинным дубом — и споют Песнь Изгнания. Тогда уже вся округа узнает, что в Лесу появился нерык. Такое известие их очень порадует. О, еще бы! Нерык — это славная жертва! Один нерык, если его правильно возжертвовать, может потом принести столько охотничьей удачи, что ее запросто может хватить, скажем так, до самого снега на такой поселок, как их Выселки, а то даже и на больший. Так что как только Корноухие, ближайшее к вам племя, услышат о нерыке, так они сразу, прямо в эту же ночь, поспешно соберутся и выйдут на тропу. А им навстречу выйдут Красноглазые. А с севера придут охотники Седого. Вот сколько будет всех. И все они будут хотеть заполучить нерыка — славную добычу. А ты, добыча, будешь драться до последнего! Там, в Выселках, твой разум словно помутился и лапы сами тебя понесли. Но здесь ты уже ни на шаг не отступишь. Ты им не свинопас, не узколобый. Враг нагло лгал! Лгал и Вожак! Мать говорила: «Твой отец был сильным, смелым воином. Запомни это, сын!» А потом…
Р-ра! Довольно скулить! Сам во всем виноват. Рыжий встал, зло зевнул, отвернулся…
И замер. След! Прямо перед ним! А вон еще один. И там. И там! И… О! А какой странный след — шаги неправильные, рваные. И передние ступни слишком узкие, и лапы тоже тощие. И вообще, владелец этих лап шел по болоту медленно, с трудом, едва ли не по самое брюхо проваливаясь в грязь. Так… Так… А вот клок его шерсти. Он белый… Да это же враг! Это его следы! И шерсть его! Да и проходил он здесь не так уж и давно. А с такой походкой ему далеко не уйти!.А если так, тогда… Ага! Ну, хорошо! Теперь он у меня сразу за все и сполна разочтется! Р-ра-ра-ра! Вперед!
Легко перепрыгивая с кочки на кочку, Рыжий быстро обогнул трясину, свернул на север, пробежал еще немного… И заскулил, забегал взад-вперед. Еще бы! Следа не было. То есть как только след вышел из болота, так сразу исчез. И вот теперь Рыжий растерянно тыкался носом в землю — и ничего не мог учуять. Вот незадача, а! В болоте их, этих следов, полно, их там и видно, и слышно. А рядом, на лугу, сразу нет ничего! Ну, разве что, вон там как будто бы травинка примята. А там еще одна, еще. А запаха не слышно. Вот враг; запутал, значит, сбил тебя. Но ничего, и не таких ловили! Рыжий взбежал на ближайший пригорок и торопливо осмотрелся. Прямо за лугом начинался густой ольховник, слева от него было еще одно болото, а справа пруд, за которым уже начинались угодья Корноухих. Южак туда не сунется, уверенно подумал Рыжий, потому что уж больно там место открытое, он лучше переждет до темноты в ольховнике… Но он явно спешит! А куда? Да конечно к реке! Река, так говорят, выводит прямо на Равнину, вот он по ней, вдоль берега, и двинется… Так напрямик бери! Скорей!
Добравшись до реки, Рыжий упал в прибрежную траву, прополз немного, замер, осмотрелся. Никого. Прислушался… Ни звука. Что ж, нужно ждать. И будешь ждать, куда же ты теперь денешься! Вот только бы успеть тебе до вечера, чтоб до того, как они соберутся под дубом и заведут Песнь Изгнания, прийти аж до ушей в чужой крови и сказать: «Там, у реки он лежит. Пойдите и возьмите». Да, только так! Ибо тогда уже никто из них не заикнется, что будто ты чужак, что будто полукровка. Тогда напротив, да! Почет и сомкнутые пасти! И будет ночь, взойдет Луна, и ты — единственный, кому она…
Идет! Чуть слышно хлюпают шаги… И еще слышен его голос; да, точно, это он! Идет и напевает. В чужой стране. Каков наглец! Рыжий вскочил…
Да, это он, тот самый южак. Значит, догонщики его не взяли, не учуяли — как прежде не учуял его и ты и допустил его в поселок, а потом…
Но и южак хорош! Теперь он подошел уже настолько близко, что Рыжий явственно слышал, как он самодовольно, с шумом втягивал воздух — и не чуял опасности! Да, значит, старики правы, когда говорят, что узкий лоб — это не зря, это…
Ого! А это еще что? Южак вдруг резко выпрямился и встал на задние лапы, а передние сунул в кусты, порылся ими там, потом крепко во что-то вцепился — и выволок из-под ветвей толстенное, остроконечное с обеих сторон бревно, сел в него… Точнее, сел в просторное, широкое дупло, кем-то старательно выгрызенное в верхней части бревна, взял в передние лапы длинный еловый шест, оттолкнулся им от берега… и поплыл по реке! Рыжий, забыв об осторожности, встал во весь рост, но враг не замечал его — он плыл. Невероятно! Много чего болтали старики об узколобых, но чтоб вот так, играючи, они могли управлять рекой — об этом не было и речи!.. Но хватит рассуждать. Скорей! И Рыжий бросился вдоль берега — к обрыву, к ивам; только бы успеть!
Успел. Взобрался по склоненному над водой стволу, скользнул в листву, устроился среди ветвей и затаил дыхание. Под ним, едва шурша на перекате, текла река.
А вот и враг. Плывет, сидя в дупле. Поет вполголоса. Все ближе. Ближе…
— Р-ра! — радостно выдохнул Рыжий и прыгнул вниз, на южака. — Р-ра! Р-ра! — и стал его душить. Колючая веревка на горле врага теперь уже не мешала ему; Рыжий вцепился чуть ниже. — Р-ра!..
И вдруг — удар ему! Передней лапой под дых! Рыжий взвыл, подскочил… Удар! Еще один! Солнце распухло, лопнуло в его глазах; Рыжий упал и потерял сознание…
…Когда он наконец очнулся, уже вечерело. По небу быстро плыли грозовые облака. Южак сидел на заднем конце бревна, держал в передних лапах шест и с любопытством поглядывал на Рыжего. Рыжий зажмурился. Р-ра! Проваляться целый день! И где? Под пастью у врага! Да если бы он только захотел, он бы давно разодрал тебя в мелкие клочья и в реку побросал, рыбам скормил. Ох-хо-хо-хо!..
— Эй! — негромко окликнул южак. — Рыжий! Ты жив?
Рыжий смущенно засопел, открыл глаза. Южак, склонив голову набок, беззлобно наблюдал за ним. Потом сказал:
— Прости, так получилось. Они убили бы тебя, вот я и забрал тебя с собой. А здесь, в моей стране, тебя уже никто не тронет.
Как?! Рыжий подскочил…
Да, точно, Леса не было! Зато река стала намного шире; по низким берегам там-сям виднелись заросли рогоза, а дальше, насколько хватало глаз, расстилалась Равнина, то есть голое лысое поле, пустая, гиблая земля. Р-ра! Р-ра! Рыжий, забыв об осторожности, ступил на край бревна — бревно качнулось, зачерпнуло краем воду…
— Ты что?! — вскричал южак. — Полегче! Ар-р!
Рыжий поспешно сел и ощетинился. Потом, немного успокоившись, спросил:
— А… долго мы вот так вот плывем?
— Достаточно. А что?
— Так, ничего.
И Рыжий медленно осел, а после лег на дно бревна и вновь зажмурился. Достаточно! Чего? И кому? Если судить по брюху, так ты уже дня два, никак не меньше, ничего не ел… и провалялся падалью под узколобой пастью, а та тебя не тронула. Невероятно! Ибо как по нашим, также и по их законам, всегда должно быть так: пойманного в Лесу южака немедленно убивают, но также и рык, забежавший на Равнину, тоже прекрасно знает, что здесь ему ни от кого не будет пощады. Да, только так! Потому что мы и они — это заклятые, непримиримые враги. Навеки. А ведь когда-то были одним Лесным Народом! Это потом уже, спасаясь от суровых зим, трусливые предки узколобых бежали на Равнину и поселились там, среди сурков и полевых мышей, и стали строить там себе гнезда, как птицы, стали свинов пасти, стали ходить на задних лапах…
Ну, это нет! Про лапы это зря, такого просто не может быть! То есть можно, конечно, иногда вставать на задние лапы, когда ты к тянешься к чему-нибудь, расположенному очень высоко. Кроме того, не стану спорить, можно даже некоторое время идти только на них, когда тебе нужно подкрасться — все это да, это можно, так иногда бывает даже несколько удобнее. Но вот чтобы всегда, везде ходить только на них, на задних лапах тут старики, конечно, привирают. И это они делают для того, чтобы еще больше высмеять наших заклятых врагов, еще сильнее унизить их, чтобы потом…
Ну, и так далее. Такие тогда были мысли. А время шло, солнце все ниже и ниже склонялось к горизонту. Бревно, влекомое течением, едва покачивалось на волнах. Южак, казалось, задремал. Рыжий сидел, наполовину отвернувшись от него, и мрачно смотрел на воду. Южак, так думал он, подлый лжец! И наглец! Вначале он опозорил его перед племенем, а после заманил к реке, а вот теперь и вовсе везет неизвестно куда. Так встань же, Рыжий! Р-ра! Вцепись в него! Ну! Ну!..
Но Рыжий все сидел, не шевелясь, и тяжело дышал. А что! Три раза он уже пытался было встать… но почему-то так и не смог этого сделать, лапы не слушались его. Он и кричать даже не мог. Он и… Р-ра! Что это с тобой? Да что ты, околдован, что ли? Или, быть может, все намного проще, и кровь есть кровь, и вот время пришло, и в тебе действительно проснулся тот, о ком столько болтали соплеменники, кем попрекал тебя Вожак… Но это ложь! Ты чистокровный рык! И, более того, ты лучший из них всех, ибо, отмеченный Луной, ты в нужный срок войдешь в ее святилище…
В святилище? Луны? А где теперь она, эта Луна? Ведь ты же теперь не у себя в Лесу, а у них на Равнине, а здесь, у них, как это всем известно, Луны нет никогда бывает, она здесь не светит, они о ней вообще ни имеют никакого понятия! Ибо она — это только для вас, храбрых рыков, для ее любимых и преданных детей, а для врагов нет ничего!
Подумав так, Рыжий нахмурился и посмотрел по сторонам, потом на южака. Тот как почуял — тотчас встрепенулся, открыл глаза, спросил:
— Ну что, может, пристанем?
Рыжий молчал. Тогда южак едва заметно усмехнулся, встал во весь рост, на задних лапах, перехватил шест поудобнее и начал ловко подгребать им к берегу. Солнце склонилось уже совсем низко. Приближались сумерки.
Глава четвертая — ОДИН-ИЗ-НАС
Общими усилиями они вытащили бревно на берег и остановились отдышаться. Хотя, если по совести, то запыхался один только Рыжий. И это совсем неудивительно, потому что так долго стоять на одних только задних лапах и при этом еще толкать передними такую тяжесть, как это толстенное, набрякшее в воде бревно, — такого ему еще отродясь не приходилось. Рыжий, правда, довольно быстро к этому приспособился, да и южак молчал, не насмехался над ним, когда у него, особенно поначалу, то одно, то другое не ладилось. Но вот, наконец, дело сделано, так что теперь надо поскорее отдышаться да опуститься бы на все четыре…
Но, тем не менее, Рыжий продолжал, как и южак, стоять только на задних лапах, да при этом он еще и делал вид, что такое положение ему не доставляет ни малейшего неудобства. Хотя на самом деле у него от этого сильно ломило спину, да и в животе неприятно мутило, но он терпел. Южак же, почесав лапой (конечно же, передней) за ухом, сказал:
— Ну, что! Это готово. Теперь иди наверх, располагайся там. А я пока… Ну, иди! Иди!
Рыжий с плохо скрываемым облегчением сразу же опустился на все четыре лапы, неспешной привычной рысцой взбежал на ближайший пригорок и там осмотрелся. Кругом было тихо и пусто. То есть ни деревца тебе, ни кустика, только одна трава — и прямо здесь, на берегу, и дальше, насколько только можно было рассмотреть. Но Рыжий все равно еще смотрел, смотрел, надеялся…
Как вдруг сзади него раздался треск! Рыжий с опаской оглянулся…
Да, так оно и есть — южак, по-прежнему оставаясь только на задних лапах, расхаживал возле самой воды и подбирал валявшиеся на прибрежном песке почерневшие от времени ветки. Ветки лежали здесь давно, наверное, еще с весны, когда их сюда принес ледоход. А вот теперь… Р-ра! Рыжий сразу догадался, что это именно будет теперь, однако же, превозмогая страх, он не кинулся убегать, а заставил себя лечь, после чего настороженно положил голову на передние лапы и зажмурился. Теперь он ничего не видел… но зато очень отчетливо слышал: вот узколобый наклонился над землей и поднял с нее ветку, вот шагнул за второй, взял ее и переломил пополам, подобрал, прижал к груди обломки и снова шагнул. Вот он подобрал этих веток еще. Вот еще. Вот и еще… А вот он уже и поднимается к тебе, несет с собой охапку этих самых веток. А вот и… Р-ра! Рыжий больше не выдержал и резко открыл глаза. Южак к этому времени уже сидел напротив него и старательно, веточку к веточке, складывал из них нечто похожее на гусиное гнездо. Увидев, что Рыжий внимательно за ним наблюдает, южак откашлялся и заговорил:
— Вот, смотри, это называется Дом. Пока что он пуст. А вот теперь… Только не дергайся! Спокойнее! — с этими словами южак протянул к веткам лапу, резко выпустил когти, воскликнул: — А вот и Хозяин! — и звонко щелкнул когтями! Высек ими искру! Искра метнулась в Дом, в Доме вспыхнул огонь! И заплясал по веткам, задымил, и стал быстро расти!
— Р-ра! — вскрикнул Рыжий, подскочил, хотел уже бежать…
Но все же удержался, замер — стоял на четырех, устойчиво, душил когтями землю, не дышал…
Южак же самодовольно усмехнулся и сказал:
— Вот так! Учись у Лягаша. Да, кстати, меня зовут Лягаш. А тебя, я слышал, Рыжий. Правильно?
Рыжий согласно кивнул и, на всякий случай, отступил еще на один на шаг. Дом! А в нем смерть!.. Но ведь Лягаш нисколько ее не боится! И Рыжий, осмелев, осторожно шагнул обратно, к огню. Потом еще шагнул. Потом еще. Потом даже прилег, отбросил хвост в сторону и небрежно высунул язык. И это правильно! Рык, он на то и рык, чтобы не бояться смерти. Тем более, ну что это за смерть! Даже большой огонь, и тот горит не так уж и долго — Лес полыхает день, ну, самое большее, два, а после сила у огня кончается, и он, уже бледный и слабый, спускается на землю, медленно ползет к болоту и там умирает. А здесь, в костре, даже с самого начала огонь не такой уж большой. Так что очень скоро, как только этот Лягаш заснет, никто кормить его не будет, его голодные языки подергаются, подергаются, полижут голый темный воздух, ничего от него не получат — и погаснут. И сразу же наступит тьма кромешная, потому что здесь нет Луны, ведь это же не Лес, а Равнина. Луна рождается в Лесу, светит над ним и в нем же умирает, чтобы потом, опять же только там, в Лесу, родиться заново. Так она там, над Лесом, постоянно и рождается, растет, умирает и снова рождается. Лес — это угодья Луны. А здесь, на этой дикой голой земле, местный народ вовек Луны не видел. Так они и живут здесь в постоянной ночной темноте, ходят на задних лапах, пасут свинов, после ими же и кормятся — вот как они живут. И пусть так и дальше живут, какое тебе до этого дело! Твое дело вот в чем: как только этот самодовольный Лягаш заснет, так сразу же вставай и уходи отсюда, из этих гиблых, лысых мест. А уходить здесь будет просто, не заблудишься: вдоль берега, вверх по течению — на четырех конечно же, так и быстрей, так и устойчивей, — и попадаешь прямо в Лес и к Луне, туда, где ты, единст… А! Р-ра! Рыжий широко, сладко зевнул и глянул вверх, на черное небо, на первые звезды. Да, голодно, подумал он, два дня, а то, похоже, и больше он ничего не ел. Но это пустяки, не страшно, зимой порой и похуже случается. Вот только бы вырваться отсюда, поскорее уйти, дойти до Леса, а там бы он уже…
Как вдруг раздался голос Лягаша:
— Ну что, теперь ты убедился в том, что я был прав?
Рыжий сжал челюсти, насторожился. Лягаш сидел по другую сторону костра и, щурясь от яркого света, опять заговорил:
— Да, я был прав. Ты и на задних хорошо держался, да и в передних у тебя хватка цепкая. А вот теперь ты сидишь и смотришь на огонь — и ничего; тебе это уже, я вижу, совершенно не страшно, тебе вообще в этом как будто нет ничего особенного. А вот обыкновенный, то есть чистокровный дикий рык, тот бы ни за что бы здесь сейчас не усидел. Так что, получается, ты, Рыжий, не…
— Р-ра! — рявкнул Рыжий и вскочил.
— Сядь! — приказал Лягаш. — Дай мне сказать!
Рыжий смутился, сел и отвернулся. А Лягаш, тот опять заговорил:
— Вот так-то оно лучше. Не забывай, что я вдвое старше тебя и, значит, знаю много больше. Так вот, лесной народ боялся, боится и будет бояться огня. Объяснить, почему?
Рыжий молчал, нахмурился. Шерсть на загривке у него вздыбилась, когти сами собой впились в траву. Р-ра, снова это наваждение, гневно подумал он, опять он за свое! Да только зря он сегодня старается! На этот раз я не поверю ни одному его слову!
Только Лягаш понял это по-своему.
— Молчишь, — сказал он радостно. — Вот это хорошо. Это правильно! Потому что это ты потом можешь кричать себе, сколько захочешь, но сначала ты должен внимательно меня выслушать.
Сказав это, Лягаш медленно, старательно укладываясь, лег на брюхо, еще немного помолчал, пристально глядя в огонь, и только потом уже начал рассказывать:
— Давно, очень давно это случилось. Все мы тогда еще жили в шалашах, кормились чем придется, голодали. Каждую весну матери приносили большое потомство, но, правда, мало кто из этого потомства, еще из сосунков, дотягивал до осени. Ну а когда наступала зима, то тогда уже валило всех подряд — не только детей, но и взрослых. Так продолжалось много, очень много зим. Многие из нас привыкли к этому, считали, что так оно и должно быть, что уж такая у нас горькая судьба. И вот тогда, когда никто этого совершенно не ожидал… Тогда Один-Из-Нас вдруг собрал нас всех — нет, это было очень давно, он собрал всех наших предков — и так им сказал: «Довольно! Я спасу вас!»
Лягаш вдруг замолчал, сглотнул слюну и замер. Лежал, не моргая смотрел на огонь. Ночь, тьма кругом. Кругом пустая, голая земля. Здесь, на этой земле, говорят, как только наступает ночь, а ночи здесь всегда безлунные, в небе видны одни только звезды. Звезды — это тоже огонь, звезды — это искры, маленькие молнии, которые зорко смотрят на землю. Они смотрят, смотрят, смотрят… Но как только какая-нибудь из них вдруг заметит на земле чужака… А мы, рыки, на этой земле, на Равнине, и есть чужаки, и нигде нам здесь не спрятаться, здесь же голая, открытая земля… И звезды пользуются этим, звезды бросаются с неба на нас, на здешних чужаков, и убивают, и сжигают нас! Вот что о здешних местах говорят старики! Вспомнив такое, Рыжий засопел. И страх — холодный, липкий, противный — проснулся где-то там, в нутре, и заворочался, и потянулся к горлу…
А узколобый вновь заговорил; теперь уже чуть слышно, как во сне:
— Так вот, Один-Из-Нас сказал: «Довольно, я спасу вас». — «Как? удивились старики. — Ты что, собрался сразиться с Зимой и обратить ее в бегство?» — «Нет, — отвечал Один-Из-Нас, — пускай себе Зима гуляет по Равнине, а мы в своих домах поселим Лето». Все конечно же стали над ним насмехаться, а он и ухом на это не повел, он поднялся на Священную Гору и лег там, и стал ждать. И так он ждал шестнадцать дней. А на семнадцатый он наконец увидел радугу.
Лягаш вздохнул и перевел дыхание. Лежал не шевелясь… И вновь продолжил — на этот раз хрипло, торопливо:
— Да-да, действительно, Один-Из-Нас увидел радугу — и побежал по ней на небо, к Солнцу, и получил там от него огонь, принес его своим сородичам, развел Первый Костер и возгласил: «Вот вам Огонь, сын Солнца, Жизнь, Тепло!» Народ возликовал. Но, к сожалению, в тот радостный, великий, достопамятный день нашлись среди нас и такие глупцы, которые, убоявшись огня, бежали от него в Лес, забились там в глубокие темные норы, и очень скоро одичали там, и…
— Ложь! — крикнул Рыжий. — Ложь! Это не мы бежали от Судьбы, а вы!
— Мы, что ли?!
— Да!
— Ха-ха!
— Не смейся! Вы! Бежали из Леса, забились в птичьи гнезда, одичали!
— Так что же по…
— Молчи! Не смей! — Рыжий вскочил и закричал совсем уже без удержу: Да, вы хитрее нас, вас больше! Да, ваша огненная смерть приходит и сжигает нас! Но все равно вам нас не одолеть! С нами Луна! Свет от нее — только для нас, над Лесом, а вам ее никогда не увидеть! Вы… Вы…
— Что?! — и Лягаш вскочил. — Луна? Только для вас? А это что?! — и он кивнул на небо.
Рыжий, почувствовав недоброе, с опаской глянул вверх…
Р-ра! Р-ра! Луна, дарительница жизни, Луна, рожденная в Лесу только для Леса… теперь, как ни в чем не бывало, совершенно точно так же светила и над Равниной. Да что же это такое получается? Ведь говорили, что она живет только в Лесу, только для рыков, и только к ним, своим любимым избранникам, она и приходит на помощь… А что теперь? Чем теперь они, рыки, лучше южаков? И где тогда ее, Луны, Убежище? Почему бы ему не быть здесь, на Равнине? И если это так, тогда… Рыжий стоял возле костра, смотрел по сторонам… и ничего не чувствовал — ни боли, ни обиды. Да и действительно, какая уж тут боль, когда все умерло. Когда все вокруг ложь… Рыжий медленно лег на брюхо и зажмурился. Костер потрескивал. Лягаш молчал. А Рыжий…
Думал: вот и все. Все, что у него раньше было, умерло, ничего у него не осталось. Пять лет он жил в Лесу… Нет, даже не в Лесу, а так — тот мир, который был ему раньше известен, это даже не весь Лес, а только его маленький кусочек. Он же видел только свой поселок, охотничьи угодья племени, пограничный ручей… через который они иногда ходили набегом на соседей — на Корноухих или на Седых. А дальше, как он знал, были еще и другие какие-то племена и другие поселки. И все это был Лес. Лес — это угодья Луны. Да, и еще говорили, что где-то там, за краем Леса, есть Равнина, но это уже там, в далекой и безлунной дикой стороне, там, где живут враги. Враги — и все. И ты кивал, да, соглашался, там враги, но что тебе до этого, то есть до тех врагов, они же так немыслимо далеко!..
И вдруг все стало наоборот: вот она здесь, перед тобой, эта Равнина, теперь куда ни посмотри, куда ни побеги, везде только она и она. И над нею Луна — точно такая же, как и над Лесом. А вот где теперь сам он, этот Лес, того и не представить, так он теперь от него далеко. Так как же теперь быть?! Рыжий тяжело вздохнул и открыл глаза.
Лягаш, смотревший прямо на него, опять заговорил:
— Да, это верно: мир, в котором мы живем, очень велик. Но что в этом плохого? И что плохого в том, что твоя разлюбезная Луна светит везде, то есть не только над Лесом, но и над Равниной? И вообще над всей Землей, которая, кстати, неизмеримо больше и Леса и Равнины вместе взятых. И разве это унизительно — быть южаком? Вот твой отец… Да, твой родной отец! Ты слышишь меня, Рыжий?
Рыжий лежал, уткнувшись головою в лапы. Лягаш молчал, не торопил его с ответом. Дул слабый южный ветер. Чадил костер… Вдруг Рыжий сел, спросил:
— А мой отец… ты разве знал его?
Вместо того чтобы сразу ответить, Лягаш взял прут и стал шевелить им уголья в костре. Огонь, набравшись сил, взметнулся выше. Только тогда Лягаш отбросил прут и, посмотрев на Рыжего, сказал:
— А вот тебе еще одна история. Про Зоркого, про моего приятеля. Он жил… примерно там же, где и я. Но только я жил на Бугре, а он жил возле заставы. Мать его, Старая Гры, варила травы, знала заклинания. И то ли из-за этих самых трав, а то ли просто так, уж таким он уродился, не знаю, но уже к трем годам Зоркий был в такой силе, что мог запросто свалить любого. И сразу слава про него пошла. Может быть, это и не самая почетная слава, но все-таки пошла! А что еще?! Все хорошо! Князь как узнал про Зоркого, про его подвиги да молодечество, так сразу пригласил его к себе в дружину. И там, у князя, мы с ним и встретились. И вскоре подружились. Служили, воевали. Воевать — это, значит, ходить в набег. А князь — это у нас как у вас вожак. Нет, не совсем так. Князь — это вожак над вожаками. На Равнине много вожаков, еще больше, чем в Лесу, а наш князь всеми ими заправляет. Кто из вожаков ему перечит, с тем он сразу воюет. То есть отправляет на него в набег своих дружинников, по-вашему — догонщиков. Такой набег мы называем походом. А бывают походы и в Лес. И вот мы, я и Зоркий, и вся остальная наша дружина, воевали, ходили в походы. И как-то раз, после одного такого похода, когда мы уходили из Леса… Да, из Лесу, конечно, из вашего. Так вот тогда он мне вдруг и сказал: «А я останусь здесь». «Как? — удивился я. — Зачем?». — «Так, — сказал он. — Я так хочу. Построю здесь себе логово, женюсь, приму Лесной Закон. Ведь я похож на рыка, правда?». — «Ар-р! — сказал я. — Ходить на четырех, как свин, и жить в норе, как крот. Да ты в своем уме?». — «В своем, — ответил он. — Ум в голове, а не в стопах, и потому на двух ли я хожу, на четырех ли, уму это без разницы. Ведь ему главное, куда я на этих двух или на четырех собрался. И, может быть, ему еще главней, не куда, а к кому!». А я спросил: «А у тебя уже есть, к кому?». — «Да, — сказал он. — Уже есть. Я ей помог бежать из-под облавы». — «Где это было? — спросил я. — Как? И когда?» А он в ответ на это только засмеялся и головою замотал — мол, ни за что не скажу! Я тогда тоже засмеялся. Ведь тогда я подумал, что он шутит, ведь все это было сказано мне на пиру. Пир — это… Ну, ты знаешь, что такое пир. Пир, он везде одинаковый пир. А вот после пира… Да, сразу, той же самой ночью, мой лучший друг Зоркий исчез! И я тогда, стыдно теперь признаться… Да что там я — мы тогда все, вся наша дружина, так и не взяли его след. Так и ушли тогда ни с чем. После много было разговоров об этом, князь о Зорком кручинился. Ну а потом время прошло, князь про него забыл. И другие забыли. Но только не я! Мы же с ним были лучшими друзьями! Вот поэтому я с той поры каждый год все возвращался в ваш Лес, искал его там. И не находил. Правда, на этот раз, теперь…
И тут Лягаш вздохнул, и замолчал, и посмотрел на Рыжего, прищурился… а после наконец сказал:
— Правда, теперь искать его уже не надо; теперь я вижу, что он убит. Да, Рыжий, это я по твоим глазам ясно вижу — он точно убит. Ну а еще я вижу в них, в твоих глазах, что ты с нетерпением ждешь, чтобы я скорей заснул, чтобы костер погас и чтобы ты тогда…
Но тут Лягаш прищурился и замолчал… А после сказал так:
— А ведь ты прав; я действительно устал, я спать хочу!
После чего он широко, сладко зевнул, потом опять зевнул, потом опять, потом лег поудобнее, закрыл глаза…
И вон он уже, кажется, действительно заснул. Ночь. Тишина кругом. Костер почти погас. Лишь только свет Луны… Луна! Рыжий вскочил. Л-луна! Она и здесь такая же, как там, в его родном Лесу, она и здесь рождается, растет и умирает, и снова рождается. А он родился там, в Лесу, и уже умер там — для всех для них. А вот теперь он здесь, и он здесь уже не один, здесь с ними Луна. Луна рождается и здесь. Так, может быть, и он здесь родится? А что? Почему бы и нет? Вон сколько раз мать ему говорила: «Твой отец, сынок, был смелым, сильным воином. Они его убили подло, из засады. Но у тебя судьба будет счастливая, я знаю!». Да и действительно, на что это он теперь ропщет, чем это он так недоволен? Его изгнали, он был обречен, и где бы он уже сейчас был, когда бы не этот Лягаш? Да разорвали бы его, злосчастного нерыка, а кости изглодали бы и бросили под дуб. Вот то-то же! А так он жив, здоров, в тепле, над ним светит Луна, значит, она его не бросила, значит, она по-прежнему готова помогать ему. Тогда чего ему еще желать? Рыжий, одумайся! Ляг, успокойся и закрой глаза. Сон прибавляет сил и умерщвляет страх. Завтра проснешься, словно заново рожденный. Спи, Рыжий, спи…
Глава пятая — ДЫМСК
Утром Лягаш насилу растолкал его, сказал:
— Вставай. Завтрак готов.
А этот завтрак был… О, р-ра! Проснувшись еще до рассвета, Лягаш поймал в ближайшей заводи двух уток, запек их в глине на угольях — и вот теперь Рыжий жадно хватал, обжигаясь, горячее сочное мясо, урчал, бил по земле хвостом. Ну кто бы мог предположить, поспешно думал он, что мясо, обожженное на костре, — это так невероятно вкусно?! Но и это не все! Потому что ну разве он еще вчера поверил бы тому, что здесь, на этой чужой, неизвестной Равнине, он наконец почувствует себя по-настоящему свободным, сильным, смелым?! Да-да, вот именно! Он уже больше не нерык, Лес и Убежище, Вожак, сохатый и общинный дуб — все это там, в той, прежней жизни, он умер для нее. И слухи, и насмешки — тоже там, в той дикой и несправедливой жизни, и для нее он тоже умер. Он здесь теперь… Вот именно! Рык он или южак — да разве это теперь важно? Он — это просто он по кличке Рыжий, а рядом с ним Лягаш, попутчик, соохотник, с ним хорошо, надежно, просто. Чего еще желать?! И потому когда Лягаш сказал ему «Пора!», встал и пошел к реке, Рыжий не мешкая вскочил и по-южацки, только на двоих, поспешно двинулся за ним.
На берегу попутчики столкнули лодку в воду, взялись за весла, выгребли на стрежень… Ух! Сколько новых, прежде неизвестных слов! А дел и вообще! Но это ничего; прошло совсем немного времени, и Рыжий приспособился грести ничуть не хуже Лягаша. Стоял, упираясь задними лапами в дно лодки, а передними ловко орудовал веслом. Ар-р! Р-ра! Плывем, как объяснил Лягаш, на юг. Там — Дымск. Дымск, он на то и Дымск: идешь по улице, а изо всех домов — дымы, дымы, дымы. Дымск — на семи холмах по-над рекой. Дымск до того велик… Что, думаешь, а примут ли тебя, а не припомнят ли тебе твое происхождение и не затравят ли? Да брось ты это, и не сомневайся! Там никому нет никакого дела до того, какой ты масти и откуда ты взялся. Вот ты пришел, молчишь, в свары не лезешь, законы соблюдаешь — ну и живи себе, и дело для тебя всегда найдется, и будет тебе кость, не пропадешь. А если ты к тому же еще и смел, цепок, храбр, тогда и вообще ни о чем не кручинься. Да, Рыжий, да, все тогда будет в самом наилучшем виде! И так было всегда! Вот, скажем, Зоркий, твой отец; он тоже поначалу был так-сяк, а после ого как поднялся, прославился! О, его и до сих пор там, в Дымске, вспоминают так, что лучше и желать нельзя. И думаю, что скоро и о тебе примерно так же будут говорить — с почтением. Ар-р, загребай! Еще!
Вот так вот и гребли они, и вели вот такую беседу. Под вечер миновали Свинск, поселок свинопасов. Свинск — это пять или, может, даже шесть десятков гнезд… Р-ра, нет! — домов, конечно, а не гнезд; домов, покрытых камышом. Стены у тех домов сложены из обожженной глины, в каждом доме костер в очаге, дымы от тех костров выходят из домов через трубы. Трубы это вроде бы как дупла. Такие вот у них дома. Перед домами, у реки, на водопое — свины… Но Рыжий их не замечал; Рыжий во все глаза смотрел на южаков. О, сколько же их здесь! И, главное, все они, как об этом Лягаш говорил, действительно очень разные — есть среди них и белые, и черные, и рыжие, и пегие — любые! Тогда и впрямь какое дело будет им и до твоей, Рыжий, масти, а также и до твоего происхождения. Вот только научись уверенно ходить на задних лапах и наловчись передними вот так вот шевелить, чтоб пальцы распрямились, разработались, тогда в них можно будет удержать все, что дадут, — и все, ты здешний, не чужак.
— Весной, — сказал Лягаш, — здесь, в Свинске, были свинокрады… Н-ну, эти, из Леса… Они пришли большой ордой. Наши укрылись в загонах и восемь дней были в осаде. А потом подоспела подмога, и мы гнали их до самой Гиблой Чащи… Левей, еще левей бери!
И Рыжий греб, старался до изнеможения. В Дымск! В Дымск! Скорее в Дымск! А там Лягаш не подведет, научит, подсобит. Он знает и умеет все: как прыгать на костер и не гореть, как путать след, как пить отравленную воду и как под водой не дышать, и как одним грызком срывать с врага шейный ремень… Да-да, шейный ремень! То есть ту самую колючую веревку, на которой Рыжий чуть было не лишился зубов. Р-ра, ну еще бы! Ведь он, этот шейный ремень, густо усеян острыми железными шипами, ну а железо — это дар огня. Шейный ремень имеют далеко не все, а только те, кто его заслужил.
— Ремень, — говаривал Лягаш, — не любит простаков. Вот, видишь, я иду, склоняюсь влево, делаю замах, и… Ар-р! Вставай! Ар-р! Ар-р!
Рыжий вставал. Лягаш опять рассказывал, показывал — замедленно и в действии — ложный замах, косой отход, переворот, двойной переворот с подходом, брык, душку, ласточку… Ну, и так далее. И так три привала подряд, три долгих ночи у костра Лягаш учил Рыжего секретным боевым приемам, прыжкам через препятствия, а также высеканию огня и выжиманию воды, лечению ран, сниманию следов, отводу глаз. И, главное:
— Прямохождение, мой друг, прямохождение! — не уставал напоминать Лягаш. — Нет задних лап, есть нижние, точнее — это просто стопы, и нет передних, а есть верхние, точнее — просто лапы. И их затаптывать нельзя, ранить нельзя, а обмораживать тем более. Их надо беречь как глаза! И пальцами вот так вот делай, вот так, и еще быстрей! Сжал, разжал, сжал, разжал! Так, уже хорошо. А теперь… Вот, подними эту соломинку. Теперь подбрось ее. Поймай. Подбрось, поймай. Подбрось-поймай! И не сутулься, стой прямо. Еще прямей! Еще, я говорю!
И Рыжий выпрямлялся, не сутулился. Бросал соломинку, ловил. Потом брал камни и метал их в цель. Не попадал. Первый, второй привал не попадал, не попадал…
Потом-таки, уже только на третью ночь, он наконец попал! Сбил старое воронье гнездо — такая тогда была цель. И так он его сбил, что только перья, прутья во все стороны! Жаль, никого там не было. Но все равно:
— Ар-р! Хорошо! — вскричал Лягаш. — И твой отец, ух-х как он меток был! Бывало, мы сидим в костярне, отдыхаем, а он возьмет кувшин, прицелится… Гм, да! А гиблый зуб?! Он, твой отец, метал его на двадцать пять шагов, и, кому надо, прямо в глаз!
— А гиблый зуб — это что?
— А это вот такая железяка, на пять, на шесть зубов на растопырку, то есть они во все стороны. Ее вот так берешь, бросаешь, чтоб получалось с подкрутом, и она, эта штука, летит. И — р-раз! — впивается и рвет. Рвет лучше всякой пасти. Представляешь?
Да, Рыжий представлял, кивал. И понимал: вот для чего нужно терпеть, стоять на нижних лапах, чтобы верхними, свободными, и искру высекать, и зуб метать, и еще это, как его…
Да! Немало всякого ими там напридумано! Чего только Лягаш ни рассказывал! И про отца, и про князя, и про его догонщиков, их называют лучшие, и про сам Дымск, про тамошних жильцов, про их сытость и лень, про их богатство. И, главное, про удаль лучших. Вот лучшие — это ого! Вот это да! Вот где действительно судьба! Мать намекала на нее, но впрямую так и не сказала — но все равно как она тогда говорила, так теперь и сбылось! Нет, еще не совсем. Но почти! Лягаш сказал, все будет хорошо, все — обязательно, он это ясно видит. Р-ра! Р-ра-ра-ра! И Рыжий изнывал от нетерпения. В Дымск! В Дымск! Скорей! И потому когда утром четвертого дня на правом на высоком берегу реки показался уже не какой-нибудь нищий поселок, а самый настоящий зажиточный город, Рыжий сразу вскочил…
— Ар-р! Сядь! — строго сказал Лягаш. — Это еще не Дымск.
— А что?!
— А это еще только Глухов. Но это уже тоже город. Правда, малый.
Рыжий вздохнул и сел. А Лягаш продолжал:
— У Дымска стены деревянные, а здесь даже не стены, а кучи земли. Называется вал. Вал, правда, глиняный. По осени, в дожди, он так раскисает, что потом уже не только чужим, но никому через него не пройти. Да и зачем туда ходить? Дома там — тьфу! А что дымы!..
Лягаш насмешливо присвистнул, замолчал. Опять взялись грести. Гребли, гребли. Подплыли ближе. Лягаш опять заговорил:
— Глухов пройдем, и там будет река. Вот по той реке мы уже и выйдем к Дымску. Так что три дня еще идти, но уже по реке. Да, там река! — и Лягаш, облизнувшись, опять повторил: — Да, р-река!
— А это тогда что? — спросил Рыжий.
— А это еще просто речка. Речка Дикунья, так она называется. А вот река — это Голуба. Она раз в пять пошире будет. А рыбы там! Вот так вот лапой зачерпнул — и которую сразу за жабры. И рыбы — вот такие! Рыбины! А здесь чего? Здесь не рыба, а дрянь, мелюзга. Греби давай!
Гребли. И Глухов быстро приближался. А когда до него оставалось уже шагов пятьсот, не больше, они, так повелел Лягаш, пристали к берегу и затащили лодку в ближайшие кусты.
— Жди меня здесь, — сказал Лягаш. — Я к вечеру вернусь. И никуда не отходи, и вообще лишний раз не высовывайся. А если что, так молчи, ни с кем и ни о чем не разговаривай. А если станут приставать, в свару не лезь, скажи, что ты при мне, при Лягаше, значит. Еще скажи, что я везу тебя к нему.
— К кому?
— К нему, и все. Не волнуйся, поймут. Все. Ухожу. Ждать!
— Жду.
Лягаш ушел. Рыжий остался при лодке один. День тогда выдался погожий, теплый. Рыжий лежал в тени, смотрел на небо, думал. К его кустам никто не подходил. И вообще, на берегу за целый день никого тогда не было. И лодок на реке почти что не было. Только два раза проплывали рыбаки, тянули сеть, молчали. Потом еще какой-то лысолобый старик вез на широкой, наверное, специальной для этого, лодке дрова. Старик неторопливо греб, плыл по течению, насвистывал. Дрова были дрянные, тощие. И то: лес на Равнине — это разве Лес? Так, только смех один. А вспомни, Рыжий, в Выселках…
Нет, не хотелось вспоминать! И он не вспоминал о Выселках, а вспоминал только о том, что он успел узнать о Дымске, то есть какие там дома и какие обычаи, какая там кому кормежка, и кто такие лучшие, и как его отец с ними служил, и как — тут Рыжий аж зажмурился — и как он сам уже вот-вот, дня этак через три, туда придет, и тоже сразу…
Р-ра! Вот так, в сладких мечтах, весь тот день и прошел. Никто его тогда не потревожил. И он просто лежал. Есть не хотел — с утра плотно поел. Нет, даже не поел — насытился! Так что теперь лежи себе да переваривай, мечтай себе, воображай. И он воображал, воображал да и вздремнул. И долго, очень долго так дремал, и было ему очень хорошо, спокойно и уверенно. И только уже вечером, когда начало понемногу смеркаться…
Вдруг послышались удары по воде — шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Рыжий вскочил, сошел к реке. Глянул — лодка идет. Ого, а какая большая! В ней четверо гребцов, они легко, справно гребут. А на корме сидит Лягаш, важно командует:
— Р-раз! Р-раз!
Сам уже не гребет. Ну, еще бы! Станет тебе княжий посол об шест лапы марать! Вот он и не марает, так сидит, командует. А эти, серогорбые, крепко натужились, гребут. Замах у них хорош, и гребок тоже резкий и дружный, как надо. Вот лодка подошла уже, вот мягко ткнулась в берег. Первым с нее сошел Лягаш. Спросил у Рыжего:
— Ну что, небось проголодался?
Рыжий, принюхавшись, кивнул. Тогда Лягаш сразу оборотился к гребцам и приказал:
— Кладь! Вот сюда ее! — и показал, куда. Потом: — А здесь костер! — и тоже показал. И грозно прибавил: — Ар-р, порс!
Гребцы поспешно побросали весла, сошли на берег, потащили кладь большой мешок, набитый всякой вкусной снедью. Дух от той снеди шел просто изумительный! А они как попало вытряхнули ее на землю и тут же, рядом, начали разводить большой жаркий костер. Лягаш стоял над ними, поучал. Теперь он важный был, порой даже порыкивал. Шейный ремень на нем так и поблескивал, пояс так и побрякивал…
Р-ра, пояс, да! А в нем железный зуб и пряталки, а пряталки — это такие штучки для монет. Ну а сами монеты, Лягаш так рассказывал, это вот такие вот кругляшки, их когда хочешь, можешь поменять на все, что хочешь, то есть даже…
Но — пояс! Сам-то по себе! И про него Лягаш рассказывал, и объяснял, что пояс — это вообще! Ибо ремень, ну, тот ты еще можешь получить просто за храбрость, а что до пояса, то он дается только тем, кто…
М-да! Вот оно как все повернулось! Как он непрост, этот Лягаш, весьма непрост, и даже очень! Вон, посмотри — гребцы; как им Лягаш велит, так они сразу же и делают, перечить и не думают. И вон уже сколько всего понаделали: кладь принесли и разобрали, вытащили лодку, дров заготовили, надрали хорошей высокой душистой травы, сложили из нее лежанку — это они для Лягаша, — и развели большой костер. И вот уже на том костре в горшке забулькала вода, в нее бросают снедь. И вот уже и дух пошел от этой снеди, дурманит этот дух, пьянит, ур-р, ур-р! Вскочить бы, чтобы первым бы, чтоб… Нет! Рыжий не вскочил, Рыжий по-прежнему неподвижно лежал возле костра. Ну разве что нет-нет да понюхивал воздух, а то даже и мельком на горшок поглядывал… но, главное, помалкивал. Лягаш ведь говорил, что тот, кто в нужное время молчит, тот после в еще более нужное время все нужное и получает. Ну что ж, посмотрим, подождем…
И так оно и вышло. Когда горшок сняли с огня, Лягаш ловко, ничуть не обжигаясь, выловил из него и роздал каждому из гребцов по хорошему кусу вареного свина, те с теми кусами и отошли и прилегли на землю. Там и кормились — в стороне. Там и молчали. А Лягаш, уже не обращая на них никакого внимания, глянул в горшок, широко облизнулся, сказал:
— А это, остальное, нам. Вот только я еще это дело украшу.
После чего он расстегнул на поясе одну из пряталок, выгреб оттуда целую пригоршню какого-то белого зернистого песка, сыпнул его в горшок, потом взял чистую, заранее приготовленную для этого щепочку и тщательно размешал ею варево — вначале в одну сторону, потом в другую, потом отбросил щепочку, немного подождал… а после резко, будто на охоте — р-раз! выхватил из горшка большой и жирный свиной кус, подал его Рыжему и сказал:
— А ну-ка, попробуй!
Рыжий попробовал. Р-ра, странно как… Но, между прочим, очень вкусно! И он тихо спросил:
— А что это за песок такой?
— Это не песок, это соль. Вижу, понравилось?
— О, да!
— Вот то-то же! — важно сказал Лягаш. — И впредь без соли еды не бери. Никогда! Нам, лучшим, это не по чину. А этим… — и вдруг спохватился. Да, кстати! — после чего оборотился к гребцам и окликнул: — Эй, вы!
Гребцы сразу вскочили. Лягаш им велел:
— Ты и вот ты, — и лапой указал, кто именно. — Вы давайте живо за дровами. А ты сбегай за водой. А ты чего сидишь? Ты — пошел сторожить. Ар-р! Порс!
Гребцы послушно разбежались, кто куда. Только после этого Лягаш опять полез в горшок, взял себе кус — тоже большой и сочный. Но ел он неохотно, вяло. Молчал, ни о чем не спрашивал и сам ничего не рассказывал. Молчал и Рыжий. Съев первый кус, он тут же взял второй. А после третий. И четвертый. А после пил навар. Навар соленый, жирный был. Сперва стало тепло, а после даже жарко. Глаза слипались, лапы сами собой опускались. Потом поплыло все перед глазами, потом расплылось и перевернулось…
И так он и заснул возле костра, и так и спал — без всяких сновидений. Проснулся утром — вновь плотно поел, и вновь горячего да жирного. Ел — не спешил. Его не торопили, ждали. В лодку сошел, сел рядом с Лягашом. Гребцы споро гребли. Все молчали. Почти сразу за Глуховом с Дикуньи вышли на Голубу. Голуба — да, это действительно самая настоящая река — широкая, глубокая. И рыба там водилась крупная; порой так заиграет, так заплещет, что просто оторопь берет. А берега пошли пологие, песчаные. И то и дело на тех берегах попадались хутора, поселки, а то и целые городки — ухоженные, зажиточные, с удобными пристанями…
Но лодка к пристаням не приставала. Лягаш сказал, что он спешит, вот гребцы весь тот день и гребли. Молчали. Рыжий заскучал. А заночевали они на излучине, возле омута. Лягаш послал туда гребцов, те пошарили под корягами и наловили целую плетенку раков. И оказалось, что вареный красный рак это… Гм! Да! Их было много, даже слишком много съедено. Опять сморило в сон. Опять сон крепкий был.
Утром, проснувшись раньше Лягаша — а может быть, тот и не спал, а просто притворился, — Рыжий поднял гребцов и стал распоряжаться.
— Здесь надо сделать это, — говорил. — А это здесь. И это тоже. И сюда. Ар-р, поживей!
Ну, и так далее. А те:
— Да, господин. Конечно, господин.
И они старались. Было очень радостно на это смотреть. Да и чего скрывать — гордость брала. А что! Вот так-то вот! Дикарь из Глухих Выселок, и вдруг…
Ну нет! Какое это «вдруг»? И какой же он теперь дикарь?! Он же теперь, как и все они, здешние, ходит только на двоих, и, как и все они, ничуть при этом не сутулится, и знает все, что надо знать. И, главное…
Да, это и есть главное: он теперь не просто так, как эти серогорбые, он господин! Вожак, сын вожака, сын лучшего из лучших. И едет в Дымск, и там будет представлен князю; князь, только увидав его, сразу…
Р-ра! Р-ра! Легко-то как! Особенно, когда с тобой Лягаш, ведь он не просто господин: «О, господин!» — так говорят ему гребцы. Вот и сейчас один из них:
— О, господин! Вставай, завтрак готов.
Лягаш поднялся. Ели. Столкнули лодку. Двинулись. Лягаш дремал, а Рыжий за него командовал:
— Р-раз! Р-раз! Лево греби, право табань! Еще табань! Еще!.. Хва! Навались! Р-ра! Р-ра!
И было хорошо, легко. И то не оттого, что ты кем-то командуешь, а то, что ты здесь не чужой, что южаки — они почти такие же, как рыки, а то, что они ходят на двоих, так это ничего почти не значит, ведь еще твой отец когда-то говорил: «Ум в голове, а не в стопах!», и так оно и есть, отец был прав, Лягаш гребцов не любит, не подпускает их к костру, он говорит о них: «Глупцы, холопы, челядь!» и говорит, что в Дымске все как в Выселках, то есть кругом почти одни глупцы, ты в этом очень скоро сам убедишься, но, правда, есть, конечно, и такие, с кем можно и поговорить, попировать и даже сделать дело, но мало их таких, и потому не смей робеть и никогда ни при ком не сутулься, всем и всегда смотри только в глаза, будь тверд, не отступай, не уступай, не сторонись, и тогда скоро сам…
Р-ра! Скоро! Сам! И вот уже прошли те три дня с той поры, как они отчалили от Глухова. И вот, как Лягаш и обещал, вдали показался град Дымск! Ну, наконец!…
Но, тем не менее, Рыжий спокойно, без особой робости окинул взглядом приближающийся город. Да, и действительно город большой. Можно сказать, красивый. Весь в дымах, тоже верно. А там вон, наверху, где эта приметная крыша, там князь живет. И там же, при князе, и лучшие. И там был Зоркий, твой отец. И очень скоро будешь там и ты. Как это сделать, Лягаш объяснил. И научил. И говорил, что все будет хорошо. И так оно и будет, это точно. А пока…
Они подплыли к пристани, с большим трудом протиснулись среди огромного скопления больших и малых лодок, пришвартовались и сошли на берег. Шум, суета вокруг; прохожих просто тьма. Все разномастные, и все они спешат, толкаются. Дома, дома, дома, заборы, вновь дома. И — чад, дым, пахнет чешуей и потрохами. Здесь, возле пристани, живет простонародье, и их здесь как мух на добыче, здесь среди них не протолкаешься, не продерешься, не…
— Ар-р! — дружно крикнули гребцы. — Пр-рочь, пр-рочь! — и яро двинулись в толпу.
— Лягаш! — послышалось вокруг. — Кость в пасть! Кость в пасть!
Но Лягаш на приветствия не отвечал. Шел, гордо подняв голову, и делал вид, что ничего не слышит, никого не знает и знать не желает. А впереди него шли гребцы, и по обеим сторонам — гребцы. Они рычали на толпу:
— Пр-рочь! Ар-р! Пади!
Толпа покорно расступалась. Так и прошли они по площади, так в город и вошли. Грязь, лужи, смрад кругом. Ф-фу! Р-ра! Невыносимый смрад! Да как здесь можно жить, да чем они здесь дышат? И Рыжий то и дело фыркал, морщился…
Но вот дорога стала подниматься в гору — и смрад очень быстро развеялся, и стало даже вроде бы светлей. И мостовая стала шире, чище, дома пошли повыше, поухоженней. И — лавки, лавки, лавки там и сям. Вот бы зайти хоть в одну из них, вот глянуть бы, чего там продают и за сколько, Лягаш ведь говорил…
А вот теперь молчал. Шел быстро, делово. Рыжий едва за ним поспевал, тем более что он при том еще и постоянно осматривался по сторонам. Р-ра, ну еще бы! Сколько здесь всего! Дома, лавки, лавки, дома, снова лавки. А вот и баня, пар из бани, мокрый южак вышел из бани. Вот кузница, огонь, дым, грохот, гарь. А вот костярня, р-ра! Возле нее толпится с полтора десятка южаков, такие все веселые да шумные, глаза у всех горят. Дух из костярни просто изумительный! А вот… Ого! Лягаш об этом говорил, но Рыжий, как только это увидел, так все равно не удержался и весело захыкал. Еще бы! Проходившая мимо них южачка была одета в ярко-красную попонку. Ну и дела! Рыжий хотел было…
— Ар-р! — строго прикрикнул Лягаш, и они пошли дальше. Поднявшись по довольно-таки крутому откосу, они обогнули кричащий, визжащий, орущий базар, вышли на тихую узкую улочку, пошли по ней, свернули раз, второй…
И очутились на просторной, мощенной диким камнем площади. Слева и справа эта площадь была обнесена высоким — в три роста — плетнем, а впереди… возвышалось величественное двухэтажное строение, стены которого были сложены из столетних дубовых бревен, а четырехскатная крыша крыта новеньким лубом. Княжий дворец! А на его крыльце стоит охрана — два дюжих южака в шейных ремнях, налапниках.
— Лягаш! — вскричал один из них. — Кость в пасть! — и радостно замахал хвостом.
— В пасть! В пасть! — кивнул Лягаш и оглянулся на гребцов, и потянулся к поясу, порылся в пряталках… И выдал каждому из них по маленькому желтому кружку — это монеты. Гребцы, приняв монеты, поклонились. Лягаш сказал:
— Благодарю. Свободны!
Гребцы попятились, еще раз поклонились, развернулись, и…
Хва! Забудь о них! Зачем они тебе? Но зато те, что стоят на крыльце…
— Ар-р! — напомнил Лягаш. — Порс! Не зевай! — и двинулся к крыльцу.
Рыжий кинулся следом за ним. И по ступенькам раз-раз-раз! Спина пряма как жердь, пасть — на полный оскал. Охранники невольно расступились. И Рыжий — р-раз через порог, ну а в сенях свернул было налево…
— Рано! — шепнул ему Лягаш. — С-сюда! — и повернул направо, к богато разукрашенной циновке, скрывавшей вход в трапезную.
Из трапезной доносился приглушенный говор множества голосов, хруст разгрызаемых костей. Так-так, все правильно. Там, за циновкой, лучшие, там гордые и смелые, там наиловкие отборные бойцы. Рыжий сглотнул слюну, шагнул, толкнул циновку вслед за Лягашом, еще шагнул…
И замер. За широким пиршественным столом, заваленным всевозможными яствами, теснилось два, а то и три десятка южаков. Все они были при шейных ремнях, все холеные, дерзкие. Южаки пировали. А во главе стола черной горой полулежал сам князь, Великий Тымх — мохнатый, толстый, вислоухий, с седым пятном на лбу. В правой лапе князь держал миску с брагой, а в левой кость. Первым завидев прибывших, князь медленно привстал…
И в зале сразу наступила тишина. Пирующие замерли и, следуя взору Великого Тымха, пристально уставились на Рыжего, принюхались…
— О! — важно сказал князь. — Лягаш! Кость в пасть!
— В пасть, в пасть.
— А это что с тобой за свинокрад?
Собравшиеся дружно рассмеялись. Рыжий сжал зубы, ощетинился. Лягаш резко шагнул вперед — смех сразу стих — и процедил:
— А сам спроси!
И широко зевнул и полуотвернулся. Князь поднял брови, помолчал, а потом, обернувшись к Рыжему, все-таки спросил:
— Ну и как тебя звать?
— Р-ры!.. — сбился Рыжий. — Р-рыжий!
Южаки снова засмеялись. Князь поднял лапу — они сразу же замолчали. Тогда князь снисходительно усмехнулся и снова спросил:
— И это все?
— Да, все.
— Тогда… Зачем ты сюда к нам пожаловал?
Рыжий мельком глянул на Лягаша, увидел одобрительный кивок и, задыхаясь от волнения, сказал:
— Хочу стать лучшим среди лучших!
И в трапезной сразу стало тихо, даже очень, неприятно тихо. Рыжий напрягся в ожидании…
Но выучка есть выучка; никто из лучших и не подумал кидаться на него. Приказа не было! Князь не спеша цедил из миски брагу, усмехался… и наконец, хитро прищурившись, спросил:
— А вы, друзья мои, что вы на это скажете?
Вот и приказ! О, что тут сразу началось! Все разом повскакивали с мест и заорали, кто во что горазд:
— Ар-р! Дикий зверь! Болотная лягушка! Свинокрад! Ату его! Ату! — и завизжали от восторга, и только уже было собрались кидаться…
— Р-ра! — крикнул Рыжий. — Узколобые! Р-ра! Р-ра! — и прыгнул! Бросился на стол! И — в гущу! Р-ра! В загривок! В горло! В ухо! Рви! Бей, как Лягаш учил! Круши! Яства летели со стола. Шерсть — клочьями. Крик. Стоны. Визг. Рыжий хватал врагов, швырял, топтал, душил. Брык, глотка, ласточка! Двойной с надрывом! Отступ! Хря! И так, и еще так, и так, и так, так, так! Вот оно как! Никто не мог с ним совладать! Р-ра! Р-ра!..
— Хва! — закричал Лягаш. — Хва! Хва!
Рыжий стряхнул с себя врагов, скатился со стола, отпрыгнул в сторону и замер, плотно прижавшись спиною к стене. Стоял, как и положено, на двух, хрипло дышал и зорко, быстро поглядывал то на лучших, то на дверь, то на окно, то снова на лучших. А эти лучшие…
Пристыженно столпились возле князя. Все молчали.
— Гм, — наконец сказал князь. — Преизрядно! Лягаш, так все же кто это?
Лягаш гордо молчал. Потом сказал:
— Тымх, помнишь Зоркого? Ну так смотри!
Князь долго, пристально смотрел на Рыжего, а после с удивлением спросил:
— Так ты, что ли, хочешь сказать, что старая Гры была права?
— Да, как всегда, — скупо кивнул Лягаш.
Князь помрачнел. Взял миску… И отставил. Закрыл глаза. Открыл. И, строго оглядев собравшихся, сказал:
— Ну, поняли теперь, кто перед вами? То-то же! — и вдруг поднялся во весь рост и крикнул: — Эй, Брудастый!
Немного погодя, а это «погодя» прошло в полном молчании, в трапезную вошел старый лохматый южак и, подслеповато щурясь, уставился на князя.
— Вот этому, — и князь кивнул на Рыжего, — сегодня же, нет, прямо сейчас, выдать шейный ремень. И вообще, все, как положено! Понятно?
Старик степенно поклонился.
— Так! — сказал князь. — Теперь… Всем прочь! Лягаш, а ты останься.
И лучшие, а вместе с ними Рыжий, шумной гурьбой поспешили из трапезной. У самого порога Рыжий обернулся. Лягаш подмигнул ему. Р-ра! Ну, еще бы! Ведь все получилось именно так, как ими и было задумано.
Глава шестая — СТРАХ
Пройдя через сени, Рыжий свернул налево, то есть к тому входу, в который Лягаш еще совсем недавно его не пустил. Теперь же, никем не останавливаемый, Рыжий уверенно переступил через заветный порог, прошел еще пару шагов, остановился, осмотрелся. Так, темновато здесь. Два ряда низких нар вдоль стен, на нарах тюфяки, печь в самом дальнем углу, в ней едва теплится огонь, возле печи стоит кадушка. В кадушке, говорил Лягаш, полно моченых яблок. Бери их, сколько хочешь, и ешь, когда захочется. Вот это правильно! И вообще, просторно здесь, тепло. Вот какова она, казарма лучших! Рыжий гордо оскалился и оглянулся.
Южаки, теснившиеся у порога, настороженно молчали. Брудастый важно выступил вперед и приказал:
— Ремень!
Один из южаков подал ему новенький шейный ремень — широкий, крепкий, весь в шипах, висюльках. Р-ра, красота!..
— Эй, голову! — строго велел Брудастый.
Рыжий послушно склонил голову. К нему подскочили, р-раз, р-раз! — и надели ремень. А вот его уже и застегнули. Ух, тесновато, зато каково! Ведь кто бы это мог еще десяток дней тому назад предположить, что тебе, невежественному лесному дикарю, вдруг выпадет такая высокая честь!? Да это же… Ого! Рыжий восторженно закашлялся! Брудастый сразу отступил на шаг и спросил:
— Что, может, жмет?
— Нет-нет! — поспешно заверил его Рыжий. — Все отлично!
— Тогда… — Брудастый криво подмигнул. — У печки! Хоп!
Рыжий одним прыжком вскочил на нары, а там скок-перескок, двойной переворот — и сел на крайний у печи тюфяк.
— Вот так! — сказал Брудастый. — Ар-р! Служи. А вы, — и обернувшись к лучшим, вдруг дико заорал: — Порс! Когти рвать!
Лучшие с радостным гиканьем бросились вон из казармы. Брудастый, даже не глянув на Рыжего, не спеша последовал за ними.
Оставшись в казарме один, Рыжий некоторое время сидел не шевелясь, а потом осторожно повел головой — висюльки на ремне сразу чуть слышно брякнули. Ну, вот и все. Все это, значит, было наяву. Рыжий, счастливо улыбаясь, медленно лег на тюфяк. На тюфяке было тепло, удобно, мягко. А если пододвинуться к печи… Ого! Так даже еще лучше! Эх, видел бы тебя сейчас Лягаш! Но Лягашу сейчас не до тебя, Лягаш и князь уже взошли на Верх, и они держат там совет, и сейчас никому туда нельзя. И Лягашу оттуда тоже никуда не сойти. Да это ему и не надо! Там, на Верху, небось еще сытнее и вольготней. А здесь… Но и здесь тоже разве плохо? Здесь что?! Раз в месяц отдежурил по казарме, потом еще, тоже раз в месяц, стража на крыльце, и это все. Да! И еще каждое утро — но это уже все вместе — сгонял на Горку, прибежал — и теперь точно все, то есть гуляй и когти рви! Ну а пока лежи, служи на мягком тюфяке…
Да-да, вот именно, служи! Так и Лягаш напутствовал. Рыжий поспешно спрыгнул на пол, выбрал в охапке дров полешко подлиннее и, щурясь от волнения, ткнул его в печь. Огонь схватил полешко, облизал и начал жадно его грызть. Тогда ему еще одно. А вот еще! В пасть! В пасть ему! Пусть себе ест, не жалко. Ты и огонь теперь друзья. И здесь теперь твой дом, здесь все твое, отца не посрамил! Рыжий степенно подошел к кадушке, взял оттуда яблоко побольше, порумянее, попробовал — оно ему понравилось. Съел без остатка. Взял второе…
После шестого яблока Рыжий вернулся на тюфяк, сел и прислушался. Ни шороха. А что! Это ж тебе не Выселки, а Дымск, город, столица, терем княжеский, все под охраной, оттого и тихо. Князь отдыхает на Верху, Лягаш ушел к себе. А может, и совсем уже ушел, даже из терема. Лягаш всегда в трудах, Лягаш предупреждал: «В Дымске пасти тебя не буду». Ну а Брудастый, тоже как всегда, теперь сопит под лестницей. Брудастый, так Лягаш рассказывал, все время спит; встанет, поест и снова нырь под лестницу — и в сап. И это хорошо. А то назначь вместо него старшого побойчей — так ведь же загоняет, загрызет. А так вон хорошо-то как: спит — и спокойно в тереме. И лучших нет да нет. И долго их еще не будет. Никто, так здесь у них заведено, раньше полуночи не явится. Гуляют лучшие! И ты, как только отдежуришь… Да! Здесь вам не логово, здесь не Глухие Выселки! И завтра же… Рыжий мечтательно вздохнул, зажмурился…
И тотчас же крепко заснул. Во сне был ясный теплый день. Он, Рыжий, сытый и довольный, рысцой бежал по улице…
Да, именно рысцой, на четырех, то есть совсем почти как в Выселках, ну разве только его верхние теперь были в налапниках — это чтоб пальцы об дорогу не сбивать. Р-ра! Х-ха! На четырех! И это дымцев вовсе не коробит, ибо не ты, бывший дикарь, один такой на здешних улицах четвероногий, а все они чуть что, чуть заспешат, так сразу — р-раз! — на все четыре и погнал. Вот так-то вот! Такое вот у них, у южаков, прямохождение — форс, и не более того. Ну да и ладно, что ему до этого. И Рыжий наддавал и наддавал. По сторонам мелькали бани, лавки, будки, терема, костярни, мастерские. Прохожие с почтением смотрели ему вслед, и кое-кто из них порой даже кричал:
— Это Рыжий! Ну вылитый Зоркий! Эй, Рыжий, постой!
Он им не отвечал — бежал. Во сне бежать очень легко; прыжки всегда высокие, дыханье всегда ровное. Вперед! Направо. В подворотню. Ну а теперь налево, за угол…
И замер! Ну, еще бы! Ведь прямо перед ним стоял Вожак. Да-да, вот именно, Вожак, тот самый — из Лесу, из Выселок. И как еще стоял! Смотрел из-под насупленных бровей и улыбался. То есть…
Ну, что! Да тут все ясно и без слов. И поначалу Рыжий даже оробел. Да нет, чего скрывать — перепугался! Уф-ф, вот те на, подумалось, вот и вернулось все — и Выселки, и дуб, и приговор, и…
Ар-р! Рыжий опомнился. Да что это он выдумал?! Вожак — и в Дымске; это сон! Ну, конечно же сон! И Рыжий, чтоб скорей проснуться, резко мотнул головой. Но сон не исчезал! Наоборот:
— Р-ра! — хищно выдохнул Вожак. — А как ты покруглел за этот год! — и подступил к нему на шаг, оскалился…
А Рыжий на шаг отступил. Нет, понял он, это не сон. Явь это. Явь, да и еще какая! Год его не было в Лесу, год он не видел Вожака, не голодал, не мерз, не прятался, не выл. Но ох как быстро пролетел этот счастливый год! Ох, как…
— Да, покруглел ты, брат, — опять сказал Вожак. — Заматерел даже. На зависть! — и снова подступил на шаг…
А Рыжий снова отступил, оскалился. Стоял на четырех, не поднимался, на четырех оно надежнее, устойчивей. И злобно думалось: вот вражья тварь; нашел-таки! А ты о нем уже забыл, ты здесь давно уже прижился и обжился…
А этот:
— Р-ра! Лоснишься! — и снова шаг вперед…
А Рыжий — шаг назад… и ткнулся задом в стену. И мысль мелькнула: р-ра, проклятые налапники, мешать ведь будут, когти закрывают! Ну а Вожак криво ощерился, сказал:
— Ну, вот и все. А то бежал! Куда бежал? Зачем?
Но Рыжий не ответил. Да и не нужно было отвечать! А нужно…
Нет, вот этого как раз точно не нужно. Кричать, звать городскую стражу, убегать, потом издалека подсматривать, как стража будет загонять его, а после рвать на клочья — нет, это вообще никуда не годится. Не их это, не дымских дело. И Рыжий еще раз, теперь уже просто от гнева, мотнул головой и спросил:
— Зачем ты здесь?
— Да все за тем же самым, — сказал Вожак, недобро усмехнулся… и резко, гневно продолжил: — Я от Луны пришел! А также от сородичей, от твоих и моих, наших общих. От всего, значит, Леса. Вот, значит, зачем я пришел править лесной закон! Ну что, нерык, теперь не побежишь?
— Нет!
— Почему?
— А не хочу! — Рыжий сглотнул слюну. — Отбегался я. Вот!
— И правильно, — кивнул Вожак. — И правильно! А то в тот, прошлый, раз мне было за тебя очень стыдно.
— Прости, — и Рыжий криво, гневно усмехнулся.
— Уже простил, — он тоже усмехнулся. — Готов?
— Нет.
— Что еще!?
— Спросить хочу.
— Спроси.
— Где мой отец?
Вожак задумался. Сжал челюсти, прищурился… Потом отрывисто сказал:
— Убит. А что?
— Тобой убит?
— Нет, не совсем. Мы тогда все его убили.
И Вожак замолчал. Молчал и Рыжий. Да что это, гневно подумал он, опять он как тогда, когда Лягаш пришел, опять не бросается! И точно, как тогда…
Нет! Не совсем. Вожак, еще сильней прищурившись, опять заговорил:
— Да, это мы его убили. Ибо таков Главный Закон — убивать чужаков! А то, что он нам говорил, что будто бросил узколобых, что будет с нами жить и будет жить как мы… Но это же невозможно! Враг он всегда только враг, а свой он всегда только свой. Вот даже взять тебя. Ведь так?
— Так, — подумав, сказал Рыжий.
— Так, да не так! — и Вожак засмеялся. — Не так! Твой отец был для нас чужаком, это верно. А ты нам не чужой, ты свой. А почему? Да потому что где ты впервые открыл свои глаза, увидел этот мир? В нашем Лесу. А после кто вскормил тебя? Наша Луна. Она бела, как молоко, да она и есть то молоко небесное, — которое, кстати, вскормило не только тебя, но и всех нас, весь наш народ. Вот почему мы, рыки, все один другому братья. А ты… Ты взял и всех нас, своих братьев, предал! Ты, значит, нерык! Так?
— Так! — и Рыжий подскочил…
Но не затем, чтоб броситься, чтоб защищаться — нет! Смерть — значит, смерть; таков Закон. Л-луна, владычица, прими меня, Л-луна!..
— Р-ра! Р-ра! — вскричал Вожак. — Не бойся, Рыжий, р-ра! — и вскинулся, метнулся на него! И сразу тьма! Вой! Визг! Рыжий вскочил и закричал:
— Вожак! Вожак! Ты где?
Тьма! Тишина! Рыжий закрыл глаза, немного подождал, потом опять открыл, присмотрелся…
Да, точно: ночь, казарма, его нары. Вот уже год он здесь… Год? Нет! Откуда год?! Да он пришел сюда только сегодня утром, полдня только служил, потом поел, лег и заснул… И сразу же такой ужасный сон! От духоты это, наверное. Да-да, от духоты. Здесь, в Дымске, дышится не так; в Лесу, конечно, воздух много чище, объедков нет и тесноты, там все ему знакомо и привычно, там вообще… Нет! Хва! Пора забыть о том! Он в Дымске, он в казарме. На нарах — лучшие. Лежат вповалку, спят. Вот кто-то из них дернулся и заскулил… и снова тишина. В окне — ни зги. Значит, Луна уже зашла. Ночь скоро кончится, и страх пройдет… Страх! Почему? Кого это он испугался? Он не боится Вожака! Вожак — это глупый, дремучий дикарь. Да и все рыки таковы, все они дикари. То здесь, то там они выходят на Равнину, грабят поселки свинарей, а то и подступают к самым городам, но наши храбрые дружины гонят врагов обратно в Лес, сжигают их разбойничьи лежбища. Лягаш, первый равнинский воевода, он говорил… Да-да, он говорил и, если будет надо, повторит: «Лес и Луна не для тебя, твоя судьба — быть лучшим среди лучших». И Рыжий лег, прижался боком к печке. Ночь — и тепло. Как это непривычно, хорошо! А что хорошего в Луне? Она всегда холодная, значит, она — совсем не молоко, ведь молоко холодным не бывает, он помнит это, р-ра! Оно было и теплое, и сладкое, и жирное, он жадно пил его, причмокивал, повизгивал; о, как он счастлив был тогда! А мать, прижав его к себе, шептала: «Пей, сынок, пей, расти скорей и знай: они, в Лесу, здесь все такие, а твой отец был не таким, за это он и был ими убит. И ты не забывай, сынок, чья на них кровь, но и не мсти, не надо им за это мстить, месть ни к чему не приведет. Молчи, сынок, терпи и жди; я верю, ты дождешься!» И помнил ты, рос и терпел, и ждал, и никому не говорил о тех словах, которые в тебя впитались вместе с материнским молоком, и кровь их разнесла по жилам. А кровь на то она и кровь, она еще теплее молока, нет горячее; кровь — как огонь, кровь обжигает и пьянит, и ты теряешь голову и поступаешь так — и только так — как кровь тебе велит. Пять лет ты жил в Лесу и никогда не видел южаков, но только стоило явиться Лягашу, как сразу твоя кровь… Вот именно! Пришел Лягаш — и сразу же увел тебя. И правильно увел! Спи, Рыжий, спи, все позади, Луна — не молоко, но Солнце — это кровь, огонь, вот до чего оно горячее. И печь горячая, прижмись к ней посильней, согреешься, и дрожь пройдет, веки нальются тяжестью и мысли потекут все медленней и медленней, пока совсем…
И сон сковал его, Рыжий опять заснул — на этот раз уже без сновидений.
Глава седьмая — КОГТИ РВАТЬ
Утром Рыжий проснулся от зычного крика:
— Двор-р! Двор-р!
Он подскочил…
— Двор-р! Двор-р! — кричал Брудастый, стоя на пороге казармы. Мимо него стремглав бежали лучшие — на четырех конечно же, сон, значит, в лапу, х-ха! И Рыжий тоже побежал — как все, на четырех — в дверь, через сени, по крыльцу, и выбежал во двор.
Во дворе еще было довольно темно; заря еще только-только занималась. Толкаясь и урча, грызясь — не по злобе, а от избытка удали, — лучшие мало-помалу построились в двойную шеренгу и встали на нижние лапы — на стопы. И Рыжий встал, как все, молчал, считал удары сердца. Когда он досчитал до сорока, так сразу же надсадно заскрипели ворота, и из тягарни медленно выехала волокуша, запряженная тройкой мохнатых пегих южаков. Эти сразу шли на четырех. Мотали головами, щерились. Вот тоже служба — княжьи тягуны. В нее берут только рослых да крепких, да верных. Им тоже полагаются ремни, им выдают двойной паек. Но против лучших тягуны — это никто, холопы. Тягун в казарму не входи, он если только сунется, так сразу ему…
— Стр-рой! — рявкнул Брудастый.
Строй сразу замер, все задрали головы. Князь не спеша сошел с крыльца, важно сел в волокушу, глянул на строй, потом на тягунов — и зычно скомандовал:
— Порс!
Тягуны сразу взяли в галоп, повлекли волокушу в ворота. А лучшие, ломая всякий строй, толкаясь и лягаясь, тотчас погнались вслед за ними — на четырех, ведь так вдвое быстрей — и закричали, заорали, завизжали!..
Вот так, пыля, крича и хохоча, княжий поезд стремительно мчался по заспанным улицам Дымска, а попадавшиеся ему навстречу редкие в такую пору прохожие испуганно жались к заборам.
— Порс! На Гору! — кричали лучшие. — Порс! Порс!
Бег опьянял. Азарт — как на охоте. И Рыжий наддавал и наддавал. Ар-р! Р-ра! Скорей! Ты и они — вы лучшие, вон как вас все боятся! Ар-р! Ар-р! Скорей! Налево! Прямо! Порс! Крик, топот, визг, пыль в горле, сушь. Еще! Еще, еще, еще, не отставай! Вверх-вверх-вверх-вверх!..
И — вот оно, домчали! На вершине Священной Горы волокуша резко остановилась. Остановились — падая, смеясь — и лучшие… Но тотчас присмирели и построились, встали на нижние и замерли. А тягуны легли и положили головы на лапы. Стало тихо. Князь тяжело, кряхтя, спрыгнул на землю, прошел к обрыву, сел прямо на землю и нахмурился. Лучшие, стоявшие поодаль, почтительно молчали. А там, за рекой, небо быстро светлело. Рыжий вывалил пересохший язык и, с трудом сдерживая шумное дыхание — ведь с непривычки, р-ра! — покосился налево, направо. Вот этот, справа от него это Овчар. Лягаш о нем рассказывал, этот надежен. А слева — это Бобка, он так себе, и трусоват, и вороват, но языкаст, ох, языкаст! А дальше кто? Это Клыкан. Это Бесхвостый. Это Левый. А это кто? Ну, как его…
А небо на востоке, за рекой, все светлеет и светлеет! Еще совсем немного, и там из-за горизонта покажется Солнце. Но здесь, на Священной Горе, его называют Светило. И здесь они его сейчас и ждут, встречают. Уж такой у них в Дымске обычай — князь каждый день встречает Солн… Э, Светило, конечно, Светило! А лучшие его всегда сюда, на это самое высокое в городе место, должны сопровождать. А после вместе с ним ждать и встречать. Вот и сейчас они молчат, ждут, щурятся, не дышат. Но никакого страха, как в Лесу в Час Бдения, в них нет. И это правильно. Лягаш это так объяснял: «А страха просто быть не может. Чего им страшиться? Наступающего дня? Или Солнца? Так солнце — это свет и тепло, значит, жизнь, а жизнь — это радость. И потому я каждый раз, всегда с неодолимым трепетом…» А вот и не всегда! Сегодня он чего-то не спешил за этим своим трепетом. А ведь он не в отлучке — в тереме. Там, в тереме, он и остался. Стоял в окне второго этажа, смотрел, как остальные строились, как после выбегали, и даже лапой тебе помахал. Но вот ты уже здесь, и вот ты уже ждешь, правда, без трепета, а его, Лягаша, вовсе нет. А небо розовеет, тишина…
А вот и первый луч!
— Ар-р! — тотчас крикнул князь.
— Ар-р! — подхватили лучшие. — Ар-р! Ар-р!
И вот он, долгожданный день! Засверкала роса на траве, запиликал кузнечик. Взлетела бабочка, за ней вторая — и закружились в танце; выше, выше. А и действительно, какая красота! И также, впрочем, и в Лесу, когда порой лежишь в густой траве — один — и ждешь, пока подгонят дичь, но их еще не слышно, они далеко, наверное, след потеряли. А ты и рад тому! Лежишь себе раскинувшись, дремота тебя одолела, а прямо перед носом, по травинке, ползет букашка…
— Ар-р!
Рыжий вздрогнул, вскинулся. Бобка ехидно захихикал, что-то шепнул Бесхвостому…
Но тут же замолчал, ибо князь уже встал, потянулся, глянул на лучших, сурово зевнул… А после не спеша вернулся к волокуше, лег поудобнее, лениво приказал:
— Гони.
Тягуны подскочили, рванули и с места понесли в галоп! Хрип, вой! А следом — лучшие! Р-ра, Рыжий, р-ра! Вниз-вниз-вниз-вниз! Тебя толкают — ты толкай, бей, рви, вперед, еще вперед, всех обойди, всех, всех! Вот так! Еще! Еще! Р-ра! И вдоль по улицам! Через толпу! Костярни, бани, лавки, нищие, базар, налево, за угол, вверх, вверх, в ворота, р-ра, к крыльцу…
А вот возле крыльца Рыжий резко осадил и даже отскочил назад, посторонился. И это правильно, это по чину. То есть без чина лезть вперед нельзя. А здесь особенно, ибо первым на крыльцо всегда всходит князь. Всходит один, без провожатых. Мало того: пока князь не взойдет на самую верхнюю ступеньку, никто к крыльцу не приближается, все ждут. Но даже и потом взбегать наверх еще нельзя, а можно только подойти к крыльцу, точнее, молча к нему протолкаться, и, наступив стопой на нижнюю ступеньку, задрать вверх голову и снова терпеливо, молча ждать. А князь тем временем проходит через сени, заходит в трапезную, шумно нюхает воздух и морщится, он, кстати, морщится всегда, а повар, он тоже всегда — с испуганным видом суетится перед ним, юлит, утверждает, что кормежка ему нынче удалась, как никогда. Но князь его не слушает, проходит дальше, садится во главе стола. Повар несет ему попробовать, князь пробует и снова морщится, гневно зовет Брудастого. Брудастый уже тут, он жадно пробует и хвалит, тогда князь снова пробует и еще пуще морщится… а после говорит всегда одно и то же:
— Пусть сами разбираются. А что по мне, так… тьфу! Зови!
И вот только тогда Брудастый появляется на верхней ступеньке крыльца, зовет — и все, толкаясь и визжа, скопом бегут наверх. Так и сегодня они побежали. И вместе с ними побежал и Рыжий. А что? Так здесь давно уже заведено, такой у князя нрав; Лягаш, когда рассказывал, смеялся…
Но все бегут — и ты беги, не то затрут, затопчут. А ну плечом его! А этому под дых! И этому! И этому! Вот и взбежали скопом, скопом через сени, там через дверь, через порог, через кого-то, и, уже в трапезной, рассыпались горохом — и с двух сторон — к столу! Там Рыжий протиснулся между Клыканом и Левым, схватил из общей мисы кус побольше — и сразу рвать его, рвать, рвать! Так и соседи похватали, повпивались!…
— Ар-р! — выкрикнул Лягаш.
За столом сразу стало значительно тише. Лягаш сидел при князе, справа. Лягаш вел трапезу, ибо не княжье это дело смотреть за порядком. Князь вообще никуда не смотрел, но только в свою мису, молчал и ел, посапывал. И все молчали, чавкали, вгрызались. И было ведь во что вгрызаться! Свин был порублен щедрыми кусками, поджарен с корочкой. Р-ра, сытно, сочно как! Но тишина, князь любит тишину. Рыжий, стараясь не спешить, чинно жевал, порой поглядывал на Лягаша. Но только один раз глаза их встретились; Лягаш кивнул ему, даже едва заметно подмигнул — и сразу отвернулся. Р-ра, вот и все!
И что? И это правильно. Лягаш еще в пути предупреждал, что в Дымске он ему помогать уже не будет, что в Дымске будет так: что сам возьмешь, урвешь, то и твое. А то, что сразу прозевал, того потом уже не трожь, оно уже чужое — такой у них закон. Вот и бери, и рви, пока еще не поздно, тем более смотри, какое мясо сочное! И Рыжий брал, хватал. Да и другие тоже не зевали. Все, кроме Лягаша. И вообще, он не такой, как все. Он даже не такой, каким он был в Лесу, а потом на реке. Да, он теперь совсем другой. Даже ремень на нем уже не тот, а новый, и этот новый много лучше прежнего. И шерсть на Лягаше так и блестит — холеная. Сразу видно, был в бане. А как он важно держит голову, как строго смотрит! А как он ест!.. Ну, ест! И что? И правильно. И так оно теперь и должно быть, он же теперь не в Выселках, а на Верху, он воевода, он при князе. А ты — просто один из своры, пусть даже и лучшей, да, ты, значит, просто… Р-ра! Смотри, еще несут! Хватай скорей! Что сам возьмешь, то и твое!
И он хватал и рвал, еще хватал, рвал, запивал…
И с непривычки захмелел. А что! В Лесу хмельного не было, они там такого не знали. А здесь браги хватил, еще хватил — и что теперь тебе Лягаш! Ну, воевода он, ну, он при князе; сейчас они, как поедят, поднимутся на Верх, начнут судить-рядить про подати, дрова, про воровство, пожар… Ну, скукота! А мы зато — свободные! И мы…
И точно — в трапезную вошел полусонный, взъерошенный Брудастый (а он, как водится, давно уже поел, небось уже почти переварил), рыкнул, зевнул и зло сказал:
— Хва, засиделись. Порс! Когти рвать!
И Рыжий, как и все, сразу вскочил из-за стола — и в дверь, и через сени, кубарем по лестнице, и — через площадь, в подворотню, и — вдоль по улице.
Ар-р! Р-ра! Кружилась голова, кипела кровь, вокруг кричали, он кричал, бежали, он бежал — скорей, скорей, скорей!…
На перекрестке они вдруг остановились, встали на нижние, маленько отдышались. Смотрели друг на друга и молчали. Только глаза у всех сверкали. Отвага, лихость, р-ра! Клыкан сказал:
— Туда!
Левый:
— И я туда!
Скрипач:
— А мы?
Бобка:
— За мной! — и снова пал на все четыре и рванул!
Скрипач — за ним! И Рыжий…
Тоже побежал — за ними. Р-ра, пыль и грязь, прохожие, столбы, заборы, р-ра, р-ра-ра-ра! Спешил, но и не обгонял, ведь как-никак впервой бежал, тут надо прежде осмотреться, ну а потом уже, Лягаш ведь объяснял…
Бежали плотно, сворой, ухо в ухо. Их было четверо: Бобка, Скрипач, Храп, Рыжий. Храп — тощий, остроухий, злой. Скрипач — сосед по тюфяку, а Бобка — пьяница, плясун, наглец, каких не сыщешь. В нем силы, росту — тьфу! Но гонору, но прыти! Бежал, покрикивал:
— За мной! Не отставай!
Не отставали. И как бежали, так и забежали; грудью на дверь — бабах! В костярню «Без хвоста» ввалились как к себе в казарму. В костярне — дым и чад, смрад, полумрак и толкотня. Пробились, кинулись к столу, расселись, растолкав соседей. Храп заорал:
— Хозяин!
Подскочил хозяин. Бобка велел ему:
— По миске ежевичной — раз! По охапке ершей, и чтоб сухие были — два! И… костей для забавы. Шустри!
Хозяин пошустрил, принес, смел на пол то, что уже было на столе, расставил угощение. Рыжий принюхался, прищурился от удовольствия, придвинул к себе миску, замер…
Бобка тепло, напутственно сказал:
— Давай, давай! И не забудь, что это — твоя первая костярная.
А ведь действительно! Примета есть, Лягаш предупреждал: какой будет почин, так и потом пойдет. Так что же ты? Что, духу не хватает? Ну так тогда…
И Рыжий шумно пригубил настойку и причмокнул; какая она сладкая, душистая! А после… Одним махом ее — кв-вык! — и выпил, встал…
Да повело его! Р-ра, с непривычки, да! Хозяин, глядя на него, нахально засмеялся. И вот тогда-то…
— Р-ра! — крикнул Рыжий. — Что ты мне подсунул?! Кислятину! Протухшую! На, сам попробуй! Пей! — и миска полетела через стол…
В хозяина! И угодила ему в лоб! И разлетелась вдребезги — ба-бах! Хозяин, зашатавшись, устоял; весь мокрый, онемев от такой дерзости, воздевши лапы и разинув пасть, смотрел на Рыжего…
А Рыжий, не теряя времени, сгреб горсть ершей и снова заорал:
— А кто будет закусывать? Не дело не закусывать! На, жри! — и запустил в хозяина ершами! И опять: — Еще бери! Еще! Не жалко! — и снова горсть ершей в хозяина, и снова!
— Ар-р! — заревел хозяин. — Ар-р! Убью!
И — к кочерге! Схватил ее — и к Рыжему! Конечно, можно было бы его… Э, нет! Здесь тебе не в Лесу! И Рыжий рвать его, хозяина, в клочья не стал, а просто резво кинулся под стол, метнулся между лавками к стене, вскарабкался по ней под потолок…
Хозяин — вслед за ним! Рыжий лягнул его стопой, хозяин удержался, Рыжий еще лягнул — и они вместе полетели на пол! Сцепились! Р-ра! Хозяин кровожадно заорал… Но Рыжий тотчас вырвался и бросился в толпу! Визг, вой в костярне, радость, улюлюканье! Ар-ра-ра-ра-р! Скорей! На стол! Под стол! На печь! Под печь! К дровам! К котлам! Окорокам! По головам-по-мискам-лапам-спинам-по-столам! Бац-бряк-бух-шмяк-бабах! На стену! По стене! Под потолок, по потолку! Визжат они, им весело, а ты уже запыхался, куда теперь, зачем? Доколе это все? Круги в глазах! Язык на пле…
— В печь! Рыжий, в печь! За мной! — и этот…
Бобка, да! Он, Бобка, прыгнул прямо в печь, в огонь! И ты, Рыжий…
За ним! В огонь! Через огонь! Ар-р! Р-ра! Котлы гремят, дымят, в них мясо, кипяток; вперед, не отставай! Тьма в дымоходе, гарь и теснота, не продыхнуть! А снизу подпирают и кричат:
— Ар-р! Не зевай! Рыжий, скорей, сгорим!
Кто это еще там? Р-ра! Храп, Скрипач! Так, значит, и они вслед кинулись! Р-ра! Р-ра! Вот что такое лучшие; в печь — значит, в печь!
А снизу:
— Не замай! Ар-р! Ар-р! Скорей!
Да уж куда еще скорей!? И так спешу, ползу, щемлюсь, царапаюсь вверх, вверх по дымоходу, вверх, и…
Выбрался! Р-ра! Ф-фу! Теперь вздохнуть да отплеваться, отряхнуться. Теперь…
— Порс! — взвизгнул Бобка. — Зашибут! — и кинулся на брюхо, распластался, и так, распластанный, метнулся по коньку, и с этой крыши — на соседнюю! И Храп, Скрипач — за ним! И Рыжий — мах за ними! Мах-мах-мах! И побежали крышами, заборами, и снова крышами, заборами, плетнями, снова крышами! А снизу в них — камнями, палками, горшками, чем придется! Бросают, улюлюкают, свистят! Кричат:
— Бей лучших! Бей!
Да только лапы ваши коротки, зубы кривы — не взять! И лучшие конечно же ушли, погоню одурачили, и уже можно было не бежать, но все равно бежали — и в скок, и в перетоп, по крышам, ба-ба-бах, ба-бах, под свист и смех… И только в Хлюпкой Слободе они соскочили к кому-то во двор и там через плетень и огород сбежали на пустырь, и возле старой полусгнившей лодки попадали в пожухлую траву…
И замерли. Лежали, тяжело дышали. День был конечно же, холодный, пасмурный, и небо было серое, и дух на пустыре стоял репейный, едкий… Но все равно как здесь легко, свежо, свободно, лихо! И здесь ты не один, а с лучшими, и ты им уже больше не чужой; вон смотрят они как — приятельски, по-свойски! И то сказать: какой лихой ты учинил почин — миской об голову! Разбил! Потом — ершей ему! Да о такой гульбе еще неделю будут вспоминать, не менее… Но не сейчас об этом говорить, сейчас надо лежать и усмирять дыхание и силы собирать, ибо вон солнце еще где, вон сколько еще дня в запасе, до вечера еще вон сколько можно…
— Ар-р!
Это Бобка встал, встряхнулся. Сказал:
— Айда! — и весело оскалился.
Храп встал. И встал Скрипач. И Рыжий встал. Пошли. Сперва шагали чинно, на стопах, после перешли на все четыре. Потом прибавили трусцой, потом рысцой, а там еще наддали — вскачь… Никто из них не спрашивал, куда они бегут, ибо все знали — Бобка зря не потревожит; уж если он позвал, то, значит, дело есть!
И дело было. Как были они в саже, в копоти, так и явились на базар, пошли толкаться по рядам. Базар! Чего там только не было! Подстилки, ухваты, гребенки, горшки, зубочистки, попоны, капканы, сети, удочки. Р-ра! Сколько ж нужно глаз, чтобы все это сразу увидеть! А сколько нужно лап, чтобы ощупать это все, сколько зубов, чтобы… Р-ра! Рыжий зашатался, опьянел! И, потеряв товарищей из виду… Да нет! Просто забыв о них, Рыжий поплыл в толпе! Толпа его швыряла и кружила, то прибивала и валила на лотки, то вдруг водоворотила, толкала в балаган, но тут же оттирала и несла — сперва к рыбным рядам, потом к мясным, тряпичным, ленточным, целебным, срамным, леденцовым… И только уже там, у самого забора, вцепившись в столб, он задержался, глянул на лоток…
А на лотке рядком лежали разноцветные ледышки. Нет, не ледышки леденцы; Лягаш о них рассказывал. Ну, леденцы — это когда и мед и снег, и на огне это заварено, ну, в общем, блажь… Но Рыжий все-таки не удержался и сунул лапу к леденцам, спросил как можно вежливей:
— Почем они?
Лоточник посмотрел на Рыжего и прикусил губу, задумался; небось, прикидывал, в чем здесь подвох, ибо не тот это товар, который нужен лучшему, ведь лучшие, известно всем, на сладкое не падки, но зато…
Как вдруг на весь базар раздался чей-то крик:
— Держи! Держи!
Крик тут же подхватили:
— Держи! Лови! Дави!
Рыжий поспешно оглянулся…
Да, так оно и есть! Толпа ревела, все кидались, кто куда — это Храп с куропаткой в зубах бежал между рядами, всех расталкивал! За ним, вприпрыжку, Бобка и Скрипач. За ними — стражники.
— Держи! — кричали все. — Дави! — и жались, кто куда, а стража настигала, настигала! И Рыжий…
— Р-ра! — и бросился наперерез! Сбил стражника. Второго! Третьего! И вслед за Скрипачом Бегом! Бегом! Р-ра! Р-ра!..
Бежали долго. Выбились из сил. Залезли под поваленный забор, разделили добычу и съели. Бобка делил. Начал он с Рыжего. Сказал:
— За мысли — это тебе голову. За резвость — лапу. На!
И Рыжий взял и съел в один проглот. Да что такое куропатка? Смех! Да и не в куропатке дело — в дерзости. Вот мы дерзим — и как нам хорошо! И пусть они кричат, визжат и проклинают нас — не слушай их. Кто они? Худшие. А мы кто? Лучшие. Вот то-то же! Так что лежи да отдыхай, ни в чем не сомневайся. Товарищи лежат — и ты, значит, лежи, ушами не стриги, никто вас под забором не найдет. А если и найдет, так тронуть не посмеет, не… как это?.. да я… И задремал. А может быть, и спал…
Храп разбудил:
— Вставай!
Рыжий вскочил. Было легко и весело. Свой, при своих. Ар-р! Р-ра!
— Айда!
Айда, конечно же! Бегом отправились к реке. Там они тоже не скучали бросали в воду палку и с криком плавали за ней, и там, уже в воде, дрались из-за нее, а после плыли к берегу, опять дрались; кто первый ее вынесет, тот выиграл. Два раза первым был Скрипач, три — Храп, а остальные — Рыжий. Потом, когда это наскучило, они подкрались к рыбакам и обкусили им сеть, перевернули лодку и сбежали. Потом… Опомнились — темно! Голодные и мокрые, продрогшие до самых костей, приятели бегом вернулись в терем…
И оказалось, что успели в самый раз! Все были уже в сборе, волновались. Сидели по углам, шептались, ждали. И Рыжий со своими тоже сел. Сидел и, как и все, помалкивал. Ждал, ждал. Все ждали… Но вот дежурный сообщил — князь отошел ко сну, а Лягаша, того и вовсе нет, Лягаш ушел, Брудастый говорит, в Хвостов, к Урвану. Р-ра! Хорошо! Все сразу оживились и пересели к камельку. Раздали миски. Глянули на дверь…
И снова в самый раз! Рвач и Клыкан внесли бурдюк. Шипучее! Из лавки выкрали! Да, не без драки, ар-р. Налили всем. И, перечокавшись, все выпили — за Рвача и Клыкана, конечно. Потом — сразу за этим — выпили сперва отдельно за Клыкана, потом — тоже сразу — отдельно за Рвача. Потом опять за них двоих и за их сегодняшнюю удачу. А после за их удачу в будущем… И уже только после этого как-то сам по себе получился небольшой перерыв заговорили каждый о своем, и все громче и громче. А Рыжий, тот пока помалкивал, ибо не срок еще, не срок! Да и зачем ему было встревать? Вон Храп как ловко говорит — с показом! И, между прочим, про него, про Рыжего. Да-да! Вот это, Рыжий, ты — смотрите все! — за миску, р-раз! А он, хозяин, на тебя! И вы тогда… Ар-р, ар-р! Визг, гогот; лучшие хохочут! Кричат:
— Налить ему! Еще налить!
И ты берешь налитое, идешь по тюфякам и чокаешься с ними — с каждым отдельно, и с каждым лично пьешь, потом еще берешь и наливаешь, и еще. И кровь в тебе кипит, звон в голове, и душит смех, и гордость! Стопы не держат — сел…
А тут Клыкан вскочил, потребовал:
— Частухи!
Бобка манерно выскочил на середину, пошел вприсядку — медленно, а после все быстрей, быстрей — и наконец запел! Все подхватили и затопали, а те, кто похмельней, пустились вслед за Бобкой в пляс. Крик, гогот, пыль столбом! И ты бы выскочил, да стопы не идут. А жаль! Вон веселятся как! Огонь, и тот пустился в пляс!
И вдруг…
Все смолкло! Плясуны застыли! В пороге… стоял князь — насупленный, всклокоченный.
— Так! — мрачно сказал он. — Опять! А я предупреждал! И посему… Рвача — на цепь! Клыкана в яму. А тебя… — князь указал на Бобку и задумался, нахмурился еще сильней. А Бобка…
Он на то и Бобка! Скуля и весь дрожа, подполз к князю на брюхе и заглянул ему в глаза, услужливо чихнул. Все захихикали. Князь тяжело вздохнул, переступил через лежащего, прошел к огню и сел. Ему налили миску, подали. Он взял ее не глядя, не глядя же и выпил. Еще налили. Взял еще. Опорожнил, тяжко вздохнул… и разрешил:
— Валяй.
И вновь все разом ожило! Бобка пошел вприсядку, заорал! А следом Пестрый. И Овчар. Борзой. Друган. Хоп! Хоп! Гуляй, пляши! Что наша жизнь? Ремень! Пройдет зима — и снова на Границу! В бой! В кровь! Ар-р! Ар-р! Князь, не грусти! Ар-р! Тряхни стариной! Й-эх, пузо мое! Косопузо-йо! Пузо, пузо! Косопузо! Косо! Пу! Зо! Йо! Топ! Топ! Перетоп! Все плывет! Все летит! В тарарам! Рам! Тарам!..
И — сон. Под топот, свист, под гиканье. Р-ра! Хорошо! Вольготно! Смело! Во сне опять пришел Вожак; рычал, стращал. А ты ему: «Пр-роваливай!» Вот так! Ты — лучший, друг огня, ты сыт и пьян, ар-ра-ра-ра!
Глава восьмая — СОЛНЦЕВОРОТ
Шли дни, недели. Осень кончилась. Вот уже выпал снег. В Лесу сейчас небось промозгло, мрачно, тихо. По вечерам сородичи, сойдясь под старым обгорелым дубом, сидят и ждут, когда взойдет Луна, чтобы пропеть ей гимн и попросить ее о помощи…
А здесь, в престольном Дымске, весело и сытно. И Рыжий здесь давно уже не новичок. Теперь он не бежит — идет по улице, важно жует тянучку, а горожане шепчут ему вслед:
— Да, это он. Он, точно он!
Ну, еще бы! Теперь — он первый среди лучших, заводила. И то неудивительно. Что они раньше знали, до него? Ну, бегать по дворам, бить окна. Ну, или двери подпирать, а после в них стучать и кричать, чтоб скорее открыли. Ну, или напугать кого-нибудь из-за угла. А вот чтоб крышу разобрать и, через потолок просунув голову, спросить, все ли дома, кто это придумал? Вот то-то и оно! А чтоб залезть к кому-нибудь в трубу и воровать горшки, а головни швырять в хозяев?! Или поймать трех стражников, связать их хвост к хвосту — кто раньше это знал? А закричать «Пожар!», да так, чтоб весь базар в это поверил?! Вот был тогда переполох! Вот была давка, паника! Вот где была потеха — ого-го! Даже сам князь, когда ему об этом доложили, не удержался и смеялся до упаду! Потом, правда, опомнился, разгневался и приказал…
И Рыжий сел на цепь. На целых восемь дней. Бобка тайком носил ему еду и брагу. А по ночам на задний двор, к его цепи, сходились и другие лучшие. И были там тогда у них гулянки — крик, топот, песни до утра. Терем дрожал! Брудастый злился, но помалкивал. А князь, тот делал вид, что ничего не слышит. Небось завидовал. Небось все восемь дней, особенно ночей, терпел и маялся!
А на девятый день жизнь покатилась, как и прежде. Нет, даже куда веселей! Ведь же пришла уже зима, а зима, как известно, это пора невест. А их, этих невест, в Дымске полно — любых, везде! И лучших стали зазывать во все дома, и всюду — угощения, почет и пир горой. Ведь породниться с лучшими — это ого! Женившись, каждый лучший сразу получал высокий чин, дом, власть — правда, почти всегда не в Дымске, а где-нибудь в глуши. Но власть она везде есть власть, то есть кормление, сытая жизнь…
Так, правда, думали только родители невест. А сами лучшие смотрели на все это значительно проще. Примерно вот так: женюсь я или нет, там это еще будет видно, а вот призывный пиршественный стол — он вот, передо мной, так что гуляй, пока гуляется! И каждый день они шумной гурьбой спешили на смотрины, и ели, пили, словно не в себя, и пели, гулеванили, дрались — от лихости и счастья — как правило, между собой. А иногда и с теми, кто их зазывал. Но то опять же не со зла, а все от той же самой лихости и от того же счастья. Да, что и говорить, зима — прекрасная, наивеселая пора! Утром чуть свет продрал глаза, смотался на Обрыв, вернулся, хватанул для легкости, и — когти рвать, смотреть, бузить, дерзить, орать, визжать взахлеб — что это, как не счастье?! Так? Так, конечно же!
А вот Скрипач того не понимал, не бегал в общей стае; он все ходил куда-то на Большой Посад, а возвратившись оттуда, молчал, ничего не рассказывал. Только вздыхал, ворочался, скулил. Так, в скулеже, и засыпал. И Рыжий как-то раз не выдержал, сказал:
— Ар-р! Ну какой же ты жених? Вон, по ночам зубами так скрипишь, что и уснуть нельзя. Невесту напугаешь!
Скрипач, озлясь, ответил:
— Ну и что? Моя невеста скрипа не боится. Я же не ты — не на Юю женюсь!
Все засмеялись. Рыжий промолчал. Вот, подумал, и этот туда же! Да что им так далась эта Юю! Не знает он ее, не видел никогда и, вообще, ему до нее нет никакого дела! А уж ей до него и подавно! Юю — это княжна, единственная княжеская дочь. Все говорят — она красавица. Князь прячет ее в тереме за городом, боится, чтоб ее не сглазили. Князь, говорят, собрался выдать ее замуж не меньше как за короля, конечно иноземного, конечно богатого, конечно…
Р-ра! А эти зубоскалят, олухи! Ты, Рыжий, говорят, у нас такой разборчивый! Тебе и та не нравится, и та, ты, что ли, Юю сватать будешь?! И что им на это ответить? Рвать уши? Так вроде свои, неудобно. Оправдываться? Слишком много им чести! И потому Рыжий просто помалкивал. Ну, иногда для острастки порыкивал. А так все было как и прежде — утром служил, потом вместе со всеми бегал на смотрины (всегда на чужие, своих никогда не устраивал) и там гулял, как все, кутил, как все, дерзил, как все — нет, даже больше всех! А поздно ночью, вернувшись в казарму, камнем валился на тюфяк… А сон не шел! Сна не было — и все! Лежал и думал о Юю! Утром вставал, бежал на службу — и опять у него в голове была только она одна! И на обеде она! На смотринах она! На… Что перечислять — везде только она, только о ней и думал! Да это были даже не мысли, а так, как назойливый шум в голове: Юю, Юю, Юю… А почему это, а отчего это, он сам того не знал. Не понимал себя. И удивлялся, а потом уже и гневался. И эта неизвестная Юю стала его все больше и больше раздражать, выводить из себя! И потому когда опять, на этот раз уже Клыкан съязвил по поводу княжны, Рыжий злобно оскалился и закричал:
— Брехня все это! Вздор! Я вообще семью не заведу, а буду как Лягаш!
— Лягаш! Ха-ха! — загрохотал Клыкан. — Так он же воевода! Первый! Ты, что ли, тоже в первые пойдешь?!
— А что? Вот и пойду!
— Иди, иди. Кто тебя держит! Правильно? — вскричал Клыкан и осмотрел собравшихся.
И все, кто был еще при памяти (а дело было на пиру), сразу согласно закивали. Да, верно, в первые никто из них не собирался. Ибо оно конечно же почетно, что и говорить, но слишком хлопотно. Уж лучше, каждый из них думал, я отскочу куда-нибудь на самую окраину и сяду сотником, а хоть бы и простым десятником — зато сам по себе. И сам тогда везде, хоть на одном голом песке, а прокормлюсь, и еще как! А в Дымске что? Конечно, хорошо еще, терпимо, если посадят тебя на базар, там есть, что взять. И на пристани есть, и на подсобных свинарниках тоже. Все это сочные места, завидные. Но если вдруг вздернут на Верх, что тогда?! Мотаться, как теперь мотается Лягаш, у Тымха на посылках, не знать днем и ночью покоя, и вообще…
Ну, нет! Ни за что! И потому Клыкан насмешливо сказал:
— Горяч ты, братец! Ох, горяч! — и захихикал, и все захихи…
— Р-ра! — рявкнул Рыжий.
Разговор иссяк. Покашляли, покашляли, да больше уже не цеплялись. И так и просидели бы они, промаялись да проскучали бы… Но тут, на счастье, подвернулся Левый — пришел из города, принес с собой вина. Все сразу оживились, пересели. Левый был щедр, лил до краев, а Бобка все рассказывал, рассказывал побасенки, и все смеялись — но все тише, тише… Последним замолчал сам Бобка и как сидел, так и упал; лежал очень неловко, спал. Рыжий поднялся, подошел к нему и уложил его, как надо, и укрыл. И заходил между нарами, и заходил, три раза брал из бочки яблоки, надкусывал, бросал, садился у печи, совал в огонь дрова, а после вышел на крыльцо, проверил сторожей, вернулся, лег, накрылся с головой…
А ведь они правы, подумалось с досадой, Лягаш опять в бегах, Тымх-Перетымх-Притымх послал его на этот раз в Столбов, ибо в Столбове вдруг открылся недочет, проворовались они там, вот он, Лягаш, туда и побежал. Да, побежал, а не поехал. Он волокушу не берет, он своим ходом, как всегда. Опять, поди, в потрепанном ремне, нечесаный, как и тогда, в Лесу, и опять без охраны. Бродяга он, он не в себе — так говорят о нем. Р-ра, говорят! А о тебе они что говорят, ты слышал?! И Рыжий заворочался, сжал зубы, заскрипел… Тьфу, вот напасть! Уже и сам скрипишь, а к Скрипачу лезешь с укорами! И Рыжий сел и долго так сидел, мотая головой и призывая сон — долго мотал и все без всякой пользы… Но после все же, видимо, заснул, ибо когда Брудастый заорал свое извечное «Двор-р! Двор-р!», он подскочил, продрал глаза…
Все побежали, и он побежал; сгоняли на Обрыв, вернулись, сели, подкрепились — и снова когти рвать. Куда? А хоть куда — невест кругом полно, любых, ты только не зевай. И он и не зевал, и бегал в общей своре, ел да пил, бузил еще неделю, две, а про Юю уже почти не вспоминал. И правильно! Юю ему не пара, он просто лучший, а она княжна, она живет за городом, князь думает отдать ее за короля или за принца, лишь бы иноземного. А ты…
Князь за обедом вдруг сказал:
— Ну, вот и дождались. Завтра придет Солнцеворот.
— Ар-р! — закричали лучшие. — Ар-р! Ар-р!
И после трапезы все сразу поспешили в баню. И там они нещадно парились, скоблили зубы щелоком, расчесывали шерсть, точили когти, драили ремни, налапники, висюльки. Потом, вернувшись, разлеглись на нарах. Брудастый выдал всем по чарке крепкого и строго наказал:
— А больше чтоб ни-ни!
Пообещали, выпили… И тихо, скромно, даже без бесед, заснули. Один только Рыжий лежал и не спал. Да он того и не желал, он так — лежал, смотрел себе в окно, на восходящую Луну, и улыбался. Ну вот и вправду, думал он, наконец дождались — зима перевалила середину, значит, теперь день с каждым разом будет прибывать и прибывать. А до этого день каждый раз убывал. День как бы умирал и умирал и умирал, и вот только теперь, когда все ненужное в нем умерло, а осталось только нужное, день снова начинает расти. Умерло старое и ненужное, осталось только нужное, теперь это нужное будет прибывать и прибывать. Прибыль нужного — это всегда всех радует. Поэтому Солнцеворот — это действительно великий нужный праздник, и на него сойдутся все — князь, лучшие, купцы, рыбаки, костярщики и воеводы, их жены, дети, домочадцы, приживальцы… А кто еще? Ну, да! И в этот день — правда, только до вечера — из ям выходят даже должники, обманщики и всякие прочие злодеи. Их тоже приводят на праздник. То есть завтра там будут все до единого. Даже…
Ну, вот опять! Она — это княжна, ее хотят отдать за короля, а ты… Ты — да, конечно, первый клык в казарме. А что?! Кто отобрал у Брудастого ключи от хмельного чулана?! Кто вызывает повара и рвет его, когда свин недожарен?! И даже князь, когда он сюда входит, кому он первому кивает? Вот то-то же! А дальше… Х-ха, посмотрим, что там будет дальше! Мать говорила: «Сын, терпи и жди, я верю, ты дождешься!» И дождется. Мать небось знала, что говорила. Как говорила, так оно потом и бывало. И будет. Р-ра! И, успокоившись, Рыжий прижался боком к печке, зевнул, и…
Утром:
— Двор-р!
И снова, как всегда, дико хрипели тягуны, и волокуша мчалась по сугробам. За ней — на этот раз молчком — бежали лучшие. Нет никого на улицах. В окнах темно. Порс! Порс!
И — вот она, Священная Гора. Вокруг толпа; все разнаряжены, молчат. Весь город здесь, все затаились, ждут…
Вверх! Вверх! Порс! Порс!
Взбежали. На Горе…
Огромный, с терем, снежный ком, на нем — из снега же, тоже огромный, в пять ростов — Один-Из-Нас, украшенный гирляндами, лоскутьями и рычьими хвостами.
— Ар-р! — крикнул князь.
Все замерли. Князь спрыгнул в снег, прошел к обрыву, встал, прищурился. Ну! Ну, скорей!..
И — наконец — взошло оно, Светило! О, что тут началось!
— Ар-р! — снова крикнул князь.
— Ар-р! — подхватили лучшие.
— Ар-р! — завизжали горожане. — Ар-ар-ар-ар! Ар-ар-ар-ар!
И разом — там и сям и этам, то есть везде и в один миг вдруг ярко вспыхнули костры и загорелись плошки, факелы, гирлянды. Толпа, до этого молча стоявшая внизу, у подножья горы, теперь, громко крича и хохоча, полезла вверх по склону. Бой барабанов! Визг рожков! Топ! Шлеп! И вот они уже здесь, на вершине горы, и вот уже из них и хоровод! Тр-рам! Тара-рам! Пляши — вприсядку, на хвосте. А здесь надоело — тогда давай вниз! Там, вдоль по склонам — карусели, балаганы, там ледяные горки и лотки, корзины, кузовки со всяческою снедью. Смех там! Свист, пересвист! Гик-перегик! Всем хорошо там и всем весело — и молодым, и старым, богатым, бедным, знатным и не очень. И даже…
Кто это? Ар-р! Как легко она ступает! Как ясно смотрит! А как улыбается! А какая она из себя! На ней короткая, вся в блестках золота, попонка. А золото — это как солнце, как жизнь! Рыжий застыл, забыл про миску с брагой. Дух заняло. С трудом сглотнул слюну…
— Что, хороша? — спросил Овчар, стоявший рядом с Рыжим.
Но вместо связного ответа Рыжий только как-то странно вздохнул, неопределенно мотнул головой — и опять отвернулся, опять посмотрел на нее, на эту необычную красавицу…
— Ар-р! — рассмеялся Бобка. — Ар-р! Да это же Юю! Та самая. А рядом с ней видишь двух старух? Так это ее няньки. Они для присмотра.
Рыжий молчал, смотрел во все глаза. Вот, значит, на кого он смотрит на Юю. Вот, значит, какая она из себя. Вот, зна…
— Пойдем, — сказал Овчар. — Там в балагане представление. А это брось, забудь; не по зубам это. Пойдем!
— Да-да, сейчас, — ответил Рыжий…
И — р-ра! — шагнул — за ней конечно же! Потом еще шагнул, еще… И побежал за ней следом, и следом заскочил на карусель, всех растолкал, сел рядом с ней, весь подобрался. Карусель заскрипела, поехала. Он, весь дрожа, тихо сказал:
— Простите, если что. Я, если что, могу и спрыгнуть.
Она, казалось, не заметила его; молчала, грызла леденец…
А карусель кружилась все быстрей! День, солнце, облака. Толпа, смех, пляс. А рядом…
Ох! Вдруг карусель остановилась. Юю легко сошла на снег. Рыжий — за ней. Она на горку — он тоже на горку. Скатились рядом, хорошо. С горки она метнулась на качели — и он сразу туда, и на лету вскочил… А она соскочила. И он соскочил. Тогда она стремглав — и он стремглав — опять на горку. Съехали. И вновь на карусель… И так оно пошло, поехало, и закрутило, закружило — и все быстрей, быстрей, быстрей. Он подавал ей леденцы, она их грызла… и молчала. Вокруг шумел, кричал, пел и плясал весь Дымск — но Рыжий никого не замечал. Он — рядом с ней, и этого довольно! Она молчит… Но ведь не прогоняет! И даже иногда вскользь смотрит на него и улыбается. Вот как сейчас. А вот еще раз! А…
— Юю! — окликнули княжну.
Он оглянулся — волокуша; вся в разноцветных лентах и висюльках. И две старухи стоят на запятках. Жуют губами, морщатся.
— Юю! — вновь позвала одна из них.
Княжна капризно свела брови, хотела что-то им ответить — небось недоброе… Но, к сожаленью, промолчала, едва заметно усмехнулась, пошла к ним и взошла на волокушу, села… И вдруг, когда он этого уже и не чаял, она оглянулась! И кивнула — ему! Потом вздохнула и сказала:
— Порс! — и волокуша рванула в галоп.
… Юю давно уже уехала, а Рыжий все стоял, смотрел ей вслед и думал…
— Да! — зло сказал Овчар, опять стоявший рядом с ним. — Что наша жизнь? Ремень!
— Ремень! Ремень! — мрачно поддакнул Бобка.
Вот это настоящие друзья! Они не скалились, не ухмылялись, они ведь понимали, что это непросто. Даже обидно. Нет, даже…
— Нет! — рявкнул Рыжий. — Нет! Пилль! След!
— Зачем?
— Пилль! Там увидите!
Они спорить не стали. Он побежал — и они побежали за ним. А что! Друзья они и есть друзья! И так они бежали, бежали, бежали, держали след, а кое-где даже, Овчар подсказывал, срезали по оврагам, сокращали…
И вот добежали. Дворец княжны стоял довольно далеко от города, на правом берегу Пчелиного Ручья. Вокруг дворца густой стеной стояли какие-то кусты — такие густые, что даже и сейчас, зимой, без листьев, они очень сильно мешали обзору.
— Сирень, — сказал Овчар. — Ну, это такие цветы. Так, блажь!
Рыжий, не слушая его, полез в кусты. Друзья полезли следом. В кустах, чтоб не шуметь, они ползли на брюхе. Долго ползли, вжимались в снег как на охоте. Когда кусты закончились, они укрылись за большим сугробом.
— Уж слишком все легко, — тихо сказал Овчар. — А стража где? Не нравится мне это.
Бобка смолчал. И Рыжий тоже не ответил, а поднял голову и принялся рассматривать дворец. Дворец был двухэтажный, синий с красной крышей. Крыльцо высокое, дверь нараспашку. В двери никого. И в окнах тоже никого.
И вдруг…
В окне второго этажа появилась она! Стоит, слегка склонивши голову, чему-то улыбается. А вот…
Ну да! Это она тебя заметила — и сразу улыбнулась! А вот она тебе кивнула! И лапой указала на крыльцо! Ох-р-ра! Рыжий вскочил и бросился вперед. Мах, мах через сугроб — и вот он уже на ступеньках! А вот…
— Ар-ра-ра-р! Ар-р! Ар-р!
Это цепные сторожа со всех сторон метнулись на него! Вцепились! Ар-р! И — в клочья его! В кровь! Р-ра! Вот где зверье! Вот где поганое! Да если б он, Рыжий, хотел, так разметал бы их, словно щенков!..
Только зачем это? Пусть себе тешатся! И эта тоже пусть потешится. И она тешилась, ох, тешилась — заливисто, громко, бесстыже смеялась и все кричала сторожам:
— Так ему! Так ему! Рвите! Давите! Ха-ха-ха!
…Обратно убегали молча, без оглядки. И только уже возле самой казармы, когда они остановились отдышаться, Овчар зло сплюнул и сказал:
— Р-ремень!
— Ремень! Ремень! — поддакнул Бобка.
А Рыжий, тот вообще промолчал. Да и действительно, ну что тут скажешь, а?!
Глава девятая — В ЯМЕ
Прошла неделя. Две. Казалось бы, давно пора уже забыть про это. Или хотя бы смириться, привыкнуть. И в самом деле, ну что тут такого случилось? Ну, покусали, ну, облаяли. А все из-за чего? Из-за того, что ты что-нибудь сделал не так, сказал не так, не так подумал? Нет, все из-за того, что эта, как ее, княжна, глупа до невозможности, надменна, избалована. Зачем тебе такая, а? Вот то-то же. Так, может, это даже хорошо, что все это так быстро, шумно кончилось? Да, хорошо. Ну и что из того? Да только то, что Рыжий с той поры стал плохо спать и есть почти не ел. Ему казалось, что все знают о случившемся и тайно над ним потешаются. Правда, Овчар и Бобка поклялись, что никому ни-ни… Но мало ли! И он стал сторониться лучших. Теперь — всегда только один — Рыжий бродил по городу. Бродил так просто безо всякой цели. А то и вовсе сядет у базара и так и просидит там весь день до самой темноты. Вокруг сновали южаки. Все были чем-то заняты и озабочены, у всех свои дела, а он… Когда он никого не задирал, то и его никто не замечал. Он, первый клык, стал никому не нужен!
Ну а в казарме что? Душно, темно. И тишина — Скрипач уже не донимал его скрипением зубов; Скрипач женился и уехал сотником в Мерзляк-На-Пне. Глушь, говорят, невероятная, змеиные, голодные места. И вот теперь лежи в этой гнетущей тишине, ворочайся и думай… Хотя да что тут думать, р-ра, когда и так все ясно! Признайся — Дымск не для тебя, княжна — это всего только начало, ты — не южак, ты здесь чужой! И там, в Лесу, ты был чужой, ну а теперь и здесь уже чужой; вот как оно, добегался! И Рыжий, прежде добродушный, стал подозрительно поглядывать по сторонам и ждать подвоха, и… И когда в городе, в толпе, его толкнули стражники, и кто-то из них выкрикнул «Дикарь!»… он так отделал наглецов, что после одного из них чуть откачали. Узнав об этом, князь рассвирепел и приказал, чтоб Рыжий повинился. Но тот в ответ лишь рассмеялся и сказал:
— И не подумаю!
Тогда…
— Немедля! В яму! — рявкнул князь.
И Рыжего — с расстегнутым ремнем и под конвоем — опять свели на задний двор, только теперь не к цепи, а уже к дровяному сараю. Там, за углом, располагалась так называемая дерзкая яма. Рыжий глянул в нее, усмехнулся эта яма, довольно глубокая летом, теперь была наполовину засыпана снегом.
— Порс! — приказал Брудастый.
— Р-ра! — злобно отозвался Рыжий…
И спрыгнул в яму, лег и растянулся прямо на снегу. Яму тотчас накрыли железной решеткой. Там, на решетке, был замок. Овчар, для виду повозившись с ним, сказал Брудастому:
— Готово!
Брудастый проверять не стал, а снова приказал:
— Ар-р! Порс!
И лучшие ушли. Рыжий еще немного полежал, а после встал и дотянулся до решетки, уперся лапами в прутья… И решетка легко подалась. Значит, они нарочно не закрыли замок, значит, все это так, только для виду, как и тогда, когда он сел на цепь. Ну и ладно. И Рыжий снова лег, зажмурился. Шел редкий снег, вверху выл ветер. Мороз крепчал и понемногу добирался до костей… так, словно он опять в Лесу, в четвертом с краю логове. Сейчас раздастся Клич, и все сойдутся к дубу; там Шип, которого еще вчера послали на разведку, расскажет, что на Ягодном Ручье он видел свежие следы сохатого. Тогда Вожак…
Р-ра! Рыжий встрепенулся и оскалился. Лес — это прошлое, обман, там нет Убежища, и там погиб отец. И там…
Он снова лег, задумался. А Дымск? А лучшие? Что, разве здесь он стал своим? А разве нет?! Да Дымск в сто раз, нет, в тысячу…
Нет! Все не так, запутался. И, значит, нужно отлежаться, затаиться, и, может быть, тогда он что-то и поймет, что-то в себе откроет или закроет. Но все это будет потом, а пока нужно ждать. Ждать, слушать себя, ждать. Молчать, надеяться…
И потому когда день кончился и в наступившей непроглядной тьме к нему явились лучшие, он отказался выходить из ямы, взял только мясо, а от браги отказался. Да и еще сказал, что хочет спать, чтоб ему не мешали. Приятели, обидевшись, ушли. А он сидел, смотрел на небо, на падающий снег, на тусклую Луну… и чувствовал — он что-то должен вспомнить! Но что? Что — он не знал. И так и просидел всю ночь. А на рассвете выкопал в сугробе нору, залез в нее и так проспал весь день. А ночью он опять смотрел на небо, пытался вспомнить — и не вспомнил.
Так миновало шесть ночей. Бобка носил ему еду и спрашивал, не нужно ли чего.
— Нет! — рявкал Рыжий. — Всем доволен!
И Бобка уходил, а Рыжий вновь смотрел на небо. И на седьмую ночь…
Он вспомнил! Да! Вот, Рыжий, как оно тогда все было! Тогда, как и сейчас, была зима. А ты, Рыжий, тогда совсем еще щенок, лежал у себя в логове и ждал — день, ночь и снова день. Скулил. Тебе очень хотелось есть. А мать все никак не возвращалась и не возвращалась. Вдруг послышались шаги. Ты подскочил, позвал:
— М-ма! М-ма!
Но вместо матери к тебе вошел Вожак. Строго сказал:
— Пойдем… Пойдем, кому я говорю!?
Пошли. Уже темнело. Племя сидело возле дуба. Смотрели пристально, молчали. Ты задрожал, испуганно затявкал.
— В круг! — приказал Вожак и подтолкнул тебя вперед.
Ты вышел в круг и сел на снег. Сородичи зашевелились. Вожак спросил:
— Ну, что с ним будем делать?
— Р-ра! — рявкнул Зуб. — Дохляк. Не выживет.
— Р-ра! — подхватил Горлан. — Чего возиться!
— Р-ра! Р-ра! — послышалось вокруг.
Все встали и оскалились. Ты в ужасе зажмурился. И вдруг…
— Пр-рочь! Прочь, я говорю!
И кто-то прыгнул на тебя, и навалился брюхом, и прижал, вдавил тебя в сугроб… и продолжал:
— Он мой! Не дам! Р-ра! Р-ра!
Все замерли. А тот, кто спас тебя, встал, шумно отряхнулся и сказал:
— Ну, вот и все. Не бойся, р-ра! — и шлепнул тебя лапой по загривку.
Ты живо подскочил и осмотрелся. Сородичи стояли в ожидании; никто из них не сел, не отступил — они еще надеялись! Но над тобой…
Хват, старый одиночка, склонившись над тобой, прикрыв тебя от них, стоял и пристально смотрел на Вожака, а горло у него дрожало, клокотало. И тут ты сразу же узнал — да, это мама точно так же рычала, когда кто-нибудь чужой заглядывал к вам в логово! Так, значит, Хват…
— Р-ра! Я готов! — хрипло воскликнул Хват. — Кто первый? Р-ра!
Только никто из них не шелохнулся.
— Р-ра! Р-ра! Ну что же вы?! — не унимался Хват. — Кого вы испугались? Я стар! Прыжок уже не тот! И хватка… Р-ра! — и он разинул пасть и снова осмотрел их всех…
Опять никто не выступил. А кое-кто и вовсе лег на снег и отвернулся…
— Р-ра! — засмеялся Хват. — Р-ра! Р-ра!..
Как вдруг Вожак резко шагнул к нему! И Хват тотчас шагнул ему навстречу! И даже ты хотел было шагнуть… Но Хват, не глядя, сбил тебя в сугроб, рявкнул:
— Сидеть!
Ты замер. Хват и Вожак стояли, изготовившись, стояли… Казалось, никогда это не кончится; Л-луна, владычица Луна, спаси! Ведь я… Ведь он…
Вожак вдруг сел и примирительно оскалился. Сказал:
— И ты садись.
Хват сел. Тогда Вожак сказал:
— Старик, не забывайся. И ты, и я — мы одна кровь. Зачем это тогда?
— И я о том: зачем?!
— Но это ты и я — свои, сородичи. А он кто?
— Р-ра! — рявкнул Хват. — И он такой же, как и мы!
— Но ты ведь знаешь…
— Да, не меньше твоего! И что с того? Он, посмотри, совсем еще никто! И я беру его к себе. И выращу. Здесь выращу, в Лесу. И обещаю — вы не пожалеете!
Вожак, нахмурившись, долго молчал, а после, осмотрев собравшихся, спросил у них:
— А вы что скажете? Кончать?
Никто не отвечал. Тогда Вожак спросил:
— Так что, оставить?
Снова промолчали. И все они смотрели на тебя, но ты не видел в их глазах ни зла и ни добра, ни любопытства — ничего! Один только Вожак смотрел насмешливо… И он же и сказал:
— Тогда ты сам это решишь, глупый тощий щенок. Р-ра! Встань! Ко мне!
И ты… смело вскочил! А что?! С тобою рядом стоял Хват — такой большой, решительный и сильный; и он еще и подтолкнул тебя! И ты…
— Р-ра! — закричал. — Р-ра! Р-ра! — и кинулся, как мог, на Вожака, и впился бы…
Но он, конечно, ловко отскочил и сбил тебя — играючи. А ты сразу вскочил — и вновь к нему! Упал — и вновь!
— Р-ра! Р-ра! — насмешливо кричал Вожак. — Спасите! Убивают! — и бил тебя, и бил. Вожак не сильно бил, но точно, прямо по ноздрям, и слезы брызгами летели во все стороны, и боль была невыносимая, и падал ты…
И вновь, и вновь вставал! Кидался! Рвал его! Вся пасть твоя уже была в его оторванной шерсти, но вот до его горла ты никак не мог добраться!
А он — бац тебя, бац! В нос! По глазам! В нос! В нос!..
И ты упал. Лежал, в глазах было темно, ты чуть дышал…
А он, Вожак, встал над тобой и, ко всем обращаясь, сказал:
— А что?! А ведь неплохо! Так?
Хват засмеялся — так! А остальные снова промолчали. Тогда Вожак гневно сказал:
— Так! Так, я говорю! Видали, он каков? Вот то-то же! Никто б из вас на это не решился, а только он, этот жалкий щенок! Вот он каков! А посему его… Вставай! Чего лежишь?! — и тут он больно пнул тебя под ребра.
Ты поднатужился и встал. Тебя сильно шатало. Ты был весь в крови. Кровь очень сильно пахла. Вожак склонился над тобой и начал ее слизывать. Слизал, шумно сглотнул, потом неспешно повернулся к ним, всем остальным, и сказал:
— Вот этот вот нахальный сосунок — он теперь наш, только наш! Вы поняли меня? А то, что было раньше, то… Ну, в общем так: кто будет зря болтать, тот после очень пожалеет! А ты… Эй, Рыжий, слышишь? Ты — наш сородич, рык. Хват — твой отец! Понятно?
Ты кивнул… И вдруг спросил:
— А мама? А где моя мама?
— Р-ра! — заревел Вожак. — Я все сказал. Иди!
И Хват сказал:
— Пойдем, сынок, не спорь.
И ты пошел за Хватом.
Хват жил один в последнем справа логове. Вот он привел тебя туда, лег и прижал тебя к себе. Немного подождав, тихо спросил:
— Тепло?
Было тепло. Но страшно. Ты снова заскулил, стал спрашивать, где мама.
— Придет, — ответил Хват. — Когда-нибудь. Да ты не плачь! Ведь я с тобой. Я — твой отец, — и тут он принялся вылизывать тебя. И напевать. И обещать, что скоро потеплеет, сойдет снег, ты вырастешь и станешь сильным, смелым…
Пришла весна. Ты немного подрос. Хват водил тебя по Лесу, учил брать след, лежать в засаде, петь гимны, обходиться без еды, лечиться травами, спасаться от огня… А после как-то раз он вдруг спросил:
— Кто я?
— Как кто? — не понял ты.
— Ну… кто я для тебя?
— Отец, — ответил ты. — А кто же еще?
Хват усмехнулся, помолчал, потом тихо — и явно с опаской — спросил:
— Но ты ведь слышал, что они болтают?
— Да, слышал, — сказал ты и весь похолодел, — но я им не верю. Ты мой отец. Мать не пришла с Тропы. Она была красивая и добрая… — и замолчал; ты очень волновался.
А он тогда опять, теперь уже настойчиво, спросил:
— А больше ничего не помнишь? Ну, отвечай! Чего же ты?
И ты… сказал:
— Мать говорила, что отца убили. Но ты ведь жив!
— Да, — тихо сказал Хват, — да, жив. Но я — это второй твой отец. А был еще и первый…
Вверху шел дождь. Дождь — это хорошо, дождь поит Лес, дождь помогает… Р-ра! А ты, уже едва ли не в слезах, подумал: так неужели правда то, когда они болтают, что ты здесь, в Выселках, чужак, что полукровка, что…
— Нет, — сказал Хват, будто почуял твои мысли, — ты не бойся. Тот, первый твой отец, был чистокровный рык. Но преступил Закон… После оправдался кровью. Его потом с почетом унесли. А мать действительно погибла на охоте. Вот я и взял тебя к себе. Теперь ты мне как сын. Нет, просто сын!
И так оно и было. Вы вместе с ним охотились и вместе голодали, и на Совете выступали заодин. И потому когда через два года пришел тот страшный день, когда Хват лег и приказал, чтоб все сошлись, и все сошлись и, помолчав, и посмотрев, как оно есть, стали уже говорить, что надо бы это кончать… Ты не сдержался и заплакал. Все засмеялись и заулюлюкали, и обступили вас, и начали выкрикивать позорные слова и костерить тебя, а ты, не в силах отвечать, молчал…
Вожак вдруг закричал:
— Прочь! Р-ра! Глупцы!
И все они ушли. А вы — ты и Вожак — остались с Хватом. Вожак сидел. И ты сидел. А Хват лежал, смотрел то на тебя, то на него, на Вожака, то снова на тебя.
— Больно? — спросил ты у него.
— Нет, — сказал Хват. — Ничуть. Вот только что… Ты не уйдешь?
— Нет, не уйду.
— А сделаешь?
— Да, сделаю.
Хват улыбнулся и закрыл глаза. Долго лежал не шевелясь. Потом вдруг стал дрожать… и попросил:
— Ну, сын!
А ты не шелохнулся!
Тогда он закричал:
— Сын! Сын!
А ты вскочил и отступил! Но и Вожак вскочил, взревел:
— Не смей!
И ты вернулся, сел возле Хвата, замер. Он продолжал дрожать — сильней, сильней, и вот он уже корчился, и вот…
Уже кричал, что было сил:
— Сынок! Не покидай меня! Сынок, да неужели ты не сможешь?!
— Смогу! — ты закивал ему. — Смогу…
Но ты так и не смог! Тогда Вожак, хвала ему, помог — вцепился Хвату в горло, прокусил… И отскочил. Кровь хлынула. Ты ткнулся носом в кровь, ты задыхался, пил, Хват дергался, сучил ногами, подвывал — все тише, тише, тише…
И наконец совсем затих. А вы сидели рядом с ним, не уходили. Хват остывал… И вот уже совсем окостенел, и нет его…
Нет, есть! Ведь его кровь теперь в тебе, теперь Хват — твой настоящий отец, он чистокровный рык, и, значит, что и ты теперь рык — настоящий…
Вот только снова плачешь! Вожак зло сплюнул и сказал:
— Р-ра! Не к добру это! Когда-нибудь…
Но дальше продолжать не стал, только велел:
— Пошли. Пора уже.
И вы вдвоем взвалили Хвата на спины и встали во весь рост и так, только на нижних, на стопах, и пошли, и понесли его на Гору Воронья, куда относят всех, где ждет их Память Племени…
Которую ты предал. Р-ра! Р-ра! И Рыжий подскочил и заметался взад-вперед по яме. Ведь предал же! Бежал и снова пре…
Нет! Рыжий сел. Нет! И еще раз нет, подумалось, чужой предать не может, а предают только свои. А ты им, лесным дикарям, был чужой. Ведь даже Хват, и тот так и не стал тебе родным, а так и оставался отчимом, пусть и любимым отчимом, но не отцом. Ты лгал ему и еще больше лгал себе, когда ты называл его отцом, но разве кровь обманешь? Ведь истинная кровь — не та, которую ты пьешь, пусть даже по священному обычаю, а та, которая течет в тебе с рождения, и, значит, только Зоркий — твой отец, а Хват…
Р-ра! Подлый, дикий Лес! И Рыжий вновь вскочил, встал во весь рост, вцепился лапами в решетку. Р-ра! Р-ра! Ужасный, отвратительный обычай пить кровь. А убивать, чтоб твой отец не умирал от старости, а словно погибал в бою? Еще ужасней, р-ра! Нет, сто и тысячу раз нет, ты туда никогда, ни за что не вернешься, ведь ты не рык — южак, и ты всегда был южаком, просто не знал того… но вот ты, наконец, среди своих, Лягаш тебя привел сюда, на родину отца. Дымск — вот твоя судьба! Здесь твоя жизнь, р-ра, успокойся, Рыжий! Казарма, Бобка и Овчар, Брудастый, князь, надменная княжна…
И Лягаш — старинный друг отца и твой не меньший друг и, главное, наставник. Хотя… И Рыжий усмехнулся. Ибо давно уже прошли те времена, когда Лягаш мог говорить: «Пасти тебя не буду, не проси!», и ты сразу робел. Р-ра! С этим давно кончено! Теперь ты сам, без его помощи, бьешь, рвешь — и вон сколько урвал! Теперь Лягаш тобой гордится, говорит: «Ну, как вам мой племяш?» И все молчат, а он смеется, р-ра! И он, надменный первый воевода, к которому никто не смеет даже подойти, с тобой совсем другой. Вот… Да! И Рыжий сел и облизнулся. С тобой Лягаш совсем другой, чем с ними. Вот как в последний раз, жаль, что не часто вам выпадает встречаться. Зато уж если встретитесь, вот хоть как в прошлый раз… А, кстати, где это было? А, да! В костярне «При заборе». Бобка, Овчар и Рвач метали кубик и ругались, а ты подсел к хозяйской дочери и начал ей нашептывать, что, мол…
И вдруг…
— Кость в пасть! — раздалось из дверей.
Ты подскочил и оглянулся…
Р-ра! Это Лягаш пришел! Ты кинулся к нему, вы обнялись и покатились по полу, кусались, рявкали, смеялись. Потом, немного успокоившись, сели к столу. Ты вытащил из-под ремня монету — две лунных четверти служил ради нее, — швырнул хозяину и закричал:
— Вина! Для всех!
— Которого?
— Шипучего!
Лягаш смеялся. Пил. И слушал тебя, слушал, слушал. А ты взахлеб рассказывал, хвалился. Лягаш кивал. Потом, когда уже стемнело, он вдруг сказал:
— Ну, вот и все. Прости, мне нужно уходить.
— Как так?! — воскликнул ты. — Куда?
— Да вот… — он помрачнел. — Приказано. Князь говорит…
— Р-ра! — рявкнул ты. — Да что нам князь?! Успеется! Ты б про себя хоть слово бы! А то все я да я…
— Но я, — настойчиво сказал Лягаш, — поверь, сейчас действительно очень спешу. Ты проводишь меня?
— Ну о чем разговор!
И, выйдя из костярни, вы двинулись по улице. Было темно и холодно. Зима тогда еще не наступила, и снега пока не было, но лед уже похрустывал на лужах. Лягаш молчал; ты, глядя на него, гадал — о чем это он думает? Так вы прошли почти что до самой Подгорной Заставы… Как вдруг Лягаш остановился и спросил:
— Чей это дом? — и указал на старую, обшарпанную хижину.
— Не знаю, — сказал ты. — Да и зачем это мне знать?
— Затем, — нахмурился Лягаш. — Это не просто дом. Здесь когда-то жила твоя бабушка, Старая Гры.
Ты снова посмотрел на хижину. Ну, хижина как хижина. В окне горел огонь, за занавеской виднелась чья-то нечеткая тень… Тень тебя очень напугала — ты вздрогнул, неуверенно спросил:
— Зайдем, что ли?
— Нет, незачем, — сказал Лягаш. — Там сейчас живут какие-то совершенно посторонние. Ничего там от Гры не осталось. Но все-таки ты должен знать, что это за дом такой. И еще было бы неплохо, если бы ты хоть иногда вспоминал, чей ты сын и чей внук. А брагу пить да когти рвать, для этого ума много не… А! — и лапой махнул, замолчал, потом отрывисто сказал: Ну, все, прощай!
Вы обнялись. Потом Лягаш — теперь уже один — прошел еще немного во весь рост, а после пал на все четыре — и не спеша, размеренной рысцой пустился по дороге, и вскоре пропал во темноте…
И с той поры нет-нет да словно невзначай ты подходил к тому чужому дому. Сейчас в нем, говорят, живет семья плетенщика; они корзины делают, лукошки. А твоя бабка, та была… так они говорят… была ведьмой. И ты, они в этом уверены, пошел в ее породу. И потому — конечно только за глаза они именуют тебя «Ведьмино отродье». Можно, конечно, гневаться. И можно хватать болтунов за загривки, и рвать их, рвать!.. А можно и смолчать, подумать и решить, что, может быть, они и правы. Ведь если это так, если они действительно правы, то тогда сразу становится понятным, почему это именно ты, а не кто-нибудь другой, смог отыскать в Лесу Убежище Луны, а здесь, уже в Дымске, ты, глядя на Солнце, вдруг совершенно ясно понял, что…
Нет, хва! Еще раз хва! Об этом еще слишком рано не только говорить, но даже думать. Да и уж слишком они, эти Луна и Солнце, далеки от тебя — они там где-то, в бесконечном небе. А вот зато прямо здесь, на земле… Вот ты сейчас лежишь здесь, в этой яме, и им всем кажется, что ты строго наказан, заперт. Но разве наверху, во дворе, или даже в казарме, или даже во всем Дымске, ты разве был свободен? А они? Р-ра! Нет, конечно же! Там кругом те же самые ямы, ну разве что только пошире, и все. Вот, скажем, яма первая поселок. Там так: Вожак, охота, войны с Корноухими… А больше ничего; стена, со всех сторон стена, высоченная! А вот уже вторая яма — Дымск. Тут уже так: казарма, служба, когти рвать… И снова стена! Так что же тогда получается? Мир — это ямы, много ям. Попал в одну; карабкаешься, лезешь по стене, цепляешься, когти ломаешь… А после, только выбрался, шаг, два ступил — и снова провалился, только теперь уже в другую яму, которой ты раньше не только не видел — ты о ней даже понятия не имел! А она еще глубже тех, прежних. Вот если бы…
И вдруг…
Глава десятая — НЕ ПУТАЙ!
Решетка, поднимаясь, заскрипела. Рыжий поспешно глянул вверх…
Р-ра! Р-ра! Да это же Лягаш пришел! Рыжий, прыгай к нему! Обнимай! Визжи от радости, кричи!..
Но Рыжий не кричал, не прыгал. Просто, задравши голову, смотрел на Лягаша и молчал. И чувствовал, как будто кто-то невидимый душит его все сильней и сильней. И скоро и вовсе задушит!
— А! — подмигнул ему сверху Лягаш. — Я вижу, ты совсем зазнался. Ну что ж, и такое бывает.
И спрыгнул в яму, сел напротив Рыжего, и снова подмигнул ему. А Рыжий хоть бы шелохнулся! Рыжий по-прежнему сидел, смотрел на Лягаша, молчал. Лягаш, немного подождав, спросил:
— Ты что, не рад?
— Нет, рад, — тихо ответил Рыжий. — Просто… не знаю, что тебе сказать.
— Ну так скажи, что думаешь.
— А я… не думаю.
— Ар-р! Ар-р! — засмеялся Лягаш. — Да это вообще прекрасно! Кто думает, тот не живет. Жить некогда; все думаешь да думаешь…
И помрачнел. Спросил:
— А вот если серьезно, как тебе здесь?
Рыжий задумался, глянул туда-сюда по сторонам, потом опять на Лягаша… И медленно, словно с трудом подбирая слова, сказал так:
— Да как будто в Лесу. Снег. Логово.
Лягаш еще сильнее помрачнел и настороженно спросил:
— И… часто вспоминаешь Лес?
— Не очень, — равнодушно сказал Рыжий. — Да и зачем это теперь?
И хмыкнул, замолчал. Долго смотрел на Лягаша, потом также долго на Солнце, на крупный, медленно падающий снег… И вдруг сказал:
— Расскажи мне о бабушке Гры.
— Гры? — поразился Лягаш.
— Да. А что?
— Так, ничего.
Лягаш задумчиво прищурился, пристально посмотрел на Рыжего, долго смотрел, внимательно… а после засмеялся и сказал:
— А! Все понятно. Тебе небось сказали, что ты ведьмино отродье. Так ты не верь!
— Чему?
— Всему! — сказал Лягаш и, для пущей убедительности, резко махнул лапой. — Не верь ты им, и все. Хотя, конечно, — тут Лягаш насупился, конечно, слухи на пустом месте не растут. Да, это надо признать, твоя бабка действительно умела делать много такого, о чем другие и мечтать не смеют. Но зла она не делала! А ведьма — это прежде всего зло. Так что какая она ведьма? Она лечила от болезней, от всяческих ран, она разгадывала сны, она снимала сглаз — то есть если какая-нибудь другая, настоящая ведьма, наводила на кого-то порчу, то есть лихую болезнь, то твоя бабушка, Старая Гры, эту болезнь, эту порчу снимала. И вообще… К ней приводили сосунков, она давала им выпить какого-то душистого отвара, потом заглядывала им в глаза и говорила, что, скажем, вот этот вырастет воином, а этот купцом, а этот, вы уж извините, вообще ни на что путное не годен, так что лучше сразу отдайте его в свинари, не мучайте понапрасну бедное дитя, потому что тут уже ничего не изменишь. И никогда, скажу тебе, она в этом деле не ошибалась; вот так-то вот!
— И это все?
— Ну да! — уверенно сказал Лягаш. Потом, глянув на Рыжего, смутился и сказал: — Почти все.
— А что тогда еще?
— Ну, что… — Лягаш опять было замялся, засмущался, а после все-таки сказал: — Ну, вот разве что еще такое: вот мы, лучшие, бывало, собираемся в поход, так она тогда придет к казарме и попросит: «Лягаш, мне нужно это и вот это. Это сорвешь в ночь полнолуния, положишь себе под ремень, так потом и носи. А это нужно взять возле реки, и чтоб оно росло в тени. А это…» И все, как она мне скажет, так я потом в Лесу и сделаю. Наберу всего, что она скажет, потом вернусь, ей отдам. И после она… Ну, да! Твоя бабушка, Старая Гры, была очень мудрая лекарка, и в травах она разбиралась, как никто! Вот так. И это все, что я могу тебе о ней сказать. Да теперь тебе, надеюсь, и так совершенно понятно, что никакой ведьмой она не была, все это болтовня. Пустая болтовня!
— Возможно, — мрачно сказал Рыжий. — Но почему это именно о ней, а ни ком другом, так говорят? Отчего это так?
— От глупости, друг мой, от глупости! — с жаром вскричал Лягаш. Потом вздохнул, добавил: — Ну, и она, конечно, тоже была кое в чем виновата. Хотела, чтобы ей больше верили, и поэтому частенько говорила, будто она запросто понимает язык диких зверей и птиц.
— Как? — поразился Рыжий. — Да разве звери могут разговаривать?
— Да! — закивал Лягаш. — Вот в том-то все и дело, что звери и птицы это твари бессловесные, безмозглые, и это каждому известно. А вот твоя бабушка, она говорила, что нет, что, мол, что это не так, что они, все эти звери и птицы, они такие же, как мы, ничуть не хуже нас и ничуть не глупее. А тем, кому — да всем почти, ведь почти все ей не верили, — она… Она тогда делала так. Вот, скажем, птица прилетит, сядет на крышу и начинает чирикать. А твоя бабка послушает ее, послушает, а после говорит: «Вы слышите, о чем она кричит? Она кричит: завтра придет гроза». И точно, завтра получай грозу! Или еще поймают рыбу, принесут, ну а рыба, сам понимаешь, вообще молчит, но Гры, та все равно посмотрит на нее, посмотрит, и даже ухо навострит, как будто даже слушает, а после скажет… Ну, к примеру, так скажет: через три дня там-то и там-то ждите пожара. При чем эта рыба к этому пожару? А пожар обязательно будет. Не знаю, как это ей удавалось. Наверно, она просто хорошо знала приметы, а звери были тут совсем не при чем.
— А если при чем?
— Ты! — тут Лягаш даже привстал. — Опомнись! Нам и только одним нам на всем этом свете дарован разум!
— Кем?
— Ну… ты это брось! Не путай.
— И все же: кем?
Лягаш задумался, потом сказал:
— Ну, скажем, Солнцем.
— А Солнце кем даровано?
— Ар-р! — засмеялся Лягаш. — Ну, ты молодец! С тобой, я вижу, не соскучишься. — Но тут же стал очень серьезным и сказал: — И все-таки, прошу тебя, не путай меня. Да ты сам подумай: ну кто мы такие? Так, мелкие, тщедушные существа. Что нам дано, то и дано. И то дано не всем! Вот даже взять тот же разум. Вот, говорят они: «Мы все разумные!» А это ведь не так, ох, далеко не так!
И Лягаш, покачав головой, замолчал. Потом даже глаза закрыл, не шевелился. Казалось, что он спит… Но нет, конечно же не спит, а просто не хочет продолжать такую, мягко скажем, не совсем обычную беседу. Ведь если так пойдет и дальше, то скоро нужно будет говорить, что и в казарме разумом даже и не пахнет. Х-ха, тоже мне назвались: лучшие! И Рыжий зло оскалился. Да насмотрелись мы на них, на этих лучших! В три горла жрать и пьянствовать, и когти рвать, и… Р-ра, мрачно подумалось, не то, совсем не то; да пусть они себе пьют, сколько в них влезет, пусть себе когти рвут, и пусть по пять, а хоть бы и по десять лет сидят в казарме, если это им так нравится. А ты и он…
И Рыжий посмотрел на Лягаша…
А он, Лягаш, по-прежнему сидел, закрыв глаза, и словно спал. Он друг отца и твой ближайший друг. И вообще, умнее, рассудительнее, прозорливее его ты еще никого не встречал. И потому уж если кто и сможет тебя понять и поддержать, так это только он, Лягаш. А если даже и он этого не сможет, тогда… Р-ра! Все равно тогда! Надоело молчать! Сил больше нет терпеть! И Рыжий наконец решился и сказал:
— Я долго думал. Может, я не прав. Но ты послушай, вот… О Солнце и Луне.
Лягаш открыл глаза, насторожился. Рыжий тоже. Наверное, подумал он, он слишком резко, неправильно начал. Или вообще не нужно было начинать — по крайней мере здесь, прямо в яме, а нужно было сперва… А, что теперь! И Рыжий, упрямо мотнув головой, продолжал:
— Так вот, о них. Я думаю, что тут мы все не правы — и южаки, и рыки, ибо ни Солнце, ни Луна не есть верховные создания, — и замолчал.
Лягаш тоже молчал. Смотрел на Рыжего и медленно моргал. Ждал. Ждал…
И Рыжий вновь заговорил:
— Когда я жил в Лесу, я верил, что Луна сильнее Солнца. Нам объясняли это так: Солнце не может показаться ночью, ибо оно имеет силу только днем. А вот Луна может светить не только ночью, но и днем. Мало того, днем правда, очень редко, и это называется затмением — Луна сжирает Солнце… но Солнце, к сожалению, каждый раз вырывается. Хотя когда-нибудь — в Лесу все в это верят — когда-нибудь случится так, что Солнце не сумеет вырваться, и вот тогда…
И Рыжий снова замолчал.
— Что «и тогда»?! — спросил, не утерпев, Лягаш.
— А ничего, — задумчиво ответил Рыжий. — Я же не о том хотел сказать, а совсем о другом: я хочу знать, откуда взялись Солнце и Луна. А откуда Земля? А сами мы откуда? Кто создал все это? То есть тебя и меня, и вообще всех южаков и всех рыков, птиц, зверей, рыб, комаров, Лес и Равнину, реки, всю Землю, Солнце, звезды, Луну, небо? Ведь кто-то же все это создал, правда? Ведь не само же собой все это появилось? Сама собой только смерть появляется… Нет, даже и смерть не сама по себе — смерть рождается в жизни… Но я опять не о том! Я же о Солнце и Луне, о небе. И вот, я думаю…
Но тут Лягаш насмешливо присвистнул — и Рыжий сразу, резко замолчал. А Лягаш как ни в чем не бывало сказал:
— Ну, продолжай.
— Зачем? — с обидой спросил Рыжий. — Ты же смеешься.
— Я? И не думаю! Я не смеюсь, я просто удивляюсь.
— Чему?
— Да все тому, как удивительно находчив и как изворотлив наш разум. Чем меньше мы можем разобраться в том, что творится у нас под самым носом, тем больше нас тянет в заоблачные выси.
— Ты это обо мне?
— Конечно! — с жаром подтвердил Лягаш. — Конечно! Ибо прежде чем браться рассуждать о чем-то непонятном и далеком, нужно сначала решить дела простые, насущные. Вот, например, скажи: за что ты чуть было не убил того стражника? Да-да, того самого, который толкнул тебя на базаре.
— Но он обозвал меня дикарем!
— И вот за это ты решил его прикончить. Иначе говоря, убить. За то, что он, вполне возможно, сделал совершенно случайно — толкнул. Р-ра! Х-ха! «Толкнуть» и «убить» — разве это равноценные поступки? Разве это не дикость?
— А что я, по-твоему, должен был делать?!
— Я тоже спрашиваю, что?
Рыжий молчал. Тогда Лягаш продолжил:
— А вот еще вопрос: а может, этот злополучный стражник был здесь совсем ни при чем, а просто подвернулся тебе под горячую лапу? Может быть, ты просто срывал на нем накопившееся в тебе зло? А вот такой поступок как раз и есть самая настоящая дикость, и, значит, стражник был совершенно прав, называя тебя дикарем. Ведь насколько я могу судить о случившемся, а я, признаюсь, давно уже очень внимательно слежу за тобой и знаю кое-что такое…
— Р-ра! Не будем об этом!
— Не будем, — закивал Лягаш, — согласен. Потому что истинная причина всей этой истории тоже не очень-то желает огласки.
— Не будем!
— Не будем, — вновь кивнул Лягаш, — не будем. Но тогда мы заодно не будем вспоминать и Солнце, и Луну, они уж слишком от нас далеко, точнее, высоко, нам их все равно не достать, так что лучше спустимся на землю, к делам простым, обыденным. И поэтому я опять повторяю: так как же тебе здесь?
— Но я же говорил уже…
— Я не о яме — вообще. Как тебе здесь, в казарме, в Дымске?
Рыжий молчал. Тогда Лягаш, немного подождав, сказал:
— Ну, если ты сам не хочешь об этом говорить, тогда скажу я. Так вот: ничего страшного не произошло, просто тебе уже тесно в казарме, ты перерос ее. А если так, тогда тебе пора поскорее из нее выбираться. Но сперва нам надо выбраться из этой ямы. Вставай, пойдем!
— Куда?
— На Верх, ко мне. Ты ведь еще ни разу не был у меня на Верху, так что пора уже и посмотреть, как я там живу, как устроился. Между прочим, очень даже неплохо. Да и потом… Наша беседа, я надеюсь, еще далеко не закончена, но мне не хотелось бы продолжать ее здесь, в этой яме. То, о чем я собираюсь тебе сказать, весьма серьезно… Вставай же, ну!
Но Рыжий не вставал. Лягаш стоял над ним, ждал. Ждал…
И наконец Рыжий сказал:
— Нет, я не пойду. Я ведь наказан. И мне еще три дня нужно сидеть, и…
— А! — усмехнулся Лягаш. — Все понятно. Опять, значит, как в Выселках. Помнишь небось? Я звал тебя, ты отказался. А после было что? Ведь же пошел!
— Нет, не пошел! — зло выкрикнул Рыжий. — А ты меня увез. Украл!
— Украл? И что, ты об этом жалеешь?
— Да!
— Вот даже как!
— Да, даже так!
— И не пойдешь со мной?
— И не подумаю! Довольно! Тогда ушел с тобой — и что я здесь нашел? Х-ха! «Вверх, вверх, вверх!» — ты говоришь. Да только нету Верха! Есть только низ да ямы! И грязь! И ложь! И Солнца нет, и нет Луны, и…
Рыжий поперхнулся и замолчал, застыл. Так и сидел — молчал, не шевелился. Тогда Лягаш…
— Ар-р! — закричал. — Ну и сиди! Вот уж действительно, ты — ведьм…
— Что?!
— Ничего! — Лягаш вскочил, полез наверх.
Вылез, брякнул решеткой, пошел…
Нет, не пошел — вернулся. Стоял над ямой и смотрел на Рыжего, молчал. И Рыжий на него смотрел — задравши голову, оскалившись. Потом сказал:
— Да, это так. Я — ведьмино отродье. И в другой раз прошу тебя все договаривать!
Лягаш сверкнул глазами… Но смолчал. Зло сплюнул в сторону, ушел.
И снова наступила тишина. Спокойно стало, хорошо. Сверху падает снег. Снег — это, конечно, красиво, но много снега — это уже плохо; по рыхлому снегу бежать тяжело. И если бы один бежал, так ни за что бы не загнал, а так мы время от времени меняемся: то Косматый ведет, то Заика, то я, потом опять Косматый и так далее. По совести. А последним, когда мы уже настигаем, вперед всегда выбегает Вожак, он тогда первым и бросается, а мы уже за ним… А тут, у этих чужаков, всегда бежишь один. Мало того: бежишь, бежишь — а потом обязательно в яму! И в эту яму падаешь и падаешь и падаешь, все летишь и летишь, кувыркаешься, а эти лучшие стоят там, наверху, и улюлюкают тебе вслед, свистят да и еще кричат: «Отродье! Ведьмино отро…»
А снег все падает и падает; это, должно быть, наступает оттепель. А вот если бы после оттепели все это сразу прихватил настоящий, хороший мороз — вот было бы тогда хорошо! Потому что тогда все сугробы покрылись бы настом. А по крепкому насту бежится легко, по насту ты бы и один легко управился с добычей. А так, пока еще та оттепель, пока тот мороз…
Снег падает и падет. Тихо кругом. Смеркается…
А вот уже и ночь пришла, и ты опять всю ночь сидел, смотрел на небо, думал: не надо путать, мир — это не ямы, мир — это ночь, пустота и темнота, глаза должны привыкнуть к темноте, и это, собственно, все, что нам нужно в этой жизни.
Глава одиннадцатая — ГЛАЗАСТЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
Через три дня его сидение закончилось — утром пришел конвой. Услышав их шаги, Рыжий застыл, не поднимая головы. Чуял — Брудастый там, Овчар, Бобка, Рвач, Храп. Остановились. А вот от них отделился Овчар, подошел к самой яме, опять — только для виду — повозился у замка, потом резко поднял решетку.
— Эй, Рыжий! — окликнул Овчар. — Ты чего? Вылезай!
Рыжий полез из ямы. Вылез. Глянул — да точно, Овчар и трое этих, и с ними Брудастый. И все они, даже Брудастый, с недоумением смотрят на него. Ну, еще бы! Ведь «вылезалка» — это всегда шумный, славный праздник. Сначала вылезший братается с друзьями, потом друзья его хватают и, раскачав как следует, подбрасывают вверх, а он визжит, кричит, ругается, и все они кричат! Потом они опять его подбрасывают! И опять! Ну, и так далее. А тут…
Рыжий стоял, молчал. И все они тоже молчали. Потом Брудастый с лязгом опустил решетку и спросил:
— Ты что, не рад, что ли?
Рыжий в ответ только оскалился. Брудастый, поморгав, сказал:
— Ну, ничего, это с морозу так. Потом оттаешь! Да, завтра, кстати, на Быстром Лугу у нас будет охота. Порс?
— Порс, — вяло отозвался Рыжий.
Ну а приятели, те вообще промолчали. Да и о чем тут было говорить? Вылезалки, дело ясное, нынче не будет. И Рвач рассерженно спросил:
— Ну что, тогда на пар?
Все закивали — да, на пар. И не спеша, молчком, след в след, они обогнули дровяной сарай, а там, наискосок через двор, и еще раз за угол, вышли к главному крыльцу. Там расселись на нижних ступеньках и молча, как и все до этого, принялись ждать остальных. Вскоре из казармы вышли остальные. Тоже расселись на крыльце, и тоже скучали и маялись. Потом пришел парильшик — тощий, сильно плешивый старик — и позвал их всех в баню. Все сразу оживились, побежали. Баня была недалеко, в полусотне шагов, рядом с прудом. Баня была хорошая, пар сухой и стоячий, и парились они нещадно, и то и дело бегали на пруд, и кидались там в прорубь. Рыжий не бегал — не хотел. Да его и не звали. Им было хорошо и весело, шумно и лихо. И лихо они парились, и лихо бежали обратно в казарму, там лихо чистили ремни, точили когти. Обеда тогда не было, обед перед охотой не положен. И в город их тогда не отпустили. Они шатались по казарме, зубоскалили. Играли в кубик, в волосок. В волосок — это когда тебя из-за спины щиплют за ухо, а ты, ведущий, не оглядываясь, должен угадать, кто это сделал. Как угадал — так ты клыка ему за это, а нет, так они все тебе…
Р-ра! Вот так развлечения! Рыжий лежал на своем тюфяке и молчал; его не трогали, не звали, к нему не подходили даже — сторонились. И это хорошо! Он улыбался. Потом, когда уже начало смеркаться, из города вернулся Клыкан и принес им всем вина. Они сразу закрылись и начали пить натощак и пели шепотом и шепотом смеялись. Потом они боролись, кто кого, и лучшим в борьбе был Овчар, самый трезвый из них. Рыжий лежал, смотрел на них и морщился. И что с того? Его уже совсем не замечали, уже гульба была в самом разгаре, а тут еще пришел Рябой и тоже притащил с собой вина… И от него-то вскоре все они и полегли, пьяно заснули, захрапели. Вот так-то вот, такие они, эти лучшие! Вот такова она, эта казарма — храп, чмоканье, сопенье, духота. И теснота неимоверная. Да, прав Лягаш: скучно тебе в казарме, гадко, постыло, ты перерос ее. Так, может быть, и вправду было бы разумнее, как говорил Лягаш…
Р-ра, х-ха! И Рыжий зло оскалился. А что Лягаш? Чем он лучше других, чем он разумнее? «Заоблачные выси!» — говорит, «Не думай!» — говорит. Тьфу! Яма это все! И грязь. А грязь, она что на Верху, что здесь, внизу, что в Выселках, она везде примерно одинаковая грязь. Так стоит ли тогда куда-то рваться, куда-то бежать? Но, правда, с другой стороны, вот полегли они, эти глупцы, и ждут охоты. Но разве это будет настоящая охота? Вот… Да! И он закрыл глаза, лег набок, поджал лапы. Да-а! Вспомнилось: прошлой зимой на Клюквенном Болоте, в самый лютый, трескучий мороз… Вот то была действительно охота так охота! Три раза он тогда ходил в засаду, а еще пять в догон. В последний раз взял восьмерых косых, девятого спугнул на Лысого. Домой они тогда чуть приплелись, ног под собой не чуяли. Но все равно был тогда и Обряд, и был славный пир. И, главное, радость была! Настоящая!
А здесь… Р-ра! Смех один! Ведь будет все это примерно так…
И так оно и было! Утром они пока проснулись и пока построились, потом пока пошли городу, пока пришли, цепляя всех встречных подряд, на этот Быстрый Луг, так к тому времени уже даже князь, и тот давно уже был там сидел возле шатра, ждал их, пил черную плясуху, усмехался. Княжна — та, как всегда, была при няньках — грелась у костра. А Лягаша, конечно, не было; Лягаш опять, наверное, где-то в бегах да в трудах…
Но вот ударил барабан, и лучшие построились для дела. Один из несунов вышел вперед, открыл корзину, оглянулся. Князь крикнул ему:
— Ар-р!
Несун резко встряхнул корзину — и из нее выпал заяц. Завыли трубы, заяц испугался. Метнулся вправо, влево, а после замер и заверещал…
Князь крикнул:
— Пилль!
И — началось. Крик, давка, толкотня. Мах! Мах! Мах-мах-мах! Вой! Снег столбом! И — взяли, принесли, отдали зайца князю. Князь похвалил Бесхвостого за резвость. И снова:
— Пилль! — снова мах-мах, снова догнали, принесли.
И снова:
— Пилль! — и мах-мах, принесли, похвали…
И так продолжалось до самого вечера. Потом был пир — прямо там, на Лугу, и прямо из тех зайцев. А чтобы было еще веселей, князь повелел Овчар и Левый пели на два голоса «Сказ про догонщика». Потом Бобка плясал, орал частухи, все смеялись… И то! Частухи были наисвежие, он их вот только-только сочинил, и все — про охоту. Вот всем они и нравились. Все шумно одобряли Бобку, а порой даже и подпевали ему.
Один только Рыжий молчал. Да и не пил он почти. А зайцев вообще не ел. Княжна порой исподтишка поглядывала на него — должно быть, сильно удивлялась. А что! Он, первый казарменный клык и всегда и во всем заводила, вдруг здесь, на Быстром Лугу, так ни разу и не оказался первым! Зайцев хватали все, кому не лень, — Бесхвостый, Рвач, Овчар, Храп и Рябой, даже Брудастый. А Рыжий? Ну, бегал, конечно, и даже кричал. Но это было так, больше для вида. А вот теперь ему уже и пир не в радость, и даже вино. И вообще… Вот именно! Он больше на охоту не пойдет. Он лучше скажется больным, останется в казарме…
Но почему? Он разве уже не охотник? Да что он — свин, который кормится одной только травой, а если повезет, то еще желудями, и все? Или… Нет-нет! Наплел Лягаш про бабушку, наврал. Не понимала бабушка язык зверей и птиц, ибо такое просто невозможно, зверь он есть зверь, зверь — это бессловесное создание, зверь — это просто дичь, а заяц — дичь вдвойне, ибо труслив и слаб, и…
М-да! И все-таки он, Рыжий, чувствовал, что он уже не тот, каким был прежде. Тот, прежний Рыжий, умер, сгинул в яме, а то и вообще… Р-ра! Р-ра! Да называйте это как хотите, но когти рвать и вообще жить так, как он жил прежде, он уже больше не хочет. Скучно это ему. Да, просто скучно, вот и все. Устал он от всего от этого. И надоело ему это, ох, как надоело! Всю ночь после охоты он лежал, смотрел на черный, закопченный потолок и думал, спрашивал себя…
Да только что тут спрашивать? Да что это за блажь такая? Он сыт и он в тепле, он уважаем. Чего еще ему желать? Ну, чего?! Тогда он снова спрашивал — и снова: «Ну, чего?» — было ему в ответ, и снова «Ну, чего?», и снова, и снова… А после вдруг:
— Двор-р! Двор-р!
И снова был подъем, бег на Гору, потом на обед. А сразу после обеда у них была выдача; в тот день Брудастый выдавал служебные. Сидел в углу, ловко отсчитывал монеты — медь, реже серебро. В последний раз — еще до ямы — и Рыжий, как и все, в день выдачи был оживлен и разговорчив, стакнулся с Бобкой и Рвачом, и они сразу мотанули в город, взяли шипучего, посидели в костярне, согрелись, а как только вошли в кураж, так сразу же…
Р-ра! Р-ра! Так то было тогда, теперь все это умерло. И потому на этот раз Рыжий молча взял деньги и, никому ни слова не сказав, неспешно вышел на крыльцо. Стоял, смотрел на Солнце, думал… Нет, ни о чем он не думал — не думалось. А вот и эти вышли, вот его окликнули — он равнодушно отмахнулся. Они убежали. А он стоял, стоял. И вдруг…
— Племяш!
Он поднял голову. В окне второго этажа стоял Лягаш. Это его окно, он там живет, а рядом, через стену от него, живет князь. У Лягаша там, говорят, просторно, чисто, и потолок побеленный, циновка на полу, а сам он спит на сундуке, а в сундуке запрятано…
— Племяш! — опять позвал Лягаш и даже лапой призывно махнул.
Вот оно что — его зовут на Верх! Никто из лучших никогда туда не допускается, и только раз в пять лет, а то даже и реже, вдруг так случается, что, как сейчас его… Х-ха! Ну потеха! Опять он, что ли, избранный? Опять, что ли, ему сулят Убежище?! Нет, хватит! Это уже было! И Рыжий, ничего Лягашу не ответив, упрямо опустивши голову, сошел с крыльца. Пошел к воротам — медленно, ссутулившись, боясь, что вновь раздастся тот же голос — и вдруг тогда не хватит сил и он вместо того, чтобы уйти, возьмет да и откликнется, да и вернется, и поднимется на Верх…
Но нет, больше Лягаш его не окликал — и Рыжий вышел со двора. Пошел по улице. Был солнечный, морозный день. Дул ветер с севера. Мела поземка. А небо было синее. Снег — ослепительный. Хрустел. То есть почти что как в Лесу — так же спокойно. Вот только что дымы кругом, дымы. Да и горелым пахло. Вяленым. Прокисшим. А в поле… или даже на реке…
Он сел. Зажмурился. И вдруг, словно почуяв след, встал и пошел. А после даже побежал. Куда — он сам еще не знал; стопы несли его, несли…
И принесли. Он пошел по базару. Шел меж рядами, смотрел на товары. Не то. Не то. Не то… Только у крайнего лотка остановился. Долго рассматривал товар, после взял его в лапы, вертел и так и сяк и пробовал его на крепость. Смотрел на небо, снова на товар, ловил ноздрями свежий ветер… Купец сказал:
— Я дешево отдам.
Да Рыжий и не думал торговаться. Отсыпал горсть монет, схватил коньки — а это и был тот желанный товар — и побежал с ними на реку.
Коньки! Вот выдумал! Зачем они ему? Коньки, известно, детская забава. Но — небо! Ветер! Снег! Жадно дыша морозным, чистым воздухом, Рыжий неспешно шел вдоль берега. Внизу, на льду, на замерзшей реке, резвилась детвора. Смех, визги, крик. Вон как им хорошо да весело! А увидят его на коньках — так вообще вот будет шуму, а! И, чтобы их лишний раз не дразнить, Рыжий прошел подальше, за бугор, сел и старательно надел коньки, встал, осторожно сделал шаг, второй — получилось неплохо — тогда он, осмелев, уже уверенно шагнул к откосу, оттолкнулся — и быстро покатился вниз, к реке…
И там сразу упал. Больно упал, но сразу встал и опять оттолкнулся, опять покатился… И снова упал. И снова ему было больно, но в то же время почему-то хорошо. А лед под ним холодный был, гладкий, прозрачный. И, главное, он был совсем без запаха. Он — это просто лед, замерзшая вода. А под водой, там что? Вот интересно, рыбы его сейчас видят? А если видят, то, наверное, смеются, ведь он все падает да падает…
И пусть! Он снова встал. Сразу упал. Но также сразу встал и сразу, резко оттолкнувшись, покатился… О, хорошо, уже намного лучше! А так еще! А так — еще! И наконец приноровился, разогнался — и укатил к другому берегу. Вернулся. Вновь укатил — теперь уже быстрей. А вот еще быстрей! А вот еще! Лед певуче хрустел под железным коньком. Солнце! Мороз! И — никого вокруг! И он катался — до изнеможения. Уже в кромешной тьме Рыжий пришел в казарму, свалился на тюфяк и тотчас же заснул…
Но и во сне — всю ночь — он продолжал кататься по реке. Ну а назавтра, сразу от стола, схватил коньки и поспешил на берег. Так и на третий день. На пятый. На десятый. То есть теперь всегда, с обеда и до полной темноты, он бегал на коньках. Там, на реке, он был один, совсем один — и не скучал. Ему там было хорошо. А почему? Да разве это важно?! И пусть приятели хихикают, и пусть косится князь, и пусть даже Лягаш тебя намеренно не замечает. И что с того? Ну, выгонят тебя из лучших, так и выгонят. Да ты и сам от них уйдешь, если захочешь. Да вон твой дед, муж Старой Гры, был кузнецом — и жил себе, не голодал, не попрошайничал, ни перед кем не унижался — и не пропал. И ты не пропадешь. С ремнем ли, без ремня, ты — это ты. Сам по себе. Утром — подъем, потом на Гору, на обед — и когти рвут. А ты бежишь на реку. Там тихо, никого, только коньки — вжик, вжик. А интересно, рыбы тебя слышат? И как там им, на дне, сейчас, в самый мороз, не холодно? Спросить, что ли? Но кто тебе ответит? Ведь рыбы — бессловесные и неразумные. И вообще, на всей земле лишь только мы, бывший Лесной народ, рыки и южаки, наделены сознанием и связной, осознанной речью. Все остальные — это просто звери. Они конечно же все чувствуют, но ничего не понимают. Хотя как знать! Вдруг бабушка не зря…
Нет, это глупости! Рыжий, запыхавшись, остановился, немного постоял и отдышался, посмотрел по сторонам — на реке по-прежнему никого не было видно, потом случайно глянул вниз, под самые коньки…
И чуть было не закричал от неожиданности. Ну, еще бы! Ведь там он совершенно ясно увидел, как кто-то неизвестный, очень странный с виду, смотрит на него из-подо льда! Точней, приник ко льду с той, нижней стороны и широко раскрыл свои и без того немалые глаза. А вот уже и его рот теперь тоже раскрыт… А больше ничего там, подо льдом, не видно. Рыжий застыл, насторожился. Прикинул — нет, это не рыба. Но это и не зверь. А кто же тогда?.. Или, может, это вновь одно только видение, обман — как и тогда, в Лесу? И потому, чтобы как можно скорей от него избавиться, Рыжий топнул коньком…
Но незнакомец не исчез, а только боязливо вздрогнул, а после быстро-быстро заморгал, а после рот его раскрылся еще шире… и, значит, он кричал!.. Но вот что он кричал? Ведь совершенно ничего не слышно! Рыжий поспешно встал на четвереньки, склонил голову к самому льду — и замер, затаился. А незнакомец медленно моргнул сначала одним глазом, а после вторым, после разинул рот… И снова ни звука!
— Эй, ты о чем? — спросил у него Рыжий. — Я ничего не слышу! Эй!
Незнакомец опять заморгал, открыл рот…
— Не слышу! — крикнул Рыжий. — Громче!
Незнакомец надул толстые белые щеки, закрыл глаза…
И исчез! Сначала Рыжий просто не поверил.
— Эй, ты! — позвал. — Эй, ты! Не бойся, я твой друг. Эй!
Никого. Рыжий вскочил и осмотрелся. Ага! Там, вроде бы! Туда! Рыжий метнулся по реке, а после резко осадил и снова пал на четвереньки, глянул…
Нет, показалось, никого здесь нет. Рыжий опять вскочил, опять — уже поспешно — осмотрелся — и снова кинулся, припал, окликнул раз, второй, опять вскочил и снова… И опять! Р-ра! Р-ра-ра-ра! Рыжий метался взад-вперед, потом стоял, подолгу ждал, высматривал… Но все было напрасно! И, значит, с горечью подумал Рыжий, здесь никого и не было, а был, как и тогда, в Лесу, один только обман. Нет Незнакомца, нет Убежища, смирись и нигде ничего не ищи, и не ропщи на это, а лучше будь как все, то есть верь Солнцу, презирай Луну, пей брагу, когти рви. Да, видно, так и только так здесь и можно прожить. Да и не только здесь, а вообще везде таким, как и все, и хорошо. А остальным — хоть не живи!
И все-таки как только после трапезы князь уходил на Верх, а лучшие с истошным гиканьем срывались в город, Рыжий немедленно хватал коньки и сразу убегал на реку. Шли дни, недели, прошел месяц. Рыжий еще два раза мельком видел Незнакомца. А если это так, то это, значит, не видение, и Незнакомец действительно существует. И он разумен — это видно по его глазам. А еще он может разговаривать совсем как южаки и рыки. И Рыжий с ним еще поговорит, Рыжий поймет его, услышит, докричится. Вот только бы им снова встретиться, вот только бы ему найти его… Но как же тут найдешь — вон сколько места тут! Вот если б кто помог… Но кто это поможет? Что, лучшие, что ли? Ага! Приди в казарму, расскажи — так не поверят же. Но вслух об этом не признаются; будут кивать, поддакивать, а после, за спиной, хихикать да дразнить. Эх, если бы Лягаш уже вернулся, так, может быть, хоть с ним бы поделился, ведь больше-то и не с кем! Но где он, тот Лягаш, что теперь с ним, и зачем и куда он уехал?
И уезжал он очень странно! А было это так. После обеда лучшие поразбегались кто куда, а Рыжий как обычно задержался — точил коньки, перебивал на них заклепки. Потом, с коньками на плече, он вышел на крыльцо… И замер. Возле крыльца стояла волокуша, а возле волокуши — князь и Лягаш, а чуть поодаль — семеро догонщиков, на вид как будто бы копытовских. Лягаш, увидев Рыжего, сказал:
— Ну, наконец! А то я жду да жду.
Но ждал-то не один, а почему-то вместе с князем. Ну и ладно. Рыжий сошел с крыльца, остановился рядом с ними. Князь, глянув на коньки, спросил невозмутимым голосом:
— На реку?
— Да.
Князь громко причмокнул, сказал:
— Да, это хорошо. Это полезно. А вот твой дядя уезжает, — и повернулся к Лягашу.
И Рыжий тоже повернулся вслед за ним и посмотрел на Лягаша, но ни о чем у него не спросил. Лягаш сам объяснил:
— Да, уезжаю. Вот куда! — и вытащил из-под ремня кусок пергамента, исчерканного мелкими значками.
— Бери! — сказал Лягаш, — читай, здесь все написано.
Рыжий с опаской взял пергамент, стал его рассматривать. Похожие значки он видел на монетах. Там эти значки, говорят, означают такое: на первой стороне — «Се князь Великий Тымх», а на второй — «А это серебро его». Но здесь значки были другие, и было их несчетное число. Рыжий смотрел на них, молчал…
Лягаш забрал пергамент, спрятал его обратно под ремень и сказал:
— Вот так, племяш, теперь ты про меня все знаешь. Такой вот разговор! — и засмеялся.
Р-ра! Действительно, такой вот разговор; таким ты Лягаша еще не видел! Задирист, зол. За что он вдруг так взъелся? Ведь ты ему как будто бы…
Лягаш вдруг перестал смеяться и сказал:
— Ух, крут я стал! Пора это кончать. Вот съезжу, отдохну, вернусь — а лед уже сойдет, ты уже поумнеешь…
— А я… — зло начал было Рыжий…
— Да, ты! — насмешливо откликнулся Лягаш. — А кто…
— Ар-р! — рявкнул князь. — Схватились! Друг мой, ты едешь или нет?
— Конечно еду!
— Так прощайся.
Лягаш простился — обнял Рыжего, прижал его к себе, шепнул ему что-то на самое ухо… но так, что Рыжий не расслышал. А переспрашивать не стал. Но почему?! Вдруг это было очень важно?! Ведь мало ли, куда Лягаш собрался?! Ведь вот что удивительно: он раньше никогда не брал с собой никаких провожатых, а тут вон сколько их при нем, этих копытовских — стоят, переминаются…
Но Рыжий упрямо молчал. Лягаш кивнул ему, а после кивнул князю, пал в волокушу, гаркнул:
— Порс! Порс, вислоухие! Р-ра!
И тягуны рванули! Понесли! Снег во все стороны! Визг! Перебрех! Порс, порс в ворота!..
И исчез. Вот так Лягаш тогда уехал; куда, зачем — никто того не знал. А Рыжий продолжал ходить на реку. Катался, ждал. Или снимал коньки и крадучись бродил по льду. Звал Незнакомца, заклинал — то памятью Луны, то Солнцем, то Одним-Из-Нас, то даже Тем-Кто-Создал-Это-Все… А ветер становился все теплей, на полях уже кое-где появились первые проталины. Еще немного, и начнется ледоход. И тогда…
Глава двенадцатая — ФУРЛЯНДИЯ
Дни становились все длинней, лед понемногу раскисал и покрывался лужами. Возвращаясь в казарму, Рыжий в изнеможении валился на тюфяк…
А сон к нему уже не шел. Рыжий лежал, ворочался, вздыхал, потом, не утерпев-таки, вставал, брал в бочке яблоко, садился у печи и думал, глядя на огонь… Но думать ему не давали. Даже тогда, когда у них все уже бывало выпито и съедено и, вроде, наступала тишина, вроде всех сон сморил, а за окном мела метель и ветер с визгом рвался в дымоход, ныл, убаюкивал… Как Бобка вдруг подскакивал и восклицал…
Ну, скажем, так:
— А вот идет Чужая Тень! Сейчас она…
И дико хрюкал и подсвистывал, и прыгал, как блоха, по нарам, всех хватал! И все они смеялись, и все прыгали, визг по казарме, ор! То есть опять у них у всех сна ни в одном глазу! А после вновь они сходились, садились в круг — все это тут же, рядом с Рыжим, у огня — и начинали говорить наперебой. Или, как это у них называлось, травили баланду. Перетравив — пересказав — все страшные истории про Тень, а про нее им больше всего нравилось, они на этом никогда не унимались, а тотчас же принимались за другие, не менее леденящие рассказы — такие, например, как про Вечного Пса, Прилипчивый Огонь, Ядовитую Блоху, Смертный След… Никто из них во все это конечно же не верил. Так, рассказал, потешился, время убил, и ладно. И это правильно, это разумно. Хоть сами они и глупы. А я, частенько думал Рыжий, слушая их разговоры, а я хоть и умен, а поступаю очень глупо. Ибо зачем он мне, этот Подледный Незнакомец? Пусть даже есть такой, пусть даже это не видение, а он действительно живет в этой реке. И даже пусть он разумен, пусть он умеет говорить и пусть ты, Рыжий, даже научишься понимать его речи. А дальше что? Где и как ты будешь с ним общаться? Ведь ты же под воду к нему не полезешь, ты там захлебнешься, а он, наоборот, из воды не полезет. То есть, иначе говоря, вы с ним такие разные, что никакого общения, а уж тем более никакой дружбы между вами быть просто не может. Так? Несомненно так, тут спорить просто глупо, еще глупей, чем искать Незнакомца.
И все-таки…
Рыжий не мог с собою совладать, и он по-прежнему бегал к реке ежедневно. Конечно, ему нравилось кататься на коньках, конечно, ему нравилось, что он здесь, на реке, один. Но все это не главное. А главное вот что: всякий раз, приближаясь к реке, он, замирая от волнения, надеялся, что, может быть, ему сегодня вдруг возьмет да повезет — и он и Незнакомец встретятся, и встретятся они совсем не для того, чтоб подружиться или что еще такое, а просто так, чтоб убедиться, что мир велик, в нем много всего разного, порой даже такого, во что невозможно поверить, и, значит, бабушка права, и, значит, зря они…
Но пока получалось, что вроде не зря. Ибо как Рыжий ни хитрил, что только не выдумал, чем только он не заклинал — а Незнакомца не было и не было.
Зато однажды, в ясный безветренный день, в легкий мороз, то есть в самое лучшее время…
Заслышав чьи-то легкие крадущиеся шаги…
Рыжий подумал: лучшие! и здесь достали! ну я вас сейчас! — и зло оскалился, и резко оглянулся!..
И увидел княжну! Она была одна. На ней была новенькая шерстяная попонка с узорами в мелкий цветочек — наверное, сирень. Но это что! А вот: через плечо у нее, у Юю, были переброшены маленькие, очень изящные, очень блестящие, наверное из серебра, коньки! Какая это красота! Да и сама она, княжна, вся из себя была…
О, еще как хороша! Но на него она не смотрела. Делала вид, что не замечает, не чует. Она смотрела в сторону, долго смотрела. Да чего там смотреть — там же пусто! Вскочить, что ли, окликнуть?
Нет, уже наокликались! Рыжий стоял не шелохнувшись. Долго стоял, сколько смотрела — столько и стоял. Потом…
Она вдруг быстро села в снег, также быстро надела коньки, потом еще быстрей вскочила, оттолкнулась — и очень быстро, очень ловко покатилась по льду. Вжик, вжик — пели коньки, кругами, петлями. С подскоком, на одной стопе, боком, спиной, опять с подскоком и опять. Ну, еще бы! Да эти дымские, они же с детства учатся, им это привычно, а в Выселках где и на чем покатаешься? Да и кататься некогда! Уже первой зимой тебя начинают гонять на работы — то выставят в загонщики, то надо протоптать тропу, а то еще куда-нибудь пошлют. Так что пусть даже были бы коньки, так некогда было б учиться кататься…
А ловко она, а! Ох, лихо как! Двойной подскок! А как она кружит! И, главное, все ближе и ближе к нему, и будто все это случайно! А чего ей бояться? А покружись так на Хилом Ручье, так Красноглазые быстро наскочат, зайдут с другого берега, отрежут от поселка, и куда ты один да с коньками? Да к ним на праздник, в жертвы, вот куда! А здесь чего, здесь, конечно, можно покуражиться. Особенно если ты еще к тому же княжеская дочь. Тут да, тут…
О! Рыжий замер, затаил дыхание. И то! Она уже совсем близко катается. А вот уже совсем… Он не сдержался, отвернулся. А она вдруг взяла да подъехала прямо к нему, остановилась. И вот она стоит напротив него, ждет. Такая вся красивая, смущенная…
Ну, нет! С него уже и прежнего вполне довольно! Ибо уж очень хорошо он помнит ее смех и зубы сторожей, насмешки лучших. Так что… Нет, нет! И Рыжий снова отвернулся. Она вздохнула и отъехала. Села на лед и опустила голову. День… Солнце… Рыхлый лед… И теплый ветер с берега… Ну что же ты, подумалось, она к тебе пришла, она — к какому-то тебе! Княжна! А не какая-то костярщица, не дочь хромого бочара и даже не… Вот именно! А ты еще… Давай! Ну! Ну!..
Он медленно подъехал к ней и, глядя в сторону, с опаской подал ей лапу. Княжна тотчас схватилась за нее и, рассмеявшись, вскочила на стопы. И сразу — лапа в лапе — вжик, вжик, вжик — они поехали! Вверх по реке, вжик, разворот, и теперь вниз, уже с подскоками, а теперь к берегу, с притопами, быстрей, ну а теперь — еще быстрей — на середину. Весна! Ар-ра-ра-ра! Весна! Еще быстрей, еще! И резко повернуть, она подскочит — подхватить ее, самому развернуться и отпустить ее, разъехаться и снова — стремительно съехаться. И так еще раз и еще, и улыбаться — но молчать! Она молчит — и ты молчишь, она улыбается — ты улыбайся. И радуйся, что лед вас еще держит, что не растаял еще окончательно. Так что давай, Рыжий, гони!
И он, и она вместе с ним — ух, гоняли! Ух, порезали льда! Час, может, даже два так прошло. И, наконец, они устали. Переглянулись — и резко свернули. Подъехали к берегу, сели в сугроб. Юю, запыхавшись, сказала:
— Вы — Рыжий. Я о вас все знаю.
Рыжий смутился, а она продолжила:
— Мне папа говорил, что вы пять лет были в плену у дикарей. Потом, всех обманув, вы разметали двадцать… сорок…
— Нет, — улыбнулся Рыжий. — Все было не так. Я просто убежал от них. Я испугался стать нерыком.
— Нерык! — воскликнула она. — А что это такое?
Она смотрела на него доверчиво и с любопытством. И вообще… Был теплый день. А рядом с ней ему и вообще… Ар-р! Р-ра! По жизни с ним бывало всякое, но… Да! Но так тепло, надежно и спокойно он чувствовал себя только тогда, давным-давно, когда он еще…
Странно, подумал Рыжий, очень странно! Ведь раньше он просто терпеть не мог, когда кто-нибудь из южаков начинал расспрашивать его о Лесе… А тут — он ничего не понимал, отчего это так, — он тут же взял и рассказал Юю не только о нерыке, но и о матери, о племени, сгоревшем дубе, Вожаке, сохатом, Корноухих — то есть обо всем. Вот разве только об Убежище он ни словечком не обмолвился. О нем, подумал он, лучше сказать потом, ну, вот хотя бы завтра. А пока что не надо, пока что зачем? Подумав так, Рыжий вздохнул, нахмурился. Княжна тихо сказала:
— О, это потрясающе! Я никогда не думала, что там, в Лесу, так много всякого такого, о чем я даже и представить себе не могла.
— В Лесу! — воскликнул Рыжий. — Р-ра! Подумаешь! Да прямо здесь, вот под этим самым льдом, на котором мы сейчас сидим, живет Глазастый Незнакомец! Вы когда-нибудь видели его?
— Нет, никогда, — еще тише сказала Юю. — А что это… А кто это такой?
— А вот сейчас увидите! — гордо воскликнул Рыжий. — Сейчас я вам его покажу! Обычно его, конечно, не очень-то сыщешь, но раз сегодня такой день, то вдвоем мы обязательно… Да! Не сомневайтесь! Сегодня нам обязательно повезет! Вставайте же!
И вновь они катались по реке — вверх, вниз. И то и дело резко замирали. Подолгу стояли и слушали. Смотрели, вновь катались, искали. А после, сняв коньки, сидели, отдыхали. И Рыжий с жаром говорил о том, что, может быть, не только южаки и рыки владеют разумом и связной речью. Что, может, прямо здесь, прямо под этим льдом скрывается целая страна, где есть свои Луна и Солнце, и свои города и леса, и даже южаки и рыки — но только уже подводные. И там, конечно, все не так, как здесь, но, может, даже много, много лучше. Юю кивала, соглашалась. Рыжий был счастлив! Как вдруг…
— Юю! — раздалось с берега. — Юю!
Они оглянулись. Вверху, над обрывом стояли две няньки, они махали лапами, звали к себе. Юю вскочила и сказала Рыжему:
— Простите… Нет, прощайте! — потом поспешно схватила коньки и перекинула их через плечо.
Рыжий рванулся вслед за ней.
— Я с вами!
— Нет, ни за что! — воскликнула Юю. — Отстаньте от меня!
— Но почему? Да что я вам…
И Рыжий замолчал. Юю моргала — быстро-быстро; еще немного, и она расплачется…
— Юю! Юю! — опять кричали с берега.
— А завтра вы… — сказал было…
— Нет! Нет! — закричала княжна. — Дикарь! Трус! Негодяй! — и тут она расплакалась и замотала головой…
— Юю! — опять кричат.
— Бегу!
И побежала, медленно и неуклюже. Еще бы! Бегать на двоих — это не так-то просто. Но им, княжнам… Р-ра! Р-ра! Рыжий, опомнившись, вскочил и закричал:
— Постой! Куда ты? Погоди! Я… Я…
Она остановилась, оглянулась… и погрозила ему кулачком! И снова побежала. А вот она уже и подбежала к своим нянькам, вот что-то им отрывисто сказала, махнула лапой — и вот они уже все вместе скрылись за холмом. Рыжий стоял не шевелясь, смотрел на опустевший берег. Что с ней случилось, думал он, почему она вдруг убежала? А думать, что она ему — или он ей — не пара, он уже не хотел. И правильно! Она ж вовсе не глупая и не надменная. Она…
Ушла, а он остался. Проехал взад-вперед, сел, опустив голову… И так и просидел до самой темноты. Шел мелкий дождь, глухо трещал набухший лед. Рыжий промок, дрожал, он… Ведьмино отродье, вот кто он! Везде чужой и все его чураются. Вот и княжна — она не просто так ушла, а… Да, она его боялась! Но почему? Что он ей такого сказал? Чем напугал? Ведь поначалу все так было хорошо! Р-ра! Если б знать, так он бы… он…
А! Что теперь! Теперь уже точно все кончено. Теперь уже не жди ее и не ищи, и вообще ни на что не надейся. И вот примерно с такими вот мыслями, понурый, мокрый, злой Рыжий вошел в казарму, прошел мимо притихших лучших, с шумом пал на тюфяк, зажмурился… И тотчас:
— Вот и все, — сказал ему Овчар. — Уехала.
— Кто?! — Рыжий подскочил.
— Княжна. В Фурляндию. Там замуж у нее… Эй, ты куда? Князь приказал, чтоб ты…
Рыжий не слушал — выбежал. С крыльца — во двор, в грязь, в тьму. Жизнь — грязь, жизнь — тьма, ар-р, р-ра! Скорей! Так вот оно в чем дело! Вот почему ты трус, дикарь, вот почему она… Догнать, догнать! Ар-р! Р-ра! И — вдоль заборов, вдоль, вдоль, вдоль — на четырех, галопом, по-бойцовски. Тьма, брызги, грязь, к заставе, ар-р, и мимо стражи — р-ра, не троньте, прочь — и за город, и снова в грязь, и по глубокой колее, и…
Замер. Перекресток. Куда теперь — налево, прямо? Лил дождь, дорога превратилась в месиво, следов не взять. А так, чтоб наобум… Нет, так нельзя, нужно только по следу! Но где он, этот след? Рыжий сел прямо в грязь, ощетинился. Да, говорили, что Фурляндия — это богатая страна; там лучше, там сытней, там солнце ярче, там… Но где все это «там», где эта злополучная Фурляндия — на севере, на юге? Он гневно рыкнул, подскочил…
И вдруг…
Что это? Гр-рохот! Гр-ром! Он оглянулся и прислушался… Да! Началось — там, на реке. Так как же теперь быть? Куда ему теперь — туда или туда? Он заметался взад, вперед, и…
Да! Туда конечно же, туда! Тьма, ливень, грязь. Скорей! Скорей! Наддай, еще наддай!..
…И все же не успел. Когда он прибежал к реке, лед уже тронулся. А Незнакомец…
— Стой! — крикнул Рыжий. — Стой! Подожди меня! И я…
Треск, гром в ответ. Река бурлила, клокотала. Он бросился к воде, упал…
И — тьма в глазах. И тишина. Тепло. И…
Свет. И легкие шаги. Дорожка вдоль кустов, а на тех кустах растут какие-то странные цветы. Их много-много, мелких-мелких. Наверное, это и есть та самая сирень. А по дорожке идут две те самые няньки… и с ними княжна. На этот раз на ней прозрачная, как зимний лед, попонка. Они идут, молчат. Княжна очень печальна. А вот перед ними дворец — огромный, каменный. Они входят в него…
А там толпа. И какая она необычная: все, даже воины, в попонках. И длинный-длинный стол, накрытый белоснежной скатертью, на том столе невиданные яства. Из-за стола выходит рослый, длинноухий, весь в побрякушках князь… Нет, даже принц! Или совсем король. Юю, оставив нянек позади, подходит к тому королю и прижимается своей щекой к его щеке и жмурится…
А все вокруг кричат: «Гип-гип! Гип-гип!»
И тотчас начинает играть музыка. Толпа выходит, строится, и у них начинаются танцы. Танцуют они парами. Юю и длинноухий впереди. И он смеется, и она смеется. И все смеются — им всем весело, всем, даже нянькам. И только одному тебе…
Глава тринадцатая — НА ВЕРХУ
Когда он наконец открыл глаза, уже был день… Нет, уже даже вечерело. Над головой белел высокий потолок, в окно светило солнце. Где это он? И что это с ним, почему он так слаб? И кто это накрыл его длинной, теплой попонкой? Да и тюфяк под ним какой-то не такой. Рыжий ощупал его лапами… Да, верно, это не его казарменный тюфяк, а мягкий, пышно взбитый. Рыжий поднялся, сел и осмотрелся. Ага, вот оно что: он в светлой и просторной комнате, один. Напротив него низкий стол, а на столе лежит гусиное перо, а рядом с ним свиток пергамента, густо исписанный значками. Пол чистый, крашеный. Сундук в углу. И больше ничего здесь нет. А за окном видны крыши домов, а дальше — пристань и река. Да, значит, так оно и есть; он на Верху, у Лягаша. Но как же он попал сюда? Лягаш не мог его принять, ведь он еще в отъезде. А князь? У князя, говорят, совсем не так — у него на окне занавеска, а пол устелен шкурой чудо-зверя, а в углу стоит стяг наиглавный, походный. А здесь… Так, вспоминай! Ночь была, грохот, ледоход. Ты закричал и кинулся к воде, упал. И сразу все исчезло. Потом был сон. А после было что? Ты сам пришел сюда или тебя несли? Или…
Шаги! Рыжий поспешно лег, закрыл глаза, насторожился… Да, точно это князь. Вот он вошел. Вот подошел, остановился возле тюфяка. Стоял, стоял… И вдруг сел рядом и сказал:
— Не притворяйся.
Рыжий открыл глаза. Князь, помолчав, сказал:
— Ну, говори.
— О чем?
— Да про Фурляндию, — устало сказал князь. — Всю ночь кричал, спать не давал. Ну, что теперь молчишь?
Р-ра! Значит, бредил. И, значит, мог все, что попало, выболтать, и даже про Подводного… Нет! Это никогда! И Рыжий, прикусив губу, сказал:
— Но я ведь ничего о той Фурляндии не знаю. А что в бреду молол, так это мало ли…
— Нет, — тихо сказал князь. — То был не бред, а сон.
— Сон?
— Да.
Ну, вот, подумалось, час от часу не легче! А вслух сказал:
— Не может того быть! Я снов с рождения не видел: я ж как и все, я не отмеченный. Бред это был. Бред, бред!
А князь:
— Ты не виляй! Сон, я сказал. И если бы простой, про что-нибудь другое. А так он был… Да ты сам знаешь — про Фурляндию. А я только вчера отправил туда дочь. И, значит, я просто обязан знать, чего ты там, в этой Фурляндии, видел. Ну! Слушаю!
Князь замолчал. Князь пристально смотрел на Рыжего. Еще бы! Ведь сон для них, для неотмеченных, это такая редкость и такая важность! Сон, думают они, показывает то, что будет завтра. Сон помогает и предупреждает. Сны видеть — это знак. А потому…
— Ну! — сказал князь. — Мне еще долго ждать?! Говори!
И Рыжий… рассказал, как мог, свой странный ночной сон, стараясь не сбиваться, не спешить и ничего не упускать. Хоть горько было, страшно, гадко, противно и, главное, очень обидно! Вот оттого, рассказывая сон, он то кривился, то сопел, то морщился. А князь — тот слушал, словно каменный, лишь брови у него сходились, расходились. Когда же Рыжий замолчал, князь поднял голову, принюхался, задумался… и наконец сказал:
— Так, говоришь, дворец под красной крышей? И длинноухий? Весьма любопытно!
— Что?
— Да хотя бы то, что так оно там все и есть на самом деле. Ты как в окно подглядывал. Вот это сон! Настоящий! — князь усмехнулся, помолчал, а потом, как бы между прочим, добавил: — Да и чему тут удивляться? Весь, значит, в бабушку.
Рыжий хмыкнул, добавил:
— Да, это верно. Ведьмино отродье.
Князь тоже хмыкнул:
— Ну и что? Я твою бабушку очень ценил. А что до колдовства… Так сон — это совсем другое. Вот я, сам знаешь, какой я колдун. А мне ведь тоже однажды был сон. И очень даже непростой. Рассказать про него?
Рыжий молчал. Князь подождал немного и сказал:
— Нет, все равно послушай. Так вот. Это было давно. Тогда я был не старше твоего. А началось все это вот с чего. Отец велел, чтоб я поехал в Мэг. Ну, ты про Мэг, я надеюсь, слышал? Это еще одна страна, вроде Фурляндии, и тоже там, в той стороне. И вот приехал я туда. У них там все по-своему, по-мэгски. Такие они, знаешь, умные, сытые, прямо лоснятся! Но ведь и мы, если надо, тоже не такие уж дикари. А тут еще отец дал мне с собой самых натасканных, самых решительных, самых… Ну, как Лягаш, как, кстати, Зоркий, твой отец. Так что, короче говоря, мы как туда приехали, сразу того, сего, туда, сюда — и вот уже через три дня у нас был заключен с ними союз, договорились о торговле. И вообще, Крактель, мэгский король, передо мной так и подскакивал — что на пиру, что на охоте, что везде. А еще была у него дочь, звали ее Айли…
Князь улыбнулся, замолчал, долго смотрел куда-то в сторону… а после снова повернулся к Рыжему и продолжал — но так, как будто он его уже не видел, как будто он здесь, в этой комнате, один:
— Айли! И я был сразу ею… Как это? Да, очарован, вот! Ну, и поднес ей дары. Не сам, конечно, а через ее служанок. Потом еще одни дары. Потом еще. А после осмелел и написал и передал ей записку. И в тот же день, под вечер, получил ответ — правда, двусмысленный. Тут, значит, думать надо было, думать! Но я был молод и самонадеян. Набрал сластей, вина, дождался ночи, полез к ней в окно…
Тут князь не выдержал и рассмеялся, потом сказал:
— Крик был. Меня поймали, били. Меня! Наследника! Посла! Вот где был позор так позор! И потому, сам понимаешь, мы той же ночью сбежали из Мэга. Я уже не говорю о погоне. Я только вот о чем: союз, торговый договор, обмен военнопленными, кредиты — Крактель все это сразу разодрал, то есть расторгнул. И обвинил меня, что я де оскорбил его, я де покушался… Вот так! А я вернулся в Дымск, закрылся у себя. Не ел, не пил. Отец мне говорил: «Да они все это подстроили! Это была ловушка! Хочешь, пойдем, их проучим? Хочешь, сожжем весь Мэг? А хочешь, я велю…» — «Нет! — восклицал я. — Нет! Крактель здесь ни при чем! Я сам во всем виноват! Я наглый, неотесанный дикарь! Я ей не пара!» И стал уже подумывать о том… Как вдруг мне снится сон! Да, сон! В ту ночь я в первый раз увидел сон. Ар-р! Ар-р! Как я мечтал когда-нибудь увидеть сон — пусть хоть какой-нибудь, самый пустячный. А тут не просто сон, а тут я вижу Мэг! Их дворец. А в том дворце я и Айли стоим щека к щеке, а вокруг нас толпа, а он, ее отец, Крактель, лежит передо мной на полу и смотрит на меня снизу вверх — зло смотрит, бешено! А я смотрю — нет, это совсем не толпа, а дружина, потому что все они в кольчугах, в шлемах, и все они вот-вот готовы на меня наброситься! Ар-р! Я проснулся и вскочил! Я ничего не мог понять! Я снова лег, зажмурился. Я ждал, ждал, ждал… Но сон не возвращался. И потому я так и не увидел, что же там должно было быть дальше, в том моем вещем сне. И потому, как только наступило утро, я сразу пошел к Старой Гры.
— К моей бабушке?
— Да. Пришел, принес охапку слепоследа, потом еще какой-то травы, и еще склянку одних снадобий, она, мне сказали, давно их искала… Вот, кстати! А денег она никогда не брала! Вот такая была. А в ту зиму она вообще никого к себе не пускала, никого не лечила, потому что это было как раз тогда, когда твой отец, ее сын, не вернулся… Я, правда, все же ее упросил, она меня впустила. Я рассказал ей свой сон. Она подумала, подумала, а после разожгла огонь. Огонь, скажу тебе, у нее был особенный такой зеленый, а языки у него багровые. И запах от него всегда шел очень сильный, как будто утром от цветов на лугу. Ну вот, старуха разожгла этот огонь, долго смотрела на него, и вдруг сказала: «Все будет хорошо. Вы женитесь. Потом у вас родится дочь. Потом…».
Князь, спохватившись, замолчал, испытующе посмотрел на Рыжего, откашлялся… и как ни в чем не бывало продолжил:
— Так о чем это я? Да, об Айли! Так вот, ты знаешь, как предсказывала Гры, так все оно потом и вышло! Я помирился с мэгским королем, женился на Айли, и у нас родилась Юю. Такой вот был мне сон! Мне до сих пор он помнится до самой-самой мелочи. Жаль, что с тех пор мне больше ни разу ничего не снилось. Жаль, да! Но зато ты меня сегодня очень сильно порадовал! Потому что раз тебе так все ясно и четко привиделось, то, значит, тут и сомневаться нечего — все у них там сладится, все будет… Да!
Князь замолчал, нахмурился. Рыжий спросил:
— А что она тебе еще сказала?
— Кто? Гры? — поспешно спросил князь. — Нет, больше ничего!
— Как это ничего? Но ведь ты сам только что говорил, будто она сказала: «Потом у вас родится дочь. Потом…» — и замолчал. Почему замолчал?
— Так и она тогда, — князь усмехнулся, — тоже замолчала. Я встал тогда, ушел. Вот и весь сказ.
Рыжий задумался. Потом спросил:
— А про меня она когда-нибудь что-нибудь говорила?
— Ну, может, что и говорила, — не очень-то уверенно ответил князь. Да только я после того с ней больше никогда не виделся. А вот Лягаш, тот часто там бывал. Ему она, наверное, и говорила что-нибудь, он ей, наверное, верил, и потому искал тебя. И потому нашел.
— Так, — тихо сказал Рыжий, — понятно. А твоя дочь, она в этой Фурляндии… Она там будет счастлива?
— Хм. Думаю, что да. Нет, что я говорю, конечно! А ты… — и князь прищурился, спросил: — Ты к ней бежал?
— Когда?
— Да прошлой ночью! Мы обыскали все вокруг и чуть нашли тебя. Возле реки. И там твоих следов было натоптано — туда, сюда, туда, сюда! А почему возле реки?.. Ты ж к ней бежал? К Юю?
Рыжий молчал. Молчал, молчал… И вдруг спросил:
— А где Лягаш?
Но теперь уже князь не спешил отвечать… Потом-таки сказал:
— А теперь ты вместо него.
— Как это?
— Так. Не понимаешь, что ли?
Рыжий зажмурился, затих. А князь заговорил:
— Я только вчера об этом и узнал. Тут как раз все вместе получилось дочь уезжает, гонец приезжает. И подает известие, читаю… А это было далеко, в Горской Стране. Ну, это очень, очень далеко! А страна любопытная, да. Я там однажды был. У них горы совсем не такие, как наши, их горы сплошь из камней. А какие высокие! А тропы в тех горах такие узкие-узкие, скользкие-скользкие! Все потому, что в тех горах круглый год лежит снег, там все время зима. А внизу, между горами, в глубоких-глубоких оврагах, «долины» они называются, там всегда лето. Там хорошо, сытно, тепло. Но главное вверху, в горах, в горном снегу — там очень много золота. А золото, оно много дороже серебра, в десять раз, представляешь! И потому тот, кто владеет этим горским золотом, тот и богаче всех на свете. Но попробуй туда проберись! И еще чтобы тебя не заметили. А чуть не так ступил — и сразу х-ха! — и сорвался, и полетел в овраг. Полдня будешь лететь, только потом убьешься. А еще могут пособить — и снова полетел. А еще могут льдину сверху сбросить. Называется это «лавина». И вот они его подстерегли, спустили на него лавину. Да он был не один, их было там… Всех и накрыло, вот и все. Очень просто!
Рыжий лежал, молчал, смотрел на князя. Ар-р, вот и все; действительно, все очень просто. И сразу как пусто! А вот когда Хват умирал, ты плакал, ты боялся. А теперь только пусто, и все. Ты ничего не чувствуешь — совсем. Как странно! Лягаш убит, нет Лягаша. А ты как будто есть… Но зато ничего в тебе нет! А если нет, так разве ты живой?! Подумав так, Рыжий поежился. А князь, как ни в чем не бывало, сказал:
— А это его комната. Он, правда, редко здесь бывал.
Да, это сразу видно. Тюфяк, окно, стол, на столе гусиное перо. Жил словно и не жил…
Но если бы не он, так ты и по сей день торчал бы в своем Логове, выл на Луну… И ничего ни о чем бы не знал! Жил бы себе, жирел да матерел…
А князь опять заговорил:
— Ну а в последний раз… Это, наверное, все чувствуют, что вот он пришел… Так вот, в его последний раз, перед самым отходом, уже почти в дверях, он вдруг остановился и сказал… Ну, что если он вдруг не вернется, то чтобы здесь вместо него жил ты. Я засмеялся и сказал, что это будет нескоро…
Тут князь вздохнул и замолчал. Рыжий, немного погодя, спросил:
— А после было что?
— Ничего. Спустились вниз, стояли. Тут вышел ты — вы и сцепились.
— Я…
— Ладно, чего уже теперь! — князь раздраженно махнул лапой. — Кто это знал? Вот взять даже меня. Нюх у меня, сам ведь знаешь, ого! А тут вчера я ничего не чуял. И вдруг этот посол фурляндский! Грязный, замызганный, в разбитой волокуше. И ну орать, ну торопить: давай, давай, пока дорога еще держится. А я чего? Я только рад. Приданое давно было готово. За полчаса все загрузили. Тут как раз и поймали Юю, привели, и ее на приданое — х-ха! А там — порс, порс! — и укатили. Ну, камень с сердца, я тебе скажу! Я прямо во дворе, дай, говорю, кувшин, и только пригубил… Вижу: еще гонец! И, вижу, из Горской страны. Ну, колом в горле! Сразу все понятно… — князь помолчал, потом спросил: — Ты слышишь меня, нет?
— Да, — тихо отозвался Рыжий. — А помнишь, он значки еще показывал?
— Лягаш, что ли? Значки?
— Ну да. Лягаш, как уезжал, из-под ремня достал значки…
— А, эти! — улыбнулся князь. — И что?
— Так, просто интересно.
— Так просто! И совсем это непросто. Вставай!
— Зачем?
— Да все за тем же самым!
Глава четырнадцатая — ПЕРВЫЙ ВОЕВОДА
Во дворе зазеленела трава, расцвели одуванчики. А вон кузнечик прыгает. А вон еще один, а вот еще. А под крыльцом, если сходить да посмотреть, паук сплел вот такую вот большую паутину и ловит в нее мух. Очень ловко! И вообще, хорошо — тепло, ни ветерка. Сейчас в Лесу, наверное, уже выводят сосунков на первую охоту. И птицы там поют. Там много разных птиц. А здесь…
После обеда лучшие под гиканье и свист срывались в город, а Рыжий поднимался по скрипучей лестнице и шел к столу. Князь уже ждал его. И Рыжий брал перо, обмакивал его в чернильницу. Князь диктовал, а он записывал. Потом читал, запоминал то, что записано. Потом князь забирал листок, а Рыжий пересказывал:
— В Дымске две тысячи четыреста домов, в них девять тысяч с лишним едоков. Всего же городов шестнадцать. Сто двадцать сел. Поселков, хуторов, охотничьих углов — шестьсот четыре. А жителей в державе — сорок девять тысяч. Все города — удельные. В них воеводы: Растерзай, Костярь, Всезнай, Урван, Душила, Слом… А в Дымске — первый воевода. Дымск — княжеский удел. Дров на зиму для Дымска полагается…
Вновь брал перо, записывал. Угодья. Рыбные: вверх по Голубе по затонам, на Тише, на Узловке, на Песчанке. Это главные. С них главный, первый спрос. А из охотничьих главными будут такие: Мерзляцкий Лес, Коряжинская Пуща, Дикуны. Железные угодья — это, перво-наперво, на Черном Озере, на Гушках и на Миринском Болоте; там, где Урван в прошлом году… Ну, и так далее. Цок, цок пером в чернильницу. Наж-жим, волосяная. Нажим, еще нажим. В глазах рябило, лапа отнималась. Порой князь спрашивал:
— Ну что, устал?
И сам же отвечал:
— Устал, я вижу.
Вставал и брякал в колокольчик. Входил слуга, докладывал, что все уже готово. Они вставали и шли вниз. Просители — а с ними и ответчики и просто любопытные — уже толпились во дворе. Князь выходил, садился на крыльце. Толпа, завидев его, понемногу стихала. Дежурный — кто-нибудь из лучших — по одному выкрикивал просителей. Те, подойдя к крыльцу, ссутулившись и положив лапу на нижнюю ступеньку, клялись Одним-Из-Нас, что будут говорить одну только чистую правду. Потом шли жалобы. Князь, выслушав просителя, какое-то время молчал, а после знаком подзывал ответчика, тот тоже подходил к крыльцу, и князь его рассматривал, потом смотрел по сторонам… и оглашал решение. И тут же спрашивал:
— Ар-р! Любо ли?
Народ кричал:
— Ар-р! Любо! Любо!
Ответчика тут же секли. Или сводили в яму. А то и клеймили. Правда, случалось и такое, что, выслушав просителя, князь не спешил с решением, а, подозвав ответчика, позволял говорить и ему. Тогда ответчик клялся, обещал, что будет говорить одну только правду… и возводил обиду на просителя. Тогда секли просителя. Порой секли обоих. А все, смеясь, кричали:
— Любо! Любо!
Ибо им больше всего нравилось, когда секли сразу обоих.
Но все-таки сходились не за этим. Все ждали, когда князь, дотошно расспросив ответчика, опять возьмется за просителя, а после снова за ответчика, а после замолчит и встанет, и вздохнет, походит по крыльцу, порыкает, поморщится… и спросит у собравшихся:
— Ну, как тут быть?
И все тогда:
— Ар-р! Ар-р! Судьба! Пускай Судьба решит! — кричали.
И было по сему. То есть толпа раздастся в стороны, просителю с ответчиком наденут на глаза повязки, князь крикнет:
— Пилль!
И начинается: рви в клочья! В кровь! Пыль! Скрежет! Вой! Проситель и ответчик схватятся, дерутся не на жизнь, а на смерть, толпа вокруг визжит она в восторге, она же для того и собралась! Князь, погодив немного, спросит:
— Может, хва?
— Нет! Любо! Любо! — заорет толпа. — Бей! Бей!
И… всякое бывало: когда бойцов успеют растащить, а когда не успеют… Тогда, уже после суда, взойдя на Верх, князь долго ничего не говорил, грыз когти, хмурился… а после все же спрашивал:
— Ну что, готов?
Рыжий кивал. Князь снова диктовал, а он записывал. Про деготь, плотогонов, про купцов, капканы, сети, лыко, сало…
А то, бывало, сразу после трапезы они садились на каталку и ездили по городу — на верфь, в торговые ряды, по мастерским, коптильням, сушильням, складам. Встречали их подобострастно. Мели хвостами, ныли от восторга, несли вино и мед, орешки, леденцы. Князь ничего не брал, не отвечал на шутки; сразу садился, требовал отчеты. Считал он быстро и без косточек, в уме, и помнил все раскладки. Его пытались сбить, запутать — бесполезно. Он видел, чуял их насквозь. И каждый день… Вот хоть вчера! Сперва такое: Дерзой, десятник на коптильне, опять был взят на воровстве. Нещадно бит. Потом на дровяных складах открылась недостача. За то всех сторожей клеймить! Потом донос: на верфи кто-то тайно режет сети. Поймать! И заковать! И привести! Ар-р! Ар-р!
А вечером, когда внизу плясали, пели, гоготали…
Князь брал шкатулку, открывал ее и доставал оттуда досточку и фишки. На досточке — квадратики и линии. А фишки — это как бы князь, княгиня, корабли, повозки, воины. В квадратиках — стоять и набираться сил, по линиям — ходить. Игра на первый взгляд очень простая, но выиграть у князя было невозможно. Порой они сидели до утра. Князь говорил:
— Шу — это вам не кубик. Тут надо… Да! Даже Крактель, и тот со мной не совладал! Ух, погонял я старика под стол! Ух, попинал я его там!
И горделиво щурился, показывал особенно полезные ходы и объяснял, как лучше бить на упреждение, заманивать, чем можно жертвовать, а как наоборот… И вскоре Рыжий наловчился и стал играть с князем почти на равных. Князь говорил:
— Ну вот теперь совсем другое дело. Теперь… Вот так!
И делал ход. И Рыжий хмурился, сопел. Князь, подождав, вставал, бил лапой по столу. Входил слуга и подавал вина и жареных орешков. Луна катилась на исход. Дымск спал. Лучина догорала…
Ну, а когда случались письма от Юю, князь, развалясь на шкуре чудо-зверя, говорил:
— Читай.
Рыжий читал. Письма всегда были пустые, ни о чем — о Дангере, то бишь о длинноухом, танцах, пирах и прочей чепухе. Ну а в конце она всегда перечисляла приветы — поклоны. Последним был всегда поклон и «нашему покорному слуге». Услышав про «слугу», князь каждый раз весело улыбался, говорил:
— Дерзка! Дерзка! Но ты не обижайся. В Фурляндии они все там такие. А в Харлистате что! А что у горцев!..
И так всегда — о чем бы князь ни говорил, он каждый раз все сводил на Горскую Страну. Вот только что было о чем-нибудь другом, а он уже опять: слушай, Рыжий, смекай: там, за Морляндским страшным перевалом на тайных приисках работают слепые невольники. Это чтобы никто из них не убежал, их сразу ослепляют. И там, на этих приисках… Так и на этот раз:
— Так вот, — князь продолжал, — на этих приисках только на Ближнем Логе в день намывают семь туганов золота. А это в пересчете на монеты… и посмотрел на Рыжего.
Тот, помолчав, сказал:
— Пять тысяч двести шестьдесят.
— Да, правильно. И ты теперь представь, что будет, если мы…
Ну, что там будет, так это пока неизвестно. Пока что было только то, что вот уже два года князь усиленно готовился к Горской войне. Скупал оружие и набивал склады провизией. Писал в Тернтерц, интриговал. Он и Юю отдал за Дангера в надежде на военный союз. И Лягаша послал… А летом сам два раза ездил на границу. Рыжий, оставшись за него, один спускался на крыльцо, судил и принимал гонцов, метался по купцам, по мастерским. Князь возвращался, он докладывал. Играли в шу. Охотились. Рыбачили на Низких Островах. И там, на Островах…
Да, тогда ночь была. И догорел уже костер. Спал князь, и спали лучшие. Взошла Луна. Рыжий поднялся, вышел из шатра и, никого не разбудив, спустился к берегу. Сидел, смотрел на лунную дорожку на воде. Ждал. Ждал… Чего он еще ждал? Он, бывший дикий рык, всего за один год взошел на самый Верх. Он теперь первый воевода. Спит на пуховом тюфяке и пьет только шипучее. Он любит хвойный дух, и слуги каждый день меняют на полу иглицу, которые нарочные гонцы везут издалека. Вот он каков теперь! Вот он в какой силе! И все ему завидуют. А он… Чего это он здесь, на берегу, сидит? Ждет, что ли? Зря. Да он и сам прекрасно знает, что он напрасно ждет, никто ему больше не явится. И то не потому, что Незнакомца и в помине нет, а просто потому, что он в него давно уже не верит. И так случается со всеми; все поначалу верят в чудеса и ждут этих чудес, надеются, а после, помудрев, уже не верят — только притворяются. И так и он теперь. Смотрит на воду и пытается представить чудо, а в голове-то у него совсем другое! В Дымске две тысячи четыреста четырнадцать домов, в них девять тысяч триста двадцать восемь едоков, а недоимок числится на каждого по шесть с полтиной. И если…
Да! Вот то-то и оно! Он встал, прошел в шатер и лег. Зажмурился. Как жаль, что глупость, как и детство, не вернуть. Как жаль, что если даже вдруг Юю возьмет да и приедет в Дымск… А не приедет ведь! Она ж теперь, как и Убежище, — видение.
А может, и вся жизнь — это только видение?
Глава пятнадцатая — УРВАН
А время шло. На Летний Поворот, то бишь на самый длинный день в году, в Дымске было гуляние. То есть это одним гуляние, пьянь да кураж, а другим держи ухо востро! Рыжий расставил стражу по постам, весь день был на стопах, умаялся. Потом, после гуляния, все помаленьку унялось, опять пошло по-старому: князь съехал, все свалил на Рыжего — и тот опять один по целыми дням судил, рядил да составлял «известия». Раз в месяц приходили письма от Юю. Потом вернулся князь и снова говорил о приисках, о будущем походе. А по ночам снился Лягаш. Однажды снились Выселки — бежали косогором, он кричал… Проснулся — нет, привиделось, не Лес это, а Дымск. На улице шел дождь. Начинало светать. А он лежал не шевелясь и хмуро улыбался. Бежал на четырех — приснится же такое! Да разве первый воевода бегает? Ему ж теперь даже на двух, пусть даже и рысцой, — и то не в честь, ему ж даже ходить, и то себя ронять! Он только выйдет на крыльцо — ему сразу каталку! Зимой волокушу. А тут…
А! И закрыл глаза. Просто лежал, тяжко вздыхал. Потом…
На Первый Желтый Лист был, как всегда, Великий Смотр. Еще за две недели до того отправили гонцов во все уделы. И начали съезжаться воеводы. Они тянулись в Дымск кто в лодках по реке, кто берегом на крашеных, увешанных висюльками каталках. Все как один они были холеные, надменные и ехали они неспешно, важно, с холопами и няньками, узлами всякого добра и снеди, под бубенцы и гиканье, пыль, топот, скрип. И каждого из них сопровождал отряд личной охраны — два, три десятка лучших, но удельных. Удельных лучших отводили на Пустырь, туда, где летние землянки. Там их определяли на постой, там их кормили, угощали брагой. А воевод, тех принимали в княжьей трапезной. И вот там…
Там это было обставлено так: тишина, полумрак — из-за того, что окна плотно занавешены, — и длинный пустой стол; в его дальнем конце, во главе, сидел князь на высокой скамье, а рядом с ним, но чуть пониже, Рыжий. Вот туда и входил воевода, за ним следом вносили подарки. Потом чернь уходила, воевода оставался. Князь на подарки не смотрел, садиться тоже не велел, а только, вдоволь насмотревшись на вошедшего, вдруг говорил:
— Кость в пасть!
— В пасть, — отвечал удельный, — в пасть.
И после кто из них сопел, кто щурился, а кто даже зевал. Но — это сразу чуялось — все как один очень сильно робели. А князь не угрожал и не рычал, как в мастерских, а начинал издалека. Сперва расспрашивал о близких, о дороге. Потом — о податях, о слухах, о границе. Удельный отвечал как только можно подробнее. Князь улыбался и кивал… А после, обернувшись к Рыжему, строго приказывал:
— А огласи-ка нам «известия»!
И Рыжий доставал из сундука густо исписанный листок, неспешно расправлял его…
«Известия»! Кроме Приемного Крыльца в княжьем тереме был еще и черный ход. И там, обычно по ночам, толпились ходоки — точнее, бегуны — со всей Равнины. Рыжий спускался к ним, уточнял, кто откуда, а после отводил по одному в укромный закуток, и уже там, с глазу на глаз, расспрашивал подробнее, записывал, сводил в «известия»… И вот теперь читал. Скажем, такое: Замайск, воевода-ответчик Всезнай. По свинам в том Замайске так: сокрыли молодняк в полтысячи голов и, закоптив, свезли в Фурляндию и продали, а прибыль поделили. Прибыль ушла мимо казны. Кроме того, в Замайске же змеиных кож в этом году было украдено… Также железа… Также юфти… Также рыбы… Или Горелов, воевода Растерзай. Здесь деготь… Так, еще дрова… Так, еще так… Глухов: ответчик Душила. Ну, здесь куда ни кинь: мед, сало, деготь, ягоды, грибы, потом еще… Всего не перечесть! Или Столбовск — там тоже самое! Такой же и Копытов. Такой же Погорельск. Такой же и… Да какой ты удел ни возьми! Воровство, воровство, воровство — везде все одинаково!
А воеводы — тут кто как. Одни кричали, что это напраслина, другие каялись, клялись, что больше никогда… Тем, кто покаялся, князь набавлял «урок». Тех, кто упорствовал, — опять расспрашивал, уже куда настойчивей, с пристрастием, ловил-таки на лжи и тоже набавлял урок — но уже вдвое. Один только Костярь — столбовский воевода — отвертелся. Князь побратался с ним и повелел, чтоб ходока-облыжника нашли и взяли под ребро, а после…
После было некогда. Когда сорвался Первый Лист, все воеводы были уже в сборе. Один Урван, хвостовский, так и не явился. Вместо него прибыл гонец и доложил: Урван, мол, ранен на охоте, приболел, не может встать и шлет князю поклон — нижайший. Князь, помолчав, сказал:
— Как жаль. Да, очень жаль, что его нет. Ну да и ладно!
И повелел немедля начинать. Сходили на Гору и подожгли Дары. Потом был смотр на Пустыре. Бил барабан, выли рога, пять сотен бравых молодцов сперва маршировали, пели, а после, разделившись надвое, схватились. Бой был хоть и потешный, но хорош. Народ, толпившийся вокруг, жадно глазел на это и орал:
— Бей! Бей!
И было ликование. Всеобщее. Князь похвалил войско за рвение, роздал особо отличившимся награды, а тех, кого наоборот в бою сильно помяли, а то и порвали, князь повелел гнать с глаз долой. Тем, кто остался, был дан пир, потом, на следующий день, была охота на Лугу, а после снова пир. Потом, уже на третий день, прямо с утра и уже натощак, они опять маршировали, пели, а после, прямо с Пустыря, им повелели — они и разъехались. Потом… Два дня князь просидел, закрывшись у себя, а после вышел и сказал:
— Езжай и разберись.
Рыжий не спрашивал, куда, это и так было понятно: в Хвостов конечно же, к Урвану, один ведь он остался неосмотренным. И если б кто другой посмел бы не явиться, так Рыжий, взяв с собой дружину, теперь пошел бы на него и поучил бы, и потешился, и лучшие б потешились. А так… Урван и есть Урван, с Урваном лучше не шуметь. И Рыжий, никого с собой не кликнув, один сошел с крыльца, сел на каталку, поехал на пристань, там взял обычную долбленку да пару обычных гребцов…
Хотя дорога на Хвостов была неблизкая! Вначале поднимались по Голубе, потом свернули в Старую Протоку, потом — на Млынку, на Листвянку, и только к вечеру второго дня наконец добрались до Столбовска. Столбовск — угрюмый, пыльный городишко. Костярь с опаской встретил Рыжего, молчал, вздыхал. Потом, узнав, что едут не к нему, повеселел. Сходили в баню, пировали. А утром — снова в путь, только теперь уже по суше. Да по какой еще сухой! Пять дней скрипели на каталке по степи. Порой, не выдержав, Рыжий вставал с каталки и шел рядом с тягунами. Трава, одна пожухлая трава до горизонта!
Но вот он, наконец, Хвостов — последний, порубежный город. За ним Пески, а дальше, за песками, начинался Мэг, то есть совсем чужая сторона, лжа иноземная, искус — так это называется. Но это где-то там, за дальней, непонятной далью. А здесь, остановившись на холме, Рыжий, прищурившись, смотрел на город. Вал, башни, тын — все хорошо, досмотрено, исправно. И городские крыши не пожухлые, а ярко-желтые, что значит: только-только обновленные, солома на них еще свежая. И — тишина. Ни гогота, ни дыма. Рыжий еще немного постоял, посмотрел, помолчал, потом вернулся к тягунам.
— Порс! — приказал.
Тягуны понесли. В распахнутых воротах — никого. На улицах…
Ни луж, ни мусора. Деревья ровными рядами. Колодцы под навесами, при каждом кружка на цепи. И цветники под окнами. Прохожие, заслышав стук колес, сходили в сторону, смотрели исподлобья.
А вот и площадь, и дворец. Поменьше княжьего, да и крыльцо будет пониже. А на крыльце…
Носатый, голенастый, остроухий, в богатом боевом ремне стоял сам воевода Урван. А рядом с ним… Как ее бишь? Да, это Ластия, его жена. И тут же трое сыновей мал мала меньше. Урван — родной княжий племянник и, стало быть, его единственный наследник, лжец, говорун, наглец…
— Ждем! Ждем! — вскричал Урван. — Наслышаны. Давно!
И поспешил с крыльца. Рыжий спрыгнул с каталки. Они обнялись, побратались. Потом Урван, немного отступив, сказал:
— Вот ты какой! Зубаст! А говорили, будто в бабушку. Врут болтуны. Врут, как всегда! — и засмеялся весело, беззлобно.
Рыжий, опомнившись, хотел было хоть что-нибудь сказать, хоть как-нибудь представиться, да не успел. Урван, опять обняв его, стал спрашивать о дяде, о столице. Рыжий пытался отвечать — не успевал, ибо Урван все спрашивал да спрашивал… и наконец сказал:
— Э, чего это я?! Ты же с дороги. Пойдем. К столу!
И сразу потащил его вслед за собой. Вдвоем они взошли по лестнице. Там, уже на Верху, Урван представил ему Ластию, детей. Жена приветствовала сухо, дети смотрели с любопытством, но молчали. И Рыжий сдержанно, манерно поклонился. Урван потащил его дальше. Прошли в гостиную. Стол был уже накрыт, слуги сновали взад-вперед, хор певунов стоял возле окна. Расселись: Урван с семьей — по одну сторону, Рыжий, один — напротив, по другую. И только сел, как Урван уже встал, поднял чашу, сказал:
— За дядю! Долгих ему лет!
Потом — все так же скоро, делово — был тост за гостя, за Равнину. Урван и Рыжий пили гром-шипучее, жена — наливку, скромно, по глотку, а дети — сок, без всякой меры. Закусок было множество и всяких, самых разных, но под шипучее закуска не идет, и Рыжий почти не закусывал. Зато на сладкое подали дыни — большие, сочные, душистые. Урван брал нож и резал. Дыни лопались. И Рыжий ел их, ел… Хор тихо напевал застольную, дети шушукались, толкались, жена Урвана, опустив глаза, водила когтем по столу…
А сам хвостовский воевода — тот говорил и говорил без остановки. Сперва он рассказал о том, какой здесь был весной пожар и как он со своими лучшими тушил его, весь обгорел, потом — об урожае дынь — Хвостов, кстати сказать, всегда был славен дынями, — потом о пасеке: он пасеку любил и сам ходил за пчелами.
— Вот, — говорил Урван, — ты, знаю, не поверишь, но пчелы, я тебе скажу, ведь не глупее нас! Вот подхожу я к домику, снимаю дымокур…
И долго и с азартом объяснял, как пчелы льнут к нему, и как он их, не всех, конечно, но почти всех различает, и как они к нему по именам или на свист летят. Рыжий молчал, терпел весь этот вздор и прикрывал лапой зевоту. Урван — хитрец и лжец. А Ластия…
Та вскоре поднялась, и, извинившись, увела детей. Урван сразу умолк, задумался. Рыжий откашлялся, сел поудобнее. Подумал — что ж, теперь пора и к делу, — и только открыл было рот…
— А что, — спросил Урван, — может, и нам пройтись? Ведь засиделись!
Рыжий поморщился, но согласился.
Они сошли во двор, прошли по палисаднику — Урван не удержался и сказал, что у него здесь и зимой и летом всегда полно цветов, они, дескать, морозов не боятся, — затем спустились к заповедному пруду. Там вдоль всего ближнего берега на одинаковых лавочках сидели с одинаковыми удочками местные рыбаки. А дальше, на воде, плыли два лебедя и целовались.
— Вот, — с гордостью сказал Урван, — здесь мы разводим соленых ершей. Их после только малость подсушить — и готово. А там вон моя пасека. Вон, видишь, домики? А там, если еще левей, в низине, грибы хочу растить. Как думаешь, получится?
Рыжий молчал. Они пошли по улицам. Хвостов был город небольшой — три улицы, четыре переулка, площадь. Урван знал всех жильцов по именам. Если кто у калитки сидел, того он обязательно приветствовал и тот сразу вставал и кланялся. Урван кивал ему в ответ, поглядывал на дом, досмотрен ли, исправен ли, в порядке ли. И все были в порядке, все досмотрены, все как один побелены, ухожены, на всех солома свежая, пушистая. И вдруг…
Рыжий невольно замер. Ну еще бы! Прямо перед ним стоял высокий трехэтажный дом под ярко-красной крышей. Вот так! Все вокруг желтые, а эта красная. Потому что все крыты соломой, а эта… Рыжий присмотрелся… Да, все правильно, а эта крыта красными лепешками из обожженной глины. Иноземная затея, сразу видно! Вон и крыльцо какое — крашеное в клеточку. А на крыльце, в дверях, дремлет дозорный в бронзовой попонке. Крепка она! Такую, говорят, бить — не пробить. Рыжий задумался, нахмурился.
— Зайдем? — спросил Урван.
— Нет-нет! — ответил Рыжий. — Хва. Я устал.
— Тогда — домой.
Они пошли обратно. Рыжий дважды мельком оглянулся. Дом с красной крышей — это мэгское торговое подворье. Туда съезжаются купцы из Мэга. Ну, и все остальные, откуда бы они только ни были: Харлистат, Фурляндия, Тернтерц… И правильно! В Дымск и глубинные уделы им хода нет, так принято от веку, и потому здесь, у Урвана, все эти иноземцы разгружаются, здесь и торгуют — только оптом и только с державой. И здесь же они платят подати между прочим, немалые. И оттого небось Хвостов такой ухоженный и сытый, что Урван здесь всей этой торговлей заправляет и сам же все с нее и стрижет. Хотя купцов, честно сказать, здесь порой по целым месяцам ни одного не бывает. Они говорят, что им здесь торговать невыгодно. Ну, что! Может, им и вправду невыгодно. А зато эти, хвостовские, вон как все на этой невыгоде поразжирели! Ох, лжа здесь, видно, развелась! Ох и пустила корни! Ох, надо бы уже…
Но это так, не к делу, не для того он сюда нынче прислан, и потому он об этом молчал и молчит! И так и шли они молча по городу. Когда же подошли к Урвановому дворцу, то урвановы дети, игравшие в лунку, тотчас вскочили и с радостными криками бросились к отцу. Но тот им строго приказал:
— Нельзя! Мы заняты. Державные труды.
Дети остались на крыльце, а взрослые поднялись в кабинет — так называлась комната, в которой Урван занимался делами. Вид кабинета был довольно простой: стол, табуреты и пуфарь, то есть тюфяк на тонких ножках, в углу сундук с отчетами, и это все.
Нет, не совсем. Еще над столом висела странная картина в золоченой раме. На той картине была изображена темно-зеленая река без берегов, где из воды там-сям выглядывали всякие нелепые чудовища, а посреди был помещен не круг это и не яйцо, а нечто среднее, слегка продолговатое — такой пятнистый, разноцветный остров. На этих пятнах — почему-то вкривь и вкось, к тому же разным почерком — были начертаны названия: Равнина, Мэг, Даляния, Тернтерц, Ганьбэй, Фурляндия…
Урван, скосившись на картину, едва заметно улыбнулся и сказал:
— Садись, поговорим. Ведь ты, я так понимаю, по срочному делу, от дяди.
Рыжий с опаской опустился на пуфарь — нет, не шатается, устойчив. Урван тем временем открыл сундук и зашуршал в нем отчетами. Рыжий, воспользовавшись временной заминкой, опять посмотрел на картину. Она, это сразу почуялось, висит здесь очень неспроста! И этот остров, как кусок разделенный, по-разному раскрашенный — он тоже с большим умыслом! Да, именно разделенный! Мэг — красный, как мясная часть, Тернтерц — как кость… А Равнина — совсем как трава! Почему?
— Ну вот, смотри, — сказал Урван и вывалил на стол целую стопку таблиц. — Здесь мед, здесь рыба. Это дыни. А это наши подати. А это уже недоимки. А это — наше главное: Подворье. Тебе дать косточки?
— Не надо.
Рыжий взял стопку, пододвинул к себе, полистал, нашел Подворные Листы и там в хмельной таблице наобум проверил два столбца, сравнил с итогами сошлось… И отодвинул. Спросил:
— А где урок?
Урван прищурился:
— Какой?
— Походный. А какой еще?!
— А вот такого как раз нет! — и воевода нагло усмехнулся.
— Как это нет?
— А очень просто. Не собирали мы такой урок, вот и весь сказ. Так дяде, долгих лет ему, и передай.
Сказав это, Урван сжал челюсти, весь подобрался. Он такой! Упрется — и не даст. И ладно б просто не давал, тогда бы хоть молчал. Так он и не молчит. Недавно здесь, в Хвостове, на пиру, взял и при всех сказал, что его дядя выжил из ума, оттого и задумал войну. Хотя, быть может, и не так оно тогда здесь было сказано. Но в доносе записано именно так, слово в слово. Князь, прочитав донос, порвал его, смолчал — Урван, как ни крути, его племянник и наследник… А вот теперь этот наследник опять пошелестел отчетами, поморщился, подумал… а после улыбнулся и сказал:
— Лягаш ко мне частенько заезжал. Дыни любил. Моченые, сушеные. Да! Мы с ним еще играли в шу. А ты играешь?
Рыжий согласно кивнул. Урван принес доску, расставили фигурки. Играли они долго, до полуночи. Урван, как будто ничего и не случилось, опять пошел рассказывать — о пчелах, о рыбалке, о пожарах… потом вдруг помрачнел, сел прямо, отвернулся от доски и зло, отрывисто заговорил:
— Я знаю, знаю! Я, все кричат, наживаюсь на мэгцах. А много ты имел о том известий? Ни одного? А почему? Да потому что не идут они к нам, иноземцы, они же умные, зачем им сюда, в грязь? Вот тогда мы, их не дождавшись, сами лезем к ним! И называется это «война»! И ей, этой войне, даем такое оправдание: награбим — и станем богатыми, и будем жить не хуже прочих, пить будем, будем жрать в три горла. Так, Рыжий, а?
Рыжий смолчал. Урвана это еще пуще разъярило. Он подскочил и заходил по комнате, заговорил:
— Ой, дикари! Ой, темнота! А корчат из себя! Я знаю, дядя, говорит, мол, будет у нас золото — и сразу все изменится, дороги выстроим, мосты — и заторгуем, заживем. А с кем? Ты ж видел их, наш, скажем так, народ, и нрав его, во всей красе, я думаю, познал уже. «Известия» ж читал… Да что «известия»!
Тут он остановился, постоял… Лапой махнул и сел. Сказал:
— Пьют, когти рвут да на чужое зарятся. Напасть бы да ограбить — вот и вся мечта. А надо работать. Вот взять хотя бы тот же Мэг. Пятьсот… Нет, даже триста лет тому назад они были ничуть не лучше нас. А нынче процветают — и дальше работают, и дальше! А мы все воюем, воем, воюем! И много мы навоевали, а? Или… А, что и говорить! Сыграем еще партию?
Сыграли. Потом еще одну, еще — но уже молча. Потом Рыжий лежал на мягком пуфаре, укрывшись одеялом. За стенкой мерно тикали часы. Урван, мрачно подумалось, хитрец и лжец, Урван куплен далянцами и мэгцами, а может и фурляндцами, Урван такой, Урван сякой. Так говорят о нем. Но и о князе тоже говорят немало. Обо всех говорят.
И вообще, красиво, гладко говорить, так это и Вожак еще умел. Так что не рано ли ты, Рыжий, сомневаешься в одном и уверяешься в другом, не лучше ли… Да, только так! Спи, Рыжий, спи, ибо с наскока, нахрапом такого тебе не осилить, тут время нужно, успокоиться, тут… Спи, я сказал, спи, спи!
И вскоре он действительно заснул. И спал, как и положено, без всяких сновидений. А утром, после завтрака, уже возле каталки, Урван поднес дары. Князю — «любимому дяде» — Урван передавал массивный погребец игристого шипучего в стеклянных розовых бутылках.
— А на словах… премногих ему лет. И мирных. Мирных — это обязательно. А это вот… тебе.
И воевода, словно бы таясь, как будто невзначай, подал Рыжему квадратный кожаный футляр. Швы на этом футляре были залиты сургучными печатями. И вообще, он, этот футляр, не гнулся, не звенел, не брякал. Он даже запаха почти не издавал. А тот, который издавался, был незнакомый, чужой.
— Что там? — с опаской спросил Рыжий.
— Секрет! — многозначительно ответил воевода. — Пока не открывай. А приедешь — тогда и откроешь. Но только ты один. Понятно?
Рыжий промолчал.
— Тогда… Порс! Порс! — вскричал Урван. И тягуны рванули с места.
И снова по степи, а после по реке. Бренчат бутылки. А футляр… Что в нем? Рыжий вертел его, разглядывал печати — но так и не вскрыл. Приехал, доложил о деле, отдал князю погребец и передал Урвановы слова. А про футляр смолчал.
Князь, выслушав отчет, сказал:
— Уж лучше б сразу бунт! А так… Иди.
Рыжий пришел к себе, сел на продавленный тюфяк, поежился — по вечерам уже морозило — и посмотрел в окно. Долго смотрел и ни о чем не думал. А после взял футляр, рванул и вскрыл его. И вытащил…
Глава шестнадцатая — ЗИМА
Пришла зима. И выдалась она как никогда морозная и снежная. Сперва в каких-нибудь пять-десять дней все замело, все задуло, засыпало. Потом колодцы вымерзли до дна, а на реке лед стал такой толстенный, что никак не пробить. И потому, чтобы разжиться хоть какой-нибудь водой, дымцы носили с улицы снег и топили его на огне. Заодно и грелись. И молчали. Сиднем сидели по домам. В костярнях, на базаре — никого. Глянешь в окно, а там одни сугробы да сугробы, да дымы. И ни следа нигде! Обозы с продовольствием, и те позастревали на дорогах. И поначалу этого как будто не заметили. Потом без них неделя, две прошло, запасы кончились — и вот уже и брюхо подвело, а вот уже Дымск зароптал. Глядишь — и стали то и дело выходить на улицы, стоять на перекрестках и шушукаться… И вот уже явился слух, будто какому-то дитяте во сне пришел Один-Из-Нас и говорил, что это лишь начало, а вот потом, когда народ вконец оголодает, когда начнут один на одного охотиться… Хва! Тс! Болтливых брали под ребро!.. А слухи ширились, обозы не являлись, голод креп, по городу слонялись недовольные, шумели, уже никого не боялись. Тогда князь повелел открыть урочные амбары — то есть провизия, которую готовили к Горской войне, пошла на ублажение одичавших от голода толп. Даром давали, не скупясь — вот они и притихли. И думалось уже, что беда миновала, что там, глядишь, и морозы спадут, подоспеют обозы…
Но тут со всех концов поскакали гонцы, из всех углов полетели «известия»: беда! уделы зашатались! Знай, князь: купцы, отправленные в Глинск, побиты и ограблены — и пухнет Глинск, но хоть пока что еще молча. А в Глухове — там нет, там злобное, открытое смущение, и тоже слух пошел, лжа всякая… Но слух, то есть кликушу эту, изловили, язык из нее вынули, и на базаре на шесте его повесили, всем на обзор — и сразу тишина! И другим неповадно, молчат. Но это еще что! А вот в Замайске поднялись так поднялись — там их чуть урезонили: кого побили, а кого и совсем, навсегда положили, а иначе никак ничего не могли с ними сделать. А вот Столбовск и так не устоял, в Столбовске было всего круче: Костярь и тамошние лучшие едва успели затвориться во дворце, ну а народ, вконец залютовав, взял их в осаду и стоит, грозит их сжечь живьем — вот каково оно, столбовское известие! Князь, даже не дослушав его до конца, подскочил, поворотился к Рыжему и приказал:
— Ар-р! Чин ему! Порс на Столбов! Порс-порс!
И срочно заложили волокушу, и уже лучших вывели во двор… Но Рыжий от дружины отказался, сказал: «Сам справлюсь!» И уехал сам, то есть один. И долго он после плутал; по льду, в метель, и замерзал, и засыпал… Но вот он, наконец, Столбовск. Светало. Шел крупный, редкий снег. Народ стоял на стенах и кричал, выл, бесновался. Их было тьма и тьма, а он всего один. И хорошо, что он один — дружину не пустили бы, дружину б разорвали! А так, один как перст, он сошел с волокуши, к воротам подошел, повелел открывать… И открыли! И он в город вошел, вскрыл тайные амбары — нашел, унюхал, не ошибся — потом делил, потом судил: Костярь — в железа, в Дымск, Клым, сотник — в воеводы, ибо Столбовск так пожелал, Клыма на сходке выкрикнул, а Рыжий это своей властью подтвердил, а князь потом, кривясь, своей одобрил. Вот так-то вот! Потом…
Потом был Глухов, Глинск, Копытов и другие. Где хитростью, где лаской, где угрозой он, Рыжий, ведьмино отродье, держал их всех вот так, в горсти! Потом, взойдя на Верх, докладывал. Князь, выслушав его, вставал и сдержанно благодарил, а после брал с собой бурдюк, спускался к лучшим, пьянствовал. А Рыжий уходил к себе, садился на тюфяк, брал книгу…
О! Та книга! Она была большая, толстая, с железными застежками. На титуле было написано вязью: «Все знания», на корешке шрифтом попроще значилось: «Записки Досточтимого». Рыжий медленно, с явным почтением листал ее поблекшие шершавые страницы и то и дело замирал и даже закрывал глаза…
А ведь тогда, когда, вернувшись от Урвана, он вскрыл футляр и вытащил оттуда эту книгу, то сразу хотел ее сжечь! А что, гневно подумал он тогда, вот тоже эка невидаль! Да у него здесь, только на Верху, их, этих книг, десятка два, не меньше. Они здесь от Юю еще валяются, Рыжий ходил, смотрел на них, листал, там-сям даже читал: «Девишник», «Сонник», «Подвиги Отважного», «Стихи»… Р-ра! Сирень, одно слово, и только! И он махнул на них, их снова спрятали в чулан. Потом пошли державные дела, и Рыжий о книгах и вовсе забыл… Как вдруг еще одна — Урванова! И он в сердцах вскочил и подбежал было к печи, открыл уже было заслонку…
Но почему-то удержался и не бросил. Сел, расстегнул застежки, раскрыл наугад. И прочел: «…а Солнце — это раскаленный шар, это еще одна звезда среди других таких же звезд в бескрайнем и бездонном небе, то есть в Космосе…» Вот так! Рыжий прочел — и онемел. Аж заняло дыхание! Зажмурился. Немного подождал и успокоился, открыл глаза, прочел… Да, точно: «…то есть в Космосе». А дальше было так: «А Космос не есть пустота. Космос просто невидим, точно так, как невидим, к примеру, и воздух. Но о наличии воздуха можно судить…» Гм! Мудрено! Рыжий резко мотнул головой, перелистал десятка два листов, снова глянул, прочел: «Мозг — это самый главный наш орган и потому надежно укрыт черепом. Сердце укрыто только ребрами». Ну, да! Ощупав ребра, Рыжий потянулся, задумчиво зевнул, сел поудобнее… А у печи, надо сказать, и свет хорош, и не замерзнешь, а в книге говорилось о таком, что если и захочешь, не уснешь… вот оттого он и сидел, сидел, читал, не замечая ничего, всю ночь до самого рассвета.
А утром сонный, с красными глазами, с большим трудом и, главное, уже безо всякого желания, выслушивал гонцов: Глинск, Свинск, Песчанск, деготь, лоза… В условиях умеренного климата. Ну-ну! Потом, уже после всего, когда все уже спали, они играли в шу. Князь, развалясь на шкуре чудо-зверя, потягивал вино, о чем-то говорил…
А Рыжий ничего уже не слышал! Рыжий смотрел на шкуру, улыбался. Ибо теперь он знал, как ловят чудо-зверя. Это делают так: двести загонщиков трубят в серебряные трубы и поджигают заросли. Зверь выбегает и бросается, и рвет, топчет загонщиков. Кровь! Вопли! Визг! Но визг этот — от радости, от счастья, ибо там верят в то, что если чудо-зверь тебя прикончит, то это вовсе и не смерть, а будто бы… Вот такое у них там поверье, такая там у них религия…
А князь, смеясь, рассказывал: Брудастый, как всегда, заснул под лестницей, а тут явились Бобка и Бесхвостый и стали поливать его из бурдюка, и поливали ему прямо в ухо, а брага была просто кипяток, они ее нарочно до того…
И ты это сиди и слушай! И еще смейся вместе с ним. Р-ра, маета! Снег, вьюга за окном… А в Харлистате дождь бывает только один раз в три года, ну а про снег там вообще не знают. Зато в Голянии всегда стоит зима. И вот уже где дикари так дикари, даже похлеще Красноглазых: там ни власти у них, ни законов, пускай даже самых простых. Там просто зло. А здесь…
— Ар-р! — удивленно рыкнул князь. — Да что это с тобой?
— Так, ничего…
И как накликал! Так с того раза у него и повелось: тянулись дни — из ничего, а в них были суды из ничего, чины невесть зачем, разъезды непонятно для чего. И еще много всего прочего, совсем еще недавно очень важного, а теперь непонятно какого, никчемного. Хотя, если задуматься, то почему это все ни к чему? Равнина — это не такая уже дикая, никчемная страна. Другое дело, что кроме нее на свете есть еще Фурляндия, Даляния, Мэг, Харлистат и прочие державы. И только все они, все до единой вместе взятые, это и есть в полной мере Земля, огромный остров, который окружен рекой без берегов, то бишь Бескрайним Океаном. Тот Океан действительно бескраен; никто не знает, где его предел. Да и сама Земля…
И Рыжий закрывал глаза и видел кабинет Урвана и ту, так тогда поразившую его, картину на стене. Теперь он знал, что это была карта. И что в Фурляндии дома строят из камня, а на полях выращивают орс, гуппи, лессию. В Далянии ткут тонкое сукно, а в Мэге из того сукна шьют лучшие лантеры, плавят железо, медь. Ганьбэйцы же, этот ужасный, всеми отверженный народ, те вообще ничего не растят, не куют, не шьют, не плавят, а кормятся единственно разбоем на морях. А те моря… А эти горы, реки, города… Р-ра, сколько здесь всего! Голова идет кругом!
Но, тем не менее, прочтя главу «Основы Географии», он тут же взялся за главу «Всеобщая История», в которой вкратце излагались войны, смены династий и важнейшие научные открытия. Затем была глава «Законы», затем «Народонаселение», «Легенды», «Свод ремесел», «Этикет»…
А за окном — снег да дымы. В Столбовске снова неспокойно. Глухов, Песчанск… Но все, что было за окном, теперь казалось ему таким далеким и несущественным! Вот зато книга — это да! Два раза он прочел ее всю от застежки до застежки. А после три. Потом даже четыре. Ну, еще бы! Ведь в ней же говорилось обо всем! Вот разве что…
И Рыжий снова подошел к столу и потянулся к книге. Открыл и начал читать ее с самого начала, с самой первой строки: «Мир, созданный Создателем…» И тотчас же зажмурился. Создатель — это кто? И для чего он создал этот мир — наш Земной Диск и Солнце, и Луну, и Космос, и звезды? И почему это о нем — то есть о том, кто даровал жизнь всему, что только есть на этом свете, — почему это о нем никто никогда ничего не говорил и не говорит? И почему это даже здесь, в этой так называемой Книге Всех Знаний, Создатель упомянут только однажды, правда, зато на первой же строке?! А далее о нем нет ни одного, даже самого малейшего намека. Почему это так? Почему? Рыжий сидел, смотрел в окно. Светает. Все сейчас на Горе, терем пуст…
Нет! Шаги! Рыжий поспешно закрыл Книгу…
А князь уже стоял в дверях и пристально смотрел на Рыжего. Рыжий отвел глаза, когти его невольно впились в книгу.
— Что, — спросил князь, — не ждал?
Рыжий молчал. Тогда князь подошел к нему, сел рядом, усмехнулся и сказал:
— Читай, читай, я ж тебе не мешаю. Ну, открывай!
Рыжий по-прежнему сидел не шелохнувшись.
— Ну, ладно, — усмехнулся князь. — Не хочешь сам читать, тогда я почитаю. Гм. Да! Как это там? — и, деланно откашлявшись, глядя Рыжему прямо в глаза, он слово в слово повторил:
— «Мир, созданный Создателем, являет собой диск, коий покоится в Безмерной Пустоте. Мы, здесь живущие…»
И вдруг замолчал. Потом — вдруг также неожиданно — спросил:
— Я не ошибся?
— Нет.
— И хорошо. А то, знаешь, пять лет я ее не читал. Вдруг, думал, подзабыл. Ан нет. Нюх, значит, еще есть!
Глаза их снова встретились. Князь продолжал:
— Я так и знал, что он попробует тебя переманить.
— Кто?
— Помолчи пока! Кто-кто, а я Урвана знаю. Ты почему мне сразу не сказал о Книге? Или ты думал, что укроешься? Да я ее сразу учуял!
— Но я…
— Ар-р! Ар-р! — князь зло прищурился. — Глупцы. Все вы глупцы! Читаете, мечтаете. О чем, хочу я знать? Да что у них там есть такого распрекрасного? Был я в Фурляндии, был в Мэге, был в Тернтерце. Да, поначалу разбегаются глаза и думаешь: вот мне б сюда, так я бы… А что я? Да ничего! Вот поживешь там маленько, присмотришься — и ви… Тьфу! И еще раз тьфу!
И князь, лапой махнув, замолчал, ощетинился. Долго молчал. Потом злобно сказал:
— Сперва Юю рвалась туда, все уши прожужжала, теперь вот ты…
— Что я? Я ж ведь молчу.
— Вот то-то и оно — молчишь! А почему?
— Ну…
— Что?!
Но Рыжий не ответил. А что было сказать? Да, он читал тайком — ведь книга была от Урвана, а значит — от врага. И потому, чтоб не разгневать, не обидеть, а вовсе не…
Князь встал, прошел к окну. Было уже совсем светло — Солнце давно уже взошло. Искрился снег. Дымы над городом стояли прямые, высокие — значит, к морозу…
Вдруг князь сказал:
— Глава девятая, четвертая посылка. Там сказано: «Мир не дано понять. Он этого не хочет». Он! Слышишь меня, нет? — и повернулся к Рыжему. — А знаешь, кто этот «Он»? Это Создатель. То-то же! Смекай! А мне уже пора, — и резко развернулся и ушел. А вот зашел к себе. Вот все затихло…
И долго, очень долго еще было тихо. Потом внизу раздался перетоп — это с Горы вернулись лучшие. Потом они обедали… И снова стало тихо. Рыжий сидел на тюфяке, листал девятую главу… И наконец не выдержал и вышел от себя и постучался к князю. Тот, помолчав, ответил-таки:
— Да.
Рыжий вошел к нему. Князь, как всегда, лежал на шкуре чудо-зверя, а перед ним, на низком столике, стоял кувшин с вином, а рядом с ним была насыпана горка каленых орешков.
— Садись, — позволил князь.
Рыжий присел на самый краешек. Они долго молчали. Потом Рыжий спросил:
— Создатель, это кто?
— Создатель? — усмехнулся князь. — Он, говорят нам ученые, и создал этот мир.
— А почему они тогда ничего не пишут о нем в Книге?
Князь взял орешек, повертел его, но разгрызать не стал, а отложил… а после медленно и как бы нехотя ответил:
— Да потому, что эта книга — Книга Знаний, но о Создателе мы ровным счетом ничего не знаем. Создатель — это просто аксиома, то есть такое утверждение, без всяких доказательств. А откуда она появилась? А вот откуда: те первые ученые, которые писали эту книгу, никак не могли поверить в то, что мир создался сам по себе. Вот поэтому они и представили, и утвердили в этой своей аксиоме, что все мы созданы Создателем.
Рыжий насупился. Его всего трясло! Но, тем не менее, он как можно спокойней спросил:
— А ты? Ты что, в это не веришь?
— Нет, — просто сказал князь. — Не верю. Ведь я же не ученый, я равнинец, и, значит, как и все мои сородичи и соплеменники, должен верить не в Создателя, а в Одного-Из-Нас.
— Так, значит, только должен?
— Да, — раздраженно кивнул князь. — А этого что, разве мало? Ты, кстати, тоже много чего должен! Вот, например, уже пять дней подряд ты не приходишь на Гору. А я молчу. Да и другие тебя понимают. Гора — это, конечно, хорошо, да и обряд хорош, даже красив, я б так даже сказал, но жить-то не на Солнце — на Земле.
— Земля большая!
— Несомненно. И есть на ней державы богатые, а есть и которые поплоше. Народы, они тоже везде разные. Одни служат Учителю, другие Одному-Из-Нас, а кто и Стоокому, а кто и вообще даже сам не знает кому. Да и что это здесь повторять, ты же читал главу «Легенды».
— Ну и читал. Но там о Создателе тоже…
— Ар-р! — рявкнул князь. — О Создателе! В «Легендах», что ли, да? Но при чем здесь «Легенды»?! А вот девятая глава… И, кстати, принеси ты эту книгу!
Рыжий принес. Он думал: вот сейчас они вдвоем начнут вместе читать ее и обсуждать, говорить о Создателе, спорить… Да только зря он на это надеялся. Князь сразу отобрал у него Книгу, сел, полистал ее, там-сям прочел, потом долго искал и, наконец, нашел то, что хотел, и принялся читать уже внимательно. Долго читал! О Рыжем он совсем забыл. Ну, еще бы! Ведь читал он, конечно, о горцах! Рыжий сидел, скучал, пощелкивал орехи… Князь наконец мягко захлопнул Книгу и, передав ее Рыжему, сказал:
— Читай, читай. Особенно вот здесь, про них. Нам это очень скоро ох как пригодится!
И — началось. О Создателе больше и не вспоминали. И вообще, отныне их дни были заняты так: утром они принимали гонцов, потом разбирали «известия», потом мотались в город, там чинили — и поскорей, князь торопил: «порс! порс!» — возвращались к себе, кормились — и к Книге. Хотя какое это чтение, когда опять в Замайске бунт, опять в Столбовске смута, и, вообще, морозы как держались, так и держатся, метели как мели, так и метут. Но князь, он и это сводил на свое, говорил:
— А там у них, в горах, и летом тоже самое. Ну, отвечай, как тогда быть? Запомнил?
И Рыжий отвечал, как быть, то есть чем нужно мазать горный лед, чтоб он горел как сухие дрова, и как спасать глаза от снежной слепоты, как выбирать проводника и что сулить ему и чем при случае грозить, каким его словам ни в коем случае не верить, и сколько стоит сыр, и как им могут отравить, и как потом от этого спастись, и что это за звери — рогачи, как их навьючивать, подковывать, как упредить лавинный сход и как в пургу, когда кругом ни зги…
Но это только там, у них в злобных горах, всегда, и летом и зимой, лютый мороз, а здесь, на Равнине…
Р-ра, наконец-то потеплело! Дороги ожили. Сугробы провалились. Князь стал совсем нетерпелив. Он то и дело вскакивал, расхаживал по комнате и говорил:
— Ну, вот и все. Ар-р, дождались! Зря они скалились, зря упирались: моя берет! Будет война! Вот только бы…
И рассылал гонцов по городам и торопил, чтоб шевелились, скорей собирались, а сам по целым дням гонял, мотал, шнырял по мастерским, складам, лабазам, мельницам да кузницам, все самолично проверял и пересчитывал, порой даже обнюхивал, а то и вовсе брал на зуб…
А Рыжий ждал секретного посла, который должен был вот-вот явиться. А ждал он так: утром вставал еще до света, на волокушу — и мчался к заставе, и там до самой темноты то стоял на ветру и смотрел, и смотрел на пустую дорогу, то забегал в сторожку, грелся шкаликом, скучал, играл со стражниками в кубик, кормил их сытно, с княжьего стола… И, наконец, услышал долгожданное:
— Идут! Идут!
Правда, не шли они, а ехали в две волокуши. На первой — Слом, копытовский удельный воевода. Ха, воевода! Вор он, вор и еще трижды вором вор, его давно бы надо под ребро! Да вот князь не велит, князь его терпит… А на второй волокуше сидел сам Ага, горский посол большой секретности. Он был мохнатый, как и все они, до устрашения, и, снова как и все, молчун, гордец, глаз из-под гривы не видать, сверкали одни только зубы, а когти были золотом покрашены, в ухе серьга — опять же золотая. Проехал мимо — даже головы не повернул, приветствий словно и не слышал. Он и по городу как каменный проехал, рта не раскрыл, и только уже возле терема — и то как выплюнул — ответил князю «да», когда тот вопрошал его, легко ли, мягко ль ему ехалось. Вот так! И за столом молчал, на лучших не смотрел, над Бобкой не смеялся, ни вина, ни наливки, ни браги не пил, а только один мед — они, это точно известно, там у себя в горах пьют только горный мед, и только свежий, а не забродивший…
А поселился он, этот Ага, в посольском флигеле — это направо от терема, возле колодца. И ему сразу же в дверях поставили двух стражников, над крышей вывесили стяг Горской Державы — на синем поле белый круг, — в самом же флигеле все было устлано, застелено, завешено коврами. То есть все было сделано так, как, говорили, делают в горах. И также, как в горах, ел-пил посол только на золоте, из золота. У них там все, что только можно, делают из золота. И продают они, и дарят только золото. Так и Ага: поднес князю большой, с полголовы, чурбан самородного золота, сказав при этом так: «Бери пока что это». Он был из непростых, этот посол. Он там, у них в горах, держал четыре перевала, пять крепостей, двенадцать рудников. Теперь же он хотел еще чего-нибудь к этим своим владениям прибрать, и говорил, что если Дымск ему сейчас поможет, то он потом с Дымском за это поделится. Хотя, он говорил, он и без этого «потом» Дымску и так уже помог: за то, что дымского посла, бей-бея Лягаша, его, Аги, неродичи подло убили, он тем презренным, поганым неродичам уже с большой лихвой ответил — долину сжег, камнями забросал, теперь там ничего расти не будет! Бей-бей Лягаш, сказал посол, был ему друг, бей-бей Лягаш был «настоящий». Он так всех и делил, этот посол, на настоящих и на прочих.
— Давай, князь! — говорил Ага. — Делай войну! По-настоящему. Я ж слово своим дал, я говорил: нижний народ уже все приготовил, нижний народ уже зуб показал и когти уже выпустил. Понял меня? Тогда спеши!
Да князь и без того спешил — гнал, гнал гонцов в уделы. А только лед сошел — и Слом его велением тотчас повел ладьи с припасами вниз по Голубе, а после через волок — и по Быстрянке вверх и вверх до самого Копытова. Там, от Копытова, до гор уже совсем недалеко, и там, в Копытове, уже и Сломова дружина была наготове, там и Ага еще с зимы, как шел на Дымск, своих оставил — а их две сотни у него — и все они обратно в горы рвутся, кричат: «На секир!». А сам Ага и князь теперь и день и ночь сидят на шкуре чудо-зверя, о чем-то говорят вполголоса, кивают, хмурятся. А Рыжий…
Глава семнадцатая — ИЗМЕНА
…Получил письмо. Точнее, он нашел его у себя на тюфяке возле подушки. Это при том, что входить к нему без спросу нельзя никому. Ну да и ладно! Он взял это письмо, вскрыл, прочитал. В письме была всего лишь одна фраза, но и та ничего ему не сообщала, а наоборот, вопрошала. Фраза-вопрос была такая: «Когда Аль-Харибад придумал первый знак?» И больше ничего в том письме не было — ни подписи, ни адреса, ни даже запаха. Хотя зачем все это, когда и так было предельно ясно, откуда, кто и для чего прислал это письмо, — для того, чтобы…
Р-ра! А вопрос был простой. Вот на него ответ, в главе второй, части четвертой: пять тысяч двести тридцать восемь лет прошло с того самого дня, когда Аль-Харибад, придворный харлистатский звездочет, впервые начертал вот так, потом сюда, сюда, соединил, обвел… и получился знак «я», первый знак харлистатского алфавита. К этому первому, основополагающему знаку многомудрый Аль-Харибад вскоре придумал еще сто сорок три подобных знака, посредством которых можно было — и можно и поныне — отобразить все могущее возникнуть в любой голове мысли и чувства. Так в Харлистате появилась письменность. И вот, значит, каким должен быть полный, исчерпывающий ответ на вопрос: пять тысяч двес… Да и вот что еще интересно! За это свое величайшее открытие досточтимый Аль-Харибад не получил ровным счетом никакого вознаграждения, даже морального. И вообще, почти никто при его жизни так и не узнал об этом чуде разума — алфавите. Да и потом еще достаточно долго, в течение нескольких веков, великое искусство письменности харлистатские мудрецы таили от всех, от кого только можно, и уже только потом, по прошествии весьма и весьма продолжительного времени, дело дошло наконец до того, что без умения владеть «безмолвной речью» в благословенном Харлистате уже нельзя было представить себе ни чиновника, ни лекаря, ни морехода, ни даже самого распоследнего надсмотрщика на соляных рудниках — ведь даже и ему по долгу его службы постоянно приходилось считать да записывать. И посему уже не менее трех тысяч лет тому назад у них ввели закон, согласно которому каждый харлистатский юноша обязан закончить хотя бы начальную простонародную школу. И с той поры — представь, уже тридцать веков подряд! — у них и в градостроительстве, и на мануфактурах, на кораблях, на рудниках… ну и так далее, то есть везде весь Харлистат от мала до велика просвещен, а посему, так говорят они, и процветает. И также и Тернтерц, и Мэг, Даляния, Фурляндия и даже Горская Страна. А здесь? В Дымске, согласно реестру, восемьдесят восемь грамотных. И это в столице! А если глянуть на уделы? То-то же! Так что тут можно требовать от этой глухоты и темноты, погрязшей в извечном невежестве?! И оттого, от этого невежества, здешний народ такой дрянной, ленивый, завидущий. Вот и сейчас они позарились на золотые россыпи, как будто все здесь уже есть, вот только б им еще и россыпи… И ведь пойдут туда! И будут жечь ту Горскую Страну и льды ее растапливать, устраивать обвалы, чтоб ледники, срываясь вниз…
Ар-р! Хва! Рыжий вскочил… Нет, снова лег. Нет, вновь вскочил. Ар-р! Р-ра! И засопел, и даже зарычал в бессильном гневе! Так вот зачем, подумал он, Урван сперва дал ему Книгу, а после вдруг прислал это письмо — чтоб он теперь, когда уже все решено и все готово, взял да прозрел!
И это называется «прозрел»? Ложь все это! Р-ра, если б в этой жизни все было так просто: кто грамотен, тот, значит, и умен, и честен, и богат, а кто неграмотен, тот глуп и нищ, и лжив, и ни на что не годен. Р-ра-ра! Хват ничего не знал — не только грамоты, но даже как добыть огонь и что такое колесо, и… Да! А ведь из всех, кого он, Рыжий, только знал и знает и будет знать, Хват для него всегда останется умнейшим и мудрейшим! Вот то-то же! И, значит, мудрость вовсе не в умении читать, считать до миллиона, плавить железо, строить корабли, предсказывать движение светил… ну и так далее. А посему какое тебе, Рыжий, дело до того, когда Аль-Харибад придумал первый знак и для чего это Урван теперь тебя не оставляет, на части рвет, толкает на измену?! И Рыжий взял письмо, поднес его к свече… И сжег. Потом сдул пепел с подоконника, лег на тюфяк, зажмурился… И вспомнилось: опять Ага сегодня говорил, что воздух здесь у нас, внизу, густ и тяжел. Так, может, оттого, от этой тяжести в дыхании, равнинцы так тяжелы на подъем? Ведь никто из воевод в поход не рвется, один лишь князь…
Который, Рыжий, для тебя теперь как прежде Хват! И как Лягаш. А был бы жив отец…
А и действительно: вот был бы жив отец, вот что бы он сказал? Не знаешь. То-то же. И Книга ничего не знает; никто не знает ничего, ибо жизнь наша — тьма, жизнь — как ночное небо. Но, правда, в небе есть звезды, они хоть и слабо, но все-таки светят, а на земле звезд нет, здесь просто тьма. Но не заснуть — не спится. И Книгу не бери, зачем она тебе, она ведь не подскажет и не усыпит…
И так он, Рыжий, пролежал всю ночь. Ворочался, а сон никак его не брал. А утром, только рассвело, он вышел на крыльцо и повелел, чтобы подали каталку и — мрачный, злой — отправился на пристань, по делам. Потом мотался по лабазам, мастерским. А вечером во флигеле они втроем играли в шу, Ага рассказывал о том, как объезжают рогачей и как они строптивы, но что без рогачей в горах никак не обойтись, ибо от них и то берут, и это, и… Рыжий кивал, потягивал вино, хрустел орешками… И думал о своем. Он знал — Урван не успокоится. И не простит, что он не поддержал его. Пусть так! Он, между прочим, тоже не отступится — и будет до конца за князя, старого упрямца, хоть князь напрочь не прав, а прав конечно же Урван, ибо война не принесет Дымску ни радости, ни славы и ни тем более тех призрачных богатств, которые они пусть даже и добыли бы, так в одночасье бы разворовали! Вот так тогда он думал. Но вслух ничего не произнес — молча играл. И даже дважды выиграл. А ночью ему был весьма престранный сон, что будто он — ганьбэйский капитан, корабль которого спешит узким проливом. «В-ва! В-ва!» — кричат усталые гребцы. А позади — погоня: шесть галер. И Рыжий подскочил…
Нет, здесь он, у себя. Тьма, тишина вокруг. Лег, долго ждал и, наконец, заснул… Опять галеры, р-ра! И так — всю ночь!..
А утром — суд, лабазы, мастерские, а вечером опять — Ага, мед, карта, шу… Ага молчал. Ага был в сильном гневе! Князь раз за разом повторял ему: уделы поднимаются, вот-вот придут, но, говорят они, заминка в том, заминка в сем, и посему опять приходится откладывать поход, но как только управимся, так сразу же…
Ага не выдержал, вскричал:
— Срок, срок! Назавтра срок! Настоящий!
И князь, немного помолчав, сказал:
— Н-ну, ладно, дай мне еще ночь на ожидание. А завтра, может быть, все само собой решится.
И как накаркал князь: назавтра поутру примчал первый гонец — из Глухова — с известием: рыки идут! В обед — еще один гонец, теперь уже замайский — и он кричит: идут! А вечером — гореловский! Там вроде бы отбились, но…
Точно! Ночи не прошло, а вот уже еще один гонец! И еще! И еще! И еще! И все они орут: там рыки, здесь, а сколько их! Тьма тьмущая! Князь, помоги, спаси, уделы твои в панике — народ бежит, спасается! Да что в уделах — в Дымске уже волновались. Был слух, что это, мол, опять грядет Великое Нашествие. И вспоминали, что тогда, шестнадцать лет тому назад, когда орда презренных свинокрадов, пройдя — как саранча — по четырем уделам, дошла до самых здешних стен и осадила Дымск и трижды его штурмовала, то здесь сотворилось такое, что нынче лучше и не вспоминать! И, значит, говорили все, нам теперь не до горцев и не до их золота, ибо уж больно оно высоко, а рыки больно близко! Князь, слышишь нас?!
Князь их не слушал — князь слушал доносчиков. Молчал, брови сводил и разводил. А что! Не это главная беда, а вот: Замайск в осаде. Глухов едва держится… И из Столбовска, Глинска — отовсюду — гонцы, гонцы. Все воеводы в один голос:
— Хва! Натерпелись! Князь, плюнь на Горы, двигай в Лес! И нас с собой бери. Князь! Князь!
Князь не спешил, тянул, как мог: гонцов уже не принимал, велел, чтоб Рыжий гнал их со двора. И Рыжий гнал…
А город лихорадило. На площадях сбивались толпы. Кричали зло:
— Бей свинокрадов! Бей! — и с каждым днем все громче и неистовей, сходились же они все ближе, ближе к терему…
И, наконец, Ага не выдержал. Вышел из флигеля, снял с крыши горский стяг, свернул его и затолкал в хурджун… И ему тотчас подогнали волокушу, хоть он того не требовал — рта не раскрыл, — да только разве это непонятно? Ага сел в волокушу, оглянулся, увидел князя на крыльце… и засмеялся, плюнул, завизжал:
— Ийя-я-я-яй! Порс! Порс!
И волокуша понесла — в галоп, в галоп, в галоп! И…
Что? Да ничего. В обед к крыльцу пришел народ: стоял, молчал. Князь вышел к ним и объявил Большой Лесной Поход, а Горская Страна, сказал, пока что отменяется. Крик был и ликование. Ну и гонцы конечно же во все пределы. И… Р-ра! Равнина сразу ожила, приободрилась, в Дымск спешно потянулись воеводы, и каждый вел с собой дружину. Князь принимал удельных на крыльце, расспрашивал, корил — но не за горцев, нет, о горцах и помина уже не было, а вообще, за всякое, — ну а которых и хвалил…
А Рыжий пропадал на Пустыре — там обучалось войско, — смотрел, приказывал, порою даже сам показывал секретные приемы. А после, возвратясь к себе, никак не мог заснуть. Сидел, читал: «Мир, созданный Создателем…»
Внизу плясали, пели, гоготали. А что им! Походы в Лес случались чуть не каждый год, и к ним давно уже привыкли. Правда, обычно это было так: один из воевод, взяв с собой малую дружину, шел и сжигал три-пять рычьих поселков — так просто, для острастки. Ну а теперь…
— Хва! Хва! — кричали в Низу на пиру. — Под корень этих дикарей! Всех под корень! Навеки!
А он здесь, на Верху, молчал. Сидел, листал Книгу Всех Знаний, порой поглядывал в окно… И думал. И было ведь о чем подумать! Как странно, думал он, ведь только что прошла очень суровая, даже жестокая зима. Такая, что даже здесь, на Равнине, был очень сильный голод, а многие просто замерзли. А что же в это время творилось там, в Лесу? Да просто мор, страшный падеж! И Лес теперь, конечно, пуст, Лес без дичи, и потому немногие уцелевшие после все этого рыки конечно же должны были выйти на Равнину. И вот теперь они и вышли и грабят, лютуют, все это понятно, ибо иначе им просто не выжить… Но объясните мне, откуда у них вдруг столько сил? И, главное, как удивительно слаженно они на этот раз идут, и как безошибочно точно они выбирают места для своих нападений. Что-то нечисто здесь, ох, как нечисто! И как все это для кого-то очень вовремя! Ведь о каком теперь походе в горы может идти речь?! Да теперь главное — это отбиться от рыков — так все теперь кричат! И тоже что-то очень они слаженно кричат! А кто их сладил, кто их подбивает на бунт против князя? Да тот, кто написал тебе письмо, а теперь затаился, молчит, и в Дымск все не является. Еще бы! Ему сейчас некогда! Ведь он сейчас вовсю старается и подбивает, подкупает дикарей, натравливает их, дает им дельные советы, а сами бы они да никогда бы не…
Нет! Рыжий, спохватившись, усмехнулся. И головою покачал. И снова усмехнулся. И подумал: нет, Рыжий, не виляй, а лучше-ка давай начистоту! А это чистота такая: горцы тебе никто, а рыки — твои братья, вот оттого ты и не хочешь выступать на рыков, на горцев же — хоть завтра, хоть сейчас…
Р-ра! И Рыжий ощетинился. Нет, дикари ему не братья!.. Н-но, правда, если это действительно так, то…
Кто они ему? И сам он кто такой? И вообще… Да, вот она перед тобой, Книга Всех Знаний, но разве в ней хоть что-нибудь написано о том, как надо бы…
И он сидел, листал страницу за страницей. Шли дни. Войско готовилось к войне, князь пировал с удельными. Встречая Рыжего, он делался задумчив и молчал, а если что и спрашивал, так то о всяких мелких пустяках. А воеводы…
О! Эти все ему учтиво кланялись, справлялись о здоровье, о делах. И нагло, в глаза, ухмылялись. Вот так-то вот! А ведь еще совсем недавно, когда они по одному сидели по своим уделам, а он к ним приезжал и проверял и требовал урок, они тряслись перед ним как последние мыши! А вот теперь сошлись и, сбившись в свору, сразу осмелели. Р-ра! Узколобые! Рыжий вставал чуть свет, отправлялся на Пустырь и там показывал, как надо ладить гати, гнать на огонь, брать языка, вязать фашины…
А воеводы к войску не являлись. И князь ни разу на Пустырь не съездил. А почему? Да потому, что ни в какой Большой Поход они не собираются и все эти учения, весь этот шум — так, для отвода глаз… Нет, р-ра — чтоб дичь поднять! Вот и сошлись они, удельные, подняли, обложили… А брать-то не решаются! И залегли, и ждут загривщика, а тот никак не кажется — сидит в Хвостове и молчит. Р-ра! Пусть молчит, пусть выжидает! Перемудрил Урван, пересидел; ты, Рыжий, р-ра, ну, ты горазд, ты обошел его, перехитрил! Овчар еще три дня тому назад тайно от всех отправлен тобой в Глухов, Овчар уже взял нужный след, Овчар… Вот только бы успел Овчар до срока, до Урвана! И потому теперь, по вечерам, придя к себе, Рыжий садился на тюфяк, брал книгу, но огня не зажигал. Сидел и слушал. Ждал.
В ту ночь он ждал особенно. Еще бы! Ведь завтра — срок, поход!.. Нет, не поход, а просто явится Урван, загривщик, и кликнет клич, и все они тогда…
Так то ведь будет еще только завтра! И то если Овчар до той поры не явится и не поведает князю про след! Так что…
Рыжий сидел, книгу листал, там-сям почитывал… И ждал! Долго ждал. Луна уже давно пошла на склон… И вдруг на лестнице послышались шаги!.. Нет, это не Овчар. И даже не Урван. Рыжий отбросил книгу, весь напрягся…
Князь, неслышно отбросив циновку, вошел к нему, встал на пороге и спросил:
— А что ты это в темноте?
— Так. Нравится, — мрачно ответил Рыжий.
Князь усмехнулся, подошел к нему и сел напротив. Долго, внимательно смотрел по сторонам, как будто он впервые здесь… и наконец спросил:
— Почуял?
Рыжий не ответил. А князь, немного помолчав, опять заговорил:
— Ну, раз молчишь, значит, почуял. И не ошибся ведь! Плохи наши дела.
— А… — Рыжий криво усмехнулся. — А может, все-таки, только мои?
— Нет, наши, Рыжий, наши! — твердо заверил князь. — Правда, мои пока еще так-сяк, ну а зато твои… — князь замолчал и глянул со значением.
Рыжий спросил:
— Что, это будет прямо вот сейчас?
— Нет, завтра, на пиру. — Князь помолчал. — И будет это так. Душила прокричит, что это все из-за тебя, что это ты их, дикарей, поднял, ты их навел; мол, Лес, мол, кровь, сородичи… Ну, и так далее. И вот он это прокричит, а остальные все сразу подхватят. Ты это чуял?
— Да, — кивнул Рыжий, — это. И не только.
— А что еще?
— А то, что ты при этом всем будешь молчать. Ведь ты же за меня не вступишься?
— Да, несомненно, — согласился князь, — я не вступлюсь. И не подумаю! Во-первых, как мне возражать? Рыки идут? Идут. Как никогда? Как никогда. А почему? Да потому, что это в первый раз они идут так слаженно, все их удары четко согласованы, это уже не дикари, а… Почему это? Да потому что их ведет большая голова…
— Не узколобая!
— Вот именно. И эта голова — твоя. И есть тому свидетель — пойманный лазутчик, какой-то Бэк из Гиблого Болота, и у него есть от тебя записка, что будто бы…
— Но это ложь.
— Конечно. Но то, что это ложь — одни твои слова. Пустые, между прочим. А этот Бэк — живой. Жива и та записка, там почерк — твой. Крыть нечем, да! И потому я на пиру вступаться за тебя и не подумаю, а… только за себя вступлюсь.
— Р-ра! А ты-то здесь при чем?
— При всем, друг мой. Они придут и спросят: «Где предатель?» А я скажу: «Не знаю, вот ночью был, а утром словно куда провалился».
— Да? — усмехнулся Рыжий.
— Да. Ведь ты вот прямо вот сейчас поднимешься, сойдешь во двор, а там уже каталку заложили, все, кому нужно, спят, никто и не заметит, как ты, друг мой, исчезнешь.
— А куда?
— В Копытов, к Слому и Аге. У меня с ними уже все на этот счет оговорено. Примут тебя хорошо. И вообще: уедешь — будешь жить, а здесь останешься — тебя завтра убьют. А я бы не хотел, чтобы тебя убили, потому что очень скоро ты мне снова будешь нужен.
— Зачем?
— Пошлю тебя с Агой на перевалы. Дружину дам… Вот видишь, я не передумал. Ведь так оно и будет все — по-моему! Ну, завтра покричат, ну, будет даже буча. А после все равно уймутся. И вот тогда-то мы и Бэка приберем — и под ребро его — за ложь, за наговор. Да и не одного его… А после двинем к горцам. Понял?
— Ну, понял. Но…
— «Но» будет после. А пока вставай!
— А если… Если я останусь?
— Зачем?
— А так просто!
— Задумал что-нибудь?
— Да, не без этого.
— А! — кивнул князь. — Понятно. Ты думаешь: не стану я, как подлый вор, бежать — я ж прав. Мало того, да я им завтра всем… Ну а меня, ты думаешь, что слушать?! Стар князь, труслив, вот и виляет, и пытается хитрить, и угодить и тем, и этим. Ведь так?
— Так! — рявкнул Рыжий.
Князь вскочил!..
Но нет, не кинулся — застыл. Стоял, громко сопел… И наконец сказал:
— Н-ну, в общем, так: я тебе все сказал. Предупредил. А ты… теперь как знаешь! — и резко развернулся и ушел, и напоследок громко мотанул циновкой.
Ночь. Тишина. Луна за облаками. Князь… А что князь? Он знает, что такое бунт. Толпа убила его брата и отца, и он, запуганный юнец, был возведен на Верх… О, нет, он вовсе не запуганный, а он… Ох, он хитер, ох, изворотлив, ловок! И если он еще тогда, в тот бунт, сумел всех обойти, а после умудрился усмирить и подчинить, то завтра на пиру усмирит их тем более. Правда, сперва наговорит им всякого с три короба, наобещает и запутает, и даже поклянется, а потом…
А вот ты, Рыжий, так не сможешь, не сумеешь. Он узколобый, да, а ты… Ты просто твердолобый. Таким, как ты, удачи вовек не видать; таких, как ты, всегда будут рвать и топтать, душить и… Р-ра! Вот, например, ты вспомни, это ведь совсем недавно было! Когда Ага еще не уезжал. Так вот, когда Ага увидел тебя с Книгой, он усмехнулся и сказал:
— Ий-я! Жаль твоего отца! Ведь его сын большой глупец — он верит Ложно-Досточтимому!
Ты прикусил губу и ощетинился. А Ага продолжал:
— Да-да, почтеннейший, ты не ослышался: сын твоего отца — большой глупец! Потому что только большой глупец и может поверить в то, что будто бы наша Земля есть плоский диск, похожий на монету! — И, помолчав, уже совсем другим, уважительным тоном добавил: — Но, правда, кое в чем ваш Ложно-Досточтимый все-таки разобрался. Это видно тогда, когда он говорит о Башне. А ты о ней что думаешь?
Ты растерялся, промолчал. Да, в Книге намекалось, будто все, что в ней изложено, — это всего лишь слабый отсвет от окна какой-то загадочной, недоступной нам Башни. Но Башня, думал ты…
Но промолчал. Тогда за тебя сказал князь:
— Никакой Башни нет. Это просто такие красивые слова. А понимать их надо так, что знания — это как некая башня, которая вздымается столь высоко, что нам, рожденным от отца и матери, ее вершины никогда не достичь.
Ага поморщился и, покачав головой, возразил:
— Ты, князь, не прав. Я прав! Слушай меня! Один раз я поехал в Бурк. Есть такой город, знаешь? Вот, я приехал в Бурк, вот, я делал там свои дела. Вот я их сделал. И тут мне говорят: у нас тут поймали одного старика, который был в Башне! О, сказал я, это мне очень интересно. Я дал им золота, и они за это отвели меня в ту тюрьму, где сидел тот старик. Они его, оказывается, там давно уже допрашивали, а он ничего не рассказывал. Тогда я посулил ему много-много золота. Он засмеялся мне в ответ и сказал, что если он возьмет мое золото, развяжет свой язык и расскажет, что ему открылось в той Башне, то тогда на счет раз, два, три рухнет все то, что до этого целых тридцать тысяч лет лепил и обжигал и снова лепил и снова обжигал и украшал наш Великий Зибзих. Иными словами, если старик вдруг проболтается, то тогда все мы со всем нашим миром погибнем ровно в три мгновения. Хочу ли я того? Я задумался. И пока я думал… этот старик исчез. Он это сделал на виду у всех нас. А если бы он этого не сделал, тогда бы его на следующий день живым сожгли на костре. Потому что таково было решение Большого городского меджлиса.
— Исчез! — недоверчиво повторил князь и усмехнулся. — Да как это он мог исчезнуть?
— Что, что? — злобно вскричал Ага. — Ты мне не веришь?
— Да верю, верю, — сказал князь. — Так, с языка сорвалось.
— Вах! — выдохнул Ага. — Вах! Ладно, слушай дальше. А был он в темнице. На нем были цепи. Он очень слабый был. Он лежал на полу. Из него текла кровь. Вот так — из горла. Тогда они позвали лекаря. Очень ученого. Лекарь пришел, осмотрел старика, поворочал его, ухо ему к груди приставил, в груди что-то послушал, потом долго думал, потом говорит: «Надо дать ему фруктов». Дали — целую чашу. Лекарь фрукты тоже осмотрел, выбрал один, вот так вот его своим рукавом вытер и подал старику. Старик этот фрукт надкусил — вот так, совсем немного — и сразу исчез. Остались только его цепи. И фрукты, да. Я после эти фрукты тоже кушал. И мне ничего! А старик взял и исчез. И все это я видел сам, вот этими глазами, которыми я сейчас смотрю на вас. Теперь мне верите?!
Князь не решился возражать. А Рыжий, подумав, спросил:
— А лекарь что?
— А лекаря сожгли, — мрачно сказал Ага. — Он хорошо горел. И это все. Больше я ничего не скажу. Вижу — не верите.
И больше он действительно о Башне уже не рассказывал. А вскоре вообще уехал. А ты, Рыжий, остался. И вот ты сейчас лежишь, плотно закрыв глаза, и пытаешься представить себе эту самую загадочную Башню. Она, конечно, не такая, как все остальные башни, она не нами сложена, она…
Чу! Шорох! Рыжий подскочил!..
Глава восемнадцатая — ПИЛЛЬ!
Вошел Овчар. Встал при пороге, осмотрелся. Взгляд у него был острый, настороженный. И то! Ведь он впервые был здесь, на Верху, лучшим здесь делать нечего, их сюда никогда не зовут. Ну, разве что тогда, когда, вот как теперь, такое приключается…
Рыжий, вздохнув, сказал:
— Садись.
Овчар послушно сел — прямо там, где и стоял.
— Да что ты?! — засмущался Рыжий. — Сюда. Вот, на тюфяк садись.
Овчар не спорил, пересел. Молчал, косил по сторонам. Потом тихо спросил:
— А что это? — и указал на стену.
— Вот это, да?.. Термометр.
— А для чего?
— Так… — растерялся Рыжий. — Просто так, для блажи. Ты голоден? А может быть, хочешь вина?
— Н-нет, не хочу, — тихо сказал Овчар. — Благодарю.
Тем разговор и кончился. Они сидели рядом и молчали. Вот до чего жизнь довела! Овчар, старинный друг, испытанный. Вы ж прежде сколько раз в какие только передряги не встревали, где только… Р-ра! Но то когда было? Вот то-то и оно. А нынче говорить вам не о чем. Овчар по-прежнему в Низу: утром у них подъем, на Гору, на обед — и когти рвать. Потом он женится, уедет сотником, а то и воеводой на кормление. Овчар — южак…
— Так говорить? — спросил Овчар.
— Да-да, конечно! — спохватился Рыжий.
Овчар откашлялся и начал:
— Как ты и говорил, они там все валят на Бэка. А Бэк — это который, если ты помнишь…
— Да, — кивнул Рыжий. — Он такой…
— Он, он, — кивнул Овчар. — Но там есть еще и Беляй. Ну, хмырь тай, липарь, доверенный Душилы. Он в этом деле много нюхал. Я тогда сразу про него начну.
— Давай.
Овчар пошел рассказывать — подробно, обстоятельно, толково, умно, делово. Но явно нервничал. Еще бы! Ну кто такой Овчар? Простой лучшак, боец. А говорить на воевод, на тысяцких — к этому еще надо привыкнуть. Хотя, если честно признаться, то на этот раз даже он, Рыжий, и то был сильно поражен услышанным. Ну, думалось, ух каковы пошли дела! Тут, думалось, нам с ним сегодня побегать придется — ого! Да и не только бегать, р-ра!..
Однако все вышло иначе. Овчар, как только рассказал, так сразу встал и сказал:
— Ну, я пошел.
— Стой! Погоди. Да мы сейчас…
Овчар остановился. Глаза их встретились… И Рыжий понял — нет, Овчар не согласится, не рискнет. Вот разве что… И тихо, но жестко спросил:
— А если вдруг… я на тебя сошлюсь…Ты как тогда?
— …Д-да! — мрачно выдавил Овчар. — Да, я сказал! И если будет надо, повторю! — а после кивнул на прощанье и вышел.
Вновь наступила тишина. Да и темно еще, не рассвело, и, значит, можно… нужно спешно выйти и также спешно пасть в каталку — и ты еще успеешь, Рыжий! Ведь то, о чем тебе Овчар нарассказал и о чем князь предупреждал, что даже Бэк…
Бэк! Р-ра! Да кто бы тогда мог такое предположить?! В прошлом году на глуховском базаре был пойман тощий, грязный рык. Потом его пытали — он молчал. Потом его морили голодом и жаждой — опять бесполезно. Тогда его кинули в яму — подумать. Он не думал. Прошло два месяца, и тут явился ты. Душила, глуховский удельный, сопровождал тебя по городу, и ты проверил там, проверил сям, разгневался — кругом были сплошные недоимки, воровство, потом пришел в острог, велел, чтоб доставали ямных, стал их выслушивать, расспрашивать — и раз за разом подтверждать: и этому сидеть, и этому, и этому. А после привели его, того как будто бы лазутчика. А был он… никакой. То есть такой, как и все рыки, — в глаза не смотрит, щерится, болотом от него разит, и вообще… просто очень противно, и все! Южаки терпеть не могут рыков. И Рыжий их поначалу тоже не терпел. А потом, особенно после того, как он поднялся на Верх, когда уже мог делать все, что хотел… рыки ему стали просто безразличны. Так было и тогда, в том глуховском остроге. Да и дело тогда было уже к вечеру, Рыжий успел сильно устать и потому уже прилег. Тут к нему ввели Бэка. Рыжий мельком глянул на него, сразу понял, что перед ним не заводной, а так, какой-то серогорбый, и потому велел, чтоб он скорей, без размазни, рассказывал. Вот рык и рассказал. Он, Бэк из Гиблого Болота, а это здесь недалеко, в Ближнем Лесу, заспорил при дележке. Его изгнали. Он бежал. Плутал, потом прибился к южакам, работал на хозяина, скопил деньжат, явился на базар… И там его схватили! Вначале обвиняли в воровстве, а когда воровство не прилипло, так тогда они стали кричать, что он будто лазутчик. Он огрызался, отбивался, спорил. Тогда они его связали, занесли к себе в сторожку и кликнули туда его хозяина. Хозяин пришел, посмотрел, испугался, как бы и его ко всему этому невзначай не примазали, — и, на всякий случай, для верности, отказался от него, от Бэка, сказал, что прежде никогда его не видел. И вот тогда…
И тут Бэк замолчал — надолго. А после все-таки сказал:
— Только зачем тебе все это? Ты же все равно меня не оправдаешь.
— А это еще почему? — неприятно удивился Рыжий.
— Да потому что ты такой же, как и я, мы с тобой одна кровь, вот только ты оказался удачливей, чем я. И поэтому теперь для того, чтобы не потерять эту удачу, а то вдруг еще станут говорить, что ты, сам рык, стал выгораживать…
— Хва! — гневно рявкнул Рыжий.
Бэк замолчал. И Рыжий тоже сперва помолчал, а потом спокойно, как ни в чем не бывало, сказал:
— Рык я или не рык, это сейчас не важно. Сейчас важно только то, что я, как первый воевода, хочу, чтобы все здесь было сделано по закону.
И так оно и было: сперва нашли того хозяина и взяли его под ребро. Хозяин сразу вспомнил Бэка. Потом нашли свидетелей того, как его хватали на базаре, но там и до ребра довести не успели — свидетели наперебой все очень четко и ясно рассказали. Бэк был оправдан и освобожден…
И в тот же день он вдруг исчез, куда — никто не знал. Но тут и сомневаться было нечего — его тогда же сразу и убили, не зря ведь Душила потом так странно усмехался. Но тогда это были одни только догадки, домыслы. А вот теперь все это подтвердилось: Овчар пришел, сказал, что тот, кого они теперь там выдают за Бэка, совсем даже не рык, а так, непонятно откуда взявшийся липарь. Мало того, Беляй, доверенный Душилы, еще вчера…
Р-ра! Шум, шаги. Рыжий вскочил, глянул в окно. Ого, уже светает! Так, значит…
Да!
— Двор-р! — прокричал Брудастый. — Двор-р!
И тотчас же забегали, затопали по лестнице. И пусть себе бегут, им надо. Вот, значит, как оно, вот, что они задумали. Ну что ж, пусть тешатся, но мы еще посмотрим, кто из нас дичь и кто кого очень скоро погонит! Ну а пока…
Рыжий еще немного полежал и подождал, а после, сладко потянувшись, встал и не спеша спустился вниз.
Там, во дворе, все были уже в сборе: строй лучших, воеводы, князь. Так, хорошо! Рыжий сошел с крыльца, остановился. Князь подошел к нему, хотел было что-то сказать, скорей всего предупредить… да не успел — их обступили воеводы. И началась пустая, глупая беседа. Умор — болтливый, как всегда, — пытался рассказать последнюю смехушку: дружинник возвращается с войны и встречает соседа, сосед говорит… Всезнай его перебивал, то и дело уточнял, подсказывал. Князь хмурился. Душила ухмылялся. Рыжий молчал…
Тут подогнали крытую каталку. Князь сел в нее. Брудастый закричал:
— Порс! Порс!
И тягуны помчали со двора. А следом — Рыжий, воеводы, а уже после княжеские лучшие. Рыжий бежал легко, едва ли не вприпрыжку, а воеводы… Х-ха! Потеха! Ну, Растерзай еще хорош, ну, Душила. А остальные все… Поотвыкали напрочь! Раскормились! Но здесь вам не уделы — Дымск, здесь если князь садится в крытую каталку, то, значит, прочим всем — только за ним и только своим ходом! Вот и бегут они, удельные, салом трясут, пыхтят и задыхаются. Порс! Порс! Вдоль, вдоль по улицам. Наддай, еще наддай!
Ну и наддали, а куда ж ты денешься! И кое-как добежали. Теперь стоят они, развесив языки, и им теперь, поди, уже не до бесед! Да и когда беседовать?!
— Ар-ра-ра-ар! Ар-ар! — взвыла толпа.
И дальше, как всегда перед Большим Походом, они всем войском и всем городом встречали Солнце. И князь кричал, звал Одного-Из-Нас. И все они кричали. Потом был смотр на пустыре: четырнадцать дружин сходились, расходились. Народ визжал. И все бы хорошо, да Слома что-то нет и нет, Слом не пришел пока. И еще нет Урвана. Ну, Слом — это понятно, Слом в Копытове, и с ним Ага, и это хорошо, по уговору, Слом — это наша сторона. А вот Урван… И, может, оттого, что его не было, князь злобно хмурился, зевал. И никого за смотр не похвалил, не отличил. Потом, когда пошел к коляске, вдруг оглянулся и окликнул Рыжего. Тот подошел к нему. Вдвоем они сели в каталку. Князь рявкнул:
— Порс!
И тягуны рванули. Князь повернулся к Рыжему и уже начал было говорить: «мне донесли»… Но тут Душила и Всезнай вскочили на запятки. Князь, бешено сверкнув глазами, отвернулся.
Молчали. Ехали. Душила, стоя на запятках, ухмылялся. Рыжий сидел к нему спиной, щелкал орешки да смотрел по сторонам. Порой через плечо пошвыривал скорлупки. Случалось, попадал прямо в Душилу. Тот терпел.
— Ар-ра-ра-ра! Ар-ра! — кричали лучшие…
Да, лучшие, отборные бойцы, твои давнишние друзья — все они здесь. И здесь же князь, который тебе верит. И вот еще немного погодя ты встанешь за столом и все как есть расскажешь, потом Овчар все подтвердит. И что тогда? Вот то-то же! Душилу — под ребро. Беляя — под ребро. И… Р-ра! Вот будет славная охота!
И вот они уже приехали. Поднялись по крыльцу: князь, следом за ним Рыжий, а уже после остальные воеводы — эти скопом. Шли через сени — тоже чин по чину. А подошли к столу… И сразу толкотня! Ну и ладно. Рыжий, оттертый Растерзаем, сел между Клыном и Умором. Князь, увидав такое, поднял брови… Однако Рыжий тотчас подал знак — мол, это пустяки, — и князь смолчал. Завыл ухтырь, запели певуны — и дальше все опять пошло, как это шло всегда: пили за Дымск, за князя, за Равнину, за поход. Бобка плясал. И наконец…
Всезнай вскочил, провозгласил:
— За Рыжего! Он, первый воевода, поведет!
Все взяли миски, встали. Все… Нет, не все! Душила не вставал. Тогда не встал и Рыжий. Князь, воеводы, княжеские лучшие — стоят и ждут. Ждут. Ждут…
Но наконец Душила облизнулся и сказал:
— Кто поведет? Он, что ли? Н-нет! Ведь это он и предал нас, он — рык, он — ведьмино отродье! Ар-р! Ар-р!
И подскочил! И…
Не решился. Осмотрелся. Все молчали…
Рыжий оскалился. Ну, вот она, охота! Пилль! Пилль! След в след! Сотник Беляй, доверенный Душилы, был тайно послан в Лес и там платил им, дикарям, и подбивал их на поход, а после наводил на Глухов, Глинск, Замайск. Беляй, он и сейчас в Лесу; Овчар все это выведал, Овчар платил свидетелям, как ты и повелел, без счета, и вот теперь… Да пусть теперь Овчар все это и расскажет! И Рыжий встал. Все пристально смотрели на него. Умор, Всезнай, Душила, Растерзай, Бобка, Друган, Овчар…
А рядом с ним…
Урван! Когда он появился здесь?! Ведь только что… Р-ра! Ходу, Ры!…
Нет, Рыжий, не ходу — стоять! Р-рвать! Р-рвать! И Рыжий впился в стол, грозно потребовал:
— Овчар!
А тот не шелохнулся.
— Овчар! — еще грознее рыкнул Рыжий. — Овчар!
Тот подскочил… И так и замер! Так и стоял теперь, смотрел перед собой — на яства, в стол — и тяжело дышал. Урван, поворотившись к Рыжему, насмешливо сказал:
— Овчар? Так его же здесь нет. Ты же, друг мой, лично сам отправил его в Глухов. Отправил, между прочим, тайно! Чтобы он там все высматривал, вынюхивал да подкупал свидетелей. Ведь так?
И громко, нагло засмеялся. Следом засмеялись и другие. Не все, но многие. А вот Брудастый отвернулся. И Бобка опустил глаза. А князь…
Князь было встал… А после махнул лапой, сел и сказал в сердцах:
— Я ж говорил тебе! Р-растяпа…
Растяпа? Р-ра! А ты? Вожак! Враг! Лжец! И все твои слова — ложь, ложь! И — кровь в глаза! И… Рыжий подскочил и закричал:
— Я ненавижу вас! Всех! Всех! Вы хуже дикарей! Вы… Вы…
— Ар-ра-ра-ра! Пилль! Пилль!
Все заорали, бросились на Рыжего. Визг, лязг!
— Живьем его! Живьем! — кричал Урван. — Взять! Пилль!
А Рыжий…
Р-ра! Не взяли! Сбил одного, второго, пятого — и - над толпой — в окно, на крышу. А там — через забор, по улицам.
— Пилль! Пилль! — визжали позади.
Отстали…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ — ЧЕТ-НЕЧЕТ
Глава первая — БЕЗМЕСТНЫЙ ЙОР
Застава. Перекресток. Вправо! В ночь, в грязь, в разбитые ухабы! Беги, Рыжий, скорей! Наддай, еще наддай! Возьмут — ведь сразу же убьют, не станут и судить, а прямо здесь, на месте, навалятся и будут рвать в клочья! Так, что и костей не оставят! Р-ра! Дикари, лжецы; князь, воеводы, лучшие — все, все! Беги, Рыжий! Порс! Порс!
И он бежал — всю ночь. На четырех конечно же, как рык, забыв про гонор, спесь. Только когда совсем устал, тогда остановился, встал во весь рост, на стопы, стряхнул грязь с верхних лап, присмотрелся — и сорвал с них налапники. Точнее, те ошметки, которые теперь от них остались, и попытался было размять пальцы… Но они скрючились, никак не разгибались. Вот до чего затекли! И были они в ссадинах, порезах. И с горечью подумалось: да, обленился ты, разнежился на воеводских харчах. Но ничего, не огорчайся. Теперь все это очень быстро уладится. Ты ведь для них теперь уже не воевода и даже не лучший, и, вообще, ты им теперь даже не южак, а просто дикий рык и, значит, злейший враг Равнины. Поймают — сразу разорвут. И это будет по закону. А посему…
Он снова пал на все четыре, сошел с тропы, запутал след, залег в кустах и затаился. Лежал, дрожал — его всего трясло от злобы! Ждал, стиснув челюсти, сопел…
Но так ничего и не дождался. Погони за ним не было. Зато были видны сигнальные огни — там, там. А вон еще один, еще… Значит, уже пошла большая, настоящая охота — по всем правилам. Их много, ты один, вот им и кажется, что им теперь некуда спешить. Больше того: они думают, что все уже заранее предрешено, что ты, спасая свою шкуру, не выдержишь и рано или поздно выдашь себя, рванешь в открытую — на север, к Лесу… А хотя, им, впрочем, все равно, куда ты теперь побежишь, им только бы схватить тебя. Глупцы! Самодовольные. Равнина! Дымск! А что такое Дымск? Кто с ним считается, что в Книге о нем сказано? А вот что: поселок у реки, язычество, зачатки права, фермерство, воинственны — и больше ничего! То есть неполных две строки, а прочий мир — целых семьсот страниц! И вот там…
Рыжий оскалился и затаил дыхание. День начинался, солнце поднималось. А он, не шевелясь, лежал в кустах. Когда ему наскучило смотреть по сторонам и ждать догонщиков, Рыжий закрыл глаза, представил себе Книгу, потом он также совершенно явственно представил, как он открывает ее, как листает, читает, ну, скажем, главу «Этикет», потом листает дальше и снова читает… Прекрасно! Во-первых, это очень полезно для укрепления памяти, а во-вторых, неплохо успокаивает нервы. И так он и лежал себе в кустах, плотно закрыв глаза, и словно бы читал…
Но дрожь никак не унималась, и он вновь и вновь вспоминал события вчерашнего вечера, пир. Ну, думал он, с воеводами — это понятно, он им всегда был не в кость. А тут и вовсе встал поперек горла. И князь, увидев это, посчитал, что будет проще сдать его и затаиться, повременить, а потом, уже где-нибудь через год опять начинать готовиться к походу. И без него уже, без Рыжего, так оно будет спокойнее. И тут князь по-своему прав. А вот Урван… А вот ему и вообще все одинаково противны — что первый воевода, что удельные, что князь. Он ненавидит всех. И цель его ясна: он будет стравливать их, дикарей, и убирать, и убирать по одному, и…
Р-ра! А ведь он прав, этот Урван! И ты учись у него, Рыжий! Ведь и действительно, да пусть они себе грызутся, и пусть перегрызутся — все, до единого, вместе с Урваном, вместе с князем, две жалких строчки, дым. И так оно вскоре и будет! Но уже без тебя. Ты ушел — опять, как и тогда, из Выселок. Нет, по-другому, р-ра! Ты ведь теперь прекрасно знаешь, чего ты на этот раз хочешь, знаешь, куда тебе идти и как. И потому вот уже и дрожь в тебе унялась, вот уже и голова твоя опять соображает ясно и четко. Да, ты изгнан от них — ну и прекрасно! Ведь этот Дымск давно уже был тебе камнем на шее, душил тебя, давил, а ты все никак не решался уходить и говорил себе и убеждал, что там не так уж и плохо, что и в других местах разве бывает лучше, ведь главное совсем не в том, что тебя окружает, а что внутри тебя!..
Но если уж так получилось, что ты все-таки не выдержал и побежал — ну так тогда беги и дальше! И время для этого сейчас самое подходящее: день кончился, ночь кругом, тишина, никто тебя теперь не остановит, не заметит, не…
Ар-р! Порс! Порс! И он вскочил и побежал дальше, на юг. И так было пять, восемь, десять переходов подряд: ночью Рыжий бежал, а днем лежал и представлял перед собою Книгу и словно бы читал ее, а то охотился — ловил мышей, искал чепрыжьи гнезда, а больше ничего там не было — ждал темноты и вновь бежал. Завидев вдалеке сигнальные огни, тотчас ложился, полз, а то и вовсе замирал на одном месте. Трава была высокая, густая.
Потом трава вдруг кончилась, пошла одна сухая, пыльная земля. Но это не беда — здесь уже можно было не таиться, потому что здесь уже ни селений, ни постов не встретишь. Здесь гиблый, почти что необжитый край, а дальше будет и того хуже — Зыбь. Всякий, кто хочет обогнуть ее, тот или отправляется по Большому Иноземному тракту, который начинается от Хвостова, или же, если он очень спешит и к тому же богат, то выбирает водный путь, то есть спускается от Дымска по Голубе. Но там и там стоят посты, и все они конечно же уже давно предупреждены, им посулили большие награды, и они ждут его, лапы грызут от нетерпения. А здесь его никто не ждет. Да здесь вообще никого ждать нельзя, ибо очень быстро погибнешь от жары и жажды… И потому, что здесь нет никого, он и пошел сюда, и шел — на четырех, вот до чего устал! — по этим выжженным местам еще целых два дня. Потом не стало и земли, а был один только песок — горячий, зыбкий. Он всасывал, затягивал. То есть лишь только остановишься, как твои лапы сразу начинают в нем увязать, и только чуть замешкался, так вообще уже потом не вырваться утонешь, захлебнешься, как в топком болоте. И даже если просто сбавишь шаг, то очень скоро выбьешься из сил и хочешь ли ты того или не хочешь, а остановишься… и тут же станешь увязать и погружаться глубже, глубже, песок будет давить тебя, душить и обжигать, и… Р-ра! И вот уже и нет не только тебя самого, но и следов от твоих стоп, как это бы осталось на земле, или кругов, как на воде, а есть только один гладкий ровный песок — и там, где ты вот только что стоял, и вообще куда потом ни глянь, будет один только песок, песок, ослепительно желтый песок от горизонта и до горизонта. Вот почему эту клятую Зыбь в Книге Всех Знаний именуют Желтой Смертью. И там же, в Книге, сказано, что никогда еще никто не смог ту Зыбь, преодолеть, а посему…
Но мало ли что сказано! И ты пошел… Но не на четырех — только на двух, на стопах, хоть так было намного тяжелей, проваливался глубже, зато на двух обзор намного лучше, да и песок был до того горяч, что пальцы очень скоро обожжешь, а то и вовсе покалечишь, и что тогда, кому ты будешь нужен там такой, беспалый? Вот и вошел ты в Зыбь прямой как жердь. Вначале на пути хоть изредка, но попадались островки твердой земли, где можно было отдохнуть, перевести дыхание. И вообще, еще не поздно было передумать и повернуть обратно — еще было светло… Но Рыжий шел и шел все дальше, дальше в Зыбь — размеренно, не торопясь. Смеркалось, скрылось солнце. Скрипел песок… И загорелась первая звезда, взошла Луна — и Зыбь стала казаться снежным полем…
Но снег не так скрипит. Снег — это не песок. Снег налипает между пальцами и, напитавшись твоим потом, очень быстро превращается в ледышки. Их нужно постоянно скусывать, иначе стопы быстро разобьются в кровь — и обессилишь, упадешь. В снег. И зароешься в него. В снегу тепло. Луна скрывается в Убежище и умирает там, а после вновь рождается. Луне дано бессмертие…
А он все шел и шел, ни разу не ложился, ведь он же не бессмертный. Он сильно устал. Но вот ночь кончилась, всходило солнце. Песок сверкал как золото. Глаза слезились, стопы подгибались. Очень хотелось пить. Еще сильней хотелось лечь и больше уже не вставать… Но он ступал, ступал, ступал. Песок уже не обжигал его и жажды он уже не чувствовал — он просто шел, следил за тем, чтоб солнце постоянно оставалось справа от него, вот и все. Шел, шел. Также, наверное, семь лет тому назад в Зыбь уходил беглый купец, а после, говорят, его встречали там, в Чупрате. Значит, прошел купец, значит, нашел в себе силы, не сдался. А он чем его хуже? И дальше шел. День — под стопами золото, ночь — под стопами снег. Снег — как в Лесу, такой же чистый, мягкий. Вот только тот, лесной снег, освежал, а этот клонит в сон и забирает силы. И этих сил остается все меньше и меньше, а снег становится все мягче, сугробы все глубже, идти по ним все тяжелей, и голова уже кружится, в глазах уже кровавые круги, уже…
И он не удержался и упал. И сколько он так пролежал, не знал, не помнил. А помнил только вот что: лишь только он очнулся, так сразу, ни о чем еще не думая, вскочил…
И замер. Р-ра! Он — на земле уже, у него под стопами надежная, твердая почва, а Зыбь — вон где она, Зыбь — позади него, правда, в каких-то двадцати шагах. Но все равно он, значит, одолел ее, он перешел через зыбучие пески, он, как и тот купец, не дрогнул. Значит, Равнина, Дымск… И Рыжий засмеялся! Р-ра! Выброси ты их из головы, забудь о них: нет больше Дымска, нет Равнины, нет князя, нет Урвана — никого! Теперь ты — Рыжий, просто Рыжий — в Мэге. Стоишь возле холма, поросшего густым опрятником, а дальше, сразу за холмом, видна гора, за той горой — еще одна гора, но та уже повыше, а там, за той, еще одна, еще, еще; все эти горы называются Хребет. И если перейти через Хребет…
И Рыжий, усмехнувшись, лег. Лежал, смотрел на Зыбь, на горы. И очень долго так лежал, почти что до полудня, а после все же встал и пошел вперед, к Хребту. Теперь он не спешил — неделю поднимался к перевалу и по пути охотился и набирался сил, а вечерами разжигал костер, ложился у огня и представлял перед глазами Книгу, читал ее. А вот о Дымске вспоминать не получалось. И, может, это правильно — ведь Дымск остался в его прежней жизни, а она умерла, ее нет и никогда уже… Э, погоди! Не все так просто, как хотелось бы, потому что ни в коем случае нельзя сбрасывать со счета того, что Мэг — это союзная Дымску держава, и, значит, Тымх вполне может послать сюда гонца и объявить им здесь… Ну что ж, пусть ищут, пусть стараются. А ты… Вверх, вверх! И Рыжий шел, карабкался, цеплялся, скользил, срывался, поднимался и вновь карабкался — вверх, вверх, и вот он, наконец, этот заветный перевал, и ничего здесь нет, один только туман, и день и ночь туман, огня не развести и оттого и бьет тебя озноб; вниз, Рыжий, вниз! И он шел вниз. И вот уже сперва туман остался позади — то есть, вверху, на перевале, — потом, еще через два дня, на краю ледника, Рыжий увидел первый след — наверное, охотника. Потом еще один. И рядом с ним он увидел обломок стрелы. Странно, подумал тогда Рыжий, на кого это они могут здесь, среди этих голых мшистых лугов, охотиться? Но мало ли! И пошел дальше, вниз. Кормился сладкими кореньями, улитками. Потом набрел на тропку и двинулся по ней. Вскоре эта тропка привела его в лес. Лес был приземистый, хвойный, корявый. Но там уже водилась дичь! Рыжий поймал костяника, разбил его о камни и съел. Потом сбил камнем птицу чьивку и проглотил ее прямо вместе с перьями — вот до чего он был тогда голоден! Потом чем ниже он спускался, тем лес становился и выше, и гуще. Там и добычи было больше, так что к вечеру Рыжий довольно-таки прилично насытился. Потом, когда уже было темно, он еще издалека заметил костер там, как оказалось, ночевали дровосеки. Они лежали у огня вповалку, без всякой охраны, и, значит, можно было без особого труда напасть на них, добыть себе одежду, имя и потом уже совершенно спокойно, никого не опасаясь, спуститься в долину, а там, в первом же селении, в первом же доме, в который бы его пустили на ночлег, снова… Нет, ни к чему все это. И, постояв возле огня и немного согревшись, Рыжий так же тихо, как пришел, ушел от дровосеков. Потом еще два дня — и при этом постоянно таясь — Рыжий спускался по тропе, а утром третьего, продравшись через заросли, взобрался на скалу…
Лег и прищурился. Самодовольно зевнул. А что! Ведь он уже, считай, почти пришел туда, куда хотел! Внизу под ним, под обрывом, раскинулась долина — вся зеленая! А вон река, а вон запруда, мельница. А вон квадратики возделанных полей. Дальше дома в две улицы. Повозка едет по дороге. В повозки, так у них в Мэге заведено, впрягают должников, в плуги военнопленных и мятежников… А вон еще дома, еще. И так примерно вот такая же картина будет еще на сорок дней пути, и только потом уже будет столица, град Бурк. И уже там…
Но здесь, в Двенадцатой Провинции, в Чупрате, об этом думать еще очень рано. И вообще, вначале ты, Рыжий, должен решить, кем ты будешь называться в этой новой жизни. Проще всего, конечно, сейчас лечь в засаде, поймать идущего с поля крестьянина, снять с него его серую холщовую попону… А после в этой вонючей позорной холще ты будешь вынужден кланяться всем тем, кто ходит в крапчатом, малиновом, ездит в зеленом, золотом… Хотя и этих, едущих, кстати, тоже можно легко подстеречь и ограбить, да так, что никакая охрана им не поможет! А после… Р-ра! Но если уж на то пошло, то еще проще будет сразу стать безместным йором, тем более что в последний год их здесь развелось несчетное множество. И, значит, тогда можно вовсе ни во что не рядиться, а идти прямо так, прямо в том виде, в котором ты сейчас и есть то есть в одном ремне да поясе. Безместный йор — он вне сословий, вне закона. Это, конечно, хлопотно, зато… Ар-р! Р-ра! И Рыжий встал и двинулся к тропе, ведущей вниз, в долину.
В долине Рыжий напрямик, через нескошенное поле, вышел к почтовому тракту и побежал по нему — на двух конечно же, ибо свободные здесь иначе и не бегают, здесь же ведь цивилизация… Гм! Да! И Рыжий побежал по краю, при обочине. И это правильно. Дело в том, что этот тракт, он хорош только для повозок, а босиком по нему — это просто беда, стопы об камни сразу посбиваешь! А путь далек… Но Рыжий не спешил и не вставал, как раб, на все четыре — бежал себе по-прежнему на двух, мерной трусцой, по-йорски, такой бег называется измот… Вот и бежал измотом. Прохожих и проезжих не встречал — ведь здешнее предгорье как-никак окраина, места почти незаселенные. Да и время, прямо скажем, нынче весьма неспокойное… И это хорошо! Чем меньше глаз, тем лучше. Он бежал. В полдень, немного притомившись, Рыжий присел у придорожной яблони, поколотил ее, подзакусил и снова двинулся в путь. День был погожий, солнечный; там-сям уже снимали урожай. Вон, справа, посмотри, рабы скирдуют орс, поют. Дальше, на взгорке, стоит кузница, там тоже кто-то копошится…
А вот уже и почтовая станция. Герб на дверях. Крестьянская повозка у крыльца. Пыль. Куропатка с выводком копается в песке. Солнце садится за плетень… Рыжий небрежно вытер стопы о гребенку и вошел.
Пять-шесть крестьян в обтрепанных попонках сидели за столом, играли в кубик и смеялись. У стойки стоял чин в расстегнутом лантере; старик держал на вертеле поджаренную птицу, советовал играющим. В углу — лампада, лик Стоокого…
— В дом! — рявкнул Рыжий. — В дом! Хвала Ему!
Все оглянулись на него и настороженно замерли. Рыжий стоял в дверях и ждал. В репьях, нечесаный, в широком боевом ремне да при богатом поясе с блестящими нашлепками он, по здешним понятиям, выглядел не самым желанным гостем. И тем не менее…
— В дом, в дом, хвала, — ответили нестройно.
Рыжий, бренча висюльками, вразвалку миновал крестьян, достал из пряталки монету и, положив ее на стойку, мрачно сказал:
— Твоя.
— Вся? — не поверил чин.
— Да, вся. Я голоден!
Чин сразу оживился, стал любезен. Провел к соседнему столу, набросил скатерть, подал мясо. А после — кашу, рюмку золотистого. Крестьяне уже больше не играли — они сидели, скромно опустив глаза, и еще скромнее молчали. Да только какое ему до них дело! Плотно поужинав, Рыжий сразу же ушел за загородку, а там упал на мягкий пуховик и строго приказал:
— Стеречь!
Чин поклонился, вышел, прицыкнул на крестьян — и те, не проронив ни звука, быстро подались в дверь. Вот заскрипела их повозка. Вот затихла. Чин, было слышно, подметал в костярной зале, потом гремел поленьями, ворчал. А вот и потянуло сладким дымом — это чин принялся готовить завтрак. Рыжий зевнул, лег поудобнее… И словно провалился. Спал и, казалось, ничего не слышал. Но утром, только чин вошел к нему, он сразу же вскочил. Но чин прошел мимо него и подошел к окну, и широко раскрыл его. Рыжий рассерженно спросил:
— Зачем это? Да ты в своем уме?!
— В своем, — ответил чин. — А вы, мой господин… вчера были весьма неосторожны.
— Я? В чем?
— А в том, что щедро заплатили. А щедрость, она привлекательна! О ней прослышали — и к ней уже пришли. Вот почему я советую вам…
— В окно? — и Рыжий усмехнулся. — Их сколько там?
— Трое. И все во дворе. Так что спешите, господин. Тут огородами будет совсем недалеко…
Но Рыжий только отмахнулся, встал, потянулся так, что захрустели кости, и сказал:
— Но я еще не завтракал. Сперва накрой, поем, а там уже посмотрим.
Чин не посмел ему перечить. И снова — каша, рюмка золотистого. Потом еще одна… А третью Рыжий отодвинул и сказал:
— Потом допью, — и встал из-за стола.
Чин вновь не выдержал:
— Подумайте! Их трое, вы один. Вот так же вот позавчера…
Рыжий не слушал его, вышел на крыльцо, глянул во двор. Трое почти таких же, как и он — без ничего, в одних только ремнях, — сидели на траве возле колодца. Поджарые, голодные и… Да, однако! Ну да чего уже теперь! Не поворачивать же, р-ра! А посему он медленно сошел с крыльца, остановился и сказал:
— Вот, я готов. А вы?
Тогда они неспешно поднялись и разбрелись по разным сторонам с таким расчетом, чтобы перекрыть ему весь двор, и снова замерли. Теперь они стояли, опустив головы, смотрели исподлобья, ждали. Смотрели делово, без всякой злобы. Да и чего им злиться, Рыжий?! Ты им не нужен, нет, и даже твой ремень им тоже не нужен. А нужен им только твой пояс с монетами. Сними его, швырни им под стопы — и сразу все решится. Да-да, вот именно! Потому что есть у них, йоров, такой обычай: пока победители делят добычу, тот, у кого ее отняли, может беспрепятственно уносить свои стопы — его не тронут, слово йора! Так что…Нет! Тьфу! Нельзя так начинать. И Рыжий двинулся на йоров — вначале влево, к черному. Потом, не доходя до него всего каких-то пять шагов, он вдруг резко свернул… И черный тоже повернулся вслед за ним и снова замер — стоял оскалясь, не дыша. Тогда и Рыжий снова повернул к нему, сделал широкий шаг, потом — поменьше, мягко, крадучись… А после пры!..
И тот не выдержал и отскочил! А ты, Рыжий, стоял на месте, ты не прыгал! Черный смутился, отвернулся. Так, хорошо, этот, считай, готов, он не боец уже, слишком напуган. Теперь, значит, второй, — этот, с разорванной щекой. Шаг, еще шаг к нему, еще… Йор затоптался, но не отступил; правда, глаза его забегали. Тогда — еще. Еще. И…
Наземь! Вовремя! Третий, который оказался за спиной, как Рыжий и предполагал, не выдержал и прыгнул на него! И промахнулся — в пыль! Рыжий вскочил… И — началось! Один против троих. В кровь! В клочья! В кость! Р-ра! Р-ра! За Дымск! За Выселки! За князя! Лягаша! За… Р-ра! Р-ра-ра! В клочь! В кро! Кр-ро! Р-ро! И…
Р-ра! Рыжий не гнал их и не догонял, не улюлюкал даже — а просто стоял, смотрел им вслед и щурился. А после не спеша вернулся в дом и сел за стол. Сказал:
— Вот так!
И выпил третью рюмку — залпом. Потом долго сидел, не шевелясь, как будто спал с открытыми глазами. Чин, осмелев, спросил:
— А вы куда путь держите?
— В Бурк.
— Бурк! — изумился чин. — О, нет! Да если вы и далее будете так рисковать, то вам не…
— Хва!
Чин покорно умолк. А Рыжий встал, пошел к двери. Чин провожал его, молчал, но у ворот опять заговорил, сказал:
— Пускай будет по-вашему. Кто знает! Но вот вам совет. Не верьте никому.
— А я и так не верю!
И он действительно не верил. Два раза на него в пути были засады — он отбился. Потом уже в самом Чупрате, на базаре, его чуть было не схватила стража: «Бродяга! Взять его!» А он ушел от них по крышам. Потом, еще через пять дней, уже в придорожной сидячей ночлежке, его едва не отравили из-за денег. Да вот только денег у него к тому времени уже не было, все кончилось. Потом… Да, время было неспокойное, чего и говорить, Бурк далеко, в провинциях шатание. Девятый Легион сжег королевские штандарты, занял понтонные мосты и никого не пропускал на левый берег — Рыжий перебрался вплавь. А там Холлвилл лежал в еще дымящихся развалинах, мятежники ушли, и губернатор злобствовал — хватали всех подряд и отправляли на принудительные восстановительные работы, в основном земляные. Но Рыжий исхитрился, проскользнул через заградкордоны, и, сойдя с тракта, углубился в лес. Шел лесом, постоянно прятался. И только уже в Гольстоне, в трех днях пути от Бурка, наконец началась настоящая власть. Но зато там, где власть, там йорам нет места, а если же и есть, так только на столбах — в щедро намыленных веревочных ремнях и с языками на плечо. И, значит, если хочешь пробираться дальше…
Ладно! Пусть так! И он пошел к старьевщику. Конечно, тот его бессовестно обжулил: за пояс и ремень он предложил одну короткую дырявую попонку и всего пять монет — серебряных, обкусанных. Сказал:
— А больше вам зачем? Скромнее надо быть. А я и без того сильно рискую. Вот донесут квартальному, и что тогда? Мне — из-за вас — на столб?
Рыжий не стал с ним спорить, согласился. Переоделся, поблагодарил за помощь и вышел. Теперь на вид он был простым крестьянином, подавшимся на промыслы — по Тракту, в Бурк. Шел, скромно опустив глаза, сходил перед повозками в канавы, поклоны бил, спал, где придется, голодал. Зато уже на третий день…
Нет, даже раньше — проснулся еще затемно, вскочил и побежал — уже не по обочине, а по камням, — и не измотом, а уже почти догоном — пристал к толпе таких же, как и он, безродных и бездомных бродяг, в воротах заплатил налог…
Глава вторая — БАШНЯ СЕМИ ПЕЧАЛЕЙ
И вот он, долгожданный Бурк! Кирпичные дома в четыре, пять и даже больше этажей. Кругом снует народ, грохочут экипажи. Пыль, теснота, крик попрошаек, зазывал, визг, ругань, смех. Рыжий попятился, зажмурился. Его толкнули — раз, другой…
И он пошел — вначале вдоль стены, потом, немного осмелев, свернул, перебежал за экипажем, опять свернул, взбежал по лестнице, потом спустился по фонарному столбу; толкался, прыгал, продирался, смотрел по сторонам и, наконец, сообразил, где это он находится. Да, это Мелкие Ряды, а вот и улица Жестянщиков, а дальше — Главные Весы, Парламент, Резиденция — все в точности, как в Книге. Это сразу его успокоило. Рыжий сел на бордюр, посидел, унял волнение и снова пошел дальше. Внимательно смотрел по сторонам, запоминал: ломбард, тряпичная, меняльная контора, храм, сукновальня, ювелир, опять тряпичная, пекарня… Так он ходил, петлял по городу, потом, проголодавшись, зашел в дешевую костярню, пообедал, потом опять ходил, смотрел, запоминал…
И снова оказался возле храма. Был будний день, толпа спешила мимо. Он постоял возле двери, подумал… И вошел. Прошел, стараясь не шуметь, в центральный неф и замер у колонны. Осмотрелся. На стенах — лики, росписи. Курились благовония, мерцали свечи… И — никого: скамьи были пусты. Лишь впереди, на возвышении, зурр в черном одеянии стоял у кафедры, читал — чуть слышно, неразборчиво. Рыжий прислушался — «Видения Стоокого», часть третья, «Очищение». Стоокий — это их кумир. Он говорил, будто ни Солнце, ни Луна, ни даже Космос, а именно наша Земля — вот что основа жизни. А Океан, который окружает нас, — то смерть. А Досточтимый, тот, напротив, утверждает, что жизнь пришла из вод. Но Досточтимый пишет для немногих, а прочие… тем вовсе все равно. Вот храм — он пуст, в нем только зурр и ты. Зурр говорит: Земля не продается и не покупается, Земля, как жизнь, — для всех, так нас учил Стоокий. И что с того? В храм ходят только дети и старухи. Ну, или еще любопытные. А нужно, чтобы было… Как? А, вспомнил! И Рыжий подошел к стене, прочел шестой завет — не верил, но прочел, — задул свечу и вышел из храма.
И снова он бродил по городу, рассматривал его и молча удивлялся, потом, устав, сидел на лавке у фонтана, смотрел на голубей, на облака. Потом в толпе зевак стоял у Резиденции и наблюдал за сменой караула. Гвардейцы — сытые, в надраенных кольчужках, в высоких шлемах с перьями маршировали по плацу, кричали «Арра! Арра!». Шаг у них был хорош, и выправка вполне достойная. Правда, в шестой шеренге дважды засбоили, в седьмой ремень был недотянут. Но это — так, пустяк. Потом…
Часы ударили семь раз, и загремели барабаны, запели трубы — и толпа отхлынула. Вышел герольд, весь в позументах, заорал:
— Пади! Пади!
Все пали. Раскрылись золоченые ворота, и выехал один… второй… третий, четвертый, пятый экипаж. На пятом ехал сам король. Был он в пушистой белой мантии и золотой, густо усыпанной брильянтами короне. Толпа при виде короля кричала, ликовала. Король едва заметно улыбался, подслеповато щурился, кивал. Седой, трясущийся. И, говорят, уже почти не ходит. А прежде, князь рассказывал…
Проехали. Они, как говорят в толпе, спешат на эрл-прием в Лампическом дворце; там будут чествовать победу над Девятым Легионом. Крактель Четвертый — долгих ему лет — раздаст особо отличившимся награды, примет послов, а после будет бал и фейерверк…
Зеваки стали понемногу расходиться. И он пошел. На улицах уже горели фонари. Прохожих становилось меньше, меньше, меньше, а мостовые уже и щербатее. Вот и совсем брусчатка кончилась. Где это он? А! Да — это Гусиная застава. Канавы, грязь. Напротив — серый дом. Это ночлежка для сомнительных. Годится. Он вошел.
Р-ра, ну и ну! Смрад, чад! Натоптано, накурено. И ко всему еще темно. Хозяйка — в рваном чепчике, дородная — лежала у себя за загородкой и отказалась принимать.
— Пьяна! — шепнул ее подхватный. — Как грязь пьяна! Не обессудьте, господин. Деньги вперед, и я…
Он заплатил. Подхватный — пегий шустрый малый — провел его по лестнице на самый верх, под крышу, и спросил:
— Вам эту или эту?
— А лучше где?
— Конечно, здесь. Дверь крепче. И окно поуже. Народ-то у нас, сами понимаете…
Он согласился. И вселился. То есть вошел, закрыл за собой дверь и осмотрелся, и прислушался. Слева, за стенкой, пели, справа было тихо. А здесь что? Так: стул, табурет, продавленный пуфарь. Да и еще на подоконнике: кружка, миска, объедок свечи. А всего это так: три шага в ширину и пять шагов в длину. Рыжий немного походил по комнате, потом зажег свечу, придвинул табурет к окну, сел и задумался…
Не думалось. Тогда Рыжий зажмурился, представил себе Книгу и начал ее мысленно листать. Листал, листал… Еще сильней задумался. Еще бы! В Книге о Башне говорилось очень скупо и туманно. Ее, так было сказано, так просто не найти. Она не скрыта — вовсе нет; ты просто можешь каждый день ходить мимо нее и не заметишь, что вот она перед тобой — стоит и ждет тебя. А может, и не ждет. Так что искать ее, надеяться…
Гм! Да! Он встал, прошел к двери, закрылся на крючок, лег, слушал крики за стеной, бой городских часов…
Так и уснул. Утром позавтракал внизу и познакомился с хозяйкой, еще раз дал залог, ибо подхватный утверждал, что денег он вчера не брал; нагло смотрел в глаза и повторял: «Чист, как слеза! Чист, как слеза!» Пусть так! Рыжий позавтракал, ушел. Весь день бродил по городу и убеждал себя, что ходит просто так; он ничего не ищет, а только смотрит и запоминает — из любопытства, вот и все. А Башня может быть и не из камня, а вообще одна метафора, так разве стал бы я ее… И он ходил, болтался, просто так. День. Пять. Нотариус. Ошейная. Меняльная. Костярня. Шум, гам. Квартал, еще квартал… Ну а под вечер, сбив стопы, Рыжий всегда спешил на улицу Стекольщиков и заходил в книжный подвал. Там было тихо и прохладно. Старик, сидевший у двери, приветливо кивал ему и спрашивал:
— Чего?
А Рыжий отвечал:
— На ваше усмотрение.
Потом брал поданную книгу, садился в угол и читал.
…Когда он в первый раз пришел в этот подвал, старик долго смотрел на его серую попону, а после, мягко улыбнувшись, предложил «Стихи», но Рыжий сразу отказался. Потом был «Сонник», «Уши следопыта», «Двенадцать юных дев», «Записки тамады»… Рыжий брал книгу, открывал, читал заглавный лист и морщился. Тогда старик не выдержал, спросил:
— А вы хоть сами знаете, что ищете?
— Да, — твердо сказал Рыжий, — знаю. Вот я в последний раз читал «Книгу Всех Знаний» Досточтимого. И мне понравилось.
— О! — удивленно воскликнул старик. — Даже так! И дочитали до конца?
— Конечно.
Старик покачал головой, помолчал и сказал:
— Ну а в шестнадцатой главе, параграф третий, часть восьмая…
Рыжий победно усмехнулся и ответил:
— Там сказано: «Иные же убеждены, что мир непознаваем».
Старик задумался и отвернулся. В подвале было много книг — на полках, на полу и на столах… И всего трое посетителей. Один, должно быть из военных, сидел с погасшею трубкой в зубах, смотрел в подслеповатое окно и думал о чем-то своем. Стряпчий — худой, взъерошенный — листал толстенный альманах, зевал и щурился. И лишь девица в чепчике была по-настоящему увлечена: смешно склонив голову, она перерисовывала модную картинку. Старик вздохнул и, повернувшись к Рыжему, спросил:
— А вы откуда будете?
— Издалека. Проездом.
Старик кивнул и отошел к стене, долго искал, смотрел на корешки… а после подал книгу и сказал:
— Вот, полистайте. Думаю, понравится.
Понравилось. Читал до темноты. «Трактат о четырех стихиях» Рентолаунта. А уходя, оставил на столе монету и сказал:
— До завтра.
Старик кивнул в ответ и что-то проворчал… но что — нельзя было расслышать.
И с той поры, лишь только начинали надвигаться сумерки, Рыжий спешил на улицу Стекольщиков. Теперь старик встречал его как старого знакомого, усаживал за лучший стол и даже иногда вступал с ним в беседы — о новостях по городу, погоде, ценах и о прочих пустяках. А днем…
Уже пять дней прошло, как он явился в Бурк, а чуда так и не случилось. Да Рыжий и не ждал его, а просто так ходил и любопытствовал. Читал. А на шестой день, как проснулся, Рыжий вскочил… и сел, и зло зевнул. Р-ра, вспомнилось! Вчера старик сказал ему:
— Вот, я вам приготовил «Размышления», труд Гернастейна Чермного о Первосиле, духе Равновесия. Прелюбопытно…
Да! Без всякого сомнения. Вот разве что… Рыжий похлопал себя по карманам и снова зевнул. Шерсть вздыбилась; оскалился… И все-таки сдержал себя, спустился вниз, позавтракал — сказал, что вечером расплатится, — и вышел.
Шел, не смотрел по сторонам. Пришел на Биржу. Биржа — это у них такой высокий желтый дом с колоннами. Там он сперва долго слонялся по двору среди шумящей, спорящей, обтрепанной толпы, порой присаживался, слушал и прикидывал… и лишь потом встал в очередь, дошел до кабинета, назвался Ловчером, сержантом из Тримтака: уволен вчистую, согласно собственному выкупу. Чин записал его в журнал, снял отпечатки лап и прикуса, выдал жетон, отправил на раздачу — там проверяли силу и сноровку. Рыжий проверился — брал камни, поднимал, подбрасывал, прыгал на стену, лазал по веревке — и был записан грузчиком на стройку. Строителям платили хорошо, и потому он сразу согласился, спустился вниз, в распределитель, и там его зачислили в артель на мельницу при маслобойной фабрике. И там Рыжий полмесяца таскал на верхотуру кирпичи, давал две нормы, не скулил, не выпивал, не дрался, не прогуливал. И вообще, компаний не водил, ни дурных, ни полезных, а больше все молчал. Его приметили, надбавили оклад. Потом узнали, что он грамотен, — поставили десятником. Потом, зимой уже учетчиком. И он опять, как и когда-то в Дымске, считал без косточек, в уме, и помнил все раскладки. Ему давали дачи — он не брал, звали к столу — не шел. В шесть вечера вставал, одергивал лантер — и к старику. Читал. Потом стал делать выписки. Чертил колонны, портики, рассчитывал фундаменты. Старик молчал. И он молчал. Придя домой, с соседями почти что не общался. Да и о чем бы с ними говорил?! Он в кубик не играл, не пил, в цирк не ходил, в долг не давал — копил. А накопив, врезал дверной замок, поставил в комнате сервант, повесил зеркало. Выписывал газету. И как-то раз прочел, что в Дымске все спокойно; похода не было — ни в Лес, ни в Горскую Страну, — а был лишь пир по случаю Большого Примирения. Прочел… и равнодушно улыбнулся. Встал, посмотрел в окно. Пруд, дыни, карта на стене и Книга в кожаном мешке, и заговор, и Зыбь — когда все это было? И было ли? Вот князь, он так любил порассуждать о том, что состоит в родстве с самим Крактелем, который свою дочь, любимую Айли… А здесь над нами все смеются! Айли — дочь не наследная, а по любви, таких у короля… А сам король? Уже почти не выезжает. Эрн, старший принц крови, вчера сказал в Парламенте…
А впрочем, что тебе до этого? Там, в Дымске, грызлись, здесь — ничуть не лучше. И так везде. Всегда. На то и Равновесие. И Башни нет. А мельница уже построена. Теперь берут подряд на Третий Акведук, и там тебя назначат уже обером и выдадут на обера патент…
А дальше что?! И он вскочил и заходил по комнате. Час, два ходил и тяжело сопел, потом не выдержал, открыл сервант, налил себе душистых капель, выпил, успокоился. Лег…
Нет, не помогло. Так и лежал всю ночь с открытыми глазами. Там, в Дымске, — не мое, здесь, в Бурке, — не мое. А где тогда мое и что тогда мое? Ведь Башни нет! Она придумана затем…
Зачем?! Вскочил…
А было уже утро. Оделся, вышел, не позавтракав, пошел.
Шел, шел…
Подвал! Как ты попал сюда? Ведь ты не собирался! Но если так…
Спустился. Поприветствовал. Старик, конечно, был немало удивлен, но сделал вид, что будто ничего такого не случилось. Провел к столу, дал книгу, сел напротив. Рыжий взял книгу, развернул. На титуле — «О крепости конструкций». Сразу поморщился. Закрыл.
— Что, я не угадал? — спросил старик.
— Н-ну, как сказать…
— А так. Как есть.
Старик смотрел ему в глаза и улыбался. Рыжий молчал. В подвале было тихо. Пыль, солнечные блики на столах. По улице проехал экипаж. Прошел разносчик, прокричал: «Горячие! Горячие!». И снова тишина. Утром никто в подвал не заявляется, все заняты…
И вдруг старик сказал:
— Мы с вами уже скоро год как знакомы. А так до сих пор один другому не представились. А ведь давно пора! Так вот, меня зовут Сэнтей. А вас?
— Ловчер, — заученно ответил Рыжий. — Я… это… Я учетчик на строительстве.
— А раньше?
— Хм… Сержант! Двойной Тримтакский Легион. Уволен вчистую.
— Наслышан, — и Сэнтей кивнул. — А если… будем искренни! — и тут он как-то странно улыбнулся. — Да вы только попробуйте! Скажите, кем вы были раньше. Ведь я же вам не враг. И мы одни, — глаза их встретились. — Ну!.. Ну!
Но Рыжий отвернулся. Тогда Сэнтей, немного помолчав, тихо сказал:
— Хотите, я за вас отвечу?
— Вы?! — удивился Рыжий.
— Да, — по-прежнему тихо и совершенно спокойно ответил Сэнтей. — Так вот, вы не сержант, а много, много выше по званию. В прошлом году вы прибыли сюда на поиски… не будем говорить, чего, но не нашли того, что искали. И разуверились в себе. И вообще, просто устали. Ну что ж, коли так, тогда вам пора возвращаться обратно. Тем более что там, откуда вы пришли, вас ждут.
— Что?! — Рыжий подскочил.
— Да, это именно так, — невозмутимо подтвердил Сэнтей, — вас ждут. Не верите? Так посмотрите… Да, мне в глаза. В глаза. В глаза, я говорю! Сэнтей уже почти кричал, и…
Где он?! Нет его — исчез! Зато вместо него…
Дворец поменьше княжьего, да и крыльцо пониже. А на крыльце…
Стоит Урван! И он кричит:
— Вот это встреча! Ар-р! Наконец-то вернулся! — и побежал с крыльца…
А Рыжий отшатнулся, осмотрелся. Да, площадь, улицы — это и впрямь Хвостов. Пруд, дыни, пасека — все без обмана… И, главное — Урван! Возле тебя — совсем. И он хотел было обнять тебя, да не решился. Сказал только:
— Ух, как я рад! А мы-то уже думали…
И замолчал. И ты молчал, ты весь дрожал, тебя качало. Не удержался сел. А он, Урван, стоял, сопел, переминался на стопах… И наконец сказал:
— Прости меня. Я тогда… глупо, да, совсем неумно поступил. Но, понимаешь, здесь… А! После объясню. Пойдем, передохнешь, а утром — сразу в Дымск. Вдвоем! Князь ждет тебя, он так и не поверил в то, что ты погиб, что в Зыби утонул, а ведь туда вели твои следы… Ар-р! Что с тобой? Ар-р! Ар-р!..
И все исчезло. Рухнуло. Пропало. Рыжий лежал возле стола. Сэнтей сидел над ним, осторожно тряс за плечо и приговаривал:
— Да что с тобой? Да что с тобой? Очнись!
Рыжий очнулся. Сразу встал. Перед глазами все плывет… Сэнтей спросил:
— Ну, видел?
— Д-да.
— И что?
— Твой… призрак… Да, конечно, просто призрак! Так вот: твой призрак обознался! Я никакой не Рыжий, я…
— Ловчер?
— Нет.
— А кто тогда?
— Никто! — и Рыжий сел к стене и перевел дыхание. — Я — это я, и больше ничего.
— Так, хорошо, — Сэнтей прищурился. — Ты — это просто ты. Что было умерло. Жить, как другие, ты не хочешь. Да и не можешь, кстати, да! Но зато у тебя есть одна мечта. Ведь это так?
— Почти. Была мечта. Уже была.
— Но почему же? Она есть! Иначе б ты давно уже вернулся в Дымск или пришел в Коллегию и получил патент на обера. Но Башня не дает тебе покоя…
— Башни нет!
— Есть.
— Где?
— О! — и Сэнтей даже причмокнул. — Найти ее — это великая удача. Мало кому такое удается. Но, думаю, внук Старой Гры… Я не ошибся?
Рыжий не ответил.
— Н-ну, хорошо, — сказал Сэнтей. — Договорились раз и навсегда: что было — умерло. И вообще, а было ли оно? Конечно, не было. И, значит, так: ты — Ловчер, я — Сэнтей. И ты пришел ко мне, спросил, а я тебе ответил: да, ты войдешь в Башню Семи Печалей, но лишь тогда, когда придет твой срок. Ну а пока… Вчера мне дали одну книгу. В ней шесть подпорченных страниц. Так вот, пойдем, я дам тебе пергамент и перо. Ты будешь переписывать, а я буду платить тебе за это. Так — каждый день. Годится?
— … Да.
— Вот и прекрасно!
Глава третья — МАСТЕР ДРЭМ
И началась совсем другая жизнь. Утром, позавтракав, Рыжий, ни на что не отвлекаясь, сразу спешил в книжный подвал на улицу Стекольщиков. Там, в задней комнате, он садился за конторку и своим крупным, аккуратным почерком переписывал пришедшие в негодность книги. Работал он весьма добросовестно и потому, случалось, зарабатывал по целых три монеты в день, то есть ничуть не меньше, чем учетчиком. А вечером читал, теперь уже бесплатно. И книги Рыжий брал уже не с полок в общем зале, а здесь, рядом с конторкой, в маленьком железном шкафу, укромно стоявшем за массивными напольными часами. Сэнтей дал ему ключ от шкафа и сказал:
— Читай все, что тебе понравится, но только в зал не выноси.
— Но почему это? — не понял Рыжий. — Ведь книги здесь совершенно такие же, как и там.
— Да, это так, — согласился Сэнтей. — Но, тем не менее, теперь привыкай вот к такому порядку. Так надо. И вообще, отныне будет так: все, о чем ты прочтешь, будешь пересказывать только мне одному. А почему это так, скажу одно: надо!
И так оно с того дня и было. Рыжий вначале переписывал, потом читал, потом пересказывал. Сэнтей его внимательно выслушивал, кивал… А после, улыбаясь, возражал, опровергал, доказывал обратное. А Рыжий должен был не соглашаться с ним и — только обоснованно — отстаивать свое. А если это у него не получалось, тогда Сэнтей подбадривал его, подсказывал… и снова возражал. Лежал на пуфаре, задумчиво прищурившись, смотрел на потолок и рассуждал — часами. Спор для него был как любимая игра, как для кого-то кубик или шу. Спор, говорил он, — это высшее познание. Спор — это жизнь, жизнь — это спор, и, значит, все, что окружает нас, достойно спора, то есть переосмысления. И он, Сэнтей, действительно мог спорить обо всем…
И только один раз, заслышав о Создателе, он тотчас помрачнел, сказал:
— А вот об этом лучше помолчим. Не нам о нем судить.
А после встал и подошел к столу, зажег огонь в спиртовке. Он жил один и не держал прислуги. Он и готовил себе сам, и сам же за собою прибирал. Когда Рыжий спросил, откуда он узнал о его дымском прошлом, Сэнтей ответил так:
— Прочел. В твоих глазах… — а после рассмеялся и добавил: — Не бойся, это шутка. Ведь ты же знаешь, что читать в чужих глазах запрещено законом.
И замолчал, а Рыжий не посмел его подробнее об этом расспрашивать. Лег, засопел. Сэнтей ни разу не грозил ему, ни в чем не упрекал. И вообще, движения его были всегда неторопливые, спокойные, речь тихая. Даже с разносчиком, который приносил ему продукты и брал втридорога, Сэнтей был неизменно вежлив и учтив. И, тем не менее, когда Сэнтей вдруг замолкал и уходил в себя, Рыжий не смел его тревожить. И это вовсе был не страх, не почитание, а нечто ему прежде совершенно незнакомое. Или давно забытое. Ибо, быть может, так же в Дымске на реке, когда он видел подо льдом Подледного…
Нет, то было просто обычное видение, явный обман. А вот зато потом, когда он словно бы опять попал в Хвостов к Урвану, там вроде бы… А там что было, а? Рыжий задумался…
И тут вдруг Сэнтей, как будто прочтя его мысли, сказал:
— А так оно тогда бы и случилось. Это верно! Ибо тебе тогда привиделась твоя возможная Судьба. Но ты ее не выбрал, отказался.
— А если бы…
Сэнтей пожал плечами, улыбнулся…
Но тут вдруг раздался стук в дверь, Сэнтей пошел, открыл, к нему явился посетитель…
Да, кстати, посетители! Там, в задней комнате, они появлялись довольно-таки часто — которые из них были с письмом, а кто и просто с новой книгой. Пришедшие, как правило, молчали, а если и вступали в разговор, так только с Сэнтеем, и при этом изъяснялись они весьма кратко и намеренно туманно. Кто это были такие и зачем они к нему приходили, Сэнтей не объяснял, а только иногда просил у Рыжего:
— Побудь там, в зале, за меня. Я задержусь. У меня гость.
И тогда Рыжий выходил в общий зал, стоял у полок, выдавал заказы. Потом Сэнтей сменял его, и Рыжий возвращался за конторку и писал. До обеда. Обедали они наскоро, просто. После обеда он читал. А вечером Сэнтей опять расспрашивал его, и Рыжий излагал прочтенное и делал выводы, и спорил — не распаляясь, не сердясь, искал изъяны в тех логических цепочках, которые выстраивал Сэнтей. И тот все чаще стал хвалить его… А Рыжий с каждым днем все реже, реже улыбался. Так шли недели, месяцы. Когда же Рыжий, наконец не выдержав, обмолвился о Башне, Сэнтей едва заметно улыбнулся и сказал:
— Я думаю, что ты скоро найдешь ее.
— А скоро — это как?
— Все в свой черед. Пиши. Ищи.
И он писал. Читал. И обсуждал прочтенное. А возвратясь домой, лежал и вспоминал о том, что было узнано им за день, вникал, сопоставлял… Но все было напрасно. А утром, приходя в подвал, он уже не с любопытством, а с явным раздражением смотрел на стопки книг. Вон, думал, сколько их! И в каждой — нечто новое: там — вечный двигатель, там — философский камень, там — чудо-эликсир, там… там… А Башня где? И кто такие эти посетители? А сам он теперь кто? Да, похоже, никто! Ведь он даже собственное «я» и то уже не чувствует. И что вокруг него творится, ему уже тоже почти безразлично. Умер Крактель, и в Бурке разразилась смута — пять принцев крови поднялись, толпы на улицах, разбой, дороговизна, хозяйка говорит: «Закроюсь, все продам, уеду», и ходит в храм, и ставит, ставит свечи, и молится, и молится, сейчас так поступают многие… А он по-прежнему Стоокому не верит. Стоокий возвестил: Земля — основа жизни, но это ведь не так; Земля и вообще весь мир — это создание Создателя. А о Создателе…
Сэнтей о нем не говорил и даже слышать о нем не хотел, и всякий разговор на эту тему немедля резко пресекал. А вот зато мастер Дрэм…
Дрэм был одним из посетителей. Появился он так: вошел, держа под мышкой книгу, кивнул вместо приветствия и сразу сел. Насупился, молчал. Рыжий поднялся и хотел было уйти — ведь он всегда так поступал, когда являлись вот такие мрачные гости, Сэнтей о том просил… Но тут Сэнтей вдруг возразил:
— О, нет! Сиди, сиди! На этот раз это к тебе, а не ко мне.
— Как? — не поверил Рыжий.
— Так. Дело в том, что мастер Дрэм, — и тут Сэнтей кивнул на посетителя, — он сейчас пишет труд о северных народах. И ему хотелось бы кое-что в этом вопросе уточнить. Он надеется, что ты ему в этом поможешь. Не правда ли?
Дрэм утвердительно кивнул. Потом сухо, напыщенно сказал:
— Не беспокойтесь, юноша. От вас мне будет нужен только один Дымск. Его законодательство. Налоги. Быт. Обряды. Вы, говорят…
— Да! — торопливо перебил его Сэнтей. — Это верно. Мой ученик бывал там. И не раз. Торговля, по делам… Ну, Ловчер, что ты на это скажешь? Может, действительно поможешь, а?
Рыжий молчал, смотрел на посетителя. Тот был сухой, в подпалинах, надменный, в его глазах так и сверкала ничем не прикрытая насмешка. Ар-р! Р-ра! Ну, хорошо, приятель, хор-рошо! И Рыжий приосанился, взял поданную Дрэмом книгу и с лязгом расстегнул ее застежки, раскрыл на титуле. Там было золотом начертано: «О варварах». Рыжий скривился, закусил губу и сделал вид, будто задумался… Сэнтей неслышно встал и вышел из комнаты. Дрэм пересел напротив, ближе к Рыжему, и подсказал:
— Равнина — это сто двадцатая страница. Там еще есть закладка.
Рыжий нашел закладку, а после резко развернул, где надо, и прочел: «Сия страна, что расположена на севере, за Спасительной Зыбью, суть первобытная монархия с зачатками примитивного народоуправления. Язычники. Климат умеренно-континентальный. Осадки: в январе…» И далее, и далее, и далее: красивым, ровным почерком, убористо, доходчиво. С примерами и ссылками, таблицами, обмером черепов, народными приметами, рецептами и ценами на ярмарках — на свинов, на оружие. И все как есть: ошибок не было ни в цифрах, ни в названиях, ни в фактах. И тем не менее… Да, дикари конечно же, да, бедность, да, жестокость. Да. Да. И это — да. Но сбой — ты чуял — был, сбой был чудовищный, а вот найти его тебе никак не удавалось. И только в заключении… вот этот вот абзац… Да, в нем вся суть. Позиция. Ужасная! Но, правда, о позиции не спорят; Сэнтей учил, что это неэтично. И все-таки…
Рыжий спокойно, медленно перевернул последнюю страницу и отодвинул труд на край стола. Затем, повременив, совершенно спокойно сказал:
— Нет, это не годится.
— Что?! — хрипло выдохнул Дрэм. Встал, ощетинился…
— Да, не годится. Все, — уверенным и ровным голосом продолжил Рыжий. Вы пишете о варварах. И утверждаете, что дикость — это данность. И константа. А я же говорю: Создатель создал нас всех равными. Другое дело, что впоследствии…
— Создатель! — гневно рассмеялся Дрэм. — Ты рассуждаешь о нем так, как будто ты сам уже в Башне. А ты…
И осекся. Помолчал. Потом жестко сказал:
— Что есть Создатель? Только аксиома, которую нам, увы, не дано постигнуть. Но зато мы, цивилизованное общество, это прекрасно понимаем и потому не тратим напрасных усилий на попытку добиться невозможного. А варвары, они и есть варвары. Вот, скажем, твой народ — дикарь и дикарем останется. А ты… Ты, их бывший первый воевода, ты — это просто досадное исключение, которое как раз и подтверждает данное правило. И потому ты исключение и не ужился на Равнине, пришел сюда, точнее, прибежал, приполз. И потому… Гм! Да! Вот я и думаю, а достоин ли ты большего?
Дрэм замолчал. Смотрел на Рыжего — внимательно, пронзительно. Рыжий, не выдержав, спросил:
— Вы, значит, знаете, кто я?
— Мы знаем все.
— Кто это «мы»?
Дрэм не ответил, продолжал:
— Мы знаем все. Мы — это мы, а ты пока что еще никто. Правда, Сэнтей хвалил тебя. И я… Вот я пришел и наблюдал тебя, читал тебя, как ты читаешь книгу. Ну а теперь… Дело за малым. Ты не бойся. От этого еще никто не умирал. Другое дело, что…
Дрэм резко встал и поднял лапу, что-то прошептал…
И сразу наступила кромешная тьма! И все — пол, стены, потолок — в одно мгновение исчезло! Ты провалился вниз…
Но не упал: застыл, висел в кромешной тьме. И — страх: что это, где ты, как?!
— Дрэм! — крикнул ты.
И тотчас боль — невыносимая — вдруг рванула тебя изнутри! И шкура твоя лопнула, и затрещали твои кости, и ты… Ты начал разрываться на куски! Вот — лапы прочь! Вот — тело. Голова! И вот уже только одни глаза остались от тебя, и те глаза смотрели в темноту. И еще мысль была — мысль, грохотала, словно колокол: «что?!», «что?!» И…
Вдруг откуда-то издалека раздался голос Дрэма:
— Видишь? Видишь?! Ну, отвечай! Не то…
И ты…
Увидел шар. В кромешной тьме плыл шар — голубоватый. А где-то вдалеке едва искрились ослепительные точки. Но эти точки оставались далеко, а шар все приближался, приближался к тебе. В одних местах он, этот странный шар, был едва затянут легкой дымкой, в других темнел бушующими пятнами, и лишь вверху — быть может, это только показалось — ты различил… И крикнул:
— Вижу! Вижу!
А вот что именно ты видел, ты об этом сразу забыл. Зато очнулся — там же, в той же комнате. А Дрэма там уже не было. И книги его не было. Значит, он совсем уже ушел…
А это что? Ты торопливо разжал лапу…
И увидел в ней шар. Точнее, шарик. Белый, костяной, шероховатый. Ты повертел его — ни надписей на нем, ни знаков. Тогда ты встал и подошел к столу. Сел, попытался думать, но не получилось. Обрывки мыслей, страх… А после не осталось даже страха. Сидел, зажав в лапе шар, смотрел перед собой. И так час, два прошло. Вот и спиртовка уже догорела. Тьма. Тишина…
Бесшумно растворилась дверь, и в комнату вошел Сэнтей. Прошел и сел напротив Рыжего. Зевнул, прикрывшись лапой. Подождал. Потом спросил:
— Он ушел?
Рыжий кивнул. Сэнтей опять спросил:
— Что передал?
Рыжий разжал кулак — шар лег на стол и покатился. Замер. Сэнтей смотрел на шар и улыбался. А Рыжий… прошептал:
— Я больше так не могу. Мне очень душно. Я словно в подземелье…
— О, нет! — глухо сказал Сэнтей. — Ты просто очень долго шел и наконец пришел. Теперь ты в Башне. Да, ты пока на самом ее дне. Да, Семь Печалей давят на тебя. И тебе сейчас очень тяжело, я знаю. Но знай и ты, что вскорости… Э, что это? Я вижу, ты не рад… Рыжий, очнись! Ты уже в Башне, понимаешь? Ты наконец нашел ее. Она тебе открылась, теперь ты с нами, ты — наш брат, мы — твоя жизнь!.. Ну, что с тобой?
Но Рыжий ничего ему на это не ответил. Встал и прошел по комнате. Потрогал лапой стену, шкаф. Достал одну, вторую книгу. Отложил. Сел и зажмурился. Гудела голова. Сэнтей стоял над ним и говорил:
— Вставай. Пойдем, я уложу тебя. Дам трав…
— Нет-нет, домой! — решительно воскликнул Рыжий. — Только домой, — и встал, и как слепой пошел к двери.
Сэнтей сказал:
— Завтра утром я жду тебя. Жду, слышишь меня, брат!?
Рыжий кивнул. И вышел — в тьму. Кромешную.
Глава четвертая — БРАТ
Как он пришел тогда к себе, как лег — Рыжий об этом ничего не помнил. Проснулся же он как всегда рано, с рассветом. И голова его была ясна и совсем не болела, и в теле у него была легкость. И вообще, он чувствовал себя так, как будто вчера с ним ничего особенного и не случалось. А вот, правда, вставать с постели ему ну совершенно не хотелось! Да и зачем было вставать? Рыжий зевнул и потянулся. Теперь-то ему спешить некуда. И он лежал, помаргивал, смотрел на потолок. Потом… не выдержал и сунул лапу под подушку…
Шар. Маленький, шероховатый. Рыжий достал его, еще раз рассмотрел теперь уже при ярком свете. Шар был как шар, дети таким играют в лунки. И в то же время это знак. Да еще какой! Но об этом потом. Рыжий убрал шар под подушку, лег и опять лежал. Ну вот, лениво думал он, теперь его мечта сбылась, он наконец-то в Башне. То есть он как бы здесь, у себя в комнате и в то же время он там. А Семь Печалей… нет, они уже не давят на него. Но, правда, нет в нем и радости. Есть только одно чувство. Но какое? Чувство того, что счастье — это только один краткий миг? Слишком банально. И не то. А что тогда? Рыжий рассерженно зевнул, встал, походил по комнате. После умылся. После стоял у зеркала. То хмурился, то сам себе кивал, то улыбался… Глупо! И Рыжий отвернулся. Надел лантер, браслет. Вновь заходил: три шага — так, пять — так. Остановился. Сел на пуфарь, опять засунул лапу под подушку… И тотчас же отдернул. Сидел, смотрел в окно. Там — черепица, трубы, облака. Мир — это шар, а не диск, и не стоит на одном месте, а летит в бездонном и бескрайнем Космосе, вот что ему вчера открылось, вот…
Р-ра! Довольно, время! И Рыжий вышел в коридор, спустился вниз, в кормежную, сел во главе стола и к завтраку велел подать вина — чего, кстати, давно уже себе не позволял. Хозяйка с удивлением смотрела на него. Он чинно ел, со смаком запивал — явно не спешил. Она не уходила. Потом присела рядом с ним и доверительно спросила:
— Случилось что-нибудь?
— Нет, — улыбнулся он. — Я это так просто. Задумался.
— О чем?
— Так, обо всем.
Рыжий доел и положил на стол монету. Пошел к двери. Он чувствовал, что она смотрит ему вслед. Крикливая, дородная. Со всеми прочими она не церемонится, а с ним… Ну, да! Он улыбнулся. Да, эта фря, конечно не Юю. Правда, и ты, друг мой, тоже весьма-весьма не Дангер. Ты… Да, теперь ты в Башне, избранный, ты знаешь, что Земля…
Вот же привяжется! Какая ерунда! Он шел, лапы в карманы, не спешил. День был погожий, теплый. Толпа кругом. Крик, брань. Лязг экипажей. Попрошайки. Да, тут уже не очень-то! И Рыжий, как всегда, твердо расставив локти, опять толкался, продирался, порой уступал. Вот, думал, ты их всех умней, ты в Башне. А Башня — это что? Другим ее вовек не увидать, ибо она в твоей душе и говорить о ней нельзя, нужно молчать и жить, как все, ничем не выдавать себя, казаться таким же, как все, — примитивным, тупым. Ну а тогда, прости меня, зачем…
Р-ра! Глупости! Рыжий прибавил шагу, нервничал, поскрипывал зубами. Налево. Прямо, поворот. Под лестницу и в арку, потом еще раз поворот…
И вот пришел. Открыл, встал у порога. Сэнтей приветствовал его:
— Вот видишь, брат, все хорошо! Я ждал тебя. Пойдем.
Они прошли через еще пустой в такое время общий зал, вошли в свою рабочую комнату. Там Рыжий сел за конторку и сразу, по привычке, взялся за перо…
— Нет-нет! — сказал Сэнтей и засмеялся. — Забудь об этом. Мы же теперь оба уже в Башне. А те, кто в Башне, те не повторяют, а…
— Сами создают?
— Почти, — кивнул Сэнтей. — То есть, конечно, создают, но только не для всех. Ты, надеюсь, меня понимаешь?
— Да, кажется…
— Вот и прекрасно! Очень. Очень…
Сэнтей смотрел ему в глаза, о чем-то думал, сомневался… и наконец сказал:
— Да. Башня — это Башня. Я ж говорил, что ты когда-нибудь войдешь в нее. И я не ошибся. Ты… рад?
Рыжий молчал. Сэнтей, немного подождав, сказал:
— И правильно. Ведь что есть радость? Это — владение чем-либо, достижение, успокоение. А кто достигнет края Бесконечности? Кто успокоит, остановит Время? И потому здесь, в Башне, не бывает радости. Есть лишь печаль. Точнее, Семь Печалей.
— Семь? — криво усмехнулся Рыжий. — Только и всего?
— О нет, конечно же не семь, — Сэнтей заулыбался. — «Семь» — это просто дань традиции, привычное название, и не более того. На самом деле этих печалей, как ты прекрасно понимаешь, тоже бесконечное множество. Но самая главная из них, так называемая Великая Печаль… Ее суть состоит в том, что мы, жители Башни, не можем, точнее, не имеем права передать им, всем другим, все то, что нами в этой Башне создано или разведано, узнано. Ты спросишь, почему. Отвечу. Дело в том, что они — н-ну, все они, которые вне Башни, — они не понимают нас. И не могут понять. Это им не дано. Странно, не правда ли? На вид они как будто совершенно такие же, как и мы, но это только лишь на вид, а вот по своей сути, по своим возможностям они… совсем иные. Вот почему, я повторюсь, они не могут нас понять. И поэтому все, что мы здесь, в Башне, создаем, мы создаем лишь для своих, для братьев, и оставляем все в Башне. Теперь тебе понятно?
— Да, — нехотя ответил Рыжий. — Так что же получается? Что эта… как ее…Великая Печаль… она неразрешима?
— Да.
— И ты уверен в этом?
— Абсолютно уверен. Великая Печаль есть аксиома, на коей все и зиждется. Она гласит: есть мы, допущенные в Башню, а есть все остальные, другие, есть разум, а есть сила. Мир — двуедин, мир — это как весы; мы это одна их чаша, а все они — это другая. И наша главная задача заключается в том, чтобы содержать эти вселенские весы в покое — и тогда мир, в котором мы живем, будет стоять и здравствовать до той поры, пока в нем существует это Равновесие. Мы, Башня, то есть наша чаша, это очень хорошо понимаем и, как только можем, стараемся соблюдать величайшую осторожность. Но их, других, на другой чаше, все пребывает, пребывает, в них — сила, много сил; весы колеблются… Вот мы и ищем тех, кто обладает разумом, чтобы хоть как-нибудь сдержать, не дать перевернуть… Однако очень страшно ошибиться! Ведь если мы введем к себе, на нашу чашу, в нашу Башню, кого-нибудь из них, других, тогда… — И вздрогнул, озабоченно спросил: — Что с тобой опять?
Рыжий зажмурился. Тьма, искры, шар. Мир — это никакой не диск, и, значит, сотни книг, в которых это было сказано, — ложь и еще раз ложь! Так почему бы и теперь… Ох-х, голова горит! Ох-х, тьма!..
— Ну, что? — опять спросил Сэнтей, теперь уже сердито. — Может, воды?
— Н-нет, продолжай, — тихо, с трудом ответил Рыжий. — Все хорошо, я слушаю.
Сэнтей еще раз посмотрел на Рыжего — внимательно, очень внимательно и вновь заговорил:
— Так вот, мир двуедин. И жестко разделен — вот это нам, а это — им. Так, скажем, я читаю прошлое. Да, есть такой указ: «Читать нельзя». Но его надо понимать так, что это им, другим, читать нельзя. А тем, кто в Башне, можно. И то не всем. Хочешь пример? Пожалуйста. Вот, скажем, я узнал о том, кем ты был раньше, но я ведь на тебя никуда не доносил и, вообще, я же не вредил тебе и не искал для себя никаких выгод. Тем более что выгод в этой жизни нет… И, значит, если мне это известно, то есть если я верю в то, что выгод нет, то тогда я, ни для кого не опасный, могу читать чужое прошлое. Да и потом: а что такое прошлое? Оно прошло, исчезло безвозвратно, и, следовательно, изменить его уже нельзя, оно застыло в Вечном Равновесии. Вот если б в бу… Гм! Да! Но будущее я представить не могу. Даже свое — и то не в силах. А если так… Но все это пока не важно! Итак, твердо запомни вот что: мы — это мы, братья в Башне, а они — это все остальные. И пусть они себе живут, воюют, богатеют — там, за стеной, вне Башни, как хотят! Пусть думают, что счастье — это наивысшее благо, печаль — наистрашнейшая беда, и, значит… Да, это просто смешно повторять! Их жизнь — это сплошная суета, битва теней, обман. А на самом же деле запомни: мысль — вот где жизнь; мысль правит всем!..
Сэнтей вдруг замолчал, долго смотрел на Рыжего, потом сказал:
— Прости, я уклонился. Точнее, забежал вперед. Забыл, что ты, конечно, наш брат, но ты ведь пока что самый младший из нас. А для того чтобы ты как можно скорее возмужал, стал с нами равным, мы, старшие, должны тебе помочь найти себя. Ведь я же говорил: печалей — бесконечность, но каждый должен отыскать свою, сугубо индивидуальную печаль. А может, ты уже нашел ее? Ведь ты прочел здесь столько самых разных книг, мы их потом столько обсуждали… Хотя, конечно, то, что в этих книгах сказано да и к тому же что из них было почерпнуто… И все-таки… Скажи: ты нашел?
— Н-нет, — сказал Рыжий. — Я пока еще не знаю, — и попытался отвести взгляд…
Да не смог — глаза Сэнтея ему того не позволили. Тогда он заставил себя ни о чем не думать… Ну а потом, когда устал это делать, тогда стал просто повторять: «я не знаю, я не знаю, я не знаю…» Потом, немного успокоившись, он начал вспоминать прочтенное — из каждой книги по абзацу, вразнобой — лишь бы только не дать себе сосредоточиться на том, о чем Сэнтею знать совсем необязательно. Это, конечно, было очень тяжело…
Но вот наконец Сэнтей не выдержал и опустил глаза. Сказал:
— Да, может быть и так. Все может быть… Что ж, Башня велика. Значит, тогда иди, ищи! Ты, скажем, можешь обратиться к Дрэму, и он откроет тебе Всестроение. А можешь оставаться у меня, и я буду учить тебя уходу в прошлое — в свое или в чужое. Есть и другие братья. Нас ведь много… Ну, что ты выберешь?
Рыжий по-прежнему молчал.
— Так, так, — сказал Сэнтей. — Понятно. Ни прошлое, ни Всестроение тебя не привлекают… Но, повторяю, Башня велика и безгранична, и ты можешь бродить по ней, искать свою печаль всю жизнь, ибо спешить у нас не принято. Спешат только тогда, когда бегут за счастьем — вот, скажем, где-нибудь в Лесу в погоне за Убежищем. А здесь… Иди! Вверх два квартала, за костярню, под мост, через пустырь, и там будет стоять красный дом. На первом этаже вот так, — он показал, как именно, — так постучишь. А говорить: «Подхватного не ждали?» А этот дом забудь. Пока тебя не пригласят сюда. Понятно?!
Еще как! Только зачем теперь идти и что теперь искать, когда ты уже совершенно точно знаешь, что та печаль, которая тебя так привлекла, что… Ар-р! И что хоть Башня высока и безгранична, однако в ней…
Нет, ничего не говори! Иди. Жизнь — это суета и… Как он там еще сказал? А? Р-ра! И Рыжий резко встал и вышел.
Глава пятая — ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
И вот тот дом. Второй подъезд. Первый этаж. Над дверью вывеска — часы. Рыжий негромко, осторожно постучал. В ответ глухо послышалось:
— Войдите.
Он вытер стопы о гребенку и вошел. Да, это часовая мастерская: все вроде как у всех. На стенах, полках, стеллажах — часы, часы, часы. Разобранные, собранные, идущие, стоящие. Старых, новых конструкций. Большие, малые, изящные, простые. И — полумрак. Только в углу, над рабочим столом горит лампа. Там сидит мастер; такой лобастый, серый, низкорослый, с толстым моноклем на глазу. В монокле замер отблеск лампы. Монокль — словно огромный глаз; сверкающий, сверлящий…
Рыжий, прищурившись, спросил:
— Подхватного не ждали?
— Н-нет. Вовсе нет, — сухо ответил мастер и, опустивши голову, снова взялся за ремонт.
Монокль поблек. Тик-так, тик-так. Лобастый часовщик. Пинцет. Зубчатые колеса. Отвертка. Винтики. Магнит… И — неприязнь! Она была разлита в воздухе, она выталкивала прочь. Рыжий стоял, переминаясь на стопах, и чувствовал, как зло в нем вскипает, вскипает… Но нет! Сжав челюсти и уравняв дыхание, а после не спеша, с достоинством, Рыжий прошел к столу и сел напротив мастера. Тот недовольно засопел, медленно отодвинул в сторону разобранный механизм, снял монокль, тщательно протер его и, глядя Рыжему прямо в глаза, негромко, но настойчиво сказал:
— Вакансий нет. Я занят.
Глаза у мастера были бесцветные, слезливые, сплошь в красных лопнувших прожилках. Ар-р! Р-ра! И этот тип — тоже из Башни? Ладно!
— А я, — и Рыжий фыркнул, — я к вам ненадолго. Только спросить, куда мне дальше идти, и все.
— Как это «все»? — и мастер удивленно заморгал.
— А так, — жестко ответил Рыжий. — Вы мне не нравитесь.
— Ого! — и мастер замолчал, долго жевал губами, щурился… а после рассмеялся и воскликнул: — А вы мне — так наоборот! Не обижайтесь. Я сейчас. Вот только докручу.
И вновь надел монокль, склонился над часами. Поставил анкер, запустил. Часы затикали. Мастер прислушался… и сдвинул рычажок настройки. Потом еще. Еще… Вот он опять прислушался. Р-ра! Поразительно! Да как это здесь можно, в этом безумном тиканье со всех сторон, что-то понять, что-то настроить?
А мастер усмехнулся и спросил:
— Ну, как теперь?
— К-как будто хорошо, — растерянно ответил Рыжий.
— Тогда… вот вам монокль, вот инструмент. Давайте, приступайте!
— Но я…
— Давайте. Или уходите.
И вновь на Рыжего уставились глаза — бесцветные, слезливые. В них… Нет, в них уже теперь была не неприязнь — просто насмешка. А, даже так! И Рыжий, сдвинув брови, взял монокль, приладил его поудобнее, потом взял в одну лапу часы, во вторую отвертку, потом…
Вот так оно все началось! Потом пятнадцать дней подряд он разбирал и собирал часы разных конструкций. А мастер Эн, так звали этого лобастого, говаривал:
— Конечно, с виду все это — просто забава. Но привыкай, мой друг, учись. Кропотливость и точность — великое дело. Ну, и терпение. И слух…
А сам сидел в углу на корточках, поглядывал на Рыжего, порой давал ему советы, а то и просто разглагольствовал о разных пустяках. Пятнадцать дней Рыжий безропотно выслушивал его, пытался вникнуть в тайный смысл его суждений — но ровным счетом ничего даже мало-мальски интересного в них не находил. И злился. По вечерам, придя к себе в гостиницу, он плотно ужинал Эн не кормил его, да, впрочем, он и сам тоже не ел, а только говорил и говорил, и говорил без умолку… Так вот, придя в гостиницу, поужинав, Рыжий запирался у себя в комнате, ложился на пуфарь, брал какую-нибудь книгу и читал… Но мысли его путались, он быстро засыпал. Точнее, это был даже не сон, а так: упал, как провалился, потом сразу вскочил — а уже утро. И он опять спускался вниз, поспешно завтракал, хватая все подряд — и рысью к мастеру! А там опять монокль, отвертка, винтики, колесики. Тик-так, тик-так…
Но где это он? С кем? И, главное… Да, это главнее всего! Ведь он не слеп и видит, и все понимает. Вот только как об этом спросить? Ведь то, что он предположил о мастере, это звучит настолько глупо, что говорить об этом — это значит сразу, заведомо выставить себя на беспощадное осмеяние! Но… Да! И все же в день шестнадцатый, должно быть, ближе к вечеру, он вдруг…
Да, вдруг зажмурился, долго сидел не шевелясь, потом открыл глаза и сам не зная почему, спросил. Правда, совсем не то:
— А… время, оно растяжимо?
Эн поднял брови, помолчал, потом сказал:
— Конечно. Вот в детстве — помнишь? — дни просто летят, а в старости… Давай, давай, не отвлекайся! Я буду говорить, а ты работай.
Ну что ж, пусть пока будет так. Рыжий работал, мастер говорил. Точнее, рассуждал. И не о пустяках уже — всерьез. Порою сам с собою спорил. То есть начнет о чем-то говорить… а после сам же себя перебьет:
— Нет, все не так. Я был не прав. Точнее будет вот как…
И начинает заново. Но это если сам с собой. А вот возражений от Рыжего он просто не терпел! Мог закричать, мог нагрубить. Потом не извинялся замолкал, сопел и не смотрел в глаза… И вдруг опять:
— Да, время! Объективное и субъективное. А время нации? Но чтобы разбирать подобное понятие, мы прежде всего должны решить такой весьма принципиальный вопрос: а что есть нация — объект или субъект? Если субъект, тогда мы можем говорить о жизни нации, то есть о ее рождении, взрослении, потом старении и, наконец, смерти — естественной или насильственной. Ну и конечно же при этом нельзя будет отбрасывать и такие объективные причины, как ее состав и численность, природные условия, в которых она вынуждена существовать, а также и ее соседей, которые, как правило, ей только мешают. А если же она объект, то тогда…
И вдруг, забыв о нации, он, скажем, брался рассуждать о колебаниях во времени — в доли секунд, почти неуловимых, — и утверждал, будто причина этому лежит в движении планет вокруг Солнца. То есть полнейшее безумие! Ибо причем здесь Солнце? Или… Как знать, как знать. Рыжий, застыв, во все глаза смотрел на мастера, а тот вновь рассуждал о нации, о государстве, эволюции. О роке. И о смерти. Об экспоненте времени — то есть о том, что будто бы перед нашей смертью время в нашем объективном сознании вдруг резко замедляется, и поэтому наши последние мгновения могут вместить в себя такое огромное количество…
И вдруг, словно очнувшись от нахлынувших на него видений, мастер Эн замолкал, насмешливо смотрел по сторонам, а после с гордым видом говорил:
— Часы! А что такое часы? Вот, принесли мне их, я их чиню и с этого живу. Только часы — это не время, а самый что ни на есть банальный хронометраж, набор закостеневших цифр. А вот настоящее, истинное Время оно всегда живое и подвижное. Вот, например…
И снова принимался рассуждать — теперь уже о петлях времени, о норах времени, попав в которые, ты можешь двигаться вперед или назад по шкале времени. То есть по своему собственному желанию, посещать — свое или чужое — будущее или же прошлое. Да, прямо вот такое, вот прямо в глаза говорил — и еще улыбался. Зачем ему все это было нужно? И что он в это время думал? Рыжий не знал на то ответа. Шли дни. Перечинив все бывшие у мастера часы, Рыжий спросил, что ему теперь делать дальше.
— Как это что? — не понял мастер. — Клиентов нет, значит, опять чини. Или чего, хочешь сидеть без дела?
Рыжий не спорил, не решился. Вновь разбирал и собирал и без того исправные часы. И слушал мастера. Тот говорил:
— Жизнь — это как река. А мы — как листья на ее поверхности. И Время нас несет. Время — это течение Жизни. И вот оно, это течение, может сделать так, что чья-то жизнь промчится очень быстро, ну хоть в один день. А может взять и закружить тебя в водовороте. И утопить. А может и такое… Да! Вот, над рекой, бывает, нависают ветки. Ну так чего зевать? Схватись за них, повисни, подтянись. И ты тогда… ты что, не понял, что тогда? Тогда работай!
И Рыжий работал. И напряженно думал. Примечал. А когда понял, что его догадка не столь уж и бессмысленна, какой она ему показалась в самом начале, то он тогда… Нет, он еще три дня молчал, и лишь потом решился и спросил:
— Так… ты, значит, висишь?
Эн засмеялся и сказал:
— Нет, я сижу. Смотрю, как вас несет. И думаю, какие вы глупцы! Ведь ветка, она рядом!
— И ты, — Рыжий сглотнул слюну, — давно уже вот так?
Эн сразу не ответил. Отвел глаза, задумался… И лишь потом, все так же глядя в сторону, негромко сказал:
— Да, уже сорок лет. Я, правда, не могу отсюда, из этой мастерской, выйти. Там меня сразу подхватит течение. Да и другим войти ко мне… Только условный стук и открывает мою дверь. Ты ж знаешь. Ты, я слышал, уже не раз пробовал открыть ее без стука. Ведь так?
Рыжий молчал. Эн встал. Глаза их снова встретились. В глазах, учил Сэнтей, можно прочесть все, что захочешь. В глазах — судьба и нрав, и мысли, чувства, прошлое. А здесь… Рыжий невольно вздрогнул. Глаза у мастера были на этот раз совсем другие; не те, почти бесцветные, слезливые, а… чернота, сплошная тьма была в них, вот и все, и больше ничего, как ни смотри. Рыжий, поежившись, спросил:
— И… нравится… вот так вот… сорок лет?
Эн зло оскалился и с вызовом сказал:
— А что?! Ты думаешь, что я много чего за эти годы потерял? Я, может, ты хочешь сказать, что-то важное пропустил? Чего-то интересного не увидел? Или, наконец, ты думаешь, что я за это время мог что-то просто-напросто забыть? Только зачем мне выходить, чтобы вспомнить? Бурк и весь Мэг, да и Тернтерц, Даляния, Фурляндия, Ганьбэй… Вот здесь они все! — и он постучал себя согнутым пальцем по лбу. — Здесь! Понял? Вот…
Эн сел к столу, взял в лапы винтик, повертел его и отшвырнул. Винтик скатился со стола, упал. Рыжий хотел его поднять…
— Не надо, — сказал Эн. — Сиди.
Сидели. И молчали. Вдруг Эн опять заговорил:
— Зачем все это? Суета. Пустышка. Я — сам в себе. И ты — в себе, только ты этого еще не понял. А может, и понял, да просто не хочешь себе в этом признаваться. А время, что оно дает? Только несет нас к смерти, вот и все. А смерть есть тьма и пустота и глухота, смерть есть полнейшее Ничто. Ибо другой, потусторонней, жизни нет — ведь нет другого Времени. Нет. Нет!
Эн снова замолчал и нервно, сам того не замечая, тер лапой по столу, царапал на нем полировку. Потом сказал:
— Вот так вот и сижу. Я не спешу, ибо здесь время… Нет, время здесь не остановлено, а просто оно как в стенных часах — ходит, ходит по кругу; утро, день, вечер, ночь — и снова утро. С той же самой точки. Здесь время циферблат. Да нет: змея, схватившая саму себя за хвост. А дней недели, месяцев… здесь у меня нет уже сорок лет. И потому я, каким тогда здесь закрылся, такой и сейчас. И все мое со мной. Мне даже есть — и то не нужно, ведь сутки можно потерпеть, не так ли?
Рыжий промолчал. Эн засмеялся и сказал:
— Вот так я и живу. Чиню часы и думаю. Порой ко мне приходит кто-нибудь из братьев, приносит новые книги. Я их с интересом читаю. И снова думаю. И это очень просто: привыкаешь. Если ты хочешь, то я и тебя научу, и ты тогда тоже будешь, как я…
И замолчал. И вновь: глаза в глаза. Глаза его были без дна. Ждал. Затаившись, поджидал…
— Нет, — Рыжий встал. — Это как смерть.
— Смерть тела — да, — согласно кивнул Эн. — А мысли? А мысли живут. Значит, и я по-прежнему живой. А вот когда действительно, по-настоящему умрешь, тогда умрет и твоя мысль. Я смерти тела не боюсь, зачем мне мое тело, но смерти мысли… О! Да я… Садись, чего вскочил?
— Нет! Нет, — Рыжий попятился. — Нет, это не мое. Я думаю, Создатель…
— Создатель! — рассмеялся Эн. — И ты о нем! А кто он такой есть? Он что, Первооснова? А если не он, тогда и вообще… Что, все равно уходишь?
Рыжий кивнул. Эн помрачнел. Сказал задумчиво:
— Так… Так… — потом спросил: — Жалеть не будешь?
— Нет.
— А я бы пожалел.
И вновь глаза их встретились. Ар-р! Р-ра! Смешно! Да что он, ждет, когда ты передумаешь?!
Нет, все было намного проще — Эн резко встал и заходил по комнате, смотрел на стены, стеллажи и долго выбирал… а после взял часы обыкновенные, карманные, на бронзовой цепочке, и, протянув их Рыжему, сказал:
— Вот, отнесешь по адресу. Копченая застава, дом Дукков, бельэтаж.
— Кому?
— Там сам найдешь. Иди, — и мастер отвернулся.
Рыжий вышел.
Глава шестая — РАЗУМНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Шел. Уступал дорогу экипажам. Шлепал по лужам. Шел… А мысль услужливо напоминала: лужа — вода — река — течение… Р-ра! Листья на воде, река и ветка над рекой, и только подтянись, схвати ее, вернись к часовщику — и вновь, как и тогда, в Лесу, перед тобой откроется Убежище, тебе будет даровано бессмертие…
И что с того? Ведь все равно мы — это просто листья; желтые, осенние. А наше время — это всегда только осень, и ветер нас несет, швыряет, втаптывает в грязь… А прочих времен года для нас просто нет. Из века в век мы все рождаемся лишь осенью, но поначалу этого — увы! — просто не замечаем, ведь осень начинается не сразу, не вдруг. Время идет, течет, бежит, и мы растем, взрослеем, думаем, что будто бы вокруг цветет весна… Но это осень, просто еще очень ранняя, и потому пока еще не холодно. В прозрачном воздухе струится паутина. Трава еще зеленая. След на росе очень отчетливый, дичь кажется непуганой. Нам хорошо, мы всем довольны, нет, мы даже счастливы! А осень себе катится и катится — быстрей, быстрей, еще быстрей. И вот она уже бежит, а вот уже мчится галопом. Бег опьяняет, бег бодрит. Бег — это и есть настоящая жизнь. Так зачем нам какая-то ветка? Висеть на ветке — это разве жизнь? Зайцы висят на ветках — в петлях, — так они разве в петлях живые?! И этот Эн, он тоже разве жив?! И вообще, а кто он, этот Эн? Кирпичик, и не более того. А Башня, она бесконечна. В нее только войди, и можно проблуждать в ней всю жизнь — даже бессмертную — и так и не найти ответ на то, что так тебя тревожит…
А не искать никак нельзя, не получается. Искать — это твоя судьба, твой рок. Тебя несет течением, и ты плывешь. А прыгать и тянуться к веткам — это глупо. Ну а роптать на рок это совсем уже бессмысленно, так что плыви…
И вот она, Копченая застава. Мрачный район: дома из черной обожженной глины, на узких мостовых даже двоим, и то чуть разойтись. Дукки — это известный, древний род, но нынче сильно обеднел, ибо стоит вне партий — это они сами так решили. Ну, и сразу лишились поддержки. И теперь они всем ненавистны…
А вот их дом. Рыжий прошел мимо высокого парадного крыльца, уже не первый год заросшего травой, и дальше, на углу, увидел лестницу, ведущую на бельэтаж. Взошел по ней. А там, на маленькой террасе, на лавочке возле входной двери, дремал старик-привратник в такой же, как и он сам, старой форменной ливрее. Учуяв Рыжего, он нехотя открыл глаза и проворчал, что до свистка еще не скоро, и, вообще, здесь посторонним делать нечего. Рыжий спросил, где это «здесь». Тогда старик уже совсем рассерженно ответил, что «здесь» — это значит в частном пансионе для отпрысков закрытого сословия, а наглый надоеда, который сейчас так крайне невежливо к нему прицепился, принадлежит ну в лучшем случае к каким-нибудь…
Вот тут-то Рыжий и не выдержал, схватил привратника за шиворот, встряхнул его как следует, а после резко отпустил. Привратник, оробев, присел, залепетал:
— О, господин! Да разве я… Да вы б с того и на…
Но Рыжий рявкнул, и привратник замолчал. Тогда Рыжий достал из кармана часы и так и сяк повертев их перед самым носом у привратника, строго спросил, кому из обитателей этого дома они могли бы принадлежать. Привратник сморщил лоб, подумал и честно признался:
— Н-не знаю. Я уже давно здесь служу, но таких часов никогда здесь не видел. Быть может, разве что… Ну, да! Вот вы спросите у Юрпайса! Это здешний учитель геометрии. Часы, конечно, не его, откуда ему взять часы, это ж такая вещь! Но все-таки спросите у него, вдруг он что подскажет — он, знаете, так стар… Да-да, мой господин! Это во двор во флигеле шестая дверь. Может, вас проводить?
— Не надо!
Старый учитель геометрии Юрпайс — такой весь из себя тщедушный, маленький, одни глаза — жил скромно, даже очень. Всего добра в его каморке — это было стол, стул, стопа черновиков, потом в углу, на черной грифельной доске, — чертеж: две параллельных плоскости. А рядом с чертежом расчеты. Еще мел, тряпка. Крошки мела на полу…
А сам Юрпайс сейчас лежал на топчане, по горло завернувшись в теплый плед, и с нежностью рассматривал часы, принесенные ему Рыжим, то и дело потряхивал их и слушал их ход, а то царапал когтем по стеклу, что-то нашептывал… и наконец громко сказал:
— Пять лет держал! Ты представляешь? А дел-то было там всего… Да пустяки! Ну, может, пружина слетела. Тогда я, помню, возвращался из Тернтерца. Зима тогда была, снег, гололед. А возница возьми да зазевайся. Мой экипаж не удержался на мосту, ну и… Да, юноша, вот именно! Я тогда весьма безбедно жил: держал пять слуг, кухарку, экипаж! И еще много чего у меня тогда было!.. А, кстати, как тебя зовут?
— Ловчер, учитель. Я…
— А, брось! — отмахнулся Юрпайс. — Ну какой же я тебе учитель? Ты брат, я брат. Вот только заболел я… старостью!
И засмеялся. Повторил:
— Да, старостью, мой друг, больше ничем. Садись вот, угощайся.
Рыжий несмело сел к столу, принюхался…
Хозяин снова рассмеялся и сказал:
— Да-да, и так теперь всегда. Утром — баланда, чай. В обед — баланда, каша, чай. На ужин — сухари и чай. Каков наш пансион, таков и рацион. Стихи, короче говоря. Или стихия… Гм! Но ты не брезгуй, брат. И мне подай, если тебе это не трудно.
Рыжий подал ему того, что было на столе. Взял и себе. Они перекусили. Потом Юрпайс опять прилег, старательно накрылся пледом и, приложив к уху часы, сказал:
— Вот тем и сыт. И тем здоров! А мясо — это яд. Вино — это дурман. А, впрочем, в юности…
И вдруг зевнул и замолчал. Лежал, смотрел куда-то в угол. Потом, не повернувши головы, спросил:
— Как мастер Эн?
— Живет.
Юрпайс понимающе хмыкнул, сказал:
— Премногих ему лет. Ну, вот… теперь, значит, ты от него ко мне. И ты не сам пришел, а он тебя прислал. В гневе прислал. Так?
— Так.
И вновь наступило молчание — теперь уже надолго. И — тишина, лишь мерное дыхание Юрпайса да тиканье часов. Он их с таким замиранием слушает, как будто это его любимая музыка. Или просто спит с открытыми глазами?
Да нет, не спит. Вот повернулся и сказал:
— Так-так, понятно, — и отложил часы в сторону. — Ты, значит, прибыл с Севера, от варваров. И, говорят… А, впрочем, разве это важно? Ты — брат, и ты пришел ко мне, ты ищешь. Но я не мастер Эн, я знаю цену времени. И не Сэнтей, а посему… — и тут он приподнялся на локте. — Приступим, юноша. Надеюсь, ты не против?
Рыжий молчал. Юрпайс сидел весь подобравшись, ждал. Взгляд у него был немигающий, холодный. Да и сам он уже весь преобразился — вот только что лежал безвольным тюфяком, слушал часы и вдруг вон как посвежел — любо глянуть! Сидит, бойко вертит на пальце цепочку от часов… А, кстати, что в этих часах? И почему это Юрпайс так о тебе осведомлен? Похоже, будто Эн запрятал в них…
— Так ты не против? — повторил старик.
— Нет. Нет!
— Прекрасно. Начинаем. Итак… Что есть линия?
— След движущейся точки.
— Что ж, для начала неплохо. А если взять две линии — две параллельных линии — и продлевать их в бесконечность: что мы тогда увидим?
— Две умозрительные линии?
— Нет-нет, вполне материальные.
— Тогда… Они будут постоянно удаляться одна от другой, ибо Вселенная расширяется, и все материальные объекты, хотят они того или нет…
— Довольно, я согласен. Так… Так… — Юрпайс задумался, провел лапой по пледу, нащупал на нем что-то, сжал в горсти… а после резко поднял лапу, разжал ее, сказал: — Вот видишь, здесь, на моей ладони, лежит песчинка. Допустим, что она шарообразна. Теперь представим, что она растет. Шар увеличился и стал большим. Представил?
— Да.
— Теперь опять представь, что этот шар опять растет. Еще, еще растет, как можно больше. Теперь… Каким он стал? Как эта комната? Или как дом?
— Нет, много больше — твердо сказал Рыжий. — Пять дней пути в диаметре.
— Прекрасно! — похвалил Юрпайс. — Ты просто молодец. Воображение у тебя отменное. Но все равно даже этого предложенного тобой гиганта нам будет недостаточно. Так что представь, что этот шар…
Юрпайс поднес лапу к губам и дунул, а после поднял голову и посмотрел, как будто бы он своим необычно острым взглядом провожал полет невидимой для всех других песчинки в дверь… и только после этого опять заговорил:
— Так вот, представь, что этот шар — наша Земля, планета. А далее… Поставь точку на полюсе. Я думаю, что тебе не нужно объяснять, что такое полюса вращения.
— Вращения?
— Пусть не вращения, — Юрпайс поморщился. — Пусть полюс — это просто высшая точка планеты, макушка. Поставил точку, да?
Рыжий кивнул.
— А вот теперь, — Юрпайс закрыл глаза, — теперь мы строго по меридиану проводим линию вниз до самого экватора, ставим там вторую точку, отмеряем прямой угол и — так уж получилось, по экватору проводим линию ровно на четверть земной окружности и ставим там третью точку, вновь отмеряем прямой угол и движемся вверх. Куда мы попадем?
— Опять на полюс.
— Правильно. То есть мы таким образом построили огромный треугольник, в котором без особого труда поместится весь известный нам разумный мир. Прекрасно… А вот теперь скажи, какой величины будет угол в верхнем углу нашего, с позволения сказать, разумного треугольника?
— Прямой…
— Ах, ах! — наигранно обеспокоился Юрпайс. — То есть мы получили треугольник, все углы которого прямые, иными словами, их общая сумма равна двумстам семидесяти градусам. Но не чудо ли это? Ведь в Основах Геометрии черным по белому сказано, что сумма углов любого треугольника всегда равна ста восьмидесяти градусам, не больше и не меньше! В чем же тут дело, друг мой? Кто прав, мы или все они?
Юрпайс сиял! Его болезни словно не было.
— Но… — начал было Рыжий…
— «Но» здесь не принимается, — строго одернул его Юрпайс. — Точно ответь! Точно, любезный юноша, только точно!
И вновь Юрпайс молчал. Ждал — очень терпеливо. Но ведь в душе он явно хохотал! Противный, наглый, сухонький. Р-ра! Р-ра! Он тешится твоим молчанием, ликует. И пусть себе! Пусть мнит…
Но, впрочем, и довольно! И Рыжий, сделав вид, что наконец-то догадался, сказал с притворной гордостью:
— Да потому, что его стороны — суть дуги, а не прямые линии, ведь наш чертеж изображен не на плоскости, а на сфере!
Юрпайс поморщился, а после через силу усмехнулся и сказал:
— Весьма! Весьма! Рад за тебя. Иным подолгу приходилось вдалбливать подобные элементарные вещи, а ты не из иных. Тогда продолжим. Так вот, если и все прочие постулаты Основ Геометрии перевести с плоскости на сферу… что, кстати, весьма правомерно, ибо живем мы не на диске, а на шаре… то ни один из них не будет удовлетворять новым условиям. А убедиться в этом очень просто, да и другим это легко наглядно доказать, и все это уже давным-давно доказано, показано и… Гм! Вот в чем второй мой вопрос: так почему же тогда и по сей день эти — прямо скажем, устаревшие — Основы как ни в чем не бывало продолжают себе жить и здравствовать? Что ты на это скажешь, а?
Гм. Р-ра! Конечно, можно было бы вновь изобразить растерянное недоумение. Но для чего весь этот балаган? И, главное, перед кем? И потому Рыжий сразу, не мешкая, сказал:
— Ответ весьма простой — дело в масштабах. И потому если решаются задачи не глобальные, а… Ну, к примеру, нужно просто выкопать колодец или построить дом…
— Да! — тут же перебил его Юрпайс. — Почти что угадал. Масштабы! И не только в пространстве, но и в деяниях! Да ты сам посуди. Они, все эти напыщенные глупцы, читатели и почитатели Основ, по-прежнему, как когда-то их прадеды и прадеды их прадедов, живут на плоскости, и этого с них вполне довольно. Мирок у них, у каждого, — вот такой, с кулачок! — и тут он даже показал, какой тот кулачок, и рассмеялся, подмигнул…
Потом вдруг снова стал серьезным и сказал:
— А хотя… Ну какое нам дело до них? Пускай они живут себе на плоскости, едят и спят на плоскости, и там же воюют, торгуют, воруют… А у меня к тебе еще один вопрос. Надеюсь, ты знаком с задачей удвоения куба?
Рыжий кивнул — знаком. Тогда Юрпайс, словно напав на след, хищно оскалился, спросил:
— И что ты думаешь об этом?
— Н-ну, как сказать, — уклончиво ответил Рыжий. — Есть масса самых разных выкладок и вариантов, правда решение пока не найдено.
— Но, думаешь, — Юрпайс насмешливо прищурился, — оно когда-нибудь отыщется.
— Надеюсь.
— А почему?
— Потому что, как мне кажется, не может быть вопросов без ответов. Создатель, создавая этот мир…
— Создатель! — гневно перебил его Юрпайс. — Оставь Создателя в покое. Итак, ты думаешь…
— Я думаю, что если данная задача столь долго не решалась классическими методами, то, значит, пора подойти к ней иначе.
— Что ж, неплохой ответ. И я когда-то в свое время… Да! Только, в отличие от тебя, я не надеялся на рациональность Создателя. И не ошибся, мой друг! А посему теперь, по прошествии продолжительнейших изысканий, я могу с полной уверенностью сказать, что эта задача не имеет точного решения. Приблизительных, экспериментальных — сколько угодно, а вот математически безупречных нет и быть не может.
— Но…
— Нет! — в бешенстве рявкнул Юрпайс. — На этот раз без всяких «но»! Я не кормлю надеждами, а только констатирую то, что существует в действительности. А существует… Гм!
Юрпайс откашлялся: он явно волновался. Но продолжал уверенно, как с кафедры:
— Так вот, запомни, юный брат, что кубический корень из некубического рационального числа есть иррациональность, не приводящая к конечному числу действий извлечения квадратного корня, и посему элементарная на первый взгляд задача удвоения куба неразрешима!
— Но ведь считается…
— Ага! — вскричал Юрпайс. — Вот наконец ты и попался! Но не отчаивайся, брат, это весьма и весьма узкоспециальная задача, я занимался ею много лет и даже ввел кое-какие новые понятия… И, думаю, тебе будет небезынтересно проследить за ходом моих рассуждений. Ведь так?
Рыжий согласно кивнул.
— Тогда, — торжественно сказал Юрпайс, — смотри! Подай-ка мне перо!
Рыжий подал.
— Вот, наблюдай, — поспешно продолжал Юрпайс. — А если тебе что-то будет неясно, так сразу спрашивай. Чтоб не терялась мысль. Итак…
И началось! Час! Полтора!.. Почти что три часа подряд он излагал свою теорию. Сломал одно перо и тут же взял второе. Чертил размашисто, считал безукоризненно: брал корни, функции по памяти. Пять знаков после запятой такое для него сущий пустяк, все без ошибки… И наконец спросил:
— Ну, как?
Рыжий молчал. Потом-таки признал:
— Да, видимо, ты прав. По крайней мере я не заметил изъянов в твоих построениях. Ну а… Ты это ведь еще кому-нибудь показывал?
Юрпайс отрицательно покачал головой.
— Но почему?
— Да потому, что пусть они доходят до этого сами!
И с этими словами Юрпайс схватил листки с расчетами, скомкал их и бросил в печь, прямо в огонь. Пергамент задымил, обуглился. Рыжий вскочил, хотел было достать их из огня… но не решился, сел обратно. Юрпайс тихо сказал:
— А квадратура круга — там, кстати, то же самое, опять же без решения. Ввиду того, что число «пи» по своей сути трансцендентно…
Юрпайс вдруг замер, покосился на часы и, покачавши головой, заметил:
— Ну вот пока и все! Ибо сейчас ко мне придут мои ученики, а им об этом… Х-ха! Зачем им знать об этом?! Да и опять же — я болею. Болею я. Болею…
И вновь на топчане лежал дряхлый старик, как будто это вовсе и не он вот только что доказывал и с жаром объяснял сложнейшие, мудренейшие формулы. Вот так! Рыжий, пожав плечами, встал, взялся за трость…
— Нет-нет! — шепнул Юрпайс. — Не торопись. Ведь разговор-то еще не закончен. Да и они уже идут! Ты прибери это скорей!
Рыжий прибрал — поворошил золу, спрятал перо, чернильницу, поспешно сел в дальнем углу…
И почти сразу же вошли ученики — их было четверо, все как один еще небитые юнцы, — учитель слабо их приветствовал и разрешил им присесть. И начался урок…
Что? Как ты все это назвал?! Урок? Не кощунствуй! Да ведь после того, о чем здесь только что было говорено, слушать о том, о чем они сейчас учитель и ученики — со всей серьезностью…
Но все-таки не горячись. Не забывай, с кем ты и где ты находишься. Пансион для отпрысков закрытого сословия — то есть чиновников — готовит только первый, то есть самый низший их класс. Правда, кому-нибудь из наиболее усидчивых могут присвоить и второй, но такое здесь случается крайне редко, в лучшем случае раз в два-три выпуска. А так, закончив обучение, юноши разъезжаются по провинциям и заступают в департаменты на бросовые, худшие вакансии. Чиновник — это тот же раб, он абсолютно несвободен в выборе; куда его пошлют, туда он и отправляется, и будет там служить, пока… Вот именно — до самого «пока»! Даже простой солдат — и тот может купить себе отставку, чиновник же лишен и этого, он служит до конца. Мало того: чтобы чиновник не пускал корней, не обрастал знакомствами и связями, он постоянно в переводах: сегодня, к примеру, проходит по почтовому ведомству, а завтра уже в налоговом, а через месяц и вовсе где-нибудь в шахтах. И, главное, как ты, простой чиновник, ни служи, а пятый класс — вот твой высший предел, верх на служебной лестнице, а дальше уже начинаются «посты», то есть места для высшего сословия — фамилий. Вот так-то! И эти юноши отучатся, уедут. Так нужно ли им то…
Но, правда, и Юрпайс с ними не строг. Вот, он и сейчас им говорит:
— Да, диск, на коем мы живем, измерен. И пять небесных сфер над ним уже постигнуты. А ну-ка перечислите мне сферы! Вот, скажем, ты!..
И слушает ученика, благосклонно кивает. И задает еще один вопрос, и вновь идет самый серьезный подсчет того, сколько же конкретно песчинок вмещает в себя полусфера второго небесного яруса. А после этого ученикам предлагается доказать две леммы из теории конических сечений, потом решить задачу из четвертого раздела Изопериметрических Начал, потом прочесть двустишия из Геометрии Движения… Ну, и так далее. Бред, да и только! Рыжий сидел в углу, молчал, рассеянно листал потертый манускрипт, в котором то и дело попадались отменно выполненные чертежи. Вот, например, икосаэдр, вот додекаэдр… Юрпайс представил тебя отпрыскам своим коллегой из провинции, пусть так. Но что он говорит! Чему он учит?! Р-ра! Но, главное, как они его слушают! Они же ему верят — безгранично! А он… Да, с ними он — как добрый дедушка, который в тоже время утверждает…
Но нет! Молчать! Рыжий, молчать! И он молчал, уже закрыв манускрипт, глядя в окно, впившись когтями в стол…
Когда же ученики наконец ушли, Рыжий, стараясь быть спокойным, спросил у Юрпайса:
— Скажите, разлюбезный брат, а вас не смущает то обстоятельство, что вы думаете одно, а учите совсем другому?
— Нет, нисколько, — небрежно ответил Юрпайс, лег поудобней, потянулся и зевнул, потом старательно укрылся пледом и продолжил, неторопливо, четко, словно на уроке: — Ведь я же говорил уже — они живут на плоскости, а там свои законы. Вот тем законам я их и учу. Есть в этом логика?
— Да, есть.
— Тогда чего вы от меня хотите?
Мерцала тусклая свеча. Юрпайс полулежал на подушках и насмешливо смотрел на Рыжего. Р-ра! Снова эта ложь — во благо. Р-ра! Во рту вдруг стало сухо, шерсть на загривке вздыбилась, а когти сами собой впились в стол…
— Вот даже как! — сказал Юрпайс, глядя на когти Рыжего. — Ну-ну, давайте, братец, прыгайте, душите. Ведь это в споре самый сильный аргумент! Хотя чему я удивляюсь? Вам, дикарям…
И замолчал. Стыд! Стыд! И Рыжий тяжело вздохнул; шерсть улеглась, когти ушли. И лишь глаза его — он знал, глаза не лгут…
— Не лгут, не лгут, — кивнул Юрпайс. — Да, это так, кривить вам не дано — я ж это сразу понял. Да и Сэнтей рассказывал, как вы… Х-ха! Ха! Вы думали, что провели его и скрыли свою главную печаль. А он тогда вас просто пощадил; не стал позорить да высмеивать, а просто взял и выставил за дверь…
— Меня?! Да я…
— Правильно. Он повелел вам отправляться к Эну. А зачем? Лишь затем, чтобы вас… — и тут Юрпайс потянулся к часам, зажал их в лапе, помолчал… и вновь заговорил:
— Чтобы вас еще раз испытать. Вначале мастер Эн вас испытывал, теперь вот я попробовал… И что сказать? А то! Я повторяю вслед за Эном: да, вы вполне резонно рассуждаете и способны уяснить весьма сложные абстрактные построения, но в своей основе… Да, к сожалению, в самой своей основе вы не последователь духа. Но вы и не из тех, других. Вы как бы одновременно и там, и здесь. Но в то же время вы и не там, и не здесь. Теперь мы упрощаем выражение. Плюс на минус дает минус. И, следовательно, в окончательном виде получаем минус, иначе говоря, в итоге мы имеем то, что вы и ни там, и ни здесь. Вы, то есть, нигде. Да-да, мой друг, нигде. Но, в первую очередь, не в Башне. И поверьте, это не громкие, сказанные в запальчивости, слова, а это — окончательное наше решение. Итак, вы нам не брат, Башня для вас закрыта. Да вы уже и сейчас вне ее. Уходите.
И Юрпайс замолчал. Лежал, поджав губы, ощетинившись. Тщедушный, маленький, одни глаза, в глазах — лишь ненависть. За что?! Гнев! Стыд! И… Р-ра! Да что там говорить — дышать было невыносимо трудно. Но Рыжий все же выдавил:
— Так… мне куда теперь?
— Не знаю, — равнодушно пожав плечами, ответил Юрпайс. — Да-да, на этот раз и я не знаю. А почему? Да потому что нет в мире… Точнее, нет в бесконечном — еще раз повторяю: в бесконечном! — нет в бесконечном пространстве такой точки, в которой вы смогли бы отыскать себя. Потому что вы, повторяю, нигде. И это сказал я, Юрпайс Непогрешимый.
Непогрешимый. Р-ра! Вот в чем ты весь! И Рыжий зло, насмешливо спросил:
— А вам не кажется, что вы рискованно категоричны? А вдруг вы снова ошибаетесь? Ведь и в задаче с удвоением куба, я уверен, тоже есть решение, но мы пока еще…
— Хва!
Рыжий замолчал. Ну а Юрпайс…
Вскричал визгливым голосом:
— Ничтожество! А мнишь себя… Прочь! Прочь! — и даже подскочил…
Глава седьмая — НИГДЕ
Но Рыжий встал и вышел. Выйдя на улицу, он остановился и задумался. Действительно, куда ему теперь? Ночь, темнота, чужой квартал. Налево улица поднималась вверх, направо опускалась вниз. Он повернул направо и пошел. Дошел до перекрестка, свернул, а вот куда — не обратил внимания. Да и какая теперь разница?! Так он и пошел, куда стопы несли, наобум. Сэнтей сказал, что Башня велика, в ней много этажей. А он успел увидеть так немного…
Шел. Город спал. Вниз, вниз по улице. На первых этажах — во всех без исключения домах, ибо таков указ — окна закрыты ставнями, а на вторых и выше — сплошь решетки. А мостовые… Тьфу! Отбросы, нечистоты, смрад; идешь и спотыкаешься, скользишь и хлю… Бр-ра! Лужи, грязь, а фонари уже, поди, с полгода точно не горят. А может, и весь год, теперь попробуй вспомни. Забыли их, теперь уже, наверное, нигде во всем Бурке огня не увидишь!
Нет, зря он так. Вон, прямо впереди, огонь. Прямо на улице. Должно быть, там они. Рыжий пошел на свет и не ошибся. Да, тот огонь — это рогатка, их пост. Они сидели у костра, хмельные и голодные, скучали. Завидев Рыжего, сразу вскочили и, обступив его и ничего не говоря, бесцеремонно обыскали, обнюхали, проверили жетон, долго светили факелом в глаза… Но ни к чему придраться не смогли и пропустили дальше. Рыжий прошел еще один квартал, потом еще один, но только лишь свернул — опять рогатка. Его снова обыскали. Да, неспокойные деньки. Бурк лихорадило; вчера горела Биржа, теперь вот ищут поджигателя. Был слух, что это — козни Претендента, он будто снова здесь; не сам конечно же, а просто когти выпустил. А когти, они сами по себе — их отсекай хоть пять, хоть десять раз, а лапа-то цела! И тем он, Претендент, и взял, а скоро и не то еще возьмет. Вот так-то вот! А прошлой осенью, когда бунтовщиков рассеяли и Претендент бежал, им показалось вот и все, наконец с ним покончено! Ан нет, теперь-то они убедились: он отступил, скрылся в горах и отлежался, жир нагулял, а вот и когти выпустил — от Биржи одни головешки. Ну-ну!
Рыжий шел дальше. Никого на улицах, одни только посты. И все огни только от них. А так по всему Бурку — тьма. И тьма над всей Землей. И где-то в этой тьме сокрыта Башня. Как долго он искал ее! И как он был уверен, что если уж войдет в нее, то уже навсегда. Но та ли это была Башня? А если даже и не та, то стоит ли теперь искать другую? И вообще… Живут же прочие и ничего не ищут. Или находят то, чего и быть не может, или то, что никому не нужно — по крайней мере, им, — а то и просто всякий вздор. Но они рады и ему. Нет, просто счастливы! А он…
Р-ра! Что это? Он замер, осмотрелся… Высокие ступени. Арка. А в глубине ее — дверь нараспашку. А за дверью…
Ах, да! И он взошел по лестнице, а после, чуть склонивши голову, вошел и в дверь. Тьма, тишина вокруг: пьянящий дым, мерцание свечей, колонны, лики…
И чьи-то шаги!..
Нет, это просто бьется его сердце. Рыжий застыл на месте, перевел дыхание. Прислушался… Храм пуст. Даже на кафедре, и то одна только развернутая книга, а зурра нет. Р-ра! Что-то здесь не так! Рыжий осторожно поднял голову и глянул вверх. Колонны, свод…
Нет, свода как раз не было. Колонны уходили в темноту. Там, в этой темноте, и очень-очень высоко, что-то мерцало. Рыжий закрыл глаза, открыл. Мерцание усилилось. Теперь ему казалось — это звезды. А темнота — это ночное небо. Он, Рыжий, был внизу, небо вверху, но вдруг почувствовал сейчас он упадет! И упадет не вниз, а вверх! Да-да, вот именно — вверх! Сорвется, полетит…
Он испугался, лег, зажмурился и зацарапал лапами по плитам… И тут над самой его головой раздался чей-то голос:
— Не бойся, брат!
Он замер. Голос продолжал:
— Ты не один. Вставай.
Он встал. Рядом с ним стоял зурр. Да-да, тот самый, он его запомнил. А вокруг…
Колонн он уже не увидел. И храмовых стен тоже уже не было. Остался только один пол. Но какой! Куда ни повернись, куда ни посмотри, казалось, будто его плиты уложены до самого горизонта. От плит шел слабый свет. Они были из мрамора — из белоснежно-белого. А небо было черное, без звезд. Зурр улыбнулся и сказал:
— Ну вот ты и пришел сюда. Я знал, что ты когда-нибудь придешь. И ты об этом знал. Ведь так?
— Н-нет, — шепотом ответил Рыжий. — Нет. Я… просто шел. И вдруг, я сам не знаю почему…
И замолчал. Да, почему он пришел именно сюда? Зачем? И отчего он весь дрожит? Ему, что ли, холодно? И почему он сжался весь, присел, и почему зурр смотрит на него так пристально, он разве перед зурром в чем-нибудь провинился? Ведь верит он или не верит — это его право, таков здешний закон. Да и потом, можно ведь верить, но не приходить, а можно приходить и в то же время…
Нет! Рыжий замер, затаил дыхание. А зурр тогда склонился над ним еще ниже и тихо сказал:
— Можно не верить — чувствовать. Вот почему ты здесь. Но это лишь начало. Пойдем!
Что было в его голосе? Как будто ничего такого необычного и уж тем более властного. Но почему тогда Рыжий ему сразу же повиновался? Мало того: он даже не спросил, куда его зовут, а тотчас же поспешно встал. И они пошли. Шли и молчали. Плиты сверкали серебром, они были как снег. Нет, как Убежище…
Убежище! Опять оно! Рыжий насупился, остановился. Стоял, смотрел по сторонам, потом с опаской глянул вверх. Луны на небе не было. А если б даже и была? Да что это за глупости?! Опомнись! Луна — это обычная планета, такая же, как Солнце, Гелта, Эрнь и прочие. А этот зурр…
Зурр ничего не говорил, просто стоял и ждал его. И они пошли дальше. Дул встречный ветер — все сильнее и сильнее. Морозило. По плитам замела поземка. В Лесу по льду идти легко: когтями впиваешься в лед, вот и держишься. А здесь, на мраморе, не очень-то разгонишься! А зурр, тот шел легко, не замедляя шага, должно быть, этот путь ему привычен… И вдруг он начал говорить:
— Эти братья, они все лжецы. Не слушай их, не верь. Пусть даже так, как они говорят, пусть и действительно во всем вообразимом и невообразимом пространстве для тебя нет места. Ну, что ж! Значит, тогда уйди в себя. Ведь ты — да и не только ты один, а и любой из нас, из этих и других — это еще одна Вселенная, бескрайняя и бесконечная. Вот, значит, и ищи в себе. И там есть все, что только пожелаешь… Не отставай!
И они шли, однако же все медленней и медленней, ибо метель усилилась, вокруг была сплошная снежная пелена. Шли наугад. Снег забивался в уши, ноздри, и вот уже как будто нет ничего вокруг — ни Бурка, ни Равнины, ни Земли; снег, только снег вокруг — колючий, непроглядный. А сам он, Рыжий, еще есть на свете? А что! Не такой уж и глупый вопрос. Ведь вполне может быть и такое, что тот, в чьем теле он сейчас скрывается, — это совсем даже не он, а уже кто-нибудь…
И тотчас он — да, он, не кто-нибудь другой, а только он — споткнулся, заскользил, неловко завалился на бок… Но сразу подскочил… И ужаснулся: р-ра! Вокруг — одна сплошная пелена, белым-бело, и он — совсем один, а где же зурр?! Вот уж воистину…
— Сюда! Сюда! — послышалось. — Ко мне!
Рыжий поспешно развернулся и пошел на голос. Шел в снежном мареве и ничего вокруг себя не видел. А зурр, идущий где-то совсем рядом, продолжал:
— Да, это так, каждый из нас — это еще одна Вселенная… Левей, еще левей бери. И ничего не бойся, ибо страх… А, впрочем, что такое страх? Страх — это предчувствие близкой потери. Но если тебе нечего терять или если ты теряешь то, что тебе вовсе и не нужно… Сюда, сюда, я говорю! Здесь осторожнее!
Мела метель, выл ураганный ветер, уши давно уже были плотно забиты снегом… А голос зурра раздавался ясно, чисто, так, словно он звучал внутри тебя, в душе. Зурр говорил:
— Да, очень многое в жизни не нужно. Вот, скажем, Братство. Что такое Братство? Обман и ложь. Так что забудь о нем, Стоокий не был братом. И был убит. И только это… Да! Есть только один страх, великий страх — страх перед подлостью и низостью. И потому я предупреждаю тебя: опасайся сам знаешь кого. И ни на чью помощь уже не надейся. Вот даже взять меня. Кто я такой? Один из многих зурров, никем не уважаемых, забытых… Ну, вот мы и пришли. Устал?
Еще бы! Рыжий едва держался на стопах, его шатало, и снег — нет, уже даже лед — был у него в ноздрях, был лед и на губах…
— Где это мы? — спросил он едва слышно.
— Нигде, — ответил зурр. — Ложись.
Рыжий послушно лег.
— Закрой глаза.
Закрыл.
— Спи!
Он заснул…
Нет, не заснул, а полетел! Сорвался вверх и падал, падал, падал… И вот уже вокруг него — ни снега, ни метели, а только ночь и тишина. И еще звезды — яркие, огромные. Сверкают. А он летит и узнает созвездия, туманности. А где это Земля? Он посмотрел по сторонам — ее нигде не видно. Тогда он…
— Нет! — тотчас крикнул зурр. — Нельзя смотреть назад! Лети!
Рыжий послушался его, не обернулся. Дальше летел. Смотрел. Потом спросил:
— Ты где?
Зурр отозвался:
— Я с тобой. Красиво здесь?
— Да. Очень. Но что это со мной такое? Не молчи! Я знать хочу!
— А ты не спрашивай, ты чувствуй. Смотри внимательней! Ты помнишь, кем ты был там, на Земле? Песчинкой. А здесь даже сама Земля, и то песчинка. А сам ты кто? Ты чувствуешь?
— Да, чувствую. Я — это я и только я, во мне есть все, но только это «все», оно какое-то… Зурр, где это я? Это сон?
— Все может быть. Ибо здесь все зависит от тебя. Лети, смотри.
И он летел дальше, смотрел. Вот Красная Звезда. Вот Восходящий Дым. А вот и Гелта. Вот и Эрнь — мерцающий, весь в блестках шарик. А так как рядом с ним горит Забытая Свеча, то, значит, точно позади будет Земля. И если обернуться…
— Нет! — крикнул зурр. — Не смей! Рыжий, не смей! Прошу тебя!
И его голос был как гром! Бил в уши, рвал…
Но Рыжий все же обернулся! Огромный серый шар висел прямо над ним! И там…
Р-ра! Молния! И — слепота! В глазах — горящий снег. Рыжий вскочил…
Глава восьмая — ТРАКТАТ
Светло. Он у себя… в гостинице, на пятом этаже. Уже не утро — день. Шум, гам на улице. В курильне за углом кричат. Должно быть, это новобранцы — опять они передрались… Рыжий встал, закрыл окно. Потом задернул штору. Полумрак. Вдоль стен под самый потолок теснятся книги. Он покупал лишь самые любимые, все деньги тратились на них. Это потом уже, когда Рыжий узнал, что многое в них ложь, он перестал их покупать. А старые куда было девать? Вот и стоят они теперь ненужные, пыль собирают. А вот коробка с инструментами; циркуль, линейка, угломер. И пять чернильниц, связка перьев, реторта, перегонный куб, часы — песочные и водяные, барометр и ящик с минералами, макет крыла, весы для точных измерений, свиток пергамента и ножницы…
Да, зурр был прав — разве это потеря? Он потерял только братьев. А Башня… Башня, она бесконечна, она везде, по ней можно бродить и одному. Да, именно бродить! Плутать, искать… А что искать? Точку в пространстве? Ветку над потоком? Застыть, когда весь шар, на коем все — разумные ли, нет — летит в бескрай…
И он зажмурился. И вновь увидел шар. И этот шар уже был не такой, как в первый раз, у Дрэма, когда он плыл к нему издалека и медленно вращался. О, нет! Теперь он был огромный, серый, страшный! Он нависал над самой его головой! Казалось, что еще мгновение — и он сорвется, рухнет и раздавит!.. Нет, спокойнее, Рыжий, спокойнее. Ты знаешь, что это за шар. И знаешь, что он — центр всего. Но почему он называется «Земля»? Куда точнее было бы назвать его Океаном, ведь суши, то есть собственно земли, на нем лишь маленький клочок. И только здесь, на суше, и возможна разумная жизнь. А в Океане… Странно! Как расточителен Создатель! Разумно ли… Нет-нет! Кто он, Рыжий, такой, чтобы сомневаться в разуме Создателя?! И Рыжий вновь закрыл глаза, увидел шар… И сразу же отметил, что шар все же не серый, а голубоватый, в дымке, в черных пятнах, то есть точь-в-точь такой, каким он виделся ему у Дрэма. А вот и континент, Разумный Треугольник. А вот…
Шар вдруг исчез. В глазах было темно. Рыжий немного подождал и проморгался. Но темнота не отступала. Мало того: она опять, как прошлой ночью, в храме, влекла его к себе! Он снова чувствовал: еще немного, и он упадет, полетит в темноту, в никуда. Нет, ни за что! Рыжий вскочил и отошел к стене. Кружилась голова, виски сдавило, в горле пересохло. Ну, еще бы! Ведь он же только что увидел…
Нет, вздор это! Чего только не привидится; не может того быть!
И все-таки…
Рыжий прошел к столу, сел, взял перо, зарисовал свое видение. Задумался… Нет! Зачеркнул и отшвырнул перо. Опять долго сидел… А после резко встал и заходил по комнате… А после подошел к стене, брал книги одну за другой, перелистывал… Зачем он делал это — непонятно. Ведь он прекрасно знал, что ничего подобного он в этих книгах не найдет, а лишь наоборот… И пусть наоборот! Так оно даже лучше! Докажет, что его видение — это обман, и сразу успокоится. А если так, то надо продолжать! И вновь и вновь Рыжий брал книги, искал в них нужные места и делал из них выписки. Зачеркивал. И вновь выписывал. Ходил, нервно позевывал. Читал — до вечера. Потом спустился вниз, поужинал. Потом…
Вышел на улицу. Долго плутал, бродил по темным переулкам и не однажды был задержан на рогатках…
И наконец нашел! Вот он, тот самый храм! Тихо, как будто от кого таясь, Рыжий вошел в него. Зурр в это время зажигал светильники. Увидев Рыжего, он сдержанно кивнул ему и снова отвернулся. Рыжий сказал:
— Я к вам. Вчера вы говорили мне…
— Я? — удивился зурр. И замер. Снова посмотрел на Рыжего, задумался, покачал головой и сказал: — Простите. Но мы с вами вовсе незнакомы.
— Как?!
Зурр молчал. Рыжий опять, теперь уже куда внимательнее, осмотрелся. Колонны — да, очень похожие. А выше, в полумраке, — свод. Роспись на нем почти что не видна, но она есть. Значит, там точно есть свод. Неба отсюда, значит, не увидишь. Так-то вот! Рыжий медленно опустил голову и посмотрел на зурра. И зурр смотрел на Рыжего. Вот, кстати, и еще одно свидетельство: тот зурр смотрел совсем не так. И ростом он был пониже. И сам темней…
— Простите, — сказал Рыжий. — Я ошибся.
Зурр понимающе кивнул. Рыжий стоял, не уходил: он еще ждал, надеялся. И зурр стоял, внимательно смотрел на Рыжего и медленно моргал. Потом сказал:
— А тот, кого вы ищете, ушел.
— Куда?
— Никто не знает. Был — и исчез. Да и сейчас ведь многие бегут. Вместо того, чтоб…
Зурр нахмурился. Сказал:
— Идите с миром. Я помолюсь за вас.
— Но я…
— Не верите? И что с того? Это ведь ничего не решает. Как мир устроился, так он и по сей день устроен. А что мы думаем об этом… и что мы считаем истиной… и верим ли мы в Стоокого… Разве это влияет на мироустройство? Все это суета, мой…
Зурр запнулся, помолчал, потом, нахмурившись, сказал:
— Прощай, мой друг, — и отвернулся, двинулся к светильникам.
Рыжий стоял оцепенев. Зурр скрылся за колонной. Прошел за возвышение. Потом, уже совсем откуда-то издалека, раздался его голос:
— Уходите.
Рыжий ушел. Пришел домой и лег, не постелив, прямо поверх всего, на покрывало. Всю ночь не спал. Смотрел на полки с книгами и размышлял… О чем? Так, думалось какими-то обрывками, картинками. Хват, князь, Юю… А что Юю? Ведь если бы ты тогда даже и догнал ее, остановил, то разве б много чего изменилось? А если бы ты не встретил Лягаша? А если б ты был загрызен на пиру? И это бы случилось очень запросто, но князь тогда… Да, это князь тогда перевернул светильник, и ты — уже в кромешной тьме — успел прыгнуть в окно… А после была Зыбь. А после… после… после… Теперь вот зурр. Нет, это все же прежний зурр! Не зря же он хотел назвать тебя «мой брат», да спохватился. И потому… Вот только бы дождаться следующей ночи!..
Ну а пока еще лишь только рассвело. И Рыжий встал, сошел в хозяйскую и там позавтракал, вернулся, сел к столу… Но книги плохо помогали коротать время. Глаза его смотрели и не видели, мысль то и дело спотыкалась: казалось, что хотелось спать. Рыжий ложился — сон не шел. И он опять вставал, читал, порой просто сидел, прижав лапы к глазам, пытался вызвать шар — но ничего не получалось. Тогда он вскакивал, расхаживал по комнате, стоял возле окна, разглядывал прохожих, угадывал, который из них кто, куда спешит, зачем… И это тоже вскоре надоело. Опять читал… Но зурр не шел из головы! Тогда просто сел и принялся смотреть, как сыплется песок в часах. Потом, разбив часы и высыпав песок на стол, дотошно пересчитывал песчинки, делил их поровну, для равновесия… Потом смахнул их на пол и застыл, и так и просидел до темноты. Ждал. Ждал…
Когда же наконец на башне прозвонили «восемь», он резко встал и, потянувшись, до хруста расправив все кости, прошел к двери, потом…
Ну разве что не кубарем спустился вниз по лестнице и выбежал на улицу, и побежал. И…
Так и не нашел его! Храм как будто исчез. Но он не верил в это! Час или два он еще бегал взад-вперед по близлежащим улицам, совался в подворотни, крался вдоль стен, заглядывал во все углы…
Напрасно! Он вернулся — тяжелой, твердой поступью. Закрылся на замок, зажег свечу и сел к столу. Ну вот, теперь он совсем, абсолютно один. Во всех своих видениях, сомнениях, которые…
Когда-нибудь убьют его, сведут с ума. И чтоб от них избавиться, есть только один способ: их нужно высказать. А если некому высказывать, то он их запишет, и от этого — так говорят — тоже должно стать легче. Да, обязательно! А коли так… Рыжий взял циркуль и линейку. Сидел всю ночь. Чертил, считал, записывал, зачеркивал, вставал, ходил и вновь садился и записывал. А после все порвал и выбросил в корзину. Лег и немедленно заснул. Так началась работа над Трактатом. Но он тогда еще не знал, что у него выйдет в итоге. Он только одного тогда желал — чтоб тот огромный серый шар как можно скорее исчез из его памяти. Исчез ведь зурр! И храм исчез. И Башня. И братства нет. И где-то там, на улице Стекольщиков, живет Сэнтей. И пусть себе живет! А он…
Работать Рыжий мог лишь по ночам, когда взойдет Луна, а утром спал, днем выходил гулять…
Гулять! Вот так гуляние! Рыжий брал сумку толстой дикой кожи, подходил к стене, долго смотрел на книги и все прикидывал, сопел… А после доставал две-три из тех, которые, как он убеждал себя, ему уже больше не пригодятся, засовывал их в сумку — и уходил, уже не поднимая головы. Придя на рынок, он становился в мелочный ряд, выкладывал свой «товар» на прилавок и ждал. Порой к нему за целый день никто не подходил. А если же что у него и брали, то почитай что за бесценок, и то, как он предполагал, единственно за позолоту корешков да за крепкие, надежные застежки. И еще: какую бы малую сумму ему ни предлагали, он никогда ни с кем не торговался — брезговал. Продав товар, заглядывал в дешевую требушную. А нет, так просто шел домой. Бывало, по три дня он ничего не ел. Ну а в гостинице… Хозяйка все же съехала; она звала его с собой, он отказался. Новый хозяин — злой, неразговорчивый — в счет неуплаты за постой сперва забрал у него сервант, потом пуфарь, а после стал грозить, что скоро заберет и книги. Рыжий спросил:
— А вам они зачем?
— Как?! На растопку! — прорычал хозяин, и все, кто были тогда рядом, рассмеялись.
Зато Трактат — теперь-то Рыжий знал, что делает, — Трактат уже вполне сложился, и оставалось только записать его, разбить на главы да уточнить некоторые излишне тяжеловесные формулировки. Теперь, вернувшись с рынка, Рыжий, закрывшись у себя, сидел над картами и древними отчетами, сверял и измерял, рассчитывал экванты и эксциклы, течения у южных берегов, влияние затмений на приливы… А серый страшный шар уже не нависал над ним — парил. Да он и страшным уже не был! Мысль уяснила шар, и потому работалось легко…
Но если ночь была безлунная, тогда перо его не слушалось, глаза быстро слипались. Рыжий вставал, брал капли, выпивал. Не помогало. И он тогда лежал, уткнувшись носом в стену, и считал, считал, считал, делил, перемножал… Сна не было, а было лишь видение. Лес. Глушь. Вдали кричат сородичи, а он — на четырех, как истинный дикарь, — бежит вслед за сохатым, хрипит, спешит. Он знает — вот сейчас ему откроется Убежище…
— Наддай! — кричат ему. — Еще!
Он наддает, бежит. Сил больше нет; он падает — сквозь землю. А под землей, во тьме…
Там — тот же самый Лес и те же самые крики:
— Наддай! Еще!
И он снова бежит. И снова падает. И снова. И падает все ниже, ниже, ниже. И так всю ночь. Вставало солнце, и видение наконец исчезало. Рыжий лежал, смотрел в окно, рассеянно слушал, как где-то вдалеке ревет возмущенная толпа горожан… И улыбался. Да, нет того Убежища. Но зато есть другое. Правда, пока оно только на кончике его пера, в его расчетах. И что с того?! Теперь дело за малым! И он бодро вставал и — против своих правил сразу садился за Трактат. Назавтра же он вновь брал сумку толстой дикой кожи, засовывал в нее две-три как будто бы совсем ненужных ему книги и выходил на улицу…
А Бурк бурлил! И было отчего: двенадцать знатнейших родов вновь рассорились напрочь. Отряды Дукков шли громить Ларкетов, Чивы не ладили с Малеками, Голланы били Укведунов… А после все сходились у Коллегии и ждали, что решит Совет. Совет увещевал:
— Республика…
Не слушали. Ревели:
— Долой Правителя! Долой!
И шли на приступ. Выбегала стража. Топтала, била, разгоняла бунтарей день, два, неделю, три…
А с гор уже спустился Претендент. И на границах тоже, говорят, весьма неладно. Вот, например, далянцы снова наступают: взяли две крепости и уже вышли на Бискойскую равнину. Рынок закрылся, цены подскочили… Рыжий теперь вынужден был стоять и торговать с нагрудного лотка по перекресткам, закоулкам, где придется. Три раза его грабили — прямо средь бела дня, никто не заступился. В последний раз грабители не то чтобы покусились на товар, а просто так, из лихости, все изодрали, побросали на землю и ушли. Он промолчал. А мог ведь запросто так круто проучить этих юнцов, что они после навсегда забыли бы — да что «забыли» — просто б не смогли, здоровья не хватило бы…
Но он их и когтем не тронул! Молча собрался и ушел. Пришел, закрылся у себя. Коптил фитиль. Гудела голова. Сидел, листал Трактат. Р-ра! Почему?! Ведь, кажется, здесь все так ясно и логично изложено, а вот чего-то все равно не хватает. Он чует это. Но вот чего не хватает? Чего?! Он уже восемь раз переписал начальную главу, да только пока все напрасно. Вот и на этот раз: идея — да, а вот ее изложение…
Да! Вот где задача так задача! Рыжий резко встал и заходил по комнате, потом остановился, осмотрелся. На полках — книги, мало уже книг. Там всего две, там три, там вовсе ни одной. А вон пятно от зеркала; там, где оно прежде висело, теперь стена темнее, чем вокруг. И нет часов, и нет барометра, нет инструментов, нет весов… А вот макет крыла остался. Он и его пытался продавать, только никто его не взял. Одни перья в этом крыле короткие, сказали, а другие слишком длинные, так что и те и другие к письму непригодны. И цвет у них опять-таки не броский, значит, из них и веера тоже не сложишь. На зубочистки, разве что? Так они слишком хрупкие. Вот и пылись тогда, крыло.
Ар-р! Р-ра! Крыло! Да знали бы они!..
И Рыжий снова сел к столу. Всю ночь писал, рассчитывал. И думал. Думал. Думал… И все никак не мог решиться. Потом — сам не заметил, как заснул: даже не встал и в угол не прошел, а так и повалился прямо за столом.
Спал он недолго: час, может, от силы два. Вскочил, испуганно протер глаза, прошел к окну…
И понял — больше так нельзя. Нужно идти. Иначе он сойдет с ума: огромный шар навалится на него и раздавит!.. Тогда он подскочил к столу, схватил было Трактат… Но полистал его и отложил. Нет, все не так! Отпять не так! И вышел налегке.
Глава девятая — РАВНОВЕСИЕ
Шел мелкий дождь, где-то вдали гремел набат. Отряд вооруженных Дукков спешил к Коллегии. Их там, конечно, уже ждут Ларкеты, и, значит, снова будет свара, так что напрямую лучше не ходить. Подумав так, Рыжий свернул, пошел в обход, дворами. У Замка Правосудия легко, как в юности, перескочил через забор и пробежал за Арсенал, благополучно миновал фискальную… Зато возле Невольничьих Бараков нарвался на пикет Малеков. Сержант, старший в пикете, хотел было его арестовать, он уже и лапы ему заломил, да так, что Рыжий чуть не взвыл… но тут вдруг кто-то из толпы насмешливо сказал:
— Это писака, из безродных.
Сержант в сердцах вскричал:
— Шатаются тут всякие! — и отпустил его.
Рыжий опять полез через забор, прошел по опустевшему проулку Живодеров и, наконец, попал к стекольщикам. Ну, вот и все, пришел. Спустился по ступенькам, толкнул — дверь была заперта. Тогда — Сэнтей ему показывал, как это надо делать — Рыжий просунул коготь в замочную скважину, нащупал там нужный рычажок, надавил на него… И дверь бесшумно отворилась.
Рыжий вошел в читальню, осмотрелся. Там все было по-прежнему: столы, книги вдоль стен… И ни одного посетителя. Да и самого хозяина тоже нигде не было видно. Рыжий принюхался — воздух тяжелый, пыльный. И вообще, здесь, похоже, давно уже никто не бывал. Тихо, пусто…
Но вдруг из дальнего угла раздался оклик:
— Ловчер!
Рыжий оглянулся на голос. Да, точно: в дальнем углу стоял Сэнтей. Р-ра, странно! А ведь еще какое-то мгновение тому назад его там не было! Рыжий насупился, насторожился. Сэнтей, наоборот, снова приветливо улыбнулся и так же приветливо сказал:
— Я ждал тебя. Давно! — и двинулся навстречу Рыжему.
Они сошлись посреди залы, обнялись. Точнее, обнимал один только Сэнтей, а Рыжий так, только для виду поднял лапы. Сэнтей опять сказал:
— Я ждал тебя. А ты… Почему ты молчишь?
— Я… я потом скажу, — глухо ответил Рыжий.
— Да-да, конечно! — подхватил Сэнтей. — Чего это я сразу на тебя налетел? Пойдем!
И отпустил его, и поманил за собой. Они прошли через читальный зал. И вот вновь та же комната: напольные часы, шкаф на замке, конторка, книги. Но, главное, как здесь светло! И то неудивительно — в такой маленькой комнатке горели сразу пять светильников по девять свечек в каждом; теперь, при нынешней разрухе, это немыслимая роскошь! Да и сами светильники были из бронзы, а бронзу на рынке берут хорошо. Подумав так, Рыжий прищурился. Сэнтей сказал:
— Мне кажется, ты голоден. Садись.
Рыжий не спорил, сел. Сэнтей поставил перед ним большую вазу с фруктами, подал горячего гур-ни, потом еще подлил и угостился сам, потом он предложил салат из грибных листьев ло, политых пряным соусом. Р-ра, ну и ну! Интересно, откуда он все это взял? И сколько, интересно, заплатил?.. А вкусно как! А аппетитно, р-ра!.. И все-таки странно: Сэнтей ведь никогда прежде не был падок до разносолов, а тут вдруг… Р-ра! Надо спросить, но как бы между прочим, вскользь…
Однако мастер, как всегда, опередил ученика: спросил — совершенно обыденным тоном:
— Ну и как движется трактат?
— Какой трактат? — насторожился Рыжий.
— Тот, над которым ты работаешь, — все тем же спокойным, обыденным тоном ответил ему Сэнтей. — Ты ж по ночам не спишь. А если брат не спит, то, значит, он работает.
— Но…
— Что?
Рыжий смутился. Тогда Сэнтей склонился над салатом и, наколов на вилку большой сочный лист, опять спросил, не поднимая головы:
— Так что же, брат?
— Но… я не брат! — тихо, но весь дрожа от гнева, возразил ему Рыжий.
— А почему это?
Сэнтей старательно жевал, смотрел на Рыжего. В его глазах не было ни удивления, ни гнева, ни смущения… вообще ничего. Учитель просто ел салат и ждал, когда его ученик ответит ему на вопрос, вот и все. Да и потом, он, что ли, вызывал тебя к себе? Нет, это ты сам, по своей собственной воле, пришел к нему. Пришел, чтоб получить совет. Ну так чего тогда юлить, чего не договаривать? И Рыжий нехотя ответил:
— О том, что я уже не брат, что я изгнан из Башни, мне объявил мастер Юрпайс. И я не имел никаких оснований не верить ему. Он обосновал это решение. Да и к тому же он ссылался на тебя, учитель.
— Да? — и Сэнтей недобро усмехнулся. — А я… Я разве, лично я, говорил тебе об этом? Я, — и он встал, резко повысил голос: — Я - это я! И то, что я тебе сейчас скажу… Я — именно я, а не какой-нибудь Юрпайс, и уж тем более не Дрэм, не Эн, не кто-либо другой! Лишь только то, что лично я тебе скажу сейчас или когда-либо потом — только это закон! И это закон не только для тебя, но для всей Башни. Запомнил?!
Рыжий подавленно молчал. Еще бы! Он в первый раз видел Сэнтея в таком гневе!
Но тот вдруг резко сел и проворчал:
— Прости, погорячился! — и опустил глаза, задумался.
Вот и опять, как это часто бывало и раньше, Сэнтей молчал, а Рыжий терпеливо ждал. Шло время. Тикали часы. Слезинка воска покатилась по свече, упала и застыла, помутнела. А вот еще одна. Еще…
Сэнтей вдруг поднял голову, сказал:
— Я знал, что все равно, чего бы они тебе там не наговорили, ты обязательно придешь ко мне. И потому не торопил, не звал тебя. Я… просто наблюдал, — он улыбнулся. — Не сам конечно же. Но те, кому это было вменено в обязанность, постоянно сообщали мне, что по ночам твое окно всегда горит. А раз горит — ты, значит, с нами, в Башне. И я был рад. И ждал. И всем другим велел ждать, ну и… по возможности… помогать тебе, чем можно, поддерживать. Но незаметно, то есть так, чтобы это никоим образом не насторожило тебя, не обидело, не отвлекло от работы… Вот только от какой работы? Как называется твой труд?
Рыжий немного помолчал, собрался с духом и ответил:
— «Трактат о Южном Континенте».
Сэнтей не удивился. Он вообще ничем не выдал своих чувств, а вновь налил себе гур-ни и, отхлебнув глоток, сказал:
— Божественный напиток! Сто сорок трав и девяносто пять кореньев. Дарует ясный ум и укрепляет память.
Рыжий прищурился, почувствовал подвох. Сэнтей же тем временем как ни в чем не бывало достал из вазы яблоко, долго рассматривал его… и положил обратно. Сказал:
— Так, говоришь, о Южном Континенте. Но на Земле, насколько мне известно, есть только один континент, Северный… — и испытующе замолчал.
— Да, — кивнул Рыжий, несколько осмелев, — да, раньше все так считали. Но я не думаю, чтобы Создатель был так нерачителен, что выделил для суши только одну шестнадцатую часть планеты.
— Мысль интересная, — кивнул Сэнтей. — И смелая. И я бы даже так сказал: весьма скандальная. Так что, я думаю, нет лучше темы для какой-нибудь дешевой развлекательной газеты или для пьяного унтер-офицерского застолья. Но приходить с таким вот… гм… известием ко мне, посвященному пятого уровня… Зачем, друг мой? Ты ведь прекрасно знаешь, что я не сплетник и не охотник до шумных сенсаций. Я — просто брат, я ученый. Я в Башне!
Теперь Сэнтей уже открыто, гневно улыбался. Ему было смешно. И в то же время его душил гнев.
— Но почему?! — воскликнул Рыжий. — Я, что ли, не прав? Или…
— Не знаю! — резко оборвал его Сэнтей. — Ты запросто, как будто о каком-то своем закадычном дружке, рассуждаешь о Создателе, о его замыслах, легко берешься их оценивать… А я так не умею. Не смею! Мне кажется, что рассуждать о том, чего нам не дано постичь, просто бессмысленно. Так, трата времени, забава для ума, и не более того. А я — ученый. Зачем ты шел ко мне? Витийствовать? Хвалиться своим смелым словом? Тогда иди в костярню. Нет денег на вино, так я их тебе дам. Не в долг, а просто так, за твои прошлые заслуги. Прямо сейчас. Вот погоди, — и с этими словами он действительно потянулся к тумбочке…
— Нет! — выдохнул Рыжий.
— Что?! — крикнул Сэнтей.
И вновь — глаза в глаза! Глаза учителя и…
Да, ведь так оно и есть. Была идея, были доказательства. А воплощение… Да, можно, запершись, сидеть у себя в комнате еще и год, и два, и три… Но так ничего и не сделать; не получится. А почему это так? Да все очень просто! Нет оппонентов, нет свежих идей, нет спора… И, значит, нет жизни. Потому ты и пришел сюда — за жизнью. Конечно, зурр предупреждал, нельзя сюда ходить, ни в коем случае. Но оставаться одному тоже нельзя! Ведь только здесь, у братьев, еще есть надежда, что кто-нибудь из них тебе поможет, что-нибудь объяснит, а то и просто натолкнет тебя на новое, нетрадиционное решение. Ведь что есть истина? Она рождается в дискуссии. А здесь как раз…
— А может быть, — опять, только теперь уже безо всякого раздражения, заговорил Сэнтей, — а может быть, я и не прав. Вот как-то сразу перебил тебя, а по-хорошему надо было бы дать тебе подробно, обстоятельно высказаться. К тому же: а вдруг у тебя есть какие-нибудь любопытные подтверждающие факты, кто знает! Но ты, я вижу, так пришел, без ничего, даже без тезисов.
Рыжий еще сильней насторожился. Смотрел на Сэнтея, гадал: хитрит он или нет? Или действительно сомневается в своей правоте? Или… Ну, Рыжий, знаешь ли, хватит тянуть! Не веришь ему — уходи. И снова запрись у себя, снова сиди ночами. Или…
И Рыжий решился.
— Есть, — сказал он, откашлялся и приосанился. — Есть некоторые факты, да, — и после недолгой паузы уже совершенно смело продолжил: — Вот первый факт — симметрия. Суть ее такова: если бы на Земле существовал только один Континент, а не два, то мир, лишившись равновесия, давно перевернулся бы. А так он стоит неподвижно. Все мы тому живые свидетели, — и Рыжий замолчал, испытующе глядя на учителя.
Тот усмехнулся и сказал:
— Понятно! Видно… М-да, сразу видно, что ты очень долго ни с кем не общался, и твоя мысль, предоставленная самой себе, с каждым днем уводила тебя все дальше и дальше от истины. То есть ошибка, допущенная в первой логической посылке, умножилась на ошибку во второй, затем в третьей, пятой, десятой — и все это в геометрической прогрессии. Ну а к чему это в итоге привело? Да к тому, что, будь сейчас с нами Юрпайс, он сразу бы изобразил стремительно ниспадающую экспоненту, которая и соответствует ходу твоих, увы, ошибочных умозаключений. Но оставим в покое Юрпайса, тем более что он был весьма несправедлив к тебе. Он вообще предвзято судит обо всем и потому за всю свою жизнь так ничего и не добился. Взять хотя бы его теорию о множестве взаимно совмещенных объемов или, как он их именует, измерений. Ведь если же такое допустить, то… Гм! Нет, мы отвлекаемся! Итак…
Сэнтей сидел, поигрывая вилкой. Да, перед Рыжим снова был тот же самый, привычный учитель — спокойный и уверенный в себе; он не спешит, он терпеливо объясняет, его определения ясны и кратки. И говорит он, как всегда, негромко и неторопливо:
— Итак, ты думаешь, что Южный Континент удерживает Землю в равновесии. Мы, то есть, наверху, а он, то есть, внизу. Красивая гипотеза… Ну а теперь скажи, где у Космоса верх, а где низ? Он, Космос, что, не везде одинаков?
— Д-да, — дрогнувшим голосом ответил Рыжий. — Конечно. Его верх — это Неподвижная Звезда. Вокруг нее вращается небесный свод. И если посчитать ее точкой отсчета…
— Ну а Земля? — нетерпеливо перебил Сэнтей. — Она что, тоже, что ли, движется?
— Нет… Земля неподвижна.
— Тогда что мешает нам считать точкой отсчета Землю? А? Чего молчишь?! — Сэнтей победно улыбнулся. — Да, Землю, нашу Землю вот взять и посчитать точкой отсчета. Земля, кстати, вполне достойна этого, ибо она источник разума. А звезды… Я там не был. И вот… Что же тогда получается? Тоже весьма изящная конструкция. Вот, смотри, представляй. Наша Земля — неподвижная — стоит в самом центре Вселенной; она — и верх ее, и низ, то есть ей падать просто некуда. Вращаются же лишь… — Сэнтей на миг нахмурился. — Да, тут ты в чем-то прав! Ибо создай Создатель кроме нашего, Северного, еще и Южный Континент, Земля в свой первый миг существования действительно перевернулась бы… Ну а потом, уравновесившись, застыла правда, несколько иначе, — и в таком случае мы сейчас видели бы над собой не эти звезды, а совсем другие. И где бы тогда была твоя хваленая точка отсчета, эта как будто неподвижная звезда? Молчишь? Вот то-то же. Еще есть факты?
— Есть, — нехотя ответил Рыжий. — Как только наступает осень, птицы летят на юг, в Бескрайний Океан. Зачем?
Сэнтей пожал плечами и сказал:
— Так птицы — это же неразумные создания. Их поступки ничем не мотивированы. Мало ли что их гонит на гибель.
— Но, — тут уже улыбнулся и Рыжий, — они не гибнут, они возвращаются.
— Мой милый Ловчер, от кого я это слышу?! — устало возразил Сэнтей. Ну ладно если б кто-нибудь на улице или в распивочной брякнул такое. Но ты же все прекрасно знаешь, ты же знаком с трудами почтеннейшего Беррика Лу. А там, у Беррика, что черным по белому сказано? А то, что птицы, закончив свой жизненный путь на суше, улетают на юг и там гибнут. Но там же, где гибнут одни, из океанской пены рождаются другие. И это неопровержимо! Во-первых, потому что это абсолютно точно согласуется с законом всемирного сохранения. А во-вторых, не зря ж оперение тех птиц, которые летят к нам с юга…
— Теория! — запальчиво воскликнул Рыжий. — Голая теория!
— И у тебя, друг мой, такая же теория! Так что давай взаимно уничтожим их, отбросим и перейдем к голым фактам… Но в том-то и беда, что у тебя таких фактов нет!
— Есть!
— Да?
— Несомненно, и еще какие! — воскликнул Рыжий и на какой-то момент даже подскочил за столом. — Да, есть! Это отчеты путешествий. Все, кто когда-нибудь пускались к югу, потом обязательно пишут неправду. Так, например, кто завышает пройденное расстояние, кто искажает данные о виденных созвездиях, а кто и попросту обо всех точных цифрах молчит. Зачем?!
— Зачем? — как эхо повторил Сэнтей, вздохнул, взял яблоко и снова повертел его, потом сказал: — Вот наконец-то мы дошли до главного, — и он печально улыбнулся. — Наш мир, тут мы с тобой едины, неподвижен. Земля уравновешена; одним, двумя ли континентами — для нас, в нашей сегодняшней дискуссии, это пока не важно. Однако мы таким образом рассмотрели только одну сторону Равновесия — равновесие чисто физических сил, то бишь учли лишь тяжести лесов и гор, болот, долин… ну и так далее. Да, эти чаши не колеблются: горы как стояли, так и стоят, реки текли и будут течь. Хорошо ли это? Хорошо. Но это, к сожалению, еще далеко не все, ибо у всеобщего, Великого Равновесия, есть и еще одна, куда более важная и, увы, легко уязвимая сторона. Это — равновесие духовное, иначе говоря равновесие помыслов, устремлений всех тех, кто проживает на Земле, то есть как нас, действительно разумных братьев, так и, увы, всех других. Да, мы, братья, конечно, мудры и прозорливы, а другие глупы и слепы. Зато их — толпы толп, и сила этих толп огромная. Поэтому если вдруг им, другим, какая-то бредовая идея или не менее бредовая цель придает весьма конкретное, направленное движение, то это огромная опасность. Вот почему наш долг — быть крайне осторожными и сдерживать их всех, этих других, ну хоть в каком-то равновесии. Что мы и делаем. И делали до этих пор, скажу тебе, достаточно успешно. Ты только посмотри, полюбуйся, в какой гармонии уже давным-давно находятся все эти заносчивые толпы-страны! Да, на первый взгляд они как будто постоянно ссорятся между собой, воюют, интригуют, мирятся и вновь воюют. Ну и что из того? Ничего. Потому что как только кто-нибудь из них вдруг набирает силу, так тотчас же лишается союзников и терпит поражение. А в нашем славном Бурке? То же самое. И это хорошо. И это, возможно, и есть наше самое ценное достижение. Ибо, например, лично я самой главной целью своей жизни вижу именно эту — помощь нашему миру в сохранении имеющегося равновесия. Иначе он перевернется и погибнет. Ты согласен со мной?
— Д-да, — вынужден был согласиться Рыжий. — Но Южный Континент…
— Успеется! — строго перебил его Сэнтей. — Слушай дальше. И хорошенько запоминай. Итак, сто двадцать лет тому назад одним из наших братьев было совершенно неопровержимо доказано, что если взять Красный Песок, смешать его в должной пропорции с одним довольно редким минералом… то получается такое мощное оружие, которое способно разрушить не только крепости, но даже сами горы, на коих стоят эти крепости. Казалось бы, вот чем мы остановим войны! Мы — братья, да. Но сколько нас? А их, всех этих слепых и безумных небратьев?! Несчетно! И, значит, если бы те знания вдруг каким-то образом попали бы к ним, то тогда… Ты представляешь, что было бы тогда?! Вот то-то же! И, понимая это, тот, кто изобрел Разрыв-Песок, сжег свой Трактат. Или еще пример. Есть заклинание, при помощи которого можно читать чужие мысли. Но тот, кто знал об этом заклинании… Впрочем, довольно! Итак, что есть наука? Путь к познанию. К познанию ради познания, а не для изменения того, что создано Создателем, сверхразумом Всего. А посему будь осторожен, друг мой! Наш континент — это всего лишь только одна шестнадцатая часть планеты, и им, этим другим, перевернуть его будет очень и очень легко. А вот как после всего этого нам, братьям, восстановить его обратно… Надеюсь, ты понял меня?
— Понял, — недобро отозвался Рыжий. — Но Южный Континент — он же… и вдруг замолчал.
— Ну, продолжай! — сказал Сэнтей. — Я жду. Он, Южный Континент… Какой?
Но Рыжий не ответил. Сэнтей же подхватил:
— Вот то-то и оно! Ни ты, ни я и вообще никто другой сейчас на это ничего не сможет ответить, какой он из себя, тот Континент. А вот теперь представь — ты завершил свой Трактат, всем доказал свою правоту, всех убедил… И этим толпам толп вдруг становится известно, что где-то там, на самом дальнем юге, есть некая огромная загадочная страна; возможно, это величайшее, богатейшее чудо из чудес, но и возможно, ты им говоришь, что там их наоборот могут ожидать ужаснейшие, опаснейшие… И что, ты думаешь, кто-то из них будет тебя дослушивать? Увы! Все эти толпы толп слепых от алчности полузверей немедленно придут в движение и ринутся туда… А может, к тому времени уже и оттуда кто-нибудь, разбуженный тобой, ринется им навстречу — как знать? И вот тогда… Но только зачем мне тебе много об этом рассказывать! Ты ж не они, ты и сам вполне можешь легко представить себе, какие от всего этого могут произойти непоправимые беды и катаклизмы. А посему лучше забудь о нем, об этом Неизвестном Континенте. Ради себя забудь, ради нас, братьев, ради Башни: ведь и она тогда, боюсь, тоже не устоит… Ну, что ты молчишь?!
Но Рыжий так ничего и не ответил, а только злобно ощетинился и посмотрел на старика… Да! Именно на старика, а не на учителя — самого обычного старика — вот такого упрямого, капризного, самолюбивого, как только можно было перед ним когда-то тушеваться?
А Сэнтей…
Подслеповато щурясь, подал Рыжему яблоко и сказал:
— Съешь, оно сладкое. И успокойся. Ведь ты мне брат и, значит, мы снова будем вместе. Сейчас я дам тебе залог, и ты опять начнешь работать. И будешь каждый месяц получать еще. А через год ты принесешь мне книгу.
— О чем?
— О Равновесии.
— Что?! — Рыжий подскочил. — А Южный Континент?
— А я разве сказал, что его нужно отринуть? Ведь без него, насколько я из твоих слов понял, не будет никакого Равновесия. Вот ты и о нем все напиши, и, кстати, подсчитай, что будет, когда вдруг он… А, впрочем, ты и сам в силах решить, что и в каком порядке тебе лучше всего излагать. Ну так что, согласен?
Но Рыжий молчал. Рассеянно взял поданное яблоко, стал грызть его. Да, оно сладкое, душистое… и словно бы хмельное. Да еще как! Вот и глаза уже слипаются, спать хочется — невмоготу. Зурр говорил…
— Что это?! — вскричал Рыжий. — Почему…
Запнулся, сглотнул слюну и часто-часто задышал…
— Ешь, ешь, — насмешливо сказал Сэнтей. — Это не просто яблоко, а Яблоко Забвения. Оно тебе дарует равновесие и заглушит твою великую печаль. Ешь, ешь!
Рыжий отбросил яблоко, шагнул было к Сэнтею… да зашатался и упал. И тотчас словно провалился в темноту…
Глава десятая — КРОНС, ВЕТЕРАН ШЕСТОГО ЛЕГИОНА
Когда он очнулся, уже вечерело. Вокруг него, со всех сторон, были деревья. А, это он, значит, в лесу. И только что проснулся. Но он не лежал на земле — он шел. Точнее, едва брел по косогору. И он был очень слаб. Ф-фу, вот дела, как тяжело ему дышать! А этот лес вокруг…
Какой странный лес! Он в таком странном лесу никогда прежде не был! И вообще, это, может, совсем и не лес? Настоящий лес, он должен быть таким темным, сырым, почти непроходимым. Земля в таком настоящем лесу должна быть сплошь усыпана еловыми иголками, палой листвой, а на полянах, если они есть, должен расти вереск. Ну, и еще земляничник. В голодный год, когда в лесу совсем нет дичи, порой приходится есть ягоды, а то даже и листья. А те, кто половчей, ищут сладкие коренья. Да это, в общем-то, легко. Вот Хват учил…
Хват! Кто это такой? Нет, он Хвата не знает. И лес… В лесу он, кстати, никогда прежде не бывал, он про лес знает только по книгам да по чужим рассказам. А вот по чьим, он это помнит, нет?
Не помнит! Остановившись, он широко, нервно зевнул и посмотрел по сторонам. Вокруг росла трава — высокая, душистая. И еще было много цветов. Зато деревьев было очень мало, они стояли поодаль одно от другого, как в парке. А что такое парк? Парк — это там, возле дворца. А во дворце живет король, дряхлый старик: точнее, прежде жил. И как только он умер, так парк в тот же день и сожгли. И он ходил смотреть, как этот парк горит. Там тогда огромная толпа собралась; шумели, спорили и напирали все ближе и ближе. А королевские стражники отгоняли их от огня, кололи пиками, кричали, чтобы расходились, и обзывали их мародерами. А что такое мародер?
Р-ра! Что это?! Он падает!..
Упал, закрыл глаза…
Открыл. Теперь он не в лесу, а в ярко освещенной комнате. Слезинка воска катится по свечке. Он смотрит на нее и ждет, когда теперь следом за ней сбежит еще одна слезинка. И вот она уже бежит. А вот еще одна. Еще… Надоело на это смотреть. Тогда он медленно, с большим усилием переводит взгляд в сторону. Теперь он видит стол, а за столом сидит мрачный старик. Этот старик берет из вазы яблоко, о чем-то говорит, но его голоса не слышно. Кто это?
Как кто? Да это князь! И князь уже сидит не за столом, а на полу, на шкуре чудо-зверя, и, улыбаясь, говорит:
— Так не ходи! Вот так ходи!
И ты, смотрящий этот сон, послушно зажимаешь в лапе фишку, а после ходишь так, как тебе указали. Смотришь в окно. Ночь за окном, метель… А в княжьем тереме тепло. В печи трещат поленья. А ты играешь с князем в шу. Пьешь сладкое вино. Грызешь орехи. Думаешь. О чем? Это важно! Это очень, очень важно! Ну, вспомни! Ну! Ну…
Нет, так и не вспомнил. Встал и пошел. Его шатало. Споткнулся, чудом удержался на стопах. Внутри горел огонь. Пить! Пить! Пошел — скорей, скорей!
И, наконец, нашел ручей, торопливо спустился к нему по камням, склонился над водой, увидел в ней свое отраженье…
И сразу вспомнил, кто он такой и откуда, и как его зовут, и даже как он здесь, в этом лесу, оказался. Он — это Рыжий Кронс, второй трубач Шестого Легиона, шулер и пьяница, бретер. В прошлом году, когда форсировали Эрру, он первым выскочил на мост — и был представлен к званию, возглавил полусотню. Потом… за сущую безделицу, за драку на посту сразу попал под трибунал, а там, как водится, забрали белый офицерский шарф, вернули в трубачи и даже лишили надбавок за выслугу лет. И он опять клыкачил, только теперь уже не так, без рвения, и, затаившись, ждал. Когда была Амнистия, подал в отставку — отклонили. Тогда, когда этой зимой опять вступили в горы и начались бои, и вроде даже потеснили Претендента, но настоящего успеха так, правда, и не было, и не кормили еще, и генерал кричал, что с дезертиров будут живьем драть шкуру… Тогда он, как и многие, бежал. И еще как — ого! Тогда были веселые деньки. Но об этом молчок! А дальше было так: спустились с гор и начали сбиваться в шайки. Быр звал его с собой, Быр верный, старый друг, но он ему твердо сказал: — «Нет, хва, я больше не воюю». Тогда Быр начал над ним насмехаться, да и другие тоже насмехались, а он… да он и прежде никого не слушал! Так и тогда сделал по-своему: продал кольчугу, выбросил ремень, — все это сделал искренне, без сожаления, и также искренне, желая все начать сначала, пришел в ближайшее селение, работал на хозяина: колол дрова, чинил забор, копал колодец. И так целых семь дней… Но больше он тогда не выдержал — ушел не попрощавшись, расчет — и тот не взял. Шел, думал… Нет! Он ни о чем тогда еще не думал, а просто взял да и прибился к плотогонам, спустился с ними по реке, продали груз, три дня кутили — и в эти дни он весел был, и вообще, он был тогда, как все… А возвращаться на делянки отказался. Расстались холодно; они ушли, а он до темноты как неприкаянный бродил по городу… А ночью понял, что с собой не совладать, что нужно быть самим собой, не врать хотя бы самому себе — и вышел за ворота, лег при дороге в обочину и затаился…
И утром все уже было в полнейшем порядке — он снова был в кольчуге, при ремне. Х-ха, он опять вольный бретер! И покатилось оно, понеслось, и р-ра, ра, ра! Ну а вчерашним поздним гадским вечером…
Жар! Бок болит. Пить! Пить! И Рыжий… Или Кронс?.. Он, одним словом, он сам по себе, лег на брюхо, припал к воде и долго, долго пил, а после встал и отряхнулся, еще раз посмотрел на свое отражение. Ух-х, как они его вчера…
И ощетинился! Еще бы! Ведь начиналось-то вчера все очень хорошо! Ты, Кронс, их даже и не звал — они сами подсели. А предложили — ты не отказал. И — покатил и покатил, и покатил! А кубик в умных живых лапах — он и сам как живой! Как пожелаешь, так…Чет, чет, нечет! Сгреб, снова сгреб, нечет — опять твое, ар-р, р-ра!.. Вот как оно все поначалу было хорошо! Как вдруг этот вихлястый завизжал: «Горбатишь!» А ты ему сказал, что если он… Ну, а разве не так? А эти, этим оно не понравилось, эти вскочили. И что уже тогда? Тут словами уже не поможешь! Ты тогда стол на них — х-ха! Сам в двери- р-ра! И, как поется, стопы мои, стопы! Но обошли они тебя, догнали, окружили. И — вилами! Вилами! Вилами! Ох-х, не вздохнуть теперь! Шерсть слиплась, бок свело. Не загноилось бы… Р-ра! Р-ра! Зато ты вспомнил, кто ты и откуда! Ты — Рыжий Кронс, беглый трубач Шестого Легиона, безместный йор, там, за ручьем, почтовый тракт, налево третий поворот — и станция, и если поспешить…
И он поспешил! Ух, он и гнал тогда, ух, не жалел себя! Взбежал на один холм, второй…
И — вот оно, все правильно. Дорогу преграждал плетень, а рядом с ним стоял чистенький ухоженный дом под желтой черепичной крышей. Над крышей реял стяг. Возле плетня сидели четверо купцов. Рыжий неспешно подошел к таможне и лег поодаль от купцов, прямо в пыль. Купцы с опаской покосились на него. А что? Было с чего; ты вон теперь каков — в ободранной попонке, кровь на боку, а сам в репьях. Да, время нынче неспокойное, шатаются тут всякие…
Купцы молчали. Он тоже молчал. Они ждали.
Но вот ударил-таки гонг. Купцы степенно повставали, взяли свои заспинные мешки. Рыжий лежал не шевелясь. Из дома вышел офицер, открыл в плетне калитку и сказал:
— Ну что, тряхнем мошной?
Купцы покорно встали в очередь, поставили перед собой свои мешки и развязали их. Офицер долго рылся в мешках, зло ворчал… Но зато как только получил от них то, что ему полагается, так сразу прекратил досмотр, громко вздохнул и разрешил купцам пройти через калитку. Купцы прошли.
Тогда и Рыжий встал и тоже подошел к плетню. Спросил у офицера:
— Вы позволите?
Тихо спросил, возможно, даже очень тихо. Но при этом глаз не опустил. И офицер злобно ощерился. Он был в стальном налобнике, в кольчужке, а в доме, Кронс это знал, у него еще пятеро солдат в подмогу, а тут, он думает, какой-то наглый серогорбый…
— Так вы позволите? — еще раз спросил Рыжий. И вздернул верхнюю губу, прищурился…
И офицер сразу все понял, сник и отступил на шаг, молча кивнул — мол, проходи. Рыжий прошел мимо него — чеканя шаг, пружиня. Вот так-то вот! Знай свое место, чва! Тряси купцов, стращай бродяг. А строевых не трожь! Строевые, они…
И вот с такими вот, а также и с другими, подобными мыслями, Рыжий, свернув за дом, увидел дилижанс — такой приземистый, обитый медными листами, на рессорах. В упряжке были пленные далянцы. Это правильно! Кронс хотел было к ним подойти, сказать им пару ласковых… Брякнул звоночек! Он снова обернулся к экипажу. Возница уже сидел на козлах и нетерпеливо поигрывал кнутом. Вид у возницы был просто похабный: ржавый налобник сдвинут набекрень, кольчужка грязная, вся в пятнах, с зимы небось не чищена. М-да, времена пошли: пораспускались! Но тем не менее Рыжий кивнул вознице, словно старому знакомому, вскочил на откидную лесенку, прошел, не глядя на купцов, в салон и сел там в самом дальнем углу. Окна захлопнулись, дверь с лязгом затворилась.
— Порс! — крикнул офицер.
И свора понесла. А куда — да не все ли равно! Лишь бы куда подалее от этих диких мест, где ни за что, ну вовсе ни за что, а только за одно твое умение, за то, что кубик, как живой… Ух-х, как в боку болит! И это ведь еще дорога ровная, у дилижанса мягкий ход и вроде не трясет совсем — а бок вон как свело, и бьет тебя, колотит, гложет! И то сказать — три раза они вилами… А больше ничего не помнится — как исхитрился выжить ты тогда, как не подставил голову, как все же вырвался от них и побежал… А ведь и даже убежал! Хр-р! Р-ра! И это как раз то, чего ни один чва вовек не сделает не сможет, так-то вот!
Ну а теперь лежи, не шевелись, и так, глядишь, оно и зарубцуется, затянется… И он лежал. Мчал дилижанс. Покрикивал возница. Кнут то и дело щелкал по далянцам — и те неслись, неслись, что было сил. Пыль понемногу набивалась через щели, в салоне стало тяжело дышать. Рыжий хотел было вздремнуть — не получалось, и он так и лежал не шевелясь и слушал боль в боку. Ну а купцы тем временем засветили походный фонарь, достали кубик, принялись играть по маленькой. Хр-р, вот где музыка так музыка! Чет, чет, нечет, нет ваших, перебор — и снова чет, нечет… Кронс вздохнул и отвернулся. Тоска. Тоска! И ощущение, что ты — уже не ты, а непонятно кто. Нет, все же это ты. Вот так же, помнится, ты и тогда лежал, вздыхал, когда отец повез тебя в Тримтак. Только тогда в салоне не было так темно и душно — тогда все окна были нараспашку, тогда даже и решеток еще на них не ставили, и ты всю дорогу беспрепятственно смотрел в окно. Потом приехали в Тримтак, сошли на станции. И, помнишь, стопы еще затекли, и спину с непривычки свело. И вообще, страшно было. Отец сразу заметил это и прямо на станции купил тебе тянучку, и вы пошли по улице. Отец молчал. И ты молчал шел и жевал. Тянучка была сладкая и мятная, от нее во рту был приятный холодок. А в брюхе тебя мутил страх, ведь ты же тогда в первый раз приехал в город. А город… Хр-ра! Вначале старший брат в него ушел, теперь вот и тебя отправили…
Вот вы пришли туда, куда вам было надо. Отец подвел тебя к забору, посадил возле него, в тени, а сам прошел еще немного дальше и постучался в караулку, там что-то кратко объяснил — и его пропустили. А ты сидел в тени на чурбачке, жевал тянучку и моргал. А страха в тебе уже не было — была одна тянучка. И лапы были вялые. И мокрые глаза. Там, за забором солдатская школа. Солдат — это почет, мундир и ежедневная кормежка. А дома было что? Голодуха. Вот то-то же! Так что сиди и жди. И ты сидел и ждал. А день был жаркий, тебя, хоть ты был и в тени, все равно разморило…
Вдруг заскрипела дверь, вышел отец, а с ним сержант. Ты подскочил и встал навытяжку. Сержант строго сказал:
— Ну, долго тебя ждать?
Ты робко глянул на отца. Тот отвернулся.
— Порс! — приказал сержант.
И ты пошел за ним. Тянучка была сладкая и мятная, в казарме ее сразу отобрали. А ты…
Рыжий поморщился, открыл глаза. Купцы по-прежнему гоняли кубаря — по маленькой, как это всегда между ними водится. Один из них проигрывал и злился. Он был нетерпелив и то и дело зарывался. Таким играть нельзя… И он-то и сказал в сердцах:
— А ты чего уставился? Сядь да метни, тогда поскалишься.
Рыжий молчал. Тогда другой купец сказал:
— Отстань ты от него. Он, видишь, гол.
— Так в долг! Ну, или после отработает. Вон он какой! Да на таких пахать.
Они заспорили — брать голяка или не брать. А может, лучше вовсе не играть, наигрались уже. Их было четверо. Купцы. А может… Кто их знает? Вот замолчали, смотрят на тебя. Ждут. Даже так? Н-ну, хорошо! Рыжий подсел к купцам. Взял кубик, повертел его. Как будто без изъяна, не горбатый. Уже хорошо. И он сказал:
— Ставлю на кон семь дней. От зари до зари. Могу пилить, копать, возить, класть кирпичи… Итак, моих семь дней. А вы?
Купцы поставили монету. Одну на четверых. Ну, ладно! Рыжий спросил:
— Чет?
— Чет, — ответили.
— А я тогда — нечет!
Метнул. Выпал, конечно же, нечет. Рыжий сгреб выигрыш, они помялись, пошептались, и еще раз поставили, опять только одну монету, и тогда он свою тоже оставил, снова метнул…
И понеслось оно! Долго неслось! Потом играли в лысого, трех королей, бренчалку. Игра шла хорошо, и вскоре Рыжий нагрузился — надел модный лантер с карманами (в карманах двадцать пять монет) и бронзовый браслет на лапу. Больше играть купцы не захотели. И не надо. Рыжий отдал им кубик и вернулся к себе в угол. Они молчали. Он молчал. Лежал и делал вид, что будто спит…
А вот и станция. Возница загремел запорами, дверь подалась…
И Рыжий вдруг метнулся из салона! Сбил возницу! И — через площадь — во дворы, а там через забор, на мост, под мост, по огородам…
И через полчаса уже сидел у Хныки. Там он поел горячего и рассказал, как было дело.
— И правильно! — сказала Хныка. — Мало ли! Теперь такие времена, что лучше поберечься. Тем более, купцы — народ особенно продажный, ненадежный. А у меня… Устал, поди? Тогда я постелю. Я мигом!
Три дня Рыжий провел у Хныки. Лежал, скучал, лечился. Потом откуда ни возьмись явился какой-то тип, назвался Частиком — как пронюхал?! — и передал привет от Быра. Быр снова звал к себе. Он, Частик рассказал, залег на Сытом Перевале, ну, и гребет конечно же, так что это дело верное, жирное, такое грех прочухать. Но Рыжий снова отказался. Сказал:
— Зачем мне кровь? Я и так проживу, по закону.
Частик сказал:
— Отбили тебе голову! Какой теперь закон?! Где он?
— Это не важно.
Частик ушел. Потом, на следующий день, ушел и Рыжий.
— Куда? — спросила Хныка.
— Я не знаю.
И он и впрямь не знал, куда. Просто ушел, и все. В кольчужке, при ремне, при поясе. Там, в пряталках, было еще четырнадцать монет, а остальные он все отдал Хныке. С ней, Хныкой, хорошо, когда деваться больше некуда. Ну а пока…
Два дня он просто шел, никого не шерстил, кормился, как простой тихарь, с огородов. Потом, когда устал от овощей, опять сыграл, переоделся и поехал. И в дилижансе его и схватили; правда, как после оказалось, по ошибке. Но пока они до этого донюхались, сообразили, так продержали — ни за что и ни про что — пять дней в вонючей тесной яме, и только уже после очной ставки отпустили. А шили ему ограбление… Зато потом его никто уже не трогал. И так он ехал, ехал, шел, шел себе, потом перевалил через Мукорский перевал и снова шел. И только там уже, в диких местах, где от поселка до поселка порой случалось по три дня пути, он понял: все, хана! Всему хана! Пять лет служил — довольно. Потом год йорствовал. А что!? Куда было тогда? Домой, что ли? Ага! Разогнался! Брат, лейтенант дорожной стражи, убит контрабандистами. Мать умерла в прошлом году от эпидемии — отец писал. Отец! Ворота. Сладкая тянучка. Казарма — за отцовские долги… Нет, дома ему точно делать нечего. Точнее, дома у него просто нет. Да и потом, зачем ему на север, когда есть юг?! И вот он и двинул на юг. И не ошибся. Здесь, на юге, и летом и зимой ему будет тепло. И здесь никто его не знает и, между прочим, не желает знать! Здесь вообще никому нет никакого дела не только до него, а вообще ни до той на севере войны, ни до Бурка, бунта, ни даже до самого Претендента. Здесь они сами по себе. Здесь…
А зачем это тебе? И что с того, что ты никогда Его не видел? Ну и что?! Так ведь и твой брат Его не видел. И отец. И даже дед. Никто в твоей родне Его вовек не видел — и как-то ведь с этим жили. Да, знали, что Он есть, ну и пусть себе Он есть. Да мало ли чего на этом свете есть, всего не пересмотришь. И так и ты — вот если бы ты шел просто на юг, то все было бы понятно: захотелось на юг, и идет. Так нет же! Нет! Ведь ты идешь к Нему, только к Нему. Зачем? Ну и придешь ты к Нему, увидишь ты Его, а дальше что? Ты, Рыжий Кронс, бывший трубач Шестого Легиона, идешь уже три месяца без остановки. Там, в Бурке, осень, холода, и даже уже здесь, на юге, под утро дует весьма свежий ветер. И пахнет он…
Вот именно! Так что скорей! Скорей! Еще скорей! Стопы вязли в песке; он бежал. Вокруг были холмы — песчаные; на них нигде ни кустика, ни даже листика. Вчера в последний раз пил воду из ручья. Скорей! Холм. И еще один. Взбежал…
Глава одиннадцатая — ГЛАЗ
И замер. Перед ним был Океан! Вот он какой! Действительно, бескрайний. Соленый, терпкий дух и волны в два-три роста. Ветер срывал с них гребни, бил, швырял. Рев, брызги, радуга! Рыжий сбежал с холма, лег на прибрежный песок и прищурился. Волны вздымались, падали и отступали, и вновь вздымались, падали, ревели… и, убегая, оставляли за собой разбитые ракушки и маленьких зверьков, похожих на пузатых толстых раков. Эти зверьки шуршали по песку «шкраб-шкраб». Рыжий лежал, смотрел на волны, думал. Надеялся, что вот еще немного, и он наконец поймет, учует, догадается, какая же это причина так неудержимо влекла его сюда, к Океану.
Но время шло: рычал, гремел прибой… Нет, непонятно! Вот разве только что, может быть, этот запах — такой соленый, свежий и… да, вот именно, есть в этом запахе еще нечто такое, что прямо так и тянет, тянет его в волны, прямо в прибой… Нет, это уже слишком, это уже глупости. Ему и так здесь хорошо. Да, вот действительно — он просто так лежал, смотрел на Океан, на радугу — и ему было очень хорошо. Вот просто очень хорошо — и все, без объяснений.
И так он пролежал весь день. Под вечер в Океане показались лодки. Они прошли вдоль берега и скрылись за ближайшей прибрежной скалой. Рыжий поднялся, отряхнулся. Так, может быть, подумал он, и понимать тут нечего? Просто безместный старый йор устал от своей прежней бестолковой жизни, а здесь, ему так чуется, как будто бы можно будет начать все сначала. И если это и вправду окажется так, то разве это плохо? Как будто нет. Но только «как будто»! Рыжий вздохнул и побежал вслед за лодками.
Там, за скалой, возле удобной тихой гавани раскинулся небольшой рыбацкий поселок. Дети играли на песке, старик сидел возле коптильни, ветер свистел в развешанных для просушки сетях. А вон ряд хижин — черных, покосившихся. А вон высокое крыльцо и над ним вывеска; это, вне всякого сомнения, трактир, значит, там можно будет подкрепиться. Рыжий поправил на себе ремень, одернул пояс, и, приосанившись, двинулся к поселку. Дети, только завидев его, сразу вскочили, засвистели. Рыжий строго прицыкнул на них, и они замолчали. А он, еще раз приосанившись, уже вошел в трактир, важно прошел через весь зал, сел у окна и только тогда уже осмотрелся по сторонам. Дым, ругань, чад. То есть трактир такой же, как везде. Но, правда, зато здесь прямо из окна виден сам Океан! А вольный терпкий дух, он до того силен, что даже здесь, в трактире, не перебивается. Вот так-то вот! Вот шел ты к Океану — и пришел! Да, только так… Вот только для чего? И Рыжий снова осмотрелся.
Да только что здесь высмотришь? Трактир и есть трактир — везде. Рыжий насупился, заскреб когтями по столу. Хозяйка — стройная, в коротком белом фартуке — лениво подошла к нему, спросила:
— Ну, что тебе?
Рыжий, откинувшись к стене, молчал, смотрел чуть в сторону. Потом сказал, почти не разжимая губ:
— Есть. Пить. И… музыку.
Хозяйка удивилась:
— А какую?
— Военную. И кубик. И чтоб без изъяна. Да, и еще! Всем… вот по столько, на два когтя. Счет — мне.
Хозяйка улыбнулась и сказала:
— А ты мне нравишься.
— Взаимно. Шевелись.
Вечер прошел под музыку, удачно. Народ везде один — купились завидущие. Чет, чет, нечет, простите, но не угадали. Еще? Еще! Еще? Увы! Чет, чет, нечет, гони расчет! И гнали, а куда им деться. И кусали губы. Но возмущаться — нет, не возмущались, уж больно он для них был… Как бы это? Необычен. Вот и терпели, да. Потом, когда все разошлись, Рыжий сгреб выигрыш и жестом подозвал хозяйку. Та подошла, села напротив. Рыжий кивнул на деньги и сказал:
— Вот, это за постой. Бери.
Она не шелохнулась. Молчала, думала, водила лапой по столу. Потом спросила:
— Ты откуда?
— Издалека. Тримтак.
— А где это?
— Не помню.
— Надолго к нам?
— Да как тебе сказать…
Хозяйка понимающе кивнула. Потом, сделав печальные глаза, сказала:
— Меня звать Ику. А тебя?
— Кронс из Шестого Легиона. Два гвардейских шеврона, пять ран. Год в бегах. Что еще?
— Нет, ничего. Ты голоден?
— Немного.
— Тогда сходи, возьми с плиты что хочешь. И, кстати, чашки прихвати.
— Две?
— Две.
А ночью, в дальней комнате, она ему сказала:
— Ну вот, я снова замужем, — и тихо засмеялась.
Потом, когда она заснула, Рыжий еще долго лежал с открытыми глазами, смотрел на черный закопченный потолок и думал. Вот наконец-то у него есть дом. Жена. И надежное, честное дело. А что еще нужно для счастья?!
И он действительно был счастлив. Раздобрел. Утром вставал, работал по хозяйству, ездил в соседнее селенье за продуктами, а вечером стоял у стойки. Пришла зима, и Океан штормил. Никто уже не выходил на промысел, и потому в трактире постоянно было оживленно. Пили репейную, чешуйную, двойную. Потом, разгорячась, звали хозяина играть. И он садился и выигрывал. У всех. Всегда. Меняли кубик, правила, кричали, чтобы он закрыл глаза, чтобы он сел к столу спиной — но ничего не помогало: он выигрывал. А почему это у него так получалось, Рыжий и сам не знал. Давно, еще в солдатской школе, он вдруг как-то заметил, что кубик, если сильно захотеть, всегда ложится так, как это ему надо. Потом, правда, у него очень сильно болела голова, и потому играл он редко, лишь только в случаях крайней нужды. Но все равно товарищи дразнили его шулером… Но все это теперь осталось там, в той, в его прежней дурной жизни, а здесь, в Голодной Бухте, ему было легко, он ничего не чувствовал и голова его всегда была ясна. И он метал — сгребал, метал — сгребал. Слава о нем пошла гулять по всему Побережью. К весне уже не проходило и недели, чтобы в трактир «Под якорем» не заезжал какой-нибудь самонадеянный гордец, желающий сыграть с хозяином. Хозяин никому не отказывал. И это шло на пользу: трактир расстроился, хозяйка покруглела. Сменили вывеску, на окнах повесили шторы, а на столах по два раза на день перестилали свежие, до хруста накрахмаленные скатерти. Утром, позавтракав, Рыжий просматривал отчеты, брал пробы из котлов, корил работников — всегда было, за что, — и выходил гулять. Дети бежали вслед за ним, кричали:
— Дядя! Дядя!
Он раздавал им сласти, и дети умолкали. Пройдя через поселок, Рыжий взбирался на скалу, садился на один и тот же камень, раскуривал красную коралловую трубку и смотрел на Океан. Дул сильный ветер — зимой так всегда — Океан штормил. Вода, одна соленая вода до горизонта. И дальше то же самое; пять, десять лет плыви — и ничего там не встретишь. Вот так-то вот: здесь — самый край земли, а дальше и вообще ничего нет. Тогда чего он здесь ждет? Что ищет? Месяц тому назад в поселке объявился незнакомец. Он все ходил, высматривал, выслушивал, потом целый вечер просидел в трактире, но не играл, а лишь смотрел, как другие играют, да криво ухмылялся… и в ту же ночь исчез. Все говорят, что это был фискал из Бурка, стряпчий стола налогов. Что ж, может быть оно так и есть… А если это приходила память? О чем-то очень важном. И недобром. Но вот только о чем эта память? О чем? И он сидел, смотрел на Океан и вспоминал — уже в который раз! — всю свою жизнь. Напрасно! Он жил, как многие: вначале было просто самое обычное деревенское детство, а после — за отцовские долги — он был продан в солдатскую школу, затем честно служил, затем ловко бежал… Нет, что-то все не так. Не стоит вспоминать, а то и без того… Вот и жена уже все чаще говорит:
— Соседи беспокоятся. Ты ж обещал, что съездишь в город.
Да, было дело, обещал. Зимой в поселке была сходка, на ней его избрали старостой. Теперь он должен привезти из города станок, в котором мелют рыбьи кости, а еще новые веревки для сетей, поплавки, рассаду для теплицы и парусину, весла и крючки. Да, денег у него хватает. И не жалко. Он щедр, он всеми уважаем. И чтобы кто-то из поселка взял да и в ребра ему вилами…
Да, вилы! Рыжий вздрогнул. Раны давно уже зажили и бок теперь болел только в большую непогоду, однако вспомнить то, как это он тогда сумел спастись, бывший трубач за все это время так и не смог. И ладно бы! Но с той поры, точнее, именно с той злополучной ночи, его преследовал один и тот же сон — как будто он, словно дикарь, в толпе таких же дикарей бежит — на лапах и стопах, да-да, на всех на четырех! — бежит по какому-то дикому, мрачному, непроходимому лесу. Они бегут, ревут, преследуют какого-то диковинного зверя. «Наддай! Наддай!» — гремит в ушах. Он наддает…
— Хозяин!
Рыжий обернулся.
— Хозяин! Вас ждут!
Это приказчик Рон стоял внизу и звал его. Значит, к нему опять кто-то пожаловал. Хр-р-ра! Как это ему все надоело! Рыжий поморщился, спустился со скалы и медленно побрел к трактиру.
В трактире, у окна, за игровым столом сидел поджарый незнакомец в шейном платке и новенькой кольчужке. Завидев Рыжего, он встал, важно кивнул, приветствуя хозяина, и снова сел. Рыжий прошел через зал и сел напротив незнакомца. Спросил:
— Есть? Пить?
— Играть, — отрывисто ответил незнакомец.
Рыжий откашлялся и приказал через плечо:
— Жена! Поднос!
Ику внесла поднос, на нем лежали кубики. Гость долго выбирал, какой ему больше по лапе, и наконец сказал:
— Вот этим.
Рыжий кивнул, спросил:
— Во что?
— В хромого бегуна.
— Извольте.
Они принялись играть. Кубик метался по столу: считали. Вначале Рыжий выиграл три кона, затем отдал игру и увеличил ставки, потом опять для вида проиграл, удвоил банк, метнул…
Гость посмотрел на кубик и сказал:
— Ваша взяла.
— Как водится.
— Сколько с меня?
— Четыреста двенадцать.
— А если золотом?
— Буду не против.
Гость развязал кошель и расплатился. Платил он с форсом, по-ганьбэйски: сыпал навалом, почти не считая, после сдвинул все это лапой через стол, встал, попрощался и вышел. И вот его шаги уже давно затихли вдалеке…
А Рыжий все сидел, смотрел на груду золота и думал. Монеты были разные — далеких, близких стран, на всех на них были знакомые, привычные гербы. А эта, интересно, чья? И вообще, какая странная монета! Буквы на ней… Ого! Он никогда таких не видел! Все пишут одинаково — здесь и в Далянии, Фурляндии, Тернтерце. А тут… Рыжий, боясь пошевелиться, сидел, смотрел на странную монету… и чувствовал, что нечто очень важное вот-вот проснется в нем — и тогда сразу рухнет, опрокинется все то, что стало для него уже таким своим, привычным! Он счастлив, он доволен всем. Зачем ему… Нет, глупости! Он взял монету, повернул…
И вздрогнул — глаз! Такой вот странный герб — обычный глаз: большой, внимательный, печальный… И очень знакомый! Он уже где-то видел этот глаз. Но где? Рыжий задумался. И вдруг…
Монета в его лапе как была, так и осталась неподвижной, а глаз зато…
А глаз на ней вдруг повернулся и словно посмотрел в окно, на Океан. Рыжий прищурился и, задержав дыхание, повел монетой вправо, влево…
А глаз по-прежнему смотрел на Океан. Он звал, манил. Он… разбудил тебя! Когда-то на реке, зимой, на льду…
Нет-нет! Бред это, наваждение! Ты — староста, трактирщик. А это колдовство; не знал ты никакой реки и дикарей не знал! В огонь ее, пусть плавится! Рыжий стремительно вскочил…
И грузно сел обратно. Дрожащей лапой затолкал монету в пояс. В глазах у него рябило. И сыпало искры. Снег чудился. Сугробы — вот такие, в рост! А за сугробами — громоздкий двухэтажный сруб, там на крыльце два стражника в шейных ремнях, налапниках. Кто-то кричит: «Двор-р! Двор-р!». Рыжий вскочил!..
И снова сел. Видение исчезло. Он подождал немного, отдышался и, подозвав жену, хрипло спросил:
— Кто это к нам приходил?
— Ганьбэец. Капитан.
Рыжий кивнул: он так и думал. Ганьбэй — это всегда обман и колдовство, злодейство. И этот капитан, он как все они… Вот почему он спрашивал: «А золотом?» Значит, заранее готовился. Подсунул. А ты схватил, не посмотрев! И как теперь избавиться? Никак. Играл — и проиграл все сразу. А Быр ведь сколько раз предупреждал тебя. Быр… А кто это такой? Ты Быра никогда не видел! А, это Частик говорил о нем… А Частик — это кто, Частик откуда взялся? А сам ты кто?! Ты никакой не ветеран! Ты и присяги даже не принимал! Сэнтей еще смеялся, говорил…
Вот именно: Сэнтей! Подвал! Стол, сорок пять свечей! А свет от них…
Он отшатнулся и зажмурился…
Вскочил…
Не помогло! Огромный серый шар влетел в окно, ударил его в голову, свалил, подмял — и давит, давит, давит! Кричать? Нет сил! Он… Он…
— Кронс! Что с тобой?
Очнулся. Лежал на полу. Жена трясла его за плечи: в ее глазах — испуг. Его жена? Гм, странно! А это что? Трактир? На окнах шторы с якорями. Глупо…
— Кронс! Отвечай! — звала его жена. — Кронс! Кронс!
Рыжий молчал. Язык его распух. Глаза его слезились; было очень больно. Но вот он все же встал, сам подошел к скамье, сам сел на нее. Сглотнул слюну.
— Ты болен? — спросила жена.
— Я? — через силу усмехнулся Рыжий. — Нисколько. Я просто устал. И… что-то душно здесь мне. Выйду, пройдусь.
— Нет, лучше здесь сиди, — строго сказала жена. — Куда тебе ходить такому?! Здесь будь. Я принесу тебе подушку. И дверь запру. Чтоб эти не толкались, не шумели.
Он не спорил. Закрыл глаза — и так и просидел до вечера. Вначале он еще надеялся изгнать чужие, непонятно как попавшие к нему видения и, думая, что его собственное прошлое ему в этом поможет лучше всего остального, стал вспоминать сперва отца, а после школьную казарму, день выпуска, свой первый бой, друзей по Легиону и маркитантку… как ее… ах, да! — Крошку Ланти… Но его память, как секретные чернила, очень быстро высыхала — и оставался чистый белый лист, лист превращался в снег, а по снегу, по насту, след в след — на четырех, как звери, — дикие воины шли к Оленьему Ручью. Юрпайс кричал. Зурр говорил — но вот что именно, Рыжий не слышал. Рыжий пытался вспомнить дом, в котором он родился, цветник под окнами… А видел только Выселки. Хват — тощий, изможденный — лежал в траве: он умирал. Лед трещал под стопами, Дымск спал. Лягаш остановился, оглянулся и спросил:
— Ну а меня хоть ты еще помнишь?
— Помню, — ответил ты. — А как же! И ты прости меня, Лягаш.
— Так не за что. Кто я? Простой дикий дикарь. А ты… — И тут Лягаш насмешливо прищурился…
И вдруг исчез. А Рыжий все сидел в трактире. Чад, полумрак. Ику возилась у плиты. Было слышно, как ревел прибой. Там, совсем рядом за стеной, Океан. И там же, рядом с ним, поселок. Ты в том поселке староста, тебя все уважают. Жена у тебя внимательная, работящая, добрая, чего еще желать для счастья?! А эту фальшивую монету надо как можно скорее выбросить. И дальше жить как жил. А там… Там видно будет! И Рыжий, словно ничего и не случилось, легко вскочил и подошел к столу. Спросил:
— Ну как, готово?
— Сейчас, сейчас, — сказала Ику.
Засуетилась, принесла кувшин.
— Ого! — воскликнул Рыжий. — А это в честь чего?
— Так ведь какой день сегодня удачный! Ты взял с него, как никогда!
— И то! Так за удачу?
— Да. И за тебя!
Вино было отменное. И ужин — праздничный, обильный. А разговор был… Да, он тогда как будто говорил, что купит ей музыкальную шкатулку. И еще новых бус… Насвистывал, шутил. А после все рассказывал, рассказывал… А вот о чем рассказывал, теперь он совсем уже не помнит. Лишь помнит, что смотрел в окно и слушал Океан. Шторм наконец унялся. Вот, значит, и весна уже пришла, скоро будет путина, все рыбаки уйдут на промысел, в трактире опять станет пусто. И он тогда по целым дням будет сидеть за игровым столом, скучать, а вечерами наблюдать, как солнце прячется за горизонтом. Что там? В Лесу все верили — Луна скрывается в Убежище. А Солнце где?
Ночью, когда жена заснула, Рыжий тихонько встал и подошел к свече, достал из пояса монету, посмотрел. Глаз снова повернулся к Океану — как намагниченный. Там, в Океане, говорил Сэнтей, нет ничего. И подал Яблоко. Он думал, что ты все забудешь, и все же, чтобы до конца увериться, что все у него получилось, как надо, прикинулся фискалом, прибежал… Да, тот фискал — теперь ты уже точно это вспомнил — это и был Сэнтей. И вот он прибежал сюда и нюхал и нашептывал… Хр-р! Р-ра! А ведь опять Сэнтей ошибся! Есть Южный Континент! Вот Незнакомец — да, вот именно, тот самый, который в Дымске укрывался подо льдом, — вот этот самый Незнакомец теперь смотрит на тебя с этой монеты, зовет тебя на юг, в Бескрайний Океан. И сразу же все твое прошлое…
Р-ра! А твое настоящее? Как с ним теперь быть? Рыжий задул свечу, лег на постель, задумался. Да, миром правит Равновесие: уже пять тысяч лет все так, как им тогда было дано, и живут. И при этом они даже счастливы — что в Лесу, что на Равнине, что в Мэге и Фурляндии, Далянии, Горской Стране — то есть везде! А Южный Континент — там, что ли, то же самое? Тоже пять тысяч лет тому назад все замерло? Так стоит ли тогда искать его, тот Континент, чтобы еще раз убедиться в том, что никому нигде и никогда не изменить того, что изначально было создано Создателем?!
А Незнакомец? А монета?! Они тогда к чему? Разве это не знак?!
Так он лежал и размышлял. Потом, так ничего и не решив, заснул.
Проснулся он позже обычного. Долго лежал и ждал. Никто не приходил. Тогда он позвонил. Не отзывались. Тогда он встал и вышел в зал…
Нет никого. Столы — без скатертей, а зеркало повернуто к стене. Вошла жена. Рыжий спросил:
— Случилось что-нибудь?
— Да, — сказала она, помолчав. — Ты уходишь.
— Я? — поразился он.
— Да, ты. Я этого ждала. Меня предупреждали.
— Но, может, я…
И Рыжий замолчал. Глаза их встретились… Эй, ты чего задумал, а?! Опомнись, Рыжий! Впервые за всю жизнь ты наконец обрел свой дом, покой! И вообще, Ику так тебя любит! И не обманет, не предаст — да ни за что! А ты…
Спокойнее, спокойнее! Он сел. Жена — голос ее дрожал — сказала:
— Ты все равно уйдешь. Я знаю. Проклятый Океан околдовал тебя. Фискал, который приходил сюда, просил, чтобы я следила за тобой…
Рыжий вскочил, гневно вскричал:
— Что?! Повтори!
— Да, — сказала жена. — Он просил…
— Фискал? И ты следила?!
— Н-нет, не совсем. Но я очень боялась. За тебя.
— И потому молчала? Целый месяц!
— Я не одна. Мы все молчали — весь поселок. Фискал так приказал. Но я надеялась…
— Так, — мрачно сказал Рыжий, — хорошо. Что он еще приказывал?
— Нет, больше ничего. Он только говорил, что ты был одержим: тебя лечили и спасли. Теперь ты в здравом разуме. Но может так случиться, что…
И замолчала. Р-ра, боится! И не она одна — ведь и Сэнтей, значит, боится! Но если я — да как, впрочем, и все — ничего не могу изменить, ибо на все воля Создателя, тогда чего они меня боятся? Зачем тогда было травить меня, а после прибегать сюда и подговаривать против меня и наушничать? Пять тысяч лет мир находился в Равновесии, и ради Равновесия…
Так будь же оно проклято, такое Равновесие! И Рыжий встал, сказал:
— Довольно. Пойди и передай фискалу — я все вспомнил. И вот пусть теперь он попробует меня остановить. Если сможет. Прощай.
— Останься! Я…
— Прощай!
И Рыжий вышел из трактира. Куда? Теперь только в Ганьбэй. Там хоть не лгут, там все в открытую. И, главное, хоть Башня бесконечна, но никогда еще она не простиралась до Ганьбэя!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ — РЕКА БЕЗ БЕРЕГОВ
Глава первая — ГОРОД ЗЛОДЕЕВ ГАНЬБЭЙ
Ганьбэй никто не охранял. И даже более того: на всем пути к нему время от времени на поворотах дороги встречались полосатые столбы, на них были таблички с надписью «Добро пожаловать!» и стрелки-указатели. Рыжий три дня бежал — босой, ганьбэйцы непременно босы… бежал вдоль берега, кормился крабами и сладкими медузами, спал прямо на песке, утром вставал и вновь бежал, потом свернул, взошел на перевал — едва-едва вскарабкался, — затем спустился по крутой, резко петляющей тропе — и вышел к городу.
Ганьбэй был город небольшой, зато красивый. Здесь, Бурку не в пример, были широкие, прямые улицы. Пальмы, цветущие магнолии. Дома из легкой белой пемзы. Все крыши — плоские, окна закрыты парусиной. А дальше — гавань, корабли. Форт на скале. Маяк. Две верфи, зимний док. Цепь, запирающая Внутреннюю Гавань. Чайки. Солнце. Жара… И крепкий дух смолы, канатов, пота, перца. Рыжий зевнул, оскалился — ушел-таки!..
Ушел? Ну, скажем так, почти. Ведь что ни говори, пусть это было только на бумаге, но все-таки Ганьбэй — юридически это часть Мэга. Правда, когда Республике ставят в вину Ганьбэй, Правитель тотчас отвечает, что, мол, Ганьбэй уже давно ему не подчиняется, налогов, податей оттуда нет и не предвидится, да и бегут в Ганьбэй не только одни мэгцы, а все, кому не лень. Вот так! Перешагнув через поваленный шлагбаум, Рыжий вошел в Ганьбэй. Пыль. Тишина. Был адмиральский час; город, казалось, вымер. Вот разве что вон там, наискосок по улице, вдруг занавеска дернулась, а вон как будто кто-то промелькнул и скрылся в палисаднике, за бочкой… Хр-р! Р-ра! Иди, друг мой, смелей, и нечего глазеть по сторонам, и нюхать нечего, ушами не стриги; такое нужно чуять шкурой. И знать — один неосторожный шаг, а то и просто жест… и тотчас же раздастся тонкий свист, из духовой трубы засадный выплюнет колючку, смоченную ядом, — и будешь корчиться, хрипеть, ибо духовка бьет без промаха на двадцать пять шагов. А так все хорошо в Ганьбэе; тихо, жарко. Иди, Рыжий, иди! И он и шел, спокойно и уверенно, как некогда ходил по Дымску. Встретив случайного — случайного? — прохожего, Рыжий спросил у него, как пройти к Карантину. Тот объяснил. Рыжий прошел еще немного и вышел к двухэтажному строению с высоким мраморным крыльцом и флагом над раскрытыми дверями. Флаг был такой: на выцветшем черном полотнище девять белых волнистых полос — то есть девять единых эскадр, девять морей, девять законов.
Охраны перед Карантином не было; Рыжий поднялся на крыльцо, вошел и осмотрелся. Обшарпанный, исчерканный когтями пол. Широкий колченогий стол, на нем две книги — красная и черная, — рядом с ними перо и чернильница. И карта на стене. В дальнем углу на пуфаре лежал дежурный в синем форменном бушлате и, закатив глаза, курил обманку — здесь это запросто и даже поощряется. Рыжий, немного подождав, откашлялся. Тогда дежурный нехотя привстал, спросил:
— Чего тебе?
— Да вот, пришел.
— Ну так давай, впишись. Или неграмотный?
Рыжий прошел к столу, сел, пододвинул к себе книгу…
— Не эту! Сперва черную! — велел дежурный.
Рыжий, отсунув красную, взял черную, раскрыл ее и полистал, нашел свободную страницу и начал заполнять вопросник. «Кто?» — «Кронс, второй трубач Шестого Легиона». «Судим ли?» — «Да, неоднократно. Дважды к смерти». В графе «Полезные профессии» Рыжий, подумав, записал: «Шулер, бретер». «Последнее пристанище» — «Трактир „Под якорем“ в Голодной Бухте». Ну, и так далее, всего четырнадцать вопросов. В последней же графе, где нужно было указать цель приезда, Рыжий поставил жирный прочерк, а потом расписался замысловато, с прибамбасами — и отложил перо и поднял голову… Как вдруг дежурный приказал:
— И лапу приложи!
Рыжий послушно обмакнул лапу в чернильницу, а после приложил ее к листу. Остался четкий отпечаток.
— А вот теперь… — дежурный нагло усмехнулся. — Теперь давай за красную!
Рыжий, скептически хмыкнув, вновь взялся за красную книгу, опять, как и черную, перелистал ее до незаполненной страницы, на которой только в самом верху была написана всего одна строка…
Ар-р! Р-ра! Зато какая! На ней его же почерком было уже указано: «Я, Рыжий, уроженец Глухих Выселок, полковник, йор, строитель, тайнобрат, трактирщик…» — а дальше чистый лист. Пиши! И Рыжий взял перо… Лапа его дрожала. Сдержав дыхание, он покосился на дежурного. Тот с видимым довольством затянулся, пустил дым кольцами, спросил:
— Что? Что-нибудь не так? Напутали?
— Н-ну, в общем, да, — с трудом ответил Рыжий. — Полковником я не был.
— Был. Согласно сводной милитартаблице, равнинский первый воевода приравнивается к нашему полковнику. Еще вопросы есть?
— Н-нет.
— То-то же, — гордо сказал дежурный. — А Кронса закололи прошлым летом. Вилы в бок — и готов.
В бок. Р-ра, прекрасно это помнится! Рыжий недобро усмехнулся, отбросил перо и сказал:
— Ну, если вам и так все, что надо, известно, так сами все и заполняйте.
— Не все, мой друг, не все! — дежурный важно сел, стряхнул с обманки пепел, глянул на Рыжего — глаза в глаза — и продолжал:
— Вопрос всего один: за что это Сэнтей обкормил тебя Чертовым Яблоком?
А! Вот оно что! Хорошо! Рыжий оскалился и ощетинился, когтями впился в стол и прохрипел:
— Вопрос действительно один. А вот ответов будет два. Во-первых: про Яблоко я расскажу лишь Кроту. Уяснил? А во-вторых… Встать, чва! Перед тобой полковник!
Дежурный подскочил, застыл «на караул», нервно задергал ухом…
— Вот то-то же! — насмешливо воскликнул Рыжий. — Так оно лучше. И так Кроту и доложи: только приватно буду отвечать. Пусть думает. А я пока что отдохну с дороги. Куда мягче откинуться? Ну! Что молчишь, икра?!
— Т-так это бы… вам… да… — заикаясь, промямлил дежурный… и злобно сплюнул, закричал: — Да! В офицерскую! Дик! Дик! — и засвистел.
Шварк-шварк, шварк-шварк — и вот он, этот требуемый Дик, уже в дверях. Стоит, прижав к груди треух, пасть налево, служиво сопит. Рыжий вразвалку подошел к нему, пнул в бок и приказал:
— Порс! В офицерскую!
Дик браво козырнул и первым побежал с крыльца. А Рыжий еще глянул на дежурного, и подмигнул ему, и щелкнул ему пальцем у виска и, как Лягаш учил, высек искру, и даже шерсть немного подпалил… и лишь потом уже сошел с крыльца и небрежно свалился в коляску. Дик тотчас сунулся в ремни и побежал — бойко, вприпрыжку.
Гостиница для пришлых офицеров была совсем недалеко. Прогарцевав мимо пустых Невольничьих Лабазов, Дик круто положил на зюйд и возле Башни Предсказания Погоды взял во дворы… и резко осадил.
— Приехали!
Рыжий швырнул Дику на кус, сошел, вошел в гостиницу, представился:
— Полковник Рыш, по высочайшему.
Смотритель сразу низко поклонился и пригласил именитого гостя к столу. Стол был неплох: горячий суп, яичница, два ковыря особой тростниковой… Поев и ковырнув, Рыжий спросил, куда ему теперь.
— Селитесь, где желаете.
— Что так?
— А все уже на промысле. Голяк. Остались только ветераны.
Ладно. Рыжий поднялся на второй этаж, прошел по коридору, глянул туда, сюда — и выбрал себе комнату с видом на Океан. Когда смотритель, низко поклонившись, вышел, Рыжий сел на пуфарь и задумался. Невдалеке, на отмели, на черепашьей ферме, старшой ругал подлапного за нерадивость. Ганьбэйцы обожают черепах. А что! Из черепах у них жаркое, суп, яичница. А черепашьи панцири, тут в них полгорода шатается. И вообще, как это принято считать в Ганьбэе, первым родился, вырос и уже успел забуреть Океан, а суши, земли, еще не было, земля была на дне, земля еще была яйцом, и лишь потом уже из этого яйца вышла она, Аонахтилла, и поднялась со дна и поплыла по Океану, и панцирь ее — диск, овал, а никакой не треугольник, пусть даже и разумный; вот какова она, наша земля — спина Аонахтиллы, кость, и все мы — черепашьи дети, от черепах нам жизнь, и если твоя грудь, твоя спина становятся так же крепки, как черепашья кость, только тогда тебя уже можно называть существом, ибо ты уже действительно существуешь, ты понял сущность этой жизни, а остальные, эти крысы сухопутные, они…
Ну и так далее, не стоит даже повторять. Да и отвлекаться не стоит. Так, значит, вот что уже сделано: бежал — и добежал. Дежурный, надо полагать, уже поставил в твоем деле номер и подшил, и припечатал… А что там припечатывать?! Ты ж к красной книге даже не притронулся. А то, что в черной написал, так черная, кому она нужна?! Ее два раза в год — весной и осенью — отвозят в Бурк и там с нее снимают копии; Ганьбэй не выдает своих, но Бурк хотя бы для виду желает знать, кто здесь у них прячется, в этом беспутном Ганьбэе. Вот что такое для Ганьбэя черная — это чистейшая формальность. А вот зато красная, та сразу идет на стол к самому Кроту. Ого, Кроту! Ты так и брякнул там — «Кроту»! Хр-р! Р-ра! Рыжий вскочил и заходил по комнате. Зачем было? Вот бы… Ну да… Хотя… И долго так ходил, а то стоял, смотрел в окно, на рейд, на горизонт… и даже дважды доставал заветную монету, вертел ее… и прятал, вновь ходил… Потом, немного успокоившись, лег на пуфарь и отстучал по переборке сообщалку, в которой приказал смотрителю подать ему сигару и газету.
Смотритель, легкий на стопу, быстро управился, принес, денег не взял. И это правильно. Рыжий развалился в кресле, закурил. Сигара оказалась крепкая, душистая. А вот зато газета — старая, помятая, «Зюйд-Вест» за пятое число. На первой стороне шли новости по городу. Еще указ о том, где и когда можно играть на интерес. Еще список вернувшихся из плена. Еще курс обмена валют и рабов. Караульный режим. Гороскоп. Бои у Мелюстей — записки очевидца… Рыжий прочел, нахмурился, перевернул страницу: взгляд нехотя скользнул по заголовкам. Советы штурману. Кроссворд. Волнения в Морляндии. Дангер, соломенный вдовец…
Что?! Рыжий отложил сигару и стал читать внимательно. Прочел. Закрыл глаза. Открыл, опять прочел… Да, вот так: «После подобного печального известия супруга короля, забрав с собой обоих сыновей, тайно бежала в Дымск. Там ее приняли восторженно. Некто Скрипач, первый равнинский воевода…» Р-ра! Князь ушел! Удар — вот каково было печальное известие; старик упал, играя в шу, и уже больше не поднялся. Три дня, как здесь написано, лежал, но говорить уже не мог, и были посланы гонцы к Урвану и Юю. Урван не отозвался, а вот зато Юю… А Дангер… Да! Теперь грозит Дымску войной, но, видно, не решится. И так уже всеобщее посмешище! Хотя…
Рыжий вскочил и отстучал: «Еще газету!», принесли, он прочитал… Но больше о Равнине не нашел ни строчки. Сидел, смотрел в окно, сжимал в горсти заветную монету. Монета жгла. А помнишь, на реке… Вздохнул. Теперь-то что об этом вспоминать! Теперь Юю — владычица Равнины. Теперь даже Скрипач, тот самый увалень… А что?! Так и должно было случиться, ибо у каждого своя стезя — кто когти рвет, кто мечется, а кто-то тихо, но весьма исправно служит, живет, как надо, как заведено, и получает то, что ты не удержал. Да и теперь бы ты не удержал, не смог, ума бы не хватило. Да, вот именно, ума! Ибо на это тоже нужен ум, только другой ум, особенный, но вам — тебе и всем таким, как ты, — в этом обидно признаваться, и вот вы начинаете плести о чести, гордости и о делении на нас и на других, и строите Башни, и прячетесь в них, и сверху, с них…
Стучат. Настойчиво! Рыжий встряхнулся, сел, прислушался. По переборке: «К вам портной. Как быть?» Рыжий, подумав, отстучал «Приму». И заходил по комнате. Портной! Вот, в самый раз, теперь вот, больше нечего. Или… Да! Р-ра! И Рыжий встал возле двери, насторожился…
Да только зря — подвоха не было, пришел действительно портной плешивый, узкогрудый, слеповатый. Сперва, еще на пороге, портной с большим почтением расшаркался, а после как-то боком подошел к столу и положил на него… и ловко, по-фиглярски, развернул то, что принес, вздернул на плечиках…
Ого! Рыжий даже присвистнул. Портной держал двубортный, длиннополый, отменного бархата алый лантер с кружевными лампасами и аксельбантами. Полковничий, гвардейский! И Рыжий, приосанясь, приказал:
— Накинь!
Портной накинул на него лантер. Рыжий, косясь на зеркало, прошелся взад-вперед… и радостно оскалился, полез в карман…
В кармане зазвенело! Рыжий удивленно поднял брови, спросил:
— Откуда сор?
Портной заулыбался:
— Это ваше! Так было велено…
— Нет! Р-ра! — и Рыжий выгреб из кармана горсть серебра, поморщился, сказал: — Держи, горбач!
Портной конечно же подачку взял и еще долго кланялся, благодарил и обещал, что если вновь появится нужда в шитье, то он конечно же…
Но Рыжий слушать этого не стал, а просто указал на дверь. Портной ушел. Тогда, опять уже один, Рыжий еще, еще, еще раз осмотрел карманы, ощупал швы, обшлаги, воротник… Но ожидаемой записки так и не нашел. Однако! Зачем тогда было устраивать весь этот карнавал? Вот уж действительно: Крот он есть крот — копает глубоко. И Рыжий снова повалился на пуфарь, зажал в зубах погасшую сигару и так и пролежал до темноты: думал — не думалось. Одно лишь ему было ясно: полковничий лантер — это не худший знак внимания, вот если бы… А, что теперь гадать! И ждал. И вскорости дождался: стук — «все к котлу!» Спустился вниз, плотно поужинал, а выпить взял двойной колпак. Колпак подействовал — лег камнем и заснул…
А ровно через час вскочил от ужасающего грохота! Глянул в окно. В небе сверкали всполохи. Визг, топотня на улицах, взрывы петард… И крик смотрителя:
— Ганьбэй! Ганьбэй! Полундра!
Ага, значит, тревожная потеха — так, для поддержки боевого духа. Вон с корабля уже сбежал десант, а с форта палят катапульты. Тогда… Вперед, полковник, р-ра, показывай, каков ты есть, а нет, так…
— Р-ра!
Лапы — в лантер, и — вниз, в столовую, вскачь, кубарем! И во всю мощь, на бегу:
— Р-ра! Р-ра! Р-ра!
И вот сбежал в кормежную. А там уже, кроме смотрителя, метались трое ветеранов, кухарка, сторож и еще какой-то незнакомец. Всех растолкав, Рыжий пробился к выходу, глянул на улицу. Бой шел уже невдалеке, возле распивочной. Бились всерьез — даже весьма. Матросы, разметав оборонявшихся, ворвались в здание. Так, хорошо: пока они его еще разграбят…
Рыжий прыгнул к камину, схватил головню. Крикнул:
— Столы! На окна! Живо!
Все бросились к столам. А Рыжий уже встал в дверном проеме, взял головню наперевес, оскалился. Бегут уже! Кричат. Он оглянулся…
Х-ха! Столами завалили окна, а из скамеек уже выстроен еще один завал — это на случай отступления, отменно! Крикнул смотрителю:
— Еще огня!
А ветеранам:
— Кройте!
Те дружно встали позади него. И…
Началось! Матросы наскочили! Он бил их, тыкал головней, крушил, топтал, швырял! Хр-р! Р-ра! Дверной проем был узок; не обойти его, не сбить. Так им! Так! Так! Смрад, чад.
— Огня! Еще огня!
Бил. Жег. Дым застилал глаза. И вдруг…
Бомм! — грохнул колокол. Бомм!.. Бомм!..
Значит, отбой. Потеха кончилась. Матросы отступили. Поволокли товарищей. Рычали. Рыжий отбросил головню, вошел в столовую, сел по-дикарски — прямо на пол. Шерсть вздыблена, сердце колотится. И — гнев! На что? И на кого? Ганьбэй и есть Ганьбэй. Везде Ганьбэй. Весь мир Ганьбэй. И ты ганьбэец, да, вон озверел-то как! Тьфу! Р-ра! Закрыл глаза…
Смотритель опустился перед ним, спросил участливо:
— Вина?
Рыжий молчал. Смотритель вновь спросил:
— Может, желаете вина?.. Полковник…
— Нет! — и Рыжий вскочил, закричал: — Спать! Р-ра!
Поднялся и ушел к себе. А там закрылся на засов и сразу завалился на пуфарь, накрылся с головой алым лантером. Алым, как кровь. И сразу — тьма. И лес кругом. И все бегут — на четырех. И ты бежишь — как и они — на четырех, на четырех, на четырех! Тебе кричат:
— Наддай! Еще наддай!
Ты наддаешь. И падаешь. И снова падаешь. И снова. Снова. Снова. И так — всю ночь. Куда? В Ганьбэй! Тьфу! Р-ра! Проснуться бы — так нет! Беги, Рыжий, беги! Смерть не про нас: пока мы живы, ее нет, а как она придет, так нас уже…
— Наддай! Наддай! Ганьбэй! Бей! Бей!..
Глава вторая — ВАЙ КАУ, АДМИРАЛ-ПРОТЕКТОР
Солнце уже поднялось высоко, а Рыжий все еще лежал у себя в номере, укрывшись с головой лантером, и ровно, глубоко дышал. Сны больше не тревожили его, он крепко спал. Шум, крики, ругань за окном — он ничего этого не слышал. Казалось, что он вообще потерял всякую осторожность.
Но это так только казалось! Ибо лишь только в коридоре заскрипели половицы, как Рыжий тотчас же подскочил и сел спиной к стене. Грозно спросил:
— Кто там?!
Дверь медленно, бесшумно отворилась. На пороге стояли смотритель и еще какой-то незнакомец в форменном бушлате и с шейным платком полосатой ганьбэйской расцветки — значит, из младших адмиральских офицеров. Он, этот младший офицер, и спросил:
— Полковник Рыш?
— Да, это я, — с достоинством ответил Рыжий.
— Вас на аудиенцию.
— Извольте, — и Рыжий встал, надел лантер, прошелся к зеркалу и осмотрел себя со всех сторон, пригладил шерсть, потом долго искал сигару и прикуривал… и лишь потом сказал:
— Пошли!
Рыжий и младший офицер спустились вниз. Рыжий, конечно, шел вторым на всякий случай. Офицер и не спорил. На улице их уже ждал рикша. Сели, поехали. Ганьбэй и есть Ганьбэй, ночной потехи словно бы и не было пальмы, магнолии, жара. Матросы подметали улицу. В разгромленной распивочной стучали молотки. А возле амулетной лавки сидел слепой старик и тренькал на басуне. Рикша бежал легко, грыз семечки, поплевывал; на площади Веселого Огня он круто лег на правый галс (то есть свернул направо) и уже явно не так бойко, с трудом, потащился в гору. С горы вид открывался просто изумительный — рейд, башни Дальних Подступов, Злодейская Таможня, плантации обманки, Смертный Пляж. Цок-цок подковки, цок. Рикша запыхался, спешил. Хрипел. Тропа петляла, прижималась к самым скалам, ибо чуть в сторону — и в пропасть, и…
Ф-фу! Вот и форт. Ворота нараспашку. При виде подъезжающих наряд вскочил во фрунт и браво отдал им честь. Рыжий лениво отмахнулся. Цок-цок проехали. А вот и адмиральский плац, мощенный красным кирпичом. Возле флаг-мачты рикша развернулся и резко встал, сбросил с себя хомут, утерся. Рыжий сошел с тележки, осмотрелся. Да, здесь все было точно так, как он того и ожидал. Справа — госпиталь, главный колодец, а слева обер-лоцманская школа, Казенная Башня. В Башне одна-единственная дверь, на ней — девять замков, по замку на эскадру. И это правильно. В Казенной Башне хранится их общая добыча, а посему и подступать к ней заведено только сразу всем сообща. То есть открытие Башни случается только тогда, когда в Ганьбэй съезжаются все девять адмиралов разом, и каждый со своим особым ключом. Абсолютно логично! Но Казенная Башня — вот, снова Башня, р-ра! — это слева по борту… Да просто слева она, слева! А прямо впереди, по курсу, возвышался мрачный, неприступный дворец, сложенный из черных, массивных коралловых блоков. Все окна в том дворце были круглые, забранные толстыми железными решетками, на плоской крыше были видны три катапульты, при них катапультный расчет, все в шлемах и налобниках. А внизу, у входа, красовались два высоченных золоченых якоря. Вход — или, по-ганьбэйски, трап, был такой: шаткая канатная лестница без лееров довольно-таки круто поднималась сразу на второй этаж дворца, к узкой, конечно же тоже без лееров площадке перед люком. Люк — это значит дверь. Вот оно как здесь все неприступно. Ну-ну! Рыжий задумался…
— Прошу, — напомнил офицер.
Они пошли вверх по трапу — впереди офицер, за ним Рыжий. Трап бешено трясся, шатался, офицер, наверное, нарочно его расшатывал. Небось надеялся, что Рыжий не взберется, упадет.
А вот и не упал, вот и взобрался! Остановившись на площадке, Рыжий пригладил вспотевшую на лбу шерсть, глянул на офицера. Тот козырнул ему. Рыжий ответил. Офицер пошел вниз. Шел да еще приплясывал. Форсил, значит. И ладно! Рыжий сглотнул слюну и повернулся к люку, чуть склонился перед низкой притолокой, потом, опасливо переступив через порог, густо утыканный акульими зубами, — вошел в пустой, просторный, обшитый корабельной дранкой холл. Там он походил по нему, посмотрел, ничего не нашел, сел на стрелковую приступку у окна — а больше в этом холле садиться было не на что, насторожился, замер, весь обратился в слух…
И все равно не уследил! Из-за единственной, стоявшей прямо посреди холла колонны вдруг словно пробка со дна кружки вынырнул поджарый адмиральский адъютант — а у них, у адмиральской челяди, у всех зеленые атласные бушлаты, — смерил Рыжего пристальным взглядом, сказал:
— Вас ждут. Пройдемте.
Поднявшись на еще один этаж — крутая винтовая лестница была устроена прямо в колонне, — они потом еще прошли по подвесной зеркальной галерее и там свернули раз, второй, потом еще, потом еще… И очень скоро Рыжий окончательно запутался в своих кривых несчетных отражениях и отблесках горевших там и сям свечей, зажмурился — и дальше уже так, вслепую, он, ведомый адъютантом, еще не раз сворачивал и поворачивал, пока наконец не сошел на твердый пол и остановился. Только тогда он и открыл глаза…
И увидел, что оказался в темном узком коридоре перед широкой, опять же приземистой дверью, обитой толстой листовой броней. Адъютант отступил на шаг и застыл, задрав вверх голову. Рыжий тоже застыл. Но только голову не задирал — смотрел прямо на дверь, искал в ней замочную скважину, но все не находил, не находил, не находил. В коридоре было абсолютно тихо. Даже дыхания адъютанта не было слышно.
Вдруг едва слышно брякнул колокольчик — и дверь отворилась как будто сама по себе. Из-за двери пахнуло сыростью, мышами. И было там, за дверью, непроглядно темно. Но тем не менее Рыжий сразу, стремительно вошел в ту темноту, дверь за ним тут же с лязгом затворилась…
…Когда же глаза его наконец привыкли к темноте, Рыжий увидел прямо перед собой стол, заваленный бумагами. За столом сидел еще совсем почти не старый господин в круглых черных очках, холщовых налокотниках и толстом вязаном шарфе. Это и был Вай Кау, адмирал-протектор, гроза, гром и мрак всех девяти судоходных морей. Правда, его еще дразнили «Старый Крот», но за таковские дерзкие речи можно очень даже запросто загреметь на спицы. А ты, друг мой, по своей вечной глупости уже нечто подобное сболтнул, и это хорошо еще, что пока все обошлось, а не то…
Вай Кау был как будто неживой, не шевелился… потом вдруг хмыкнул и спросил:
— Так это вот тебя и обкормили Яблоком?
Рыжий кивнул и, оглядевшись, сел на приемный табурет — стоять приказа не было, а стоя отвечать он не привык.
— Забавно! — снова хмыкнул адмирал. — Забавно: обкормили — и сделали скотом, надеялись, что так, скотом, ты и умрешь… Да нет, какое там подохнешь! Скоты, они ж не умирают, они просто дохнут. А ты вдруг взял да все и вспомнил! Ведь вспомнил, да?
Рыжий опять кивнул. Вай Кау продолжал:
— Конечно, что там спрашивать! Не вспомнил бы, не прибежал. А так бы и сидел в своем трактире. А что! Жена у тебя есть, и жена молодая, монеты тоже есть, дом собственный, крепкий, доходный. И еще от сограждан почет. Во сколько было у тебя! Во, предостаточно! Да и вообще, скотам, им же много не надо! А ты вдруг это все…
И тут Вай Кау замолчал и головою покачал, даже причмокнул… и продолжил:
— А ты вдруг это все взял да и кинул. А почему? Да потому что пересилил Яблоко. Так сказать, отрезвел. И сразу сделал трезвый выбор. О, я ценю таких! И потому… Да ты вот сам посмотри, посчитай! Еще вот только один день прошел, а на тебе уже полковничий лантер. Не жмет? И еще ты сидишь теперь рядом со мной как равный с равным. Вот разве что…
И адмирал вдруг поднял лапу, поднес ее к очкам…
И Рыжий весь похолодел: ходили слухи, будто бы у Крота под очками…
Но он их не снял, а только немного подправил, чтоб лучше сидели, и медленно опустил лапу. И продолжал, как ни в чем не бывало, как будто он совсем их и не трогал:
— Да, ты пришел в Ганьбэй своей волей. И я еще раз говорю: ты сделал правильный, трезвый выбор. Но почему ты теперь молчишь? Ведь ты же пришел ко мне не для того, чтобы сидеть вот так вот, как скот, и молчать, и слушать мои россказни. Нет! Ты пришел для того, чтобы кое-что у меня выпросить, кое в чем уговорить и даже кое в чем убедить. Наглость, конечно, беспримерная! Ну да и ладно. Я же добрый. По крайней мере, вот прямо сейчас. Ну так чего тогда молчишь? Рассказывай. Проси, пока я добрый!
Рыжий молчал, он растерялся. Ибо он никак не ожидал, что все вот так вот круто обернется. Ему хотелось бы вначале присмотреться, поговорить о том о сем, а уже только потом, когда что-нибудь прояснится…
— Н-ну, хорошо, — насмешливо сказал Вай Кау. — Я помогу тебе. Сам начну. А потом ты уже сам продолжишь. И чтобы не вилял, потому что я этого очень не люблю! Итак…
Но тут он словно спохватился и, на мгновение замолчав, воскликнул:
— Э-э! Чуть не позабыл! — и…
Снова взялся за очки и стал их медленно снимать. Р-ра! Р-ра! Рыжий вскочил!..
Вай Кау тихо рассмеялся и сказал:
— Не слушай ты их, дураков. Это совсем не страшно. Так, разве что, ну, с непривычки…
И снял-таки очки. И действительно, ничего особенного, смертоносного не случилось и даже не открылось. Глаза у адмирала, как оказалось, были маленькие, красные, как угольки в ночном костре… Да-да, вот именно, совсем как угольки — они даже немного светились. И теперь, от этого самого глазного адмиральского свечения, весь адмиральский кабинет оказался залитым слабым красным светом — стол, стены, карты на стене, а наверху, на потолке — какие-то замысловатые таблицы, чертежи…
— И это все! — сказал Вай Кау. — Вот, только свет, но так даже удобнее. Чего нам как кротам сидеть во тьме, не правда ли?
— Д-да, правда, — с трудом выдавил из себя Рыжий.
— Тогда сядь. В стопах правды нет.
Рыжий послушно сел. Вай Кау поморгал — свет в кабинете замигал…
Да нет, подумалось, какой же это свет?! Да это ж как туман — кровавый, ядовитый, который проникает тебе внутрь и жрет тебя, и душит тебя, обжигает, и ты — это уже почти не ты, а так, как дичь покорная, как скот… Да, именно — как скот. Прав адмирал, мудр адмирал, всесилен, так покорись ему и будь ему как…
Тьфу! Видение! Обман! Рыжий прекрасно это понимал… А сил-то противиться этому не было! И потому он и сидел теперь обмякший, оробевший, и жрал его туман, душил его туман… А адмирал — довольный, враз повеселевший — спросил, победно улыбаясь:
— Хочется узнать, а что это такое у меня с глазами? А ничего, пустяк. В Башню подглядывал. А мне за это… спицами! В глаза! В глаза! — и адмирал, мотнувши головой, даже привстал, подался к Рыжему и повторил: — В глаза, друг мой. А спицы — раскаленные — шипели. Кому-то небось думалось, что мне теперь хана! Х-ха! Косари! А я не только не ослеп, а… Понял теперь, да?
Рыжий, сжав челюсти, кивнул. Вай Кау сел, самодовольно выпятил губу, немного помолчал, а после…
— Да, — сказал он. — Мы что-то отвлеклись. Я же обещал тебе помочь, а то ты все стесняешься меня попросить. Даже начать стесняешься. Ну ладно, тогда начну я. Итак… Ты, беглый варвар с Севера, пробрался в Бурк и там сошелся с тайнобратьями и что-то изучал у них, вынюхивал. А после вы там что-то не поделили, пока не важно что, ты отвалил от них, пообрубал концы, зашился у себя в гостинице и там взялся лепить свой собственный трактат. Какой?
Вай Кау замолчал, но он не ждал ответа, нет. Он просто так сидел, жевал губами, щурился, смотрел перед собой на стол, заваленный бумагами… и наконец сказал:
— Я справлялся у дельных ребят и узнал: ты там занимался картографией. А это очень интересно! Тогда я снова их попросил… И вот! — Вай Кау указал на стопку вкривь и вкось исписанных листков, лежавших перед ним, и продолжал: — И вот она, та копия, которую один мой друг снял с твоего трактата. Узнаешь?
Рыжий привстал и — в алых всполохах пристального адмиральского взгляда — прочел две-три строки… сел и сказал:
— Узнаю. Из четвертой главы. Варианты.
— Да, в точности, — кивнул Вай Кау. — А подлинник нам достать не удалось. Сэнтей опередил нас и сжег. А жаль! Ибо вот здесь, — и адмирал вновь указал на рукопись, — есть довольно любопытные рассуждения. И вообще, для, извини, для поганой сухопутной крысы ты заглянул на юг уж очень, ну даже очень, очень далеко! И… что ты там увидел?
— Землю.
— Землю! — глаза у адмирала оживленно замерцали. — И что, вот так вот сам, воочию? Да?
— Н-ну, почти.
Вай Кау потер лапы, ощетинился. Сказал:
— Ну так и поведай мне про это «почти». И… не смущайся, не смущайся! Я ведь тебе не Сэнтей, я не собираюсь обкармливать тебя всякой гадкой отравой. И я не Юрпайс — я и перебивать тебя не стану. Я даже сигары тебе не подам. Сигары, это, кстати, очень вредная привычка, сигара отшибает нюх, а мы без нюха кто?! А от тебя вон как разит табачищем! Ну ладно, все, рассказывай, я затыкаюсь, я теперь весь внимание — как прокурор!
И адмирал поправил налокотники, уперся ими в стол, закрыл глаза — и в кабинете снова наступила темнота. А темнота — это покой. А не хочешь покоя, так будешь покойником. Это, говорят, одна из любимых присказок Вай Кау. Да и опять же, для чего ты сюда шел, точнее, рвался?! То-то же. И Рыжий принялся рассказывать — конкретно, обстоятельно, без суеты, от факта к факту; посылка — ломка — осмысление, вторая сторона, еще посылка, перевертыш — и сведение, итог, еще итог; течения, склонения, зенит, надир, подчистки в чертежах, приписки и лакуны в вахтенных журналах… Ну, и так далее. И Рыжий говорил и говорил и говорил… Вай Кау же, как он того и обещал, молчал, не шевелился. И лишь только когда Рыжий сказал: «Вот, собственно, и все», — только тогда он, адмирал, открыл глаза — и снова все вокруг залилось слабым красным светом, — затем поправил шарф и протянул лапу к бумагам, еще раз поперебирал их, пошуршал, задумался… и наконец опять заговорил:
— Да, много в твоих словах дельного. Хотя… Не все здесь, друг мой, доказательно. Ну, о Равновесии равно как и о Создателе я на всякий случай лучше вообще промолчу. Я, как настоящий моряк, суеверен. И птиц не будем впутывать — птицы суть бессловесные твари, какой с них спрос… И, значит, получается, что во всей этой подозрительной истории за ответчика оказываешься один только ты, друг мой. И у меня к тебе вот такие вопросы. Их немного, всего два. Первый совсем простой, я даже знаю на него ответ, ты это только подтверди… Итак, ты, значит, явился сюда для того, чтобы выманить у меня наилучший корабль, чтобы потом на этом корабле отправиться на юг и попытаться отыскать этот… возможно, ты и прав… н-ну, этот, Южный Континент. Так?
— Т-так, — нехотя ответил Рыжий.
— Ну а второй вопрос, — и тут Вай Кау усмехнулся… — Второй немного посложней. Итак, зачем ты утаил?
— Что? — вздрогнул Рыжий.
— А то… что жжет тебя за пазухой. Ты же там что-то прячешь. Ведь так?
— Я?! Прячу?! — возмутился Рыжий и даже попытался встать…
— Сиди, сиди! — наигранно доброжелательно воскликнул адмирал. — Мало того: не хочешь показывать, так и не надо, и не показывай. А может, и показывать там нечего, потому что вдруг мне все это почудилось? Глаза, я же говорил тебе, мне эти скоты очень сильно испортили, и вот теперь порой мне всякая дрянь кажется! Да, друг мой, да! Всякая дрянь. Только ты это близко к сердцу не бери, не надо. Ты вообще…
Но тут он встал и вперился… Нет, р-ра! — вонзился в тебя этими своими острыми, красными, как раскаленные спицы, глазами, а спицы раскаленные, и жар от них, от этих спиц, и колют они тебя, режут, пронзают, и…
Да! Скот ты! И тварь тщедушная! И…
Рыжий — сам не свой! — вскочил! Полез в лантер! Швырнул! — и адмирал поймал монету на лету! И сел…
Но только рассмотрел, что это он схватил, как снова подскочил и резко разжал лапу! Монета мягко шлепнулась на стол — и сразу замерла на нем, словно прилипла! Вай Кау пристально смотрел то на монету, то на Рыжего… и наконец осторожно, весьма осторожно спросил:
— И что ты хочешь мне этим сказать?
— Как это что? Она оттуда, с юга, с Континента!
— С него? Вот даже как! Прелюбопытно… — и адмирал снова, но на этот раз как-то боком, сел за стол, а к монете он и вообще уже не тянулся и даже не смотрел в ту сторону, молчал. Он явно был напуган — и при этом очень сильно. Но чем? Монетой, что ли? Быть того не может! Возмо…
Вдруг адмирал опять заговорил:
— Ха! С юга! Ну и ну! А откуда у тебя такая уверенность? А?
Рыжий сглотнул слюну, сказал:
— Да потому что именно она, эта монета, и помогла мне пересилить Яблоко.
— А как это?
— А так. Я взял ее и стал рассматривать. И вдруг она…
Р-ра! Как огнем в глаза! Язык свело! И Рыжий отшатнулся от стола. Молчи, Рыжий, молчи, нельзя!..
Но тотчас все прошло, как будто бы ничего и не было. Тишь в кабинете, полумрак. Вас двое, больше никого. И адмирал сидит себе и ухом не ведет, он не спешит…
Р-ра! А куда ему спешить?! Он — мудрый старый крот. Не он к тебе, а ты к нему пришел и хочешь много получить, но при этом правды — самой важной, самой главной — ему так и не сказать… Да только адмирал тебя — да как и всех других, ты ж это знал, куда ж ты лез?! — да только адмирал тебя как муху — ц-цоп! — схватил и рассмотрел, и все, что пожелал, из тебя высосал, узнал. Мало того, он и монету эту знает, это же по нему сразу видно! Вот только что ему о ней известно? О том, что этот глаз может легко… Э, нет, шалишь! Я ни о чем не думаю! Я ни о чем…
— Ну, говори! — нетерпеливо напомнил адмирал. — Чего замолчал? Или тебе воды подать? А то ты, я смотрю, весь как-то обмяк. Или, может, задумал чего нехорошего?
И снова смотрит, снова душит, красный туман в тебя так и вползает, и травит тебя, травит, и…
И Рыжий, мотнув головой, твердо сказал:
— Нет-нет, благодарю, воды не надо! А… Да! Так вот… — и опустил глаза. — Да, вот! Я взял ее и стал рассматривать. И вдруг… И вот я вдруг… Увидел надпись, да! Прямо сказать, довольно странную. Вот, сам посмотри!
— Я уже видел, продолжай.
— И продолжаю, да, — согласно кивнул Рыжий, но глаз не поднимал, ему так было легче. — Так вот. Надпись на ней была довольно странная. И странный герб. Я таких гербов отродясь не видывал… Воды!
— Изволь!
Адмирал подал ему воды. Из своей кружки, между прочим! Рыжий пил воду медленно, короткими глотками. Пил и лихорадочно соображал, что же ему теперь говорить дальше, как ему теперь из всего этого вывернуться ну хоть бы на день, а хоть бы и на час, хоть бы… Но ровным счетом ничего не мог придумать! Одно он только чуял несомненно — про глаз нельзя ни слова, ни намека, ни…
— Еще подать? — насмешливо спросил Вай Кау.
— Нет-нет, довольно. Продолжаю!
И Рыжий, глядя на монету, да-да, все на нее да нее — ведь это придавало ему сил! — уже значительно уверенней заговорил:
— Так вот, таких гербов я раньше нигде не встречал. Тогда я взял ее на зуб, я думал, что она фальшивая… Нет, чую: настоящая. Тогда я стал перечислять известные мне страны и вспоминать, где какой герб. И вот я так перечислял, перечислял… пока вдруг, я и сейчас не знаю почему, как это получилось, вырвалось, а вот взял и назвал именно его!
— Кого это «его»?
— А Юг! А Южный Континент! И сразу понял все. Вот как будто пелена с глаз упала! И вот стою пень пнем и как будто в газете про себя читаю: я не трактирщик, а тайнобрат! И меня мои злодеи тайнобратья только за то, что я…
Тут Рыжий головой мотнул и, уже совсем осмелев, поднял глаза на Вай Кау. Их взгляды встретились. Да, подумалось Рыжему, это, конечно, очень странно, если глаза такие кровавые да к тому же еще светятся, и еще острые как спицы. Но с другой стороны, ну и что с того, подумалось, ну и горят, ну и светятся, ну и что? Чего ты, Рыжий, так всполошился? Да что, тебя до этого ни разу в жизни не кололи? Не жгли? Не рвали? Не…
Да, вот именно! И Рыжий, выдержав взгляд адмирала, твердо и с достоинством закончил:
— Вот, собственно, и вся история о том, как это мне тогда с этой монетой все открылось.
— Ой ли? — насмешливо покачал головой адмирал. — Полковник, договаривай! В таком мундире, и вдруг завилял! Нехорошо это, нехорошо, не по-гвардейски!
И снова заморгал и засверкал, напыжился… Да только не брало это уже, не жгло и не душило… Но все же Рыжий сделал вид — на всякий случай! — что снова заробел: вздохнул, еще вздохнул — совсем уж тяжело — и словно нехотя, через силу, сказал:
— Я бы рассказал тебе еще кое о чем, но ты, боюсь, будешь надо мной смеяться.
— А это почему еще? — насторожился Вай Кау.
— Да потому что ты в Стоокого не веришь.
— А причем тут, при этой монете, Стоокий?
— Да потому что именно Стоокий в тот миг и пробудил меня. Я только посмотрел на этот герб… Нет, ни к чему это тебе! Если не веришь Стоокому, так и в эту историю тоже не поверишь. Потому что не получится. Ведь правда же? Ведь ты мне не веришь?
— Да, не верю, — напыщенно… и с превеликим раздражением ответил адмирал. — Но… Пусть будет по-твоему. Пусть я как будто бы тебе поверил. Ведь ты же мой гость, а с гостем разве спорят?! — и, усмехаясь, продолжал: — Так! С этим, значит, решено. Значит, разбираем это дело дальше. Итак, ты, значит, утверждаешь, будто Стоокий пробудил тебя. То есть он не то чтобы разбудил тебя, спящего после вчерашнего, а благородно пробудил твою фантазию. Это прекрасно. Но ведь не он же лично преподнес тебе эту монету. Не расплатился же он с тобой у стойки, правда? Вот видишь, тебя всего трясет от моих слов, ты молчишь. Значит, я угадал — не Стоокий принес. Хорошо! А кто тогда? Зурр? Звездный дождь? Рыбаки за новую сеть отстегнули? Или… — и адмирал вдруг засмеялся и сказал: — Я ставлю десять против одного: ты ее выиграл! Так?!
— Д-да, — ответил Рыжий, ибо почуял вдруг, что вся эта история с ганьбэйским капитаном случилась очень даже неспроста и что она теперь ну до того важна, что…
Х-ха! А адмирал того еще не знал! И потому он засмеялся и сказал:
— Ну вот, хоть одно слово правды. Прекрасно! И… И… И проиграл ее тебе моряк. Ведь снова так?
— Так!
— Вообще великолепно! И тот моряк, опять держу пари, ганьбэец!
— Да! И к тому же капитан.
— Х-ха! Врешь!
— Я?!
— Да. А если это правда, так опиши тогда его, твоего капитана. И как он выглядел, и как он себя вел. Ну, слушаю!
И Рыжий рассказал — подробнейше, в деталях. Р-ра! Р-ра! Крот затаился, ждет, что ты сейчас заврешься, и тогда… Ну так слушай же! Слушай! И Рыжий говорил и говорил, Вай Кау слушал, не перебивал, кивал да вздрагивал и вновь кивал… Когда же Рыжий наконец замолчал, Вай Кау взял очки, тряхнул ими — что было вовсе ни к чему, а просто так, со зла, — затем надел их на себя… и лишь потом уже, в кромешной тьме, сказал усталым голосом:
— Это был Хинт, мой верный добрый Хинт. Сейчас он в крейсерстве, на днях должен вернуться. Вот мы его тогда и призовем сюда, возьмем ладный бочоночек, сядем втроем, поговорим, повспоминаем. Надеюсь, это будет оч-чень интересно. Ну а пока…
Вай Кау чуть привстал, потянулся к монете и осторожно тронул ее когтем, а после, высунув язык, еще и подтолкнул ее… а после, осмелев, взял в лапу, сел… и принялся рассматривать ее уже вовсе без всякой опаски — вертел и так и сяк, и пробовал на зуб, и нюхал, и прикладывал к ушам, и вновь рассматривал, а то водил подушечками пальцев, как слепой, по надписям, что-то нашептывал, урчал… Все тщетно! В его когтях это была монета как монета, да надпись необычная, да герб невиданный… а больше ничего такого — золото как золото. Глаз Незнакомца оставался неподвижным. Хвала Создателю, что удержал тебя, что ты не показал, как этот глаз…
— М-да! — с шумом выдохнул Вай Кау. — Так, говоришь, она… Ладно, гадать не будем! Хинт явится, тогда… А пока подождем! Я буду ждать, ты будешь ждать. И она будет ждать — у меня: со мной ей будет веселей, не так ли?
Рыжий почел за лучшее смолчать, не отозвался. Ну а Вай Кау повернулся в кресле и, выдвинув ящик стола, бросил туда заветную монету, закрыл, щелкнул замком, сказал:
— Вот, на сегодня как будто бы все. Иди, друг мой, и отдыхай. И вспоминай. Чтобы потом, в следующий раз, отвечать четко, быстро и ясно. А чтобы ты даром время не терял, я, чем могу… О, да!
И потянулся к колокольчику, тот едва слышно брякнул, и тотчас опять сама собой распахнулась входная дверь. Вай Кау указал на нее. Рыжий медленно встал и пошел из кабинета — как во сне…
Да нет — просто во сне, в кошмарном сне! Проклятый Крот! Он что-то знает про монету, но молчит… Но и он тоже чего-то не знает, но зато знаешь ты! А посему, придя в гостиницу, ляг, вспомни все, как следует, прикинь и сопоставь, и, может быть, тогда… В гостиницу! Скорей в гостиницу!..
Глава третья — ВВА-ВА-ВА!
Только в гостиницу он больше не вернулся. Адъютант, дожидавшийся Рыжего в холле, важно сказал:
— За мной!
Рыжий не спорил. Спустившись по канатному крыльцу, они еще раз миновали площадь и подошли к распахнутым дверям обер-лоцманской школы. Там на приступочке сидел хмельной стюард в засаленной беляшке. При виде адъютанта он вскочил, неловко отдал честь, пытался доложить…
— Хва! — рявкнул адъютант.
Стюард испуганно присел, посторонился.
— Вот так всегда! — в сердцах воскликнул адъютант. — С утра напьются, как клопы!.. Прошу!
Рыжий прошел за ним в застольную. Там было грязно и накурено. Всклокоченный приземистый толстяк в коротенькой штабной жилетке стоял возле окна, смотрел на рейд. И он, похоже, был еще пьяней стюарда. Услышав, что к нему вошли, толстяк спросил, не повернув головы:
— Ну, что еще?
Да, так и есть: он пьян! Однако адъютант как будто не заметил этого, а браво доложил:
— Вот, Сам прислал.
Толстяк лениво повернулся, глянул на Рыжего, пожал плечами и сказал:
— Зачем он мне?!
— Н-ну, — сбился адъютант, — велели привести, я и…
— А больше ничего?
— Нет, ничего.
— Тогда гуляй. Гуляй, я говорю!
И адъютанту ничего не оставалось, как уйти. Что он и сделал, громко хлопнув дверью. Ну а толстяк…
Толстяк, шатаясь, подошел к столу и сел, наполовину скрывшись за кувшинами, костями, мисками, яичной скорлупой и прочим мусором… и снова соизволил посмотреть на Рыжего. Рыжий молчал. Тостяк, поплевав на лапу, пригладил ею плешь между ушами и принялся насвистывать «Красотку», и строить из костей редут, и то и дело искоса поглядывать на Рыжего. Даже не искоса, а злобно. При том очень злобно!
Но после адмиральских глаз это было не только нестрашно, а даже просто смешно и нелепо. И Рыжий без «позвольте», «разрешите» прошел к столу и сел напротив толстяка, достал сигару, закурил и пустил дым — прямо в него, конечно, в толстяка! Того всего перекосило: он тотчас же вскочил, лапой махнул — и все, что было на столе, со звоном-лязгом-грохотом слетело на пол!
— Бейка! Служи! — гневно вскричал толстяк.
Вбежал стюард, засуетился, смел черепки, убрал и вновь накрыл на стол — на этот раз все чистое, горячее и свежее, и до краев. Толстяк сурово наблюдал за ним, молчал, злобно поглядывал на Рыжего, сопел… Но только лишь стюард ушел, сразу поднял кувырь дрожащею с похмелья лапой и важно представился:
— Ларкен, флаг-спец.
Рыжий ответил ему в тон:
— Полковник Рыш, картограф, — и отложил дымящую сигару и тоже взялся за кувырь.
— Тогда… за крыс! Береговых! — сказал Ларкен и нагло рассмеялся.
— Береговых, пусть так, — согласно кивнул Рыжий. — И за морских, они чем хуже?!
Ларкен грозно рыкнул, вскочил!.. А Рыжий как сидел, так и сидел себе, смотрел на спеца теплыми, ленивыми глазами. Вот разве что и когти еще выпустил да уперся коленкою в стол, чтобы чуть что, так сразу же пинать его на спеца!
Нет! Не дошло до этого. Ларкен зло фыркнул, сел. Сказал:
— И все-таки за крыс. За всяких!
— Всяких.
Чокнулись и кувырнули, и принялись закусывать. А закусив, Ларкен резко отставил свою миску, помолчал, потом нервно откашлялся, глянул на Рыжего, а после жадно взялся за кувшин… отдернул лапу… снова потянулся… нет, все-таки убрал, сказал усталым голосом:
— Итак, полковник… Как тебя?
— Рыш.
— Рыш! Итак, полковник Рыш, за дело. Давно ты здесь?
— Нет, со вчерашнего.
Ларкен изумленно захлопал глазами, спросил:
— И уже отсидел в Карантине и вышел?
— А я и не сидел, — просто, совсем без вызова, ответил Рыжий. — Я так: пришел, оформился, меня свезли в гостиницу. Там отдохнул, а утром пригласили к адмиралу…
— К Кроту? — совсем уж недоверчиво спросил Ларкен. — Тебя, береговую кры… Гм! Да! Значит, тебя — и к адмиралу, сразу, без конвоя!
— Да, без. А что? Вай Кау ждал меня и беспокоился. Вот и…
— Ну-ну! Пой, заливай! — вскричал Ларкен и засмеялся. — Да вас, волны не нюхавших, чтоб сразу допустили до…
И вдруг он замолчал и проморгался, и даже почесал за ухом и так и замер с поднятою лапой… И вдруг вскочил и закричал:
— Ар-ар! Какой я чва! Так ты ж… тот самый Кронс, трубач и тайнобрат, трактат о Юж… Так это?!
— Да, — скромным голосом ответил Рыжий и столь же скромно потупился.
— Ну вот! — и Ларкен развел лапами. — Надо же! А я как… Да! Прости, приятель! Но ты в таком диком прикиде, что я и не узнал. Прости!.. Бейка, сюда!
Опять вбежал стюард. Ларкен важно сказал:
— Так! Эту дрянь убрать. А принести… Из верхней бочки. Понял? И закусить — чтоб было в масть. Порс! Порс!
Бейка забегал, зашустрил. Ларкен преобразился, просветлел и даже вроде протрезвел. А волновался как! То вскакивал, то вновь садился, напевал, ребра почесывал от нетерпения. Когда же все было готово, Ларкен немедленно налил конечно же по полному, провозгласил:
— За Бурк! — и залпом выпил, и, даже не притронувшись к закуске, опять налил, сказал: — Ты, брат, не представляешь даже, да! Еще за Бурк! И за тебя! За годы юные! За все!
И все — действительно. О деле больше и полслова не сказали. Ларкен беспрестанно наливал, жадно расспрашивал о Бурке: как там, что нового, по-прежнему ли в городском саду гуляния и жгут ли по ночам потешные огни, а у фонтана Двух Сердец… а правда ли, что за курение обманки… а разве и действительно… а вот я слышал, что… а в это я совсем не верю, но… и многое и многое подобное, такое же пустое, никчемушное — зачем ему все это? Но Рыжий отвечал как мог серьезно, основательно; правда, Ларкен быстро хмелел и потому уже почти не слушал, перебивал и задавал все новые и новые вопросы и уже сам на них и отвечал, а после просто принялся рассказывать невнятно, сбивчиво, но Рыжий все же понял: Ларкен родился в Бурке, в Бурке вырос, закончил пансион с отличием, а дальше…
И вдруг Ларкен запнулся, замолчал; смотрел перед собой пустыми черными глазами… а после чуть слышно, но твердо сказал:
— А дальше — грязь, мой друг. Такая грязь, что не представить. Но! — и вдруг он, шатаясь, поднялся, злобно сверкнул глазами, приказал:
— Встать!
Рыжий встал. Ларкен загадочно, по-пьяному прищурился, сказал:
— Грязь, да. Но кое-что… А! Сам увидишь. Двинули!
Вышли, пошли, гулко ступая, темным коридором. Ларкен, для верности держась за стену, шел впереди и объяснял — пять дней тому назад занятия закончились, выпускники подались на эскадры. Штиль в школе, скукота. Вот разве что…
Завел в библиотеку. Там оказалось много редких книг по навигации и праву. Рыжий ходил вдоль полок, щелкал языком. Ларкен победно улыбался и быстро, прямо на глазах, трезвел. Налюбовавшись удивленьем гостя, который брал, хватал одну, вторую, третью книгу, флаг-спец важно откашлялся, спросил:
— В карт-класс?
Вошли в карт-класс. Там тоже было интересно. Подобных точных компасов Рыжий еще не видел. И также в первый раз Рыжий смотрел в девятикратную подзорную трубу, листал «Атлас дальних созвездий», «Тайн-планы всех фарватеров»… А в классе математики он долго так и сяк вертел линейку со стеклянным бегунком, но после все-таки сообразил, как вычислять по ней магнитные склонения, брать синусы и сдвоенный процент минус налог на риск.
— Ну а теперь, — сказал Ларкен, — айда в депешную. Там само-самое!
Депешная была устроена на верхнем этаже в отдельной башенке без окон. Тройная бронедверь, секретные замки, пневморевун…
— Горласт! — сказал о нем Ларкен. — На совесть делали! — и отключил ревун, вставил ключи, одновременно, двумя лапами, ловко их провернул…
И новые друзья вошли в совсем пустую комнату, посреди которой стоял большой овальный стол, укрытый, словно скатертью, ганьбэйским флагом. Входная дверь была уже плотно закрыта, а окон в башенке и вовсе не было… и тем не менее все здесь было залито каким-то ровным серебристым светом. Рыжий принялся с удивлением оглядываться по сторонам, пытаясь отыскать этот загадочный светильник…
Но тут Ларкен сказал:
— Сюда!
И подошел к столу, одним рывком сорвал флаг на пол…
И глазам Рыжего предстал Разумный Треугольник — макет Земли на всю столешницу. С краев, как и положено, — синий Бескрайний Океан с отметками глубин, а посреди — неправильный овал самой Земли. Земля была раскрашена где как, по странам, как на карте: Тернтерц, Даляния, Мэг, Харлистат, Фурляндия. А там — Равнина, Лес… Земля и впрямь была здесь, на макете, как панцирь преогромной, в целый мир, Аонахтиллы. И вот даже и лапы ее, хвост, а вот и голова — Ганьбэйский мыс, Ганьбэй, и эта голова обращена конечно же на юг, и ведь не зря это, знак это, верный знак, но им — и этим, и другим — как ни доказывай, что Южный Континент действительно…
Но тут Ларкен перебил его мысли, сказал:
— И вот это и есть искровик. Я сработал! Садись. Теперь уже совсем пустяк остался — ровно в четыре склянки пополудни он оживет, и ты тогда… Ну, в общем, надо ждать!
И они сели, замерли. Рыжий внимательно смотрел на искровик, Ларкен на Рыжего. И… Р-ра! Ларкен конечно же уверен, что ты вот-вот будешь безмерно поражен, подскочишь как ошпаренный и завизжишь от удивления и станешь задавать ему вопросы — беспомощные, глупые. Но ты… Х-ха! Знаем мы, слыхали! Да, несомненно, говорил Сэнтей, на первый взгляд все это очень удивительно, однако никакого чуда в этом нет. Просто берут двойную желтую жемчужину и разрезают ее пополам — конечно же особым, тайным способом — а после ты берешь одну жемчужину себе, а вторую, ее близнеца, ты отдаешь другому, и он, этот другой, ее уносит и увозит, прячет; жемчужины как будто бы навек разлучены… Но нет! Они ведь близнецы и потому по-прежнему живут одной и той же жизнью. Называется это «эффект близнецов». А используется он следующим образом. Вот ты, например, берешь свою жемчужину и опускаешь ее в особенный раствор — жемчужина немедля чернеет… и та, другая, в тот же самый миг точно так же почернеет! А если ты сожжешь свою жемчужину значит, и та в то же самое время сгорит. А если ты возьмешь свою и начнешь выстукивать по ней — вот так вот, когтем: тра-та-та, тра-т-та, т-та-та! то и другая сразу же…
Звон! Снова звон — это ударил гонг на адмиральской башне: бьют склянки. Ну а здесь…
Здесь на макете тотчас засверкали искры! Они по большей части вспыхнули вдоль побережья, в крупных портах, но кое-где сверкал и континент. Вот, скажем, Бурк сверкал, а вон в Фурляндии огни. И Харлистат, и даже Горская Страна там-сям искрят. Все искры были желтые, они мигали, словно заведенные, — две с промежутком яркие и тотчас же одна едва заметная, опять две яркие, одна едва заметная, опять… То есть шла стуколка, доклад лазутчиков, дневная перекличка: здесь все хоп-хоп, и здесь, и здесь…
— Ну, как тебе оно? — спросил Ларкен, самодовольно ухмыляясь.
— Да, — кивнул Рыжий, — впечатляет. Вот разве что… А здесь чего молчат? — и лапой указал, где именно. — Это Нехилый, да?
Ларкен весь дернулся, застыл. А ведь действительно — Нехилый Мыс молчал. Нехилый, р-ра — опорный форт на Скользком Побережье, и там — верфь, шахты, арсенал. Да если там вдруг что-нибудь случится, то тогда…
Но ожил и Нехилый, замигал — да вот только не желтым, как везде, а красным светом. Депеша была длинная; невидимый стукач дважды сбивался, начинал сначала. Стук был шифрованный, Рыжий не понял в нем ни слова, зато Ларкен, упершись грудью в стол, внимательно следил за бегом искр. Он был так увлечен, что даже не заметил, как Рыжий, дотянувшись до макета, поддел, где надо, когтем, посмотрел… Да, именно жемчужина, Сэнтей не лгал, вот, значит, как оно устроено. Наверное…
Но тут стукач закончил передачу. Ларкен, еще немного подождав, вздохнул, задумчиво сказал:
— Ну и дела-а-а!
— Что? — спросил Рыжий.
— Так, безделица… — и тут Ларкен вдруг рассмеялся и сказал: — А Крот от желчи лопнет! Облысеет! — а после сплюнул, отвернулся от стола.
— А кто ему докладывает? Ты?
— Ха! Если бы так! Да он и без меня уже все знает! У него в кабинете такой же стоит… Да, так… Вот как! — Ларкен склонился, поднял с пола флаг и аккуратно прикрыл им уже погасший к тому времени макет, нервно огладил его лапой и сказал:
— И ты, я вижу, тоже много знаешь. Вот и о нем даже. Что, небось братья в Бурке наболтали?!
— Н-ну, в общем, да, — согласно кивнул Рыжий. — Был в Башне разговор, что есть такая штука. И объясняли, что она умеет. Но как это устроено… вот тут мы много спорили, ибо об этом никому…
— Х-ха! Никому! — самодовольно перебил его Ларкен. — Вот то-то и оно, что никому из них, из братьев, секрет искровика неведом! А почему? Что им мешало получить его? Ведь я ж не сразу побежал в Ганьбэй, я ж поначалу… Хва! Об этом хва! — и сам себе лапой махнул и замолчал, щеки надул, задумался… надолго… и вдруг опять заговорил: — Но это что! Тут есть еще одна штуковина, и вот о ней, бьюсь об заклад, ты никогда ни от кого не слышал. А любопытно?
— Да.
— Тогда чего стоим? В подвал! Ар-р, порс!
Что ж, порс так порс; сошли в подвал, в секретную. Там на столах и верстаках были навалены какие-то детали, инструменты. Ларкен важно расхаживал по мастерской и то рассказывал, а то показывал, давал даже потрогать, покрутить. Его ну прямо распирало от гордости. Ар-р, ну еще бы! Ведь наконец Рыжий молчал, покорно слушал его и не спорил, а, как и все они, поддакивал, кивал — всему, чего бы не услышал. Ну а Ларкен уже притворно удивлялся:
— Ар-р! Да ну что вы все?! И ты не понимаешь, что ли? Ну ладно если б я, уже старик, нюх потерял, это было б понятно. А ты чего?! Оно вот так вот: здесь и тут, отсюда, представляешь? Конечно, дел еще полно, да, кое-что пока не сходится. Но ты прикинь! Вот, скажем, ночь — хоть глаз коли. Или туман… А я все вижу! И от меня тогда уже никто не скроется! Ну, я не сам, конечно, вижу, нет, а вот посредством этого всего, я называю это узнавателем. Опять не понимаешь? Ар-р! Вот, подойди сюда и мел подай, я начерчу; вот, воздух — он не пустота, ты ж знаешь, что он как вода, но не такой густой, а если в воду бросить камень… А эхо — ты в горах бывал? Так эхо — это возвращенный звук: звук полетел, ударился о гору и вернулся. А я хочу, чтоб звук летел и ударялся о корабль, то бишь нашу искомую добычу, и возвращался бы, и сообщал… И вот рисую, вот, смотри! И…
Битых три часа, а то и все четыре Рыжий провел в подвале, слушая Ларкена. И…
Ф-фу! Флаг-спец устал-таки, проголодался. Ну, наконец! Пошли, пришли в застольную. Стюард быстро собрал обильный ужин. Ларкен на этот раз и вовсе не закусывал, а только пил и с жаром вспоминал, как он, недоучившийся школяр, однажды разыскал двойную желтую жемчужину и как… неважно как, но ведь заметил же и ведь сообразил, что это значит, потом еще два года бился, улучшал, испытывал, и, наконец, стакнувшись с тайнобратьями, представил им чертеж искровика, но те конечно же подняли дикий вой и принялись кивать на Равновесие, стращать, что эта штука все разрушит и потому ее нужно забыть, а чертежи порвать… И он тогда бежал. Сюда, в Ганьбэй… Так ведь и здесь не приняли! Но денег, правда, малость отжалели… А как они тряслись за них! И как пугали, что, мол, если вдруг, не приведи Аонахтилла, не заладится… Но тут как раз все и заладилось! Его секретная депеша — да-да, она, а не гонцы и не сигнальные дымы — тогда спасла Мамайс от разорения, и вот только тогда они все поняли, насколько ж им полезен искровик… Да нет, не им, а лишь ему — Кроту. Ибо здесь все — ему, здесь все — его. Не веришь? Х-ха! Девять замков на Башне, ну и что? Туда есть тайный ход, и Крот, когда захочет, берет оттуда деньги. Смеется, говорит, что капитал должен работать. Он и работает! В Далянии, Фурляндии, Горской Стране, даже у вас, у дикарей, — везде все куплено, все куплены. Да он даже не крот — паук, а паутина у него крепка и, главное, невидима, и будь ты хоть о девяти умах… А ведь кто плел ту паутину? Я и плел! Тот, первый искровик, который спас Мамайс, бил только на два перехода, Крот гневался и требовал еще, еще, и я все улучшал и улучшал конструкцию, а стукачи все волокли и волокли мои искровики все дальше, дальше, дальше — и вот уже весь Континент ими опутали, все нити сведены сюда, и Крот их всех — и страны, и моря — держит вот здесь, у себя в кулаке, а я… А я как был никем, глупцом и неудачником, так им и остался. А! Пропади оно все пропадом: налей! Еще! Еще! И…
— Вва! Ва-ва! Зачем мне г-голова?! — взревел Ларкен песню гребцов с открытой палубы. — Мне парус — вва! Мне лапы — вва! Рви — вва! Дуй — вва! и подскочил и дико закричал, и засвистел, пошел было плясать да крендели выписывать…
Упал, глаза закрыл и дико, страшно, глупо засмеялся. Рыжий помог Ларкену встать, а после вместе с Бейкой вел его, поющего-кричащего, и заводил в каюту и там укладывал в гамак — старый моряк и здесь, на берегу, жил по-походному и тюфяков и пуфарей не признавал, — а после еще ждал, пока флаг-спеца укачает и он заснет…
И наконец Ларкен затих. Рыжий, брезгливо отдуваясь, поспешно вышел в коридор. Следом за ним метнулся Бейка и, забежав вперед, спросил угодливо:
— Вам уже тоже постелить?
— Да, несомненно. Но только чтоб не здесь.
— А где?
— Н-ну… хоть в библиотеке.
— А как стелить? Тоже гамак?
— Нет, — усмехнулся Рыжий. — Я ведь не буян. Пойдем!
Вдвоем они поднялись на второй этаж, вошли в библиотеку. Пока стюард стелил, Рыжий прошел к окну, раскрыл его…
И так и замер. Ночь была темная, безлунная, и ничего нельзя было увидеть: Рыжий лишь чуял ветер, жаркий да соленый, да слышал гром прибоя, вот и все. А был бы ясный день, и что б тогда ему открылось? В шторм буруны, в штиль — просто синева до горизонта, и снова вот и все. А что за горизонтом, то…
Шаги! Дверь скрипнула!.. А, пустяки. Это стюард ушел. И пусть себе идет. Сейчас он спустится к себе и ляжет, и заснет. И спит Ларкен. Спит весь Ганьбэй — внизу ни огонька…
Гонг! Значит, уже полночь. Во Внешней Гавани на кораблях прошло движение — это сменялись вахты. Здесь, кстати, лучшие из лучших кораблей и лучшее оружие, и лучшие спецы, и значит, только здесь, и то это еще пока что неизвестно, могут рискнуть отправиться на поиски… Но хочет ли того монета? Ведь ты же видел сам, как адмирал ее испытывал, но все было напрасно, монета не ответила ему и, значит, Южный Континент не для него и вообще не для ганьбэйцев, и, значит… Ничего это не значит! Ночь, спать пора, а там что будет, то и будет. И Рыжий, затворив окно, прошел за шкаф и лег там на пуфарь, нащупал когтем сонную артерию, нажал на нее раз, второй…
И снился ему сон — должно быть, очень страшный, ибо проснулся он, когда еще не рассвело, и был он весь в поту и задыхался… Но вот о чем был сон, Рыжий так и не вспомнил. Лежал, смотрел на книжные шкафы, обдумывал вчерашнюю беседу с адмиралом. С Ларкеном что? С Ларкеном все понятно, а вот Вай Кау, этот крот, ох, он хитер, ох, изворотлив, ох, коварен! И в то же время… Гм! Странно все это, странно. И так, размышляя о том да об этом, Рыжий лежал, лежал… И вдруг вскочил, быстро спустился вниз, в застольную, и, наскоро позавтракав остатками вчерашнего, опять пришел в библиотеку. Не будучи уверенным, с чего ему лучше всего начать, Рыжий решил действовать наобум: открыл тот самый шкаф, возле которого ему было постелено, взял с нижней полки самый крайний том — в нем, оказалось, были собраны отчеты прошлогодних рейдов, часть пятая, вне плана. Рыжий открыл его на середине и прочел: «На траверзе Малот взят приз. Добыча — жемчуг, кожи. Груз продан, экипаж заложен под проценты. Доход… Расход: при абордаже ранено… Убито… Заплачено наследникам… Итог…» Перелистал, опять прочел: «На рейде Кабакулько. Без выстрелов. Зерно, солонина, железо, вино — согласно уговору. Текст уговора прилагается. Кредит…» А вот еще один, в тисненом переплете, том; в нем деловая переписка. Рыжий открыл его… Нет, здесь ничего не прочесть — одни шифровки, — но по гербам легко можно понять, откуда те шифровки присланы. Их не сожгли после прочтения, а берегут; прошили, пронумеровали. Их, если что, всегда можно достать и огласить, где надо…
Гонг! На обед. Ларкена на обеде не было. Бейка сказал:
— Они работают. В секретной.
Рыжий поел, опять ушел в библиотеку. Открыл Устав. В первой главе «Права» — было записано: «Мы все равны. Перед судьбой». А дальше — чистый лист. А остальные главы вовсе были вырваны. Рыжий закрыл глаза, задумался. А ведь действительно, точнее не сказать, — мы перед нею все равны, а остальное все надуманно и шатко. Вот как ты до обеда прочитал: корабль принял груз, дождался ночи, вышел в море; никто не знал, куда он дальше двинется — на север ли, на юг, — сам капитан того еще не знал, знал один лишь купец, хозяин груза, он и приказал, корабль свернул на юг — и тотчас из-за острова ему наперерез мчится пиратская галера под черным полосатым флагом, бьет мерный гонг и в такт ему гребцы кричат «вва! вва!», галера приближается, на абордажной палубе уже пошло движение — готовят крючья, лестницы, — и вдруг… Вдруг шквал — как будто ниоткуда! — и оба корабля, пиратский и купеческий, идут на дно, все тонут… Почему? Свидетель с берега отметил, что будто бы в это же самое время он видел в море, неподалеку от места катастрофы, Белый Балахон. Сославшись на свидетеля, ликвид-коллегия решила: галеру «Птичка Лю» считать действительно погибшей, а все расходы перебросить на казну, ибо прямых виновных нет… Р-ра! Бред какой-то: Белый Балахон! Но это что! А вот еще одна история, и в ней виной всему Живая Борода. Она будто всплывает после шторма и тянет свои щупальца, обхватывает корпус и принимается душить в своих объятиях корабль — трещат шпангоуты, вода хлещет в пробоины, падают мачты… Ну, и так далее. И тоже — все расходы на казну! А то еще… Да что перечислять! Язык устанет. Вон сколько их стоит, таких томов! И в каждом ведь…
Гонг! К ужину. Вот, наконец, явился и Ларкен; мрачно кивнул, ел только хлеб, пил только воду, а в разговоры — ни в какие! — не вступал, поужинал и вновь ушел в секретную. Вот чва! Как будто он кому-то нужен! И Рыжий заказал шипучего и мятных леденцов, и сахарных орешков, и сигар; сидел, закинув стопы на столешницу, пускал дым кольцами, поглядывал на Бейку да покашливал. Бравый стюард стоял в дверях, вздыхал — и подойти не мог, и жаль было уйти; Бейка сказал, что господин не разрешает побираться, узнает — загрызет. И в разговоры Бейка не вступал, ибо и этого спец тоже не одобрит…
А спец не появлялся, спец работал. Он и назавтра молчал как стена — за завтраком и за обедом. А перед ужином Рыжий, призвав к себе стюарда, сказал, что он, полковник Рыш, отныне будут столоваться прямо здесь, в библиотеке.
— А если спец… — сказал было стюард…
Но Рыжий перебил его:
— А если спецу будет скучно, так ты поставь напротив него зеркало!
— Но…
— Я сказал! Пшел вон!
Бейка сбежал. Ларкен не объявлялся. И не объявится, Ларкена корчит, да! Похоже, он предположил, что ты здесь для того, чтоб подсидеть его — Вай Кау, мол, решил списать его, Ларкена, вчистую, ну а тебя, как перспективного… И оттого-то он, Ларкен, молчит, не вылезает из секретной, чтоб доказать, что он еще чего-то стоит, чтоб обойти тебя, чтоб оттереть тебя, чтоб… Р-ра! Не пьет и даже не поет. Сидит в подвале — и прекрасно; вон тишина какая — благодать! И Рыжий, развалясь на пуфаре, читал… теперь одни только «Казенные Дела» ликвид-коллегии! Бред несусветный, чушь конечно же, а вот читал, ибо учуял след. Правда, какой, пока еще не знал. Листал, читал обрывки фраз, зевал. Так прошел день, второй. И адъютанта не было, и стук-тумбарь молчал. Порой, когда его голова начинала совсем уж идти кругом от всей этой несусветной лжи и этих диких, жутких суеверий, Рыжий закладывал страницу и вставал, и, подойдя к окну, смотрел на корабли. Бейка сказал, что Хинт командует сорокадвухвесельной галерой под желтым парусом и с бронзовым тараном на три зуба. Такой галеры видно не было, и Рыжий снова открывал «Казенные Дела» — уже второй, третий, четвертый том, — читал о Липком Якоре, Подводной Птице, Гиблом Ветре. Читал, читал, зевая до икоты… Только однажды он насторожился — это когда в отчете о Магнитном Острове ему почудилось, что там есть доля правды: первых пятнадцать дней пути штурман описывал довольно точно — и в расстояниях не лгал, и в направлениях ветров, течениях, склонениях иглы… а после, как всегда, все пошло вкривь и вкось. А жаль! Вот если б встретиться с тем штурманом да расспросить его… Да только двести лет уже прошло с тех пор, как того штурмана зашили. Вот так! И Рыжий вновь читал, читал… Того, что он искал, все не было и не было. А время шло! И вдруг…
Глава четвертая — ВСЕЦЕЛО РАДИ ВАС
Хотя не так уже и вдруг. Еще во время обеда Рыжий почуял, что в форте происходит нечто необычное — уж слишком за окном забегали, загикали. И по-хорошему нужно было бы встать да посмотреть, что же там такое творится… Но он поленился. Ему подумалось: небось это они готовятся к встрече эскадры — Вай Кау ведь сказал, что Хинт должен вот-вот вернуться. И все же, дообедав, Рыжий решил проверить, не случилось ли там какой беды — и как будто бы невзначай подошел к окну и выглянул во двор… Нет, вроде все спокойно, ну разве что у адмиральского дворца стоит удвоенный наряд…
Но тут как раз явился Бейка, стал прибирать посуду, и Рыжий, не желая показывать ему свое беспокойство, сладко потянулся, лег на пуфарь, раскрыл «Казенные Дела», том пятый, часть вторую, и снова принялся читать. На этот раз в «Делах» шла речь о Раздвоителе — о ловком шулере, который мог раздваивать игроцкий кубик и поэтому всегда всех обыгрывал. У шулера были особые приметы, его ловили, но безрезультатно, ибо всегда, в самый ответственный момент, этот негодяй вдруг бесследно растворялся в темноте. Якобы растворялся. Таким свидетельствам конечно же не верили, многих из таких горе-очевидцев пытали, кое-кого даже отправили в мешок… Но денег так и не нашли. В конце концов процесс пришлось закрыть за недостатком доказательств, деньги списать… А сумма, сумма какова — триста шестнадцать тысяч золотом: вот уж кто-то погрелся на этом! Да что с них взять? Ганьбэй и есть Ганьбэй, пристанище законченных злодеев и самых бесстыжих лжецов! И Рыжий, гадливо оскалившись, перевернул еще одну страницу. Вот, снова о мошенниках, но тут куда как изощреннее — преступник именован Злобной Тварью, и эта Тварь… Постой, постой! Вот как! Рыжий вскочил… и снова лег, читал; уже не в силах оторваться, он лихорадочно листал страницу за страницей, глотал абзацами, сопел от нетерпения…
А за окном опять шумели: шум нарастал — там грохотали, бегали, кричали…
Но Рыжий не вставал и не выглядывал, читал, сжав челюсти, впившись когтями в книгу. Строчки плясали перед ним; вот так известия! Вот так…
Нет! Ложь это! Пустая болтовня. Рыжий вскочил, встряхнулся. Да мало ли что можно написать! Да и когда все это было? А вот… Да, надо посмотреть! И Рыжий подошел к окну. Гм! Р-ра! Удвоенный наряд у адмиральского дворца, и возле главного колодца — тоже. Вот это правильно! Колодец — вот это действительно важно. Ведь если вдруг какой-нибудь лазутчик сумеет вывести из строя водяную помпу, то форт уже на следующий день… А вот — ого! — а вот уже и запираются ворота, вот к катапультам встали канониры и принялись разворачивать их… по направлению к жилым кварталам! Ну нет, тут дело не в лазутчике — тут все намного покруче. И даже не чужих здесь опасаются, а… М-да! А вот уже и зарядные ящики поволокли, а вот уже и посыпают плац песком, чтобы потом, в бою, не поскользнуться на пролитой крови. Предусмотрительно. Весьма! А вот шумят уже и здесь, у самого крыльца. Узнать, немедленно!
Однако Рыжий еще даже не успел опереться о подоконник, как наружные ставни с лязгом захлопнулись перед самым его носом! Поспешно отскочив подальше от окна, Рыжий злобно поморщился и уже поднял было лапу, чтоб выстучать по переборке Бейку… но спохватился и решил, что куда лучше будет самому спуститься во двор и прямо на месте узнать, что же там такое происходит.
Вот только выйти из здания школы ему не удалось. На крыльце уже толпилась свора дюжих молодчиков в белых обер-бушлатах. Рыжий, не говоря ни слова, попытался было их растолкать, но молодчики дружно уперлись и не пропустили его. Тогда Рыжий гневно вскричал:
— Р-ра! Что это за штучки! Прочь, я сказал! — и вновь полез толкаться…
Как молодчики вдруг расступились, и Рыжий нос к носу столкнулся с их командиром — рябым лейтенантом, который цепко полуобнял Рыжего за плечи и, любезно улыбаясь, сказал:
— Господин полковник, тысячу извинений! И еще раз тысячу. И еще. Но…
И тут он наконец-таки избавил Рыжего от своих грязных лап и даже отступил на шаг. А вот сказал он так:
— Для вашей же безопасности, всецело ради вас, любезный господин полковник! Поступил безымянный донос, что в форт пробрался вражеский лазутчик. Он очень, смертельно опасен… а посему прошу вас воздержаться от прогулок!
— Так! — рявкнул Рыжий. — Ясно! — сглотнул слюну: его всего трясло. — Но окна зачем было запирать?! Я, что…
— Вы — ничего. Но вот лазутчик! Он, донесли, вооружен и готов укокошить любого! Вот почему, всецело ради вас…
— Но я об этом не просил!
— Об этом просил адмирал!
— Ах, даже адмирал!
— Да, к вашей чести, лично адмирал-протектор собственной персоной! не переставая широко улыбаться, сказал лейтенант. — Да, и вот что еще: я смею вас уверить, что поиски этого самого лазутчика уже подходят к концу, так что еще раз убедительно прошу, всецело ради ва…
Рыжий скрипнул зубами, зло сплюнул прямо на стопу одному из молодчиков и, развернувшись, тяжело пошел по коридору. Какая наглость! Какая вопиющая ложь! На лазутчика, как же, поверил! Удвоенные караулы, катапульты… Придя в застольную, Рыжий намеренно сел на хозяйское место и громко, раздраженно крикнул:
— Бейка!
Как будто Бейка во всем виноват…
Вбежал стюард, спросил:
— Чего желаете?
— Сядь!
Бейка сел, как Рыжий указал, напротив. Сидел склонив голову, прижавши уши: затаился. Рыжий, немного подождав, не выдержал, сказал:
— Ну, говори!
— О чем? — скромно спросил стюард.
— О том, что здесь сегодня такое творится.
— А что? — и Бейка поднял голову, захлопал длинными ресницами и вновь спросил: — Творится что-нибудь?
— А разве нет?! — Рыжий привстал. — Ты мне это… смотри! — и снова сел, и когти выпустил, и впился ими в стол.
— К-как скажете, — покорно, чуть слышно ответил стюард. — А что по мне… — и замолчал.
— Что по тебе?!
— По мне… — и глаза у стюарда блеснули. — Меньше болтать и еще меньше знать, вот что по мне. Не смейтесь, господин полковник, не смейтесь! Вы даже и не представляете… — и снова Бейка прикусил язык и опустил глаза, затих…
А Рыжий хищно раздул ноздри и сказал:
— Не представляю. Я. Чего?
— Того… — Бейка вздохнул и посмотрел по сторонам, опять вздохнул, прислушался, нет ли кого за дверью, мало ли… но все-таки решился, приосанился и тихо, но твердо сказал: — И вовсе я не трус, господин полковник, я уже третий год в Ганьбэе, у меня шесть нашивок за ранения, и это все боевые, и вообще, а это всем известно, в форт косарей не допускают, но, правда, и выйти из форта… вот… да… Вы, конечно, еще не пытались отсюда рвануть?
— Нет. А зачем?
— А хотя бы затем, чтоб остаться в живых. Так вот, господин полковник, я думаю, что вам отсюда уже не выбраться. Отсюда только один путь — в море.
— Так я как раз туда и собираюсь!
— Вы меня неправильно поняли. Не из форта вообще, а из нашего, особенного форта. Так вот из него, из нашего особенного форта, в море уходят не под парусом, а в парусе, точнее, в парусиновом мешке, с камнем, привязанным к стопам. Идут, простите, господин полковник, прямо на дно. Кормить рыб. И мне как раз сегодня снилось…
— Что?
— Так, пустяк. Вы, как и всякий старший офицер, не суеверны. Приметы, как говаривает мой господин, это забава для необразованных лохов. Вот я и помолчу в вашем присутствии.
— И это хорошо! — одобрил его Рыжий. — И так вон сколько наболтал. А где, кстати, Ларкен?
— Мой господин в секретной. Он сразу, как принял депешу…
— В четыре склянки? Искровик?
— Да, искровик. Так вот, как только он принял депешу, так сразу спустился в секретную и заперся там изнутри. Я подходил туда, стучал, я предлагал ему обед… А он не открывал, кричал, чтобы я не мешал ему. А тут как раз все началось.
— Что началось?
— Ну, эта суета.
— Какая?
Бейка вздохнул и опустил глаза, молчал. Поняв, что больше от него все равно ничего не добьешься, Рыжий встал и ушел в библиотеку. Там ставни на окнах уже были открыты, и Рыжий первым делом выглянул во двор…
Р-ра! Тишина, порядок: все как всегда, как будто ничего и не случилось. Катапульты направлены в сторону моря, у главного колодца никого, у адмиральского дворца обычный… нет, и вовсе половинный караул, ворота в форт распахнуты. Даже песок, и тот уже смели: плац чист, на красных кирпичах песчинки не сыскать. И не надо искать. И вообще, тебе здесь ничего не надо, ибо какое тебе дело до всего этого? Был или не был тот лазутчик, поймали ли его или он сам ушел, а может, у них тут была совсем другая, куда более серьезнее причина для тревоги — тебе это все равно. Их свары — это не твои, ты не ганьбэец, ты чужой. Пришел — ушел. И Бейка зря болтает, пугает мешком! Монета привела тебя, она тебя и выведет, не сомневайся. А рыб кормить и без тебя найдут желающих — Ганьбэй город большой. А ты… А с тобой будет так: как только явится Хинт, Вай Кау сразу призовет тебя к себе, и ты тогда… Да, так и только так! И Рыжий повалился на пуфарь, взял книгу и снова принялся читать о Злобной Твари — правда, на этот раз уже куда спокойнее, без суеты. Мало того, с каждой прочитанной страницей, с каждой строкой Рыжий все чаще усмехался, читая показания завравшихся, зарвавшихся свидетелей… и наконец в сердцах отбросил книгу, лег на спину и заложил лапы за голову. Р-ра! Вот так бред! И как только Вай Кау мог во все это поверить? Да и не он один — все они, ганьбэйцы, в это верят. А как они страшатся Злобной Твари! Как лгут, как лебезят, как… И какое это грязное, трусливое и глупое поверье! И вообще, все эти пять томов, за исключением, ну, может быть, всего одной истории, какая это ложь! Да-да, за исключением всего одной истории — о Золотом Магнитном Острове. И это даже не история, а сказка. Тот Остров — да! Рыжий закрыл глаза, представил себе волны — огромные и величавые, гребни на них — как снег, такой же чистой-чистой белизны… А ты плывешь по ним, волны тебя вздымают, опускают, неспешно вверх, неспешно вниз и снова вверх, — и твои лапы погрузились в гребень; ты осмотре… Нет, осмотреться не успел — скатился вниз, но вот уже и новая волна тебя вздымает, и вот он, горизонт, сплошная синева кругом, один лишь Океан со всех сторон, а в Океане — только ты один, и это хорошо, зачем тебе здесь еще кто-то; монета выбрала тебя, ты у нее — один, как и звезда одна — вон там она горит, лежит на самой кромке, там, где небо сошлось с Океаном, и ты плывешь к этой звезде, волны тебя вздымают, опускают, вверх, после вниз и снова вверх и снова вниз — все ближе, ближе к горизонту, к единственной звезде…
И так Рыжий проспал довольно долго, когда он наконец открыл глаза, был уже поздний вечер. Тишь и покой и полумрак… Нет! Что это?! Рыжий прислушался…
Да, точно, ему не почудилось — кто-то действительно скребется к нему в дверь. Кто это? Очень странно! Час ужина давно уже прошел, а Бейка почему-то не являлся к нему, не будил, не звал к столу. А должен был обязательно! К чему бы это все?.. Р-ра! Р-ра! Ганьбэй и есть Ганьбэй, не расслабляйся! Стараясь не шуметь, Рыжий поднялся, глянул на дверь, потом в окно…
И вздрогнул, чуть не закричал от радости! Еще бы! На Внешнем Рейде он наконец увидел долгожданную желтую галеру! И не одна она пришла — вон сколько их! Так, значит, Хинт уже вернулся и, может, адмирал уже призвал его к себе. И вот-вот призовет и тебя! И тогда все откроется! А «все» — это что? Рыжий задумался…
В дверь снова заскреблись — уже настойчивей. Рыжий спросил:
— Кто там?
— Я, господин, — послышался из-за двери тихий, испуганный голос стюарда.
Ну вот, явился-таки, чва! Рыжий пошел и, загремев засовами, открыл. Бейка вскочил в библиотеку, привалился спиною к двери и прошептал:
— Прошу вас, тише! Умоляю!
Вид у стюарда был довольно жалкий: с прислугой так всегда напакостят, а после в пыль кидаются. И все же… мало ли! Рыжий схватил Бейку за ухо, привлек к себе и едва слышно, но злобно спросил:
— Ну, что еще?!
— Н-нет, ничего! — промямлил Бейка. — Вы разве ничего не чуете?
— Я? Еще как! Я чую голод, чва. И все по твоей милости! — и Рыжий крутанул стюарда за ухо, но тот даже не тявкнул, а только вновь спросил:
— Ну чуете? Разве не чуете?
Рыжий принюхался — дух был как дух, морской, портовый, — и сказал:
— Хватит болтать! Где ужин?
— Я… не сердитесь, господин, — по-прежнему испуганно шептал стюард. — Разве я виноват? Я проспал.
— Проспал? И это оправдание?!
— Да. Только тише, тише! — и Бейка, сделав страшные глаза, вновь зашептал: — А ведь и вы проспали, господин. И ведь не зря это: и вы и я, и вдруг оба лежим, как мертвые! Вот вы принюхайтесь, принюхайтесь, как следует! Вот так, вот так! — и Бейка часто-часто засопел.
И Рыжий поневоле повторил это за ним, а после, задрав голову, еще и еще глубже втянул в себя воздух… И сморщился, закашлялся! Ну и вонища, ф-фу!
— Вот! — взвизгнул Бейка. — Вот! Я ж говорил! Учуяли!
— Но что это?
— Дурман. Ну, дым такой, невидимый. Если глотнуть его на полную, так и совсем откинешься. Я ж говорил: из форта вам не вый…
— Молчи!
Бейка притих, сидел упершись задом в дверь. Рыжий прислушался тишь-тишина. Понюхал — дым, точно дым, да и еще какой едкий! И как это он раньше его не учуял? М-да, очень странно! И спросил:
— А где Ларкен?
Бейка вздохнул, сказал:
— Я думаю, мой господин уже не здесь.
— А где?
— В мешке… То есть, конечно, нет. Мешков таким, как он, не полагается… — Бейка опять вздохнул и продолжал: — Да, господин, уж я-то видывал! Помню, в Бранскее был мятеж, так там таких, как он…
— Хва!
— Хва, конечно. Что будем делать, господин?
— А ты что предлагаешь?
— Я? — и стюард поежился. — Не знаю. Мне стало страшно, я и прибежал. Здесь хоть вдвоем…
— А у Ларкена был? В секретную спускался?
— Нет, что вы… Нет! Там самый сильный дух. Я только к лестнице и подошел, раз соступил — и чуть не задохнулся, и сразу к вам! Бежал, молил, чтобы хоть вы еще не этого!
И Бейка замолчал, зажмурился и даже головой затряс… а после замер и молчал. Долго молчал. Рыжий стоял над ним, не беспокоил, ждал. Порой поглядывал в окно — но от двери он видел только небо, звезды. Чтобы увидеть рейд, нужно пройти поближе. Но стоит ли?.. Хотя кого они хотели, тех уже убрали! Вон как в Бранскее прошлым летом был мятеж, так там Вай Кау повелел, чтобы зачинщиков кого под килем протянуть, кого… Тьфу! Вспомнится же всякое! Рыжий поморщился.
Стюард вдруг поднял голову, болезненно прищурился, заговорил:
— Я так и думал, что все этим кончится. Что, спросите? А я не знаю, что. Вот, землю ем, не лгу! Мой господин меня не посвящал, не доверял, значит. Да он и вам не доверял, вы же сами это видели. Он очень осторожный был! А все равно не уберегся: взял его Крот! Крот и других возьмет. Вон, Хинт пришел, а на берег не сходит, он на рейде стоит, затаился. И другие стоят… И Крот по одному их передушит! И так не раз уже бывало, вот хоть в прошлом году, в Бранскее. А в этот год Нехилый Мыс поднялся. В тот самый день, как вы здесь заявились, была от них секретная депеша; мой господин еще сказал: «Ну, наконец! Теперь-то мы его, безглазого, прикончим!» И заперся в секретной, и готовился. И… А! — стюард устало махнул лапой. Зря это все, не взять Крота, он Словом защищен.
— Это каким еще словом?
— Каким? Ха! — стюард нервно хмыкнул. — Так если бы кто знал, каким, тогда бы просто было! А так… Не взять его, так хоть бы себя пожалели. Я господину сколько говорил…
И Бейка снова замолчал — на этот раз уже надолго. И Рыжий вновь стоял над ним и вновь не беспокоил: думал. Вот, значит, что здесь сотворилось, вот отчего такая суета — это опять они бунтуют, а Крот опять по одному их душит, и так оно у них из года в год, Ганьбэй и есть Ганьбэй, город злодеев, свар; здесь, говорят, в хороший шторм на прибрежные скалы костей набивает, как пены, здесь… Р-ра! И ты здесь, господин полковник, и был дурман, ты спал, тебя не тронули, а так — сошли в секретную, что было надо, сделали, ушли… Но Хинт уже на рейде, изготовился, и город его ждет, и верх на этот раз, ведь ты же чуешь… Нет! Ты ж не скот. А посему… И Рыжий приосанился, велел:
— Встань!
Бейка встал.
— Пошли!
— Куда?
— В секретную.
— Но, господин…
— Пошли, я говорю! Кто был им нужен, тот уже на дне. А мы… Пошли!
— Но…
— Я сказал! — и Рыжий оттолкнул стюарда в сторону, открыл дверь в коридор и вышел первым.
Бейка, вздыхая и ворча, пошел следом за ним. Шли в полной темноте. Куда? Зачем? Тебя ж не тронули, зачем же ты суешься, все то, что здесь творят, тебя нисколько не касается, ты ж здесь чужой, ты должен думать только о монете, а остальное все… Р-ра! Нет! Сюда! Теперь сюда. И вниз по лестнице, еще…
Пришли. Остановились у двери в секретную. Тьма здесь, в подвале, была непроглядная. Рыжий принюхался, склонился, еще раз принюхался… Да, дым почти совсем уже развеялся, и, значит, опасаться его нечего. Тогда Рыжий ощупал дверь, толкнул ее — закрыто. Шепнул:
— Ключ есть?
— Ключ у него. Всегда, — чуть слышно отозвался Бейка.
Рыжий досадливо оскалился, ткнул когтем в замочную скважину… Да, ключ действительно торчал с той стороны. Рыжий поддел его, еще поддел, еще… и провернул-таки! Дверь тихо заскрипела, подалась…
В секретной было тихо и темно. Рыжий спросил:
— Где свет?
Бейка прошел вперед, пошарил по стене, нашел фонарь, зажег его… И сразу взвизгнул, отскочил! Да, было отчего визжать: прямо напротив входа, в каких-нибудь пяти шагах, на груде обгорелых книг лежал мертвый Ларкен! Флаг-спец был весь утыкан спицами — стальными, длинными, тускло мерцавшими при свете фонаря. Ну а вокруг — на полках, верстаках, столах — все было переломано, рассыпано, изорвано, растоптано!
— Мой господин, мой господин, мой господин, — как заведенный причитал стюард; он уже больше не решался заходить в секретную: стоял в дверях и прямо-таки корчился от страха…
А Рыжий подошел к лежащему Ларкену, сел рядом с ним, закрыл ему глаза, сжал ему челюсти, поправил подвернувшуюся лапу — уже совсем холодную, окостеневшую. Подумалось: вот как оно…
Х-хоп! Что-то рухнуло! Рыжий вскочил и обернулся…
Бейка лежал ничком, в его спине торчала спица, кровавое пятно даже еще как следует не проступило на стюардской беляшке. Вот как оно все просто и обыденно! Как муху, да! И Рыжий мрачно усмехнулся, шагнул было к стюарду…
Как вдруг…
— Полковник, не спешите! — послышалось откуда-то со стороны, из темноты.
Рыжий остановился и, не поворачивая головы, спросил:
— С кем я имею честь беседовать?
— Со мной!
И в тот же миг — удар! — невероятной силы! — по затылку! Рыжий обмяк-ослеп-упал… И тут же на него набросились и принялись вязать его, топтать, душить, выдавливать ему глаза! Последнее, что он еще успел услышать, были слова:
— Всецело ради вас! — и наглый, подлый смех.
Глава пятая — ЗЛОБНАЯ ТВАРЬ
Океан, он такой же, как небо — бескрайний, черный и пугающий, а острова в нем — это как звезды: они далекие, едва заметные, их свет манит к себе, вот только их никому никогда не достичь… Нет, Океан — это совсем не небо. Там, в небе, много звезд, а в Океане всего лишь одна — она трепещущей свечой чуть теплится на горизонте, а ты плывешь к ней день, неделю, год… Конечно же так долго плыть нельзя, сил никаких не хватит, и потому будь это не во сне, ты бы уже давно утонул, а тут, во сне, ты все еще плывешь, еще не захлебнулся. Волны вздымают тебя и швыряют, и вновь вздымают, вновь швыряют, а яркая заветная звезда на горизонте то появляется, то исчезает. Она влечет к себе — неудержимо, и так оно и должно быть, ведь та звезда, все говорят, непростая, магнитная. Кто хоть однажды усмотрел ее, тот уже глаз не отведет, ибо не сможет, и будет плыть к ней, плыть — год, два, сто лет, — пока не доплывет. А после… Корабли, которым удается к ней пристать, остаются там навсегда. Сперва они стоят, уткнувшись в берег, а шторм ревет, шторм там ни на миг не стихает, и корабли бьются о скалы, бьются — и разбиваются и тонут, а моряки, приплывшие на этих кораблях, спасаются на берегу. А берег той звезды… нет, того острова!.. а берег того острова сплошь золотой — вот почему он виден отовсюду, вот почему он так ярко горит — как звезда в ночной тьме. На то оно и золото чистейшей, высшей пробы, чтоб так сверкать. Там, кстати, на том острове, все сплошь из золота — и скалы, и трава, деревья, птицы, звери, даже вода в ручьях и та расплавленное золото, и всякий, кто взойдет на тот заветный, страшный остров, умрет от голода и жажды, ибо там нечего ни пить, ни есть; там только одно золото, и не простое, а магнитное — ты лишь притронешься к нему и сразу сам становишься магнитным, и, значит, никогда уже тебе тот остров не покинуть; ты будешь обречен остаться там и умереть там от истощения. А золото? Что золото! Его ни съесть, ни выпить: оно будет только сверкать день, ночь, день, ночь, то есть всегда, постоянно сверкать и сверкать, слепить твои глаза, пока ты не ослепнешь — там, кстати, все слепнут, и слепнут очень скоро, — и будешь ты ходить по золоту, но золота уже не видеть, и будешь умирать от голода и жажды — и умрешь, все умирают там, на том Магнитном Острове. И это правда, истинная правда, и это всем доподлинно известно… но тем не менее всегда находятся безумцы, которые над этим насмехаются и говорят, что это сказки, ложь — и рвутся в Океан и рыщут год, два, десять, сто, стараясь отыскать на горизонте эту заветную звезду, и жаждут, чтоб она скорей околдовала их, чтобы лишила сил, оставив лишь одну — силу стремиться к ней без устали, как ты сейчас… Но ведь они, эти безумные — даже безумные! — искатели, и те выходят в Океан на крепких кораблях, под парусами, с сотнями гребцов… а ты — вот где уже действительно безумный над безумными — как был сам по себе, без ничего, без никого, так и кинулся с берега в воду… и вот уже — какое наваждение! который год плывешь, бьешь лапами и задыхаешься, волны вздымают тебя и швыряют, вздымают, швыряют… Но ты признайся: тот огонь, что виден вдалеке, — действительно ли он влечет тебя? Вдруг ты все это снова выдумал, вдруг и звезды той вовсе нет, и нет огня на горизонте, а есть только одно видение, как и тогда, в Лесу?! Признайся! И одумайся! Уже который год вверх-вниз, вверх-вниз: ты весь продрог, ты отупел, ослеп — ведь разве ночь сейчас? День! Солнце светит, и всем светло, один лишь ты во тьме. Очнись! Оду…
Вал! Вверх! На гребень!.. Вниз! И в мрак! Удар! Еще удар! И…
Пузыри! Ко дну! Кровь горлом! Гром в ушах! Грудь хрустнула, и из нее…
…Свет! По глазам! Рыжий зажмурился. Лежал, дрожал; его трясло, его всего кололо так, словно он от носа до хвоста утыкан иглами, а эти иглы раскаленные! — впиваются в него все глубже, глубже! Открой глаза! Открой же, ну!..
Открыл. Над ним — очки — два черненьких кружочка. Пасть. Лапа… Вот она приблизилась, схватила его за щеку, тряхнула. Рыжий болезненно поморщился.
— Жив! — рявкнул адмирал…
Да, это он, действительно. Низко склонившийся над Рыжим, Вай Кау широко оскалился, воскликнул:
— Вот ты и выбрался! Я сразу им сказал: ты не из тех, тебя не заломать. Так?
— Т-так, — тихо ответил Рыжий, вздохнул… и сразу застонал от боли.
— А! — снова оживился адмирал. — Болит! И это хорошо. Значит, цепляешься. А не цеплялся бы… Лежи, лежи! Тебе вставать еще нельзя. Вон ты какой!
Каким он стал, Рыжий еще не видел, сил не было ни встать, ни шею повернуть. Зато он видел, как преобразился адмирал: на этот раз на нем был новенький ярко начищенный серебряный жилет, а в левом ухе медная серьга, ганьбэйский полосатый шарф намотан плотно, в девять оборотов, по уставу. Р-ра! Стало быть…
— Да! — закивал Вай Кау. — Угадал. Такие времена! «Обман и гнев стучатся в мою дверь…» Так вроде говорил твой Стоокий? А теперь посмотри на себя. Полюбуйся!
Адмирал снял со стены зеркало, осторожно навел его на Рыжего…
И Рыжий помертвел от ужаса! Еще бы: вся его грудь была сплошь утыкана спицами… а он все еще был жив! Рыжий вдохнул, еще вдохнул, а после шумно выдохнул, потом еще раз и еще — и спицы шевелились на нем, как живые… а боли он не чувствовал. Странно! Рыжий сглотнул слюну, спросил:
— Кто это так меня отделал?
— Я, — гордо сказал адмирал. — Ваш покорный слуга.
— …А зачем?
— Хотел поговорить с тобой, вот и отделал. Когда эти мерзавцы принесли тебя сюда, ты был мешком костей. Ты уже даже не дышал. Вот наглецы! Я же их, косарей, просил: «Поаккуратнее! И поскорее!» Вот они и ускорили. Да! Вот каковы теперь у нас помощнички! Ну ничего нельзя никому поручить. Нич-чего! Гниет Ганьбэй… Нет, сгнил уже, — и адмирал тяжко вздохнул, пошел, повесил зеркало на место и сел к столу, задумался.
Коптил, потрескивал светильник, в часах шуршал песок. Светильник! О! Свет в адмиральском кабинете — это добрый знак. Ему-то самому свет зачем? Свет, значит, для тебя, для желанного гостя, полковник. Ты, значит, нынче у него в фаворе. Или же ты ему сейчас очень нужен. Зачем-то… Но ведь и он тебе тоже очень, очень нужен! Так что вы, возможно, еще и договоритесь между собой, найдете общий интерес. А коли так, то главное сейчас — это не спешить, взвесить все как следует, и тогда, может быть, тебе удастся добиться многого, а то и вообще всего. Ну а сперва… Рыжий скосил глаза на спицы. Да, это несколько другие спицы. Те, что торчали в Ларкене, были значительно длинней. И Бейку прикончили тоже длинной и толстой спицей боевой. А здесь не спицы, а скорее иглы. Рыжий с опаской поднял лапу, хотел было дотронуться до этих странных игл…
— Хва! — рявкнул адмирал.
Рыжий поспешно убрал лапу. Вай Кау встал и подошел к нему, сел рядом с ним, сказал:
— Пока что ничего трогать нельзя. Здесь своя сложная, если хочешь, научная система. Свой порядок. И то! Если втыкать не так, не по уму, то загремишь в мешок. И также убирать надо правильно. Это же тебе не простые вязальные спицы! Этими можно убить, если хочешь, а хочешь, ими можно оживить. Диалектика! Что задрожал? Болит?
— Нет-нет!
— Тогда не шевелись. А то, ты знаешь, эти спицы… Ой, с ними мороки! Сперва их накаляют на огне, потом обмакивают в гролль и только после уже ставят. И еще у каждой спицы свой черед и свое место. Вот, скажем, эти две, — и адмирал при этом осторожно дотронулся до тех спиц, о которых рассказывал, — эти прикалывают душу. Их всегда ставят первыми, а снимают последними. А что! Душа приколота — и ты живешь, пусть тебе тогда даже голову отрежут. Такое тоже иногда нужно бывает. Но на этот раз нужно не было, я твою голову не трогал. Я и так, вместе с головой тебя вылечил. Такой вот лекарь-пекарь, с того света аптекарь. А теперь будем это дело помаленьку снимать. Мы ж не ежи! Т-так… Вот, начнем… Р-раз!
Р-раз!
Вай Кау дергал спицы, ухмылялся. Рыжий терпел. Сняв спицы, адмирал сходил за шкаф, принес оттуда банку какой-то едкой, но душистой мази и аккуратно обработал ею ранки. Спросил, склонив голову набок:
— Жжет?
— Нет. То есть не очень.
— Вот и терпи. Как перестанет жечь, тогда скажешь. А пока что молчи.
Рыжий лежал, а адмирал сидел над ним: молчали. Когда боль улеглась, Рыжий сказал:
— Готово.
— Хорошо. Теперь… Лежи, лежи!.. — адмирал посмотрел на часы и сказал: — Теперь о главном. Да! Я ж неспроста, — он усмехнулся, — я ж неспроста с тобой вожусь. Ведь что я, в самом деле, что ли, добрый лекарь? Нет, я Старый Голодный Крот, так меня называют. И так оно и есть. Да, я крот. Копаю, нюхаю, ловлю вас, косарей, потом душу, потом пью вашу кровь. И чем больше я вас, мерзавцев, задушу, тем больше выпью крови — и тем я здоровей, и тем мне радостней. Так говорят?
— Д-да, — нехотя ответил Рыжий. — Так.
— Вот то-то же! Такой вот я злодей. А тебя оживляю. Зачем?
Рыжий молчал. Вай Кау, подождав, спросил:
— Не знаешь?
Рыжий не ответил.
— А знаешь ведь! — гневно воскликнул адмирал. — Ну, говори! Не то…
— Что?
— Ничего!
И вновь они молчали — долго. Потом Вай Кау наконец сказал:
— А ты действительно не скот. Не то что все они. И это первое, из-за чего ты жив остался.
— А что второе?
Вай Кау усмехнулся, не ответил. Зато опять сказал:
— Да, ты не скот. Вот, скот ко мне придет, и я сниму очки: и он как муха в моей лапе. А ты — кремень. Таких нужно беречь! Вот я тебя и берегу. А ты себя? Зачем полез в подвал? Предупреждали ведь! Знаки давали, не пускали… А, что и говорить!
Вай Кау махнул лапой, замолчал. Рыжий спросил:
— Что, снова здесь бунт?
— Д-да, — нехотя ответил адмирал. — Хинт, Чиви Чванг, Ларкен. Ну и другие, не без этого. Вот я и повелел, чтобы форт маленько почистили. И чистили. Тут подвернулся ты… И хорошо еще, что я подсуетился, а так бы быть тебе в мешке, вместе с Ларкеном, — и, помолчав, добавил гневно: Скоты! Скоты безмозглые! — и брякнул кулаком об стол. Еще об стол! Еще!.. И замер, засопел…
А Рыжий терпеливо ждал, ибо прекрасно понимал, что наконец-то адмирал устал паясничать, что наконец и его задело за живое. А если это так, то… Ну! Ну, еще! Ну! Ну!..
И адмирал и впрямь заговорил уже без подковырок, зло и откровенно:
— Ну что, скажи, они, эти безмозглые скоты, умеют?! Топить, жечь, грабить, брать заложников — и это все! А гонору в них! А наглости! И еще дразнят меня: Крот. Да, Крот! И что с того? Зимой тут был Всеобщий Сход, я попросил, чтоб мне представили баланс. Представили. И получилось: я — не смейся, один я! — принес Сообществу в три раза больше прибыли, чем все девять эскадр вместе взятые. И это все при том, что они грохотали, гремели, позорились на весь Континент, а я тихо-мирно сидел на одном месте. Сидел за этим вот столом! А как я это делал? Очень просто. Вот, скажем, первое: свободная торговля — это когда товары нашим клиентам поставляются свободно, минуя всякие надуманные формальности, сборы и прочее.
— А! Это контрабанда, да? — не без иронии поинтересовался Рыжий.
— Ты называй это как хочешь, — сердито отмахнулся от него адмирал, зато заказчики довольны! И, главное, они отныне знают: Ганьбэй несет им прибыль, а не кровь; значит, Ганьбэй нужно любить и всячески поддерживать… Теперь второе дело — сельское хозяйство.
— Плантации обманки?
— Да. И не надо скалиться! Пусть лучше лох обманется обманкой, чем явятся к нему Хинт, Чванг, Зунчаста, Щер… Да много их, скотов, которые придут и будут убивать и грабить почем зря. А так, с моим сельским хозяйством, то есть с моим вторым делом, все получается мирно, дружно и при взаимном удовольствии сторон. И есть у меня еще, поверь, и третье дело, и четвертое, и пятое, десятое, но об этом потом, а мы сейчас опять поговорим…
И адмирал внезапно замолчал. Рыжий, немного подождав, спросил:
— Поговорим о том, куда нам теперь бежать? Ибо на этот раз, мне кажется, тебе…
— Х-ха! — усмехнулся адмирал. — Бежать! Бегут только скоты, спасая свою шкуру. А я могу и не бежать, а просто откупиться… Нет, я не побегу уйду, но так, чтобы потом опять прийти сюда, но не просто так прийти, а красиво. Ты понимаешь, как?
— Да, понимаю. Вернуться, имея здесь, — и Рыжий поднял лапу, сжал ее в кулак и повторил: — здесь… Южный Континент! Так?
— Х-ха! Я разве это говорил? Я разве хоть бы намекал?
— Вот-вот! — и Рыжий усмехнулся. — Ты даже намекать об этом не желаешь. А ведь пошел бы ты на юг. Ух-х как пошел! Но… Да! Ты, как и все они, эти скоты, страшишься Злобной Твари!
— Чего-чего? — наигранно не понял адмирал.
Глаза их встретились. Вай Кау снял очки… но почти сразу вновь надел — не помогало…
А Рыжий сказал так:
— Н-ну, хорошо. Пусть будет так, ты ничего не понял. Мне уже можно встать?
— Конечно.
Рыжий поднялся, осторожно потянулся, затем присел и выгнул спину, весь напрягся… Ничего не болит! Он здоров — совершенно здоров! Р-ра, вот так да!.. Но к делу! И Рыжий подошел к столу. На этот раз стол не был завален книгами и рукописями; мало того, с него была даже снята полосатая ганьбэйская скатерть, скрывавшая под собой конечно же искровик. И тот молчал пока: был неурочный час… Вай Кау молча указал на табурет, но Рыжий также молча отказался, а, навалившись грудью на край стола, задумчиво провел лапой по синеве Океана, затем дотронулся до берега… и наконец заговорил:
— Так вот, сперва о том, что я узнал за эти дни, ну а потом уже о главном. Годится?
— Да.
— Тогда… Дай-ка сюда мою монету! — и Рыжий протянул к Вай Кау лапу.
Тот, на мгновение замешкавшись, порылся по карманам… и отдал. Рыжий схватил монету, сжал ее в горсти, закрыл глаза, прислушался к себе. Монета была теплая… а вот она уже еще теплей… а вот еще… а вот она уже и жжет! Но Рыжий лапу не разжал, а лишь открыл глаза и посмотрел на адмирала, потом на макет. Ганьбэй и Мэг, Даляния, Фурляндия, Равнина, Лес… и тьма в Лесу, и все они бегут, и все кричат: «Наддай! Еще наддай!..» А ты вот здесь стоишь, ты смертельно устал, ты чуть жив, и у тебя в горсти — твоя последняя надежда, о которой…
— Я слушаю, — напомнил адмирал.
— Да, — кивнул Рыжий, — да, конечно. Так вот, о том, что мне в последнее время стало известно. Сколько-то времени тому назад, правда, не знаю где и с кем, Хинт, капитан твоей эскадры… а нынче, как я понимаю, главный бунтовщик… играл на интерес и выиграл вот эту вот монету.
— А почему это он выиграл? Да еще именно ее?!
— Дослушаешь — поймешь. Итак, я повторяю: Хинт выиграл эту монету. Я даже больше скажу: Хинт тогда выиграл много, очень много монет; он одним разом сгреб огромный выигрыш, ибо эта монета могла попасть к нему только под шумок, в общей куче.
— Ну а это еще почему?
— А потому, что, если бы эта монета была поставлена на кон одна, Хинт сразу бы ее узнал.
— А что, он с ней знаком, что ли?! — съехидничал Вай Кау.
— Да! И не он один! — злобно ответил Рыжий. — А все и все и все! И вот именно потому, что у вас в Ганьбэе с ней все прекрасно знакомы, ее прошлый владелец и поспешил поскорее от нее избавиться — ткнул в общий проигрыш, а Хинт, не проверяя, взял, загреб… Теперь понятно?
— Нет.
— Р-ра, даже так! Ну ладно. Тогда я говорю начистоту: и тот прежний, неизвестный мне владелец монеты, и капитан Хинт, и ты — все вы уверены в том, что эта вроде безобидная блестящая кругляшка и есть та самая Злобная Тварь!
— Что-что?
— Р-ра! Хватит лоха гнуть! Так вот, в «Казенных Делах» черным по белому, вот такими вот здоровенными буквами сказано: «Так как эта монета уж очень приметна, то спрячь ее, смешай в кону — и проиграй!» И совершенно верно сказано. Да от нее, кстати, иначе и не избавишься. Ведь Тварь, она на то и Тварь: она не отпускает свою жертву. Ее нельзя вот так вот просто выбросить — она опять к тебе вернется. И потерять ее нельзя, ею нельзя расплатиться, ее нельзя и подарить, а можно… только проиграть! Но кому? Она ж кругом засвечена! Вот в чем беда! И потому, когда, скорей всего, уже только наутро, проспавшись, Хинт в своем кошельке обнаружил ее, эту Злобную Тварь, то он сразу понял, какую жестокую шутку сыграли с ним его приятели! Теперь небось, подумал он, все они потешаются над ним и ни за что не дадут отыграться! Но оставлять монету при себе он очень, очень не хотел — ведь если Тварь успеет в тебя впиться, то уж тогда добра не жди! Вот он и поспешил!
— Куда?
— Да к тому шулеру в Голодной Бухте, то бишь ко мне. А этот шулер, рассуждал твой капитан, он не наш, он лохмат, он про Тварь и не слышал, примет ее и даже не поймет, в чем дело. Хинт так и поступил: пришел ко мне и проиграл ее. И он был рад. И я был рад! Ведь я тогда о Твари ничего не слыхал! И, знаешь, это меня и спасло. Иногда, знаешь, полезно быть тупым, безмозглым скотом. У скота чистый взгляд, ничем, никакой мыслью, никакой заботой не замутненный. Вот я, значит, таким незамутненным взглядом посмотрел, посмотрел на эту кругляшку… И рассмотрел в ней то, чего ни Хинт, ни все они, ни даже ты не видел!
И Рыжий замолчал, сжал челюсти. Ждал. Ждал… И, наконец, адмирал усмехнулся, сказал:
— Ты, значит, рассмотрел совсем не то. А что?
— А вот, сам посмотри!
И Рыжий резко разжал лапу. Глаз на монете был пока что неподвижен. Тогда Рыжий повел монетой вправо, потом влево — глаз ожил и задвигался… и замер. Рыжий опять чуть сдвинул лапу в сторону — и глаз едва заметно дрогнул. Рыжий застыл — и глаз застыл.
— …Что это? — чуть слышно спросил адмирал.
— Глаз, — коротко ответил Рыжий. И, облизнувшись, вновь заговорил: — А смотрит он всегда на Океан. Когда я в первый раз увидел, как он оживает…
И Рыжий сжал кулак! И очень вовремя — Вай Кау, не успевший дотянуться до монеты, вновь сел на свое место и сказал:
— Дай! Посмотреть только…
— Ты уже брал, смотрел.
— Ну, дай еще.
Рыжий, подумав, дал ему монету. И вновь, как и при первой встрече, Вай Кау вертел монету и так, и сяк, и лапой ее растирал, и даже согревал своим дыханием — но все было напрасно.
— Да! — наконец сказал Вай Кау. — Любопытно! — и с явной неохотой вернул монету Рыжему.
А тот сказал:
— Ну вот, теперь ты убедился: эта монета, она для меня и только для меня. А этот глаз — это не просто чей-нибудь глаз, такой любопытный — и все, а это глаз того, кто сейчас там, на Южном Континенте. Он знает обо мне, видит меня, зовет меня…
— Зовет? — с насмешкой перебил его Вай Кау. — А зачем?
— Как это зачем?! Да затем, чтобы я продолжил свои поиски, чтобы нашел его.
— Ну, предположим, ты найдешь его. А дальше что? Какое тебе благо будет оттого, если ты и впрямь отыщешь этот Континент?
Рыжий долго молчал, смотрел на адмирала… и наконец сказал:
— Х-ха! Неплохой вопрос.
— Ну так ответь.
— А и отвечу, да… Н-ну, скажем, это спор. Давнишний спор. И спор не на деньги, а просто так. А «просто так» — это всегда дороже денег. Ну, для таких, как я. Продолжаю. Сэнтей, ты с ним, я так понял, знаком, доказывал, что открытие Южного Континента нарушит Великое Равновесие, в коем нынче находится весь наш обитаемый мир. Сэнтей пугал меня всяческими бедами и напастями, которые неминуемо обрушатся на нашу несчастную цивилизацию. Он… Р-ра! Он глупец! Между прочим, законченный. Потому что нельзя ухудшить то, что и без того уже хуже некуда!
— Что это «хуже некуда»?
— Да все: Ганьбэй, Мэг, Океан, Даляния, Тернтерц. Разве не так?
— Н-ну, предположим. А раз все хуже некуда, то есть ничего испортить уже все равно невозможно, то почему бы не стакнуться и с Вай Кау, этим презренным, подлым, мерзким негодяем… и вкупе с ним взять да отправиться на юг! Ты так примерно рассуждал?
— Д-да. Скажем, так.
Глаза их встретились. Вай Кау не снимал уже очков — так просто посидел, помолчал, постриг ушами… И, наконец, сказал:
— Ну что ж, ты был предельно откровенен. Теперь таким же буду я. Итак… Твой трактат убедил меня, я склонен ему верить. Но Тварь, которая к нему вдруг примазалась, меня, признаюсь, сильно напугала! И все же я оставил ее при себе, я решил понаблюдать, а что же со мной будет, когда она будет при мне, и вообще, а как же это она жрет своего хозяина — и жрет ли вообще. Ну, такой, знаешь, маленький научный опыт, в духе твоего Сэнтея. И что получилось? Ты знаешь, забавно! Х-ха! Тварь, она что? Как только она попадет к тебе, так все говорили, так ты сразу лишаешься всего — удачи, славы, прибылей, а потом, в самом конце, и своей головы… Ну а меня она, эта монета, наоборот спасла. Да-да! Ведь если б не она, так быть бы мне уже в мешке — они, мои друзья-соратники, для этого уже все приготовили, — и вдруг она меня предупредила! Как, спросишь? Очень просто! В тот день, когда мы в первый раз с тобой встретились, я ж ничего еще не знал о мятеже, я верил им, скотам, я думал, что у меня все в порядке. И вдруг ты мне на чистом глазу говоришь, что этот… Хинт был у тебя. Р-ра, вот так да! Да что это, думаю, такое? Я же посылал его в Рифлейскую эскадру, а он, значит, ослушался моего приказа, пошел темнить, потому что Рифлей, он вон где, посмотри, — и адмирал указал на макет, — а Голодная Бухта, и там твой трактир, это вот здесь! А рядом с ней… Ну, тебе совсем необязательно знать, что там у нас рядом с ней. Главное вот что! Ага, подумал я, вот оно что! И потому, как только ты ушел, я вызвал… Ну, кого надо, того я и вызвал и сказал ему: «Пять дней тому назад Хинт был вот здесь, возле Голодной Бухты, с кем?» Тот, вызванный, стал уверять меня, что не может такого быть, что это просто кто-то наклепал на нашего честного, верного Хинта… Ну, и так далее. Тогда я снял очки, и… Х-ха! Я сразу все узнал! Вот как она мне помогла! — и адмирал вскочил…
Но тотчас сел, нахмурился и мрачно продолжал:
— Да только поздно я опомнился. Успел очистить только форт: кого зашил, кого на спицу, а кого… А город упустил! Не дотянулся, не успел Хинт уже пришел им на помощь, привел с собой двадцать восемь вымпелов, встал за моей спиной, грозит. Теперь разве до города?!
— Так что теперь?
— Как что? Я радуюсь тому, какой я молодец. Когда она — ну, эта Тварь, — меня спасла, я сразу же сообразил, что здесь не все так просто, и сам себе сказал: «Храни трактирщика и все ему прощай, он знает нечто важное и это важное тебе еще ох-ох как пригодится!» И не ошибся, х-ха! Вон как она к тебе благоволит. И как зовет! А посему… Хвала, — и адмирал не удержался от улыбки, — сладчайшая хвала Стоокому, что эти мои взбунтовавшиеся скоты еще не успели перекрыть Зимний Док. В Доке нас ждет «Тальфар»! Ты, я надеюсь, этому рад?
Рыжий молчал. Смотрел на адмирала, хмурился. И думал: вот как оно все быстро обернулось: бежал, бежал — и добежал уже. А вот теперь решай! Противно, да? И страшно? Что, думаешь, он и тебя потом, как и Ларкена… Х-ха! Убьет, не сомневайся! Но, может, перед тем, как околеть, ты еще все-таки успеешь ну хоть одним глазком увидеть Юж…
И Рыжий… Р-ра! Не выдержал — вскочил и выкрикнул:
— Тогда чего мы ждем? Скорей!
Глава шестая — ИДТИ, А НЕ БЕЖАТЬ
Но адмиралу такая поспешность пришлась не по вкусу. Он сделал властный жест, и Рыжий сел. Адмирал перебросил часы — и вновь песок едва заметной струйкой побежал из верхней склянки в нижнюю, — затем поправил шарф, очки, откашлялся… и только после этого ткнул когтем в колокольчик. Подождали. Вбежал посыльный лейтенант — тот самый, что все «ради вас», — увидел Рыжего живым, замешкался… Но Рыжий равнодушно отвернулся, а адмирал тихим, но строгим голосом велел, чтоб лейтенант немедленно, собрав надежную команду, шел и сбивал замки с Казенной Башни, грузил сокровища и спешно отправлял их вниз, в город, к площади Главных Весов.
— Но, ваша честь! — испуганно воскликнул лейтенант. — Там, у Весов, уже Чиви Чванг! Он и его ребята…
— Чванг! — повторил адмирал. — Да, там Чванг. Ну и что? С ним давно уже все обговорено, он ждет тебя с грузом. Иди.
— Но…
— Я сказал! Р-рняйсь!
Лейтенант встал во фрунт. Адмирал, улыбнувшись, продолжил:
— Да, Крунч, такие времена пришли. Отнюдь не лучшие. Вот и приходится с кем-то делиться. Ибо вторая шкура на плечах не вырастет, да и вторая голова тем более. Понятно?
— Д-да.
— Тогда… Порс! Порс! Выполняй!
Лейтенант убежал. Затем, немного погодя, был вызван обер-квартирмейстер Лапый — такой дородный, мрачный тип. Он у Вай Кау первый клык. И, говорят, Вай Кау любит с ним поговорить, пооткровенничать.
Но в этот раз говорить было некогда. Вай Кау коротко велел:
— В полдень. Понятно? Ровно в полдень.
Лапый кивнул.
— Не то…
— Да разве я!..
— Иди!
И Лапый развернулся и пошел. Шел — стриг ушами, горбился. Ушел, неслышно притворивши дверь. Вай Кау посидел еще; смотрел по сторонам, моргал, наверное, да разве за очками что рассмотришь, — а после резко встал, сказал:
— А вот теперь и нам пора идти. Идти, а не бежать. По Океану ведь не бегают, и по нему даже не ходят — в него только идут. Идем!
Они прошли за шкаф, там Вай Кау опустился на четвереньки, ловким шулерским движением провел лапой по плинтусу, что-то где-то нажал, чем-то щелкнул, паркет разъехался, под ним открылся узкий черный люк, они быстро спустились в него вниз по скобам, вбитым в стену, люк тотчас же закрылся и они пошли. Куда? Вай Кау только и сказал:
— Это мой личный ход, подземный.
Только скорее это был не ход, а настоящая кротовая нора: тьма, теснота, но, правда, чисто, сухо. Но тьма какая, тьма! Рыжий все время отставал, Вай Кау поджидал его на поворотах, подсказывал, куда лучше ступить, и то и дело говорил:
— Успеем, не спеши. Все схвачено. Успеем. Схвачено. Успе…
Р-ра! Не стерпев, Рыжий спросил:
— Что схвачено?
— Да все! — ответил адмирал. — И все. В полдень они взлетят на воздух. Лапый — кремень, не дрогнет.
— А сам-то он потом куда?
— Мест много, Континент большой. А Чванг… — Вай Кау засмеялся. — А Чванг подавится. Девять эскадр ему не проглотить, вот и подавится. А жаль его: какой был загребной!.. А вот теперь сюда, приятель… Сюда, я говорю! Что, ничего, что ли, не видно?!
И так они и шли — в полнейшей темноте. Потом ползли. Вновь шли. Спускались по канату. Шли…
И вот он, Зимний Док! Огромная сводчатая пещера в гранитной скале: на закопченных стенах — факелы, внизу, у пирса — черная галера на черной, в отсветах огня, воде. Вода — как зеркало. И — никого, и — тишина…
Но вот запели боцманские дудки, и тотчас же галера ожила — в единый миг на ней вдруг объявился экипаж, который до того, наверное, сидел в тени фальшборта, а тут разом вскочил и замер. Но дудки продолжали петь — и экипаж, без всякой толкотни и суеты, за рядом ряд, начал сбегать на пирс. Они бежали не по трапу, а по веслам. Сбегали, строились; а вот они и снова уже замерли. Ждут, стало быть.
А Рыжий все еще спускался вслед за адмиралом: ступени лестницы, ведущей к пирсу, были весьма крутые и разновеликие, не оступиться бы. Но Рыжий знал: смотреть себе под стопы — этот очень дурная примета, вот он и шел на ощупь, отставал…
Но, наконец, они сошли на пирс, прошли вдоль строя. А этот строй… Р-ра! Р-ра! Все в одну масть и в один рост, все черные как смоль и в черных же бушлатах, глаз в глаз, пасть в пасть. Минувшей осенью, когда Вай Кау — с ними же — ходил в Некстор с ревизией, его подстерегли на Гнилых Отмелях. Засадных было десять вымпелов, а он — один. Они были на ветре, он под ветром. А чем все это кончилось?! Да тем, что у засадных выжили лишь те, кого Вай Кау после подобрал в волнах, а остальные все пошли на дно. Потом он этих спасшихся взял да сменял на Хинта, и как еще сменял — пятьсот на одного, не поскупился. И вот теперь тот самый Хинт, который, не спаси его Вай Кау, так бы и сгнил на рудниках, теперь вон что затеял, скот!
Ну да и ладно. Вай Кау поднял лапу, дал отмашку. Вновь завизжали боцманские дудки. По строю прокатился крик:
— Р-рняйсь! Р-рняйсь! — это кричали погонялы. — Ар-ра! Ар-ра! Ар-ра!
И строй — шварк, шварк; пасть вправо, пасть вперед. Стоят, едят глазами, ждут и вроде даже и не дышат. Вай Кау шагнул им навстречу, тронул когтем очки, усмехнулся… и начал:
— Дети мои! Ганьбэй в мешке. Третий Ганьбэй уже в мешке. И потому я ухожу. И вы уходите со мной. Куда? А вот куда! — и тут он выдернул из-под жилета карту, потряс ею над головой и даже лапой ткнул в нее для верности, и продолжал: — Сюда идем! И возведем Ганьбэй Четвертый. Р-рняйсь!
И погонялы зычно подхватили:
— Р-рняйсь! Р-рняйсь!
И вновь — пасть вправо, пасть вперед. Ждут: не моргают и не дышат. Вай Кау отступил на шаг и, свернув карту в трубочку, передал ее Рыжему:
— Спрячь!
Рыжий поспешно затолкал карту за пазуху — поглубже, и еще, еще, — а после плотно застегнул лантер до самой челюсти и встал, как все, во фрунт, но все-таки, совсем чуть-чуть, вальяжно. Вай Кау одобрительно кивнул ему и, снова повернувшись к экипажу, объяснил:
— А это, если кто не знает, обер-картограф Рыш из тайнобратьев, а ныне — наш флаг-штурман. Ар-ра!
— Ар-ра-ра-ра-р! — дружно ответил экипаж, да так, что уши заложило.
А потом… Потом опять все было очень слаженно и четко. Вай Кау дал короткую отмашку, запели боцманские дудки — и экипаж взбежал по веслам на галеру, а там уже кто к банкам, кто на ванты, а кто к шпилю — и тотчас же пошли его выхаживать, выхаживать, вых-хаживать! Канаты натянулись, заскрипели, галера дрогнула, взметнула весла… и медленно, шурша, словно змея в густой траве, пошла к воротам. Ворота же…
— Порс! — рявкнул адмирал. — Не спи!
А и действительно, теперь на пирсе оставались только Рыжий да Вай Кау, а все остальные давно по местам; р-ра, р-ра! И Рыжий прыгнул, зацепился за фальшборт, вскарабкался… А следом — адмирал: последним, по уставу, вскочил, пнул Рыжего — и они вместе, кубарем, скатились вниз, на палубу. Ну а со всех сторон:
— В-ва! — дружный крик гребцов. — В-ва! В-ва!
Галера шла уже куда быстрей, а впереди были ворота: медные, массивные, зеленые от сырости, они закрыты и заложены. И если в них на всем ходу втемяшиться, что тогда будет, а? Рыжий поежился. А эти:
— В-ва! — кричат. — В-ва! В-ва! — и знай себе гребут, гребут, гребут!
И…
Грохот! Р-ра! Ворота разлетелись вдребезги! Да разве ж это медь? Таран пробил их, раскрошил…
И вот он, Океан! Рассвет, солнце встает: оно еще лишь только показалось. А вон и Хинт и его двадцать восемь вымпелов во Внешней Гавани. А здесь…
— В-ва! — крик гребцов. — В-ва! В-ва!
Они гребли играючи, легко. А ритм какой — полуторный, не менее! Поднявшись на шкафут, Рыжий стоял бок о бок с адмиралом и, словно завороженный, смотрел, как по бортам ряды иссиня-черных весел — как два крыла! — то опускались, то вздымались.
— В-ва! — дружный хриплый крик, гребок, рывок. — В-ва! — и еще рывок. — В-ва! В-ва!
И двадцать восемь вымпелов, и Хинт — все ближе, ближе. И там, у них, уже засуетились и забегали. Хинт выкинул сигнальные флажки — велел, чтоб становились в линию. Ух, как они спешат! Не ожидали, стало быть. А адмирал…
Он даже не смотрел в их сторону. И на своих гребцов не обращал внимания: он, задрав голову, смотрел на облака, шептал что-то, вынюхивал, ухом водил туда-сюда, должно быть, мерил ветер… и вдруг взревел:
— Грот! Фок!
Живо подняли паруса на грот- и на фок-мачте. Ветер рванул их, вспузырил. Галера завалилась, рыскнула. Вай Кау снова закричал:
— Рифы трави, право табань!
Травили и табанили, гребли — еще быстрей, еще. Теперь ритм был такой, что, когда весла погружали в воду, гребцы, толкая их, вставали во весь рост, а возвращая весла на себя, дружно, с криком валились на банки. И вновь вставали, вновь валились, и вновь, и вновь:
— В-ва! В-ва! — кричали. — В-ва! — и злобно скалились, плевались густой пеной.
Ветер усилился, свистел в снастях; летели брызги, трепетали паруса.
— В-ва! — дикий крик. — В-ва! В-ва!
И пена! Зубы! И глаза — десятки глаз, остекленевших и пустых. Вот это экипаж — зверье! Их перед битвой, говорят, всегда накачивают гроллем, они потом не чувствуют ни боли, ни усталости, ни страха. Все может быть. Но еще также всем известно, что весла на «Седом Тальфаре» не простые, а из тальсы, а это значит, что они в два раза легче прочих, и крепче, и удобней — не скользят. И сам «Тальфар» — какие у него обводки! Да и осадка какова легок, как щепка. А почему? Да потому что у других галер днища сплошь обшиты свинцовыми листами от жучка, борта увешаны массивными щитами от тарана, вот и сидят они корытами, и тяжелы они, неповоротливы. А у «Тальфара» корпус баркарассовый, сработан без единого гвоздя. Вот каково! «Седой Тальфар» — гордость Вай Кау, честь Ганьбэя…
И что с того? «Седой Тальфар» один, а их вон сколько вымпелов! Хинт уже выстроил свою эскадру в линию и перекрыл всю горловину Внешней Гавани: от корабля до корабля и ста шагов… то есть двух лэ не будет, а это значит, что не проскочить. Теперь куда бы мы ни кинулись, они везде успеют встретить нас, как и положено — клещами, с двух сторон. И, значит, хотим мы того или нет, а будет бой, и, значит, нужно приготовиться к нему — пора уже! Вон Хинт давно готов — они убрали мачты. Ведь мачта при таране — это что? Топор над головой, и при ударе он, этот топор, и падает, и рубит по гребцам, и много мяса делает. Так что ж мы тогда медлим, р-ра?! Не то что мачты — даже паруса еще не убираем. Мало того, Вай Кау повелел отдать все рифы — и отдали, и еще больше распустили паруса, и мчим…
И уже видно, где мы думаем прорваться — между Хинтом и этой зеленой галерой, что стоит справа от него, там капитаном Щер. И вот уже и там это заметили, и Хинт и Щер подняли абордажные мостки, и вот уже эти мостки черны от насевших на них бой-команд, и Хинт и Щер уже пошли сходиться, мостки вдоль их бортов — как поднятые лапы, только сунься! А ведь суемся же, спешим; все ближе, ближе к ним — пять лэ, четыре, три… Но только мы попробуем прорваться между ними, как сразу эти самые мостки, эти хищно воздетые лапы метнутся вниз, вопьются шпорами в хваленый баркарассовый фальшборт — и наши мачты рухнут от толчка, внезапной остановки, и всех сидящих здесь накроет парусами, и вот тогда-то бой-команды бунтарей и ринутся сюда, на палубу, и…
Р-ра! Чего он ждет?! И Рыжий злобно покосился на Вай Кау. А тот был весь внимание: смотрел вперед, шерсть на его загривке вздыбилась, ноздри раздулись… И вдруг он поднял лапу, закричал:
— Бак! Р-расчехляй!
На баке живо расчехлили две баллисты, забегали и стали разворачивать станины, затем заваливать в пращи огромные шары из черной, плохо обожженной глины — от тех шаров разило ладаном и серой… Но вот уже взвели трещотки и прицелились — на Хинта и на Щера. Вай Кау крикнул:
— Оба — верх!
На обоих бортах весла лихо взлетели на сушку, гребцы застыли в напряжении. Вай Кау, подождав еще пару мгновений, дал резкую отмашку.
— Бр-ра! — рявкнул он.
Баллисты дружно рявкнули в ответ — и мощная отдача всколыхнула весь корабль, шары пошли — со свистом, кувыркаясь…
И оба — прямо в цель! И грохот! Пламя! Рев! Галеры вспыхнули — от бака до кормы: огонь плясал, гудел, свистел, жрал весла, палубу, борта и уже даже абордажные мостки. Р-ра! Быть того не может! Да это ж не огонь — это куда страшней! Вот он уже и на воде — так и вода горит! И те, кто прыгал за борт, думая, что там можно спастись, теперь горят в воде. В воде, представь себе, горят!
А адмирал вновь закричал:
— С поправкой! Г-товьсь!
Еще взвалили, навели…
— Бр-ра!
Грохот, свист, отдача — и вот еще два попадания, еще два бешеных костра, еще две обреченные галеры. Ну а теперь…
Нет, больше не стреляли.
— В-ва! — крикнул адмирал. — В-ва-ва-ва-ва!
И вновь гребцы ударились грести, весла мелькали, волны яро пенились. Вперед, скорей вперед, в прорыв! И вот уже Хинт слева, а Щер справа, их галеры — как будто гигантские факелы, тушить их и не думают — какое там, уйти б только живым! — и в воду, в воду прыгают, плывут, кричат что-то… А здесь мы их веслами, веслами, веслами — по головам — вот так, вот так, вот так! И…
…Вот и все. Они остались там: кричат, визжат среди горящих волн, а мы — прямо на юг. Гребите же, ведь жар какой, а страх какой, какое жуткое, невиданное зрелище! Гребите, ну! Давай, лох, налегай! Вскочил — и в грудь веслом, упал — весло на грудь, вскочил, упал, вскочил-упал, вскочил-упал; в-ва-ва-ва-ва!..
— Хва! — рявкнул адмирал.
Запели боцманские дудки — значит, отбой, весла суши, значит, ушли-таки! Ф-фу! В-ва… «Седой Тальфар» лег в дрейф, его слегка качало на волнах. Весла заложены, оснастка чуть скрипит, вяло трепещут паруса, на банках — тишина: гребцы сидят, устало, изможденно отдуваются. А по рядам для них уже несут хлеба, кувшины. Краюху обмакнул в кувшин — и в пасть, и этому — в кувшин и в пасть, и этому. Жуют гребцы. Хлеб да вино — чего еще желать, если живым ушел? А там, на выходе из Внешней Гавани…
Хинт догорел уже, пошел ко дну. И Щер идет. А двое, те, что оказались рядом с ними, те еще горят. Крик, перебранка на воде; мелькают головы — все меньше, меньше их, этих голов. Их вскоре вовсе не останется, ибо никто не идет им на помощь. Да и куда, скажи, идти — в огонь, что ли? Вон как он плещется, огонь, вон на волнах как вверх да вниз, вверх, вниз… И двадцать пять галер стоят не шелохнувшись и смотрят, как горят и тонут их товарищи. Но разве можно упрекнуть их, уцелевших, в трусости?! Да ни за что! Ибо такого дикого огня никто вовек не видывал. Р-ра, тут было чего испугаться! Огонь, который, как живой, взмывает, разлетается, жрет все подряд — и дерево, и воду — с ним разве можно совладать? Вот и стоят они, оцепенев от ужаса, и… Тьфу! Ганьбэй и есть Ганьбэй! И Рыжий опустился на сидяк, и замер, опустивши голову. Вай Кау рассмеялся и сказал:
— Вот так-то вот! — А после закричал: — Сигнал давай!
Дали сигнал — флажками: «Я жду вас». Но зря — никто из них, бунтовщиков, на это предложение не отозвался, с места не сдвинулся. Р-ра, ну еще бы! Гореть, как Хинт, — кому это охота? Вот и стоят они, молчат… Но ведь и не уходят! Почему? Вай Кау взял подзорную трубу и принялся внимательно рассматривать противника. Осмотр, видимо, вполне его устроил, и потому он приказал играть полный отбой. Сыграли. Полегли. Солнце уже стояло высоко; вторая утренняя вахта перевалила на вторую склянку. Все крепко спали, даже у баллист. Баллисты, кстати, уже снова зачехлили. И адмирал ушел к себе в каюту; о Рыжем он словно забыл, не звал с собой и даже не кивнул ему — прошел, насвистывая марш, спустился вниз и затворился у себя. Рыжий, не зная, чем ему теперь заняться, сперва стоял у румпеля, смотрел на Океан, пытался думать, представлять, что будет дальше, — но не представлялось. Перед глазами был только огонь, в ушах гудел только огонь, и чуял он только огонь — невиданный, неукротимый, ненасытный. И Рыжий, как ни унимал себя, а щурился и щерился, и била его дрожь, и стыла в жилах кровь, и… Р-ра! Огонь — и страх! Как будто снова ты в Лесу, и снова ты дикарь и ничего не знаешь, а веришь лишь… Р-ра! Р-ра! Подумаешь, огонь! Вон эти все лежат и спят себе, что им этот огонь?! А кто они такие? Да дикари! Да те же тягуны, только на веслах. А сам ты?.. Р-ра! Тьфу! И Рыжий развернулся, перешел, сел возле кормового флага и принялся смотреть на тот самый огонь, на Гавань, на Ганьбэй. Ганьбэй молчал, как будто ничего и не случилось. И форт молчал. И корабли бунтовщиков стояли, мачт не поднимали. Да и огонь притих и поунялся, и не гудел уже, а лишь едва потрескивал, и ветер перестал нести запах паленой шерсти…
А вот огонь и вовсе догорел, в последний раз взметнулись языки — и словно ничего и не было; рябь на воде, там-сям белеют буруны…
Вот, значит, почему Вай Кау смело шел в прорыв — он знал, что никому против того огня не устоять. А где он взял его? Как это где! Небось такой же, как и ты или Ларкен, пришел и научил, и…
Р-ра! На кораблях зашевелились!..
А вот они и мачты уже подняли. А вот уже и сдвинулись, построились теперь уже в кильватер — и медленно пошли в глубь Гавани. Должно быть, им сигналили из форта, но вот какой это был сигнал, понять было нельзя. А солнце поднималось выше, выше, и лишь только оно взойдет в самый зенит, как…
Р-ра! Ганьбэй и есть Ганьбэй! И двадцать пять галер, которых пощадил дикий огонь, еще найдут свое пристанище на дне — Вай Кау все учел, все просчитал. А что он приготовил этим, спящим? И Рыжий расстегнул лантер, полез за пазуху и достал оттуда адмиральскую карту, развернул ее, глянул… Да, так оно и есть, еще один обман! Ведь этот будто южный континент, который адмирал вот здесь нарисовал, взят с потолка, рассчитан на невежд, ибо стоит только нам вспомнить ну хотя бы то, что всем нам хорошо известно из… Вот то-то и оно! Нам — да, а им это разве известно? Им вообще хоть что-нибудь известно?! И потому им все что хочешь можно показать и доказать. Что адмирал и делает. И, может быть, он прав. Ибо пока его обман раскроется, то мы уйдем уже довольно далеко. А вот бунтовщики… Ар-р! Р-ра! И Рыжий снова затолкал карту за пазуху, сел поудобнее и принялся смотреть то на эскадру, то на форт.
Вскоре эскадра скрылась за скалой. Теперь она проходит Внутреннюю Гавань. А Лапый, надо полагать…
А солнце поднимается все выше.
А те уже небось швартуются. А Лапый…
А солнце поднимается!
А те уже…
А…
Р-ра! За спиной шаги! Рыжий поспешно оглянулся, успокоился. Это Вай Кау быстро вышел из каюты, дал знак, и протрубили — враз — побудку, гролль и марш. Гребцы поспешно поднимались и принимали гролль и строились на верхней палубе — надстройке между мачтами. Когда весь экипаж уже стоял не шевелясь, плечом к плечу, и взгляды их были направлены на берег, на Ганьбэй, только тогда Вай Кау, а за ним и Рыжий, прошли с кормы и встали перед строем. На этот раз Вай Кау ничего не говорил, а медленно и со значением достал серебряный хронометр и принялся внимательно смотреть на циферблат. Затем — все также медленно и также со значением — Вай Кау поднял свободную лапу и, когда быстрая стрелка едва только коснулась верхней риски, дал резкую отмашку…
Взрыв! Грохот! Дым! Форт да и вся скала под ним взлетели в воздух! Лапый действительно кремень — не подкачал: рвануло ровно в полдень! Гр-ром, гр-рохот, эхо, всполохи — и форта нет, и весь Ганьбэй в дыму, в огне. И вот уже из Гавани идут за валом вал, и вот уже «Тальфар» взлетел-упал, взлетел, упал, взлетел… и медленно осел, и закачался, заскрипел оснасткой на свежей волне. А экипаж по-прежнему стоял не шевелясь, молчал, смотрел на клубы дыма, на огни…
— Р-рняйсь! — рявкнул адмирал.
И строй, как завороженный, — шварк, шварк, пасть вправо, пасть вперед. А адмирал:
— Вот так-то вот! — сказал и засмеялся, и добавил: — Теперь нам здесь уже точно делать нечего. К веслам! В-ва! В-ва! На юг!
Глава седьмая — НА ЮГ
И они шли на юг. По целым дням гребли, а вечерами, лишь только солнце начинало погружаться в Океан, они сразу сушили весла, убирали паруса. «Седой Тальфар» ложился в дрейф, они кормились. Потом звучал сигнал «всем-всем шабаш!» — и они отдыхали. А утром вновь сигнал — «на банки! порс!» — и они вновь гребли. Шли при попутном ровном ветре, гребли вполсилы, не спеша. Да адмирал иного и не требовал. Он говорил:
— Успеется. Все схвачено. Вот где оно!
И всем желающим показывал ту самую, поддельную карту — он еще в первый вечер взял ее у Рыжего, снес на шкафут и там опять всем показывал и нагло утверждал, что карта эта верная, надежная, но вот только о том, как она к нему попала, о том он никому не скажет — такое слово дал. И тут же весьма прозрачно намекал на то, что тот, кто дал ему эту карту, лично был на том Континенте, прошел его и вдоль и поперек, провел промеры сорока семи фарватеров, сделал отметки приливов-отливов, а после… А после адмирал и вообще нес какую-то дикую несуразицу, бессвязную, крикливую нелепицу…
Но эти ему верили. И на «Тальфаре» все было спокойно — день, два, четыре, семь. Они гребли усердно, добросовестно. И ветер был попутный, ровный, кормежка была сытная — чего еще желать? И, кстати, не только одни гребцы, но ведь и сам Рыжий в эти дни был всем доволен. А что! И качку он легко переносил, и весь экипаж с почтением и даже некоторой опаской поглядывал на него, когда он с важным видом выходил на ют, смотрел в подзорную трубу на горизонт, потом на облака, потом сверялся с компасом и делал лаговые записи, а после сверху вниз поглядывал на них, гребцов — и снова уходил в каюту… к которой, кстати, ни один из них не смел даже приблизиться, ибо кто они — черная кость, их место — кубрик, нары, им в ночь огня не разводить, им ночью только спать.
И вот они и спят! Спит весь «Тальфар», спит и Вай Кау — его гамак напротив твоего. А ты, Рыжий, лежишь с открытыми глазами, тебя сон не берет, вот ты лежишь и думаешь: ночь, тьма кругом, и вроде тишине уже давно пора было бы настать… Но волны все толкутся в борт, толкутся — вот борт и скрипит, и переборки ему вторят. И палуба, и такелаж! Все и везде скрипит, стонет, дрожит. Ну, прямо скажем, ощущеньице далеко не из лучших. И это ведь еще «Тальфар», элитная галера, а не обычное корыто, и это еще ют, а не бак. На баке, там вообще хоть уши затыкай. Но им, ганьбэйцам, это все равно. Нет, это их даже радует. Вай Кау говорил:
— Скрипит — и это хорошо. Спи, не мешай.
И сам-то он, конечно, спал. А Рыжий все лежал, смотрел по сторонам и слушал скрип, и думал. Да, корпус у «Тальфара» не простой — из баркарасса. А баркарасс — это очень редкое, ценное дерево, оно растет только в Тернтерце. Его еще зовут железной пеной. Это потому, что его древесина крепче железа и в то же время легче пены. Тернтерц его не продает, у них такой закон, чтоб баркарасс не вывозили на экспорт, и потому добыть баркарасс можно только при помощи силы. Так все его и добывают. И оттого и ценят баркарасс. И оттого «Тальфар» и легок на ходу, что у него баркарассовый корпус. А то, что он, этот корпус, скрипит, так это очень хорошо — значит, живет. Вот если он вдруг замолчит, то еще вахты не пройдет — и будет жуткий треск, и…
Р-ра! Так что пускай себе скрипит, ну что тебе до скрипа? Ты что, скрипа не слыхивал? Ведь так же Лес скрипит перед грозой, когда еще и ветра нет, а он уже скрипит — Лес первым чует непогоду. И потому чем он громче скрипит, тем после громче будет перестук копыт Небесного Сохатого, тем больше будет молний и огня, и вот уже — закрой глаза! — и вот уже ты видишь эти всполохи, и вот ты уже слышишь этот перестук, вот ветер рвет листву, мечет ее, и вот уже по Выселкам забегали, гонят детей по логовам, спешат, и вот уже Вожак вскочил…
Р-ра! Вот оно в чем дело, вот почему ты так боишься скрипа — это в тебе просто проснулся давным-давно забытый детский страх перед грозой, и вообще, ты будто не флаг-штурман, не ганьбэец, а ты снова всего лишь… Да! Р-ра! Как будто не было ни Дымска и ни Бурка, ни Ганьбэя, и не в каюте ты, а в логове, и рядом Хват храпит, а не Вай Кау, а ты не спишь — лежишь, дрожишь и слушаешь, как наверху ели скрипят все громче, громче. Еще вот-вот совсем немного — и грянет гром. И посыплются молнии. Вспыхнет огонь! И это, ты знаешь, не просто огонь, это Небесный Брат — разгневанный, всесильный, за все наши грехи сейчас нас накажет! Вот прямо!.. Вот!..
Р-ра! Нет! Опомнись! И ты вскочил и сел, и свесил стопы с гамака, прислушался — скрипит. И ночь в иллюминаторе. Спит Океан… Но это так только лишь говорят, что он спит, а на самом же деле он просто молчит и тихо, ровно дышит. Кто мы ему? Он нас не замечает. Вчера опять трижды бросали лот, стравили весь канат, но до дна, как всегда, не достали. И не могли достать, и это правильно, это нормально, потому что где это такое видано, чтобы посреди Океана, на сумасшедшей глубине, кому-то удавались замеры лебедочным лотом! А эти все не верили. Им кажется, что берег уже где-то совсем близко. Им хочется, чтоб это было так, вот оттого они и говорят, болтают всякое. Их страх берет: вон, сколько дней они уже гребут, а берега все нет и нет. Вот и сошлись они вчера под вечер у грот-мачты. Пришлось к ним спуститься. Вай Кау поначалу объяснял им по-хорошему, по-доброму, а после, не сдержавшись, стал кричать и в карту тыкал и доказывал, что, мол, еще пятнадцать дней, никак не менее, идти… А эти нет, твердят, что берег уже близко. И ждут его, кивают на приметы. Приметы, х-ха! Вчера траву увидели — визжали от восторга. А что с того? Трава была и раньше. Но та трава, так говорят они, была не та, та простая морская трава, а эта — точно та, речная, и берег, значит, уже совсем близко. И ветер будто не такой уже соленый, он, утверждают они, — это бриз, а если дует бриз, то берег, значит… Р-ра! Ты развернулся и ушел в каюту, а адмирал еще остался с ними и доказывал, и много еще всякого от них выслушивал, и даже с чем-то соглашался и кивал, и снова карту им показывал, и курс когтем прочерчивал, и снова терпеливо объяснял, объяснял им, скотам… И объяснил, и убедил-таки! А может, и не убедил, — их разве кто поймет? — но зато усмирил, это точно, они ушли, зашились в своем кубрике. Вот уж воистину есть мы, а есть они, другие, и видят они то же, что и мы, и слышат вроде бы одно и то же, что и мы, но чтобы после все это понять, сообразить, вот тут у них… Тьфу! Тьфу! Вай Кау, возвратясь в каюту, упал в гамак, долго молчал, потом мрачно сказал:
— Сам виноват. Разбаловал! — и приказал задуть огонь и снял очки, и долго так лежал с открытыми глазами, а свет из них шел не в пример обычному чуть видимый, мерцающий, а после и совсем погас — Вай Кау спал…
Вот и сейчас он спит. Ночь. Скрип. Волны толкутся в борт, толкутся. Он, Океан конечно же не спит, он просто затаился, ждет, баюкает, а ты плывешь, плывешь и смотришь — ничего не видно; день, два, и вот уже семь дней прошло — и снова ничего, и дальше будет то же самое, и еще семь, и еще семь, и семью семь, а не пятнадцать; лгал адмирал, пятнадцать — это очень мало, а семью семь… И, может, лишь только тогда ты выйдешь, как всегда, на палубу, прищуришься, хоть ночь будет кругом, и будешь так смотреть, смотреть; нет ничего, нет, нет…
И вдруг над самым горизонтом, там, где обычно…
Нет! То для них, других, — магнитный остров, золото, заклятье, слепота. А для тебя…
И Рыжий расстегнул лантер, достал монету…
Было темно и ничего не разобрать, а можно только ощущать подушечками пальцев — вот глаз, он неподвижен, и обращен он, как всегда, на юг. И ветер ровный и попутный, «Тальфар» идет уверенно — за день по тридцать, сорок лиг, — и никого вокруг, один лишь Океан со всех сторон…
А Южный Континент все ближе, ближе! И в этом вы не сомневаетесь с той, самой первой ночи на борту. Тогда, как и сейчас, «Тальфар» лег в дрейф, на баке завалились спать… А вы сидели за столом, склонясь над ложной картой. Вай Кау, тяжело сопя, вертел монету так и сяк, да только зря он старался монета молчала. Тогда он попросил «еще раз почудить», и ты опять показывал, как оживает глаз, и адмирал сверял монету с компасом, и оба показания сходились. А после, подойдя к иллюминатору, вы их — и компас, и монету сверяли с Неподвижной Звездой — и снова все было точно. А выходить на палубу, чтобы проверить все как следует, Вай Кау запретил — другим об этом знать нельзя, им карты хватит. Карты! И смеялся.
И так с той ночи все и повелось — «Тальфар» спешил на юг, только на юг при ровном и попутном ветре день, два, четыре, семь, на все вопросы баковых вы отвечали четко, кратко, ясно: да, несомненно, да, конечно, да, вот сам посмотри, убедись, вот она, карта, вот наш курс, а как ты еще думал, все точно! А вечерами, запершись у себя в каюте, вы тщательно сверяли лаговые записи и отмечали ветры и течения, прокладывали курс… а после адмирал вводил поправку в вычислениях, ибо зачем их — тех, других — пугать, зачем им знать, как далеко уже ушли? И вместо сорока записывалось двадцать, а вместо тридцати пятнадцать лиг… А утром, приосанившись, Вай Кау выходил к грот-мачте и оглашал координаты, курс, а экипаж, еще сидевший у котлов с чадящим варевом, внимательно выслушивал его. И верил ему. Или, может, не верил, но разве так, на слух, чего поймешь, чтоб после с толком возразить? Вот и кивали они, и не спорили, хватали, обжигаясь, варево — бобовый суп, круто заправленный обманкой с солониной. А после: «К банкам! Порс!» — и вновь они весь день гребли, а вечером ложились в дрейф, и вновь — бобовый суп, шабаш, огня не разводить, скрип переборок, палубы…
А ты, накинув черный плащ просмоленной акульей шкуры, неслышно выходил на ют и замирал, смотрел на Гелту, Эрнь, на Восходящий Дым, Забытую Свечу… А если небо было чистое, тогда на юге уже можно было рассмотреть и новые, пока еще нечетко различимые созвездия. Им и имен-то еще не было придумано, но ты, однако, узнавал и их, ибо о них было указано в тех засекреченных отчетах… Но все это было, конечно, не то, совсем не то, ведь той — единственной — звезды, которая живет над Океаном, на южном небосклоне пока не было. А может быть, ее и вовсе нет, может, все это выдумки для легковерных простаков. Р-ра, несомненно! Это выдумки! Забудь о них! Флаг-штурман, делай свое дело! И он делал его: ночь, две, четыре, шесть ночей подряд он выходил на палубу и расчехлял квадрант, настраивал его и, повернувшись к северу, брал высоту стояния Неподвижной Звезды. Сперва та высота была в пятнадцать градусов, потом в четырнадцать, потом в тринадцать… Значит, еще через семь-восемь дней такого курса они достигнут широты экватора, и тогда Неподвижная Звезда окончательно уйдет за горизонт, ее уже больше не будет видно. Конечно, и тогда, на широте экватора, и даже южнее, в небе останется немало хорошо знакомых нам звезд, но все они, увы, подвижны, в течение ночи они проходят по небосводу длинный путь, и поэтому по ним никак нельзя определять направление сторон света. Неподвижно, всегда на одном месте, точно на севере, в небе стоит только одна Неподвижная Звезда, но мы уходим от нее все дальше, дальше, она опускается над горизонтом все ниже, ниже… И поэтому, начиная от экватора, направление сторон света можно будет определять только по компасу. А если компас вдруг откажет? Вот именно поэтому, боясь потерять из виду Неподвижную Звезду, весьма и весьма немногие решаются пересекать экватор. А если говорить и вовсе откровенно, то далее на юг идут только лишь те, кто твердо верит в то, что там им непременно встретится магнитный остров, сложенный из золота. На этот остров, мол, ниже экватора сами собой укажут наши компасы… Но разве может быть магнитным остров, сложенный из золота? Магнитным может быть только железо, но никак не золото. А золото…
Что золото?! Дело совсем не в золоте. И ты, закрыв глаза, стоял на палубе; смотреть на небо тебе больше уже не хотелось, но и в каюту возвращаться — тоже. Но все-таки вернулся, лег. Думал, заснешь. Так нет! Лежал, ворочался, тяжко вздыхал и думал, что вот, мол, и прошли они, семь этих дней и шесть ночей, и наступила ночь седьмая — и тоже ничего не изменила; ты выходил, смотрел, но снова ничего не высмотрел, вернулся и снова лежишь, да нет, уже вскочил, сидишь пень пнем на гамаке, стопы свесил, тьма непроглядная кругом…
И вдруг словно огнем тебе в глаза! Р-ра! Р-ра! Вот ты ворчишь, скрипишь себе под нос — ты сомневаешься. А что, скажи, ты сжимаешь в горсти? Монету. Золотую! Да, вот и весь тебе ответ — она же ведь из золота, но в то же время магнитная. Так что же тогда получается? Что эта сказка для других, для черной кости, скотов, косарей — суть истинная правда?! Да если это так… Ого! Ого! И Рыжий еще крепче сжал монету…
И вдруг почувствовал…
Глаз на монете шелохнулся! Потом еще, еще… и сдвинулся, ушел на четверть к западу. Не может того быть! Рыжий поспешно разжал лапу и повертел ее и так, и сяк…
Нет, тьма в каюте, ничего не видно. Тогда он спрыгнул с гамака, прошел к столу, зажег фонарь, поднес монету к компасу…
Да, отклонение весьма заметное — на четверть к западу, никак не меньше. Ночь, тьма кругом. Волны толкутся в борт, толкутся, корабль весь скрипит — от киля и до клотика. А Океан совершенно спокоен. Так и в Лесу грозы еще не видно, а скрип уже стоит, и ветер рвет листву, и Хват уже кричит: «Сынок, домой!» Только какое там, он разве тебя дозовется?! Ты еще мал, ты глуп, и тебе кажется, что, может, погремит да и уйдет, ну, рядом пронесет и там пожжет, а нас не тронет. Это потом уже, когда ты, повзрослев, начнешь соображать…
Р-ра! Рыжий встал…
А ох тяжело было вставать! Страх так и прижимал к скамье, давил, и сразу вспомнились «Казенные Дела», том пятый, приложения… Тьфу! Блажь! Да мало ли чего они могли там понавыдумывать!
И все же он не выдержал, окликнул:
— Кау! — немного подождал, и снова, куда громче: — Кау!
Вай Кау вскинулся… и снова лег. Но он уже не спал, хоть и глаза его были закрыты, потому что теперь он сопел совсем не так, как он сопит во сне. Гм, чего это с ним? Чего это он вдруг затаился?
Но вот он, адмирал, заворочался, пошарил возле себя лапой, нашел очки, надел их, потом неспешно повернулся к свету и недовольно спросил:
— Ну, чего тебе?
— Монета! — взволнованно выпалил Рыжий. — Она сменила показание. Ушла на четверть к западу. Я думаю — не зря это. И надо бы и нам, как и она, тоже на четверть…
— Хва!
Рыжий замолчал. Вай Кау медленно, очень старательно, вытер лапу об лапу, а после снял очки и стал смотреть…
Но совсем не на монету, а на фонарь, стоявший на столе. В адмиральских глазах ярко и очень отчетливо отражалось желтое пламя фонаря, а красный свет из них совсем исчез… Нет, не совсем, а был только едва заметен. Р-ра, вот так да! Вай Кау смотрит на огонь — и не через очки — и не отводит глаз, не щурится. А ведь прежде чуть что, так он сразу злился, приказывал: «Убрать его! Задуй!» А тут вот смотрит, смотрит…
Но вот наконец Вай Кау зажмурился. Надел очки. Медленно лег на спину, задумался. Долго молчал, потом сказал:
— На четверть к западу. Что ж, значит, такое здесь магнитное склонение. В этих местах магнитное склонение — на четверть к западу.
— А компас тогда почему не отклоняется? Он как показывал на Неподвижную Звезду, так и сейчас тоже самое.
— Р-ра! Компас! — фыркнул адмирал. — Мало ли, что он тебе покажет. Ведь что такое компас? Простая деревянная коробочка, а в ней магнитная иголочка. Ха-ха!..
— Кау!
— Да, я Кау. Который час?
Рыжий молчал.
— Вот то-то же! — насмешливо сказал Вай Кау. — Ночь непробудная, а ты такой шум поднял. Нет, чтобы сил набираться. Задуй огонь!
Рыжий задул. Опять в каюте стало ничего не видно. Вай Кау поворочался, затих. Рыжий, откашлявшись, настойчиво сказал:
— Глаз повернул на четверть к западу. Он нас предупредил, и потому и мы тоже должны немедленно сменить наш курс.
— Сменить! — передразнил Вай Кау. — Мы! Должны… Да ничего мы никому не должны! Кончай болтать, я спать хочу! — и снова заворочался, затих.
Ночь, тьма. Скрип, волны плещутся. Он, Океан, живой, он нас баюкает, он затаился, а ветер здесь, в этих местах — ты ж ведь читал, это во всех отчетах сказано, — а ветер здесь приходит словно ниоткуда, он словно в ваших парусах рождается и сразу рвет, и бьет, и волны враз вздымаются такие огромные, что если кто и, уцелев, потом расскажет о них, то никто ему не поверит. А зря!
Может, и зря, кто знает? Ночь, тьма. Вай Кау спит ли, нет? Зажечь, что ли, огонь? Нет, свет тебе сейчас не нужен, ты ведь и без него прекрасно знаешь, чувствуешь — глаз отклонился к западу, тем самым указав вам новый курс и одновременно с тем предупредив об опасности прежнего. А что?! Очень даже запросто в самое ближайшее время может случиться такое, что если мы и дальше будем двигаться строго на юг, то все, к чему ты шел все эти годы, одной шальной волной, одним порывом ветра и утопит. И вообще, да что ты его слушаешь?! Да он же Крот! Слепой! Слепой ведет слепых! А ты, единственный… Не спорь ты с ним! Не трать напрасно время. А утром сам пойди к грот-мачте, достань монету, покажи, а после все как есть, начистоту им, косарям и лохам, вывали. Пусть смотрят и соображают, и, может, ты их убедишь, что надо курс менять, что…
Нет. Глупее и придумать нельзя. С тем, кто приносит на корабль порчу… ну, или Тварь, а что это не Тварь, ты ни за что им не докажешь, тут и Вай Кау тебе не поможет… Так вот, с тем, кто приносит на корабль порчу, обычно поступают так: берется вот такая вот доска, кладется на фальшборт так, чтоб один ее — больший — конец лежал на палубе, а второй этак роста на четыре выступал над Океаном. И вот тебя ставят на нее, на эту доску, и ты идешь по ней, глаза твои завязаны и лапы твои скручены, груз на груди, и ты идешь себе, идешь по этой доске, переступаешь по ней за фальшборт, потом ступаешь еще раз, другой, и тут доска-качели под тобой вдруг кувыркается, и ты… Ну, понятно! И это у них называется «сходить на корм». Таким даже мешков не шьют; акулье брюхо — тоже ведь крепкий, надежный мешок!
А адмирал, между прочим, не спит. Лежит, о чем-то думает. И почему это он вдруг так решил, что это — всего-навсего магнитное склонение? А почему снимал очки и на огонь смотрел так, как будто его и не видел? Но, главное, монета! Причем здесь склонение? Спросить у него, что ли? Да только ничего это не даст, Вай Кау, он такой: если сразу чего-нибудь не скажет, то и потом от него ничего уже не добьешься. Вот и сейчас лежит, молчит…
И так всю ночь Вай Кау пролежал и промолчал, а Рыжий просидел, порой ощупывал монету, а глаз на ней все отклонялся, отклонялся к западу…
А вот и рассвело. Пропели боцманские дудки. А адмирал по-прежнему лежал, вставать он и не думал, р-ра! Пришел стюард, накрыл обильный стол на два куверта и ушел. Вай Кау медленно и явно нехотя спустился с гамака, подсел к столу, выпил бокал целебного гур-ни, заел сухариком, а остальное отодвинул, чуть не сбросил. Рыжий хотел было сказать о том, что глаз на монете теперь отклонился еще больше к западу, так, может бы… Но адмирал мрачно прервал его:
— Пусть так! Плевать хотел я на глаза! — а после встал, сказал: Пошли!
Пошли. Пришли. Вай Кау встал возле грот-мачты и, повернувшись к экипажу, объявил:
— Вчера прошли пятнадцать лиг. Очень негусто. А посему сегодня постараемся и будем так грести: замах — за третью линию, не меньше. Ритм два и два. А курс… Курс, как всегда, будем держать на юг, только на юг!
Все побросали ложки, возмущенно зашумели. Р-ра, ну еще бы! За три линии! Да так только на абордаж идти, полсклянки — более не выдержишь. А целый день таким манером разве сдюжишь? Ты погляди, какой умник нашелся! Вот пусть бы сам хоть раз сел с нами рядом, взял весло…
Но так они только подумали, а прокричать не успели. Даже вскочить, и то еще не собрались, а адмирал уже хлопнул себя лапой по лбу, засмеялся и сказал:
— Вай-вай! Совсем забыл! Да и в уставе так положено — всем по трудам! А посему немедля вам сейчас конечно же питья двойную порцию! И по накрутышу обманки! По два накрутыша! По три! Вот так годится? В-ва?
И эти… косари! Орут уже, счастливые:
— В-ва! — дружно. — Вва-ва!
Значит, купились на подачку, на накрутыши. Вот где действительно безмозглое зверье! И, значит, с ними только так, как Вай Кау, и можно, и нужно. Вай Кау, значит, прав. Ну и ладно. Р-ра, пейте, косари, курите. Жадно курите, глубже, охмуряйтесь. А теперь к веслам! Порс!
И порснули. Гребли, как угорелые. Замах — за третью линию, ритм — два и два. А что, не так, что ли? Все так, все по уставу! Гребец должен грести, а место марсовых — на реях, а курс прокладывает штурман. Но какой именно должен быть курс, и сколько нужно нести парусов, и какой ритм должны держать гребцы — все это решает один только адмирал. А так как он уже решил и изменять свое решение не собирается, то наше дело — только выполнять, вот мы и выполняем. Гребите, косари, гребите. А я стою на юте, возле румпеля, смотрю на горизонт, на горизонте пусто. И это очень хорошо, что там, на горизонте, пока еще тихо и пусто, что ветер пока ровный и попутный…
А глаз на волшебной монете все отклоняется и отклоняется, все дальше, дальше к западу…
А солнце поднялось уже в самый зенит, а курс по-прежнему на юг, строго на юг. Гребцы гребут, кричат «В-ва! В-ва!», ритм — два и два; гребцы давно уже запарились и сбросили бушлаты, а все равно вон взмокли как, плюются пеной, а меж рядов опять несут вино и сухари; сухарь — в вино и в зубы, в зубы, в зубы. Гребут гребцы, «Седой Тальфар» споро идет, не рыскает, форштевень режет волны…
А глаз уже и вовсе отклонился к западу, застыл. Жара, ни ветерка, на горизонте пусто. А этим снова подают — теперь уже накрутыши; гребут они, дымят — и смрадный, душный, едкий чад густо висит над палубой.
И вдруг…
Сперва Рыжий подумал, что это ему только показалось, но все-таки навел подзорную трубу — на юг, конечно же строго на юг…
И опустил, лапы его дрожали. Немного постоял и успокоился, опять навел…
Ошибки не было — это действительно большая стая птиц летела с юга. И… Да, Сэнтей всегда упрямо утверждал, что это ничего не значит, ибо у птиц нет разума, а есть только один слепой инстинкт, что Беррик Лу это прекрасно показал и доказал. Так, по его теории, птицы, закончившие свой жизненный путь на Земле, улетают на юг, в Океан, и там гибнут в черных штормовых волнах, а вместо них из белой океанской пены рождаются другие птицы. Вот, если быть предельно кратким, примерно таким образом почтенный Беррик объясняет, почему это птицы, улетающие от нас осенью, покрыты черным оперением, а прилетающие весной — сплошь абсолютно белые, а так, во всем остальном, это одна и та же порода, один вид. Но если это даже так и Беррик прав, то разве не достойно нашего внимания такое удивительное место, где смерть одних приводит к рождению других? И…
— Ар-ра-ра-ра! Ар-ра! Ар! Ар!
Это гребцы кричат: они смотрят на юг, на стаю птиц — а теперь уже и им, на палубе, прекрасно видно птиц — и их восторгу нет предела. Р-ра, ну еще бы! Птицы летят — и этих птиц несчетное множество. Правда, они вовсе не белые, а черные, и отчего ты вдруг решил, что будут белые? Нет, черные. И ух как высоко они летят! Какой густою чередой — как грозовая туча. Летят, летят, что-то кричат…
А с палубы:
— Да это ж гуси! Гуси! Ар-ра! Ар-ра! Гуси летят! Там — континент! Земля! Ар-ра!
И все они, весь экипаж, стоят, задрав головы, кричат. Один лишь адмирал молчит, но тоже смотрит вверх. И вот уже он даже взялся за очки, чуть сдвинул их, чтоб лучше рассмотреть, — конечно, так ведь оно лучше, в темных очках разве чего… Нет, вновь прикрыл глаза очками, усмехнулся, сел на бухту каната, смотрел на гребцов. А гребцы — все смотрели на небо. А в небе черной непроглядной тучей летела стая птиц. И то были совсем не гуси Рыжий смотрел в подзорную трубу и потому мог рассмотреть летящих птиц куда подробнее. Гусь, он какой? Гусь, первое… Да что и объяснять! Где это видано, чтоб у гусей были такие клювы и такие шеи? А лапы… Вон, у вожака, он впереди, когти на лапах — словно шпоры. А как вожак летит! Да он и не летит — парит: совсем не машет крыльями, крылья расправлены, чуть-чуть только изогнуты — и ветер на них перья рвет и загибает, треплет, треплет. Там, в вышине, должно быть, очень сильный ветер, там уже, может, даже шторм, а птицам все равно — они летят густою грозовою тучей все ближе к солнцу, ближе, ближе, а вот уже вожак коснулся клювом солнца, и вот уже закрыл его, а вслед за ним — другие. Сколько их! Какая тень от них! Такая, словно уже ночь! Ар-ра! И…
Глава восьмая — МРАК
Гр-рохот! Гр-ром! И ветер взвыл! Он и действительно родился прямо здесь, меж парусов — и как рванул! Галера затрещала, вздыбилась и замерла… И снова шквал! Еще один! Еще! Вверх-вниз, вверх-вниз. Валы вздымались, падали, «Седой Тальфар» бросало, словно щепку, весла ломались, парус лопнул и бил по палубе крылом огромной птицы. Визг! Пена! Паника! А птицы…
А птиц уже не было! И солнца больше не было; была лишь туча — черная, как смоль, а в туче — всполохи, огонь, гром, молнии, вой ветра, хохот, рев и перестук, зловещий перетоп копыт Небесного Сохатого. Вот так-то вот! Нет бесконечности, нет космоса и нет иных миров, все это заумь тайнобратьев, а есть лишь Земной Диск и Небо — твердь, и Солнце — ложный бог, и, главное, конечно же Луна — мы ее дети. А тем, кто отвернулся от нее, забыл ее, тем…
Гр-рохот! Гр-ром! И грозный перестук! И — тьма кромешная! И ливень! И волны с борта на борт, с борта на борт, и адмиральский крик: «Всем по местам! Всем… Ар-р!..» А парус бьет! И ветер затыкает пасть, и страх тебя корежит, давит, душит, и страх в тебе вопит: «Смотри! Смотри! Вот, где ты! Вот, смотри!» И смотришь ты, и видишь… Нет, не видишь. Ведь этого не может быть, все это только кажется, все это наваждение, обман. Ты, чтоб стряхнуть его, мотаешь головой, кричишь, а волны бьют тебя, швыряют и рвут тебя от леера, а в тех волнах — во всех — глаза, глаза, глаза, одни только глаза и больше ничего, они призывно смотрят на тебя, ты уже видел их, эти глаза, ты помнишь их, когда-то ты искал их и надеялся, что если снова встретишь их, то сразу же… А сразу что? А ничего! И вот теперь вон сколько их вокруг, этих заветных глаз, не перечесть, ты их когда-то видел в Дымске. Тогда ты бегал по реке, по льду, искал их, звал, молил — и вот они явились, иди же к ним, чего вцепился в леер? Ведь не обман эти глаза, а явь. Так что же ты? Чего ты ждешь? Ты, может, ждешь совета от монеты? Так глянь же на нее — и там такой же глаз. Глянь! Глянь! Ну, лапу разожми, достань ее, монету, из-за пазухи, ну, что же ты не разжимаешь, а? Чего цепляешься? А? Р-ра! Л-луна! Где ты? Приди же к нам, Л-луна! Мы твои блудные дети, спаси нас, спаси!..
Но нет ее, и тьма кругом, и грохот, молнии, и волны — с борта на борт, с борта на борт. «Тальфар» трещит, гребцы визжат. А ветер все сильней, а волны — круче, а перестук копыт Небесного Сохатого уже над самой головой, в глазах темно, а лапы впились в леер, а волны рвут тебя, на лапах — кровь, но нет, не отпущу, так и пойду ко дну, но их не разожму: вой, визг кругом, и…
Адмирал! Упал на Рыжего и крепко обхватил его, и лапы отрывал от леера, кричал «Отдай! Отдай!», а ты не отдавал, но адмирал не отступался и снова рвал, снова кричал и головою бил по голове, и больно было, очень больно, очень, и силы таяли, и лапы разжимались, а те глаза — в волнах смотрели не мигая на тебя и ждали, ждали, ну а твои глаза все затекали кровью, затекали, пока…
Вдруг тьма! Да нет, совсем это не тьма, а это просто Ничего, то есть сплошная пустота, где нет уже ни тьмы, ни света, где нет ни тишины, ни грохота, ни страха, ни решимости — там, как и в бесконечности, совсем нет ничего, на то оно и Ничего — Великое, Всеобъемлющее, Всепожирающее, Абсолютное Ни-че-го. И потому, провалившись в него, Рыжий не знал, как и когда и почему этот ужасный шторм все же закончился, и как они тогда спаслись, и почему. Рыжий очнулся уже только утром, когда все это было уже давно позади. Рыжий лежал, не открывая глаз, не шевелясь. Лежал он на спине. Лежал и слушал. Было тихо. Так тихо, словно он действительно уже не на «Тальфаре», а в Глухих Выселках, в Лесу после дождя, когда тучи развеялись, вновь показалось солнце, а ты лежишь в густой траве, зажмурился и слушаешь, как Лес молчит. А Лес после дождя всегда молчит: все затаились, потому что знают, что в такой час воздух особенно прозрачен, и этот рык, который развалился под кустом, хоть и зажмурил глаза, но не спит. Да и зачем ему лежать с открытыми глазами, когда ему и так все ведомо?! И то! Зачем ему теперь, после дождя, глазеть по сторонам? После дождя ему и нюха предостаточно. Да еще как предостаточно! Ведь он после дождя чует добычу втрое лучше, чем обычно, так как дождем прибило пыль и смыло старые следы, а новые…
Ар-р! Р-ра! Рыжий открыл глаза и осмотрелся. Светло, каюта, стол и завтрак на столе — один куверт. Он, Рыжий, лежит в гамаке. А адмирала уже нет: ушел, оставил на столе отчет…
И — тишина. Нет скрипа, волн не слышно. И даже не слышно гребцов. Значит, весла заложены за борт. И вообще, «Седой Тальфар» спокоен так, как будто он опять стоит в Зимнем Доке… А вот и голоса на палубе. А вот шаги. Вот снова голоса. Рыжий привстал, принюхался… А вот и Океан; да, это его запах, соль — это его пот, а волны — его кровь… А волн-то как раз и не слышно, волн нет, а есть лишь тишина, штиль, сон. Прошедшей ночью, в шторм, Вай Кау оторвал тебя от леера, и надо полагать, что это он и приволок тебя сюда и уложил. А лапы до сих пор болят, кровь запеклась на них, вон как изрезался, кожу содрал почти что до кости. А где монета? Здесь, в пряталке на поясе. Рыжий достал ее и положил себе на лапу. Глаз на монете ожил, повернулся, замер. Вчера точно таких же глаз ты видел сотни, тысячи. Они вздымались валами и падали, вздымались, падали. И это ложь, что золото не может быть магнитным. И, значит, Остров есть, и, значит, есть заветная звезда над Океаном, и этой ночью ты ее увидишь — ведь чуешь ведь! Но это будет только ночью, ее еще нужно дождаться. Ну а пока — давай, вставай, давно уже пора!
И Рыжий соскочил к столу и не спеша стал завтракать, поглядывал в отчет, а в это время там, на палубе, шумели, бегали, пусть бегают, а он доел, допил, утерся и надел лантер и осмотрел себя… осматривал и слушал… Ар-р! Р-ра! Вновь на «Тальфаре» тихо! И хорошо, что так, и я уже готов — между прочим, ко всякому. Подумав так, Рыжий решительно оскалился, взял со стола отчет и вышел.
Было жаркое, душное утро, небо белесое, а солнце просто белое и такое ослепительно яркое, что в ту сторону лучше совсем не смотреть. А Океан был как зеркало. «Седой Тальфар» мертво стоял на нем. Безжизненно повисли паруса, весла заложены и сушатся, на банках — никого; весь экипаж стоит, построившись на абордажной палубе, в тени от парусов… Да! Паруса целы и невредимы, и весла все на месте, до единого; и вообще, порядок на галере, чистота. Вот, значит, как — пока ты спал, они что заменили, что исправили, а вот теперь стоят, не шевелясь, молчат. И адмирал стоит…
Но вот Вай Кау, заложив лапы за спину, прошел вдоль строя раз, второй, потом, остановившись, посмотрел на Рыжего, но подзывать его не стал, а отвернулся, пожевал губами… и наконец спросил у них:
— Ну, что?
Никто из экипажа не откликнулся. Тогда Вай Кау вновь спросил:
— Что?.. Я не слышу!
Вновь молчание. Вай Кау рассмеялся и сказал:
— Вот так-то оно лучше! А то мне уже было показалось, что кто-то вроде чем-то недоволен. Что как бы в кубрике шушукают: куда, мол, нас несет, сидели бы в Ганьбэе, там нас никто не тронул бы, это за ним, Кротом, они пришли, вот он и побежал, и пусть себе бежит, а мы зачем… Ведь так сегодня утром в кубрике шушукали? Я верно говорю? А если нет, ну так поправьте меня! Ну, ты поправь! Или ты! Или ты!
Он тыкал лапой в строй, но все молчали. Тогда Вай Кау вновь заговорил:
— Так. Так. Еще раз так! А надо бы понять, что все совсем не так! Ибо, во-первых, где Ганьбэй? Он там! — и адмирал ткнул пальцем на небо и продолжил: — Небось все видели, как он туда ушел. А Хинт и Чиви Чванг, и прочие, они все там! — и тут он уже ткнул за борт, вниз. — Там они все, на дне! И всех их обмешочил я. Между прочим, один! Да-да, один с ними управился, и даже не вспотел при этом. Это во-первых. А во-вторых… здесь с вами скоро будет то же самое. Ведь это же какой позор! Вчера… Ну, ветер, ну, волна, ну, даже и немалая. Но что вы, в самом деле, крысы, что ли, чтоб так визжать? И это хорошо еще, что сухо кончилось — для вас. А тех, кто там уже, которых смыло, те точно крысы, да! Легко они отделались, а жаль, крысе тонуть привычно, да… А повисеть? Вот прямо здесь, на рее, а? Вот то-то же! И потому я говорю, предупреждаю: если еще раз будет паника, повешу каждого десятого, а то и пятого, клянусь Аонахтиллой, не шучу! Вопросы есть?
Никто не отозвался.
— Вот так-то оно лучше! — Вай Кау хищно усмехнулся, а после, повернувшись к Рыжему, велел: — Штурман, отчет неси!
Рыжий кивнул, пошел на абордажную. Шел и смотрел на экипаж… А вот из них, застывших в два ряда, никто не оглянулся на него, не покосился даже, ухом не повел. Ну и прекрасно! Гребец должен грести, есть и спать, чтоб отдохнуть и вновь грести, а мы здесь для того, чтобы ему указывать, куда грести, когда и в каком ритме. Вот так-то вот! Рыжий спустился с юта и прошел между банками, и вновь стал подниматься, но теперь уже на абордажную. И вот он уже шел вдоль строя — не спеша, вразвалку — и чуял их горячее дыхание, их страх, их злобу, ненависть… Плевать! Остановившись рядом с адмиралом, Рыжий вдруг резко повернулся к экипажу и вырвал из-за пазухи и поднял над собой отчет — кусок пергамента, усеянный условными значками, вот, мол, смотрите и читайте, если сможете!
Никто конечно же прочесть это не мог, и вновь было молчание, пустые, мутные глаза, десятки глаз — неотличимых, одинаковых. А помнишь, как тогда, в Лесу, когда Лягаш бежал из Выселок, твои сородичи смотрели на тебя, и кто из них стоял, а кто и лег, прищурился…
— Читай! — велел ему Вай Кау.
Но Рыжий, как держал отчет над головой, так и теперь держал, не опускал, а текст прочел на память:
— Вчера за день прошли двадцать четыре лиги, а в ночь — четырнадцать. Вчера с утра ветер был северный, четыре балла, затем — одиннадцать, с север-северо-запада две линии к западу, шквальный… Итак, координаты на сейчас: десять градусов двадцать минут экваториальной широты и тридцать четыре градуса сорок пять минут восточной долготы. Особое: вчера вторая склянка дневной вахты — птицы. Согласно наблюдению… — и тут Рыжий запнулся, замолчал, и лапу опустил, смял в ней отчет… и посмотрел на адмирала.
Вай Кау понимающе оскалился и, повернувшись к экипажу, браво продолжил за него:
— А птицы, сами понимаете, это земля, та самая, по нашей карте. И до нее, даже по самым поджарым прикидкам, нам осталось всего пять дней пути. Ну, шесть. Ну, даже семь, это уже с таким учетом, что ветер вдруг резко изменится или даже хоть сойдет с ума. Но это, я думаю, вряд ли случится. А посему, вдруг если даже на седьмой… Да, скажем, так: если вот уже и седьмой день миновал, а Континента все нет как и не было, так я тогда… Вот я при всех клянусь Аонахтиллой, тогда прошу вас всех ко мне на ют, а дальше сами знаете, как быть — в уставе это все очень подробно расписано. Вот так! Но это, повторю, только через семь дней. Семь. Семь! Запомнили? Для полных дураков: пять пальцев на одной лапе и еще две на другой — это будет семь дней. Ну а пока, до той поры… Арр-ра! Арр-ра!
И завизжали боцманские дудки: «Порс! К веслам! Порс!» и молча, как всегда, строй вдруг рассыпался, и они ринулись, запрыгали, посыпались по трапам вниз, а дальше — кто куда…
И вновь они гребли: вставали, рвали на себя и падали, вставали, рвали, падали, замах за третью линию, ритм два и два, прошло две склянки, три, четыре, пять, гонг, смена, вновь гребли, ритм не снижали. А ветра не было, и солнце жарило нещадно, и духота была невыносимая, и соль ела глаза… Тогда они убрали паруса и растянули их над палубой — не помогало. Вино и сухари, потом уже одно только вино носили беспрестанно. Гребли, гребли. Под вечер с юга снова показались птицы. Теперь уже на них смотрели молча, ждали… Но вот они и пролетели, скрылись, а шторма нет. И даже ветра нет. Вот так! А то еще с утра среди гребцов разнесся слух, что будто эти птицы необычные, что будто они — вестники несчастья…
А слухи передал стюард. Когда он вышел из каюты, Вай Кау злобно сплюнул и сказал:
— Вот кто будет набрасывать!
Рыжий не понял:
— Что набрасывать?
— Веревку, а что же еще! — неохотно пояснил адмирал. — Когда они придут сюда, никто мараться не захочет. Вот тогда ему, нюхачу, и прикажут: «Веревку!» А знаешь, кто ему прикажет? Вот ни за что не догадаешься… Базей! Да, именно, представь себе: заводчик всего этого — он, твой разлюбезный боцман!
Р-ра! И действительно, вот уж на кого-кого, а на Базея ты бы не подумал. Ведь он единственный из всех, который, как тебе казалось…
— Да, — продолжал Вай Кау, — не сомневайся, так оно и будет. Они придут сюда. И еще как придут! Но… Х-ха! Пока они придут, еще семь дней минует, мы к тому времени уйдем уже так далеко, что… Да! И вот тогда я им скажу: да, подвели меня расчеты, да, я нарушил обещание, а посему: хотите вешайте меня на рее, хотите — отправляйте по доске, а после возвращайтесь в свой Ганьбэй, если, конечно, сможете. А хотите… так вот она, карта, и вот он, континент на ней, и вот он, перед вами, я, и я готов и далее еще семь дней… Ну, словом, скажу: как хотите.
— А если…
— Значит, будет «если». И так всегда. Ведь если кого-то утопят, то, значит, его не повесят, а если повесят, тогда не утопят. А если вот как я…
Вай Кау снял очки, протер глаза и нехотя продолжил:
— Вот мне уже почти что все равно, что в них, а что без них. И если так пойдет и дальше…
И замолчал, насупился; надел очки, залез в гамак и там, как неживой, и пролежал до темноты. Когда еще на третий день пути он вот так же залег, а Рыжий спросил, что это с ним такое случилось, то адмирал тогда мрачно ответил:
— Я мечтаю.
— О чем?
— Х-ха! Если б знал, о чем надо мечтать, я бы тогда сейчас не здесь лежал, а… Да! Гаси огонь!
Рыжий встал и погасил. И в первый раз тогда почуял, что с адмиралом творится что-то неладное. А он тогда лежал не шевелясь, лежал — и к утру отлежался. Утром был бодрый, едкий, как всегда…
И вот опять он лежит и молчит. А там, слышно, гребцы гребут. А ветра нет, на Океане по-прежнему штиль. Солнце садится, жара не спадает. Скоро сменится вахта, и вахтенным боцманом будет Базей. Базей взойдет на ют и станет к румпелю, а они проиграют отбой и «Тальфар» ляжет в дрейф. Это, конечно, глупость — ночью в дрейф, но так гласит устав, глава четвертая, параграф восемнадцатый. И мы блюдем его, хоть понимаем, что этот параграф давно устарел. Мы ж не купцы, которые всего боятся и каждый вечер вытаскивают свои корабли на берег, а здесь какие берега?! Это во-первых. А во-вторых, не стоит даже и доказывать, что с той поры, как появились звездные таблицы, компас и квадрант, в ночном движении нет никакой опасности, и посему…
Все это так конечно же, но, к сожалению, мы — это мы, а другие — это другие. И Базей, он тоже из других. Зато он единственный из всего экипажа, кто не смотрит на тебя исподлобья и кто не обзывает тебя за глаза колдуном, который завел их неведомо куда. Базей молчит. Всегда молчит! Но зато… Когда ты ночью выходишь из каюты и берешь север, определяешь высоты светил, сверяешься с компасом, лагом, то он тебе всегда чем может подсобит конечно, молча, — а потом, когда тебе, как всегда, не хочется возвращаться в душную, постылую каюту и ты устало садишься на бухту каната, Базей всегда садится рядом. Службы он при этом конечно же не забывает и то и дело поглядывает на марсовую команду… а у марсовых, в отличие от гребцов, есть и ночная вахта, потому что Океан есть Океан, и доверять ему нельзя… И так вот вы — ты и Базей — сидите рядом и молчите. Базей, конечно, неотесан и неграмотен, повадки у него — как и у всех у них, дичайшие, он даже Бейке не чета… А вот сидит рядом с тобой, молчит, и может так всю ночь молчать, покуривать обманку. И он тебе при этом совершенно не мешал. Не раздражал тебя. И вот теперь этот Базей…
Пришел на ют, ибо вот это вот — это его шаги… А вот уже они трубят сигнал: «Всем-всем шабаш!» — и засушили весла, встали и затопали. А вот уже запахло варевом, значит, пошла раздача. Вай Кау заворочался, открыл глаза и потянулся, сел, но с гамака сходить не стал, а так: позевывал, смотрел в иллюминатор, на хронометр, опять в иллюминатор, на хронометр…
Но вот на палубе процокали шаги, вошел стюард, накрыл на стол. Вечерний стол был как всегда: бобовый суп, галеты «трескуны», лимонный сок. Лимонный сок Вай Кау пил разбавленным, Рыжий — крутым, стюард им так и приготовил. Лимонный сок спасает от цинги…
— Накрыл? — строго спросил Вай Кау.
— Да, мой патрон, — сказал стюард.
— Ну так иди.
— Я бы хотел…
— О чем-то доложить? Иди, иди — пока не надо!
Стюард ушел. Тогда Вай Кау спрыгнул с гамака и подошел к иллюминатору, долго смотрел на Океан, потом спросил: который час. Рыжий ответил:
— Восемь двадцать.
— Ну-ну!
Вай Кау сел к столу, взял ложку… Отложил ее. Сказал:
— Хронометр чудит. Ты посмотри его, проверь… Сейчас проверь!
— Но это можно сделать только ночью. По звездам выставить…
— Как знаешь! Я предупредил.
И адмирал взял ложку, пододвинул к себе миску. Хлебал он жадно и неаккуратно, такого прежде за ним не было… Поев, Вай Кау встал, еще раз посмотрел в иллюминатор — там уже стемнело. В Лесу темнеет медленно, и вообще, там, в северных широтах, все не так. А здесь, особенно теперь… Р-ра! Здесь! Рыжий ощерился; нет, лучше об этом не думать, нужно дождаться полночи, пойти, проверить, и лишь только потом уже решать, что к чему…
Вай Кау вдруг сказал:
— Ну, лягу, помечтаю. А ты, если чего, меня тогда разбудишь, — и лег в гамак, и отвернулся к переборке, и затих.
И тихо было на «Тальфаре»: штиль, волн не слышно, корпус не скрипит. Только фитиль трещит да тикает хронометр. Рыжий задул фитиль. Мрак! Тишина, один только хронометр… который почему-то показал, что нынче вечером солнце зашло на восемь минут позже, чем ему было положено. Что это: барахлит хронометр, а это ты, как мастер Эн учил, сразу заметил бы, на слух — или…
Мрак. Мрак кромешный! Вот так теперь во мраке и сиди, и жди, когда наступит полночь. И Рыжий замер за столом в кромешной тьме и терпеливо ждал, когда стрелки хронометра сойдутся на двенадцати. Хотя двенадцать это уже поздно, в двенадцать уже нужно быть на юте и брать север. И, значит, без пяти двенадцать ты должен будешь встать, взять инструменты, выйти из каюты. Ну а пока что сиди и не дергайся, жди. И обо всем забудь и о монете тоже. И уж тем более не доставай ее, пускай она себе лежит за пазухой и жжет тебя — не так уж это больно, вытерпишь. А то, что мрак кругом, так это даже хорошо. Мрак — это пустота, почти Ничто. Ничто, оно и есть ничто. И все-таки…
Растет оно, Ничто! Пухнет Ничто и приближается, и приближается, и вот уже ты погружаешься в него, в это Ничто, и вот… Мрак, абсолютный Мрак вокруг, и только едва слышно тикает хронометр, отсчитыва…
А время — это что? Время — река без берегов, Бескрайний Океан, мы листья на его поверхности, и время нас влечет все дальше, дальше в Бесконечность. Оно влечет нас то быстрей, то медленней и может сделать так, что наша жизнь промчится в один миг, а может закружить в водовороте, втянуть в него, всосать, увлечь на дно и потащить по дну в кромешной тьме, а после выбросить нас на свою поверхность там, где прежде никто из нас не был, где все нам чуждо, непонятно, где даже солнце всходит и заходит совсем не так, как мы могли бы того ожидать. Вот, например…
Нет, хва, ты — в пустоте, вокруг тебя Ничто; молчи, рассматривай его, вникай в него, а больше ни о чем не думай, не думай, не думай…
Глава девятая — МАГНИТНАЯ ЗВЕЗДА
Когда Рыжий очнулся, было уже совсем темно и ничего не видно. И ветра по-прежнему не было, волн не было, и корпус не скрипел. И адмирал дышал легко, почти что неслышно. Только хронометр размеренно тикал, тикал, тикал… Рыжий на ощупь отыскал его и развернул к себе, потом высек когтями искры, рассмотрел циферблат — да, ровно без пяти двенадцать. Тогда он встал, взял ящик с инструментами, накинул плащ — хотя зачем ему сегодня плащ, когда и без того такая несусветная жара? — и вышел из каюты.
На палубе… Конечно, он мог бы сразу посмотреть на небо и убедиться в том, что так оно и есть, что он, к сожалению, не ошибся… Но Рыжий не спешил. Он подошел к румпелю, остановился возле него, кивнул стоявшему неподалеку Базею. Тот кивнул в ответ… Но как-то по-особому кивнул. С ехидцей, что ли? Р-ра! Вот, значит, началось уже! Ну да и ладно. Рыжий достал из ящика квадрант, установил его. Квадрант — очень капризный инструмент, и пользоваться им в открытом Океане достаточно трудно, потому что даже при самом незначительном волнении вам ничего не стоит ошибиться на восемь, а то и на целых десять линий. Зато сегодня, в полный штиль, отвес почти сразу же замер на центральной риске. Отлично! Так что теперь остается только выставить линейку на объект, потом застопорить винты и, осветив искрой шкалу, отметить высоту стояния любого из выбранных светил. Вот, например, выбираем вот это. Потому что не все ли равно, что сейчас выбирать. Главное сейчас — это делать все четко и без суеты, без паники. Подумав так, Рыжий припал глазом к линейке, начал взводить ее…
Лапа дрожала, глаз моргал — наверное, соринка попала…
Нет, это не соринка — это нервный тик. Рыжий отстранился от квадранта, провел подушечкой пальца по веку и поморгал… еще раз поморгал… Прошло! Тогда он снова припал глазом к линейке, снова начал взводить…
Базей стоял поодаль, не встревал, помалкивал. Но все равно мешал — уже только одним своим присутствием.
Р-ра, ну и пусть себе стоит, и пусть себе глазеет! Рыжий, стараясь действовать как можно более свободно, измерил высоту стояния одной звезды, потом второй, внес показания в тетрадь и развернул квадрант, выбрал еще одну звезду, опять измерил, записал. Хотя зачем это? Ведь если действовать по всем правилам штурманского искусства, то сперва нужно было взять север, то есть навести линейку на Неподвижную Звезду и сопоставить это с компасом, определить склонение иглы и свериться с таблицей — и лишь затем уже вести наблюдение за прочими, второстепенными светилами. А ты что делаешь?! Ты измеряешь высоту стояния даже не прочих, пусть второстепенных, звезд, а вовсе тех, которых нет ни в одной звездной карте, ни в одной навигационной таблице. Так это? Так! Но, скажешь, что мне остается делать?! Выть? Поднимать тревогу? А ведь, скажешь, причина для этого есть, да и еще какая! А кто не верит этому, тот пусть сам посмотрит на небо и убедится в том, что там теперь нет ни единой, повторяю, ни единой знакомой звезды — все, как одна, чужие! Где Эрнь, где Гелта, Восходящий Дым? Нет ни одной! И даже нет Неподвижной Звезды, хотя по всем расчетам она должна была стоять хотя бы на десятом, ну на девятом градусе — а нет ее! И, значит, нас этот проклятый шторм всего за одну ночь унес в такую даль — через экватор, далеко на юг, что и представить себе даже страшно! Так как теперь определить, где мы находимся? Никак! Ибо никто и никогда еще здесь не был, не видел этих звезд, не составлял таких таблиц, не измерял таких склонений компаса!
А он, Базей, стоит и смотрит искоса, и ухмыляется. Заметил, стало быть…
А что здесь замечать?! Любого косаря спроси, и он тебе легко укажет два-три десятка наиглавных звезд да еще примется рассказывать про всякие приметы касательно ветров, штормов. А тут сколько ты ни смотри, а ничего не высмотришь! И потому Базей молчать уже не будет! А подойдет и…
Р-ра! И Рыжий вновь припал к линейке и развернул квадрант…
Луна! Только она одна тебе здесь и известна. Луна! Та самая, которую ты предал. И далеко бежал, и думал, что забыл ее. А вот не убежал. И не забыл. Вчерашней ночью, в шторм, ты призывал ее одну, только одну, как будто вновь ты рык и вновь в Лесу — вот какова цена всех твоих знаний и умений. И это правильно! Родился рыком — рыком и умрешь, не пыжься, не воображай. А подойдет Базей, ты ему и скажи…
И он, Базей, и подошел, остановился за спиной у Рыжего и как ни в чем не бывало спросил:
— Ну, сколько мы за этот день прошли?
— Достаточно, — мрачно ответил Рыжий.
— Достаточно! — и боцман рассмеялся. — Да, и действительно, немало отмахали. Мы, я так понимаю… где?
Но Рыжий промолчал — так, словно не расслышал, — и вновь навел линейку на еще одну звезду, прищурился и начал измерять высоту ее стояния над горизонтом. Базей, немного помолчав, опять заговорил — на этот раз уже с явной угрозой:
— Я, штурман, не болтлив, я вообще не из любопытных, ты это знаешь. Но если уж я иногда что-нибудь у кого-нибудь спрашиваю, то хочу, чтобы мне отвечали. Так где мы, а?!
Рыжий медленно отстранился от квадранта, посмотрел на боцмана, потом на небо, потом снова на боцмана… и тихо, но твердо ответил:
— Все там же. А что?
— А я так думаю, что нет! Я таких звезд нигде еще не видывал. И ты, бьюсь об заклад, не видывал.
— Видывал! — злобно парировал Рыжий. — И потому я не дрейфлю так, как ты, а делаю свое дело. Вот, сам видишь, я занят!
— Ха! — засмеялся боцман. — Ясно. Да я это сразу разгрыз! Это ты, значит, ту поганую карту составил, и адмирала после охмурил, а теперь и нас всех невесть куда затащил. Ну да и ладно! Мы и не в таких удавках душились. А вот… А вот эту красотку как звать? — и тут он лапой ткнул куда-то вверх.
Рыжий тоже посмотрел на небо и сделал вид, что ищет ту звезду, на которую указывал Базей, потом спросил:
— Которая мигает?
— Да.
— Так это Альфа Колесницы.
— А эта?
— Змеиное Жало.
— Хм, хорошо, пусть будет Жало. Ну а эта?
— А этих три вверху и две внизу — это созвездие Корона. И по левой из верхних из них берется юг.
— Юг? А не север?
— Юг. А что?
— Так, ничего. Тогда мы, стало быть, уже на юге, за экватором, и здесь нет Неподвижной Звезды.
— Зато вместо нее…
— Ха! Это все понятно! Нет неподвижной той, зато есть неподвижная другая. Та была с севера, а эта будет с юга. Ладно… А она точно неподвижная?
— Почти. И все ее возможные движения занесены в специальную таблицу.
— Таблицу можно посмотреть?
— Нельзя.
— А почему это?
— А потому, что она здесь, — и Рыжий постучал себя согнутым пальцем по лбу. — Еще вопросы есть?
— Ты что, куда-нибудь торопишься?
— Да. Очень спать хочу.
— Тогда еще всего один вопрос. Всего. Так, значит, так… Ты только не юли! Мы ищем Южный Континент… или ее?
— Кого это «ее»?
— Н-ну, раз мы за экватором и колдовство кругом… Мы что, ищем ее, Магнитную Звезду? Вот и ребята говорят… Ну, отвечай!
— Не знаю! — Рыжий усмехнулся. — Я не знаю. Как адмирал решит, так все оно и будет. Ну, я пошел… А если вдруг взойдет Магнитная Звезда, так сразу позови меня!
— И позову! И, может быть…
И боцман еще что-то говорил, но Рыжий уже этого не слышал, ибо он стремительно сбежал по трапу, вошел к себе в каюту…
Тьма. Тишина. Хронометр тикает, Вай Кау спит, мерно сопит. Рыжий зажег фонарь, полез за пазуху, обжегся об монету… Замер. Негромко окликнул:
— Кау!
Вай Кау перестал сопеть.
— Вставай!
Вай Кау поворочался, затих. Рыжий вытащил лапу из-за пазухи, подул на обожженные пальцы, сел к столу и тихо сказал:
— Большая неприятность, Кау.
Адмирал, не поднимая головы, спросил:
— Небось хронометр в порядке?
— Да! Нас просто отнесло на юг. Но отнесло невероятно далеко. Вот почему солнце зашло на восемь минут позже: другая сторона, другое полушарие и ни одной прежней звезды на небе. Ты представляешь?!
— Нет, — адмирал наигранно зевнул. — Не представляю. А ты, друг мой, похоже, не на шутку растерялся. Я не ошибся, а?
— Нет, не ошибся! А ты… А ты… Паяц!
— Вот даже как! — Вай Кау сел и потянулся, снял и надел очки, вновь снял, сказал: — Зажги огонь, мне ничего не видно.
— Что?! — не поверил Рыжий и вскочил…
— Да! — тихо, зло сказал Вай Кау. — Мне темно. Зажги огонь, я говорю.
— Но он… и так горит!
— Вот как?! Тогда совсем забавно! — Вай Кау снова снял очки и проморгался, и головою поводил… и замер, зло спросил: — Где он?
— Кто?
— Да огонь!
— Он на столе. А где ему еще быть? Вот, хочешь, поднесу…
— Не надо. Сядь!
Рыжий послушно сел. Вай Кау медленно надел очки, лег… Снова сел. Долго молчал. Потом задумчиво сказал:
— А что? Все правильно. Крот должен быть слепым. А то какой я крот?! и хмыкнул, завалился на спину, закинул стопу за стопу и продолжал уже своим обычным голосом: — Ну, ладно, это мелочи. С кем не бывает?.. Так, говоришь, нас далеко забросило?
— Д-да, очень. Д-да… Ну а с тобой-то что?! Ведь ты же только что, еще за ужином, все видел!
— Ха! Видел! — гневно отозвался адмирал. — Да как мы только вышли в Океан, так с каждым днем я видел все хуже и хуже. И уже птиц, которые тогда нам этот шторм устроили… Да, вроде было что-то в вышине, но чтобы рассмотреть как следует, так нет, уже не получилось. Р-ра! — и адмирал болезненно поморщился, а после с вызовом сказал: — А Хинт был прав! Вот как мне это обернулось. А все она, эта твоя… Хр-р! Р-ра! — и, махнув лапой, замолчал, засопел.
Рыжий сидел не шевелясь. Р-ра, так вот оно что! Вот, значит, почему…
Но адмирал опять заговорил:
— Хотя… Так это или нет, никто того не знает. И вообще, никто здесь ничего не знает. Ну, я хоть слеп, и мне мое незнание простительно. А ты? Вот, говоришь, нас далеко забросило. А если поточней? Ты ж ведь не скажешь!
— Нет. Все звезды незнакомые. Как здесь определишься?
— Но солнце, я надеюсь, прежнее?
— Скорей всего…
— Ха! — засмеялся адмирал. — Вот так ответ! Тогда мы, значит, так… Да! Завтра ровно в полдень мы с тобой… Нет, лучше ты уже один, конечно, ты один замеришь, как высоко оно будет стоять в зените. Тогда определишь хотя бы нашу широту, чтобы хотя бы примерно знать, куда же это нас все-таки забросило.
— А дальше что? Ты же слеп! И я теперь один. И что я один против них…
— Ха! — снова засмеялся адмирал. — И я в Ганьбэе тоже был один, а их девять эскадр. А всех вот так держал! — и сжал кулак, и показал, и продолжал: — А здесь чего тебе робеть? Кучка скотов, к тому же насмерть перепуганных, не знающих, что с ними, где они. А ты… Задумайся: «Тальфар» за одну ночь так далеко продвинулся, что даже не представить. И, значит, ты почти у цели! Монета при тебе? Так глянь, что там, на ней. Ну, не тяни. Живей!
Рыжий полез за пазуху и, обжигая пальцы, достал монету, рассмотрел ее, а после повертел ее и так, и сяк… И едва слышно прошептал:
— Молчит. Не отвечает… Глаз больше не движется, Кау!
— Да, — усмехнулся адмирал, — я Кау. А что она молчит, так это хорошо. Значит, уже все сказано. Значит, пришли уже.
— Куда?
— Н-ну… Завтра все узнаешь. Ну а пока гаси огонь и будем спать.
— Я не засну.
— Заснешь. Завтра — тяжелый день, придется нам обоим попотеть. Да, Рыжий, да! Вай Кау уже слеп, но еще жив. Гаси, я говорю!
И Рыжий загасил фонарь, залез в гамак, закрыл глаза. Лежал, зажав в лапе монету. Монета жжет, волны толкутся в борт, толкутся, корабль скрипит — наверное, опять поднялся ветер, пусть небольшой, но все-таки… Нет, ветра нет! Иначе б паруса захлопали. Но что это тогда? Может, течение? Но, судя по волнам, это какое-то сильное, опасное течение. Да-да, опасное! Вот и Базей что-то кричит, командует; да, там, наверху, уже что-то случилось! А ты лежишь и даже головы не поднимаешь, а в лапе у тебя монета, и теперь можно повернуть ее и так и сяк, а глаз не шелохнется, Вай Кау, видно, прав — приплыли, прибыли, а вот куда, того никто не знает. И вообще, никто и ничего не знает. А если так, то для чего было бежать тогда из Выселок, когда… Р-ра! Да! Там — тьма, здесь — тьма; Вай Кау слеп, и так ему… А что?! А вот он и ответ! Да, мы уже почти у цели, не зря ж вон как течение усилилось! Хоть ветра вовсе нет, а корпус как скрипит — почти как в шторм! И, может, уже завтра мы… Но это не для них! И потому-то он, Вай Кау, и ослеп, чтобы не видел, а завтра и они все, как и он, все до единого ослеп… Р-ра! Нет, не то! Совсем не то! Спи, Рыжий, спи, все правильно Вай Кау негодяй… Но негодяй какой-то странный. Вот он ослеп и думает, что это с ним случилось из-за Твари, а Тварь ему подсунул ты, но он не то чтобы грозить или совсем… а даже и не упрекнул — ни словом, ни намеком. Да, негодяй. Но ведь не скот. Слеп. Тьма. Жизнь — тьма. Кромешная. И только лишь она, Магнитная Звезда, там, где-то вдалеке, наверное…
Глава десятая — ПОРС! ПОРС!
Проснулся он тяжелый весь, разбитый, он даже глаз не мог открыть. Подумалось: наверное, опять ему всю ночь снились кошмары. А попытался вспомнить, что же именно, так и не вспомнил. Ну и ладно! Утро, вставать пора, на палубе уже дудят побудку…
А он по-прежнему лежал с закрытыми глазами. Волны толкутся в борт, толкутся, корабль скрипит. А вот они протопали к котлам, запахло варевом. Вай Кау уже там, сейчас будет обсказывать им курс, коорди…
Р-ра! Да он же слеп! Да как он выйдет к ним такой, как… Р-ра! Да он и не выходит, он — ты принюхайся… Он здесь! Лежит и спит — вон тихо как в каюте! Тогда они, сойдясь возле грот-мачты… И уж тогда Базей не преминет… Да он уже не преминул! И там они сейчас, наверное…
— Рыжий! — окликнул адмирал.
Р-ра! Здесь он, да!
— Вставай!
Но Рыжий и не думал вставать. Он даже глаз не открывал — лежал, оцепенев. Тогда Вай Кау уже громче повторил:
— Вставай! Сейчас стюард придет!
— А ты?
— А я уже сижу и жду. Вот так дела! — Вай Кау тихо засмеялся. — Такая рань! Темно, хоть глаз коли, а я уже проголодался. К чему бы это, а?
Рыжий открыл глаза и повернулся, глянул на Вай Кау. Ого! Вон как он нынче вырядился: опять на нем серебряный жилет, в ухе серьга, на шее шарф… И голова его повернута к тебе, поблескивают стеклышки очков…
— Ты смотришь на меня? — спросил Вай Кау.
— Да.
— И как я выгляжу?
— Достойно.
Вай Кау улыбнулся и сказал:
— Ну что ж, приятно это слышать. Садись и ты ко мне. А то, — и адмирал, принюхавшись, задергал носом, — стюард и впрямь вот-вот заявится.
Рыжий спустился вниз, подсел к столу. Немного помолчав, спросил:
— Ты к ним, конечно, не ходил?
— Зачем? Базей, когда вахту сдавал, сам заходил ко мне сюда. Я разрешил, так он и зашел. Ты дрых, как сосунок, а мы поговорили.
— И что?
— А то. Он про экватор спрашивал, я отвечал. Я ему так сказал… что так всегда бывает! Вот почему, я говорил, к нему, к экватору, боятся приближаться.
— И он поверил?
— Нет. Но промолчал, не спорил. Он был другим напуган.
— Р-ра! Чем еще?!
— Течением. Ты ж слышишь, как скрипит? А ветра нет. Такое вот течение — ого! И я сказал ему: да, это так, ты, боцман, верно догадался нам из него, из этого течения, не выгрести, и нас будет нести всю эту ночь… ну, ту, которая прошла… а после еще день и ночь — и приплывем. Куда? Н-ну, я ему, Базею, так сказал, что нам с тобой и про течение было заранее известно. Оно, это течение, я так сказал, такое: весной оно направлено на юг, а осенью оно течет обратно. Так что до осени, я так ему сказал, мы там и просидим, на той земле, на южной. И там, сказал я, золота… А он спросил: «Магнитного?» А я сказал: «Ты через день все сам узнаешь!» Тогда он стал говорить, что завтра его не устраивает, он хочет знать прямо сейчас. А я на то сказал: «Как хочешь! Не нравится — веди их, косарей, сюда, на ют, я сам себе удавку затяну, сам по доске пойду! Но понукать собой я не позволю. Особенно всяким скотам!». И я вскочил! Да, я его не видел, р-ра, я только слышал, как он захрипел и заплевал… А все равно не рыпнулся, ушел! Быстро ушел! И с той поры они там все молчат. Да, и еще. Вот, — и Вай Кау взялся за оправу, — глянь, как там у меня они… и снял очки.
Рыжий подался к адмиралу, посмотрел… сглотнул слюну и не ответил. Тогда Вай Кау поморгал, потом повел глазами вправо, влево, опять спросил:
— Заметно? А?
Но Рыжий снова промолчал, не зная, что сказать. Взгляд у Вай Кау был… Р-ра! Взгляда-то как раз и не было, а были лишь глаза — пустые, безразличные, сухие; был в Выселках один такой старик, и у него…
— Хва! — рявкнул адмирал, схватил очки, надел их, приосанился, шепнул: — Идет! Журнал!
Рыжий подал ему журнал, помог найти последнюю рабочую страницу…
Вошел стюард, стал накрывать на стол. На этот раз он делал это медленно, с подчеркнутым усердием: пододвигал, отодвигал тарелки, позвякивал бокалами, вздыхал… И адмирал не выдержал, резко закрыл журнал и поднял голову.
Стюард застыл, сложивши лапы на груди, опасливо глянул на дверь…
Тишь-тишина — и здесь, и там у них, на палубе, вот только волны, как всегда, толкутся в борт, толкутся, борт скрипит…
— А весла где? — строго спросил Вай Кау. — Я их не слышу. Почему?
Стюард вздохнул, но не ответил.
— Где весла, а?! — опять спросил Вай Кау. И, помолчав, ответил сам: А весла сушатся. Весь экипаж на баке. Ждут, что я выйду к ним. Так?
— Так, — кивнул стюард.
— Зря ждут. Я очень занят. Я дело делаю, — и адмирал ткнул лапой в журнал. — А то, что они там стоят и думают, что выстоят, так это все пустые суеверия. Кто нынче вахтенный?
— Базей, — тихо сказал стюард.
— Как так?! Опять Базей? А почему?!
— У Гезы кровь горлом пошла: лежит, не поднимается. Метнули жребий, выпало Базею. Вот он опять и заступил… Так вы к ним выйдете?
— Нет!.. А хотя, — Вай Кау взялся за очки, поправил их на переносице и настороженно спросил: — А Геза, что, он вправду сильно плох?
— Да. И не только он один, а еще семеро гребцов и двое марсовых. Вот их и отнесли на бак. И там им вроде стало легче.
— И у всех горлом кровь?
— Да нет, по-всякому. Вот, скажем…
— Хва!
Стюард весь дернулся, застыл. Вай Кау, помолчав, сказал:
— Так, в общем, так… Я выйду к ним. Но не сейчас — еще чуток подумаю… Иди, чуть что, я позову. Иди, иди!
Стюард ушел. Вай Кау посидел еще, подумал… А после, так и не притронувшись к еде, встал и залез в гамак. Уже оттуда он сказал:
— А ты поешь, поешь. Ты на меня не обращай…
Но не договорил, а словно враз окаменел: лежал не шевелясь. А Рыжий…
Есть ему, конечно, не хотелось — ел через силу, то и дело запивал. Порой поглядывал на адмирала. Потом, поев, собрал посуду и перенес ее на тумбочку, составил, потом утерся — очень тщательно — и подошел к иллюминатору.
Да, за кормой действительно вздымались довольно-таки большие буруны. «Тальфар» шел справно, не заваливал… А море было гладкое, блестящее, как зеркало. И — духота: ни ветерка, ни облачка. И — тишина: весла на сушке, весь экипаж ушел на бак, и там они сейчас совещаются, как им быть дальше. Р-ра! Да какое уже дальше! Вай Кау окончательно ослеп, у Гезы горлом кровь, а еще семеро гребцов и двое марсовых… А что она тебе на это скажет? И Рыжий запустил лапу за пазуху, достал моне…
Нет, не успел!
— Р-ра! — вдруг воскликнул адмирал. — Вот так дела! Ты где это сейчас?
— Здесь, — отозвался Рыжий. — Вот, смотрю. Ход — пять узлов, не менее.
— Пять, х-ха! К обеду будет семь, а то и десять. А к ночи… Как ты думаешь?
— Н-не знаю.
— А надо знать! Иначе что это за штурман? Так вот… Да! — и тут Вай Кау сел, зевнул и потянулся, потом наощупь разыскал свисавший с потолка шнурок и трижды дернул за него: вверху, на палубе, затренькал колокольчик.
Ого, подумалось, а не затеял ли он чего недоброго? Вряд ли, конечно, ну да мало ли! И, чтоб потом не каяться, Рыжий неслышно распахнул иллюминатор, встал на приступочку…
Но обошлось! Пока что обошлось. Вай Кау кое-как спустился вниз и, повернувшись к Рыжему, сказал:
— Сейчас я выйду к ним, поговорю. Да, выйду сам, один. Хоть и слепой. А ночью как я здесь по палубам ходил? Пять лет уже, наверное. Так и сейчас пойду. Выйду к ним, успокою. Заткну кого надо. А ты пока что посчитай наш курс. И вообще, прикинь, представь себе большой водо…
И замолчал: вошел Базей. Вай Кау недовольно сморщился и, повернувшись к боцману, спросил:
— Все собрались?
— Давно уже.
— Давно я не просил. Сейчас надо. Пойдем!
И они вышли из каюты — сперва Базей, а уже после адмирал. И он-то, адмирал, прикрыв за собой дверь, нажал на потаенный рычажок — дверь щелкнула…
Р-ра! Вот ты даже как! Рыжий немного подождал, а после крадучись прошел к двери, тронул ее… Да, дверь была закрыта. Он, значит, тебя запер на замок, а сам ушел на бак, там они будут совещаться, а ты тем временем будешь сидеть здесь, ждать. И уж дождешься! Все тебе припомнят: у Гезы горлом кровь, Вай Кау слеп, да, впрочем, все теперь слепы, не знают, где они и очутились, — ведь звезды все чужие, незнакомые. Р-ра! Только что им эти звезды?! Они-то, косари, уверены, что знают, куда ты их завел. Вот и Вай Кау напрямую заявил: «Представь себе большой водо…»
Вот как! И пусть себе так думают, а ты пока…
Рыжий опять хотел было достать монету, да не решился, передумал пошел и лег в гамак. «Большой водо…» Х-ха! Да! Большой водоворот — это так его официально именуют в ежегодных отчетах, а в просторечии он называется по разному: Голодный Зев, Проглотный Зев, Хапун, Глотарь, Засмок; как только эту мразь не называют! А как ее боятся, р-ра — пуще всего на свете! Сперва, так говорят, бывает полный штиль — день, реже два, а после Океан вдруг оживает, но волн по-прежнему не видно, а просто за кормой как будто начинает пениться вода, а вот уже оставлен за кормой один бурун, второй, а вот уже и заскрипели переборки, корабль мало-помалу набирает ход… А Океан по-прежнему как зеркало! Жара, ни ветерка, ни облачка, по всем приметам — мертвый штиль… А вас несет, несет, несет три, пять узлов, семь, десять; и даже если вахта и подвахта, все, кто ни есть на корабле, возьмутся выгребать, табанить, словно оголтелые, то и тогда вам не спастись, вас все равно будет нести день, ночь и еще день вначале прямо, а после вас начнет заваливать все круче, круче, право на борт, потом издалека послышится гудение, рев, хлюпанье, бурление, а вот и Океан как будто наклоняется, а это значит, Зев уже распахнут. Да вот он, Зев, — на траверзе, смотрите! И мы в него сейчас…
Р-ра! Бред какой! Как можно во все это верить? Ведь если этот Зев столь ненасытен и неотвратим и если вправду все, что он проглатывает, гибнет, то кто же им тогда о нем поведал? Да еще как поведал, и не раз — со множеством подробностей, с расчетом скоростей, замерами угла наклона горизонта; вот и Вай Кау говорит: пять, семь узлов… Вот, даже и Вай Кау в это верит! А почему? А… Х-ха! Чему ты удивляешься? Ну почему это ему нельзя поверить в Зев, когда ты сам — и с каждым днем все больше, больше веришь в Магнитную Звезду?! А ведь и там корабль увлекается течением, и здесь, и, кстати, с того Острова тоже никто не может возвратиться; ты это знаешь, ты в этом уверен, то есть ты веришь и в Магнитную Звезду и в Золотой Магнитный Остров. А кто тебе рассказывал о нем? Ах, ты о нем прочел! Хорошо. А кто другим, тем, кто это записывал, рассказывал? Тот, что ли, кто сумел оттуда выбраться? А как сумел? А если даже так, действительно сумел, то почему же он тогда не рассказал, не научил других, как можно это сделать? Он, значит… Да! Он или не желал о том рассказывать, чтобы никто другой не смог за ним последовать, или молчал, давши зарок, или… Да, вспомни! Все, кто ходил на юг, потом или молчат, или в своих отчетах так лукавят, что истину уже не восстановишь — кто завышает пройденное расстояние, кто искажает данные о виденных созвездиях, а кто и попросту ссылается на неисправность компаса, утерянный квадрант… А все из-за чего?
Х-ха! Скоро все узнаешь. «Тальфар» скрипит все громче, громче, уже и семь узлов, наверное, дает, течение усилилось, оно тебя несет — тебя и всех этих, на баке — к Зеву или к Острову, и уже в третий раз пробили склянки, а адмирал никак не возвращается; тишь-тишина на палубе… Да и о чем им там теперь кричать?! Он, адмирал, и все они — свои, они всегда между собой договорятся. Вай Кау слеп, у Гезы горлом кровь, а все из-за чего, из-за кого? Да как всегда — чужак на корабле, чужак принес несчастье, и, значит, надо чужака…
А что? Скормить его — самый надежный способ. Вот прошлым летом на Восьмой Эскадре вот так же взяли, не проверив, плотника, и что? Смешно? Да как-то и не очень. И больше не лежится в гамаке. Рыжий спустился вниз и подошел к столу, открыл журнал и полистал его… Закрыл. Провел когтями по столу, с треском сдирая полировку… Но тотчас же опомнился — зачем это? Стол здесь причем?! И Рыжий убрал лапу: стоял и слушал. Вроде все спокойно, значит, легко они договорились, значит, сошлись и будут заодно. Вай Кау им поведает про Тварь и объяснит, что они все здесь околдованы, а он больше других, и скажет: для того, чтоб снять с него проклятие, чтоб он, как самый опытный моряк, мог после их спасти, сейчас нужно всего-то…
Р-ра! А вот войдут они сюда, а пусто здесь! А где чужак? Да, видно, прыгнул за борт и, стало быть, решил, что лучше самому…
Нет, не дождутся! Ну, прыгнешь за борт — и утонешь. А если даже сразу не утонешь — так будешь плыть час, два, день, два… а после все равно утонешь и так и не увидишь того Острова, а до него, наверное, уже совсем недалеко, «Тальфар» все наддает и наддает и, может, уже к вечеру они, все эти косари, увидят далеко на горизонте ту самую заветную звезду, которую ты так… Да! Главное — не поддаваться глупостям. Ждать, ждать: что будет, то и будет. И Рыжий подошел к иллюминатору, плотно закрыл его — как перед штормом — на задвижку и снова отошел к столу, глянул на компас, на хронометр, а после медленно полез за пазуху, нащупал там монету…
Стук! Это в дверь стучат. Значит, пришли уже. И, раз стучат, значит, Вай Кау с ними нет, он ведь с ключом, он бы просто открыл… Вот, значит, как, одни на ют пришли, посмели. Ну, Рыжий… Р-ра! И, отпустив монету, он вынул лапу из-за пазухи, сказал:
— Войдите!
Те, что пришли, толкнули дверь, потом еще… И послышался голос Базея:
— Так ведь закрыто, штурман!
— Не знаю, я не закрывал, — насмешливо ответил Рыжий. — Не верите, спросите у Вай Кау.
За дверью зашушукались. Потом в замочной скважине раздался скрип, потом щелчок, еще один, еще… Потом дверь осторожно приоткрылась, в каюту заглянул Базей, увидел Рыжего, спросил:
— Не помешаем?
— Нет, входи. Или входите. Сколько вас?
— Да всего двое, — сказал Базей, уже входя в каюту. А вслед за ним вошел…
Р-ра! Геза! И, глядя на него, никак не скажешь, что еще утром он лежал пластом и кровью харкал, умирал… И ладно! Вошли они, два боцмана, стоят перед столом, а дальше пройти не решаются — ведь, как-никак, это каюта, ют… И все же Рыжий отступил на шаг, спиной уперся в сетку гамака; гамак это такая штука, что если, уцепившись за него, вот так вот кувыркнуть, а после…
Нет, похоже, обойдется и без этого. Базей сказал весьма миролюбиво:
— Мы говорили с адмиралом. И он сказал, что ты не виноват. Ты тоже заколдован, вот. А эта тварь, которая тебя, нас всех заколдовала… Ну, которую Хинт тебе сунул… Так вот, мы за ней и пришли. Вот… Отдай! — и даже лапу протянул.
Рыжий молчал, смотрел на его лапу, на самого его, на Гезу. Вот как оно все обернулось, р-ра! Ни бунта, ни доски через фальшборт, ни даже адмирала рядом — где, кстати, он? да где бы ни был! — а вот пришли они, два этих косаря, скота, и по-простому говорят «отдай», а ты… А ты стоишь и чувствуешь: а ведь действительно отдашь ее, не пожалеешь, да и чего ее теперь жалеть? Вела она тебя — и привела. Правда, куда, пока еще не знаешь. Хоть и надеешься на лучшее. А ведь напрасно, зря, не верь ты ей, тварь она, Тварь, и Хинт был прав, и адмирал был прав, так и чего тогда ты ждешь?! И Рыжий запустил лапу за пазуху, достал монету…
И швырнул ее на стол! Она, как и тогда, когда ты в первый раз был у Вай Кау, упала и застыла — как прилипла. Два боцмана с опаской наклонились над монетой… Но трогать ее все же не решились. Геза, не зная, как тут быть, даже немного отстранился от нее. Базей же, подняв голову и повернувшись к Рыжему, сказал:
— Здесь только одни буквы. А где же глаз?
— На оборотной стороне. Переверни ее — тогда увидишь.
— А…
— Я сказал: переверни! Не бойся!
Базей, собравшись с духом, снова наклонился, прокрался лапой по столу, притронулся к монете, подождал, а после резко — р-раз! — перевернул ее! И…
Где она?! Монеты уже не было! Она исчезла! Вот только что была — и нет ее. Базей ее перевернул — и…
Р-ра! Базей, громко сопя, ощупал всю столешницу — вначале быстро, лихорадочно, а после уже медленно и тщательно… А после, почти лежа на столе, он его нюхал и сдувал с него пылинки, и снова нюхал, щупал и хватал, рычал, сопел…
А Геза — тот стоял окаменев, глаза его были расширены, пасть приоткрыта, шерсть на загривке вздыбилась…
— Р-ра! — злобно выдохнул Базей и оттолкнулся от стола, глянул на Рыжего. — Штурман! Кончай шутить!
— А я и не шучу, — насмешливо ответил Рыжий. — Я это все всерьез. Чего стоишь? Бери ее и уходи. Ты же за ней пришел!
— Я… Я… — Базей даже закашлялся. — Ну, я… А ты еще попляшешь мне на рее!
— И попляшу!
— Вот-вот! Вот именно! Пошли пока!
Базей схватил Гезу за шиворот и потащил вслед за собой прочь из каюты. Ушли они, протопали по трапу…
А дверь закрыть забыли! И пусть так и стоит…
Нет, ни к чему! Рыжий легко, таясь, прошел к двери, прикрыл ее…
И тут же бросился к столу и принялся его ощупывать, оглаживать, обнюхивать… Напрасно! Не было монеты. Она исчезла, как и всякое видение, как, помнишь, и тогда, в Лесу — вокруг сплошной ковер сырой после дождя иглицы, а там, где только что было Убежище, теперь…
Р-ра! Стопы его больше не держали, и Рыжий опустился в кресло: сидел, смотрел на карту на стене — ту самую, подложную, обманную. А где правдивая? И вообще, а есть ли Континент? Жара, ни ветерка, не продохнуть; казалось бы, запаришься… А вон как бьет озноб! Ты весь дрожишь, брюхо свело, монеты нет и адмирала нет, и нет привычных звезд, «Тальфар» все наддает и наддает, Проглотный Зев все ближе, ближе, он скоро всех проглотит и сожрет, а тот Магнитный Остров, который так тебя манил… Постой, постой! Ты не к нему ж ведь направляешься! Ты ищешь Южный Континент, и если ты его найдешь, то рухнет Равновесие, Земля перевернется…
Р-ра! А зачем это тебе, чтоб что-то рухнуло? А если же, напротив, устоит — то и это зачем? А если… Вообще, зачем тебе все это и все эти? Ведь самому тебе, лично тебе, не нужно вовсе ничего — ни славы, ни богатства, ни самодовольства, ни… Ну, что еще назвать? Да что попало! Вот, бегал ты, надеялся, жил там и сям, и… Прибежал! Теперь сидишь один в каюте, вокруг Бескрайний Океан, солнце вот-вот взойдет в зенит, и эти, косари, сядут обедать, а после, уже ближе к вечеру — раньше нельзя, таков у них закон — к тебе придет Кром, парусиновый мастер, и снимет с тебя мерку…
Но это будет еще только вечером, ну а пока что тихо здесь, никто больше соваться не решается; Базей небось, как рассказал о том, что здесь случилось, так там они теперь…
Гонг. На обед. Опять они затопали. Опять запахло варевом. А вот и снова слышатся знакомые шаги — это стюард идет. Вот он спускается по трапу, входит, вот расставляет на столе посуду — один куверт, не два. А лапы у него дрожат, глаза старательно отводит…
Рыжий спросил:
— А это, с тумбочки, ты приберешь?
Стюард глянул на тумбочку, на грязную посуду, что оставалась еще с завтрака, откашлялся в кулак и нехотя ответил:
— Н-нет. Мне сказали, чтоб не трогал.
— А кто сказал?
— Сам адмирал.
— А, кстати, где он, адмирал?
— На баке. Он занят там, просил не беспокоиться.
— Не буду, — Рыжий усмехнулся. — Проголодался я, не до волнений! — и, пододвинувши к себе тарелку, он начал жадно есть.
Стюард стоял над ним, не уходил. Рыжий спросил:
— А как здоровье нашего патрона?
— Да как всегда, чего ему.
Рыжий кивнул, пережевал большой кусок, опять спросил:
— А Геза как? А семеро гребцов, а двое марсовых?
— Все на стопах.
— Прекрасно. Налей-ка мне вот этого.
Стюард налил. Рыжий отпил, посмаковал, опять отпил, опять посмаковал, спросил:
— Опять не будешь убирать?
— Опять. Патрон сказал: «Потом все перетрем и выскоблим, прокурим».
— Вот как! А он хозяйственный. Еще подлей.
Стюард подлил. На этот раз Рыжий все выпил в один мах и не поставил положил бокал, достал платок и долго утирался. Стюард не уходил. Рыжий сказал:
— Иди. Чего ты ждешь.
— Мне еще велено сказать…
— Так говори!
— К вам… Кром придет.
— Ну, Кром. Раз надо, пусть приходит.
— Но вы, наверное, не знаете, зачем.
— Ну почему же? Знаю — снимет мерку. Потом сошьет мешок. Так?
— Так. И вам… не боязно?
— Нет. А чего? Пусть шьет. Мы же с Базеем вровень, ухо в ухо, так что не зря Кром постарается — не для меня, так… Ну, иди, а то ведь ждут тебя: им всем небось не терпится узнать, что тут да как. Иди! Я что сказал?! — и Рыжий даже встал.
Стюард подобострастно закивал и, пятясь, поспешил вон из каюты. Ушел и дверь закрыл. Вот так! Вот так-то, чва! И все там — чва, все — косари, все до единого, а первый среди них — Вай…
Тьфу! Вот же навяжется! Как будет, так и будет. Потом они, конечно, все здесь приберут и выскоблят, ну а пока ведь не сидеть же, как Ларкен, среди объедков. Рыжий опять собрал посуду и перенес ее на тумбочку, а после подошел к иллюминатору и принялся смотреть на Океан…
Хотя смотреть-то было не на что — вокруг одна вода, а над водой тяжелый, раскаленный воздух: ни ветерка, ни дуновения, в такую пору, говорят, над горизонтом вдруг всплывают миражи и марсовый кричит: «Земля! Земля!», корабль меняет курс, гребцы встают и падают, встают и падают, весло на грудь — упал, на грудь — упал, в-ва, в-ва, все ближе, ближе, и вот уже она, эта земля, вот, до нее уже совсем недалеко, и уже кажется… А вот уже и нет — мираж исчез, пуст горизонт, гребцы в изнеможении… Вот почему, доказывал Ларкен, так нужен узнаватель — тот инструмент, который, как он объяснял, не ошибается не только в ночь, в туман, но и в такую вот жару, когда…
А где Ларкен? Да там же, где и Бейка. Кто их убил? Да тот, с которым ты пошел, которому поверил, хотя куда уместней было бы подумать: а чем я лучше их? Был их черед, он их убил, а твой черед придет — он и тебя прикончит, и так ведь все оно и обернулось! Крот, разуверившись в монете, опять решил, что она — Тварь, а если так, то… Да! Сейчас вот эта вахта кончится — и Кром придет к тебе и снимет с тебя мерку, сошьет мешок, а после они все сюда заявятся — Вай Кау лично приведет…
Нет, так нельзя: ляг, отдохни! И Рыжий резко поднял лапу, нащупал сонную артерию и, осторожно выпуская коготь, начал надавливать…
Тьма! Гром! И он упал, но он того уже не чувствовал — он ничего уже не чувствовал, был словно неживой; упал, застыл, неловко подвернув голову… Так и лежал окостенев. Пробили склянки — раз, второй. И это был не сон почти что смерть…
Но Крома вовремя почуял! Сразу вскочил, встал у стола…
По трапу медленно спустился Кром — приземистый, сутулый малый. Вошел, держа линейку, словно посох. Сказал:
— Я… это…
— Знаю! — глухо отозвался Рыжий. — Чего стоишь? Давай.
Кром подошел к нему, помялся и сказал:
— Лечь надо.
— А зачем? Так измеряй.
— Нет, надо лечь. Ляг, вытянись, как следует, потом будет просторнее.
— Не все равно ли, что будет потом?
— Не все равно. Ты меня слушай! Ляг, говорю.
Рыжий поморщился, но лег, а Кром присел над ним и начал его измерять. Делал отметки, шепотом подсчитывал. Рыжий спросил:
— А адмирал, он как это решил? На рею или по доске?
Кром недовольно сморщился, сказал:
— Во-первых, если по доске, тогда мешка не шьют. А во-вторых, про адмирала мне рассказывать не велено.
— Но…
— Ничего не знаю!
Рыжий вздохнул и больше ничего уже не спрашивал. Кром все измерил, подсчитал, встал и сказал:
— А много на тебя уйдет. Да, много! Можешь встать.
Рыжий поднялся, отряхнулся. Кром, деловито осмотрев его, хотел было еще что-то сказать… Но Рыжий вдруг не выдержал и рявкнул:
— Хва!
Кром захлопнул пасть, попятился…
Но Рыжий уже бросился к нему, схватил за шиворот и, развернув, так пнул его под зад, что Кром…
Все, нет его. И снова тишина. Рыжий захлопнул дверь и, тяжело дыша, прошел к иллюминатору, опять к двери, опять к иллюминатору, опять… И наконец остановился, глянул на хронометр, на компас…
И сел, зажмурился, впился когтями в стол. И качки, вроде, никакой, и ведь вполне здоров — а как тебя качает, мутит. Сейчас бы впору яблока, да, яблока! Да, того самого, а что?! Ведь был у тебя дом, была жена, тебя избрали старостой, ты обещал им привезти из города станок, на котором мелют рыбьи кости, а еще новые веревки для сетей, и поплавки, для Ику — бусы, музыкальную шкатулку. Р-ра! Кажется, все это было так давно, а ведь еще Луна не умерла с тех пор, как ты ушел из Бухты. Нет, не ушел — бежал. И все бежишь — на четвереньках, словно зверь, — «наддай! — кричат тебе, наддай!» — и наддаешь. «Тальфар» еще прибавил ходу, течение уже как на реке, где, помнишь, ты шел с плотогонами, когда ты еще Кронсом был, Быр звал тебя, а ты с ним не пошел — бежал. Опять бежал! И так всегда — бежишь: Рыжий бежал, Ловчер бежал, Кронс, теперь снова Рыжий. И, видно, в том твоя всегдашняя судьба — бежать, бежать и все надеяться, что там, за горизонтом, может, встретишь…
А ничего ты там не встретишь! Убежище исчезло — раз, Башня — обман и ложь, и это — два, ну а на третий раз монету взял, перевернул… И где она? Куда она исчезла? Так, может быть, Вай Кау прав: она вела тебя и привела. Куда? В Проглотный Зев! Вон, посмотри, какое здесь течение! Так, может, и действительно, взять да и посчитать, когда этот Зев нас проглотит. Ведь все равно будешь сидеть и ждать, ведь все равно нет духу встать, выйти на палубу и подойти к Вай Кау и сказать… Р-ра! Как в тяжелом сне — сидишь и ждешь, когда к тебе придут и свяжут, и поволокут, а после как сохатого, нет, как нерыка… Нет! Как настоящего ганьбэйского скота вздернут на рее! Но это будет еще только ночью и, значит, можно пока не спеша и обстоятельно произвести подробнейший расчет, когда же Зев сожрет этот корабль, намного ли они тебя переживут. Р-ра! Х-ха! И Рыжий взял перо, чернильницу, раскрыл журнал и принялся считать, вычерчивать, зачеркивать и начинать сначала. Вот уж действительно, ничто так не съедает время, как бесполезный труд! Считай, Рыжий, считай, не отвлекайся! И он считал, вычерчивал и перечерчивал, сверял и вновь считал. Пробили склянки раз, второй. Когда стемнело, он зажег свечу…
И спохватился — ночь! Вот и пришла она — дождался. Сейчас они заявятся. Рыжий прислушался… Пока что было тихо. Ну а когда они придут, тогда как быть? Кричать, доказывать? А может, встать в дверях и… Все равно ведь смерть! Задуй огонь!
И он задул. Сидел. Стало совсем темно. Волны толкутся в борт, толкутся, «Тальфар» скрипит; согласно сделанным расчетам, к утру все и решится окончательно, так что какая разница, сейчас или потом…
Шаги! И голоса: идут!..
Да нет — они уже забегали и закричали — громче, еще громче! Но что это они кричат? Не разобрать! И в голосах не ужас — радость! И какая! Да что же там могло…
Рыжий вскочил и побежал, и — вверх по трапу и на ют, и дальше, к ним, и…
Р-ра! Ночь, небо чистое, все в звездах, Луна уже взошла…
Да что теперь Луна! А вон, смотри, прямо по курсу — свет! И он все разгорается и разгорается. Да, значит, так оно и есть — на небе много звезд, а в Океане лишь одна; сперва она чуть теплится на горизонте, а после начинает разгораться и расти, и глаз уже не отведешь — ведь этот свет манит тебя, пьянит, вот почему они все так кричат, как одержимые, — да ты и сам уже кричишь, просто того не замечаешь, «Порс! Порс!» — командует Базей — и все бегут. «Порс! Порс!» — гребут, ритм два и два, ритм три и три, гребут, кричат, смеются, а ты стоишь и смотришь на нее и сам себе не веришь — не может того быть, обман это, мираж, магнитным может быть только железо, но не золото, а золото, сам видел, как монета…
— Взять! — закричал Базей.
И навалились! Сбили со стоп и придавили к палубе, и принялись вязать, а ты не отбивался — ты все смотрел, как завороженный, на горизонт, по-прежнему еще не веря, что это никакое не видение, а явь; и это ведь правда, научно доказанный факт — мираж бывает только днем, в жару, а чтобы ночью…
Р-ра! Р-ра! Удар! Тьма! Грохот! И…
И нет уже видения, и нет даже тебя, нет ничего — одна лишь пустота. Очнешься — будешь жить, а не очнешься — значит, не очнешься.
Глава одиннадцатая — ЦВИРИН-ТСААР
Он очнулся. Открыл глаза — темно. «Тальфар» скрипит, волны толкутся в борт, толкутся, вверху, на палубе, кричат «В-ва! В-ва!». Значит, отбоя не было, они гребут и ночью. Значит, у них есть какой-то ориентир, иначе бы…
И мысль оборвалась. Снова тьма. Тишина…
Когда он в следующий раз очнулся, было по-прежнему темно, гребцы споро гребли, кричали погонялы. Он попытался встать — не смог, сразу упал. Вновь наступила тишина…
А окончательно очнулся он только тогда, когда «Тальфар» уже стоял на якоре. Это легко определить — когда корабль на якоре, тогда совсем другая качка, потому что якорный канат, когда он натянут…
Р-ра! Значит, ты уже у берега! Лежишь, весь связанный: ни сесть тебе, ни повернуться, ни даже рассмотреть, где это ты — так здесь темно. Только вверху, сквозь щели в палубе, чуть виден слабый свет. А здесь, внизу, под боком у тебя — вон впилось как! — как будто бы лежит ведро, под головой бухта каната. А времени сейчас — Рыжий принюхался… Нет, к вареву они еще не приступали. А этот шум… А, это у баллист они забегали! Кстати, почти над самой головой; наводят, значит, их, готовятся. А вот и старший их командует. А остальные где, чем сейчас заняты гребцы? А прибыли они куда? Вчера было видение — и все в него поверили, гребли что было сил, потом всю ночь тоже гребли, и вот только теперь, когда стало светло, остановились. И ведь куда-то ж прибыли, так как «Тальфар» стоит на якоре, а не дрейфует, баллисты изготовлены для боя. И прочий экипаж тоже небось без дела не сидит…
А ты до сей поры еще живой, р-ра, странно! Не вздернули тебя, как обещали, даже в мешок — и то не нарядили. Но это, конечно, не зря. Скорей всего, это просто отсрочка. Наверное, у них тут что-нибудь такое приключилось, что им без тебя никак не обойтись. А кто ты для них? Ты колдун. Да, видно, так оно и есть. И ладно! Так что лежи, колдун, и не волнуйся, жди: придут они и вытащат тебя отсюда, и что прикажут, то и сделаешь. А что, разве не так? Ты ведь давно уже на все готов, ничем тебя не остановишь — ни логикой, ни совестью, ни…
Тьфу! Вай Кау говорил:
— Не бойся! Бояться нужно было в первый раз. А во второй и в третий это уже традиция, а традиции нужно соблюдать. Вот, скажем, я…
Р-ра! Подошли они! У люка возятся. И вот сейчас, и вот сейчас…
Открыли! Геза и Лихтан, а третий… как его?.. забыл. Геза склонился к люку и окликнул:
— Эй! Жив?
Рыжий в ответ только оскалился. Геза сказал:
— Лихтан!
Лихтан спустился вниз и развязал веревки. Рыжий вскочил, расправил кости, потянулся и тотчас же полез наверх. Лапы дрожали, в горле пересохло: вот, думалось, сейчас…
И вот он, твой заветный Остров — в каком-нибудь десятке лэ от корабля, не более, то есть совсем недалеко — а ничего на нем не рассмотреть! Он словно весь горит, сияет, светится, он словно и действительно из золота, высокий и отвесный столб в сто или даже больше ростов!..
А смотреть на него невозможно, слезятся глаза. Рыжий зажмурился и отвернулся. Геза сказал:
— Вот так-то, штурман. Нравится?
Рыжий пожал плечами. Геза опять сказал:
— А зря болтали, что магнитный. Откуда быть магниту? Он ведь не железный! — и тут же толкнул Рыжего в плечо: — Пошли!
— Куда?
— В каюту. К адмиралу. Пошли, я говорю!
Пошли. Да, так оно и есть, злобно подумал Рыжий, это Вай Кау все устроил. Сперва прикинулся слепым, потом ушел как будто бы на переговоры, а сам тем временем уже все для себя решил, предал тебя! А ты, глупец…
Тьфу! Пропади оно все пропадом! Взошли на ют, опять спустились вниз по трапу, Геза с услужливым поклоном открыл дверь в каюту, Рыжий вошел в нее…
Р-ра! Р-ра! Вот уж чего не ожидал — Базей, закинув стопу за стопу, сидел в просторном адмиральском кресле и курил, пускал дым кольцами. И был на нем серебряный жилет, в ухе серьга, на шее полосатый шарф, даже очки — и те надел. Вот только стекла из них выдавил. Рыжий сглотнул слюну, зажмурился, опять открыл глаза — видение не исчезало. Мало того:
— Ну, как? — нагло спросил Базей. — Смотрюсь?
Рыжий не смог ответить. Базей самодовольно облизнулся и сказал:
— Ты чем-то опечален? Нет? Тогда садись. Там, прямо у двери. А то еще натопчешь!
Рыжий не спорил, сел на табурет. Базей опять заговорил:
— А повезло тебе! Вот, жив, здоров. А Вай еще вчера ушел на корм. Да-да! Он думал всех нас одурачить, прикинулся слепым. Но Океану что слепой, что зрячий — безразлично. Ему что нужно? Уважение. Вот мы Океан и уважили — мы ему адмирала на корм запустили. И сразу что? Да, угадал. И сразу свет на горизонте. Ну, каково?
Рыжий отвел глаза. Вот, значит, как оно все обернулось! Вай Кау и не думал тебя предавать, Вай Кау думал…
— Да, — продолжал Базей. — Вай славно умирал — по-адмиральски, на шкафуте. Никто не верил, что умрет, все говорили: «У него есть Слово, его, не зная Слова, не возьмешь!» Ты представляешь? Тогда я им сказал: «Ладно, будет вам слово!» И научил стюарда. И он пришел сюда и рассказал — ты это слышал — про семерых гребцов, про марсовых, про горлом кровь. И Вай поверил, р-ра, перепугался! Я выманил его, глупца, и он пошел. А наши собрались уже и ждали. И вот только он встал — вот так вот, важно, грозно перед нами, и лапы заложил, и поднял голову, горло открыл… Как я его х-ха! Он рыкнуть даже не успел! Упал, очки разбил. Вот, видишь, я теперь в каких! Ведь некрасиво, да?
Рыжий молчал. Потом сказал:
— Красиво! — и, снова помолчав, спросил: — А как же по доске его?
— А по доске его уже потом. В мешке, холодного, когда уже стемнело. Я им сказал: «Монеты больше нет, это хороший знак. Теперь не станет адмирала — и это тоже…» Х-ха! Ну, ты только представь! Я сам того не ожидал — он еще только в воду плюхнулся, мешок еще не потонул, а пузырем торчал… А уже закричали: «Звезда!» Ты представляешь, а? Ну разве тут не станешь суеверным? Вот я и говорю: он хорошо ушел, по-адмиральски, себя не пожалел и нас сюда привел. Ведь так же?.. Так! И еще как! И теперь твой черед!
Рыжий поморщился. Нет, это был не страх, а просто гадливость, досада. Базей же рассмеялся и воскликнул:
— Ты чего это уши прижал? Не бойсь, доски тебе еще не будет. Пускай пока что адмирала переварят. А мы тем временем… Видал его?
— Кого?
— Остров, что же еще. Так не магнитный он! Но зато золотой. А может, и не золотой, а это просто кварц так блестит. Вот ты, ученый, что на это скажешь? Бывает, чтобы так кварц блестел?
— Бывает.
— Ну вот! И я им всем о том же! И, значит, вот… — и боцман загасил сигару, сплюнул. — Вот, значит, будет так! Ты к ним пойдешь, на Остров. Тебе это как раз, ты Тварью меченый. Вставай!
Рыжий сидел.
— Ты что, не слышишь?!
— Слышу. А ты про Тварь давно узнал?
Базей ощерился, губами пожевал…
— Н-нет, — выдохнул, — не сразу. Но то, что ты нечист, я это еще в Доке понял. И я тогда все вокруг тебя, вокруг тебя… Но нич-чего не вынюхал! Тогда… Решил рискнуть. А было это сразу после шторма. Призвал стюарда и велел…
Базей вдруг замолчал, подумал и спросил:
— Как искровик устроен, знаешь?
— Знаю.
— Так вот. А есть еще слухарь, штука и вовсе редкая. Когда распотрошат те самые жемчужины, то после них остаются створки. Или уши. Тогда берешь одну из них и… Да! Ну, подробности тебе будут неинтересны. А дальше так: берешь один слухарь и прячешь его вот сюда, за пазуху, а второй отдаешь стюарду, и он несет его к вам в каюту и незаметно прячет… Вот сюда!
Базей пошарил под столешницей и с треском оторвал, и показал, и повертел перед собой створкой ракушки — она и действительно была чем-то похожа на ухо, — а после вновь убрал ее на место и сказал:
— Вот так я и узнал про Тварь. Еще вопросы есть?
Рыжий молчал. Р-ра, надо же! Вот как оно все глупо получилось! Вас, избранных, напыщенных, поддели косари. И как! Да просто-напросто подслушали и подошли, как к двум тетеревам — и одному из вас уже скрутили голову; ты прежде сам так делал, и не раз, Хват научил, Хват приводил тебя на ток, весна была…
Пусть так! Но ты зато все же успел увидеть Остров; мало того, тебе велели, чтобы ты теперь…
Р-ра! Все равно теперь! Грязь, ложь. И Остров — ложь. Или видение…
— Вставай! — опять велел Базей. — Вставай, сказал!
— Встаю.
И Рыжий встал. Встал и Базей. Вышли на ют. Да только разве теперь это ют? Теперь здесь шляются все, кому не лень, глазеют, лапают. Р-ра, косари! Вот даже возле компаса стоят. Рыжий ощерился…
— Давай, давай! — сказал Базей. — Сюда!
Они прошли к фальшборту, и там Рыжий застыл, впившись когтями в планширь, смотрел на Остров, думал… Но не думалось — он просто так смотрел, в глазах рябило от сияния…
А эти косари уже спустили одноместный ялик и бросили в него весло.
— Порс! — приказал Базей.
И Рыжий прыгнул в ялик, сел, схватил весло и оттолкнулся от «Тальфара», сделал один гребок, второй, взял курс, наддал, еще наддал.
— В-ва! — закричали с палубы, дразнили. — В-ва! В-ва!..
И замолчали. И ты молчал: греб, наддавал. Там, впереди — высокая отвесная скала. Она горит, сверкает золотом. Там, кстати, все из золота деревья и трава, и птицы, звери, даже вода в ручьях, и та — расплавленное золото, и всякий, кто взойдет на этот Остров… В-ва, Рыжий, в-ва, наддай! Еще наддай! Еще! Семь лэ осталось. Пять. Еще наддай! Вот он, заветный Остров, совсем близко: он весь из золота, и не простого, а магнитного, и потому к нему очень легко грести. В-ва, Рыжий, в-ва! Два лэ… Один! Что там, на Острове, никак не рассмотреть — глаза слепит сияние. Но и бояться тебе нечего — прибоя вовсе нет, зыбь на воде, греби, еще наддай, еще, вот ты сейчас пристанешь и притронешься к скале — и сразу сам станешь магнитным и, значит, никогда уже тебе отсюда не уйти. Тем, на «Тальфаре», что? Они вон где остановились! Они, чуть что не так, сразу уйдут. А ты…
Кр-рак! Ялик врезался в скалу, притерся боком и застыл. Рыжий сложил весло, зажмурился, протер глаза, открыл их, посмотрел — скала, но не из золота. И в то же время не из кварца. Ощупал ее — гладкая и скользкая, но и не ровная, как зеркало, а вся в буграх, словно в застывших пузырях. И очень крепкая — когтями в нее не вцепиться. Тогда он глянул вверх — свет, очень яркий свет, и ничего не рассмотреть…
И вдруг сверху послышалось:
— Эй, ты!
Рыжий вскочил и встал задравши голову, пытаясь рассмотреть, что там, вверху, но тщетно. А неизвестный снова прокричал:
— Держи!
И там, вверху, что-то мелькнуло и исчезло, потом еще мелькнуло, и еще…
И рядом с яликом упала на воду корзина. Р-ра! Самая обычная плетеная корзина. В таких торговки носят рыбу. А здесь к корзине был привязан трос, трос уходил наверх, терялся в ослепительном сиянии. Рыжий ощупал трос на крепость…
— Садись! — послышался все тот же голос.
Рыжий, подумав, сел в корзину. Корзина дернулась и стала подниматься. Рыжий сидел вцепившись в нее лапами, молчал. Смотреть по сторонам было нельзя — свет ослеплял, — и он зажмурился. Корзина, то и дело ударяясь о скалу, ползла все выше, выше, выше. Удар, еще удар…
И замерла. Рыжий открыл глаза…
Да вот как раз и не открыл — не смог! Веки не слушались его! Так и сидел с закрытыми глазами. Он даже лапами не мог пошевельнуть: застыл, как каменный. Прислушался — ни звука. А яркий свет…
Глаза у Рыжего были по-прежнему закрыты, но свет был до того силен, что даже через веки ослеплял. А после свет стал понемногу меркнуть, меркнуть…
А вот уже и веки его дрогнули. А вот уже и можно их поднять…
И что с того? Рыжий открыл глаза и осмотрелся — вокруг было темно, он ничего не видел. Тогда он осторожно поднял лапу, медленно провел ею вокруг себя… Да, прутьев нет, он не в корзине уже — на полу. Пол устлан чем-то мягким и пушистым — это лишайник или мох… Только откуда здесь лишайник?! Рыжий вскочил застыл, принюхался…
Цветы! Много цветов…
И шелест крыльев. Крик:
— Цвирин-тсаар! Цвирин-тсаар!
И…
Свет!..
Да нет, это даже не свет, а так — там-сям мелькнули огоньки и тотчас же погасли, потом опять зажглись, затрепетали, словно свечи. Но то были не свечи, а светильники — цветные, разных форм… Нет, никакие это не светильники — это цветы! Они светились в полной темноте, их было множество, со всех сторон, среди густых ветвей диковинных, невиданных растений, которые сплошным ковром скрывали стены, потолок пещеры… или зала? И шелест крыльев, возгласы:
— Цвирин-тсаар! Цвирин-тсаар!
Р-ра! Рыжий, это же птицы! Ты только присмотрись, они везде — среди ветвей, на стенах, потолке… И ты их сразу же узнал! Тогда, ты помнишь, перед штормом, гребцы кричали: «Это гуси!», а ты смотрел в подзорную трубу и все гадал, да что ж это за птицы, таких ты никогда еще не видел, а птицы все летели и летели — все ближе к солнцу, ближе, ближе…
— Цвирин-тсаар! Цвирин! Цвирин! — теперь кричат они. А перед штормом они все молчали. А ты смотрел на вожака…
А где сейчас вожак?
А вот он, впереди, в каких-то десяти шагах перед тобой; он смотрит на тебя, чуть-чуть склонивши набок голову. Он ждет тебя, иди! И Рыжий сделал шаг, второй…
И оступился! И упал!..
Упал бы, да, но вовремя успел вцепиться — одновременно лапами и стопами — в пол, впиться в него когтями. Но только это был уже не пол, а ствол, а может, ветвь — толком не разобрать. Внизу, под этой ветвью, были еще ветви, была листва, были цветы и птицы, много птиц, и все они кричали, клекотали, били крыльями. И, видно, если б ты не удержался и упал, то падал долго бы, а сколько это долго, даже не представить. Так что вставай, а то застыл на четырех, как зверь… Вставай, иди, будь осторожен. И Рыжий встал…
А птицы тотчас замолчали. Вожак что-то сказал — конечно же по-птичьи, ты ничего из его слов не понял, ведь это только б Гры смогла его понять…
Р-ра! Нет, не только! Откуда-то из темноты вдруг словно вынырнул…
Такой же, как и ты, — широколобый, серый, крепколапый, в темном лантере старого покроя незнакомец и, повернувшись к вожаку, проклекотал на птичьем языке. Вожак кивнул ему, ответил. Тогда незнакомец повернулся к Рыжему и как-то неловко, с заметным акцентом сказал:
— Цвирин-тсаар, великий император приветствует тебя, о диковинный житель Далекой Бескрылой Страны.
Рыжий молчал, во все глаза смотрел на незнакомца. Р-ра! Кто бы мог подумать? Птицы — и разумные! А этот… Кто это?
Цвирин-тсаар тем временем вновь что-то выкрикнул, а незнакомец перевел:
— Как вы нашли наш Остров? Отвечай!
Незнакомец смотрел на него не мигая и ждал. Он, надо понимать, толмач, знает птичий язык. И твоя бабушка, помнишь, о ней говорили… Р-ра! Рыжий, тряхнул головой и сказал:
— У нас был талисман. Ну, это вот такой кружок, из золота. На нем был глаз. И этот глаз нам и показывал, какой брать курс. Вот, собственно, и все.
Толмач кивнул и перевел. О, что тут началось! Шум! Крики! Гам!.. Потом все смолкли, и толмач сказал:
— Ты слышал? Мы тебе не верим. Нет и не может быть таких талисманов. А если есть, так покажи нам его. Ты можешь его показать?
— Н-нет, не могу.
— Тогда ты, значит, лжешь. Ведь так? В глаза смотри! В глаза!
Глаза их встретились. Глаза! Большие, грустные…
— Нет! — крикнул Рыжий. — Это правда! И ты это прекрасно знаешь! Ведь это ты привел меня сюда!
— Я? — удивился незнакомец. — Ты что, разве когда-нибудь встречал меня?
— Конечно! Сперва мы встретились в Лесу, когда я был загонщиком, а после в Дымске на реке, а после Тварь, то есть монета, р-ра!
— Постой, постой! — воскликнул незнакомец. — Я ничего не понимаю. Подожди!
И, повернувшись к императору, посовещался с ним по-птичьи, и лишь потом уже спросил:
— Ты можешь объяснить все ясно и понятно?
Рыжий кивнул и принялся рассказывать. Рыжий спешил, проглатывал слова, сбивался, начинал сначала. Он видел только толмача, толмач — только его…
— Тса! — крикнул император. — Тса!
Рыжий смущенно замолчал. Смотрел на толмача, на императора, на птиц. Толмач тоже молчал. Мерцали разноцветные огни, было темно и тихо.
— Тса! — снова крикнул император.
Толмач вздохнул и что-то кратко произнес по-птичьи… и опустил глаза, и отвернулся.
На этот раз никто не проронил ни звука. Император зажмурился, долго молчал, а после снова обратился к толмачу. Тот перевел:
— Он говорит, ему известно, зачем вы сюда прибыли. Он может вас убить. Но… пощадит.
Рыжий молчал.
— Да, пощадит! — опять сказал толмач. — Ибо таков у нас закон: гостей не убивают. Мало того, мы вас проводим до экватора, вы все живыми-невредимыми вернетесь к себе на родину.
— И все забудем?
— Да.
— И я забуду?!
— Да. Ты же понимаешь…
— Понимаю!
Рыжий вскочил и посмотрел на императора, уже хотел было сказать, что он не хочет забывать, что лучше он…
— Тса! — гневно крикнул тот. — Тса! Тса!
И — тьма! Ни зги! Рыжий попятился… И рухнул! Полетел! Вниз со скалы! И — в воду! И — на дно! Р-ра, как оно все глупо получилось. Р-ра, вот и все. Р-ра, и мешка не надо. Р-ра…
Нет! Нет, нет! Еще, еще, еще… И выплыл, ухватился за скалу, болтался на волне, жадно дышал, хрипел и сплевывал, моргал. Придя в себя, вновь глянул вверх. Остров сиял холодным, недоступным светом. Не для тебя это. Ну а для них, для косарей — тем более. Где ялик? Здесь, совсем недалеко. Рыжий подплыл к нему, с трудом перевалился через борт, схватил весло…
— Брат! — вдруг раздалось сверху. — Брат!
Но Рыжий не ответил. Он даже головы не поднял, а окунул в воду весло вперед, как можно дальше, чтоб широко грести, ходко идти. Порс! Навались! В-ва! В-ва! Вот девять лэ до корабля. Вот семь. Вот пять. А вот уже они забегали вдоль борта, а вот уже тебе бросают трап, ты за него хватаешься, а лапы не сжимаются, не держат — ты вот-вот сорвешься. И срыва…
Нет, подхватили, подняли на палубу, поставили тебя на стопы, поддержали. Но только отпустили — ты упал. Ты мог, конечно, устоять, но не хотел того, и потому упал. Лежал, смотрел на них, столпившихся вокруг, зло улыбался и молчал. И все они молчали. И долго ты лежал, и долго они ждали. Но, наконец, Базей не выдержал, присел возле тебя, спросил:
— Кто там?
А ты ответил:
— Птицы.
— Что?! — не поверил он.
— Да, птицы. И разумные. Они умеют говорить. Они грозили нам.
Базей весь вздрогнул, но смолчал, долго смотрел тебе в глаза, наверное, хотел понять, лжешь ты или нет, потом отрывисто спросил:
— Они вооружены?
— Чем?! — засмеялся ты.
— Да! — хмыкнул он. — И в самом деле, чем?! — потом спросил: — А золото… Там много золота?
— Навалом, — сказал ты. — Там все из золота. Я пить хочу. Дай мне воды!
Тебе дали воды. Ты выпил и закрыл глаза. Так и лежал на палубе. Они тебя оставили в покое. Солнце взошло в зенит и жарило просто нещадно. Они обедали, потом они готовились. А ты лежал, ты не хотел вставать. Зачем? Куда теперь спешить? Лежи, ведь ты уже приплыл, увидел, что хотел. Нет Континента — нет и Равновесия, Магнитный Остров — вовсе не магнитный, птицы — разумные создания, а мы зато — мы все, мы и они, и в Башне, и вне Башни — глупцы и дикари, мы звери, мы готовимся к сражению. Базей сказал, что ночью птицы слепнут, их ночью взять будет легко, не надо и баллист — и все с ним согласились. Вечер настал, а ты по-прежнему валяешься на палубе, ты отказался от еды, а только пил. Пришел Базей и стал тебя расспрашивать, ты неохотно отвечал, он жадно слушал. Особенно понравилось ему, что там, на Острове, все сплошь из золота.
— Даже вода? — спросил он.
— Да, — ты кивнул. — Она густая, очень сладкая. Вот почему теперь я пью и пью.
Базей кивал. И так всегда — кто хочет верить, тот во все поверит. Вот, даже взять тебя: ты веришь в то, что птицам штурм не страшен, они легко всех перебьют, корабль сожгут — и наконец-то кончатся все эти бесконечные и бесполезные искания — и тебе хорошо. И тебе было бы еще лучше, совсем хорошо, если бы это случилось как можно скорее. Р-ра, вот уже темнеет. Хорошо! Р-ра…
Что это?! Они кричат, размахивают лапами, смотрят на Остров! Рыжий подскочил…
Да, это было впечатляющее зрелище! День кончился, солнце, пройдя свой путь, теперь все ниже, ниже погружалось в Океан, еще вот-вот, и Он его проглотит, наступит тьма. А Остров… Р-ра! Как он поблек! Окрасился багровым светом. А вот он и еще темнее, и еще. А вот он уже просто серая безликая скала, нет в нем величия, нет золота, и небо тусклое, и солнца уже нет, и, значит, все это — мираж. А кто в этом всем виноват? Конечно, ты. Значит, в мешок тебя, поставить на доску, отправить на кормление, и, может быть, тогда опять будет удача. Вот как вчера с Вай Кау; он пошел…
— Огни! — кричат на палубе. — Огни!
Действительно, огни! Там-сям на Острове вдруг вспыхнули огни. Эти огни — как окна в неприступной башне. Р-ра, снова эта Башня! Вот почему ты слышал окрик «Брат!», вот почему Сэнтей говаривал: «Мы здесь и мы везде!», вот почему толмач так помрачнел, когда ты стал ему рассказывать…
А эти косари, смотри, как рады! Кричат, что это не огни, а золото, что Остров весь из золота, вон как оно горит, и сколько его там — уже внутри не умещается, торчит, сверкает, светит и зовет: «Бери меня!»
— Порс! — приказал Базей. — Порс! Порс!
Забегали. Расселись по местам. Но якоря пока не поднимают — ждут, чтобы окончательно стемнело. Ждут. Ждут…
Ты тоже ждешь. Стоишь у мачты, смотришь на огни и думаешь: Магнитная Звезда всегда горит одна, а здесь вот сколько их, и, значит, это не Заветный Остров. А если это так, то вот сейчас они поднимут якорь и навалятся на весла, и подойдут, и бросятся на приступ, и тогда…
Тогда все кончится. Р-ра, поскорее бы! И вот…
— В-ва! — крикнули. Ударили. И снова: — В-ва! — и снова: — В-ва!
Гребут, молотят веслами, спешат. Глупцы! Да если бы вы знали, что ждет вас, р-ра! Но там, на палубе, на банках — смех, оживление, кричат:
— В-ва! В-ва!
Гребут, спешат. А впереди — все ближе, ближе, ближе — чернеет мрачная скала. И, наконец…
Глава двенадцатая — НИГДЕ И НИКОГДА
Нос корабля уткнулся в Остров. Раздался скрежет — словно по стеклу. Все повставали, замерли…
Остров молчал, сверкал огнями окон. До нижних окон было ростов тридцать, может, даже меньше. Значит, все очень просто: берешь пращу, закладываешь в нее крюк на веревке, бросаешь — и этот крюк летит, и там, вверху, цепляется, ты дергаешь веревку, проверяешь надежность крепления, а после… Р-ра! После будет после! И вот они все уже повставали, держат пращи наизготовку, ждут только команды. Базей еще немного подождал, тихо откашлялся в кулак… и приказал:
— Пилль! Пилль!
И — свист пращей! И крючья полетели вверх и взвили за собой веревки.
— Порс! Порс!
— Ар-ра! Ар-ра! — вой, давка, толкотня, все разом кинулись к веревкам и, продолжая выть, визжать, кричать, полезли вверх, на приступ. Вверх, вверх! А там, вверху…
Шум, клекот, хлопанье — это взлетают птицы! А сколько их! Они летят изо всех окон, их сотни, тысячи, их тьма, они закрыли собой небо, звезды и все летят, летят, а эти косари, застывши на веревках, глядят на них, не зная, что и думать. Один Базей — р-ра, хорошо ему, ведь он еще внизу, на палубе — кричит:
— Порс! Порс! Они бегут! Давай! Смелей!
Никто из косарей не шелохнулся. А птицы все летят, летят…
И вдруг не стало их — ни здесь, ни в небе. Словно растворились. Ночь, небо черное, такой же черный Остров, а в его окнах свет…
— Порс! — снова закричал Базей. — Порс! Порс!
И косари, вновь осмелев, завыли, завизжали, полезли дальше вверх. Вот и Базей уже схватился за веревку и принялся карабкаться следом за ними. Теперь на корабле остался только один Рыжий. Он сидел задрав голову вверх, смотрел на это дикое зверье…
И вдруг…
Услышал крик:
— Брат! Брат!
Что?! Он вскочил. Да, снова слышен крик:
— Брат! Брат! Ко мне!
И он… Сразу про все забыл! В два маха подскочил к веревкам, схватился за одну из них и — вслед за всеми: вверх! Зачем? Куда? Но…
Крик:
— Брат! Брат!
И — вверх! Вверх! Вверх! Не думая!..
И вот он, верх — ближайшее окно. Рыжий вскочил в него и побежал по скользкому сверкающему полу. Пол был из золота. И стены, потолок, и мебель, и ковры, светильники и — р-ра! — здесь все было из золота: бей, рви, хватай! И косари хватали. Били и бросали. Дрались из-за добычи, падали, гребли охапками, несли и вновь бросали на пол и наддавали наперегонки из зала в зал, из зала в зал. Крик. Визг. Грызня. Урчание. Все тише. Тише. Тише…
Один лишь Рыжий не спешил. Он, даже более того, намеренно отстал от них. Они — это они, пускай себе бегут, куда хотят, и грабят, что хотят, им, косарям, там нравится, в этом их счастье. А ты пришел сюда затем, чтоб встретить брата. Брат звал тебя, брат ждет… Да нет, теперь уже наоборот ты ждешь его, ищешь его, бродишь из зала в зал, из зала в зал… А его нигде нет. Здесь только одно золото — вокруг, везде, куда ни глянь. Здесь, как и было сказано в легенде, все из золота. Вот чаша, в ней цветы — и чаша и цветы из золота. Вот перья на стене, циновка, жердочка, висюльки, гребни, побрякушки — все это тоже золото. Ковры из золота, пол, стены, потолок из золота. И даже пыль здесь тоже золотая. А если наглотаться такой пыли, Ага еще рассказывал, то поначалу начинаешь задыхаться, а после горлом пойдет кровь, а после тяжелеет голова, отказывают стопы. Вот почему у них, в Горской Стране, невольники на рудниках живут очень недолго, их раз в сезон приходится менять…
Но где же тот, кто звал тебя? Рыжий прислушался… Нет, ничего не слышно. Окликнул:
— Брат! — и, подождав немного, снова: — Брат!.. Брат!
Никто не отозвался. А может быть, и отзываться некому? Может, никто тебя не звал? Никто и никогда тебя не звал, ты сам это придумал: Убежище, Подледный Незнакомец, Башня, монета, а вот теперь толмач. А был ли тот толмач? И тот ли это Остров? Там, где ты утром был, нет никакого золота. Там было все в цветах, не в золотых, а в настоящих. А птицы… Х-ха! Но ты же ведь прекрасно знаешь, что только нам одним дарован разум, а все другие, звери, рыбы или птицы, — то просто существа, Создатель так решил, с него и одних нас довольно, от нас одних ему вот так забот хватает! И, значит, не было ни толмача, ни говорящих птиц, тебе это пригрезилось, так что довольно здесь плутать, искать того, кого и быть здесь не может, иди обратно, на «Тальфар», и там…
Зачем? Тебе здесь разве плохо? Вон тихо как и чисто как, и как светло, никто тебе здесь не мешает, ходи себе из зала в зал, глазей да удивляйся.
И он ходил — по залам, лестницам, по длинным коридорам. Петлял, сворачивал, кружил. Глаза устали от сияния. И вдруг…
Рыжий увидел дверь. Она была закрыта. Рыжий толкнул ее — дверь подалась и как бы нехотя, со скрипом отворилась. Рыжий вошел в нее…
Здесь, в этом зале, света почти не было. И золота здесь не было. Здесь стены, потолок — просто из камня. И пол здесь каменный, из темных скользких плит. А там, в дальнем углу…
Р-ра! Рыжий вздрогнул. И ему сразу вспомнилось: Лес, осень, тишина, вокруг все устлано сырой после дождя иглицей, а посреди — ярчайший лунный свет. Днем — лунный; р-ра!..
Только когда все это было?! А здесь в углу, наверное, просто бассейн, в нем просто вода. И Рыжий, сдерживая дрожь, с опаской подошел к нему…
Да, это был действительно бассейн, который до самых краев был заполнен чистейшей прозрачной водой. На дне бассейна росла зеленая трава, в траве там-сям мелькали стайки рыб — не золотых и не серебряных, а самых обычных, съедобных. Завидев Рыжего, рыбки метнулись по углам, попрятались в траве. Рыжий, подумав, лег на самый край бассейна и сказал:
— Не бойтесь, я вас не трону.
Рыбки поверили ему и одна за другой начали выплывать из своих убежищ. А после они стали плавать даже возле Рыжего. Время от времени они смотрели на него и разевали рты — так, словно что-то ему говорили. А Рыжий улыбался им. Он знал — рыб нет, они — это лишь сон, такое видение. Вот и опять видение! И вообще, вся жизнь твоя — это сплошное видение. Нет Острова, нет Океана, Бурка и Равнины. Ты просто спишь, и это тебе снится. Проснешься, выйдешь из норы, увидишь Вожака…
А что, если и он, Вожак, и Выселки, и Лес — это тоже видение? Что, если вообще есть только ты один? А что, если и ты — это тоже всего лишь чье-нибудь видение? И тот, которому ты снишься, сейчас возьмет да и проснется, и тогда ты исчезнешь?!
Ну что ж, пусть просыпается. Теперь ты даже к этому готов. «Наддай! кричат тебе, — наддай!» Но ты уже не только не бежишь, даже вставать — и то не хочешь. Ты устал. Да и куда теперь тебе еще бежать? Все, дальше теперь некуда. А начинать все заново — так ты же не птица. Это они летят, летят на юг и падают в Бескрайний Океан, и гибнут в белой пене, и вновь рождаются, и возвращаются на север. Хотя, возможно, это и неправда. Так Беррик Лу рассказывал, но он же сам того не видел, а просто предложил, предположил гипотезу. А какова цена гипотезам, ты сам прекрасно знаешь. Вот, думалось, и по расчетам все сходилось, что где-то далеко на юге есть Южный Континент, огромная, никем еще не заселенная земля. А на поверку что ты видишь? Высокую, отвесную скалу, жилище странных птиц. Нет, здесь совсем неплохо, даже хорошо. Вот ты лежишь и чувствуешь, как слабость разливается по телу и как тебе становится легко. Ничто тебя не трогает, никто тебя не беспокоит. И это хорошо. А если б ты остался в Выселках, так волокли б тебя сейчас на Гору Воронья, а после б вот сюда, где бьется пульс, вонзились бы…
Нет, все же хорошо, что ты убежал тогда из Выселок, что в Дымск попал, пробрался через Зыбь и был знаком с Сэнтеем, что верил в Континент, попал в Ганьбэй, увидел Океан, а вот теперь увидел этот Остров. Спокойно умереть, когда все позади — это немалая удача. Сейчас бы еще яблока!..
И вдруг…
— Я знал! — послышался знакомый голос.
Рыжий досадливо поморщился, но все же повернулся. Да, так и есть толмач сидел возле него. И он, толмач, сказал:
— Я знал, что ты меня услышишь и придешь. Я рад!.. Р-ра, что с тобой?
Но Рыжий не ответил. А зачем? Да, нет в нем радости, но толмачу-то что до этого? И он зажмурился, и лапы вытянул, и осторожно склонил на них голову…
Тогда толмач опять заговорил:
— Да, понимаю, ты устал. Ты долго ждал, надеялся, искал — но так и не нашел. А может быть, нашел, но только сам того не знаешь.
Рыжий открыл глаза. Толмач сказал:
— Если еще два дня идти строго на юг, то там как раз и будет то, куда вы направлялись. Там — Южный Континент.
Рыжий повел ушами, поднял голову. Толмач опять заговорил:
— Но дальше Острова еще никто не проходил. И не пройдет никто — они не пустят.
— Кто? — спросил Рыжий, он уже сидел.
— Да птицы, кто же еще, — сказал толмач. — Цвирин-тсаар, он никакой не император. Он просто здешний комендант, а Остров — это их передовая застава. Или, по-ганьбэйски, форпост.
— А… много их, ну, этих птиц, на Континенте?
— Я не знаю. Кто я у них? Простой толмач. И так давно я здесь, что лучше и не вспоминать… А твоих слов они ужасно испугались.
— Каких?!
— Да про монету. Что в ней их напугало, я не знаю. Наверное, та сила, что в ней заложена, им неподвластна. Но, повторяю, кто я такой, чтобы все знать?
— А и действительно, кто ты?
— Моряк. Карт-спец. А это — моя Башня…
Толмач вдруг замолчал, прислушался. Где-то внизу раздался гул, пол задрожал. Рыжий вскочил, спросил:
— Что это?!
— Я не знаю! — толмач тоже вскочил и в ужасе вскричал: — Смотри!
Рыбки в бассейне замерли, как будто неживые, а после начали желтеть, желтеть, вода — мутнеть и тоже становиться желтой. А что есть желтое? А желтое — суть золото. А зо…
А гул все нарастал и приближался. По стенам побежали трещины.
— Р-ра! — закричал толмач. — Я так и думал! Ну и пусть! Тебя им не убить, а я… Я все, что знал о них, сказал! Знание растерять нельзя! Теперь не я, а ты — их Хранитель! Рыжий, запомни это! Ры…
Гр-рохот! Гр-ром! Пол вздыбился и раскололся. Дым! Пламя! Гарь! Л-луна! О, где же ты, Л-луна? Мы твои блудные дети, спаси нас, спа…
Гр-ром! Пламя! Грозный перетоп! И…
Тьма! Падение! Рыжий вскочил!..
Нет, не вскочил, а вынырнул и отплевался. Ночь, небо в тучах, ливень, гром. Рыжий, подхваченный волной, взлетел на гребень, оглянулся…
Заветный Остров, содрогаясь, грохотал…
И — вниз тебя волной: плыви, барахтайся, и…
Снова вверх! Остров горит, крошится, погружается…
И снова вниз. Плывешь и вертишь головой, кричишь, зовешь…
И — вверх! А Остров…
Нет его! И ничего там больше нет: нет корабля, нет косарей, нет толмача, нет птиц! А ты плыви, Рыжий, плыви, глядишь, потом куда-нибудь и приплывешь. Бей лапами, греби, старайся, но в то же время силы береги. Тебе ведь еще долго плыть — ночь, день и снова ночь, и снова день, и месяц, год, а может, и сто лет — кто знает? А приплывешь, выйдешь на берег и расскажешь: там птицы, очень много птиц, они разумные и потому нас презирают, не допускают нас к себе, а тех, кто все же проберется к ним…
Р-ра! Р-ра! Греби, глупец, старайся. Да нет, теперь ты не простой глупец, а вдобавок еще и хранитель. А что тебе хранить? Да то, что все мы дикари. А Дрэм-то думал, будто дикари живут лишь только в Дымске да Голянии, Сэнтей надеялся на то, что дикари — это другие, но не братья, ведь братья…
Р-ра! Вот так-то вот! И вверх тебя волной, и вниз, и снова вверх, и снова вниз, давай, Рыжий, греби — ночь, день, неделю, год, сто лет. Плыви, храни: ты должен…
Нет! Ты никому и ничего не должен! Нигде и никогда ты никому… Да, никому! И никогда! И ни за что! Ты — это просто ты, сам по себе, и ты устал, ты хочешь отдохнуть, забыться. Вот ты и отдохнешь — прямо сейчас. Вот ляжешь и заснешь. Вот уже лег, закрыл глаза, лапы сложил, и вот уже тебя волной — р-ра! — с головой накрыло, и вот уже как будто кто-то тебя обнял и потащил вниз, вниз, ты испугался, ты кричишь — а крика нет, одни лишь пузыри пошли, ты захлебнулся, но еще пытаешься…
А вот уже и не пытаешься… А вот уже… А вот…
Глава тринадцатая — ЩЕРБАТАЯ КОРМИЛИЦА
Проснулся он от холода. Подумалось: наверное, опять дверь не закрыл, вот за ночь все и выдуло. Рыжий открыл глаза, глянул на дверь — да, так оно и есть, стоит открытая. И пусть себе стоит, делов-то. Пошарив вокруг себя лапами, Рыжий нагреб тряпья, укрылся им как следует, лег на другой бок и опять заснул.
Правда, спал он недолго. Зато на этот раз проснулся уже окончательно. Сел и протер глаза, тяжко вздохнул. А что? Годы берут свое, берут! Взял со стола кувшин, встряхнул его и радостно ощерился — есть кое-что!
Вино было кислющее и терпкое, он пил его короткими и редкими глотками. Пить натощак, конечно, вредно. Но, скажем, жить еще вредней. Так, как они живут, так лучше и совсем не жить…
А где сухарь? Кто взял?! Вот здесь же вот лежал!..
А, да, на месте. Рыжий макал сухарь в вино, размачивал и ел. Доев, допил вино и снова лег. Спешить-то некуда. Они небось еще все спят. Когда ты уходил от них, там и гульбы еще достойной не было; так, только-только разогрелись. Чмар говорил: «Не уходи, сыграй еще, я тебе втрое заплачу». Но ты как встал, так и пошел. А Чмар тогда вскочил, хотел тебя остановить, но тут как раз ввели бойцов, он сразу про тебя забыл и стал кричать и делать ставки. Вот потому ты и ушел — ты знал, что бойцы им будут интереснее. Бойцы — вот это зрелище, а ты, старик, плетешь все об одном и том же. Да и никто тебе не верит, все знают, что у Кау на «Тальфаре» весь экипаж как на подбор был только черной масти, а ты, друг мой, сер как пожухлая трава, на левом ухе рыжее пятно, а правого и вовсе нет — его тебе отрезали на каторге в Тернтерце.
Да, было дело, был Тернтерц. Попал туда конечно же по глупости. Все побежали, ты упал, басуну выронил, стал подбирать ее, вот тут тебя и заломили — на два года. Потом была амнистия: Чмар выкупил тебя, привез к себе в Рифлей… А ох как не хотели тебя отдавать! То есть других пожалуйста, бери да выкупай, а на тебе они уперлись: «Не дадим!». Да ты и сам не очень-то просился на волю. А зачем? Ты в яму на работы не ходил, в бараке ты не жил и столовался вместе с офицерами. То есть не каторга, а рай! А все она, щербатая кормилица, заступница и надоумица!
Ар-р! Р-ра! И Рыжий потянулся, взял басуну, прижал ее к груди и принялся настраивать. Да, старая она, щербатая, неплохо бы подклеить деку да струны поменять. Чмар обещал, что будто бы достанет арихальковых. Врет, как всегда! Да и зачем тебе те арихальковые струны? Вот если б он достал такие же, как здесь, но только новые, вот это было б хорошо. И ты вчера ему опять об этом говорил, Чмар помрачнел, а все вокруг смеялись. Р-ра, ну еще бы! Ведь твои струны не простые, а магнитные — все это видели, все это проверяли, и не железные они, а…
Да, вот так-то вот! Хотите верьте, а хотите нет, но был я там, на том Магнитном Острове, мы восемь лет… ну, пять… ну, год, не менее, в кромешной тьме, в шторм, в ливень и в туман мы шли к нему, гребли, ритм два и два, ритм три и три, сухарь — в вино и в пасть, в вино и в пасть, я с той поры и пристрастился, волны вздымали нас, швыряли, и вновь вздымали, вновь швыряли, а Океан там… Р-ра! Вода то черная и вязкая, а то наоборот — как молоко, а то как кровь, а то как зо… Р-ра! Нет, как золото она была уже потом, это когда уже завидели Магнитную Звезду, тогда весь Океан в единый миг окрасился под золото и так горел, и так слепил, что мы, чтоб не ослепнуть, все зажмурились и так вслепую и гребли, один лишь адмирал, Вай Кау, да, на нем были очки; очки — это такие кругляшки из черного стекла, свет через них не проходил, вот потому Вай Кау и штурвалил, стоял последние три дня, три ночи, не сменяясь, он курс держал, командовал, а мы гребли, а душно было, жарко, страшно, уключины дымились — так гребли…
Х-ха! Х-ха! Вот тут они всегда аж привстают. «Уключины дымились!» Да, хорошо придумано, красиво, до них, до косарей, доходчиво. А все она, щербатая кормилица! И хорошо, что ты тогда не поскупился. Триста сразу и триста потом, а еще сотню брат подкинул. Брат в гневе был, брат проклинал тебя, брат поминал отца: «Отец предупреждал!». А вот отец как раз во всем и виноват, это отец тебя к басуне приучил, а после, возвращаясь, требовал: «Сыграй!». Ты и играл. Понравилось. А после и…
Семьсот монет! Ты поразился и сказал: «Такие деньги!». А мастер улыбнулся и ответил: «Так это ж только вам, как лучшему басунщику. А лучшим — лучшее. Вот, вы только послушайте!». И мастер показал их в деле. Они были магнитные и в то же время золотые, а звук какой! Ты сразу даже не поверил. Спросил: «Откуда взял?». Он не ответил. Только потом уже, когда ты внес вторую часть, он рассказал, что у него была старинная монета, очень странная, по ней ударишь когтем — и она звенит. Тогда он взял ее, расплавил…
С тех пор, конечно, струны износились. И звук уже не тот, и всем твоя история известна, вчера сказали: «Вязнет на зубах». И потому ты и решил уйти — обиделся…
А так все хорошо! Чего еще желать? Чего желаешь, то и получаешь. Вот через час, ну, через два, у них проснутся, и сразу прибежит посыльный лейтенант и позовет прийти, а ты велишь подать тележку — и подадут они, и привезут тебя, посадят рядом с Чмаром…
Но все-таки пора менять историю, а то ты все про Остров да про Остров, которого никто и никогда не видел. И не увидит — нет его. И быть его не может! И вообще, про Океан больше не надо. А что-нибудь такое про…
Про что? Да вот про что? Не так-то это просто — взял и…
А вот…
Да, вот хотя бы про это! Уже который раз тебе одно и то же снится, что ты, словно дикарь, согнувшись в три погибели, бежишь куда-то все, бежишь, тебе кричат: «Наддай! Наддай!» — и ты бежишь, лось впереди. Так! Так…
И Рыжий взял басуну, провел по струнам и сказал:
— Ночь кончилась!..
Нет! Замолчал, подумал. Опять сказал:
— Заканчивалась ночь…
Нет, вновь не так. У диких — дикий ритм. Вот так аккорд, потом вот так. Тогда:
— Заканчивалась длинная, осенняя ночь. Небо на востоке стало понемногу светлеть. Лягаш сказал…
А кто такой Лягаш? Р-ра, подожди! И Рыжий, отложив басуну, встал, заходил по хижине. И долго так ходил, никак не мог собраться с мыслями. Их было много, разных, непонятных — какой-то лес, какие-то нерыки, князь, чужаки, опять этот Лягаш, а вот уже зимой, на льду, ты не один уже, а…
Х-ха! Вот так история! Темна, запутанна, чем кончится, не важно. А важно… Р-ра! Так, значит, как начнем? И Рыжий… или Бэнг… а может, снова Рыжий, поспешно взял басуну, провел по струнам, и начал нараспев, речитативом:
— Ночь кончилась! Я, Рыжий, рык из Глухих Выселок, сейчас вам расскажу всю свою жизнь!


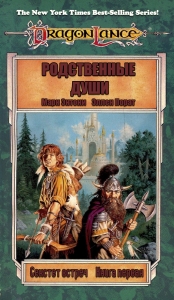
Комментарии к книге «Ведьмино отродье», Сергей Алексеевич Булыга
Всего 0 комментариев